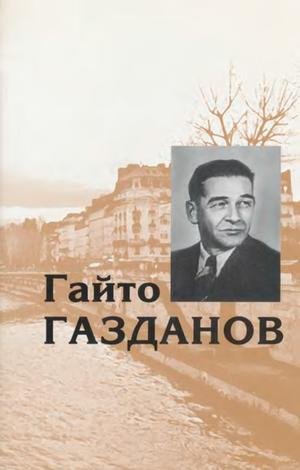
Пробуждение*
Point n'est besoin d'espcrer pour entreprendre ni de reussir pour perseverer.
Вильгельм Оранский[1]
Пьер Форэ уехал из Парижа скорым поездом, отходившим с Аустерлицкого вокзала в половине девятого утра. Это было второго августа. Третьи сутки подряд лил бесконечный дождь, и в ночь, предшествующую отъезду, Пьер просыпался каждые два или три часа и всякий раз слышал все тот же шорох влажных листьев под своим окном, против которого рос высокий каштан. Ему иногда начинала казаться нелепой мысль о поездке в отпуск: не все ли равно, где мокнуть под дождем – в Париже или в какой-то далекой глуши, за сотни километров отсюда? Но билет был куплен давно, и приходилось ехать, независимо от того, казалось ли это целесообразным и своевременным.
В сущности, это вышло случайно. Вероятнее всего, Пьер остался бы в Париже, если бы не встретил две недели тому назад Франсуа, того самого, которого в лицее товарищи называли «сусликом» и который теперь был журналистом. Франсуа пригласил его в кафе, они сидели на террасе и разговаривали.
Франсуа сказал:
– Быстро проходит все-таки время, а? Ты куда едешь на лето?
– Никуда, собственно, останусь в Париже.
– Почему?
Пьер пожал плечами и ответил, что ему никуда не хочется ехать.
– У меня идея, – сказал Франсуа. – Приезжай ко мне. Помещение у тебя будет бесплатное, расходы на еду будем делить поровну. Я летом живу у черта на куличках – никого вокруг, только река и лес. А? Что ты скажешь?
И он объяснил Пьеру, что несколько лет тому назад ему достался по наследству небольшой кусок земли в одном из южных департаментов; там было несколько деревьев, колодец и полуразрушенный дом с маленьким флигелем.
– Развлечений мало, – сказал Франсуа. – Тишина зато необыкновенная, только по вечерам кричат лягушки в пруду недалеко. Газа нет, электричества тоже нет. Ты погружаешься в четырнадцатое столетие – без газет, без журналов, без радио. Деревья, вода и трава, больше ничего. И еще нечто вроде пещеры, где ты будешь жить, – шершавые стены, земляной пол и хромая табуретка. Это тебе подходит?
Пьер согласился, не подумав и изменив на этот раз своей обычной медлительности в решениях.
Через несколько дней после этого он пожалел о своем согласии, но Франсуа уже не было, он уехал в Орлеан, откуда должен был отправиться к себе на юг, не заезжая по дороге в Париж, и предупредить его о перемене решения у Пьера не было возможности. Он заблаговременно купил себе билет, уложил в чемодан все, что было нужно, и вот теперь, второго августа, он сидел в вагоне и ехал в эту самую глушь, о которой рассказывал Франсуа.
В его купе ехал старый крестьянин со своими тремя сыновьями – молчаливые люди с загорелыми лицами и руками, в неловко сидящих на них городских костюмах, явно купленных в провинциальном магазине готового платья, – и какая-то толстая дама с двумя детьми: некрасивой девочкой лет десяти, которая то дремала, то читала книжку с картинками, и мальчиком лет семи, единственным пассажиром, не умолкавшим ни на минуту: – Мама, вот там стоит паровоз! Мама, почему он не двигается? А на нем нет механика? Нет, вот механик! И вот кочегар! А вот контролер! Почему наш паровоз не гудит? Вот идет дама с девочкой! Вот идет носильщик! Паровоз будет делать: ту-ту-ту! Почему мы еще не уезжаем? Ту-ту-ту! Осторожно, поезд сейчас будет отходить! Нет, он еще не отходит!
Толстая дама отвечала: – Да, мой миленький. Нет, мой миленький. Да, мой миленький. Нет, мой миленький. – Обветренные лица крестьян были каменно неподвижны. Пьера раздражали и голос мальчика и его детская глупость, но он тоже молчал. Он вышел в коридор, но там нельзя было протолкнуться, люди сидели на чемоданах, занимая проход, какой-то солдат просто лежал на полу, подстелив под себя газету. Пол равномерно вздрагивал от движения поезда. Пьер посмотрел вниз, на газету; под левым локтем солдата были видны слова «убийца из ревности», но следующие строки пропадали где-то между поясницей и спиной, и только значительно ниже, еще в одном месте острым углом вырисовывался кусок столбца, на котором можно было прочесть: «Утопленница Луары наконец опознана. Речь идет о…» – Ту-ту-ту! – кричал мальчик.
– Да, мой миленький, – отвечала толстая дама. – Мама, ты видишь, идет дождь! – Да, мой миленький. – Мимо забрызганных стекол вагона мелькали мокрые заборы, люди под зонтиками, шагавшие по дороге, которая то появлялась, то исчезала, птицы на телеграфных проводах. Было прохладно и сыро. Пьер сел на свое место в углу, притиснутый толстой дамой, не выпускавшей из рук вязанья. Крестьяне ели хлеб с сыром и колбасой, отрезая каждый кусок перочинным ножом и поднося его ко рту, и запивали еду красным вином, которое расплескивалось в стакане от вздрагивания поезда.
За окнами вагона стелился влажный туман, пересекаемый тем же бесконечным дождем, пролетал белыми клочьями пар от паровоза, дымились смутно возникающие и тотчас исчезающие поля. В купе стоял упорный запах овернского сыра, красного вина и чего-то несвежего и трудноопределимого, и от этого Пьера начинало тошнить. Он снова вышел в коридор, долго стоял там, но наконец устал и, вернувшись на свое место, сел и закрыл глаза.
Сначала он не думал ни о чем и только невольно вслушивался в равномерное вздрагивание поезда. Затем вдруг перед его глазами возникла – он никогда не мог понять потом, почему именно, – маленькая книжка с твердой обложкой, которую ему подарил отец, когда Пьеру было девять лет, книжка сберегательной кассы с записанной в ней суммой в сто франков. В те времена его отец, – Пьер помнил его грузным человеком с отвисающими щеками, которые, казалось, никогда не были ни особенно небритыми, ни свежевыбритыми, – в мешковатом костюме, с палкой или зонтиком в руках, – в те времена его отец придавал большое значение сберегательным кассам. Это, впрочем, продолжалось недолго и было вдобавок чисто теоретическим, но заняло известное место в той эволюции принципов, как он выражался, которая была любимой и всегдашней темой его рассуждений. Уже несколько месяцев спустя он говорил, что сберегательные кассы – это ловушка для наивных и доверчивых людей и спекуляция на скупости. Кроме того, у отца Пьера никогда не было денег – ни в сберегательной кассе, ни где бы то ни было вообще, хотя он занимался коммерческими делами и все жалел, что у него нет достаточного оборотного капитала. Он был необыкновенно словоохотлив, многоречив и отличался способностью говорить с жаром о чем угодно – о кулинарии, о принце Уэльсском, о капитализме, о балете, о политике, о скачках, о литературе. Обо всем этом у него было очень приблизительное представление, но это не имело значения, потому что любой вопрос служил только предлогом для того, чтобы он, Альберт Форэ, мог как-то использовать ту непонятную и чисто словесную энергию, которая была для него характерна. Он как-то шутя сказал жене в ответ на ее очередной упрек в многословии:
– Можешь мне поверить, дорогая: когда я стану молчалив, это будет значить, что дело плохо. Ты это запомни.
Но несколько лет спустя, когда это действительно произошло, никто не вспомнил о его словах, которые оказались совершенно пророческими. Он замолчал, не произносил ни слова неделями и только изредка тяжело стонал. Он знал, что он умирает, задолго до того, как это стало понятно окружающим, – и когда он остался наедине с этой перспективой смерти, ему нечего было сказать, так как все слова были бесполезны. Он не думал об этом, ему никогда не приходила в голову мысль о возможности какого-то праздного и воображаемого диалога со смертью, но он чувствовал ее неудержимое приближение и ждал конца с тем тупым и неизменным ужасом, который совершенно парализовал в нем всякое желание сказать что бы то ни было. Пьер очень хорошо помнил те тягостные минуты, когда он должен был входить в комнату, где лежал умирающий, – ее притворенные ставни, сумеречные очертания предметов и тяжелый запах, исходивший от больного. – Пойди к нему, – торопливо говорила Пьеру мать, – ты знаешь, как он всегда рад тебя видеть. Скажи ему, что у него сегодня лучше вид, чем обычно, это доставит ему удовольствие. – Пьер не знал, понимала ли она, насколько фальшиво звучало все, что она говорила, но покорно ее слушался каждый день и произносил все, что следовало, по ее мнению, произносить, никогда не получая никакого ответа: отец молчал в его присутствии так же, как всегда. Было совершенно очевидно, что приход Пьера не доставлял ему никакого удовольствия, так же как было очевидно, что слово «удовольствие» давно потеряло для него всякое значение и он был больше не способен его понять. За время болезни у него выросла густая черная борода, делавшая его неузнаваемым, и когда он наконец умер и Пьер увидел его последний раз, ему было нужно сделать над собой усилие, чтобы понять, что это худое, желтое лицо с черной бородой, незнакомое и призрачно неподвижное, – лицо Альберта Форэ, его отца. И только много месяцев спустя Пьер, сидя один и задумавшись Бог знает о чем, вдруг вспомнил, что когда ему было двенадцать лет, он проходил однажды по Севастопольскому бульвару и увидел, что на террасе кафе сидел его отец, совсем не похожий на себя, с веселыми и мутными глазами, – рядом с полной молодой дамой в зеленом платье, которая все время смеялась. Когда Пьер подошел совсем близко, отец схватил его за рукав, притянул к себе, – от него пахло вином и еще чем-то особенным, аптекарским, – и сказал:
– Это мой сынок, Пьер, хороший мальчик.
И, наклонившись к его уху, прибавил шепотом:
– Никому не говори, что ты меня видел, а?
А через два дня, вечером, произнося свой очередной монолог, он сказал, обращаясь к жене:
– Всем известно, что одно поколение не понимает другого. Но будем надеяться, что наши дети не будут нас судить слишком строго.
И посмотрел при этом на сына. Пьер отлично понял тогда, что именно имел в виду его отец. И когда он вспомнил обо всем этом через несколько месяцев после его смерти, он вдруг подумал, что никогда больше не будет ни этого осеннего дня, ни этой смеющейся женщины в зеленом платье, что все сдвинулось и смешалось, как сон, исчезая в том неизвестном пространстве, куда с таким упорным молчанием уходил потом Альберт Форэ и которого он достиг в тот день, когда Пьер увидел его неузнаваемый, чернобородый труп.
Поезд продолжал идти, проникая, казалось, все глубже и глубже в дождь и туман. Слова «сберегательная касса» опять появились перед глазами Пьера и тотчас же пропали. После смерти Альберта Форэ на его собственном счету оставалось четырнадцать франков. – Твой отец нас разорил, – сказала ему мать. – Теперь, Пьеро, ты глава семьи. Мы работали всю жизнь. Если бы твой отец не играл на скачках… Что касается меня, я всегда выполняла свой долг. – И она заплакала.
«Мы работали всю жизнь…» Она действительно никогда не оставалась без дела. Она натирала полы, мыла окна, готовила, стирала, чистила овощи, выносила мусор, шила, вытирала пыль, и когда наконец казалось, что сделано решительно все, она садилась в свое твердое кресло и начинала вязать. Но, кроме этого, ее ничто не интересовало, и у нее никогда не было даже желания прочесть газету. Когда они бывали всей семьей в кинематографе, раз в неделю, она была не способна сосредоточить свое внимание на фильме, который показывался, это ее только утомляло, и Пьер не помнил, чтобы она когда-либо сказала хоть несколько слов о том, что ей понравилось или не понравилось в картине. Когда отец ее спрашивал, что она думает, она неизменно отвечала одно и то же: – Не хуже, чем другие, – независимо от того, что это было – исторический сюжет, мелодрама или фарс.
Пьер не помнил свою мать молодой, такой, какой она была изображена на семейных фотографиях, – полноватой девушкой с большими глазами. Тетка Жюстина, старшая сестра отца, огромная старуха с густыми бровями и большим носом, вся всегда в черном, как-то сказала отцу в его присутствии:
– Ты помнишь, Альберт, какой прелестной была твоя жена, когда ты был только ее женихом?
Но это, казалось, было чрезвычайно давно и исчезло настолько безвозвратно, что представлялось почти неправдоподобным. Со стороны можно было подумать, – Пьер перебирал все мысли, которые возникали у него о матери и о семье, – что ее прелестность, в которую верилось с таким трудом, существовала только до ее замужества; после замужества необходимость в ней прошла и она исчезла одновременно с этим. Иногда ему казалось просто невероятным, что целая человеческая жизнь, со всеми ее возможностями, воспоминаниями, иллюзиями и надеждами, могла быть сведена к такому бесконечно неинтересному существованию: базар, обед, ужин, уборка квартиры – и больше ничего никогда, ни при каких обстоятельствах. Но в ней все-таки, правда, оставалось то теплое и нежное, что Пьер помнил с детства, прикосновение ее полных рук, ее вечерний поцелуй перед сном – пора бай-бай, Пьеро, мой зайчик.
На монологи отца мать обычно отвечала пожатием плеч, и было очевидно, что они ее совершенно не интересовали, о чем бы ни шла речь. Было, казалось, только два предмета, которые занимали ее внимание. – необходимость экономии и все, что было с ней связано: цены на мясо, на сахар, на хлеб, на вино, именно то, к чему Альберт Форэ был совершенно равнодушен – и что ее раздражало, – и наследство тетки Жюстины. Об этом наследстве Пьер слышал всю свою жизнь, на нем строились всевозможные расчеты, вплоть до кругосветного путешествия и покупки собственного дома где-нибудь недалеко за городом. Только значительно позже он узнал, что богатство тетки Жюстины было приобретено вовсе не экономией или какими-либо хозяйственными добродетелями, а тем, что она переменила за свою жизнь несколько очень состоятельных покровителей: один из них купил и обставил ей дом, другой подарил ей чуть ли не целую витрину ювелирного магазина, третий еще что-то, – в общем, это была смена неправдоподобных историй, вроде тех, какие Пьер читал в тоненьких дешевых книжках, подписанных именами совершенно неизвестных авторов. И когда он вспомнил эту громадную старую женщину в черном глухом платье, похожем на рясу деревенского кюре, эти мохнатые брови и крупный нос, возможность подобного обогащения именно ее, тетки Жюстины, казалась ему до удивительности плохо придуманной и фальшивой. Вместе с тем это было все-таки именно так: дом стоял на своем месте, как неопровержимое каменное доказательство всей этой неправдоподобной истории, драгоценности лежали в сейфе, а деньги в Лионском Кредите; и самая очевидная убедительность этих страшных бровей и огромного носа была бессильна перед фактами. И все-таки Пьер продолжал не понимать, как у этой женщины, которую он знал старухой, вдобавок на редкость некрасивой, могла быть – даже десятки лет тому назад – такая бурная жизнь, как можно было быть в нее влюбленным, как она могла находить людей, которые были готовы дать ей все – дом, деньги, драгоценности. Она казалась ему похожей на огромную старую птицу с клювом и круглыми неподвижными глазами сплошного черного цвета.
И вот однажды, года два тому назад, ему попался старый семейный альбом, о существовании которого он не знал и который он нашел случайно, в подвале, куда он пошел за какой-то доской. Один фотографический снимок обратил на себя его внимание. Это была фотография молодой женщины с неправильными чертами лица, некрасивости которого не могли изменить никакие усилия ретуши; и несмотря на все это, в этом лице была необыкновенная привлекательность, неопределимая и неотразимая одновременно. Чья это могла быть фотография? Он осторожно вынул ее из альбома. На ее обратной стороне было написано от руки размашистым почерком: Жюстина Форэ, май тысяча восемьсот восемьдесят второго года.
Когда тетка Жюстина приезжала к ним в гости, ей подавались ее любимые блюда, мать Пьера окружала ее заботами и даже голос ее приобретал какие-то особенные интонации, которые невозможно было себе представить без присутствия тетки.
Поезд остановился, простоял несколько минут на какой-то станции, потом опять тронулся, и Пьер снова стал думать о том, что его занимало до остановки, – так, словно движение этих воспоминаний точно соответствовало ходу поезда.
Столько лет тетка Жюстина приезжала к ним в их маленькую квартиру, недалеко от площади Данфэр-Рошеро, столько раз она сидела за столом и ела с неприятной старческой жадностью то, что ей подавала мать. – Как вы находите курицу, Жюстина? Вам не кажется, что рис чуть-чуть суше, чем следовало бы, Жюстина? Достаточно ли вам тепло, Жюстина? – И все это было совершенно зря. Это было зря – потому что и приобретение загородного дома, и проект кругосветного путешествия, и все остальное, – это был праздный вздор, абсурдные иллюзии, глупейший мираж, «мечта, которая рассыпалась прахом», – как сказал Альберт Форэ, – потому что перед смертью тетка Жюстина оставила завещание, по которому все ее имущество переходило монастырям. И в то время, как мать плакала, узнав об этом, отец ходил по комнате и говорил, что все в конце концов логично и что еще не было примера, чтобы католическая церковь отвергала пожертвования грешниц. – Они не зададут себе вопроса о том, каким путем все это было заработано и откуда им идет это украденное у нас богатство? – Да, нас обокрали, – сказала мать. – Запомни это, Пьер, и никогда этого не забывай: нас обокрали.
Эта фраза потом стала совершенно обычной; по мере того как проходило время, она теряла свою первоначальную горечь, но смысл ее не изменялся: – После того как нас обокрали, – вы понимаете, я говорю об этом позорном случае с теткой Жюстиной… – Ты помнишь, Альберт, это было вскоре после того, как нас обокрали… – В сущности, это был удар, от которого Альберт Форэ никогда не мог оправиться. Когда Пьер думал о своем отце, он неизменно приходил к заключению, что тот строил все свои планы, и в особенности планы обогащения – путешествия, загородный дом, – на совершенно произвольных предположениях, сводившихся, в общем, к постоянному расчету на чудо. Он мог, в частности, разбогатеть, выиграв огромную сумму на скачках, купив билет Национальной лотереи или, наконец, получив наследство тетки Жюстины. Другие способы составить состояние его мало интересовали и казались ему несбыточными, – в такой же мере Пьеру было очевидно, что именно расчеты на выигрыш или на наследство меньше всего следовало принимать во внимание. И оттого, что Альберт Форэ всю жизнь верил со слепой наивностью в выигрыш или наследство, он вел свои дела с такой неизменной небрежностью. Он, впрочем, допускал возможность постоянной ошибки в своих расчетах на выигрыш; но в том, что он, именно он, получит наследство, он никогда не сомневался. Он верил в это еще и потому, что ему, как многим людям, казалось, что он, Альберт Форэ, конечно, заслуживает лучшей участи, чем та, которая выпала на его долю. Он был убежден, никогда об этом не думая, что ему естественно иметь в своем распоряжении крупные деньги и что его теперешнее положение, – которое было бы понятно, если бы речь шла о ком-нибудь другом, – для него было особенно унизительно, так как у него должна была бы быть совершенно другая жизнь – богатство, женщины и даже известность. Тот несомненный факт, что у него не было для этого решительно никаких данных и что он ничем не выделялся среди других – ни знаниями, ни способностями, ни умом, не играл никакой роли – для него не существовал. Он знал, что не заслужил своей участи, которую считал печальной, и знал, что эта явная несправедливость судьбы будет рано или поздно возмещена наследством тетки Жюстины.
После ее смерти в доме наступили дни особенного злобного траура. Мать Пьера часто плакала – по всякому поводу, иногда совершенно незначительному; но было очевидно, что если непосредственной причиной этих слез было, например, разбитое блюдо, то объяснялось это все-таки наследством тетки Жюстины. Отец не плакал и даже избегал об этом говорить, но с неестественной быстротой постарел и помрачнел и именно тогда стал жаловаться на боли в груди и начал по-настоящему хворать. Все чаще и чаще он приходил домой в нетрезвом виде, и, когда ему жена как-то сказала об этом, он ответил с такой искренне печальной интонацией, какой Пьер никогда раньше не слыхал у него:
– Какое это может теперь иметь значение? Разве ты не понимаешь, что все кончено?
Но вопреки ожиданиям его жены, дела его несколько улучшились и он приносил домой больше денег, чем раньше. Это было тем более удивительно, что он стал еще невнимательнее, еще небрежнее, пропускал важные свидания, не являлся туда, куда было нужно, и вообще, казалось, махнул рукой на все. Через год после смерти тетки Жюстины он слег – и больше не встал. Он так хорошо знал, что он умирает, что в тот день, когда он прервал однажды свое обычное тяжелое молчание, он сказал Пьеру в ответ на начатую фразу: – Когда, папа, ты начнешь выходить… – Я выйду отсюда ногами вперед, сынок, ногами вперед, ты понимаешь, – и со стоном повернулся к стене. А мать все прибирала, чистила, натирала полы, делая это автоматически и безошибочными движениями, и в день смерти Альберта Форэ она с утра начала мыть оконные стекла в столовой и вошла в комнату, где он умер, – в переднике и с тряпкой в руке, которую забыла бросить или положить куда-нибудь.
То, что больше всего запомнилось Пьеру, это лицо его матери, когда он как-то вернулся домой, через несколько дней после смерти отца. Когда он вошел в комнату, он увидел, что она сидела опустив голову и беззвучно плакала. На ней было старое платье и вечный ее передник, в правой руке она опять держала пыльную тряпку. В ее низко склоненной голове, во всем ее теле была такая глубокая усталость и такое непоправимое несчастье, что Пьер почувствовал, как слезы навернулись на его глаза. – Бедный мой Пьеро! – сказала она едва слышно. Он сел прямо на пол перед ней, обнял ее колени, как он делал, когда был маленьким, и начал говорить ей, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что он будет о ней заботиться, будет работать и она не будет знать нужды. – Да, да, мой миленький, я знаю, – сказала она. – На тебя я могу положиться. Я не об этом плачу, Пьеро.
Он не решился расспрашивать ее. Ему все было ясно и без этого: такая долгая жизнь, упорная экономия, постоянная работа, никаких радостей, кроме иллюзорной надежды на чудесное разрешение всех вопросов – тетка Жюстина, – и все это совершенно впустую. А начинать сначала – слишком поздно, нет сил, и прожить второй раз жизнь нельзя. Так он думал тогда и решил сделать все, чтобы облегчить существование матери. Ему оставался год до получения аттестата зрелости, но он не вернулся в лицей. Через две недели после похорон отца он уже работал писцом в небольшом предприятии. Он относился к своему делу с необыкновенной добросовестностью, которая, однако, вовсе не объяснялась его интересом к работе и его служебным усердием, как это думал его хозяин, неизменно мрачный и неразговорчивый пожилой человек, один из бывших клиентов Альберта Форэ. Через месяц он сказал Пьеру:
– Ну, знаете, могу только сказать, что вы не похожи на вашего отца. Совершенно не похожи, совершенно.
Пьер не курил, не ходил в кафе и на службу отправлялся пешком. Все свои деньги он приносил домой, и в этом суровом воздержании от каких бы то ни было удовольствий он находил удовлетворение, заполнявшее его жизнь. По воскресеньям он сам натирал полы в квартире, никогда не забывал ни одного поручения матери и искренне страдал от того, что она, по многолетней привычке, вставала раньше, чем он, и приносила ему кофе в кровать. Она изменилась, постарела, стала медленнее в движениях, но чистила и мыла все по-прежнему. Иногда, в отсутствие Пьера, она разговаривала с соседками – всегда о том, какой у нее заботливый сын. – Я уверена, – говорила она, – что даже если он женится, то будет так же хорош ко мне, как теперь.
Проходили однообразные месяцы, не принося никаких изменений. Пьер знал, однако, что его мать успела отложить небольшую сумму денег, – потому что теперь всеми средствами она распоряжалась бесконтрольно в отличие от того времени, когда был жив Альберт, который ей давал ровно столько, сколько, по его расчетам, было необходимо, чтобы не умереть с голоду, как он говорил шутя. Затем Пьер получил повышение: ушел помощник бухгалтера и он занял его место. Ему прибавили жалованье. Откладываемая сумма стала увеличиваться; два, иногда три раза в неделю мать теперь кормила его то кроликом, то дичью и начала говорить, что мужчине как-то неловко не курить. Затем, однажды заглянув в свой бумажник, Пьер совершенно неожиданно нашел в нем пятисотфранковый билет, который она ему туда положила, считая, что молодому человеку нельзя ходить без денег. Он пожал плечами и билета не тронул.
В сущности, не было никакой необходимости, особенно теперь, – он это прекрасно понимал, – в таком суровом аскетизме. Но он настолько к нему привык, что для него было действительно трагедией заказать себе, например, новый костюм. Он вовсе не был скуп, но ему казалось, что он не имеет морального права тратить такие деньги, в то время, как его мать была лишена самого необходимого всю свою жизнь. Ему доставляло особенное удовольствие отдавать ей все, что он зарабатывал, не оставляя себе почти ничего. Кроме того, он просто физически не любил деньги, ни кредитные билеты, ни монеты, и очень хорошо понимал кассира, веселого тридцатилетнего мужчину, который говорил:
– К деньгам я чувствую отвращение. Я их перебираю целый день, и под конец дня меня начинает тошнить.
Пьер не перебирал деньги, он имел дело только с их цифровыми отражениями. Длинные ряды чисел проходили перед его глазами каждый день – задолженность, прибыль, отчетность, скидка, проценты, отчисления. В том, что все эти числа, в их постоянных смешениях и метаморфозах, подчинялись неизменным законам, никогда не допускавшим ни малейшего от них отклонения, был какой-то успокоительный и почти философский смысл, было какое-то напоминание о повторности всего происходящего. Пьер иногда думал об этом во время работы.
Но вообще он думал сравнительно редко. Ему казалось, что это происходит оттого, что знает мало вещей, которые заслуживали бы пристального и углубленного внимания. Политика его не интересовала, в книгах, которые он читал, он неизменно находил раздражавшую его искусственность построения, театра он не понимал. Где-то далеко от того мира, в котором он проводил свою жизнь, был другой мир, тот Париж, о котором он невнимательно читал в газетах, – премьеры, балетные красавицы, кинематографические артисты, знаменитые писатели, художники, скаковые поля, лошади, жокеи, министры, обеды на Кэ д'Орсэ. Все это было неважно и неинтересно. Важно и значительно было то, как запомнились ему эти майские сумерки, когда он вернулся как-то домой, и это незабываемое выражение печали на лице его матери, низко склоненная ее голова и пыльная тряпка в ее руке.
Поезд опять остановился и снова двинулся. Глухо зашумела роща, пролетевшая перед мокрым стеклом вагонного окна, потом опять мелькнула мутная зелень полей, и затем все шли перед глазами неровные желтые стены какого-то обрыва, с темными пятнами кустов, росших на скользком откосе.
Пьер смотрел в окно, но то, что возникло перед его глазами, было не похоже на эту глиняную стену. Он отчетливо вспомнил другие, осенние пейзажи, сначала Нормандию, куда его повезли, когда он был мобилизован в начале войны и где формировалась его часть, потом бельгийскую границу, бесконечные окопы, которые рыл саперный батальон, где он служил, письма от матери – дорогой мой Пьеро, у меня все по-прежнему… я все думаю о тебе… бедная Франция… мне кажется, что ты, мой дорогой мальчик, меньше всего заслужил то, что происходит сейчас… мой дорогой Пьеро, отправляю тебе посылку… помни, что я всегда думаю о тебе… я знаю, что я вправе гордиться таким сыном… Дорогой мой Пьеро… в моей жизни было мало счастья, но тем, которое было, я обязана тебе… если есть на земле справедливость, то Господь сохранит тебя…
Стояли жестокие зимние холода. Пьер спал, зарывшись в солому, проваливаясь в ледяную тьму и просыпаясь ранним морозным утром. Потом стало теплее, затем немцы начали наступление, говорили, что они давно обошли французскую армию, что все кончено и непонятно почему оцепеневший саперный батальон Пьера остался на месте, ожидая неизвестно чего. Потом, в сумерках, лейтенант Робино сказал Пьеру:
– Форэ, нас предали, нас ждет плен и бесчестие. Я ухожу. Хотите идти со мной?
– Плен? – сказал Пьер, не понимая. – Плен? Бесчестие?
Где-то далеко был Париж, площадь Данфэр-Рошеро, Мартина Форэ – его мать… дорогой мой Пьеро…
– Я с вами, господин лейтенант, – сказал Пьер.
Они шли больше двух недель, и когда они подходили к Парижу, их уже никто не мог бы принять за военных. Робино был в потертом пиджаке, синей рубашке и бархатных штанах; на Пьере была рабочая куртка и слишком короткие полосатые брюки – они достали эту одежду у мэра небольшой деревни, морщинистого старика со свирепыми глазами, который накормил их, – они не ели до этого двое суток, – уложил их спать и утром пожелал им счастливой дороги, протянув руку с черными крестьянскими ногтями. Париж давно был занят германскими войсками, но никто не задержал ни Пьера, ни Робино.
В квартире, возле площади Данфэр-Рошеро, все было чисто и аккуратно прибрано, как всегда, и кровать Пьера была постелена так, как если бы ничего не случилось и он никогда не отлучался из дома. Город был на три четверти пуст, делать было совершенно нечего, и Пьер от скуки стал читать книги, которые нашел в библиотеке отца, бесконечно длинную историю культуры и труды о каменном веке. Потом люди начали постепенно возвращаться в Париж, а когда Пьер в десятый раз отправился посмотреть, не открывается ли предприятие, в котором он работал помощником бухгалтера, он вдруг увидел отворенные ставни, вошел и встретил хозяина, который пожал ему руку и отрывисто сказал:
– Жизнь продолжается, Форэ, несмотря ни на что. Мы возобновляем нашу работу.
Сначала они были вдвоем – хозяин и он. Потом стали появляться другие, и к концу года почти все были на своих местах, кроме кассира, попавшего в плен, и двух других служащих, исчезнувших неизвестно как и куда. Пьер сразу же был назначен старшим бухгалтером. Стояла суровая зима, на службе топили плохо, не хватало угля, зато дома была необыкновенная теплынь. Мать Пьера, как оказалось, запаслась топливом надолго.
Она жила теперь все время в состоянии блаженного спокойствия, которого раньше не знала. Когда вся работа по дому была кончена, она садилась в кресло, против печки, брала вязание и целыми часами сидела неподвижно, засыпая иногда на несколько минут и просыпаясь, чтобы вновь вернуться в этот теплый мир наконец обретенного счастья. Пьер был аккуратен, как всегда, уходил утром, возвращался к обеду, шел опять на службу и приходил к ужину. Раз в неделю он водил мать в кинематограф, остальные вечера он проводил дома, в долгих разговорах с ней. Он рассказывал ей о том, как идет война, что происходит в Ливии, приводил разнообразные цифры, на которые у него была профессиональная память, – тоннаж союзного флота, количество дивизий, добыча нефти, промышленный потенциал Америки. Он говорил ей обо всем этом, пока не замечал, что это ее не очень интересует. То, что имело для нее несомненный и понятный интерес, касалось вещей более непосредственных – ночных тревог, налетов авиации, того, что угрожало ее спокойствию. Пьер убедил ее в том, что район, в котором они живут, не подвергается никакой опасности бомбардировки, и тогда она перестала бояться и во время тревог даже не спускалась больше в подвал. Он понимал, что от нее нельзя было требовать постоянного интереса к чему-то, в сущности, для нее почти отвлеченному – далеким боям в Ливийской пустыне или в глуши России. Это было ему понятно потому, что она была пожилой и усталой женщиной и тот запас чувств и та сила восприятия, которые ей были отпущены природой, были давно исчерпаны почти до конца; и еще оттого, что собственный интерес к этим событиям был как-то ослаблен тем, что война вообще была ему органически противна. Это не помешало и не могло бы помешать ему выполнять то, что называлось обычно долгом перед родиной. Но огромные разрушительные возможности войны, вызывавшие у одних страх, у других восторженное преклонение перед силой, производили на него неизменное впечатление тягостности и бессмысленности. Он знал, что Германия должна была быть побеждена, и считал, что достижение этой цели оправдывало все, что происходило. Но тягостного чувства, которое его охватывало, когда он думал о войне, это не уменьшало. Он чаще говорил с матерью о другом – о своей работе, о том, как он с ней справляется. Она в свою очередь рассказывала ему, где она покупает продукты, как все дорожает и как трудно все доставать. Она стала явно слабеть в последнее время, и у нее начались сердечные недомогания, которые проходили довольно скоро, но время от времени возобновлялись. Доктор, осмотревший ее, сказал Пьеру:
– Состояние вашей матери не внушает немедленных опасений. Она может прожить до девяноста лет. Не могу от вас скрыть, однако, что этот срок нельзя установить даже с самой приблизительной степенью точности. Это может случиться завтра, или через месяц, или через тридцать лет.
Эта невозможность предвидеть ту или иную длительность жизни получила свое подтверждение в том, что мать Пьера умерла через три года после первого визита доктора. Пьера в тот день на службе вызвали по телефону, он подошел, взял трубку и услышал прерывистый голос соседки, мадам Росиньоль, знавшей его еще мальчиком:
– Пьеро, приходи сейчас же домой. Твоей матери плохо.
Он бросился бегом из конторы, спустился в метро и через десять минут был дома. Но он опоздал: она умерла в то время, когда поезд метро, в котором ехал Пьер, подошел к станции Данфэр-Рошеро.
Пьер закрыл глаза. Это было два года тому назад. Первое время он все не мог привыкнуть к пустоте и тишине своей квартиры. Замолк навсегда аппарат радио; Пьер знал, что его звук немедленно вызовет с болезненной силой в его памяти воспоминание о матери, при жизни которой радио все время передавало под сурдинку лекции, легкую музыку, симфонии и концерты. Потом он стал привыкать к этому отсутствию звуков, и теперь, уже давно, возвращение домой значило для него погружение в ничем не прерываемую неподвижную тишину.
Он не знал, что с собой делать, рано ложился спать, по-прежнему мало читал. Ему казалось, что жизнь его проходит теперь совершенно зря. До тех пор пока была жива его мать, его назначение состояло в том, чтобы ограждать ее от неприятностей, защищать от трудностей, беспокойства, нужды; теперь, когда ее не было, все, что он делал, потеряло свой главный смысл. Но жизнь его не изменилась. Он по-прежнему уходил каждое утро на службу, по-прежнему получал жалованье, и еще некоторое время тому назад это казалось важным и необходимым. Теперь для него стало ясно, что это могло иметь свое оправдание только в том случае, если служило для достижения какой-то цели. И эта цель теперь была отнята у него, – потому что сердце его матери ослабело и потом остановилось в день ее смерти. И прекращение этого мерного вздрагивания значило не только то, что она умерла; это значило – об этом он думал чаще всего, – что из его собственной жизни был вынут тот смысл, который наполнял ее раньше.
У него было несколько коротких романов – была девушка из соседней конторы, Одэтт, была другая, с которой он познакомился в кинематографе, Сабина; но все это оставило в его памяти легкий осадок отвращения, и после того, как он расстался сначала с Одэтт, потом с Сабиной, обе они говорили о нем с враждебной насмешливостью. Он встретил некоторое время спустя еще одну девушку, которая ему особенно понравилась – у нее было кругловатое спокойное лицо, покорные глаза, очень точные движения и грудной голос. Но когда он узнал, что ее зовут Мартиной, так же, как звали его мать, он пришел в необыкновенное замешательство, несвязно извинился и перестал с ней встречаться; она не могла понять причины его необъяснимого поведения.
Вечером, ложась в кровать, он засыпал мгновенно и не успевал ни о чем подумать. В противоположность большинству людей, он погружался в раздумье – когда это с ним случалось – по утрам. Он вставал значительно раньше, чем это было необходимо, брился, принимал ванну, одевался, потом долго пил кофе, и все-таки времени до ухода на работу оставалось еще много. Он сидел тогда перед столом и думал, что если бы у него была возможность выбрать любую профессию и если бы он оказался достаточно способным, чтобы выполнить то человеческое назначение, которое ему казалось наиболее достойным, он стал бы врачом. И ему представлялась жизнь этого теоретического и предполагаемого врача, как его личная борьба против болезни и в конечном итоге против смерти. Победа над ней казалась ему единственным действительно важным долгом человека. Он воображал себе, – избегая клинических подробностей, останавливаться на которых ему мешало отсутствие медицинских познаний, – ряд отдельных тяжелых случаев – туберкулез, рак, обреченные больные и – благодаря усилиям врача – их медленное возвращение к жизни. Но все это оставалось в области чисто умозрительных представлений, потому что он знал, что для такого назначения у него не было никаких данных. В отличие от Альберта Форэ, твердо верившего в свою собственную судьбу и в свое воображаемое превосходство над другими, Пьер был убежден, что место, которое он занимает в жизни, точно соответствует его способностям и что на большее он претендовать не вправе. Перед уходом на службу он быстро и небрежно осматривал себя в зеркало: невыразительные глаза, продолговатое, ничем не замечательное лицо, чуть-чуть отстающие утаи. Воротничок его был всегда свежим; Пьер вообще отличался почти болезненной чистоплотностью и брезгливостью, – качества, которые в его жизни подвергались многократным испытаниям, особенно в казарме и на войне, но которых ничто не могло изменить. Он также был чувствителен к дурным запахам и поэтому с трудом переносил метро. И теперь, сидя в купе вагона, он был искренне рад тому, что путешествие все-таки подходит к концу и что еще через некоторое время он будет избавлен от общества своих соседей крестьян, которых сама жизнь лишала – в противоположность Пьеру – какой бы то ни было чувствительности к каким бы то ни было запахам.
На перроне маленького вокзала Пьер увидел Франсуа, который ждал его в своем длинном дождевике и с огромным черным зонтиком, который он держал над головой. Проклиная погоду, Франсуа взял под руку Пьера, у которого при выходе с вокзала никто не спросил билета – вообще вокруг не было видно никого из железнодорожных служащих и только силуэт смазчика маячил далеко впереди, возле паровоза. Вместе с Франсуа Пьер вышел на привокзальную площадь, где их ждала крестьянская двухколесная телега, запряженная тяжелым вороным жеребцом.
– Ты мне, старик, можешь не верить, – сказал Франсуа, – но вот я сижу здесь уже пять дней, и за все это время, может быть, часа два не было дождя. А что в Париже?
– То же самое.
– Да, национальная катастрофа, в общем, – сказал Франсуа. – Ну, поехали.
Мокрый жеребец потащил телегу наверх по дороге, круто поднимавшейся влево от маленького городка. Копыта его звучно чмокали в глинистом грунте. С обеих сторон дороги были невысокие откосы; на откосах и дальше густо росли деревья, по листьям которых струился и лепетал дождь.
– Автомобильный транспорт у нас еще не налажен, – говорил Франсуа. – Если бы я тебя не поставил об этом в известность, то ты рано или поздно должен бы был это тоже заметить.
В лесу крикнула птица. Пьер поднял голову и прислушался, но крик не повторился.
– Канализации в этой стране нет, – продолжал Франсуа. – Храбрые туземцы, конечно, не имеют представления о существовании ванн, – впрочем, что они с ними стали бы делать? Других удобств тоже нет. Вот, говорят, – цивилизация, культура, двадцатое столетие, национальное самосознание и прочая дребедень. А живут здесь люди совершенно так же, как жили их предки в четырнадцатом столетии. Теперь мы поворачиваем.
Телега свернула вправо и въехала в лес. Дороги больше не было: было две глубоких колеи, которые шли медленными изгибами. Когда Пьер оглядывался назад или смотрел вперед, он видел только деревья, обступавшие его со всех сторон. Не было слышно ничего, кроме шума дождя по листьям, тяжелого всхлипыванья лошадиных копыт и поскрипывания телеги. Воздух был влажен и свеж. Струи воды давно лились за воротник Пьера, он вздрагивал и передергивал плечами. Ему казалось, что он заехал бесконечно далеко. И хотя он знал, что в двух или трех километрах от того места, где сейчас проезжала их телега, был городок с вокзалом, через который проходили парижские поезда, он не мог отделаться от впечатления, что попал в глубокую лесную глушь, где годами стоит неподвижная тишина, в которой медленно растут эти огромные деревья и где десятилетия следуют за десятилетиями, не принося с собой никаких изменений.
– Ты о чем задумался? – спросил Франсуа.
– Так, ничего.
– Мы скоро доедем. Еще одиннадцать ухабов, и мы дома.
Через некоторое время телега выехала из лесу. Пьер внимательно смотрел на вид, который открывался перед ним: поле, налево опушка леса и там, среди деревьев несколько низких одноэтажных домов. Он повернул голову направо и увидел, что поле кончалось крутым обрывом, под которым далеко внизу текла мутная от дождя широкая река.
– Красиво, – сказал он. Франсуа пожал плечами.
Телега наконец остановилась перед домом; оба они вошли туда, и Пьер был представлен всему семейству, которое состояло из жены Франсуа, ее бабушки и двоих детей, мальчика лет семи и девочки лет пяти. Все они были одеты довольно небрежно. На экене Франсуа было просторное платье, и было заметно, что она ждала ребенка. У нее было довольно красивое лицо с правильными чертами, но с тем выражением явной душевной незначительности, в определении которого было невозможно ошибиться. Ее бабушка была дряхлой женщиной с морщинистым лицом и мертвыми, пустыми глазами. Она, казалось, не вполне отдавала себе отчет во всем, что ее окружало, и долго не могла понять, кто такой Пьер и почему он здесь очутился, и все спрашивала, не кузен ли это Жорж.
– Какой кузен Жорж? – спросил вполголоса Пьер.
– Я об этом, милый мой, знаю ровно столько же, сколько и ты, – сказал Франсуа. – Насколько мне известно, такого кузена вообще никогда не существовало. Не обращай внимания.
Потом Франсуа показал Пьеру его комнату. Она находилась довольно далеко от дома, в маленьком флигеле, крытом черепицей, и точно соответствовала тому описанию, которое Франсуа дал Пьеру еще в Париже, – шершавые стены, кровать и хромая табуретка. В комнате пахло сыростью. Пьер поставил на пол свой чемодан, и они вернулись в дом, где ему дали горячий суп, кусок жареного мяса и чашку кофе, после чего он поблагодарил жену Франсуа и ушел к себе.
Войдя в свою комнату, он лег одетый на кровать и оставил дверь отворенной. В прохладном воздушном ее четырехугольнике струился дождь, на который он смотрел. Так он пролежал некоторое время и незаметно для себя задремал. Он проснулся оттого, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он открыл глаза; прямо перед дверью – были уже сумерки – стояла какая-то женщина, как ему показалось, в рубашке, совершенно промокшей и прилипшей к ее телу. Нечесаные волосы беспорядочно свисали с ее головы. Она стояла спиной к свету, и лица ее Пьер не мог рассмотреть. В ее необъяснимом появлении, во всем ее виде и странной ее неподвижности было что-то неподдельно жуткое, как ему показалось со сна.
– Что такое? Кто вы такая? – спросил он изменившимся голосом.
Она ничего не ответила и исчезла. Он поднялся с кровати и подошел к двери. В наступающей темноте он смутно различал ее фигуру: она медленно уходила под проливным дождем в сторону леса, – в рубашке, босая, с мокрыми волосами, падавшими ей на плечи. У него сильно и тяжело билось сердце. Он постоял минуту на пороге, потом затворил дверь, и в комнате стало темно. Часто дыша от волнения, он разделся, лег в кровать и начал думать о ней, но тотчас же заснул крепким сном, похожим на оцепенение.
Он проснулся поздно и в течение нескольких секунд не мог понять, где он. Сквозь маленькое окно под крышей проходил свет, неясно блестя на мутном стекле. Он дотронулся до стены и тогда вспомнил, что он за сотни километров от Парижа, на юге, в гостях у Франсуа. За дверью стояла та же тишина, которая так поразила его накануне в лесу Он надел рубашку и штаны, достав их из чемодана, и отворил дверь. Был жаркий августовский день, солнце было высокое и горячее. Только лужа воды перед порогом еще напоминала о вчерашнем дожде. Он захватил с собой туалетные принадлежности и пошел к невысокому каменному бассейну, над которым был водопроводный кран и который еще вчера показал ему Франсуа.
Когда, умывшись и приведя себя в порядок, он вошел в дом, где жил Франсуа, было уже начало одиннадцатого. Франсуа ушел купаться, дети где-то неподалеку играли, и в доме оставались только бабушка, молча вязавшая какую-то фуфайку, и Ренэ, жена Франсуа. Пьер извинился за поздний приход.
– Ничего, ничего, с дороги это понятно, – сказала Ренэ. – Кофе горячий, я вам сейчас налью.
Бабушка смотрела на Пьера с тем же выражением, что вчера, такими невыразительными и мертвыми глазами, что ему стало немного не по себе, и, выпив кофе, он тотчас же ушел. Он направился сначала к реке, но потом подумал и свернул в лес. Там было еще сыро и в некоторых местах от земли поднимался легкий пар. Пьер смотрел вверх. Огромные деревья, каких он никогда до сих пор не видел, громоздились перед ним, и над его головой тянулся бесконечный переплет зеленых листьев. Где-то, казалось совсем близко, стучал дятел, – Пьер долго искал его глазами и не нашел. Какие-то синие маленькие птицы с желтоватым брюшком несколько раз пролетали мимо него. Он прошел некоторое расстояние и остановился перед громадным многоствольным кедром, вершина которого терялась в листве других деревьев. Пахло сырой древесиной, влажной землей и еще чем-то особенным и острым, чего он не мог определить, потому что раньше никогда не знал этого своеобразного запаха. Сделав несколько шагов, он понял, что этот запах шел от большого муравейника, на который падал солнечный свет. Бесчисленные красные муравьи сновали по его ноздреватой серой пирамиде. Пьер простоял перед ней несколько минут и пошел дальше, мягко ступая по сыроватым коричневым листьям и иглам, плотно устилавшим землю. Необыкновенное, никогда до тех пор не испытанное им чувство охватило его. Ему вдруг показалось, что он живет бесконечно давно и знает очень много вещей, которые он неизвестно почему забыл почти безвозвратно, но смутное воспоминание о том, что они существовали, все-таки в нем было, он только не отдавал себе в этом отчета. Было не только воспоминание о забытом, было еще сознание того, что есть какой-то другой мир, чем-то, быть может, похожий – по своей тишине и вечности, по величественному его спокойствию – на этот лес, на эти миллионы и миллионы листьев, на это соединение света, земли и деревьев.
Он продолжал идти, углубляясь в лес. На далеком дереве куковала незримая кукушка. Ему казалось, что этот звук доходит до него из сна, не нарушая этой неправдоподобной густой тишины, так не похожей на печальное безмолвие его парижской квартиры, – этой тишины, в которой не было ни одного движения, кроме его медленных шагов. День был безветренный, листья не шевелились. Он вспомнил, что видел уже такие леса в те времена, когда был солдатом; но он был слишком занят тогда, и у него не было времени и возможности ощутить то, что он чувствовал теперь. Тогда была война, вопрос о том, что будет завтра, и постоянная мысль о матери, которая ждала его возвращения. Теперь все исчезло, хотя тогда казалось, что это никогда не кончится – то, что можно было сказать в нескольких простых словах: ожидание и «быть может» – быть может, рана, быть может, смерть, быть может, плен, быть может, возвращение. Теперь все, что было тогда, перестало существовать: война была кончена, квартира была пуста, и только на недалеком кладбище, в парижском пригороде, прибавилась еще одна могила: «Здесь покоится в мире Мартина Форэ…» В просветах листьев, в необычайной и прозрачной тишине, стояла синева далекого неба. Пьер шагал мимо шершавых стволов, между которыми рос крепкий твердолиственный кустарник. Изредка попадались неровные широкие пни, и в этих местах было чуть-чуть просторнее; но вокруг каждого пня буйно росли невысокие деревья. Если бы его спросили, именно его, Пьера Форэ, для чего он, собственно, живет на свете, что он мог бы ответить?
Он вдруг почувствовал непонятную усталость и, повернув обратно, пошел к дому. Он не мог бы сказать, о чем он думал, – о чем-то, чего не могло бы быть, если бы не незначительные, в сущности, впечатления сегодняшнего утра и тот особенный воздух, которым он дышал и в котором был, казалось, какой-то новый смысл, которого он до сих пор не знал. В этот день, именно здесь, на юге, в лесу, что-то вдруг сдвинулось в его жизни. Но он не знал, было ли это к лучшему или к худшему.
Он опять пришел поздно. Все уже кончили есть, и Франсуа пил кофе. Увидев Пьера он спросил:
– Куда ты пропал?
– Я был в лесу, – коротко сказал Пьер.
Ренэ принесла ему еду. Он снова извинился за опоздание, и она опять сказала ему с усталой улыбкой, что это неважно. Затем Пьер и Франсуа вышли из дому и пошли в сад. Сада, собственно, не было – несколько деревьев, густые заросли высокой крапивы и терновник. В середине этого пространства был маленький пруд, огороженный низким цементным барьером, так что сначала Пьер принял его за искусственный бассейн. Но Франсуа объяснил ему, что это был настоящий пруд, вода которого не загнивала, потому что внизу, со дна, бил холодный, как лед, ключ. Пьер сел на барьер и посмотрел в воду; в ней неподвижно стояли длинные стебли травы, между которыми, как в аквариуме, мелькали время от времени быстрые, небольшие рыбки.
– А где же сом? – сказал Франсуа. – Вот он, Пьеро, посмотри. Не здесь, ближе к середине. Видишь? Он всегда у поверхности.
Пьер посмотрел туда, куда указывал Франсуа, и увидел толстую усатую рыбу, которая медленно плыла действительно у самой поверхности воды, все время открывая и закрывая рот.
– По-моему, у него одышка, как у объевшегося человека, – сказал Франсуа. – Он жрет такое количество головастиков, что я удивляюсь, как он еще не околел от несварения.
За деревьями, как показалось Пьеру, послышался легкий шум. Пьер поднял голову, но никого не увидел, и шум не возобновился. И тогда он вспомнил о своем странном пробуждении накануне. Он хотел сказать это Франсуа, но не знал, как это сделать. Он молчал несколько минут, глядя на воду, освещенную солнцем. Сом доплыл до конца пруда, сделал извилистое движение хвостом и поплыл обратно.
– Скажи, пожалуйста, Франсуа… – начал Пьер. – Что?
– Я не знаю, как это тебе объяснить. Это что-то странное. Видишь ли…
И он рассказал, как он лег на кровать и заснул с отворенной дверью и как он проснулся. Франсуа нахмурился. Потом он сделал болезненную гримасу и сказал:
– Ах, не говори мне об этом. Это самая тягостная вещь, какая только может быть.
– Кто эта женщина? Франсуа вздохнул.
– Блаженная или сумасшедшая, может быть, и то и другое. Она живет у нас вот уже несколько лет. Мы ее зовем Мари. Как ее настоящее имя, никто не знает.
– Каким образом она сюда попала?
– Это длинная история – и чрезвычайно печальная, – сказал Франсуа. – Если у тебя есть терпение слушать, я тебе ее расскажу.
– Я слушаю, – сказал Пьер. Он сидел на цементном барьере и смотрел туда, где кончался пруд и где отражались в его неподвижной поверхности цепкие ветви терновника. Франсуа сказал, что он подобрал эту женщину летом сорокового года, когда миллионы людей двигались по дорогам Франции, уходя от германского наступления. Поздними сумерками Франсуа возвращался из города на повозке, запряженной тем же вороным жеребцом, который привез Пьера. Он остановил лошадь, потому что увидел чье-то тело, лежавшее посредине дороги. Это была Мари. Она была без сознания. На лбу ее была запекшаяся кровь. Он уложил ее на телегу – и привез домой, где ее привели в чувство. На ней было черное платье и стоптанные туфли. Когда ее спрашивали, кто она такая и как ее зовут, она ничего не отвечала и смотрела на всех испуганными, дикими глазами. Ела она с жадностью. Ее уложили спать, надеясь, что к утру она придет в себя. Но наутро ее не оказалось в комнате, и она появилась опять к вечеру, в таком же состоянии, как накануне. Такой она и осталась, вероятно навсегда, как думал Франсуа. У нее оказались другие особенности, гораздо более неприятные, о которых Франсуа предпочитал не упоминать.
– Говори уж, – сказал Пьер.
И тогда Франсуа объяснил, что Мари никогда не моется, не причесывается и что некоторые функции ее организма происходят непроизвольно. Кроме того, часть пищи, которую ей дают, она прячет под свой тюфяк и это, конечно, там гниет.
– Тебе не приходила в голову мысль отправить ее в психиатрическую лечебницу?
– Я часто думал об этом, – сказал Франсуа, – и, вероятно, этим кончится. Но я тебе должен сказать, что, во-первых, это не так просто. Ближайшая такая больница отсюда за двести километров. Кто ее туда доставит? Затем два раза за эти годы я видел у нее – как мне показалось – ясные глаза, ты понимаешь? Я не врач, я за ней не слежу. Но я не могу забыть этого человеческого выражения, и мне ее жаль. Поэтому я все жду – не знаю чего – и не отправляю ее в сумасшедший дом.
– Там ее могли бы, быть может, лечить.
– Сильно в этом сомневаюсь, я плохо верю в их лечение. – Из рассказа Франсуа Пьер узнал, что Мари живет – насколько этот человеческий глагол может быть к ней применим, – сказал Франсуа, – в маленькой сторожке, на опушке леса, «куда страшно войти». Туда он приносит ей пищу. Она иногда появляется в доме, и дети ее боятся, хотя она совершенно безобидна.
– Покажи мне, где она живет, – сказал Пьер. Франсуа пожал плечами и повел его к сторожке.
Когда он отворил дверь, у Пьера сразу защипало в горле от невыносимого смрада. Он увидел в углу низкую кровать, скомканное серое одеяло на ней и больше ничего.
– Отчего такой страшный запах? – спросил он.
– От всего, – сказал Франсуа. – Сделай мне милость, не настаивай на подробностях.
– Какой ужас! – сказал Пьер.
– Она живет как несчастное больное животное, – сказал Франсуа. – Она, я думаю, давно потеряла представление о времени и обо всем остальном. Я не знаю, и никто, вероятно, никогда не узнает, как она жила раньше, кто она такая, откуда она. Она погрузилась, – отчего, когда – неизвестно, – в какую-то животную тьму, это все, что я о ней знаю. А может быть, она всегда была блаженной и никогда не знала того мира более или менее рациональных понятий, за пределами которого начинается то, что мы называем сумасшествием.
– Ты никогда не пытался с ней разговаривать? Побудить ее к тому, чтобы она как-то на это реагировала?
– Много раз, – сказал Франсуа. – Но это потеря времени. Она явно не понимает даже вопросительных интонаций.
Они разговаривали стоя, в нескольких шагах от сторожки. Вдруг Франсуа повернул голову и шепотом сказал:
– Вот она, смотри.
И Пьер увидел, как на опушку леса вышла та женщина, появление которой так испугало его вчера. Он успел заметить ее серые волосы, огромные светлые глаза и босые ноги. Тяжеловатые черты ее лица можно было бы назвать правильными, но они были искажены животным выражением страха. Увидев Пьера и Франсуа, она метнулась в сторону и скрылась в лесу.
– И я иногда думаю, – сказал Франсуа, когда они прошли несколько шагов в молчании, – что ничего не может быть печальнее этого. Лучше проказа, лучше смерть. И я прихожу в отчаяние: есть ли человеческая возможность ее спасти? И в конце концов – стоит ли это делать?
Пьер смотрел прямо перед собой. В прозрачном воздухе неподвижно стояли зеленые, огромные деревья. Далеко внизу блестела на солнце река. Пьер сморщил нос и сказал:
– Мне кажется, что, может быть, стоит.
Этот разговор больше не возобновлялся. Но, возвращаясь к себе, Пьер долго думал о судьбе Мари. Откуда она появилась? И какая жизнь предшествовала этому летнему вечеру страшного сорокового года, когда Франсуа подобрал ее на дороге? Кем она могла быть, где она выросла, была ли у нее семья, сколько ей было лет? И неужели действительно нет никакой возможности вернуть ей то, что она потеряла? Он был всецело погружен в эти мысли, и, когда он вспомнил о своей парижской квартире и о своей службе, это показалось ему необыкновенно далеким. И стало еще очевиднее, чем когда бы то ни было, что если можно было найти какое-то оправдание жизни, то самое, о котором он думал в лесу, – то это оправдание, конечно, не могло быть найдено в том существовании, которое он вел все эти годы после смерти матери.
В течение нескольких следующих дней, – все время была жаркая солнечная погода, – Пьер сопровождал Франсуа на реку, где они купались и ловили рыбу, и в окрестные леса, по которым они бродили вдвоем. Чаще всего они разговаривали о незначительных вещах – как живут крестьяне, которых Франсуа обвинял во всех смертных грехах, и это была его любимая тема, как сажают табак, как глупа администрация. Однажды после долгой прогулки они остановились в лесу отдохнуть. Пьер сел прямо на землю, обхватив руками колени, Франсуа лег рядом с ним и закурил трубку. Потом он мельком взглянул на Пьера и спросил:
– В чем, по-твоему, заключается счастье?
Пьер посмотрел на него с удивлением. Издалека донесся крик кукушки. Вместо ответа он сказал:
– У тебя сегодня философское настроение? Почему тебе именно это пришло в голову?
– Потому что я иногда над такими вещами задумываюсь, – не в Париже, конечно, там нет времени для этого.
– И ты сам нашел ответ?
Франсуа отрицательно покачал головой.
– Иногда мне казалось, что нашел. Но это каждый раз было ошибкой.
– Со стороны, у тебя как будто все в порядке, – сказал Пьер, – жена, дети, работа.
– Да-да, – с небрежной интонацией ответил Франсуа. – Но вот чего-то не хватает. Счастье, это должно быть что-то такое, что не изнашивается.
– Это может быть какая-нибудь отвлеченная теория, – сказал Пьер.
– Не думаю.
– Почему?
– Мне кажется, что счастье – это прежде всего ощущение или, во всяком случае, что-то очень личное и не передаваемое другим. Вот укажи мне человека, на месте которого ты мог бы чувствовать себя счастливым.
– Я никогда об этом не думал, – сказал Пьер, – подожди, надо поискать. Человек, на месте которого я хотел бы быть и тогда бы я чувствовал себя счастливым? Подожди, Франсуа, я сейчас скажу. Ты хочешь знать имя? Амбруаз Парэ, Пастер.
– Если бы кто-нибудь нас подслушал, он бы подумал, что говорят гимназисты. И плохо на этой земле распределены должности, – сказал Франсуа, поднимаясь с земли. В голосе его была насмешливая и сочувственная интонация. – Потому что, милый друг, то, в чем нельзя, мне кажется, ошибиться, это что тебе меньше всего подходит место бухгалтера.
Проходили дни, похожие один на другой, как деревья в лесу. Все так же жарко грело солнце, стучали дятлы, по вечерам кричали лягушки. С наступлением ночи все погружалось в мягкую и теплую тьму, и когда Пьер ложился в свою кровать и смотрел через отворенную дверь, он не видел ничего, кроме мрака. Он думал, перед тем как заснуть, вдыхая этот особенный воздух, в котором стоял запах нагревшейся за день земли, травы и деревьев, – он думал, что парижская жизнь казалась ему неутомительной только оттого, что он никогда не знал о возможности такого существования, какое он вел здесь. Днем он часами наблюдал за передвижениями муравьев; он видел, как незримый крот выбрасывал землю наружу из своих сложных туннелей; маленькая ласка с красными глазами однажды стала перед ним в лесу на задние лапки и с секунду внимательно смотрела на него, а потом беззвучно и мгновенно исчезла; какое-то небольшое животное фыркало недалеко от него, он его искал глазами и не мог найти, и Франсуа потом объяснил ему, что это был барсук. Пьер бывал в доме, где жил Франсуа, только в часы еды. Бабушка совершенно привыкла к нему, как она привыкла бы к новому креслу или стулу, и больше не спрашивала никого, не кузен ли это Жорж. Может быть, думал Пьер, она отказалась от этого предположения, может быть, она забыла о нем и теперь этот неизвестный Жорж был навсегда похоронен в ее слабеющей памяти. Пьер заметил с некоторого времени, что даже Мари перестала убегать, как только она его видела. И вот наступил день, – это было за неделю до конца его отпуска, – когда он проходил недалеко от ее сторожки и увидел, что она сидела на земле и мяла в руках кусок глины, который нашла неизвестно где. Он подошел ближе; она осталась сидеть и не двинулась, но не подняла на него глаз. Он остановился перед ней и сказал:
– Здравствуйте, Мари.
Она не шевельнулась. Он посмотрел на ее низко наклоненную голову – и вдруг вспомнил, что так же была наклонена голова его матери, когда он однажды в сумерках вернулся домой; он с новой силой почувствовал, что она умерла, и ощутил тяжелую печаль. Мари сидела перед ним, он видел ее серые волосы, загорелые босые ноги с огрубевшими ступнями и матово-темную кожу ее лица.
– Я рад, что вы меня больше не боитесь, – сказал он, не повышая голоса. – Мне бы хотелось вам чем-нибудь помочь, если это возможно.
Она подняла на него свои светлые, пустые глаза, и он понял, что она слышала звук его голоса.
– Я знаю, – сказал он, разговаривая так, как если бы он обращался к совершенно нормальному существу, – что смысл моих слов до вас не может дойти, но это не так важно.
Она смотрела прямо на него, и когда он встретил ее взгляд, он невольно ощутил холодок в спине. В ее глазах не было никакого выражения. Он даже подумал, что это было похоже на раскрашенный анатомический рисунок человеческих глаз – кристаллик, радужная оболочка, веки, ресницы. Но это был совершенно пустой и мертвый взгляд.
– До свидания, Мари, – сказал он, проглотив от волнения слюну. И только тогда, когда он углубился в лес, он несколько пришел в себя и начал опять напряженно думать о том, что все эти дни не давало ему покоя. Это были бесплодные попытки представить себе, кто была Мари и что с ней могло случиться. Теперь, после этого разговора, ему пришла в голову новая мысль. В тишине леса он разговаривал сам с собой вслух, как он делал это когда-то давно, в школьные годы, обдумывая решение алгебраической задачи.
– Какие страшные глаза! – сказал он, продолжая идти. – И вот представь себе, что этому мертвому взгляду можно вернуть человеческое выражение и сделать так, чтобы оно навсегда в нем осталось. Да, это стоит каких угодно усилий.
Он сделал еще несколько шагов, потом остановился и быстро пошел назад.
Франсуа уехал в город, за покупками, и, прождав его час, Пьер пошел ему навстречу. Уже дойдя почти до конца дороги, которая вела к городу, он увидел наконец повозку, запряженную вороным жеребцом. Франсуа правил, сидя на узкой доске, положенной поперек повозки, и куря трубку.
– Ты что, в город? – спросил он.
– Нет, – сказал Пьер, – я шел тебе навстречу. Мне надо с тобой очень серьезно поговорить.
– Садись рядом, – сказал Франсуа. – Советую тебе на это время забыть о существовании кресел, диванов и вообще о достижениях цивилизации в области мягкой мебели.
Когда Пьер влез в телегу, Франсуа прибавил:
– И о рессорах тоже. Так в чем же дело?
Стоял неподвижный зной, скрипела телега, покачивалась лошадиная спина, мерно двигались крутые бока жеребца. На лице Пьера было далекое и восторженное выражение.
– Я хотел с тобой поговорить о Мари, – сказал он. – Я избавлю тебя от всех забот о ней.
– Каким образом?
– Я возьму ее с собой в Париж.
Это было настолько неожиданно, что Франсуа натянул вожжи и повозка остановилась. Потом он внимательно посмотрел на Пьера.
– Ты что, с ума сошел?
– Отпусти вожжи, – сказал Пьер, беря его за руку. – Нет, я с ума не сошел.
– Что ты будешь с ней делать?
– Я постараюсь ей дать душевный покой, и, может быть, она придет в себя.
– Но где она будет жить?
– У меня, со мной. Франсуа сказал:
– Я вижу, ты совершенно не отдаешь себе отчета в том, что собираешься делать. Ты представляешь себе, что такое ее соседство? Ты знаешь, что тебе пришлось бы следить за ней, как за маленьким ребенком? Ты представляешь себе, во что превратилась бы твоя квартира? И все это, в сущности, почти без всякой надежды на выздоровление.
– В этом смысле риска нет никакого.
– Хорошо, допустим, что я согласен не считать тебя сумасшедшим, – сказал Франсуа. – Но как бы ты довез ее до Парижа? Надо ли тебе объяснять, что в поезде ее везти нельзя?
– Я прекрасно отдаю себе в этом отчет, – сказал Пьер. – Я отвезу ее на автомобиле.
– На каком автомобиле? И как ты ее повезешь? Связанной?
Но Пьеру ничто не казалось невозможным. Он вспомнил, что мысль об автомобиле пришла ему в голову на втором повороте дороги, когда он спускался по ней вниз, навстречу Франсуа, – на том повороте, где с одной стороны был небольшой овраг, а с другой поднимался крутой склон леса, густо и дико заросший терновником. Нет, он не думал, что Мари придется связывать, она, наверное, не окажет никакого сопротивления.
– Почему ты так думаешь?
– Ты знаешь, – сказал Пьер с доверчивой интонацией в голосе, – я заметил, что с некоторого времени она меня не боится. И когда я разговариваю с ней, она не уходит, а сидит на земле и слушает. Я не строю себе никаких иллюзий и убежден, что она, конечно, не понимает моих слов. Но она их слушает и смотрит на меня.
– «Понимать», «слушать» – все это к ней не применимо, я думаю, – сказал Франсуа. – Она просто привыкла к звуку твоего голоса, и он ее больше не пугает.
Они ехали некоторое время молча.
– То, что ты хочешь сделать, это, конечно, сумасшествие, – сказал Франсуа. – Я тебе советую об этом забыть. С твоей стороны это было бы совершенно ненужное и бессмысленное самопожертвование. Ты просто не понимаешь, насколько это глупо.
Пьер посмотрел на него невидящими глазами.
– Да, конечно, это самая чудовищная глупость, с которой мне пришлось встретиться за всю мою жизнь, – сказал Франсуа.
Пьер опять ничего не ответил. Было жарко. Телега поднималась в гору мимо медленно смещавшихся деревьев. Франсуа повернулся на сиденье, посмотрел в сторону и добавил:
– Но если ты это действительно решил и тебя нельзя отговорить, то я тебе помогу.
Пьер вернулся в свою маленькую комнату в повышенном и почти восторженном состоянии, которое не покидало его с той минуты, когда он подумал о возможности увезти Мари в Париж. Франсуа был отчасти прав: Пьер меньше всего думал о том, что именно он будет делать и как надо будет смотреть за Мари, это казалось ему второстепенным. То, что занимало его мысли, было неизмеримо важнее. Он не сумел бы это объяснить в нескольких словах, но если бы он мог это сделать, он бы сказал, что теперь все в мире приобрело для него новое значение. Он был избавлен наконец от того тягостного чувства, которое преследовало его все эти годы со дня смерти его матери: чувства бессмысленности окружающего, его собственной жизни, его службы и всего, что он делал. Это чувство особенно усилилось в нем после его приезда сюда, когда он впервые вошел в лес и все не мог оттуда уйти, погруженный в созерцание этого безмолвного и неподвижно-живого могущества стволов, ветвей и листьев. Когда он смотрел на них, ему почему-то казалось особенно очевидным, что его собственное существование ничтожно и бесполезно, – так, точно вид этого леса был непонятным и неопровержимым одновременно доказательством правильности именно этого сознания ничтожества и бесполезности. Теперь это изменилось – и там, где до сих пор была тягостная пустота, возникали спутанные волосы Мари, огрубевшие босые ее ноги, ее бледное лицо, лишенное выражения, и этот мертвый взгляд ее светлых и пустых глаз.
Он увидел ее на следующее утро в той же позе, в какой он видел ее каждый день, – она сидела на земле и по-прежнему с непонятным постоянством мяла в руках все тот же кусок глины, который давно потемнел от прикосновения ее грязных пальцев.
– Здравствуйте, Мари, – сказал, понижая голос, как он делал всякий раз, когда обращался к ней. И хотя он знал, что она не понимает его слов, эти напрасные его монологи не казались ему потерей времени – вопреки здравому смыслу. И он продолжал говорить так, точно перед ним была собеседница, понимавшая не только смысл его фраз, но и каждую интонацию его голоса.
– Я хотел вам сказать, – продолжал он, глядя на нее, – она не поднимала головы, – что это последние дни вашего пребывания здесь. Мы скоро уедем в Париж, и ваша жизнь совершенно изменится.
Она не шевельнулась, – только ее пальцы медленно мяли глину. Пьер подумал о том, каким чудовищно далеким пространством она отделена от него и от того мира, в котором он жил, – и на одну короткую часть секунды ему показалось, что всякая надежда на спасение Мари – только химера и бред. Но он тотчас же забыл об этом.
– Вы будете жить в Париже, со мной, – сказал он, – и вам будет гораздо лучше, чем тут. Я надеюсь, что рано или поздно вы выздоровеете, и тогда я напомню вам то, что я говорил вам здесь за несколько дней до нашего отъезда.
Она ни разу не подняла головы. Пьер чувствовал необыкновенное волнение.
– Я еще должен о многом подумать, – сказал он. – Мы уезжаем через четыре дня.
На следующий день Франсуа свел его с крестьянином, у которого был небольшой грузовик с брезентовой крышей и наглухо закрывавшейся сзади деревянной дверцей. Крестьянин согласился отвезти в Париж Пьера и Мари за сравнительно недорогую цену. Он только попросил авансом у Пьера пятьсот франков на расходы: он был недоверчив, как все крестьяне. Пьер их ему сейчас же заплатил.
Пьер никогда потом не мог забыть того августовского рассвета, когда грузовик подъехал к дому Франсуа. Пьер был давно одет и ждал уже с полчаса. Небритый и взъерошенный Франсуа стоял рядом с ним и курил трубку. Воздух был неподвижен, на траве блестела роса. Сердце у Пьера билось тяжело и неровно.
– Ты знаешь, – сказал он, – это все-таки, конечно, огромная ответственность, я прекрасно это понимаю.
– Искренно желаю тебе успеха, – сказал Франсуа. – Ужасно хочется спать. А для среднего крестьянина встать в этот час ничего не значит, они все чуть свет поднимаются. Там, в Париже, ты держи меня в курсе всего, что будет происходить. Ох, милый мой, страшно подумать. Ну, идем за ней.
Они остановились на пороге сторожки, в которой она жила и дверь которой была отворена. Мари спала лицом вниз. Тот же невыносимый запах ударил в нос и глаза Пьеру. Он вынул платок и приложил его к лицу.
– Нечего делать, – сказал Франсуа, – входи.
Пьер подошел к кровати, на которой лежала Мари, и тронул ее за плечо. Она открыла глаза.
– Мари, мы уезжаем, – сказал Пьер. – Я сейчас посажу вас в грузовик, и мы поедем в Париж. Вставайте.
Он приподнял ее за плечи. Франсуа с удивлением смотрел на него.
– Она не понимает, что происходит, – сказал он вполголоса. – Она безразлична ко всему на свете, ты видишь.
– Тем лучше, тем лучше, – задыхаясь, сказал Пьер. У него было отдаленное сознание, в котором он едва отдавал себе отчет, что он совершает нечто страшное, какое-то насилие над ней, и он подумал, что так, вероятно, должен себя чувствовать убийца. Она была совершенно беззащитна; он чувствовал это по тому, как мягко поддавались мускулы ее тела под его руками. Он вывел ее из сторожки; она подняла руку к глазам и тотчас же ее опять опустила. Крестьянин стоял у своего грузовика, смотрел на то, что происходило, и лицо его не выражало решительно ничего. Пьер и Франсуа подняли Мари не без некоторого усилия – у нее было литое, тяжелое тело – и внесли ее в грузовик, на полу которого лежал соломенный матрац.
– Теперь постарайтесь заснуть, Мари, – сказал Пьер. – Я разбужу вас, чтобы дать вам поесть.
Она лежала в грузовике так же неподвижно, как несколько минут тому назад лежала у себя в сторожке. Крестьянин захлопнул дверцу и сел за руль.
– Ну, счастливой дороги, – сказал Франсуа, пожимая руку Пьеру, и Пьер в первый раз заметил, что Франсуа был взволнован. – Помни, что ты обещал держать меня в курсе всего.
Грузовик тронулся. Далекая река внизу уже была освещена ранним солнцем, и в деревьях медленно таял утренний туман. Пьера время от времени начинала трясти мелкая дрожь. Он молчал и смотрел сквозь мутное стекло на дорогу.
Они приехали в Париж поздним вечером после двухдневного путешествия. В дороге они останавливались несколько раз. Крестьянин плохо рассчитал расстояние, и они вынуждены были ночевать в пути, где-то на опушке леса. Потом был второй, самый утомительный день. У Пьера ломило поясницу, и ему все время хотелось спать. Наконец они въехали в Париж, и через некоторое время грузовик остановился перед домом, где жил Пьер.
Мари не спала. Пьер приподнял ее, снял с грузовика и, держа ее под руку, поднялся с ней на третий этаж в свою квартиру. Отперев дверь, он ввел ее в столовую, зажег электричество, оставил ее в ярко освещенной комнате и спустился вниз, чтобы расплатиться с крестьянином. Он вернулся через несколько минут и, едва переступив порог, с упавшим сердцем понял, что случилось. Он вспомнил слова Франсуа о том, что некоторые функции организма происходили у Мари непроизвольно. Когда он вошел, она сидела на полу. На секунду его охватило отчаяние. Но потом он пошел на кухню, принес тряпку и лоханку с водой и привел все в порядок. Затем он вошел в ванную комнату и открыл краны холодной и горячей воды в ванне. Мари по-прежнему сидела на полу, глядя вокруг себя все тем же мертвым взглядом светлых глаз. Он постелил ее кровать – ту самую, на которой раньше спала его мать. Потом, когда ванна была наполнена водой, он взял Мари под мышки, – она по-прежнему не оказывала ему никакого сопротивления, – и привел ее туда. Он расстегнул пуговицы на тех черных лохмотьях, которые ей заменяли платье, и снял их с нее. У нее было тугое и крепкое тело молодой женщины; на темной от грязи коже было несколько синяков, а на правой стороне живота белел продолговатый шрам.
– Теперь, Мари, надо принять ванну, – сказал он таким тоном, точно обращался к ребенку. – Ах, Боже мой, ведь вам еще нужно вымыть голову!
Все это заняло больше часу. В конце концов, единственное, чего ему не удалось отмыть, это были ступни Мари, покрытые твердой, мозолистой кожей. Моя ее, он следил за выражением лица Мари, стараясь понять, как она на это реагирует. Но и глаза, и лицо Мари оставались неподвижны, будто все это происходило не с ней. Пьер покачал головой.
Потом он вытер ее досуха, надел на нее купальный халат, отвел ее в комнату и уложил в постель. Она тотчас же закрыла глаза. Он постоял минуту, пристально глядя на нее. Ее лицо побелело, черты его обрисовались как будто отчетливее – и вдруг ему показалось, что вот сейчас, сию секунду, она откроет глаза и он встретит ее удивленный человеческий взгляд. Он стоял, думая об этом, и только потом понял, что уже в течение некоторого времени он слышит ее ровное дыхание.
Пьер плохо и мало спал в эту ночь, несмотря на всю свою усталость. Два или три раза он вставал, надевал халат и туфли и входил в ее комнату. И каждый раз убеждался, что она спит без движения глубоким сном. Ранним утром он встал, оделся, выпил чашку крепкого кофе и опять пошел к Мари. Через створки ставень проходил легкий свет. Мари продолжала неподвижно лежать в кровати, и Пьер не знал, сон ли это или какое-то оцепенение, вызванное резкой переменой в ее жизни, переменой, которая, конечно, не могла отразиться в ее сознании, но на которую организм реагировал именно так. Наконец, когда он в десятый раз пришел посмотреть на Мари, она открыла глаза. Он распахнул ставни и сказал:
– Здравствуйте, Мари.
Она посмотрела на него, и ему показалось, что в ее глазах появился какой-то отдаленный проблеск, нечто похожее на удивление. Затем она медленно повернула голову несколько раз, и нельзя было понять, что это значит: отрицание? сомнение? упрек? Пьер думал, что это, конечно, не могло быть ни тем, ни другим, ни третьим.
С этого дня началось его новое существование. С необыкновенным терпением, которого не могли поколебать неизменные неудачи, он старался научить Мари, как надо себя вести в квартире. Он по-прежнему мыл ее каждый день в ванне, расчесывал ей волосы и следил за каждым ее движением. Уходя, он всегда запирал ее на ключ в комнате, боясь, чтобы она не натворила какой-нибудь беды. Он знал еще со слов Франсуа, что у нее была привычка прятать остатки пищи под матрац, и поэтому каждый день осматривал ее кровать и всегда находил там то куски мяса, то хлеб, то макароны. Он выносил это на кухню – и когда она следила за ним своими мертвыми глазами, он говорил ей:
– Это ничего, Мари, это не пропадет, мы будем просто держать это в другом месте.
Иногда ему удавалось унести это так, чтобы она не видела. Наконец наступил день, когда она забыла спрятать остатки пищи. Он бурно обрадовался, обнаружив это, но радость его была преждевременной: на следующий день несколько кусков мяса опять лежали под ее матрацем.
Но самым мучительным было то, о чем ему с болезненной гримасой говорил Франсуа. Пьер, с наивностью, в которой он прекрасно отдавал себе отчет, многократно объяснял Мари, как следует поступить, но все его объяснения оказывались совершенно бесполезны. Проходили недели за неделями, кончился сентябрь, начались октябрьские холода. Мари давно была одета, как нормальная женщина, – Пьер тотчас же после приезда в Париж снял с нее мерку и купил ей в магазине готового платья то, что считал необходимым. Она постепенно привыкла к чулкам и обуви, и кожа ее ступней стала мягче. Но в остальном ему не удалось добиться никаких изменений. Единственные минуты, когда ее поведение напоминало поведение нормального существа, были те минуты, которые Пьер проводил с ней за столом: она ела, пользуясь ножом и вилкой, но лицо ее при этом принимало как бы еще более мертвое выражение, и создавалось впечатление, что она делает ряд автоматических движений, не понимая их значения.
Она была безразлична, казалось, решительно ко всему – к ванне, к еде, к одеванию и раздеванию. Казалось, что понятие или возможность какой-то привычки были для нее исключены. Когда стало холодно, Пьер аккуратно, каждый день, топил две большие печки квартиры. Вначале он боялся, чтобы Мари как-нибудь не обожглась или не наделала пожар. Но она не дотрагивалась до печей. Только иногда, когда на дворе был мороз, он, возвращаясь домой, неизменно находил ее в одной и той же позе: она сидела на полу, у печки, не двигаясь. На кухню она не ходила никогда.
Был уже конец ноября, когда Франсуа однажды позвонил Пьеру по телефону на службу и спросил, как идут дела. Пьеру было очень неприятно, что за все это время ему не удалось добиться никакого результата. Поэтому он уклончиво ответил, что есть некоторые улучшения, и сказал, что как-нибудь он позвонит Франсуа, они встретятся и он ему все расскажет. Он был рад, что Франсуа не настаивал и сказал, что будет ждать его звонка. И как раз на следующий день после этого Пьеру показалось, – это было вечером, после того, как он вернулся со службы, он был на кухне и готовил себе и Мари ужин, – что он слышит незнакомый голос в квартире. Он вышел из кухни и прислушался. Странный, металлический голос произносил какие-то невнятные звуки. Он быстро прошел в столовую, где на полу, возле печки, сидела в своей обычной позе Мари.
– Мари, это вы разговаривали? – спросил он. – Что вы говорили, моя дорогая?
Она молча подняла на него свои пустые глаза. Он вздохнул и сказал:
– Боже мой, если бы это когда-нибудь произошло по-настоящему!
Дня через три он опять услыхал ее голос. На этот раз он потихоньку подошел к полуотворенной двери, и Мари его не видела. Звуки, которые она издавала, были похожи на смену нескольких интонаций, и этот странный металлический голос был лишен какой бы то ни было окраски. Прошло еще некоторое время, и Пьер заметил, что она знала – или чувствовала – часы его прихода. Однажды, когда он вернулся домой днем, она ждала его за дверью. Но когда он вошел, она отшатнулась так, точно его впервые увидела.
– Это я, Мари, не бойтесь, – сказал он.
Внимательно следя за выражением ее глаз, он заметил, что оно иногда изменялось. Число этих изменений было незначительно: удивление, неожиданность, недоверие, но эти выражения не совпадали с внешними обстоятельствами. Между тем, что происходило, и выражением глаз Мари не было никакой связи. Он заметил также, что несомненные изменения произошли с ее телом, – он по-прежнему ежедневно мыл ее в ванне. Раньше, как ему казалось, ее тело представляло собой просто анатомическую совокупность частей – руки, ноги, грудь, живот. Но через некоторое время как-то, когда он раздевал ее, чтобы посадить в ванну, он опять взглянул на нее всю, от плеч до ступней, и понял наконец, в чем дело. Ему показалось странным, что он не понимал этого раньше. Та нездоровая, матовая желтизна ее кожи, которую он заметил после того, как выкупал ее первый раз, исчезла. Теперь перед ним было тело с белой кожей, которая отливала розоватым оттенком, тело молодой женщины – широкие, мягкие плечи, невысокие груди, разделенные небольшим пространством, узкий живот, длинные ноги. Но это тело оставалось таким же невыразительным, как и ее лицо и ее пустые глаза. Каждое утро он спрашивал ее:
– Вы хорошо спали, Мари?
И каждое утро он встречал в ответ – ее пустой взгляд, которого он не мог забыть и к которому не мог привыкнуть.
То, что ему было тягостнее всего, это необходимость следить за ней, как за маленьким ребенком. Несмотря на то что она с самого начала спала на клеенке, которую Пьер аккуратно мыл и ежедневно менял, несмотря на то что окна комнаты, где спала Мари, оставались отворены почти весь день, все-таки каждый раз, переступая порог ее комнаты, он ощущал тот легкий дурной залах, который напоминал ему о бесплодности его усилий. Но он продолжал с прежним упорством стремиться к тому, чтобы это изменилось. Он пробовал для этого самые разные способы, вплоть до применения теории условных рефлексов, – все, кроме насилия. Но когда потом, много позже, он случайно подумал об этом, он не мог вспомнить, что именно он делал. Во всяком случае, через много недель он добился своего: Мари стала вести себя нормально.
Пьер думал сначала, что это существеннейшее изменение автоматически повлечет за собой другие. Но этого не случилось, и во всем остальном Мари продолжала быть такой же, как раньше. Проходили дни и недели. По вечерам Пьер обычно сидел и читал. Иногда отрывая глаза от книги, он видел фигуру Мари на полу, у печки, в одной и той же позе, в той же неподвижности и в том же безмолвии. Очень редко она произносила своим искусственным, металлическим голосом несколько звуков, в которых не было ни слов, ни смысла.
Вечером Пьер ложился в кровать и долго не мог заснуть. Иногда он вставал и шел смотреть, спит ли Мари, но уже с порога он слышал ее ровное дыхание. Он возвращался к себе на цыпочках и опять ложился в постель. Он тщетно старался себе представить, что в ней происходит, и мысль о ней никогда не покидала его. Об одном он старался не думать, обходя это как нечто запретное, в чем ему было стыдно признаться даже самому себе. Это была мысль, которую короче всего он мог бы выразить так: что стало бы с этим бедным существом, если бы не было его, Пьера Форэ? Он не хотел об этом думать, но возвращался к этой же мысли другим путем: он представлял себе Мари такой, какой он ее увидел впервые. Затем он закрывал глаза, и Мари опять появлялась перед ним такой, какой она стала теперь, в его парижской квартире. В сотый раз он задавал себе бесплодный вопрос: кто была эта женщина и какой была ее жизнь до того дня, когда Франсуа нашел ее на дороге? Если бы его спросили, в чем состояла его задача, в чем он видел цель всего, что он делал для нее, он ответил бы, что он хотел бы вернуть ей разум и то место в жизни, которое ей принадлежит – или принадлежало. Это была правда, но не вся правда. Если бы он дошел в этих рассуждениях до конца, – то, что он смутно понимал, избегая на этом останавливаться, должно было бы быть выражено иначе: он хотел, чтобы к ней вернулся разум, но он не хотел бы возвращения ее прошлого.
Но и до того и до другого было очень далеко. Франсуа несколько раз звонил ему по телефону, и Пьер чувствовал, что становится просто неловко отвечать ему с той уклончивостью, с какой он это делал. Наконец он назначил ему свидание у себя, и вечером Франсуа приехал к нему.
Был сравнительно теплый день. Мари сидела в кресле в своей комнате – она научилась уже сидеть не только на полу, как раньше. На ней было темное платье, она была в чулках и туфлях. Ее волосы, которые Пьер подстригал сам, спускались на плечи. На изменившемся, побелевшем лице было, однако, все то же мертвое выражение ее светлых и пустых глаз. Пьер ввел Франсуа в свою комнату.
– Ты ее сейчас увидишь, – сказал он, – и скажешь, какое она произведет на тебя впечатление. Я только боюсь, что твое появление может ее испугать.
– Я хотел с тобой о ней вообще поговорить, – сказал Франсуа. – Мне кажется…
– Подожди, мы поговорим потом. Пойдем сейчас к ней. Ты только молчи, говорить буду я.
Он вошел в ее комнату. Франсуа шел за ним.
– Добрый вечер, Мари, – сказал Пьер голосом, сдавленным от внутренней дрожи. – Это Франсуа, у которого вы жили на юге, наш общий друг…
Она дернулась назад в кресле, но выражение ее глаз не изменилось. Франсуа посмотрел на нее с удивлением и не произнес ни слова. В этой неподвижности и в этом молчании прошло несколько тягостных для Пьера секунд. Потом он сказал:
– Ну вот, Мари, мы вас больше не будем беспокоить.
Они вышли из комнаты. Пьер взглянул на Франсуа, лицо которого выражало все то же удивление.
– Чудесно! – сказал он. – Ты знаешь, – неправдоподобно!
– Я вижу ее каждый день, ты понимаешь, мне трудно отдать себе отчет…
– Я тебе говорю – невероятно, – сказал Франсуа. – У нее вид нормальной женщины. Она одета как все, она сидит в кресле. И потом ее лицо… неузнаваемо, милый мой, неузнаваемо, ты понимаешь? Ну, старик, поздравляю!
Он был искренне взволнован.
– Прости меня за нескромность, – сказал Франсуа. – Я говорю это потому, что, войдя в ее комнату, я не ощутил…
– В этом смысле она теперь ведет себя так, как всякое взрослое существо, – поспешно сказал Пьер.
– Поразительно! Поразительно! – повторил Франсуа. – Я должен тебе признаться, что я очень плохо верил… я не хотел тебе тогда говорить… То есть, я хочу сказать, я считал, что это совершенно невозможно. То, что было раньше, и то, что теперь, это небо и земля, ты понимаешь?
Они сидели в столовой, пили кофе.
– Ты не обращался к психиатру? – спросил Франсуа.
– Я был у него позавчера, – сказал Пьер. И он увидел перед собой приемную, в которой вчера долго ждал, потом – лицо пожилого человека с усталыми глазами, которому он рассказал историю Мари и ответа которого ждал с необыкновенным волнением. Психиатр внимательно выслушал его. Потом пожал плечами и сказал:
– Мы знаем множество отдельных случаев, и мы знаем некоторые из тех законов и причин, которые теоретически могут объяснить ту или иную эволюцию сознания больного. Но то, что мы знаем, это только незначительная часть того, что мы хотели бы знать. То, что мы можем – с большей или меньшей степенью достоверности – утверждать или предвидеть, это только ничтожная часть того, что подлежит нашему изучению. Я думаю, что эта женщина неизлечима. Но сказать это совершенно категорически я не могу.
Пьер вспомнил эти слова – и перед ним вдруг возникли с необыкновенной отчетливостью летние дни и густой лес, где он впервые встретил это «бедное больное животное», как ее называл Франсуа, запах муравейника, деревьев и земли, солнце в ясном синем небе, шум реки внизу, под обрывом, босые загорелые ноги Мари, ее неподвижные, светлые глаза.
– В конце концов – что другое мог тебе сказать психиатр? – сказал Франсуа.
На следующее утро, когда Пьер вошел в комнату Мари, она еще спала. В полутьме, к которой постепенно привыкали его глаза, он различал белую подушку, на которой лежала ее голова в длинных волосах. На неподвижном ее лице было выражение далекого сонного спокойствия. Ему опять пришла в голову та же мысль, которая впервые мелькнула у него еще тогда, на юге: не лучше ли было бы оставить ее такой, какой она была, когда он ее впервые увидел – в этом, почти блаженном, быть может, состоянии, вместо того чтобы пытаться вернуть ее в тот жестокий и хаотический мир, который называется действительностью? Но в следующую же секунду он подумал, что теперь было уже слишком поздно. Он стоял, не двигаясь и продолжая смотреть на нее. В эту комнату, подходя к этой же кровати, в те дни, когда ему удавалось встать раньше матери, он приносил ей утром кофе. Он помнил ее еще наполовину сонный голос:
– Спасибо, Пьеро, мой маленький. Я опять проспала, а ты меня балуешь…
«Здесь покоится Мартина Форэ…» За последние месяцы он реже бывал на кладбище: деревья аллей, зеленый выцветший мундир сторожа, от которого пахло дымом трубки и красным вином, и эти невыразительные могильные плиты с надписями, – весь этот призрачный мир разложившихся мускулов, исчезнувших чувств, обманутого ожидания, желаний, которые не успели быть удовлетворены, сожалений, которые были прерваны навсегда, непроверенных подозрений, ненайденных улик, неосуществившейся любви, житейской усталости. Пьер вспомнил роскошную могилу тетки Жюстины, – огромная мраморная плита с двумя ступенями у изголовья, огороженная стройной решеткой, искусственные цветы необыкновенной пышности и золотые буквы – «благочестиво скончавшаяся… да покоится в мире ее набожная душа…». Только через несколько лет после ее смерти в Париж приехала из Дижона пожилая женщина, вся в черном, с острым и сухим лицом без улыбки, дальняя родственница Альберта Форэ и тетки Жюстины, знавшая всю ее жизнь и обстоятельно рассказывавшая о ней. Дальняя родственница не пощадила тетку. Пьер тогда недоумевал: откуда, собственно, этой женщине могли быть известны такие подробности теткиной биографии, которые могла знать только сама Жюстина? Но родственница, казалось, все знала. Эта сухая и худощавая женщина носила в себе неисчерпаемый запас многолетней ненависти и зависти к покойнице, неизменных при всех обстоятельствах, и язвительности, не останавливавшейся ни перед какими сравнениями.
– Да, Мартина, если бы составить корпорацию из всех бывших любовников Жюстины, это была бы крупная организация. – И за этим шли бесконечные рассказы, – как тетка Жюстина пустила по миру такого-то, как застрелился из-за нее скромный молодой человек, растративший казенные деньги. – Это было безумие, Мартина, да, просто безумие, все говорили ему: опомнитесь, несчастный, разве вы не видите, что эта женщина вас губит? – Но он не мог остановиться. Первые сто тысяч, вторые сто тысяч… И она его даже не любила, у нее в то время было еще два любовника. – Родственница рассказывала, как умер Бержэ, полный шестидесятилетний человек, тот самый, который подарил Жюстине прекрасно обставленный дом и брильянтовое ожерелье, которым она так гордилась, – умер в ее кровати в час ночи. Жюстина вызвала из комнаты верхнего этажа своего второго любовника, вместе с которым они одели покойника и посадили его в кресло, а сами поднялись наверх, и только «удовлетворив свою страсть», как выразилась дальняя родственница, Жюстина с не остывшим еще от объятий телом позвонила по телефону в полицию и потом рассказала полицейским, что месье Бержэ пришел к ней в гости, сел в кресло, – так, как вы его сейчас видите, – и умер мгновенно от разрыва сердца. Пьеру казалось совершенно неправдоподобным, чтобы какая бы то ни было женщина в мире могла думать при таких обстоятельствах, рядом с трупом, об «удовлетворении страсти». В рассказах родственницы, вероятно, – как он думал, – было много выдумки, но даже приняв это во внимание, нельзя было не прийти к тому выводу, что жизнь тетки Жюстины проходила все время по какой-то зыбкой границе между преступлением и развратом, и бесспорная ее скромность на склоне лет не могла уже ничего ни оправдать, ни изменить. Конечно, святые отцы могли бы все-таки избавить тетку Жюстину от этой непосильной тяжести могильной плиты с надписью о ее набожной душе.
– А впрочем, – думал Пьер, – всякий грех может быть прощен, и что можно возразить против того, чтобы душа тетки Жюстины покоилась в мире? В противоположность тому, что говорили и думали его родители, эта классическая фраза «нас обокрали» никогда не казалась ему убедительной, он никогда не жалел о неполученном наследстве, и для него существование тетки Жюстины было связано главным образом с детскими воспоминаниями о том, что, когда она приезжала, он ел вкусные вещи, которых в обычное время был лишен.
Мари наконец пошевелилась и открыла глаза. Он подошел к окну, отдернул занавески и открыл ставни. Потом он приблизился к ее кровати и сказал те слова, которые произносил каждый день, никогда не получая на них ответа:
– Вы хорошо спали, Мари? Хорошо?
Он знал, что после этого наступит тишина, что потом он подождет минуту или две и поднимет ее с кровати. Это был ежедневный звуковой провал, к которому он привык за много месяцев. И вдруг Мари сказала:
– Хорошо.
Она произнесла это все тем же своим металлическим голосом, лишенным какого бы то ни было человеческого выражения. Он схватил ее за плечи и посмотрел ей в лицо. Оно было неподвижно, и огромные глаза Мари смотрели на него тем же взглядом, как и всегда, светлым и пустым. Он сделал невольную гримасу, сжал левой рукой лоб, на котором от волнения выступил пот, и сказал шепотом:
– Это, может быть, я сумасшедший…
Потом он занялся ее туалетом, и это отвлекло его. Но когда он вышел на улицу, он снова стал думать о том, что произошло полчаса тому назад. Было начало апрельского облачного дня. Он шел по направлению к бульвару Сен-Мишель, мимо домов, которые он знал с детства, мимо той витрины меховщика, где в глубине магазина сидел на жердочке прикованный к ней тоненькой цепочкой свирепый зеленый попугай крупных размеров, никогда не издававший ни одного звука, – и отец Пьера, когда они однажды вдвоем проходили мимо этого магазина, сказал:
– Хотелось бы мне знать, а, Пьеро, о чем эта птица молчит столько лет?
Но хозяин магазина, румынский еврей, говоривший по-французски с таким смешным акцентом, лысый, толстый, маленький человек с особенным выражением жирной печали в черных, восточных глазах, уверял вопреки очевидности, что попугай все может сказать и все понимает, но стесняется посторонних. Было ясно, что Мари не понимала слово, которое она сегодня произнесла. Она уловила слухом одно несложное фонетическое сочетание – и больше ничего. Но все-таки это был какой-то сдвиг, к которому до сих пор она не была способна. Может быть, все было менее безнадежно, чем казалось? В сущности, он всегда, с первой минуты, верил в чудо, в возможность ее выздоровления, с того самого жаркого августовского дня, когда он шел вниз по глинистой дороге навстречу Франсуа. И если посмотреть со стороны, то, конечно, очевидно, что теперь Мари уже вышла – или начинает выходить – из того мертвенно-неподвижного состояния, о котором Франсуа сказал, что оно делает ее похожей на бедное больное животное. Как всегда, то, что Пьер думал о ней, он не мог бы изложить в логически построенных фразах. Это чаще всего были почти бесформенные мысли, которые сменялись другими, не успев приобрести даже приблизительной отчетливости. Но их смутное движение было беспрерывно, и именно оно определяло смысл его теперешней жизни – в гораздо большей степени, чем то, что его звали Пьер Форэ, что у него была квартира недалеко от площади Данфэр-Рошеро и что он был главным бухгалтером анонимного общества «Анри Дюран и компания».
На следующее утро, когда Пьер задал ей тот же вопрос, она опять произнесла своим нечеловеческим голосом то же самое слово – «хорошо». Прошло еще два дня – и когда вечером Пьер посмотрел в лицо Мари, он увидел, расширенными от изумления и почти ужаса глазами, – он увидел, что она улыбалась. Это произвело на него такое впечатление, что он перестал отдавать себе отчет в том, что делает. Только через несколько минут он заметил, что идет по улице, не зная куда и глядя прямо перед собой. Накрапывал мелкий дождик. Во влажном воздухе светили фонари. – Мы знаем историю множества отдельных случаев, и мы знаем некоторые из тех законов или причин, которые в принципе объясняют то или иное изменение в сознании того или иного больного. Но то, что мы знаем, это только незначительная часть… – Пьер вспоминал эти слова пожилого человека с усталыми глазами. Он думал одновременно о многом другом. Он снова увидел перед собой густой лес в летние дни, босые загорелые ноги Мари, ее неподвижные безумные глаза. Потом он заметил, что он все время дрожит и что у него трясутся руки.
– Нет, надо все понять сначала, – сказал он вслух. – Что произошло? Что будет теперь?
Он сел на мокрую уличную скамейку, но сразу же поднялся с нее и пошел дальше. Неподалеку светилась витрина кафе. Он вошел в это кафе, остановился у стойки и сказал:
– Дайте рюмку коньяку.
Пьер питал органическое отвращение к алкоголю и никогда не пил даже вина. Коньяк обжег ему горло, он поперхнулся, закашлялся. Но дрожь после этого прекратилась и руки перестали трястись. Выйдя из кафе, он долго еще шагал под дождем по улицам и вернулся домой довольно поздно. Когда он пришел, Мари спала, и он старался угадать в темноте, какое у нее теперь лицо. Потом, не зажигая света, он вышел из ее комнаты и притворил дверь. Была ночь с субботы на воскресенье. Пьер лег в постель и сразу заснул. Ночью он просыпался много раз. Наконец в восьмом часу утра он встал, принял ванну, приготовил кофе и вошел в комнату Мари. Она уже не спала. Он взглянул на нее – и отшатнулся: с подушки, в которой тонула голова Мари с ее длинными волосами, на него смотрели ее человеческие глаза.
– Мари, вы понимаете, что случилось? – закричал он. – Извините, что я повысил голос. Но вы понимаете, что произошло чудо? Если бы вы знали, как долго и мучительно я на это надеялся и сколько раз я терял надежду! Никто в это чудо не верил, никто, кроме меня. Я даже не могу сказать, что я в это верил, но это был для меня, вы понимаете, вопрос жизни и смерти, – морально, вы понимаете?
Она молча смотрела на него, и он был уверен, что она понимает каждое его слово. Он остановился и сказал:
– Да, сейчас мы будем пить кофе, я забыл об этом, простите. – Он принес кофе, налил его Мари, затем себе и сделал несколько глотков.
– У нас много времени, Мари, и я бы не хотел, чтобы вы себя напрасно утомляли, все придет постепенно. Мне кажется, что вы сейчас похожи на человека, который долго жил во тьме и вдруг увидел дневной свет. Знаете ли вы, что произошло и что этому предшествовало? Все это началось шесть лет тому назад. Была война. Мой товарищ Франсуа нашел вас на краю дороги, вы лежали без сознания. Он вас поднял и привез к себе, в тот дом в лесу, на юге Франции, где он живет летом и где он в то время жил круглый год. Вы пришли в себя, то есть, вы открыли глаза. Но вы ничего не могли сказать, и ваше сознание было как бы атрофировано. Вы жили потом, в течение пяти лет, чисто органической жизнью. Вы ели, спали, ходили, но вы не понимали, вероятно, даже того, что вы существуете, и вы повиновались только физиологическим потребностям. Когда я приехал на лето к Франсуа, – это было год тому назад, – я вас нашел именно в таком состоянии. Я привез вас в Париж, сюда, в эту квартиру, и все это время я старался вам помочь вернуться в тот мир сознательной человеческой жизни, из которого вы были насильственно вырваны, не знаю как и не знаю когда. И вот вчера я первый раз увидел на вашем лице улыбку, а сегодня утром человеческое выражение глаз. Я не могу вам описать того, что я испытал при этом. Вы знаете, кто вы такая и что с вами случилось?
Она ничего не ответила и закрыла глаза. На ее лице было выражение усталости, которого Пьер никогда до тех пор не видал.
Пьер не знал, как теперь надо было действовать. Он позвонил по телефону психиатру, сказав, что должен сообщить ему очень важные вещи и спросить его совета, – как быть дальше? Психиатр принял его в тот же день, и Пьер подробно рассказал ему, что произошло.
– Я должен вас поздравить самым искренним образом, – сказал психиатр. – Судя по тому, что вы говорите, мне кажется, что потрясение, которое ее лишило памяти и рассудка, было более глубоким и трагическим, чем можно было подумать сначала. Насколько я себе представляю с ваших слов, тот мир, в который она, по-видимому, входит теперь, это не возврат к прежнему, а нечто новое. Возможно, что ей придется все начинать сначала, то есть постепенно усваивать те понятия, которые составляют основу нашего сознательного существования. Это может занять много времени. Впрочем, опять-таки мы можем оперировать только гипотезами. Может быть, это пойдет иначе. Не подталкивайте ее вперед, не ставьте перед ней слишком трудных задач, действуйте так, как если бы вы имели дело с ребенком. Этот метод во всяком случае повредить ей никак не может, и я склонен полагать, что он будет самым целесообразным. Повторяю, я не думаю, что она вернется к тому, что предшествовало тому дню, когда ваш товарищ подобрал ее на дороге. Однако и это нельзя считать категорически исключенным. Вы увидите сами. Но самое трудное позади, и должен вам сказать, что я с вами согласен, это похоже на чудо.
Потом он поднял на Пьера глаза и прибавил:
– Впрочем, слово «чудо» мы, вероятно, понимаем по-разному. Для меня чудо – это не то, чего не может быть, а то, чего мы не можем постигнуть, так как не знаем ни его природы, ни тех законов, которые эту природу определяют. Но так или иначе, то, что произошло, это именно чудо, как бы это ни понимать.
«Действуйте так, как если бы вы имели дело с ребенком», – это было главное, что сказал психиатр; так казалось Пьеру потому, что эти слова были подтверждением того, что он думал сам.
Когда Пьер вернулся домой после визита к психиатру и опять увидел Мари, его поразило неузнаваемое ее лицо. Ему казалось, что он знает его как никто в мире – этот прямой нос, эту линию губ, этот лоб почти без морщин. Но до сих пор это лицо искажал неподвижный и пустой взгляд. Теперь оно все вдруг осветилось, и когда Пьер посмотрел в эти новые, человечески теплые глаза Мари, у него мгновенно сжалось горло и он понял, что эта неизвестная женщина и ее жизнь для него важнее, чем все в мире. Но на этом лице и в этих глазах было выражение усталости. У Пьера было впечатление, что где-то в глубине сознания или души Мари происходит мучительная работа и что усилия, которые она делает, ее утомляют. Так как она по-прежнему молчала, то он не спрашивал ее ни о чем, но говорил ей о многом, так же, как он говорил раньше, когда знал, что она его не понимает и не может понять. Ему казалось, что она слушает его с напряженным вниманием и не пропускает ни одного слова. Потом он спохватывался и останавливался.
– А теперь, Мари, отдохните и не думайте ни о чем. Перед вами целая жизнь, вы успеете все узнать. Не надо торопиться, не надо делать слишком больших усилий.
Он несколько раз звонил Франсуа, но Франсуа не было в Париже. Наконец, через три дня, Франсуа ему ответил.
– Где ты был? – спросил Пьер. – Я тебе звонил десять раз.
– Что-нибудь случилось?
– Я тебе не могу этого рассказать <по телефону, – сказал Пьер, – мне надо с тобой поговорить по-настоящему.
Когда они встретились в кафе, недалеко от дома, где жил Пьер, Франсуа сказал:
– Ну, старик, что? Мари?
– Я даже не знаю, как это сказать. Произошло то, на что никто не мог надеяться. Она начинает приходить в себя.
Франсуа смотрел на него остановившимися глазами.
– Подожди, – сказал он, – подожди. Расскажи мне подробно, не спеша и не волнуясь, все, что случилось.
Пьер рассказал ему о тех изменениях, которые произошли, о том, как он увидел на лице Мари улыбку, о том, как на следующее утро она посмотрела на него глазами, в которых впервые появилось человеческое выражение.
– Ты знаешь, – сказал он, – это так на меня подействовало, что я чуть не сошел с ума.
– Было от чего, – сказал Франсуа. – Но в остальном она тоже начала действовать, как нормальная женщина?
– Нет еще, но мне кажется… я хочу сказать, что меня не удивило бы, если бы это произошло завтра или послезавтра.
– Ты знаешь, Пьеро, ты меня прости, мне трудно себе это представить. То есть я, конечно, это понимаю, но я столько лет видел ее в животном состоянии, что для меня то, что ты рассказываешь, кажется невероятным. Значит, мы все ошибались, все, кто ее видели хотя бы раз. Не ошибся только ты.
– Я ни в чем не был уверен, – сказал Пьер, – наоборот, я скорее думал так же, как ты. Но мне было ее бесконечно жаль. В конце концов, в том, что я делал по отношению к ней, риска никакого не было, хуже стать ей не могло.
– Тут я с тобой не согласен, – сказал Франсуа, – все могло случиться; она могла, например, не понимая этого, устроить пожар и сгореть, могла упасть и разбиться. И эта смерть в какой-то степени была бы на твоей совести. Ну, слава Богу, эти опасности теперь, надо надеяться, в прошлом. Но что же будет дальше?
– Я об этом думаю все время, – сказал Пьер. – Ты знаешь, я никогда так не жалел о том, что я ничего не знаю о стольких вещах. То, что происходит или может произойти, я понимаю только ощупью, пытаюсь как-то это угадать. У меня нет представления об элементарных законах психологии, о том, как действует человеческое сознание, о том, чем диктуется или определяется то или иное поведение человека. Ты понимаешь, Франсуа, я не ученый, я бухгалтер.
– Не говори глупостей, – сказал Франсуа. – Уверяю тебя, что большинство ученых сделано из того же теста, что большинство бухгалтеров, у меня по этому поводу иллюзий нет. Эйнштейн один, – а сколько ученых, которые должны бы были быть бухгалтерами? Но не в этом дело. Ты говоришь, что ты все время думаешь о том, что будет дальше. Я тебя слушаю.
– Два предположения, – сказал Пьер, – так сказать, логически, ты понимаешь? Первое, это что произойдет то, что думает психиатр: она, как ребенок, начнет учиться понимать то, что ее окружает, словом, начнет жить так, точно этому ничто не предшествовало. Никакого прошлого у нее нет и быть не может. И за эту жизнь ответственен я, и я считаю, что уклониться от этой ответственности я не имею права.
– Второе предположение? – спросил Франсуа. – Второе предположение – это что она вспомнит постепенно все, что предшествовало тому дню, когда ты поднял ее с дороги, на которой она лежала без сознания. Это значит, что она вернется к своей собственной жизни. И то время, в течение которого она жила у меня, будет похоже на пребывание в клинике, ты понимаешь?
– И как ты думаешь действовать в этом случае?
– Как я могу действовать? – сказал Пьер. – Помочь ей в этом, какие тут могут быть сомнения? Все совершенно ясно.
– Да, да, конечно, – сказал Франсуа неуверенным голосом. – Но ты меня извини, Пьеро. Положа руку на сердце: ты бы действительно хотел, чтобы она все вспомнила?
Пьер опустил голову, потом поднял ее и посмотрел Франсуа прямо в глаза.
– Видишь ли что, Франсуа, я тебе отвечу откровенно. Если бы тебя спросили, что ты думаешь обо мне, то есть считаешь ли ты меня человеком, в общем, порядочным и не эгоистом, – что бы ты сказал?
– Я бы попросил, чтобы мне задали менее глупый вопрос, – быстро ответил Франсуа.
– Я тебе задаю такой вопрос, – сказал Пьер, – потому что я представляю себе, что ты обо мне думаешь, и должен тебе сказать, что ты ошибаешься. В одном, во всяком случае, ты ошибаешься.
– Как? И в чем?
– Я хотел бы быть твердо уверен в том, что могу считать себя человеком порядочным, – сказал Пьер. – В этом ты, может быть, не ошибаешься. Но то, в чем я убедился за последнее время, это что я, к сожалению, эгоист. Представь себе, что я бы предпочел, чтобы Мари не вспомнила своей прежней жизни.
– Я это знаю, Пьеро, – сказал Франсуа.
– Я часто ловил себя на мысли, – сказал Пьер, – что я теоретически готов пожертвовать ее возвратом к прежней жизни ради своего собственного морального и душевного удовлетворения, ты понимаешь? И к этому нужно еще прибавить какую-то глупейшую манию величия: дескать, я, Пьер Форэ, я создал эту женщину, я дал ей жизнь.
– Но это так и есть, – сказал Франсуа.
– Нет, – сказал Пьер, – нет, это не так. Если бы это было так, то каждый фельдшер имел бы право на манию величия. Ухаживать за больным может всякий. Но дело не в этом. Да, я готов ради своего морального удовлетворения пожертвовать всем, что у нее есть или было в жизни. Но если бы я так поступил, это было бы с моей стороны последней душевной низостью, то есть моим собственным моральным самоубийством, не говоря уж о том, чем это было бы по отношению к ней. Я этого не сделаю ни при каких обстоятельствах. Я останусь один – со своим эгоизмом и со своей манией величия, но с сознанием того, что я не исковеркал ее жизнь и что я не совершил насилия над ее свободой. И если нужно, чтобы один из нас пожертвовал чем-то для другого, то это должен сделать я, а не эта бедная женщина, которую мы с тобой вернули к жизни. Да, да, не смотри на меня так удивленно. Я говорю – мы с тобой. Ты ее поднял с дороги, ты кормил ее несколько лет, она жила, в общем, у тебя, ты согласился на то, чтобы я взял ее в Париж, без тебя все это было бы невозможно и ее, вероятно, давно бы не было в живых.
– «Мы с тобой», – это вздор, Пьеро, – сказал Франсуа. – Но, конечно, судьба этой женщины для меня далеко не безразлична. Как фамилия твоего психиатра?
– Ты хочешь с ним поговорить?
– Ты понимаешь, Пьер, нужно все-таки знать теперь, как надо действовать. Теперь твоя ответственность может быть больше, чем была до сих пор.
– Я это знаю, – сказал Пьер. – Я буду действовать так, как сказал психиатр и как я действовал бы даже без его указаний, – интуицией, ощупью.
– Но, может быть, какая-нибудь ошибка с твоей стороны повлечет за собой риск, ты можешь, не желая того, заставить ее сойти с той дороги, по которой она сейчас идет.
– Какая дорога? – сказал Пьер. – Что мы знаем об этой дороге? Ты можешь это назвать пробуждением или возвращением к жизни. Но ты не знаешь, что такое жизнь в ее сознании, что это для нее значит. И этого никто не знает, ты понимаешь?
– Мне почему-то кажется, – сказал Франсуа, – что теперь события должны пойти быстрее.
– Будем надеяться, – сказал Пьер. – Я тебе позвоню на днях.
Через несколько дней после этого разговора с Франсуа, когда Пьер вернулся со службы домой, Мари не было в столовой, где она обыкновенно ждала его, сидя в кресле. Но он чувствовал ее присутствие и знал, что она в квартире. Он прошел в ее комнату и увидел, что она лежала, одетая, на кровати. Она услышала его шаги, повернула голову в его сторону и посмотрела на него мутными глазами.
– Что с вами? – спросил он.
Она, как всегда, не ответила. Он подошел к ней и положил руку ей на лоб. Лоб был горячий. Пьер поставил ей термометр, и, когда через пять минут посмотрел на ртутную колонку, он испугался: у Мари температура была сорок и два. Она тяжело стонала, сжимая голову руками. Потом ее начало тошнить. Пьер позвонил доктору, который приехал через час и сказал, что у больной менингит. Пьер тотчас же позвонил на службу и сказал, что берет отпуск на несколько недель.
То, что было потом, было самым тягостным испытанием в жизни Пьера. В течение трех долгих недель он не отходил от постели Мари и спал одетый несколько часов в сутки, сидя в кресле, которое поставил рядом с ее кроватью. Иногда у Мари начинался бред, и она кричала задыхающимся голосом непонятные и бессвязные слова. Однажды ночью Пьер проснулся от того, что услышал (как ему показалось) глухой звук тяжелого удара и увидел, что Мари упала с кровати головой вниз. Он поднял ее и положил на постель. Она была без сознания. Он каждую минуту боялся, что она умрет. Иногда она приходила в себя, вздыхала, и несколько раз Пьер видел, что ее лицо было мокро от слез. Он вытирал его платком и говорил:
– Не надо плакать, Мари, это пройдет.
Время от времени он выходил из ее комнаты, варил себе очень крепкий кофе и возвращался к Мари, которая была все в том же состоянии, как ему казалось. Но доктор, которому Пьер плохо верил, сказал, что больной, по его мнению, лучше и что она, по-видимому, теперь вне опасности. Франсуа приезжал почти каждый день.
Однажды под утро – шла четвертая неделя болезни Мари – Пьер не заметил, как заснул, сидя в кресле. Он проспал так часа два. Когда он проснулся, сквозь ставни окна уже проходил дневной свет. Он встал с кресла, подошел к Мари и встретил взгляд ее ясных глаз.
– Вы пришли в себя, Мари, слава Богу, – сказал он. – Я заснул не вовремя. Как вы себя чувствуете?
Это утро Пьер запомнил на всю свою жизнь. Он никогда не мог его забыть – потому, что в ответ на его вопрос Мари сказала:
– Гораздо лучше.
Пьер настолько устал за эти три недели, в течение которых он почти не спал, что он не сразу понял все значение этого ответа. Он только с удивлением прислушивался к звуку голоса Мари. Это был совершенно новый ее голос, который он слышал в первый раз: в нем больше не было того искусственного металлического оттенка, характерного для нее раньше. Этот новый голос наполнял смыслом слова, которые он произносил, и в нем не оставалось больше той тревожной железной легкости, которая была прежде.
– Наконец я слышу ваш настоящий голос, Мари, – сказал Пьер со спокойствием, которое удивляло его самого и которое, как он подумал позже, объяснялось только его усталостью. – Вы знаете, что вы были тяжело больны три недели, и я все время боялся за вашу жизнь, которая висела на волоске.
– Мне было очень плохо, – сказала она. – Теперь мне кажется, что я только сейчас пришла в себя.
«Она говорит, – думал Пьер, – этого не может быть. Вероятно, я брежу. Этого не может быть». Но этот новый голос продолжал звучать рядом с ним.
– Я все видела так смутно, все – как в тумане. Единственное, что я чувствовала, это что я не одна, что рядом со мной кто-то есть.
Потом этот голос умолк. Пьер посмотрел на Мари и увидел, что она заснула. Тогда он прошел к себе, лег, не раздеваясь, на кровать, и через несколько секунд он уже спал глубоким сном, впервые за последние три недели.
После этого началось медленное выздоровление Мари. Она была так слаба, что ей трудно было говорить, и большую часть времени она спала. Наконец наступил день, когда она в первый раз могла сделать несколько шагов по комнате. Но это настолько утомило ее, что она опять легла на кровать и заснула. Утром Пьер не решался ее будить. Но когда он опять вошел в ее комнату, – был уже час дня, – он увидел, что она проснулась.
– Вот и я, – сказал он. – Вы не хотите есть, Мари? – Она утвердительно кивнула головой, и он ушел на кухню. Потом он вернулся и накрыл в ее комнате стол, который придвинул к ее кровати. Когда он налил в тарелку Мари горячий бульон, – тот самый, которым он должен был ее кормить по предписанию доктора, – она проглотила несколько ложек и сказала:
– Ах, как вкусно. Это вы приготовили?
Каждый раз теперь, когда она начинала говорить, Пьер вздрагивал от неожиданности. Он смотрел на нее так пристально, что она улыбнулась и спросила:
– О чем вы думаете?
– Я думаю о том, что с вами случилось во время вашей болезни, – сказал он. – О том, что произошло.
– Я не знаю, – сказала она. – Мне показалось, что мне вдруг стало легко дышать. Но я не помню, что было до болезни.
– Вы не помните наших разговоров? Не помните, что я вам говорил?
– Почти ничего, – сказала она. – То, что я помню, это звук вашего голоса и ощущение вашего присутствия.
– Мне кажется сейчас, что я вас никогда не знал, – сказал Пьер. – Мы с вами встречаемся сегодня первый раз в жизни. Да, я вас никогда не знал. Но я знал то, из чего вы возникли, – и это была очень страшная вещь, Мари.
– То, из чего я возникла? Что вы хотите сказать?
– Я вам это рассказывал, вы не помните этого?
– Нет, – сказала она. – Но почему вы меня называете Мари?
– Потому что никто не знает вашего имени. Вы знаете, как вас зовут? Вы знаете, кто вы, где вы родились, сколько вам лет?
– Нет, сейчас я не могу этого сказать. Единственное, что я помню, это ощущения – боль, усталость, пустота и потом – ваше присутствие рядом со мной. Больше ничего.
– Я вам много раз говорил о том, что с вами было, – сказал Пьер. – Но так как вы этого не помните, то я вам расскажу это еще раз. Все это началось несколько лет тому назад…
Она внимательно слушала его. Пьер смотрел в ее глаза, и его голос несколько раз прерывался.
– Мне самому теперь все это кажется неправдоподобным, – сказал он, – теперь, когда я смотрю на вас и вижу, что вы понимаете каждое слово. Если бы вы знали, сколько раз я приходил в отчаяние, когда мне казалось, что все мои усилия не приведут ни к чему.
– Но как у вас хватило сил на все это? И почему вы это делали?
– Почему? – спросил Пьер с удивлением. – Потому, что если бы вы видели себя такой, какой вы были, и такой, какая вы сейчас, то вы бы поняли, что этот результат стоит каких угодно усилий. Вас не было, Мари, вы понимаете, вы не существовали. Я не умею говорить, не нахожу слов, я не могу описать того, что было. Но если вы живы и если вы существуете, то это потому, что несколько лет тому назад мой товарищ нашел вас лежащей на дороге и взял к себе. Я вам о нем говорил, его зовут Франсуа. Вы его тоже не помните?
– Нет, – сказала она. – Единственный человек, которого я помню, это вы. Вернее, даже не вы, а просто чувство вашего присутствия. Мне кажется, что это чувство, это ощущение я знала всегда. Как вас зовут и кто вы такой?
– Меня зовут Пьер Форэ, – сказал он, – и я счастливейший человек в мире.
Неожиданная мысль пришла ему в голову. Он сказал:
– Мари, подождите меня немного. Мне надо по делам, я скоро вернусь.
Он вышел из дома. Был теплый майский день. Он вошел в первую телефонную кабинку и набрал свой собственный номер. Глядя прямо перед собой в стену кабинки, он ждал, – что произойдет? После первого звонка раздался второй, третий. Затем далекий и спокойный голос Мари сказал с вопросительной интонацией:
– Алло?
Пьер растерялся. Вместо того чтобы произнести несколько слов, он повесил трубку. Выйдя из кабинки, он остановился и прислонился к стене. Мимо него прошел пожилой рабочий, который вел под руку толстую немолодую женщину с красным лицом. Взглянув на Пьера, она отвернулась и громко сказала:
– Видишь, что бывает с людьми, когда они пьют, стыдно смотреть.
Пьер слышал ее слова и понимал, что это о нем. Но красное лицо женщины вдруг расплылось и исчезло, и Пьер на секунду перестал понимать, что происходит. Потом он подумал о значении того, что случилось: он позвонил домой по телефону и Мари ответила на его звонок. С силой, какой он себе не представлял, он испытал сложное чувство восторга и отчаяния одновременно. И первый раз за все время он боялся вернуться домой.
Он думал о том, о чем он говорил с Франсуа. Все представлялось ему смутным и нестройным, все захватило его врасплох, и он не мог сделать из этого тех выводов, которые нужно было сделать. Он вдруг вспомнил, как в лицее, когда он написал одно из наиболее трудных сочинений, учитель сказал ему:
– У вас, Форэ, в том, что вы пишете, и в том, как вы пишете, преобладает элемент впечатления, а не последовательного рассуждения. Сочинение должно быть написано так, чтобы было ясно, что именно вы хотите сказать, и чтобы был также ясен ход тех рассуждений, которые привели вас к вашему окончательному заключению. У вас нет этой последовательности, вам нужно обратить на это внимание. Во всем необходима строгая дисциплина, и дисциплина мышления – прежде всего.
«Дисциплина мышления», «логические выводы»… Эти слова звучали теперь с особенной неубедительностью. Все это, может быть, имело значение до самых последних дней, но теперь то, что было раньше, рухнуло и возникло нечто новое, что могло оказаться или счастьем, или катастрофой. Пьер думал о том, что он давно и с необыкновенным упорством стремился к той цели, которую теперь можно было считать достигнутой; вся его жизнь была построена на этом расчете. Но сейчас, когда настало то, чего он тщетно так долго добивался, он не знал, что дальше делать. Он думал о том – и эта мысль казалась ему абсурдной и возмутительной: может быть, было бы лучше, если бы Мари не приходила в себя? Пока она не понимала происходящего, все было ясно и просто. Теперь не оставалось ни этой ясности, ни простоты. Пьер знал, как он должен действовать по отношению к Мари. Но это было одно. А другое – было чувство непоправимой потери, которое он испытывал: то, ради чего он жил, перестало существовать. Теперь возник новый вопрос: что могло связывать его с этой неизвестной женщиной? До последнего времени он был ей необходим, как больному – врач или сиделка, как ребенку – родители. Теперь Пьер ей был нужен только до того времени, когда наступит день ее возвращения к прежней жизни.
«Она не может понять того, что произошло, – думал Пьер. – Разве она может знать, сколько усилий потребовалось для того, чтобы она спокойно дожила до своей болезни, до этой высокой температуры, до этого последнего сдвига, который вернул ее к сознательной жизни? Весь этот долгий период времени, – то, как она жила у Франсуа, как я ее привез в Париж, и то, что было в Париже, – это знаем только мы, Франсуа и я. Она ничего не знает, не знает, чего стоило вернуть ее к жизни. И она не должна этого знать. Для нее это не существует. Но что будет теперь?»
Наконец он решился вернуться домой. Мари сидела в своем кресле и как бы ждала его.
– Вам звонили по телефону, – сказала она, – но когда я ответила, тот, кто звонил, повесил трубку.
Пьер пристально на нее посмотрел, вздохнул и вышел из комнаты.
– Конечно, все это вещи сложные, – сказал Франсуа.
Это было на следующий день, когда Пьер вызвал Франсуа и они встретились, как всегда, в кафе. Четверо пожилых людей за соседним столиком играли в карты. За другим сидел старик с мутными глазами и седыми усами, с неподвижным, точно деревянным лицом; время от времени он подносил <ко рту> стакан красного вина, и Пьер заметил, как у старика дрожали руки. Еще дальше сидела немолодая, очень накрашенная женщина, с ней разговаривал смуглый человек южного типа, обе руки которого были татуированы.
– Я плохо спал, – сказал Пьер. – Ты знаешь, я теперь особенно жалею, что никогда так и не научился логически мыслить. Но все-таки одно мне ясно.
– Что именно?
– Она не должна знать подробностей того, что происходило в течение всех этих лет. Ей надо об этом сказать в нескольких словах: она потеряла сознание и память, ты ее поднял с дороги, она жила у тебя. Потом я привез ее в Париж, и здесь через некоторое время она пришла в себя. Больше ничего. Я ей приблизительно так и рассказал и жалею еще, что сказал слишком много.
– Ты думаешь, что о твоей роли во всем этом не нужно говорить? Ты не хочешь, чтобы она считала себя обязанной тебе тем-то и тем-то? Что это в какой-то степени связывало бы? Ты это хочешь сказать?
– Ты понимаешь, если она будет думать, что без нас она бы погибла, это может в известной мере стеснить ее свободу, и с нашей стороны это было бы нечто похожее на моральный шантаж.
– О каком шантаже может быть речь, что ты рассказываешь? – сказал Франсуа. – Но дело не в этом. Я сейчас думаю не о ней, а о тебе. Потому что тебе надо опять перестраивать свою жизнь.
– Ты знаешь, – сказал Пьер, – у меня такой хаос в голове, что я плохо представляю себе значение всего, что произошло. Я никогда, мне кажется, не испытывал такой душевной тревоги. Вместе с тем это нелепо, я должен был бы чувствовать себя счастливейшим человеком в мире. Это так и было вначале, когда я убедился, что она пришла в себя. А сейчас…
Франсуа смотрел на него с сожалением. Он глядел на Пьера, точно видел его первый раз: незначительное лицо с печальными глазами, очень белые и чистые руки с короткими ногтями, необычайная аккуратность во всем облике – у Пьера всегда был такой вид, как будто он только что принял ванну, только что побрился, только что был у парикмахера и надел только что разглаженный костюм. Но кроме этих обязанностей, подумал Франсуа, у Пьера был вид человека, у которого не может быть в жизни решительно ничего, что резко отличало бы ее от других, самых обыкновенных существований, вплоть до профессии. Именно людей такого облика социологи и журналисты называют средними французами. «Если вы поставите этот вопрос среднему французу…» – «Если вы спросите среднего француза, что он об этом думает…» – «Огромное большинство так называемых средних французов…» – где он читал эти слова? Он сделал усилие и вспомнил: это была статья в журнале, автор которой, известный социолог, доказывал, что в условиях современной цивилизации неизбежно вырабатывается средний тип людей, у которых нет резко выраженной индивидуальности, которым поэтому закрыт путь к известности и которые всегда остаются на своих скромных местах – рабочие, служащие, мелкие коммерсанты. Разница в их происхождении, наследственности, их личных особенностях мало-помалу стирается жизнью, которую они ведут и в которой фактически нет возможности выделиться. Сам по себе этот стимул выдвижения в их существовании постоянно отмирает, и в результате в современном обществе формируется именно тот тип среднего человека, на который так часто ссылаются и которому одинаково чужды и непонятны и подвиг, и преступление, и душевное благородство, и крайняя душевная низость. Современный мир, писал автор статьи, характеризуется все возрастающим числом именно таких людей, общественных животных, если пользоваться терминологией Аристотеля. И если это будет продолжаться, то культуре, и в частности искусству, грозит опасность иссякнуть. Уже в наши дни трудно представить себе появление Софокла, Леонардо да Винчи, Шекспира, – не потому, что больше не может быть таких гениев, а оттого, что для современной цивилизации характерна тенденция нивелирования человека. История человечества – это история преступлений и подвигов, это Библия, это Аттила, это Иоанн Грозный, Наполеон, зловещие призраки, время которых кончилось… Мы вступаем в эпоху торжества среднего человека, когда десятки миллионов людей будут жить совершенно одинаковой жизнью, в одних и тех же условиях и даже внешне станут похожи друг на друга, как это наблюдается уже теперь в некоторых промышленных центрах земного шара. Посмотрите на этого среднего человека, и вы убедитесь, что в его жизни не будет ничего неожиданного, ничего чрезвычайного, ничего выдающегося – он не способен ни на преступление, ни на героизм, ни на крайнюю подлость, которая могла бы его отличать от других, ни на великодушие, которое могло бы сделать его не похожим на современников.
Все это Франсуа вспомнил в несколько секунд и, вернувшись к началу своих размышлений, подумал, что по своему внешнему облику и по своей профессии Пьер был именно одним из тех средних людей, о которых была написана эта статья.
– О чем ты думаешь? – спросил Пьер.
– О том, как все нелепо, – сказал Франсуа. – Вот мы ставим себе какую-то цель и делаем все, чтобы ее достигнуть. И нам кажется, что, когда эта цель будет достигнута, тогда все станет замечательно. Иногда, конечно, это так и бывает, но далеко не всегда. То, что мы делали для достижения этой цели, было смыслом нашего существования. Но вот цель достигнута. Что дальше? Это именно то, что произошло с тобой. Но с тобой случилось еще одно – ты, в сущности, сделал все, чтобы помочь женщине, которую ты не знаешь и которую никогда не знал. Ты знал это несчастное существо, это бедное животное, которое называл Мари. Ты сделал для этой Мари все, что мог, – и ты добился того, что она, эта женщина, в которой за последнее время был смысл твоей жизни, перестала существовать.
– Да это так и есть, – сказал Пьер, – я это понимаю. Но я не мог поступить иначе, и я искренне рад тому, что случилось. Я только не знаю, как действовать теперь.
– Ну, – сказал Франсуа, – ты же сам сказал, что тут у тебя так же нет свободы выбора, как не было до сих пор. Ты говоришь, что она стала совершенно нормальной?
– Я в этом убедился, когда позвонил ей по телефону.
– Я не знаю, – сказал Франсуа, – значит ли это, что она вспомнит то, что было раньше в ее жизни. Но это, конечно, может случиться. И может быть, опять-таки в этом случае ты останешься ее хорошим знакомым.
– Нет, тогда я ей буду не нужен. Ты знаешь, я сейчас чувствую необъяснимую душевную усталость. Ты думаешь, может быть, это и есть результат достижения цели? Тогда, по-твоему, выходит, что достижение цели несет в себе всегда, с самого начала, нечто разрушительное, так сказать, свою собственную смерть. Что же тогда делать дальше?
– Если у тебя еще есть силы, то поставить себе другую цель, – сказал Франсуа, поднимаясь. – Или делать, как советуют англичане: wait and see[2].
Когда в этот вечер Пьер вернулся домой, приготовил ужин и он и Мари сели за стол, он смотрел на нее с упорным вниманием и не переставал удивляться. Он успел привыкнуть к мысли, что по-настоящему он никогда не знал ее лица, потому что до сих пор оно было искажено пустыми, светлыми глазами. Но то, что удивляло его теперь, это было выражение неподвижного спокойствия в лице Мари, которое, как он думал, не могло отражать того, что должно было происходить в ее душе. Правда, она не могла еще понять всего значения того, что с ней произошло, и, может быть, некий инстинкт самосохранения предохранял ее от этого; если бы она поняла сразу все, ее еще хрупкое сознание могло бы и не выдержать такого потрясения. Но так или иначе на ее лице было выражение безмятежного покоя, – как будто все было решено раз и навсегда, как будто это решение было именно таким, как нужно, и никаких оснований для волнений не было.
Он говорил с ней за ужином о самых обыденных вещах. Она ему коротко отвечала. Потом сказала, что ей опять хочется спать, и ушла в свою комнату. Пьер остался один. Он начал читать вечернюю газету, которую принес с собой, и никогда содержание известий и статей, которые были в ней напечатаны, не казалось ему столь незначительным и неинтересным.
Он сел в кресло и закрыл глаза. До него смутно доносился стихающий в этот час шум улицы. Как многие люди, привыкшие к одиночеству, он думал вслух. Но он давно уже – с тех пор, как в его квартире жила Мари, – привык говорить шепотом, чтобы ее не разбудить, если она спала, или не побеспокоить, если она не спала. Он думал об ответственности, которую взял на себя в тот день, когда решил увезти Мари в Париж. Он сидел в кресле и шептал почти беззвучно:
– Если бы психиатр оказался прав и она действительно не вспомнила прошлого, а начала бы жить новой жизнью, и если бы она спросила меня, как надо понимать то или иное, – что мог бы я ей ответить?
Он всегда завидовал тем, кто твердо знал, – или считал, что знает, – как надо жить и что надо думать. Таких людей было много. Большинство, с кем он сталкивался в своей жизни, или вообще не ставили себе никаких вопросов, не стараясь понять подлинного смысла того, что видели или чувствовали, или были чужды всяких сомнений и у них были готовые ответы на все. Таким был его отец, который с одинаковой категоричностью судил обо всем, начиная от скачек и кончая литературой; он всегда знал, в чем ошибается тот или иной министр, когда произносит речь о политическом положении, чего не понял автор той или иной книги, как играет свою роль тот или иной артист и так далее. Такими были и некоторые сослуживцы Пьера, такими были и некоторые его товарищи по лицею, и все они относились к нему с постоянной снисходительностью – надо же знать, милый мой… Но что можно было знать, в чем можно было быть уверенным в этой непонятной, бесконечной сложности мира, который окружал Пьера? Самыми умными считались те, – как это неоднократно замечал Пьер, – которые ко всему относились критически, которые ни во что не верили и объясняли все происходящее личной заинтересованностью и соображениями корыстного порядка. Но это было бы правильно, думал Пьер, только тогда, если бы человеческая жизнь и деятельность неизменно руководились чисто отрицательными побуждениями и если бы не существовало огромного количества людей, которые жили и действовали так или иначе не потому, что могли извлечь из этого личную выгоду, а оттого, что были убеждены в необходимости действовать именно так, чем бы это ни грозило, вплоть до тюрьмы или смерти.
– Но все эти соображения слишком общего порядка, – шептал Пьер. – Поставим вопрос иначе. Если Мари будет спрашивать меня о самых важных вещах в жизни, что я должен сказать? Надо выработать какие-то ответы на вопросы, которые она может мне задавать. Надо об этом подумать, надо поговорить с Франсуа.
Уже давно наступила ночь, а Пьер все сидел в кресле, не зажигая света. В квартире была полутьма, так как ставни не были затворены и с улицы доходил свет фонарей. Пьер видел стол, стулья, кресло, буфет, часы, вделанные в мраморный треугольник, те самые часы, которые он знал с детства, как, впрочем, и все остальное, не изменившееся за много лет. Когда он смотрел на обстановку своей квартиры, ему иногда начинало казаться, что жизнь давно остановилась, что когда-то происходило бурное движение, которое прекратилось, застыв раз навсегда в этих стенах и в этой мебели, вневременной и безличной, которая ничем не отличалась от миллионов таких же стульев, таких же буфетов, таких же кресел, стоявших в разных местах с такой же мертвой невыразительностью. Пьер вдруг вспомнил о необыкновенном потрясении, которое он испытал, когда ему было четырнадцать лет и когда его отец решил, что в воскресенье они всей семьей отправятся в Лувр, в котором Пьер до тех пор никогда не был. Пьер помнил ощущение неловкости, которую он чувствовал, когда надевал свой воскресный костюм, – тугой, непривычный и чем-то тягостный, – праздничный облик его родителей, которые казались ему чужими, потому что на них было платье, в котором он не привык их видеть, длинные коридоры музея, залы, следовавшие за залами, и это огромное количество картин, проходивших перед его глазами первый раз в жизни. Отец ему объяснял – фламандская школа, Возрождение, семнадцатый век французской живописи. Он говорил уверенно, как всегда, но потом Пьер убедился, что его отец знал обо всем этом очень немного и путал имена художников. Когда они вышли из Лувра, перед глазами Пьера продолжало стоять сложнейшее смешение красок и лиц, бесчисленные переливы черного и красного цветов, кардинальские мантии, надменные лица королей, восторженные глаза святых, голые тела женщин, то узкие, то широкие, розовые, белые, смуглые, деревья, море, поля, собаки, мечи, латы, калеки и нищие, безмолвные толпы людей, усы, каски, львы, лошади, путь на Голгофу, солнечный свет и сумерки, стрелы, вонзающиеся в святого Себастьяна, воины, сражения, смерть побежденных, торжество победителей. Пьер никогда не представлял себе этого необыкновенного богатства, этого кладбищенского великолепия музея, где был представлен исчезнувший мир, который нельзя было сравнить ни с чем, что Пьер знал и видел обычно: серые улицы Парижа, люди в пиджаках, женщины в обыкновенных платьях, безличный отблеск желтого электрического света, – мир, в котором погасли краски, потухли глаза, в котором не осталось ни пророков, ни святых, ни этого бурного расцвета жизни во всем ее чудовищном многообразии. Пьер плохо знал историю, еще меньше знал живопись, но это посещение Лувра погрузило его в такую глубокую печаль, какой он никогда до этого не испытывал и причины которой не были ему ясны; в конце концов, это было зрительное впечатление и, казалось бы, ничего больше. Но он увидел то, о чем раньше не имел представления, и после этого ему стало казаться, что он живет в постоянной убогой полутьме скудно освещенного подвала. Он понял это не тогда, когда вернулся домой из Лувра, не тогда, когда ему было четырнадцать лет, а значительно позже, но это чувство подавленности и жестокого лишения того, на что он имел право, – это смутное и непонятное ощущение он тогда уже чувствовал с необыкновенной силой. Он нередко возвращался потом к этому незабываемому впечатлению от Лувра. Оно постепенно расширялось и переходило в то сложное ощущение, которое сопровождало его всюду и в подлинном происхождении которого он не отдавал себе отчета. Это было почти необъяснимо. Как, казалось бы, зрительное воспоминание об отблеске солнца на каске неизвестного героя, или о неподвижных глазах портрета, написанного в начале шестнадцатого века, или о круглых линиях лошадиного крупа, – каким образом эти впечатления могли привести его к этому ощущению неудовлетворенности своей собственной жизнью, к нелепой мысли о том, что он, Пьер, в силу жестокой несправедливости судьбы был раз навсегда лишен доступа к настоящей, полноценной жизни, а не такой, как та, которая выпала на его долю, – доступа к этому воображаемому великолепию, к этой полноте, к этой силе чувств, к трагедии и торжеству, к тому, ради чего, в сущности, только и стоило жить; доступа, которого ему никто никогда не обещал и никто никогда не мог обещать, потому что в мире не существовало никого, у кого была бы власть и возможность дать и выполнить это обещание. Могло случиться так, что какая-то мировая катастрофа вырвала бы Пьера из той жизни, которую он вел дома и на службе, все изменилось бы, и тогда, быть может, он узнал бы тот новый мир, которого ему так не хватало до сих пор. Но когда эта мировая катастрофа действительно произошла и Пьер попал в действующую армию, то в этой полной перемене его жизни не оказалось ничего такого, ради чего стоило бы чем-либо жертвовать. Когда он вспоминал о войне, он неизменно видел перед собой дороги Франции, солому, на которой спал, и это бесконечное и бессмысленное движение, в котором он участвовал так же, как миллионы других людей, одетых в военную форму. Потом были тяжелые обстрелы, рвущиеся снаряды и бомбы, развалины зданий, хаотическая нелепость, которая угрожала смертью всем, кто попадал в эту полосу огня, и опасности безличной, как судьба, и в которой не было ни противника, ни возможности победы или даже сражения: первого германского солдата Пьер увидел только в Париже, после того, как он был демобилизован и вернулся в свою квартиру. До этого были бесконечные переходы, ночлеги в деревнях или в полях, сообщения о прорывах, о наступлении танковых соединений, но его часть, попавшая в середину этого сложного движения сотен тысяч вооруженных людей, не участвовала ни в одном бою и не заняла ни одного города. Это были переходы – из одного места в другое, в таком-то часу, в таком-то направлении; иногда везли на поезде, составленном из разных вагонов, преимущественно товарных, но чаще приходилось идти пешком, то под солнцем, то под дождем, и так это продолжалось до того дня, когда стало известно, что их воинская часть окружена и остается только ждать плена, который положит конец этому длительному и бесцельному передвижению, давно потерявшему всякий военный смысл.
Была уже поздняя ночь. Пьер прошел в свою комнату, разделся и лег в постель. Он чувствовал такую глубокую усталость, которой, как ему казалось, он раньше никогда не испытывал. Он сделал усилие, чтобы подумать еще раз о том, о чем он думал весь вечер, но мгновенно заснул.
В первый раз за долгое время в эту ночь Мари, или, вернее, женщина, которую Пьер называл Мари, не могла заснуть – и лежала с открытыми глазами. Она испытывала новое ощущение – чувствительности к тому состоянию, в котором находилась, и ко всему, что было с этим связано. Она чувствовала мягкость постели, движения своего собственного тела, чувствовала, как подымалась и опускалась грудь от ее дыхания. Это было ощущение животного счастья – тепло, спокойствие, шум дождя за окном. И еще одно – то, что недалеко от нее был Пьер, его присутствие, как ей казалось, она чувствовала всегда.
Целый мир – далекий и чужой – возникал перед ней, тот мир, о котором она никогда до сих пор не говорила с Пьером и о котором он спрашивал ее столько раз. – Мари, вы знаете, кто вы? – С недавнего времени она это знала. В течение нескольких дней после того, как она начала выздоравливать, она думала о том, что было раньше в ее жизни, и каждый день ее воспоминания уходили все глубже и глубже в прошлое, сначала бесформенное и отрывочное, потом точно всплывавшее перед ней с неожиданной отчетливостью. Теперь, как ей казалось, она вспомнила почти все. Но то, что предшествовало ее погружению в многолетнее небытие, история ее собственной жизни, которая обрывалась на том дне, когда в дыму и грохоте бомбардировки она, оставив автомобиль – его мотор отказался работать, – пересекла небольшой лес, вышла на проселочную дорогу, увидела перед собой ослепительный блеск взрыва и потеряла сознание, – все это как будто происходило не с ней, а с кем-то другим. В том, что она вспомнила, не было ничего, что возбуждало бы в ней сожаление или вообще какое-либо чувство. У нее было впечатление, что она смотрит издалека, чужими и холодными глазами на то, что все, кто ее знали, назвали бы ее жизнью… Все это было похоже на то, как если бы она решила написать книгу о людях, которых она никогда не знала, которые никогда не существовали, но которых она видела перед собой. Это было похоже на воображаемый мир, чужой, далекий и неубедительный. – Мари, вы знаете, кто вы такая? – Да, конечно. Она знала, что ее звали Анна Дюмон, что ей было двадцать девять лет, что в начале войны она жила в Париже, на улице Монтевидео, была замужем, что ее мужа звали Жак и что в то время, когда она уезжала из Парижа на юг Франции, он был в армии, на фронте. Ее мать умерла, когда Анне было семнадцать лет, и отец умер за год до войны. Что было еще? Знакомые ее мужа, поездки на море и за границу – Мадрид, Барселона, Флоренция, Рим, Венеция. Все это было бесконечно далеко. Но все-таки что-то в этом было, какое-то ощущение неудовлетворенности и неправдоподобности. Что-то было не то, что-то, в чем она не могла отдать себе отчет и чего она не могла вспомнить. Что это могло быть? И почему теперь у нее не оставалось даже отдаленного сожаления об этом исчезнувшем мире, в котором проходила ее жизнь? Может быть, это было последствием того небытия, в котором она провела столько лет и о чем ей говорил Пьер? Может быть, она потеряла теперь способность чувственного воспоминания об этом, как люди теряют зрение или слух?
Она глубоко вздохнула, заложила руки за голову и потянулась всем телом. Ее опять охватило ощущение теплого блаженства. Ее глаза были открыты, ее слух улавливал все звуки, все ее мускулы ей повиновались, и ей казалось, что она никогда не чувствовала жизни своего тела и своего сознания с такой отчетливостью, как теперь. Неужели она была еще совсем недавно больным существом с погасшими глазами, влачившим то животное существование, которое ей описывал Пьер? Она ничего не помнила об этом. Единственное смутное, но постоянное ощущение, которое тогда было таким же, быть может, как и теперь, с той только разницей, что оно не отражалось в ее омертвевшем сознании, это было ощущение присутствия Пьера. Но почему ее прежняя жизнь казалась ей чужой и ненужной – сейчас в эту глубокую ночь, под шум дождя, в этой теплой постели?
Ей вспомнилось далекое детство, книги, которые она с жадностью читала, – путешествия, подвиги рыцарей и героев, стихи о любви, где говорилось о том, чего она не знала и не понимала, но что, как она это думала позже, она смутно предчувствовала. Когда ей было двенадцать лет, она представляла себе свою собственную жизнь как продолжение того, что она читала, как новое и непрекращающееся путешествие по этому чудесному миру, в котором звучали магические слова о единственной любви. Она никогда не училась ни в какой школе. К ней приходили учителя, преподававшие ей те предметы, знание которых было необходимо, чтобы сдать экзамен на аттестат зрелости. И вот тянулись годы уроков алгебры, тригонометрии, истории, географии, литературы, философии, английского языка, появились новые книги, которые она читала с восторгом, не отрываясь, случайные цитаты, которые она запомнила на всю жизнь – «un archange essuyant son epee dans la nuee» – «if winter comes can spring be far behind?»[3]; ее гувернантка, тридцатипятилетняя англичанка с ледяными глазами, с которой она ежедневно ссорилась и которая говорила ей высоким и невыразительным голосом, в присутствии ее матери вечером, желая ей спокойной ночи – God bless you[4]; преподаватель немецкого языка, старый и бедный эльзасец с печально повисшими седыми усами, всегда в лоснящемся черном костюме, с очень белым и чистым воротничком, развесистым галстуком, красным лицом и мутными глазами, который неизменно жмурился, как кот, читая нараспев стихи Шиллера, Клейста, Гете; преподаватель алгебры – «ни в чем человеческий ум не достиг такой стройности, как в этой непогрешимой последовательности формул, в этом чудесном смещении цифр, подчиняющемся наиболее гармоническим законам, созданным усилиями гения»; преподаватель истории, невысокий пожилой корсиканец, искренне любивший одних и не любивший других людей, игравших роль в истории французского государства, ненавидевший Людовика Четырнадцатого – «это невежественное животное» – и питавший слабость к Генриху Четвертому за Нантский эдикт; учитель французской литературы – «никто не писал лучше, чем Луиза Лабэ, если говорить о поэзии, никто не писал лучше герцога Сен-Симона, если речь идет о прозе». Луиза Лабэ! Только значительно позже «трагический гений Бодлера», как говорил о нем учитель литературы, произносивший эти слова казенным и неубедительным тоном, каким он сказал бы, например, «высокие стены этого здания», – он не любил Бодлера, но не мог отрицать его достоинств, – трагический гений Бодлера затмил на время лирическую пронзительность Луизы Лабэ.
Шесть лет, шесть долгих лет учения в просторном доме ее родителей, в Провансе, где она провела свою жизнь до отъезда в Париж, куда ее привезли, когда ей было восемнадцать лет. И ее долгие разговоры с отцом, в его кабинете, где пахло кожей диванов и кресел, – с отцом, который, как ей казалось, представлял себе историю мира как смену экономических систем, определявших, по его мнению, всю жизнь человечества (единственный пункт, в котором он, по его словам, был согласен с Марксом, которого не признавал во всем остальном, вплоть до выбора темы его университетской диссертации): – Я всегда считал, что эллинская культура, в частности греческая трагедия, – ты слушаешь меня, Анна? – с ее нелепым многобожием, с ее ходульными и искусственными страстями, результат примитивных, в конце концов рабовладельческих, концепций, заслуживает, конечно, изучения, но не больше, чем что-либо другое, и никак не заслуживает преклонения, и, в сущности, даже история Рима в некотором смысле нам представляется более поучительной, чем история Эллады… – Сквозь высокое окно проходил свет, отец сидел за столом, Анна против него, и с тем, что он ей говорил, она никак не могла согласиться. Ей казалось, что он сознательно вычеркивал из жизни, – вернее, из своего понимания жизни, – именно то, что придавало ей ценность и, в частности, огромную силу человеческих чувств, которую он находил недостойной ни внимания, ни даже того изучения, какого, по его мнению, заслуживала все-таки эллинская культура. Он был высоким человеком, необычайной худобы, почти никогда не расстававшийся со своими бархатными куртками, которые носил дома. Большую часть времени он проводил в своем кабинете, перегруженном множеством научных книг. К литературе, которую так любила его дочь, он относился с неизменным пренебрежением. – Наша задача в том, чтобы свести все существующее к ряду естественных и понятных законов, которые могут быть выражены определенными формулами, законов, в которых эмоциональный момент может играть известную роль, но чисто функциональную, Анна, пойми это, чисто функциональную. Что из этого делает твоя литература? И та же Луиза Лабэ, например? Она испытывает определенное физическое влечение к какому-то человеку, влечение, внушенное ей чрезмерно развитым инстинктом размножения, и оттого, что она это начинает испытывать, весь мир, видишь ли, ей представляется иным, чем до тех пор. И в учебниках литературы это называется лирической поэзией. Мне описывают на сотнях страниц жизнь человека, который проходит мимо всего важного, не замечая этого, и внимание которого сосредоточено на незначительных личных чувствах. Искусство вообще, – ты слушаешь меня, Анна? – это отказ от настоящей жизни, это бесплодные блуждания праздного воображения, кому это нужно, в конце концов? Вот что надо изучать, вот что надо понять, – он показывал ей рукой на свои книжные шкафы, где стояли, все в одинаковых переплетах, толстые книги о структуре общества, о политической экономии, об истории феодализма. Ни с кем в доме – и меньше всего со своей женой – он, однако, не говорил о том, что надо изучать, зная, что его не поймут. Как это думала потом Анна, ее отец, которому не удалась его личная жизнь, который не умел уживаться с людьми и не скрывал своего пренебрежительного отношения к ним, объяснявшегося тем, что их не интересовало то, что интересовало его, – ее отец представлял себе всю историю мира как последовательность вполне определенных систем, которые, по его мнению, направляли в соответствующую эпоху развитие человечества. Задача человека заключалась в том, чтобы понять основные принципы этой системы и способствовать их эволюции. Конечно, людей, которые могли выполнить эту задачу, было немного. Остальные – это была статистика: рождаемость, смертность, повышение или понижение жизненного уровня, численность городского населения. – Сколько вздора было написано о Римской империи, Анна, этому трудно поверить! А между тем история римского могущества и история гибели Рима могут быть изложены в нескольких словах. Это результат действия двух сил, центробежной сначала, центростремительной потом. Центробежная сила – это завоевания, включение в состав империи далеких варварских провинций, это движение, которое вело к расцвету римской мощи. Затем следует некоторый период стабилизации, и потом начинается центростремительное движение, гипертрофия Рима как столицы империи, – и Рим, в конце концов, задыхается и гибнет. Вот тебе история Рима.
Анна отдавала себе отчет в том, что ее отец очень много знал, но все свои знания он стремился включить в рамки определенных теорий, отступления от которых он не допускал. Всю систему его взглядов можно было представить графически – расширение и суживание разных величин, стрелки, определяющие то или иное направление, кривые повышения или понижения и, главное, существование постоянных понятий, похожих на аксиому о том, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. И в этой жестокой геометрической системе не было, конечно, места ни для лирической поэзии, ни для искусства.
Мать Анны, происходившая из аристократического рода, была так же далека от эмоциональной жизни, как ее муж, но по совершенно другим причинам. В отличие от отца Анны, она не строила никаких теорий, но знала всегда, как надо поступать в том или ином случае, точно все должно было подчиняться определенным правилам, раз навсегда установленным при каком-то дворе, центром которого была она, как королева воображаемого государства. О своем муже она говорила: этот бедный Ипполит, – как будто он был ее дальним родственником, которому она из милости позволяла жить в ее доме. Анна потом спрашивала себя с недоумением, что могло быть общего между ее родителями и чем объяснялся их удивительный брак. Они почти не разговаривали между собой, виделись обычно только за столом и прожили в этом ледяном отчуждении друг от друга всю свою жизнь. Анна помнила только один случай, когда ее мать совершенно вышла из себя и кричала высоким голосом, которого Анна не слышала ни до, ни после этого:
– Как вы смеете клеветать, Ипполит! Я никогда не допущу этого в моем доме! Какая возмутительная дерзость! Какая плебейская выходка!
Все это произошло потому, что, когда Анна подходила к столу, отец посмотрел на нее внимательнее, чем обычно, и сказал:
– Я иногда спрашиваю себя, в кого ты вышла такая, Анна, с таким литым телом и такими тяжеловатыми чертами лица, с такими ровными и правильными зубами? В кого? Ни в мать, ни в меня, во всяком случае. Единственное объяснение, я думаю, можно найти в том, что дед твоей матери, будучи болезненным и несколько странным человеком, женился на прачке, простой крестьянке, которая до конца своей жизни так и не научилась читать и писать, но отличалась несокрушимым здоровьем и исключительной физической силой, такой, что когда она дала пощечину брату своего мужа, который слишком явно выражал ей ненужные чувства, то он упал без сознания и его чуть ли не замертво выволокли из гостиной, где это произошло. Ты ее достойная правнучка, наследственность иногда действует через несколько поколений.
И вот после этих слов мать Анны встала из-за стола и начала кричать.
– То, что я говорю, – спокойно сказал отец, – это вовсе не клевета, это именно так и было, и я не вижу в этом ничего дурного. Если бы вы имели представление хотя бы об истории Франции, то есть вашей собственной родины, то вы бы знали, что вторжение плебейского начала в так называемую аристократию, – понятие, кстати говоря, чрезвычайно расплывчатое и условное, – явление довольно частое и отнюдь не отрицательное. Ваша бабушка с отцовской стороны была крестьянкой, но она была женщиной, достойной уважения, чего я не мог бы сказать о вашей бабушке с материнской стороны, которая была княгиней, но поведение которой всю жизнь вызывало бесконечные скандалы.
После этого Анна никогда больше не видела своей матери за столом, ей подавали обед в ее комнату, ту самую, где однажды утром ее нашли мертвой – она заснула и не проснулась, и это было похоже на то, как если бы день ее спора с отцом о клевете на бабушку был последним днем ее жизни, непонятным образом затянувшимся на целый год: она умерла ровно через двенадцать месяцев после этого спора.
У ее матери не было ни той культуры, ни тех знаний, какие были у отца, но ее представление о мире было не менее определенным. Главную и, в сущности, единственную роль в этом представлении играл вопрос о происхождении человека, то есть о большей или меньшей степени его принадлежности к той касте, представительницей которой она себя считала, – аристократии. Ее собственная аристократическая кровь, однако, – как это объяснил Анне отец во время одного из разговоров с ней (впрочем, это было трудно назвать разговорами, это были, в сущности, его бесконечные монологи, которые заменяли ему книги, которые он мог бы написать, но которых не написал, так как Анна заменяла ему ту аудиторию, которую он хотел бы иметь, но которой у него не было), – как это объяснил ей ее отец, эта аристократическая кровь ее матери представлялась ему несколько разбавленной, так как, помимо одной из ее бабушек, которая была крестьянкой, в истории рода ее матери фигурировал, правда в течение короткого времени, еврей-банкир, от которого у другой ее бабушки, княгини, был сын, носивший, однако, фамилию не своего отца, а мужа своей матери, что не мешало ему быть наполовину евреем. В этом отец Анны опять-таки не видел ничего плохого, но в существование банкира ее мать не могла и не должна была верить. С матерью у Анны было мало общего. Много позже, уже будучи замужем, Анна поняла, что если бы ее мать не считала, что ее принадлежность к аристократии сама по себе заменяет ей все остальное – душевные качества, ум, знания, талант, – то у нее решительно ничего не осталось бы. Она никогда не отличалась ни красотой, ни умом, ни пониманием. То, что она говорила, всегда было до удивительности незначительно, так же, как все ее существование. Когда Анна была маленькой и подходила к матери, чтобы положить ей голову на колени, мать неизменно отстраняла ее и говорила: уберите этого ребенка, он мне мешает. Отец Анны никогда этого не делал и нередко играл с ней, в нарушение всех своих теорий о чисто функциональной ценности эмоционального мира. Именно он занимался ее образованием и выбирал учителей, производя каждому из них соответствующий экзамен. – Скажите мне, мой друг, что вы думаете о книге, которая недавно, совершенно случайно, попала в мои руки и о которой я не успел составить себе представления, так как прочел всего несколько страниц? – это мог быть Шопенгауэр или Бергсон, если речь шла о философии, Пруст или Фроментен, если вопрос касался литературы, Пуанкаре, если это была математика. У матери Анны была какая-то непреодолимая враждебность ко всему, что называлось общим словом «культура», – исключение составлял английский язык, но, как это заметил отец Анны, совсем не потому, что на этом языке писал Шекспир, а оттого, что дед Анны в свое время прожил несколько лет в Англии, оправдав таким образом в представлении матери Анны право на существование английского языка.
Анна думала обо всем этом теперь, в эту ночь, когда она не спала. В эти часы она отчетливо вспомнила почти все, вплоть до того оцепенения, из которого она никак не могла выйти, до туманного небытия, из которого до нее впервые дошли слова Пьера, вернее, даже не значение этих слов, а их вопросительная интонация, это звуковое колебание его голоса, давшее ей смутное представление о том, что она существует. Но только после своей долгой болезни, во время которой ее возвращение к жизни странным образом проявлялось в ощущении того, что она умирает, что она задыхается, что она не может перенести этой страшной боли в голове, только после своей болезни, – она очень ясно помнила это, – ей показалось, что где-то вдали начало происходить сложное движение, которое постепенно, с медленной неудержимостью приближалось к ней в неуловимых формах и сразу в нескольких направлениях, и по мере этого приближения все стало проясняться вплоть до той незабываемой минуты, когда она увидела стены этой незнакомой комнаты, погруженной в полутьму, так как ставни окон были закрыты, когда к ней вошел Пьер, сказавший ей эти слова: – Вы пришли в себя, Мари? Слава Богу… – и она узнала и этот голос, и эту интонацию. Это был самый важный день ее жизни. Это была ее последняя мысль в эту ночь – через секунду она закрыла глаза и заснула.
На следующий день, когда Пьер ушел и она осталась одна, она не переставала думать о том, что ей накануне так долго мешало заснуть. Чем объяснялось то чувство, которое она испытывала теперь, – и которое, как ей казалось, она знала всегда, – это чувство неудовлетворенности, эта неубедительность того мира, из которого она была вырвана в его последний день, который она помнила в дыме и огне этой апокалипсической бомбардировки? Почему она чувствовала себя в нем чужой? В конце концов, это действительно было похоже на конец света, когда небо скрылось, свившись, как свиток, – откуда эти слова? Она сделала усилие и вспомнила, что это из Откровения святого Иоанна, о котором отец Симон, аббат, один из ее учителей, говорил ей, что его не следует принимать буквально, так как, – вы понимаете, дитя мое, вдохновение святого Иоанна, создавшее эту несравненную по своей силе картину гибели мира, порой начинало переходить за пределы той чисто христианской концепции, которая ему внушила его труд, и свои собственные слова, вызванные его священным гневом, он вкладывал в уста Спасителя, невольно искажая Его божественный облик и забывая, что Спаситель не мог сказать этих слов: «Я люблю тебя за то, что ты ненавидишь учение николаитов, которое и Я ненавижу». Подлинный христианин, дитя мое… – Каждый раз, когда Анна думала потом об отце Симоне, она будто вновь слышала шуршание его рясы, сшитой из какой-то очень тугой материи, и от этого все, что относилось к религии, со времен раннего ее детства, невольно было связано в ее представлении с этим шуршанием, похожим на звук едва слышного полета ангелов, как бы взвивавшихся в воздух, когда отец Симон произносил свои первые слова – Отче наш…
– Подлинный христианин, дитя мое, может быть, увы! увы! предметом ненависти, но сам он не может ненавидеть никого, и в том числе николаитов, которые, в конце концов, были виноваты только в том, что они заблуждались. Дитя мое, я неоднократно замечал, – у отца Симона был глубокий и низкий голос, – что в вашем поэтическом представлении величие христианства приобретает несколько своеобразный характер, – он поднимал при этом руку вверх. – Я не хочу сказать, что в этом есть что-нибудь отрицательное, но это не совсем то. Христианство, дитя мое, это не только мягкий свет Гефсиманского сада, сумерки, спускающиеся на Голгофу, видения Апокалипсиса, трубы архангелов, то есть все то, к восприятию чего так чувствительна ваша романтическая натура. Это не только Тициан, не только Сикстинская капелла и Микеланджело, как бы гениально все это ни было. Христианство – это победа над чувственным миром, победа духа над материей, победа идеи бессмертия над всем тем, что люди так склонны ценить на нашей бедной земле и что есть только прах, дитя мое, только прах. – Анна вспомнила надгробную речь, которую отец Симон произнес, когда хоронили ее мать, и которая по своей торжественности была похожа на речи Боссюэ: – Господи, прими ее душу, которую Ты создал бессмертной в те дни несравненной Твоей славы, когда в грохоте рождающегося мира Ты сотворил все, что существует. Теперь эта душа покидает землю, чтобы войти в Царство Небесное. Господи, дай ей силы перенести нестерпимое сияние Твоей славы. – В церкви было прохладно в этот жаркий день, в безоблачном небе летали ласточки, горячий воздух дрожал над раскаленной землей.
«Эмоциональная жизнь имеет только чисто функциональную ценность», «Христианство – это победа над чувственным миром». Анна не могла спорить ни со своим отцом, ни с аббатом, объяснявшим ей смысл Откровения святого Иоанна. Каждый из них без труда доказал бы ей, что это именно так, как он говорит. С одной стороны, это было отрицание искусства, с другой – проповедь аскетизма, и, в конце концов, может быть, действительно надо было примириться с этой неизбежностью осуждения всего, что так влекло ее к себе? Но она не могла этого сделать. Ее отец, впрочем, отдавал себе в этом отчет, особенно в последние годы, когда он смотрел на свою дочь, на ее тяжелые губы и глубокие глаза, – нет, Анна была не похожа ни на него, ни на свою мать, и то, что ему, ее отцу, в лирической поэзии казалось не заслуживающим внимания, для нее было насыщено смыслом. Когда ей было четырнадцать лет, она уже ощущала в себе ту душевную тревогу, то предчувствие чего-то чрезвычайно важного и значительного, то физическое томление, которое только усиливалось по мере того, как она становилась старше. Когда отец привез ее в Париж, где она поступила в университет, она через несколько месяцев познакомилась с Жаком, своим будущим мужем, сыном одного из товарищей ее отца, владельца нескольких предприятий. Жак был инженер по образованию и помощник директора завода, хотя ему было всего двадцать восемь лет. Впрочем, на вид ему было больше, он начал уже полнеть и лысеть. Анна впервые увидела его в церкви и не обратила на него особенного внимания, но запомнила его лицо, необыкновенно серьезное и важное, такое, словно он один понимал всю торжественность богослужения, в котором он безмолвно принимал участие, так, как будто его присутствие в церкви было не менее необходимо, чем присутствие священника, – и она сразу узнала его, когда через несколько дней после этого он пришел к ее отцу с визитом. Это был первый человек ее круга, – как сказала бы ее мать, – который был старше ее только на десять лет. Он приносил ей цветы, иногда они ездили в театр, иногда на автомобиле Жака в загородный ресторан. Это продолжалось несколько месяцев, и за все это время Жак не позволил себе ни одного слова и ни одного движения, которые могли бы быть поняты как выражение его чувств к Анне. Она краснела каждый раз, когда ее рука касалась его руки, но Жак, казалось, этого не замечал или не хотел замечать. Он много говорил о христианском долге, о том, чем человечество обязано церкви, о том, что назначение человека на земле – для тех, кто не живет в заблуждении и химерах, для тех, кто знает, что жизненный путь начертан божественным промыслом, – это семья и выполнение христианских обязанностей. Она едва слушала его, ей казалось, что если она станет его женой, то в их душевной и физической близости исчезнут все теории, все, что в конце концов несущественно, и останется только единственное, неповторимое чувство, которого она ждала уже несколько лет со все возрастающим волнением. Когда Жак сделал ей предложение, сказав, что перед этим он уже говорил с ее отцом, который отнесся к нему благожелательно, за что Жак ему благодарен, – Анна слушала его, глядя на него в упор своими глубокими глазами и ожидая той минуты, когда он решится ее поцеловать, – и вот теперь он спрашивает себя, может ли он, имеет ли он право рассчитывать на то, что Анна, в свою очередь…
– Но разве вы не заметили, – нетерпеливо сказала она, – что я давно вас люблю?
Самыми печальными днями и неделями в жизни Анны были дни и недели ее медового месяца и свадебного путешествия по Италии. Оставаясь одна в комнате гостиницы, она плакала иногда часами, потому что все ожидания были жестоко обмануты. То, что происходило, не имело ничего общего с тем, что она себе представляла и чего она хотела. Физическая близость с Жаком вызывала у нее раздражение и оставляла ее неудовлетворенной, – и когда Жак ей как-то еще раз сказал, что долг каждого мужчины и долг каждой женщины – это иметь очаг и семью, она посмотрела на него с гневным выражением в глазах и ответила: – Боже мой, нельзя ли, в конце концов, немного меньше думать о долге и немного больше о чувстве, о любви? – Но сознание исполненного долга, Анна, – что может дать большее удовлетворение? Подумайте об этом. – Нужно, по крайней мере, чтобы это исполнение долга хотя бы доставляло вам удовольствие, черт возьми! – Анна, как вы можете так говорить? Я вас не узнаю. – Вы ничего не понимаете, Жак, – сказала она, – и я думаю, что вы, к сожалению, неизлечимы.
Но это раздражение и эта неудовлетворенность еще не были самым печальным в тот период жизни Анны. Самым печальным было другое. Она очень скоро поняла, что в жизни Жака она занимает далеко не главное место. Она понимала также, что это объяснялось не ее недостатками или тем, что чувство Жака к ней не такое, каким оно могло бы быть, если бы на ее месте была бы другая женщина; Жак вообще был меньше всего создан для любви, и когда Анна, без его ведома, отправилась однажды к известному врачу, чтобы спросить у него совета – как сделать свою супружескую жизнь несколько более терпимой, он задал ей много вопросов, на которые она отвечала, краснея, и после этого он ей объяснил, что, по его мнению, она не может рассчитывать со стороны ее мужа на то, чего так требует ее природа. – Я не говорю даже о чисто физических недостатках вашего мужа, – сказал доктор, – но насколько я понимаю, из того, что вы мне сказали, следует сделать один бесспорный вывод: отношение к вам вашего мужа определяется в равной степени и его, так сказать, несовершенством анатомического порядками всей его психологией, его душевной структурой. – Еще через некоторое время, когда Анна лежала в своей комнате с сильной головной болью, Жак вошел к ней, очень забеспокоился и сказал, что он остался бы дома, если бы сегодня вечером, именно сегодня вечером, ему не предстоял ужин, на котором он должен встретить одного депутата парламента, влияние которого в дальнейшем может оказаться чрезвычайно важным, в какой-то степени даже решающим в том деле… – Оставьте меня в покое, – сказала Анна, – и можете идти куда хотите. – Это был первый месяц ее беременности.
Жак не мог не понимать, насколько неудачен был его брак, и не только потому, что между ним и его женой не было ничего общего. Но он считал, что брак вообще нерасторжим и надо сделать все, чтобы объяснить Анне, насколько ее представление о любви, одновременно чувственное и возвышенное, насколько оно ошибочно и не соответствует тому, каким оно должно быть. Но когда он однажды заговорил с ней об этом, глядя через свои очки – он был очень близорук – на ее подурневшее лицо – шел седьмой месяц беременности, – она сказала ему с явной враждебностью в голосе: – Только, ради Бога, не говорите мне о долге, о христианстве или о теологических трактатах, подумайте о том, что иногда это просто неуместно: если вы лежите с женщиной в постели и заняты в это время соображениями о христианском долге, то глупее и непристойнее этого ничего быть не может, вы плохой проповедник и никуда не годный муж. – Но даже это не вывело из себя Жака, который вздохнул и сказал: – Анна, вы рано или поздно поймете, насколько прав я и насколько не правы вы. – Вероятно, – резко ответила она, – когда я перестану быть женщиной.
Вскоре после этого у нее были преждевременные роды. Ребенок родился мертвым, Анна долго была больна, и, когда все это кончилось и она почувствовала, что здоровье вновь возвращается к ней, она поняла, что никакая сила в мире не заставит ее теперь изменить свое отношение к Жаку. Это было чувство и враждебности, и презрения, и жалости к нему. Он, казалось, ничего этого не замечал и продолжал быть таким же, как и раньше, внимательным, неизменно вежливым и всегда готовым дать Анне самые пространные объяснения, которые никогда ей не были нужны.
За то время, которое Анна прожила со своим мужем, у нее было несколько любовников, но каждый раз, через очень короткое время, это кончалось разрывом, слезами и припадком глубокой печали. Сначала Анна думала, что какой-то ее собственный недостаток, душевный и физический одновременно, лишает ее возможности испытать то чувство ослепительного, всеобъемлющего счастья, которого она ждала долгие годы, еще с того времени, когда девочкой смутно о нем мечтала. Потом она пришла к убеждению, что случайное определение ее понимания любви Жаком, не отдававшим, быть может, себе отчета в значении своих слов, но сказавшим, что это понимание слишком чувственное и слишком возвышенное, было совершенно правильно и что все ее предрасполагало именно к такой любви: ее темперамент, ее романтические представления, ее готовность отдать все тому, кто испытает по отношению к ней чувство, которое будет таким же, как то, которое способна испытать она. Но она не встретила ничего похожего на это – особенно в том, что для нее было важнее всего, – неудержимое движение к ней чьей-то души, не знающее никаких препятствий. Потом она почти потеряла надежду, что это может когда-нибудь произойти, и решила, что надо найти в себе силы примириться с этим и искать смысл своего существования в чем-то другом, а не в нелепой и детской, в конце концов, романтике, ценность которой так упорно отрицал ее отец. Это совпало по времени с тяжелой болезнью отца, и диагноз этой болезни не оставлял никаких надежд на выздоровление: у него был рак легких. Через месяц он умер. Это был единственный человек в жизни Анны, к которому у нее было постоянное теплое чувство и который тоже ее искренно любил, несмотря на свои теории, признававшие только все ту же злополучную функциональную ценность эмоционального мира. В день его смерти, глядя на его мертвое, неподвижное лицо и не удерживая слез, Анна почувствовала, что теперь она осталась совершенно одна.
Это было за год до начала войны, и весь этот год Анна провела в состоянии глубокой душевной подавленности. Она перестала заботиться о своей внешности, отказывалась сопровождать Жака куда бы то ни было, не выходила по целым дням из своей комнаты и долгими часами лежала без движения, глядя в белый, невыразительный потолок. Жак старался ей помочь и вывести ее из этого состояния, но она не разговаривала с ним, и единственные слова, которые она произносила, были всегда одни и те же – оставьте меня в покое. Она говорила это даже без раздражения, которое он так хорошо знал, и он дорого дал бы за то, чтобы к ней вернулась возможность раздражаться. Он оставил ее в этом состоянии, когда была объявлена война, и уехал в армию. Потянулись долгие месяцы, когда она оставалась одна в своей парижской квартире и не отвечала ни на письма, ни на приглашения, ни на телефонные звонки. Потом наступил наконец июль тысяча девятьсот сорокового года. Германская армия приближалась к Парижу, над городом стоял черный дым. И тогда, однажды утром, Анна вышла из дому с одним чемоданом, вывела из гаража автомобиль Жака и решила ехать к себе, в Прованс, где давно уже стоял пустым дом ее родителей и только в небольшом флигеле, в саду, жил по-прежнему сторож Максим, молчаливый и суровый старик, которого всюду сопровождал его огромный черный дог, такой же мрачный, как и его хозяин. Но она не доехала до Прованса…
Она услышала, как в двери щелкнул ключ. Потом Пьер появился на пороге комнаты. Поднявшись с кресла, с неудержимой, широкой улыбкой, открывавшей ее ровные белые зубы, она сказала – Пьер никогда потом не мог забыть этого выражения ее голоса:
– Я рада вас видеть, Пьер.
Каждый раз, когда Анна оставалась одна, она думала о множестве вопросов, встававших перед ней, – которые нужно было разрешить. Самый трудный из них был тот, на который она до сих пор не ответила Пьеру: – Мари, вы знаете, кто вы такая? – Как именно надо было сказать ему, что раньше ее звали Анной Дюмон, что у нее было известное положение, квартира в Париже, дом в Провансе, муж и знакомые, но что при всех обстоятельствах в тот мир, который перестал существовать – в день этой бомбардировки летом сорокового года, – она не могла вернуться, потому что и ее душа, и ее сознание были против этого? Это возвращение было невозможно, об этом не могло быть даже речи. Ее, вероятно, давно считали погибшей – неизвестно как и неизвестно где; во всяком случае, в течение долгих лет никто о ней ничего не знал. Может быть, это было к лучшему? Потому что, – она ясно отдавала себе в этом отчет, – той Анны Дюмон, которая пропала без вести летом сорокового года, больше не было и именно этот июньский день надо было считать датой ее смерти, о которой она не жалела. Она еще раз подумала о том, что предшествовало этому. За все время своей жизни, с тех пор как она помнила себя, был только один человек, к которому она была искренно привязана и которого она любила, – ее отец. Но его давно нет в живых. Ей было теперь двадцать девять лет. Из них последние пять лет были годами того непонятного и смертельного небытия, про которое теперь она знала все, вплоть до тех подробностей, о которых ничего не говорил Пьер, но о которых она догадывалась. А теперь нужно было жить, – но как? Теоретически все было просто: сказать Пьеру, кто она такая, сказать, что она бесконечно благодарна ему за то, что он для нее сделал, – то есть вернул ее к жизни, – узнать, где Жак, и уехать на свою парижскую квартиру. Этого она сделать не могла, – она даже улыбнулась, думая об этом. Теоретически было ясно и другое: теперь она была здорова, ей больше не угрожала никакая опасность, и все эти дни она чувствовала, как к ней возвращаются силы, значит – теоретически, – Пьеру незачем было заботиться о ней, и, значит – теоретически, – ее пребывание здесь потеряло свой смысл. Она еще раз обошла все комнаты, глядя новыми глазами на то, что ее окружало, – портреты отца и матери Пьера, несколько репродукций, буфет, столы, стулья, кресла, диваны, – все это содержалось в необыкновенной чистоте. Пьер каждый день, до ухода на службу, убирал всю квартиру. Это было похоже на меблированные комнаты и резко отличалось и от ее собственной парижской квартиры, и от ее дома в Провансе. Она посмотрела на книжные полки – энциклопедический словарь в шести томах, изданный в начале столетия, классики, несколько новых романов, Шекспир, Толстой, Сервантес, Достоевский во французском переводе, Платон, Овидий, Плутарх, монографии о Рембрандте, Ван Гоге, Боттичелли, Руссо, учебники – алгебры, истории французской литературы, те самые, по которым она училась. Теоретически…
Она остановилась и прислушалась. Она всегда ощущала, неизвестно как, животным и безошибочным чувством, приближение Пьера. Через минуту он вошел в квартиру, и это прервало ее мысли. И когда она увидела его, она поняла с отчетливостью, не допускавшей сомнений, что слово «теоретически», которое она повторяла столько раз, не имело и не могло иметь никакого смысла.
Она часто думала о том, что если бы на месте Пьера был какой-то другой человек, все трудные вопросы могли бы быть разрешены и их разрешение было бы тем более необходимо, потому что фальшивое и странное положение, в котором она была, становилось просто невыносимо. Но ей никогда и ни с кем не было так легко, как с Пьером. Его постоянное присутствие ничем и никогда не стесняло ее, и она не могла себе представить, что Пьер вдруг ушел бы из ее жизни. Ей казалось, что Пьер был не похож ни на кого из тех людей, которых она знала. То, что она ощущала в его присутствии, – это его неизменную доброжелательность и его немую готовность поддержать ее во всем, – то, чего она никогда не испытывала раньше и что ей казалось самым ценным, что может быть. Она понимала, что потерять это было бы для нее непоправимым несчастьем, и потому она все не решалась сказать Пьеру, что она знает теперь свою прошлую жизнь. Он больше не спрашивал ее об этом – и ей иногда казалось, что она понимает почему.
Однажды после ужина она сказала ему:
– Пьер, вы знаете что? Вы, может быть, правы, может быть, действительно меня зовут Мари.
Он быстро взглянул на нее. В ее улыбающихся глазах он заметил теплый перелив выражения, которого он раньше не видел. Она села глубже в кресло. Пьер смотрел на ее туго натянутые чулки и черные туфли и вдруг вспомнил летний день, дождь и ее босые ноги, увязшие в глине.
– Вы знаете, – продолжала она, – я много думала все эти дни и многое вспомнила. Но я боюсь, что я не сумею вам рассказать это так, как было бы нужно. И я решила, что, может быть, лучше, если я постараюсь все это написать. Что вы скажете об этом?
– По-моему, это прекрасная идея, – сказал он. – Я буду с интересом ждать, когда вы это кончите, и обещаю вам быть внимательным читателем.
Кроме того ощущения, что она выздоровела после очень долгой и тяжелой болезни, Анна впервые чувствовала теперь, насколько жизнь может быть спокойной и счастливой – она не находила других слов. Когда Пьера не было, она выходила на улицу и гуляла целыми часами в этом районе Парижа, которого раньше совершенно не знала. Потом она возвращалась, садилась за стол и начинала писать. Незаметно для нее самой страницы шли за страницами, и перед ней возникали сначала зрительные ее воспоминания – красная земля Прованса, неподвижные пальмы, тугая листва кустарников, железный узор ворот ее дома, каменные арки его фасада и его особенный желтовато-красный цвет, темневший после захода солнца, высокое безоблачное небо, кипарисы в саду, дрожание листьев, когда дул мистраль, далекие звезды вечером. Потом комната, где она писала, наполнялась звуками – покашливание ее отца, прерывающаяся мелодия рояля, на котором играла мать этюды и ее собственные импровизации, вдруг вливавшиеся в исполнение ноктюрна или «сада под дождем» – с преобладанием минорных нот, последовательность которых напоминала пронзительную рояльную жалобу неизвестно на что, – и после этого импровизация прекращалась и снова начиналось долгое гармоническое повествование, звуковая проекция какой-то блистательной и до конца рассказанной жизни, в которую Анна вкладывала свой собственный смысл, где были стихи, воспоминания, предчувствия, надежды, далекое лирическое движение, уход, возвращение, отражения пейзажей, отказ, согласие, ответ на все вопросы, – Анна сидела на скамейке, в саду, в том его месте, куда выходило окно комнаты, где стоял рояль, и слушала то, что ей казалось музыкальным рассказом о ней самой. Было слышно стрекотание цикад, хлопанье крыльев голубя, взлетевшего в воздух, крик ночной птицы, далекий звон колокола из деревни, находившейся в двух километрах от их дома, слышался иногда легкий треск туго пригнанных половиц паркета, когда в вечерней тишине кто-нибудь проходил через комнаты, хруст гравия в саду, звуковой след, по которому можно было знать, в каком направлении шел ее отец, совершавший одинокие прогулки в поздний час, когда Анна лежала в постели и в ее комнате было отворено окно и когда она не могла заснуть от смутного и непонятного волнения о том, что она слышала в звуках рояля, в стихах, в далеких замирающих переливах колокольного звона.
Потом возвращался Пьер. – Как вам пишется, Мари? – Я скоро кончу первую часть. – Они ужинали, после ужина Пьер убирал со стола. Анна садилась в кресло, и когда он, вымыв посуду, входил в комнату, она говорила ему:
– Расскажите мне о вашей матери, Пьер. Вы мне уже говорили о ней, но я как-то не составила себе точного представления обо всем этом. Вы говорили, что главная ее особенность была в примиренности со своей участью?
– Вы знаете, Мари, мне иногда кажется, что почти в каждой человеческой жизни есть какая-то неизбежная ошибка. Ну, не в каждой, конечно, но во многих. У такого-то человека, скажем, жизнь должна была бы быть такой, а выходит, что она другая. У меня есть призвание быть врачом. Но обстоятельства сложились так, что я архитектор. Или наоборот. Теперь, когда я думаю о моей матери и ее жизни, мне кажется, что в ней всегда было что-то теплое и уютное, что только она могла дать своей семье. У нее был неисчерпаемый запас мягкости, вы понимаете? Она была простая женщина, и я думаю, никогда ни одна отвлеченная мысль не приходила ей в голову. Она не рассуждала и не думала, но у нее была – как бы это сказать? – неутомимая душа. Она была очень достойная женщина, и все, в конце концов, в ее жизни было незаслуженно жестоко и несправедливо – эта бедность, безвыходность, отношение к ней моего отца, который не был плохим человеком, но не был способен дать ей то, на что она имела право. Потом его смерть, потом эта глупейшая война и, наконец, ее болезнь, с которой она могла бы жить еще долгие годы.
Пьер много рассказывал Анне о своей жизни, об истории своей семьи, и через некоторое время она знала о нем столько, сколько узнала бы, если бы прожила рядом с ним много лет. Та жизнь, которую вела раньше она, вели ее родители и их знакомые, не имела ничего общего с той, о которой ей говорил Пьер. Она представляла себе, что сказал бы об этом ее отец – «статистика». До ее матери это вообще не дошло бы: в узком кругу тех нелепых понятий, которые определяли ее существование, просто не было места для того, о чем рассказывал Пьер. Вспоминая все, что он говорил, она думала, что в этом никакой роли не играло то, что в другой жизни, в той, какую она знала раньше, имело важное значение: соображения денежного характера, вопрос о положении – общественном, служебном, дела, которых здесь вообще не было, наконец, брак, приданое, пристрастие к крупной игре, разорительные увлечения – сколько раз она слышала эти слова: и подумать, что из-за нее он едва не погубил всю свою карьеру… и подумать, что она, забыв обо всем, позволила себе… Не было также и другого – семейных традиций, кастовых предрассудков, своеобразной социальной философии, таких понятий, как «ущемление тех законных прав, которые дает происхождение», – слова матери Анны, «невежественная буржуазия» – определение ее отца – или «недопустимые требования рабочих, которым нечего было бы есть, если бы я, владелец предприятия, не дал бы им возможность такого существования, о каком их родители не могли и мечтать», – как это говорил ее отцу один из его знакомых, и отец ему ответил – в конце концов, вашим положением вы обязаны случайности, но даже если бы это было результатом ваших собственных усилий, то вы не правы вдвойне: во-первых, с точки зрения социальной справедливости, потому что каждый из ваших рабочих имеет моральное право жить так же, как вы, и с другой точки зрения, с которой вы не можете не согласиться, так как вы лишены этой возможности, независимо от ваших взглядов и намерений, точки зрения соотношения сил в современном обществе: в столкновении рабочих профсоюзов с собственниками предприятий; рабочие профсоюзы сильнее вас, и вы вынуждены делать не то, что вы хотите, а то, что хотят они. Я говорю это не как представитель того или иного класса, а как человек, который имеет известное понятие о структуре современного общества, той, которой совершенно не предвидел, например, Маркс.
Пьер принадлежал к другому миру, о котором Анна до сих пор не имела представления и только знала, что он существует. Но то, что ее больше всего удивляло в Пьере, это его превратное, как ей казалось, мнение о самом себе: он был твердо убежден, что он решительно ничем не отличался от других людей и что кто угодно в его положении действовал бы именно так, как он, и не мог бы действовать иначе.
Анна никогда не знала того состояния полного душевного покоя, в котором она жила теперь. Ей иногда начинало казаться, что именно в этом и была цель ее существования – в том, что после всех испытаний, которые выпали на ее долю, она очутилась бы в этой скромной квартире, далеко от того района города, где она жила с Жаком, и чтобы она проводила спокойные, медленные и счастливые дни в ожидании возвращения со службы Пьера Форэ, старшего бухгалтера какого-то незначительного предприятия. И что, кроме того, явно фальшивое ее положение здесь, так как она не была ни женой, ни любовницей, ни даже отдаленной родственницей этого человека, ее совершенно не тяготило, как оно не тяготило и Пьера.
– Ты думаешь, что это может продолжаться бесконечно? – спросил его как-то Франсуа.
– Я был бы счастлив, если бы это было так, – сказал Пьер. – Но это слишком замечательно, и вряд ли это может быть длительным.
– Не знаю, – сказал Франсуа. – До последнего времени я в чудеса не верил. Но после того, что произошло с Мари…
И эта жизнь продолжалась, жизнь, которая каждому, как это думал Пьер и как это думала Анна, показалась бы странной и даже просто неправдоподобной, но которая была лишена какой бы то ни было искусственности и в которой не только не было ничего тягостного или неловкого ни для него, ни для нее, но от которой ни он, ни она никогда не отказались бы. Утром Пьер вставал рано, убирал квартиру, брился, принимал ванну, одевался, и когда он шел на кухню, чтобы приготовить кофе, он слышал, как отворялась дверь комнаты Анны, слышал ее шаги, потом шум воды в ванной. И когда он входил в столовую, Анна уже ждала его там, со своей всегдашней теплой улыбкой, к которой он не мог привыкнуть и от которой он каждый раз испытывал волнение. Потом он уходил на службу, и она оставалась одна. Она выходила на улицу, – с недавнего времени она стала покупать провизию, – затем возвращалась домой и садилась писать. Она писала медленно, часто останавливаясь и глядя прямо перед собой в белую стену, которая вдруг смещалась, и там, где она только что была, возникали железные ворота, за которыми открывалась аллея, ведущая к подъезду дома. В треске гравия и ярком солнечном свете из далекого пространства начинал медленно приближаться тот мир, в котором прошли детство и первые годы ее молодости. Она старалась удержать эти видения, они исчезали и появлялись опять, то расплываясь, то снова возникая с необыкновенной отчетливостью и скрываясь потом в густой листве сада или темнея в наступающих сумерках. И там, где только что дрожали на ветру бесчисленные листья, не было больше ничего, кроме отдельных переливов колокольного звона или звуков рояля, почти безмолвных, как зрительное воспоминание, и Анна повторяла их вслух, чтобы вернуть им жизнь, и только тогда рояльная мелодия вдруг расцветала перед ней, неувядаемая и непогрешимая в своей последовательности раз навсегда.
Наконец однажды вечером после ужина Анна сказала:
– Пьер, я кончила сегодня днем первую часть того, что я хотела написать. Я старалась постепенно вспомнить все, что было когда-то началом моей жизни. – И она протянула ему большую тетрадь, которую он ей купил после того, как она сказала ему, что хотела бы записать свои воспоминания.
– Вы много раз спрашивали меня, кто я такая, – сказала она изменившимся голосом. – Я не могла тогда вам ответить, но не потому, что я не хотела, я не могла, действительно не могла. Теперь я написала об этом, я знаю, что так я не сумела бы вам рассказать. Может быть, это плохо написано, но это все равно, Пьер. Во всяком случае, я писала это для вас. – Мари…
– Меня звали Анной, Пьер, – сказала она. – Но теперь мне иногда кажется, что мое настоящее имя – это то, которое вы произносите.
Она поднялась со своего кресла. Пьер спросил:
– Вы уходите к себе?
– Сегодня, первый раз за все время, – сказала она, – я хочу быть одна.
Он с тревогой смотрел в ее лицо. Оно было неподвижно, и ее широко раскрытые глаза пристально глядели на него. Он опустил голову. Но через несколько секунд она сказала:
– Я буду одна, Пьер. Но я буду знать, что вы недалеко от меня.
«Я не знаю, кто я. Я знаю свое имя и свою фамилию, я знаю, сколько мне лет и где я родилась, но я знаю не менее твердо, что это ничего не определяет. Я знаю, что я такая, какой я себя вижу и ощущаю, я живу и существую только с недавнего времени, и об этом у меня почти нет воспоминаний. То, что предшествует во времени моей теперешней жизни, мне кажется бесконечно далеким. У меня такое впечатление, что я вспоминаю чью-то чужую жизнь, которая кончилась несколько лет тому назад. И эта чужая жизнь, медленно возникающая в моей памяти, начинается, – как это представляется мне сквозь неизмеримую даль, которую мне никогда больше не суждено пересечь, – начинается с того, что я вижу перед собой в свете яркого солнечного дня сложное сплетение железных прутьев на воротах, вделанных в каменную стену, окружавшую сад, в глубине которого стоит дом, где я родилась, в Провансе, на юге Франции».
Так начиналась первая страница тетради, которую Анна дала Пьеру и которую он читал до трех часов утра.
То, что поразило его больше всего, это свежесть повествования, какая-то особенная непосредственность восприятия Анной всего, что она описывала, – и сквозь этот медленный словесный ритм до него доходило ясное видение далекого мира, который появлялся перед ним из этой тетради в коричневом переплете. Такое впечатление было у него, когда он читал это первый раз, читал так, как если бы это была книга, написанная автором, которого он не знал. Но как только он кончил читать, он опять начал все сначала – и тогда постепенно перед ним появилась Анна, сперва девочкой, потом подростком. Он видел перед собой отца Анны, ее учителей, аббата, вспомнил, что он тоже читал когда-то, очень давно, стихи Луизы Лабэ. Он никогда не был в Провансе, где стоял дом родителей Анны, но ему казалось, что он видит все это с необыкновенной ясностью, эти кипарисы и пальмы сада, этот красновато-желтый цвет стен, это сверкание южного солнца, эту красную землю, эту прозрачность горячего воздуха, этот полет ласточек, эти сумерки, эти ночи, эти дни. Ему представлялось, что из этой далекой картины идет к нему и все не может дойти девушка, которой он никогда не знал. Она принадлежала к совершенно чуждой ему среде, но это казалось ему неважным. Он прочел все до конца второй раз, разделся и лег в постель, но знал, что не заснет до утра. Он думал о том, что образ Анны, такой, каким он возникал из ее воспоминаний, – он представлялся ему очень отчетливым, – наивная лирика, ожидание того, что вдруг, в один блистательный день ее жизни, этот романтический мир откроется перед ней во всем своем великолепии, – тогда, когда в силу невозможного и невероятного совпадения чья-то воля сольется с ее волей, чье-то чувство будет таким же, как ее чувство, словом, когда осуществится этот идиллический и детский бред ее воображения. Он вдруг вспомнил свое собственное впечатление от Лувра и сожаление о том, что этих красок, этого мира пророков, героев и красавиц больше не существовало, как не существовало того, о чем мечтала Анна.
Ее воспоминания обрывались на том месте, когда она уехала из Прованса в Париж. Он лежал с открытыми глазами. Так вот кем было то бедное больное животное, которое он увидел в лесу, недалеко от дома Франсуа, это несчастное существо в грязном балахоне, – босые ноги, облепленные мокрой глиной, спутанные волосы, пустые светлые глаза! Вот кому принадлежало это тело, которое он так хорошо знал и которое он в течение долгого времени мыл и одевал, – в котором было всегда, до последнего месяца, нечто пугающее и нечеловеческое, потому что это было соединение тканей и мускулов, не одушевленное ни одним проблеском сознания. Теперь это тело, вероятно, стало другим. Но Пьер тотчас же забыл об этом и продолжал думать об Анне так, как будто она была почти отвлеченным видением. Кто мог подумать, – тогда, в лесу, у Франсуа, – что эти грубые и грязные руки когда-то перелистывали страницы книг или нот, что эти пустые глаза видели раньше что-то иное, чем то зияющее небытие, в которое они, казалось, были так неподвижно устремлены? – Но мы победили это! – вдруг сказал он вслух с необыкновенной силой.
В комнату давно проникал дневной свет. Пьер встал, надел халат и пошел в ванную. Он делал все привычными движениями, но совершенно механически, думая о другом. Когда он вошел в столовую, он увидел Анну, сидящую в своем кресле.
– Мари, – сказал он. – Простите, Анна… Я хотел бы сказать очень много, но я сейчас не нахожу слов. Я прочел, что вы написали. Я хотел бы… Я не спал эту ночь, вы знаете…
Она подняла на него глаза, и Пьер встретил ее взгляд.
– Я тоже не спала, – сказала она. – Пьер, вы самый замечательный человек, которого я встретила в своей жизни.
С недавнего времени Пьер перестал думать о том, как сложатся его отношения с Анной и как будет идти их жизнь. Он знал, что это зависело не от него, а от решения Анны. То беспокойство, которое было у него раньше, когда он спрашивал себя, что будет дальше, теперь прошло. Он думал об Анне все время, но другие вопросы занимали его внимание. Он думал, что Анна никогда не найдет, не встретит человека, который мог бы не обмануть ее ожиданий, тех, о которых она писала в своих воспоминаниях. Для того, чтобы это произошло, – он повторял это себе много раз, – нужно столько удивительных совпадений, на что нельзя рассчитывать. Правда, под влиянием чувства, которое она могла бы испытать к какому-то человеку, эти требования Анны могли измениться, но это было бы с ее стороны – в какой-то мере – отказ от самой себя, искажение своего собственного образа, и оправдал ли себя этот отказ?
Анна сказала ему, что ей надо подумать несколько дней и что после этого она начнет писать вторую часть своих воспоминаний. Пьер чувствовал, – он не мог определить, с какого именно момента это началось, – что в жизни Анны наступает самый важный, как ему казалось, период. Но при этой мысли он не испытывал ни тревоги, ни волнения, которые были раньше.
Франсуа позвонил ему на службу, и Пьер условился встретиться с ним в кафе, как всегда. Он рассказал ему, что произошло за последнее время, и долго говорил о воспоминаниях Анны.
– Это написано, – так мне кажется, ты понимаешь, я плохой критик, я не берусь судить, – с удивительной свежестью, и, читая это, ты ясно представляешь себе все. Когда я это прочел, я подумал, – вот с кем мы имели дело, Франсуа, вот кого ты поднял с дороги. Разве это можно было тогда представить?
– Ну, представить можно было все, что угодно, – сказал Франсуа. – Можно было ставить себе самые разные вопросы, зная заранее, что ни на один из них не будет ответа. Но что с ней было потом, со времени ее приезда в Париж и до июня сорокового года?
– Она мне сказала, что начнет писать об этом через несколько дней.
– Собственно, почему ей просто не рассказать тебе об этом?
– Мне кажется, я это понимаю, – сказал Пьер. – Я убежден, у меня в этом нет ни малейшего сомнения, что она напишет правду обо всем. Но, насколько я себе представляю, когда она пишет, ей самой все становится яснее и вместо беспорядочных воспоминаний в смешанной и спутанной последовательности перед ней возникает отчетливо то, что было. Я думаю, кстати говоря, что у нее есть несомненные литературные способности.
– Теперь о другом, – сказал Франсуа. – Ты не обращался больше к психиатру?
– Откровенно говоря, мне кажется, что в этом нет надобности.
– Практической надобности – может быть. Но тебе не хотелось бы понять, как все это произошло и как это могло произойти?
– Конечно, хотелось бы. Но я сомневаюсь, что кто бы то ни было, будь это даже специалист, мог бы это объяснить. Почему ты об этом заговорил?
– Я недавно встретил именно такого специалиста, это мой товарищ по университету. Очень дельный человек, между прочим, хотя несколько увлекающийся. Мы с ним ужинаем завтра, и я хотел бы ему все это рассказать, мне интересно знать, что он скажет. Ты ничего не имеешь против?
– Нет, – сказал Пьер, – мне тоже интересно было бы узнать его мнение.
– Послезавтра я тебе позвоню, – сказал Франсуа.
Он ужинал со своим университетским товарищем на следующий вечер в ресторане, огромные окна которого выходили на набережную Сены. Когда подали кофе, Франсуа сказал:
– А теперь я тебе расскажу одну историю, это непосредственно по твоей части, и буду тебе благодарен, если ты мне скажешь, что ты об этом думаешь. Так вот. Началось это давно…
Его собеседник, еще молодой человек, с очень спокойными и очень внимательными глазами, – по его взгляду было видно, что он привык направлять мысль других людей и что он привык к их добровольному подчинению, – слушал Франсуа, не выражая ни недоверия, ни удивления. Франсуа кончил рассказ и вопросительно посмотрел на своего товарища. Тот сказал:
– То, что ты мне рассказал, это изложение ряда неправдоподобных фактов. Так, как ты это рассказываешь, это происходить не могло.
– Парадоксальным образом это не мешает тому, что все происходило именно так.
– Я, может быть, неудачно выразился. Я хотел сказать, что это мне кажется клинически невозможным. Было что-то другое, самое важное, чего ты не знаешь.
– И чего не знает никто?
– Это стоило бы выяснить. Тогда всему этому можно было бы найти объяснение.
– Ты думаешь, вообще говоря, что все может быть объяснено? Ты не думаешь, что существуют вещи, явления, по отношению к которым слово «объяснение» теряет смысл?
– Если ты станешь на этот путь, ты отказываешься от анализа и от того, что называется научным исследованием.
– Ни в какой степени, – сказал Франсуа. – Я только думаю, что количество явлений в жизни значительно превосходит количество тех понятий, которыми мы располагаем для того, чтобы эти явления определить. Мы можем идти от простого к сложному или от сложного к простому. Но если того, что мы хотим понять, нет ни среди простых, ни среди сложных явлений, которые вы знали? Почему ты говоришь, что это клинически невозможно?
– Я говорю, что это не могло происходить так, как ты это рассказываешь, тут чего-то не хватает. Как и почему она впала в то состояние, в котором она прожила несколько лет, какой шок мог вызвать это? То, что она пришла в себя после менингита… Она не упала ни разу во время болезни или до болезни?
– Не знаю, – сказал Франсуа, – надо спросить Пьера.
– Вот что касается Пьера, – сказал его собеседник, – тут все гораздо яснее.
– Что? – удивленно сказал Франсуа. – Яснее? Почему?
– Что он собой, по-твоему, представляет? Это твой старый товарищ, ты знаешь его давно, и ты мне рассказал приблизительно его жизнь. Что ты о нем думаешь?
– Это я тебе скажу, – ответил Франсуа. – Но мне интересно знать, что ты думаешь и почему тебе все так ясно?
– Это человек, у которого нет, как это говорится, резко выраженной индивидуальности.
Франсуа вспомнил статью о среднем французе.
– У твоего Пьера нет честолюбия, у него нет личной цели в жизни. В нем нет, если хочешь, какого-то творческого начала. Бели его оставить одного, он не будет знать, что с собой делать. Но у него, как у всех людей, есть душевная энергия, которую ему не на что направить. Он не может себя найти – поэтому он неизбежно идет к раздвоению личности. Он должен жить не для себя, а для кого-то другого – и в этом он находит удовлетворение. Ты понимаешь, говоря образно, он смотрит в эту чужую жизнь и только там он видит отражение самого себя – искаженное, неправильное, частичное, но все-таки отражение. Полноты образа тут нет, и его личные возможности наполовину парализованы. Но все это, конечно, не мешает ему быть отличным человеком с несомненными достоинствами.
Франсуа покачал головой.
– Ты со мной не согласен?
– То, что я с тобой не согласен, это не так важно, – сказал Франсуа. – В конце концов, может быть, ты его обрисовал правильно с точки зрения твоей собственной терминологии. Но эта терминология мне не кажется убедительной. Что такое раздвоение личности? И где граница между ее клиническим значением и творческой силой воображения, той самой, которая заставила Флобера сказать эти слова – ты их не можешь не помнить: «Мадам Бовари – это я!»? Что это, как не раздвоение личности, которое доходило до того, что у него была рвота, когда он описывал ее отравление? Но оставим искусство потому, что никакой анализ никогда не объяснит возможности появления таких людей, как Микеланджело, Дюрер, Шекспир, Толстой. Я тебе скажу, что я думаю о Пьере. Он не фанатик, не святой, он не из тех, кто готов посвятить свою жизнь уходу за прокаженными, он не склонен ни к какой экзальтации. Но он способен сделать то, чего мы с тобой сделать не можем, и именно потому, что в нем есть творческая сила, которую ты у него отрицаешь. Он способен создать и построить мир, ты понимаешь? Какую волю надо было иметь, чтобы сделать то, что он сделал! Какой огромный запас душевной силы! Если хочешь, он действительно живет не для себя. Но что значит жить для себя? И для кого, в конце концов, он строит тот или иной мир? Ты понимаешь, что это такое – победа над небытием?
– Без ее болезни и чего-то другого, чего мы не знаем, этой победы не было бы.
– Я в этом не уверен, – сказал Франсуа. – Я знаю только, что без него она до конца вела бы, вероятно, то жалкое животное существование, которого я был свидетелем.
– Мы все склонны совершать одну ошибку, – ответил приятель Франсуа. – Эта ошибка, о которой ты косвенно упомянул, – оставаться в пределах тех понятий, которыми мы оперируем, так, как будто бы не жизнь создает понятия, а понятия создают жизнь. Я лично всегда стремился этой ошибки избегать. Может быть, ты прав в своем суждении о Пьере, но я должен тебе сказать, что оно не очень противоречит тому, что я о нем думаю, – разница тут главным образом, как ты говоришь, терминологическая. Я говорю «раздвоение личности», а ты говоришь «построение мира», – но одно другого не исключает. То, что я думаю на основании моего опыта и очень долгих размышлений, повлекших за собой известные выводы, – я думаю, что в результате этой победы над небытием, как ты поэтически выражаешься, что меня удивляет, кстати, потому что ты журналист…
– Журнализм приучил меня к вульгаризации и упрощению, это верно, – сказал Франсуа, – но вне этого профессионального обязательства я оставляю за собой право на некоторую свободу выражений, которая в газетной статье на политическую тему была бы неуместна. Ты говоришь, что ты думаешь…
– Я думаю, что теперь, после того что он сделал, Пьер, может быть, наконец найдет себя.
На следующий день Франсуа подробно рассказал Пьеру об этом разговоре. – Да, она упала с кровати, я, может быть, тебе об этом не говорил? – сказал Пьер. – Я как-то ночью, сидя в кресле в ее комнате, заснул и проснулся от шума падающего тела. Она металась в бреду и упала на пол. Когда я ее поднял, она была без сознания. Но она и до этого была без сознания. Никаких повреждений, однако, на ее теле я не заметил и думаю, что их не было. В конце концов, может быть, это падение и вызвало повторный шок, кто знает?
Несколько изменив выражения, Франсуа повторил Пьеру то, что ему говорил его товарищ. Пьер пожал плечами.
– Мне все это кажется какой-то фантазией, – сказал он. – При чем тут раздвоение личности? Все это гораздо проще. Ты видишь рядом с собой несчастное существо, которое заслуживает лучшей участи. У тебя есть возможность это положение как-то изменить. Ты это делаешь – и больше ничего. Что тут особенного?
– Все зависит от того, как мы к этому подходим. То же самое положение можно представить себе иначе. Чья-то жизнь сложилась определенным образом. Если ты фаталист, ты скажешь, что так было суждено. Но ты с этим примириться не можешь, и ты хочешь заставить события идти не так, как они идут, а так, как они, по-твоему, должны идти. Ты действуешь таким образом против судьбы, ты начинаешь борьбу с ней.
– Ты меня извини, Франсуа, но у тебя все это приобретает, может быть помимо твоего желания, какую-то литературно-художественную форму. Какая тут борьба против судьбы? Ты просто, в меру твоих возможностей, кому-то помогаешь, и больше ничего. В одном я с тобой согласен: судьба часто бывает несправедлива, – если можно как-то связать эти понятия, судьба и справедливость. И вот, если тут ты можешь что-то сделать, то это, конечно, дает тебе известное удовлетворение.
– Видишь, ты сам себе противоречишь. Потому что ты все-таки хочешь изменить естественный ход событий.
– Восстановить, – сказал Пьер, – не изменить, Франсуа, а восстановить. И я могу тебе сказать без колебаний, что это, по-моему, стоит сделать.
Франсуа внимательно посмотрел на Пьера. Потом он сказал очень медленно:
– А если она теперь уйдет и ты ее потеряешь? – Для меня это было бы катастрофой, – сказал Пьер. – Мы с тобой уже об этом говорили. Но это ни в какой степени не будет значить, что я действовал неправильно. Кроме того, и ты и я, мы склонны к преувеличению. Наша роль, моя в частности, значительно скромнее, чем может показаться на первый взгляд. Ты ее поднял с дороги, я по отношению к ней выполнял в течение некоторого времени, скажем, долг фельдшера, и все это, конечно, не дает нам на нее никаких прав.
– Прав не дает, это верно. Но я думаю, что если ты ее спросишь, какую роль ты играл в ее жизни, то я сильно сомневаюсь, что она назовет ее скромной.
– Ей сейчас тоже трудно судить об этом объективно, – сказал Пьер.
Когда Пьера не было дома, Анна много раз подходила к телефону, хотела снять трубку и позвонить, но не могла на это решиться. Она знала, однако, что нужно было как-то действовать, нужно было наконец узнать очень важные вещи. Что произошло за эти годы? Где теперь Жак? Что теперь в Провансе? Обо всем этом она не имела представления. Она нашла в телефонной книге номер своей прежней парижской квартиры, но против него была теперь другая фамилия, значит, Жака там не было. Зато телефонный номер ее двоюродного брата, Бернара, и его адрес были те же, что до войны, и именно к нему нужно было, конечно, обратиться. Ей казалось, хотя она понимала, насколько это нелепо, что если она позвонит Бернару и узнает от него все, что произошло за это время, то это как-то может изменить то, что было теперь и от чего она не хотела и не могла отказаться.
Она думала обо всем этом, особенно вечером, когда ложилась в постель. В последнее время она стала плохо спать. Но это ее не раздражало, как раньше. Она знала это состояние, оно было таким же, как в начале ее жизни, когда ей было шестнадцать лет. Это было смутное ожидание, значения которого она тогда не понимала. Но теперь оно не вызывало у нее ни волнения, ни усталости. Несколько раз она видела один и тот же сон: ей снилось, что она поднимается по узкой горной тропинке, что она поднялась очень высоко и почему-то не может вернуться тем же путем назад. И когда она наконец добирается до вершины горы и боится посмотреть в ту пропасть, которая должна открыться перед ее глазами, она вдруг видит, что она в долине, что нет ни пропасти, ни гор, что все ровно и спокойно, что спускаются медленные сумерки и она знает, что ей недалеко до того места, куда она идет. Потом ей снились путешествия, поезда, пароходы, зыбь моря, и в этих снах не было чаще всего ни смысла, ни содержания, это были ощущения – ветер, врывающийся в окна вагона, вздрагивание колес на стыках рельс, размах волны, которую пересекал пароход.
Каждый вечер после ужина она подолгу говорила с Пьером. Но ни она, ни он не говорили о том, что было самым важным.
– Пьер, вы никогда не думали о том, что бы вы сделали, если бы были богаты?
– Нет, – сказал он улыбаясь. – У меня очень убогое воображение, и я об этом никогда не думал. Но, вы знаете, так как нет решительно никаких оснований полагать, что я когда-нибудь разбогатею, то в конце концов не так важно, что я не буду знать, как я использую то богатство, которого у меня не будет.
– Ну, а все-таки что бы вы сделали, если бы оно у вас было?
– Не знаю, – сказал Пьер, продолжая улыбаться. – Вероятно, растерял бы и чувствовал бы себя несчастным.
– И вы никогда не мечтали о возможности разбогатеть?
– Нет, – сказал он, – кажется, нет, не помню. Знаете, Мари, – он долго не знал, как ее называть, и говорил то Мари, то Анна, но потом стал опять называть ее Мари, – это, по-моему, не очень интересно. Когда я был мальчиком, я мечтал о далеких путешествиях. Но я никогда не думал в то время, что для этого нужны деньги.
– А потом вы все-таки путешествовали? Вы были за границей?
– Нет, – сказал он. – Я плохо знаю даже Францию. У меня никогда не было возможности поехать за границу.
Ложась в постель, она тушила свет, и тотчас же мысли и образы возникали перед ней так, точно они рождались только во тьме, точно свет мешал их появлению. Днем она нередко думала о том же, о чем она думала в начале ночи, но эти же мысли были несколько иными, недостаточно полными, не доведенными до конца. В темноте они приобретали другой характер, более углубленный и более ясный.
Еще некоторое время тому назад она думала, что, если бы она встретила Пьера на улице, она никогда не запомнила бы его лица. Теперь ей казалось, что она никогда не забыла бы его небольшие, широко расставленные глаза, линию его мягких губ, его улыбку, неуверенную и доброжелательную одновременно. У него были узкие плечи, маленькие руки и ноги, но она видела однажды, как он переносил без всякого усилия тяжелую швейную машину из одной комнаты в другую и все его движения отличались безошибочной точностью. Что еще удивляло Анну, это его необычайная память, он помнил все даты, все телефонные номера, помнил, когда именно происходили те или иные события. Когда она как-то сказала ему об этом, он ответил:
– Да, это какая-то механическая вещь, но ценности она, по-моему, не имеет. Можно все запомнить и ничего не понять. Тогда уж лучше меньше помнить и больше понимать.
Анна продолжала писать вторую часть своих воспоминаний. Но за несколько дней до того, как она ее кончила, она решила, что нельзя больше откладывать необходимых и неизбежных решений. Она написала и отправила своему двоюродному брату, Бернару, письмо, в котором сообщала, что она жива и здорова, что хотела бы с ним о многом поговорить и что в конце недели она позвонит ему по телефону. Все эти дни она была неспокойна и не могла скрыть своего волнения – настолько, что Пьер это заметил и сказал ей:
– Мари, мне кажется, что вы чем-то очень озабочены. Может быть, я мог бы вам чем-нибудь помочь?
– Нет, Пьер, спасибо, – сказала она. – Я знаю, что могу на вас рассчитывать.
– Во всем и всегда, – сказал он с непривычной для него твердостью.
Как-то вечером Анна сказала Пьеру:
– Пьер, я уже несколько дней думаю об одном предложении, которое я хотела бы вам сделать. Если вы с ним почему-либо не согласны, я, конечно, не буду настаивать.
– Да, да, конечно, – сказал он. – В чем дело?
– Вы не думаете, – сказала она; Пьер смотрел на нее, и ему вдруг показалось, что она точно всплывает перед ним из глубокого кресла, в котором она сидела, – вы не думаете, что мы, – «мы? – подумал Пьер, – она сказала „мы“?», – могли бы как-нибудь пригласить вашего друга Франсуа на ужин? В конце концов, я стольким ему обязана – вы мне это говорили много раз… Что вы скажете?
– У меня нет никаких возражений.
– И на этот раз ужин приготовлю я. Вы знаете, что я умею готовить?
– Нет, этого я не знал, но это меня не удивляет, – сказал Пьер со своей всегдашней мягкой улыбкой. – Когда вы хотите, чтобы он пришел?
– Завтра.
– Хорошо, я ему позвоню, – сказал Пьер.
Когда Пьер на следующий день вернулся со службы домой и вошел в столовую, он увидел, что на буфете стояла ваза с цветами, – с того дня, когда умерла его мать, в квартире Пьера никогда не было цветов. Стол был покрыт тяжелой и тугой скатертью, той самой, которая в прежнее время вынималась из шкафа только тогда, когда приезжала тетка Жюстина. На столе были те же праздничные приборы, – и Пьер невольно улыбнулся, глядя на них. Анна, стоявшая рядом с ним, спросила:
– Почему вы смеетесь?
– Это не имеет отношения к вам, Мари, – сказал Пьер, продолжая улыбаться. – Это призрак тетки Жюстины, о которой я вам рассказывал. Именно тогда, когда она к нам приезжала, моя мать так накрывала стол. Но я считаю, что вы поступили правильно – во всяком случае, Франсуа более достоин вашего внимания, чем тетка Жюстина была достойна внимания моих родителей.
– Ах да, ваша тетка Жюстина. Я недавно о ней думала, – сказала Анна. – Она, может быть, была не такой плохой женщиной, в конце концов. Вы склонны ее осуждать за ее многочисленные увлечения?
– Нет, – сказал Пьер, – это, я думаю, вещь второстепенная, хотя это были скорее коммерческие расчеты, чем увлечения. То, что мне представляется – с моей точки зрения – предосудительным, если это можно считать предосудительным, это ее непоколебимая вера в то, что самое главное на свете – это матерьяльные блага. Я этого не могу понять. Франсуа мне как-то сказал, что это, может быть, объясняется тем, что она начала свою жизнь в бедности, как вся моя семья. Но это, по-моему, объяснение недостаточное. Мне кажется, что скупость и жадность к деньгам – это что-то вроде душевного увечья, которое может быть и у бедного, и у богатого человека. Но вы знаете, я плохой судья в вопросах психологии, и если мне скажут, что я ошибаюсь, я не буду спорить. А теперь можно вас спросить, чем вы намерены кормить Франсуа?
– Кроликом, Пьер, – сказала Анна, – приготовленным так, как его делают у нас на юге. Не забывайте, что я южанка, и до последнего времени я никак не могла привыкнуть к Парижу.
Она вышла из столовой и направилась на кухню. Пьер посмотрел еще раз на накрахмаленную скатерть, спадавшую со стола кругловатыми, но точно обрисованными складками, так же, как она спадала в те далекие времена, когда приезжала тетка Жюстина, – и все эти последние годы его жизни возникли перед ним с необыкновенной отчетливостью и ясностью: три смерти – Жюстина, отец, мать, мир, в котором прошло его детство, смеющаяся женщина в зеленом платье, сидевшая на террасе кафе рядом с отцом, – Пьер видел перед собой ее круглое лицо и ее широкую улыбку – кто она такая? где она теперь? что с ней? – бессмыслица, холод и вонь – его воспоминания о войне, ласковые глаза матери и тяжелая печаль, которую он испытал, вернувшись с ее похорон, пустота того существования, которое он вел до поездки на юг, к Франсуа, и, наконец, все, что было связано с Анной, – ее первое появление в просвете двери, в сумерках, в лесу и ее слова – которые она только что произнесла, с которых началось и которыми кончилось это неудержимое движение воспоминаний, возникшее из звуков ее голоса и тугих складок скатерти на столе. Он ходил по столовой, ожидая, что Анна с минуты на минуту войдет в комнату, и думал вслух, шепотом произнося слова:
– Смысла, вероятно, не существует. Смысла нет, и нет, может быть, даже направления. Но какое это имеет значение, – шаги Анны приближались к отворенной двери столовой, – но какое это имеет значение, если…
– Теперь все готово, Пьер, – сказала Анна, входя в столовую. – Остается только откупорить вино.
Франсуа пришел к Пьеру пешком, после свидания с одним из своих товарищей на Монпарнасе. Был мягкий безветренный вечер, стоял июнь, было тепло. Франсуа находился в созерцательном настроении, что с ним бывало чрезвычайно редко в Париже, где он был постоянно занят мыслями о своей работе, о своих и чужих статьях, о денежных делах, о книгах, которые он должен был читать: все это отнимало время, и ему некогда было думать о другом, за исключением тех случаев, когда он встречался с Пьером. Он медленно шел по направлению к дому, где жил Пьер, не обращая внимания ни на прохожих, ни на уличное движение и думая о тех событиях, которые начались с приезда Пьера к нему на юг и кончились сегодняшним приглашением на ужин. Кто мог бы все это предвидеть? Он вспомнил разговор со своим университетским товарищем в ресторане: – Если бы не ее болезнь и еще что-то, чего мы не знаем… – А что, вообще говоря, мы знаем? Некоторые факты и их результаты. Но мы не знаем ни того, почему эти факты произошли, ни тех причин, которые их вызвали, мы даже не можем быть уверены в том, что во всем и всегда действует этот закон причинности. Потому что закон этот значит, что в таких-то и таких-то условиях непременно должно произойти то-то и то-то. Но когда все это относится не к математическим понятиям, не к тому, что можно измерить или взвесить, а к тому, природа чего нам неизвестна или почти неизвестна, то о каких законах может идти речь? Мы говорим: в нашем мире… Есть миллионы разных миров, и только бедностью нашего воображения можно объяснить то, что мы суживаем все это до пределов нашего убогого понимания. То, что произошло с Пьером и Анной…
Его мысли были на этом прерваны, потому что он дошел в эту минуту до дома, где жил Пьер. Когда он поднимался по лестнице на третий этаж, он вдруг подумал, что идет к людям, которых, в сущности, не знает. Он пожал плечами.
Ему отворил Пьер, такой же, казалось бы, как всегда. – У тебя такой вид, – сказал ему однажды Франсуа, – точно тебя только что доставили из химической чистки. – Но что-то в нем изменилось за эти последние дни. Франсуа через несколько минут понял, что именно: у Пьера больше не было того выражения постоянной неуверенности, которое Франсуа хорошо знал. Когда Пьер ввел его в столовую и Анна, встав с кресла, пошла ему навстречу, Франсуа испытал необыкновенное волнение. Его поразили правильные и тяжеловатые черты ее лица и несомненное физическое ее совершенство, которое угадывалось с первого взгляда, и то, как она была одета – очень просто и хорошо. Но главное, это было выражение ее глаз, в котором, как ему показалось, отражалось спокойное сознание того, что все должно быть так, как оно есть, и что это не может быть иначе, что-то безошибочно найденное раз навсегда. Все это Франсуа не мог бы сказать в нескольких словах, и какие бы слова он ни нашел, за ними всегда оставалось бы что-то, чего они не могли ни выразить, ни определить.
В том ощущении, которое он испытывал, была непривычная и почти мучительная сложность. Он привык говорить с самыми разными людьми, никогда не искал слов, никогда не терялся и давно выработал в себе презрительно-снисходительное отношение к большинству тех, кого он встречал, – исключение составляли его немногие близкие друзья. Но сейчас, стоя перед Анной, он не находил слов и молчал, и это продолжалось так долго, что становилось тягостным. Потом он сказал:
– Извините меня, пожалуйста. Я… я знал со слов Пьера… всё… Но это настолько… я хочу сказать… вы меня понимаете… Дайте мне время прийти в себя, хорошо?
Анна улыбнулась и вышла из комнаты. Пьер сказал:
– Я понимаю, какое впечатление все это на тебя могло произвести. Я ее вижу каждый день, и то иногда мне кажется, что все это какой-то мираж, что этого не может быть. Ты знаешь, я не могу к этому привыкнуть.
– Я думаю, что ты, может быть, никогда к этому не привыкнешь. Ну вот, сейчас мне стало легче.
Втроем они сели за стол. Пьер налил вино в бокалы. Франсуа сказал:
– Я хочу произнести тост.
В его глазах было такое выражение, точно он здесь, в этой комнате, смотрел на что-то, чего не видели ни Анна, ни Пьер. Он сказал:
– Я пью за тех, кто верит в чудеса. Я пью за то, что может казаться абсурдом, и за торжество этого абсурда над действительностью. Я пью за непобедимую силу иррациональных и нелепых чувств, которые во всем противоречат так называемому здравому смыслу. Я пью за пренебрежение к элементарным законам анализа. Я пью за глубину невежества тех, кто думает, что все можно понять и объяснить, и убожество тех, которые им верят.
Потом он остановился и прибавил:
– Я мог бы еще долго говорить на эту тему. Но я не сказал главного – того, что я пью за возвращение Анны в наш мир, и это важнее всего остального. Извините меня – я напоминаю вам о том, что прошло и что должно быть забыто.
Анна сказала:
– Вы напрасно извиняетесь, Франсуа, – вы позволите мне называть вас по имени? Я говорю – напрасно, потому что мне нечего забывать, я не помню этого периода времени, который вы имеете в виду. Я вспомнила то, что было до этого, и я помню то, с чего началась моя теперешняя жизнь. И это все.
– Тем лучше, – сказал Франсуа. – Слава Богу, что это так и что пути Господни неисповедимы.
– Кончится тем, что ты будешь верить в Бога, Франсуа, – сказал Пьер.
– Может быть, – сказал Франсуа, – все может быть. Я не люблю узурпаторов веры, то есть тех представителей духовенства, которые считают, что у них есть монополия на понимание христианства, и которые хотят объяснить мне, как именно я должен толковать евангельские истины, – и у которых для этого не больше данных, чем у меня самого или у кого-либо другого, и никто их не мог уполномочить на это. Но вера в Бога, это совсем другое.
Когда был подан кролик, от которого шел особенный острый аромат, и Франсуа съел первый кусок, он поднял голову и сказал:
– Кто приготовил это блюдо?
– Я, – сказала Анна.
– Что это такое?
– Как что? Кролик.
– Невероятно, – сказал Франсуа. – Как вы это делаете? Теперь я понимаю некоторые вещи. Вы знаете, у меня есть коллега, который ведет отдел уголовной хроники. Он, кроме того, специалист по юридическим вопросам. Но все это его мало интересует. Главное для него – это его статьи о гастрономии, которые он печатает под псевдонимом в другой газете. Они действительно написаны с чувством. Я вам могу привести цитаты. «После долгого перерыва я вновь вернулся в ресторан „Белая Цапля“, не зная, что за то время, в течение которого я там не бывал, он переменил владельца. Но даже если бы мне этого не сказали, я сразу догадался бы об этом. Ресторан не стал хуже, нет. Но в рагу из телятины, которое я заказал, не было больше той непосредственности, той, я сказал бы, неподдельной искренности, которой оно отличалось раньше. Сельдерей мне показался бледноватым, и даже вину не хватало несколько наивной, но неопровержимой убедительности, о которой я сохранил благодарное воспоминание. Увы, это было уже не то. Я не мог бы отрицать того, что при новом владельце „Белая Цапля“ отличается известной кулинарной элегантностью. Но я не нашел больше той гибкой и сладостной постепенности переходов и оттенков, которая в прежнее время создала заслуженную славу этому ресторану». Мне до сих пор казалось, – сказал Франсуа, – что эта кулинарная лирика – просто вздор. Но теперь я понимаю моего коллегу – попробовав этого кролика.
В этот вечер Франсуа говорил больше всех. Он искренне любил Пьера и находил своеобразное удовольствие в мысли о том, что Пьер был способен на то, чего он, Франсуа, никогда не мог бы сделать. Теперь ему казалось, что его собственная жизнь была бедной по сравнению с жизнью Пьера и что это было одновременно печально и естественно. Франсуа принадлежал к числу людей, которым чуждо чувство зависти. Отчасти это объяснялось тем, что у него было сознание своего превосходства над другими людьми, ему всегда казалось, что он умнее их и что он понимает то, чего они не могут понять.
Анна сказала:
– Пьер мне много говорил о вас. Он сказал, в частности, что вы журналист и мизантроп.
Франсуа обратился к Пьеру:
– Ты это сказал, Пьеро?
– Ты не согласен с этим определением?
– Согласен, – сказал Франсуа, – я даже нахожу, что это очень верная характеристика.
– Можно вас спросить, – сказала Анна, – вы журналист, потому что вы мизантроп, или вы мизантроп, потому что вы журналист?
– Кажется, О'Генри как-то писал, что благотворители обычно бывают богатыми людьми и что он задает себе вопрос – они благотворители, потому что они богаты, или они богаты, потому что они благотворители? Я мизантроп, потому что я журналист.
– Почему? – сказал Пьер. – Мне кажется, что эта профессия не хуже других и не непременно должна предрасполагать к мизантропии.
– То, что ты говоришь, доказывает твою невинность в этой области, – сказал Франсуа. – Есть, конечно, разные виды журнализма. Можно писать о велосипедных гонках – для этого достаточно знать азбуку и иметь приблизительное представление о грамматике и синтаксисе. Можно писать о любовных приключениях кинематографических артисток – для этого нужен умственный и душевный багаж горничной или портнихи, – и это тоже называется журнализмом. Это, конечно, дно профессии. И все-таки самое печальное – это участь журналиста, который пишет политические комментарии, как я, например. – Почему?
– Ну, во-первых, потому, что ты всегда должен повторять общие места – необходимо, чтобы распределение доходов было более справедливым, чтобы государство заботилось о бедных, чтобы банкиры платили больше налогов, чем подметальщики улиц, чтобы правительство тратило народные деньги менее нелепо, и так далее. Чтобы во внешней политике правительство помнило, что национальные интересы страны требуют… Ну, я не буду повторять содержание тех передовых статей, которые можно прочесть каждый день во всех газетах. Но дело даже не в этом. Один очень умный человек сказал, что, когда он начинал свою политическую карьеру, он думал, что он может отдать своей стране все свои способности. Но очень скоро он понял, что если он в своих политических выступлениях не будет оставаться на уровне среднего лавочника, то никакой карьеры он не сделает. И, уверяю вас, что это не преувеличение и не парадокс. Было бы естественно, казалось бы, думать, что у власти должны стоять лучшие люди страны. В действительности это совсем не так. Когда вы сталкиваетесь с этими людьми, когда вы находитесь с ними в постоянном контакте, вас иногда охватывает отчаяние от их умственного и нравственного убожества. Конечно, этого нельзя сказать обо всех, есть и исключения, но чрезвычайно редкие. И когда вы подумаете, что от этих людей зависит иногда участь миллионов других и что этого нельзя изменить, то ничего печальнее быть не может. Ты говоришь, революция – но после революции к власти приходят другие люди, которые не лучше тех, кто был раньше, а иногда еще невежественнее и глупее, потому что фанатичнее, а фанатизм – это самый опасный вид глупости.
– Картина у тебя получается, по-моему, слишком мрачная, – сказал Пьер. – Есть все-таки, по крайней мере на Западе, известная свобода, есть выборы, есть возможность протеста. И есть миллионы людей, которые благополучно живут всю жизнь и благополучно умирают в любой стране. Что тебе еще нужно?
– Конечно, – сказал Франсуа. – И все это несмотря на существование правительства, администрации и государственной власти. Ты меня пойми, я не анархист и то, что я говорю, меньше всего носит политический характер. Я совсем не противник республиканского режима, например. То, что я говорю, это не мнение, это констатирование существующего порядка вещей.
– В чем, по-твоему, выход из этого положения? В прогрессе и надежде на лучшее будущее?
– Нет, в это я мало верю, – сказал Франсуа. – Мне кажется, выход в другом: сосредоточить свое внимание на том, чтобы построить возможно лучше свою личную жизнь, чтобы оградить себя, насколько это возможно, от вмешательства этого государственного аппарата и постараться забыть о его существовании. Есть столько замечательных вещей, есть искусство, есть эмоциональная глубина человеческих чувств – вот что важно, вот в чем нужно жить.
– Это уже не мизантропия, – сказала Анна.
– У меня мизантропия не сплошная, – сказал Франсуа. – Она распространяется только на некоторые области жизни, к сожалению, довольно обширные. Но оазисы все-таки есть, и цель человеческой жизни, мне кажется, заключается в том, чтобы создать себе свой собственный душевный оазис. Это, конечно, трудно, но это единственное, ради чего стоит жить. И для этого нужно многое забыть. Надо забыть, что такой-то министр раздражающе глуп, надо забыть, что существуют газеты, реклама, дурной вкус ночных кабаре и мюзик-холлов, разные виды проституции – политической, литературной, театральной, кинематографической, – надо все это забыть и помнить только о положительных вещах. Надо забыть о плохих книгах и плохих авторах и помнить только о хороших, надо забыть об изменниках и помнить о героях, надо забыть о моральном сифилисе, который разъедает общество, и помнить о миллионах людей, которые им не затронуты, надо забыть о Торквемаде и помнить о Франциске Ассизском. И тогда, вероятно, можно жить настоящей человеческой жизнью, а не задыхаться каждый день от отчаяния и презрения. Но это дано не всем. У меня этого никогда не будет, и вот почему я не могу не быть мизантропом.
– Выходит, что это вопрос личной удачи, – сказал Пьер.
– Удачи, характера, душевного склада. Вот у тебя, Пьеро, этот оазис существует, ты таким создан. А я не такой, и это очень печально.
– Я с вами не согласна, Франсуа, – сказала Анна. Она остановилась на несколько секунд, ища слова. – Допустим, что ваш мрачный взгляд на вещи совершенно оправдан. Но это отрицательное суждение о многих вещах – это только одна часть вашей задачи, вашего назначения на земле. Вы должны, мне кажется, и у вас для этого есть все данные, это преодолеть и создать для себя самого какую-то положительную философию, которая была бы важнее, чем эта отрицательная оценка.
– Это мне напоминает спор блаженного Августина с Пелагием о благодати, – сказал Франсуа. – Но Пелагий еретик, как вы знаете. Да, конечно, нужно было бы это преодолеть. Но не все это могут. Что ты думаешь об этом, Пьер?
– Конечно, не все, – сказал Пьер. – Но ты, я думаю, – больше, я уверен, – ты это можешь. И если тебе кажется, что ты не можешь, это значит, что ты плохо себя знаешь. На блаженного Августина я ссылаться не могу, так как читал только его «Исповедь» и никак не мог отделаться от какого-то странного чувства: он всюду пишет – да, я грешен, но Ты, Господи, Ты знал это – и так далее – так, точно у Господа Бога было только одно занятие – следить за тем, что делает или чего не делает блаженный Августин.
Был уже поздний вечер, а Франсуа все не уходил и думал о том, что он никогда и нигде не чувствовал себя так свободно и хорошо, как после этого ужина у Пьера. Он смотрел на Анну и Пьера и не мог найти слов, чтобы определить то сложное чувство, которое он испытывал при этом, чувство, в глубине которого было что-то похожее на начало нового понимания жизни, о котором он до сих пор не думал.
Он, наконец, попрощался и ушел. В перспективе улицы фонари уходили вдаль, и ему показалось, что это было похоже на то, как если бы они были остановлены в полете через темный воздух, на высоте третьего этажа. Он прошел несколько шагов – и вдруг все начало ему казаться призрачным и неправдоподобным, потому что только в призрачном и совершенно неправдоподобном мире могло произойти то, что произошло с Анной и Пьером.
Вторую часть своих воспоминаний Анне было гораздо труднее писать, чем первую. Она хотела сначала рассказать обо всем сравнительно коротко, изложив только факты и умолчав о том, о чем, в сущности, можно было и не говорить. Но потом решила, что не может так поступить по отношению к Пьеру. Она решила, что он должен знать о ней все, чтобы не осталось ничего недосказанного. Она подробно описала все, что касалось ее замужества, свою жизнь с Жаком, свои преждевременные роды, свою глубокую душевную подавленность, свои жалкие – как она их называла – попытки найти счастье или видимость любви на стороне, то, как в течение последнего года ее брака она почти не выходила из своей комнаты.
Она писала, что именно тогда она поняла, как ей казалось, что ее длительное ожидание той полноты жизни, о которой она мечтала столько лет, и ее надежда на это были основаны на чудовищной ошибке: она думала, что все это существует не только в ее воображении, но и в действительности. Но потом она убедилась, что этого не было и что этого нельзя найти. Ей было, как она писала, трудно жить, трудно говорить с людьми, она не могла привыкнуть к той атмосфере неизменного и безвыходного непонимания, которая была характерна для ее отношений с Жаком, самые простые вещи утомляли ее – и, в конце концов, это состояние было не лучше того, в каком нашел ее Пьер. И в том ощущении конца света, которое она испытывала тогда, попав под бомбардировку, было нечто одновременно трагическое и утешительное, и у нее было впечатление, что гибнет мир, о котором, может быть, не стоит жалеть.
Опять, как в прошлый раз, она дала свою тетрадь Пьеру вечером, после ужина. Она сказала:
– Я написала все, Пьер, – то, о чем обычно не говорят и не пишут. Я не знаю, что вы подумаете об этом.
И опять, как в прошлый раз, Пьер не спал эту ночь. В его памяти возникали все подробности воспоминаний Анны о второй части ее жизни. Он старался понять каждое ее душевное движение, и чем больше он думал об этом, тем больше ему казалось, что, в сущности, противоречие между первой и второй частью жизни Анны носило искусственный характер. Она не изменилась, думал он, изменились только внешние условия, и изменились так, что это грозило ей гибелью. – Она просила хлеба, и ей дали камень, – шептал он, лежа в кровати с открытыми глазами. – Как ей это объяснить?
Когда он увидел ее утром, он сказал:
– Во второй части ваших воспоминаний есть очень печальные вещи, которых нет в первой. Но в них, мне кажется, нет ничего, в чем вы могли бы себя упрекнуть. Мы поговорим об этом, хорошо?
В этот день, первый раз за все время, она пошла провожать его до двери. И когда он был на пороге, она вдруг схватила его руку и крепко сжала ее. Ему показалось, что он теряет сознание. Он обернулся и посмотрел на нее.
– Идите, Пьер, – сказала она шепотом, – мы поговорим вечером.
Когда Пьер ушел, она вспомнила, что была пятница, конец недели, и что если Бернар получил ее письмо, он должен ждать ее звонка. Она подошла к телефону и набрала его номер.
– Алло! – сказал далекий, как ей показалось, голос Бернара.
– Здравствуй, Бернар, – сказала она, – это я, Анна.
– Анна! – закричал он. – Анна! Это действительно ты? Но это невероятно! Что с тобой было? Мы все считали тебя погибшей. Где ты? Что с тобой?
– Я тебе это расскажу, – сказала она спокойным голосом, которому сама удивилась. – Но для этого мы должны встретиться. Я не хочу приходить к тебе, я предпочитаю кафе.
– Где угодно, когда угодно, – сказал он.
– Сегодня в четыре часа в том единственном кафе, которое рядом с твоим домом, если оно еще существует.
– Да, да, – поспешно сказал он. – Я буду тебя ждать. Я просто не верю своим ушам.
Бернар был инженер, так же как и Жак. Он изменился за эти годы, пополнел, стал как-то важнее, чем был раньше, и потерял тот юношеский облик, который помнила Анна. Войдя в кафе, она сразу увидела его и подошла к его столику. Он быстро поднялся и крепко обнял ее.
– Это чудо, Анна, – сказал он. – Постой, дай на тебя посмотреть. Что-то в тебе изменилось. Глаза, Анна, у тебя другие глаза. В остальном ты как будто такая же.
– Мне надо задать тебе несколько вопросов, – сказала она.
– Прости меня, пожалуйста, – сказал он, – ты не думаешь, что прежде чем задавать мне вопросы, ты могла бы сказать, что с тобой случилось и где ты была все это время?
– Это я тебе скажу Но я хотела бы прежде всего узнать, жив ли Жак и где он, если он жив.
– Жив, был в плену, – сказал Бернар. – Потом его все-таки выпустили и он вернулся в Париж. Его завод делал поставки для оккупационной армии. Жак тут был совершенно ни при чем, но потом, ты понимаешь, для него создалось довольно неприятное положение и он уехал из Франции. Он теперь представитель своего предприятия в Южной Америке и большую часть времени живет в Аргентине. Он очень изменился, особенно за время плена, у него теперь взгляды совершенно другие, – ты помнишь, каким он был ревностным католиком? Ничего от этого не осталось. Он там, в Аргентине, живет с какой-то женщиной, от которой у него ребенок, сын. Твой дом в Провансе, – это, по-моему, важнее, чем Жак, – в том же виде, как раньше, только у сторожа другая собака. Все твои дела ведет наш нотариус, старик Видаль, – ты помнишь его? Он же содержит дом, он все очень неплохо устроил, так что ты, в общем, обеспечена. Мы все считали тебя погибшей. Но когда я говорил об этом с Видалем, он мне заявил, что пока нет неопровержимых доказательств того, что ты нас «покинула окончательно», как он выразился, он будет действовать так, как если бы ты была жива, но находилась во временном отсутствии.
Бернар был любимым племянником отца Анны. В ранней своей молодости он не отличался примерным поведением, крупно играл в карты, водился с сомнительными людьми, пил, проводил ночи в кабаках и все никак не мог угомониться – до того, как после очень крупного скандала он дал отцу Анны слово вести себя иначе и с этого дня изменился: стал усердно учиться, сдал все экзамены и поступил на службу, где прекрасно себя зарекомендовал. – Вот говорят, что метаморфоз больше не бывает, – сказал после этого отец Анны. – Очень даже бывают. То, что случилось с Бернаром, в своем роде не менее удивительно, чем то, о чем рассказывается в греческой мифологии.
Анна помнила Бернара – он был старше ее на пять лет – сначала мальчиком, потом юношей, он часто проводил лето у ее родителей; он учил ее играть в теннис и плавать, и она сохранила о нем самое лучшее воспоминание. В последние годы, после своего замужества, она встречала его очень редко, – когда он как-то был у нее и Жака в их парижской квартире и Жак весь вечер развивал свои теории, Бернар потом сказал Анне:
– Он страшный ханжа, твой муж, как ты могла выбрать такого человека? Это какой-то ходячий молитвенник, а не мужчина.
– Теперь ты мне скажи, что было с тобой и куда ты исчезла? – сказал Бернар. – Все, что я знаю, это что, когда к Парижу подходили немцы, ты села в автомобиль и уехала. После этого никто никогда не видел ни тебя, ни автомобиля.
– Ты знаешь, Бернар, это такая страшная вещь, – страшная и неправдоподобная, – что когда я думаю об этом, я просто теряюсь. Как это тебе рассказать? Я даже не могу сказать, что я погибла. Меня больше не было. Та самая Анна, которую ты знал столько лет, с которой ты играл в детстве, перестала существовать, умерла, если хочешь. И эта смерть продолжалась все эти годы, до самого последнего времени.
– Смерть не может продолжаться, Анна. Смерть наступает один раз.
– Это так и было бы со мной, если бы…
– Если бы что?
– Нет, – сказала Анна, – я начну сначала. Ты помнишь аббата Симона?
– Ну как же, – сказал Бернар. – «Дитя мое, вы должны понять…» Но при чем тут аббат Симон?
– Я вспомнила о нем потому, что он объяснял мне смысл Апокалипсиса. И вот последнее, что я видела до той минуты, после которой я перестала существовать, я хочу сказать, я, как Анна Дюмон, – это было похоже на апокалипсический конец света. И вот…
Она подробно рассказала Бернару о том, что с ней произошло. Ни она, ни он не замечали, как шло время. Когда Анна кончила говорить, был уже десятый час вечера.
– Это нельзя назвать иначе как чудом, – сказал Бернар. – Значит, все эти годы, когда мы ломали себе головы над совершенно бесплодными догадками о том, как и где ты могла погибнуть, ты жила там, в этом домике в лесу, не зная, кто ты такая, и не понимая даже, что ты продолжаешь существовать. Но чудо в том, что нашелся человек, который вернул тебя к жизни. Он что – врач? Он богат? Кто он такой?
– Он бухгалтер по профессии, никакого состояния у него быть не может. Ты думаешь, что это имеет какое-нибудь значение?
– Нет. Я думаю, что это не имеет ни малейшего значения, – сказал Бернар.
И только тогда Анна взглянула на стенные часы и увидела, что они показывали половину десятого.
– Я должна идти, – сказала она. – Я тебе позвоню на днях, и мы продолжим наш разговор. – Она быстро вышла из кафе и поехала домой.
Пьер плохо понимал то, что ему говорили в тот день. Внешне это никак не отражалось на нем, и этого не заметил ни один из его сослуживцев. Но все, что он слышал и воспринимал, доходило до него заглушённым и едва понятным, теряясь в том воспоминании необыкновенной силы, которое не покидало его, – рука Анны, сжимающая его руку. Он все время продолжал чувствовать этот горячий зажим ее сухих и сильных пальцев, и в этом ощущении глохли голоса и звуки вокруг него. Он ушел со службы раньше, чем обычно.
Он вошел в квартиру и сразу почувствовал, зная, что не может ошибиться, что Анны нет. Было пять часов дня. В это время она всегда была дома. Не понимая, что он делает, не понимая, зачем он это делает, он закричал:
– Мари! Где вы? Мари!
Он быстро вошел в ее комнату. Все было в таком виде, как будто она только что была тут. Может быть…
Он сел за стол и охватил голову руками. Она сказала – мы поговорим вечером, – значит, она не собиралась уходить. Но может быть, это было нечто вроде прощания, так же, как то, что она сжала его руку, может быть, это были ее последние слова и последнее движение?
У него болело сердце. Может быть, с ней случилось несчастье? Она могла упасть на улице, попасть под автомобиль. Нет, это все-таки было маловероятно. С другой стороны, если бы она не решила уйти, ее не могло бы не быть дома в этот час. Но почему она даже не оставила ему записку, – несколько слов, – разве он не заслужил этого? Боль в сердце мешала ему думать. Он встал, сделал несколько шагов по комнате и сел в то кресло, в котором обычно сидела она. В конце концов, на что он мог рассчитывать? Какое он имел право на что-либо рассчитывать? И что могло быть, в конце концов, естественнее, чем ее возвращение в тот мир, где она раньше жила? Пьер, однако, знал рассудком и чувствовал всей душой, что этого не могло быть. Кроме того, Анна не могла принять такого решения и даже не сказать ему об этом, – Анна, которая с такой искренностью и таким бесконечным доверием к нему рассказала ему в своих воспоминаниях всю свою жизнь, Анна, – ее изменившийся после болезни голос, теплый взгляд ее глаз, ее медленное и неудержимое приближение к нему, о котором он старался не думать, но которого он не мог не чувствовать, – нет, Анна не могла уйти. Но что же в таком случае могло произойти? Что можно было сделать? Где ее можно искать? Единственное, что оставалось, это ждать. Но ему казалось, что на это ему не хватит сил.
Потом наступило состояние, похожее на душевное оцепенение. Некоторое время он не думал больше ни о чем, ему было больно, и он даже не мог бы сказать, где именно он чувствовал эту боль, – она была всюду. Затем он опять встал, сделал несколько шагов и снова сел в кресло. Он вдруг увидел перед собой Анну, такой, какой она была теперь, ее лицо с тяжеловатыми чертами – ему вдруг вспомнились эти слова ее отца, – с теплым взглядом ее глубоких глаз, ее улыбку и услышал опять ее незабываемый шепот: мы поговорим об этом вечером, Пьер. Она имела право действовать так, как она хотела… Анна Дюмон, которая просто никогда не знала бы о его существовании, если бы не эта ее многолетняя душевная смерть и необыкновенное количество удивительных совпадений. Если бы не это… В конце концов, он, Пьер Форэ, на что он мог претендовать? Он думал об этом и в то же время чувствовал, что все эти соображения были совершенно вздорными, что все было не так. Позвонить в комиссариат полиции? Он знал, что ему оттуда ответят: «Подождите несколько дней, какие у вас основания думать, что с ней что-то случилось?»
Он знал, что Анна и все чувства, ощущения и мысли, которые были с ней связаны, это был мир, вне которого для него ничего не существовало. Бели бы этого мира не стало, его жизнь не имела бы никакого смысла ни для других, ни для него самого. Он сделал то, что он должен был сделать, и на этом его роль была кончена. Теперь он был больше не нужен. У него была бедная жизнь, потом перед ним возник необыкновенный и блистательный мираж, который ему было суждено увидеть, почувствовать и понять, – Анна и ее возвращение из небытия, – но в котором ему не было места. Все было ясно, все было естественно, и даже если в этом было то, что лишало его собственную жизнь всякого смысла, это ничего не меняло и это возвращение Анны было несравненно важнее, несравненно значительнее, чем его существование или прекращение его существования.
В комнате было давно темно, он не подумал о том, чтобы зажечь свет. На смутно белеющем циферблате стенных часов стрелки показывали без четверти десять. Теперь было ясно, что Анна не вернется. Но может быть, она завтра позвонит ему? Может быть, она напишет ему? Может быть, она объяснит ему… и он скажет ей… Может быть…
С необыкновенной отчетливостью он услышал, как поворачивается в двери ключ. Он повернул голову. С порога голос Анны сказал:
– Пьер, вы здесь?
Вместо ответа она услышала глубокий, хриплый звук, похожий, как ей показалось, на сорвавшийся стон.
– Пьер, что с вами? – закричала она. Она зажгла свет. Пьер сидел за столом, опустив голову, плечи его вздрагивали. Она подошла к нему, теплая ее рука обняла его. Она сказала:
– Теперь все кончено, Пьер. Я вас больше никогда не оставлю.
Он чувствовал ее руку на шее и прикосновение ее тела. Он не мог сказать ни одного слова. Он поднялся со стула и увидел так близко, как никогда, ее глубокие глаза.
– Да, Пьер, – сказала она, – да. И если бы было нужно опять все начинать сначала, зная, что вы придете за мной, я бы не колебалась ни минуты.
– Я бы тоже не колебался ни минуты, – сказал Пьер.
Это были первые слова, которые он произнес после того, как она вошла в квартиру.
Эвелина и ее друзья*
Я впервые услышал игру этого удивительного пианиста, – это был пожилой человек с круглой головой, бритым лицом и выцветшими глазами, – в маленьком ресторане с огромными, во всю стену, окнами, над морем, на Французской Ривьере. На берегу росли неподвижные пальмы, под рестораном тихо плескались невысокие волны. Был уже довольно поздний час, и, кроме моего столика, был занят еще только один, за которым сидели двое влюбленных, атлетический молодой человек с вытатуированным якорем на левой руке и полноватая девушка лет двадцати. Пианист играл, явно не обращая на нас никакого внимания. Я думал потом, что если бы его попросили повторить еще раз ту же самую последовательность мелодии, он, конечно, не мог бы этого сделать – это была наполовину его собственная импровизация. Время от времени я узнавал обрывки знакомых мотивов, но они тотчас же сменялись новыми сочетаниями звуков, которых никто не мог предвидеть. Я сидел перед стаканом оранжада, в котором давно растаял лед, и тщетно старался себе представить, что именно, какое чувство непосредственно предопределило в этот вечер ту смену звуков, которой я был единственным слушателем – потому, что двое влюбленных были настолько явно поглощены иллюзией своего собственного счастья, что их впечатления были, вероятно, просто автоматическим раздражением слуха, лишенным иного значения. В небольшом заливе отражались огни извилистой дороги, на поворотах которой вспыхивали и гасли фары автомобилей. Все окна ресторана были отворены, струился теплый ночной воздух, и во всем этом была обманчивая убедительность, так, точно мир, в котором мы были осуждены жить, был чем-то похож на этот вечер над морем – пальмы, вкус холодного оранжада, запах воды и это звуковое движение под смещающимися клавишами рояля. Я слушал эту музыку и думал, что сейчас в тысяче километров отсюда, в моей парижской квартире с наглухо затворенными ставнями, письменный стол медленно покрывается пылью и что теперь наконец после многих месяцев напряженной работы я могу забыть о призраках, которые столько времени и так упорно занимали мое воображение. Это были персонажи книги, которую я должен был писать, и в течение этого долгого периода я постоянно был настороже, чтобы не спутать даты, не ошибиться в часе или месте, чтобы придать правдоподобность очередной насильственной метаморфозе, когда нужно было закрыть глаза, забыть обо всем, освободиться от ощущения своего собственного тела и, погрузившись в далекую глубину чего-то потерянного бесконечно давно, вернуться к действительности – на несколько страниц – восьмидесятилетним стариком с хрустящими суставами или отяжелевшей женщиной, которая ждет ребенка. Теперь все это было кончено, и одновременно с чувством избавления я ощущал ту счастливую пустоту, о которой я забыл за это время и в которую сейчас вливались эти мелодии, возникавшие под пальцами пожилого человека в смокинге, сидевшего за роялем. Был уже двенадцатый час вечера, когда вдруг, – я даже машинально взглянул на часы, – до моего слуха дошло несколько аккордов знакомого романса Шумана. Но их звуковая тень скользнула и исчезла, потом опять началось что-то другое. Я подумал тогда, что самое важное сейчас было все-таки именно это – звуковое путешествие в неизвестность над этим южным морем, в летнюю ночь, вслед за пианистом в смокинге и что все остальное – Париж и то тягостное, что было с ним связано, сейчас непостижимо растворялось – улицы, крыши, дома – в этом небольшом пространстве, над которым возвышался стеклянный потолок. В эти часы, вне этого не существовало ничего. И в этом исчезновении огромного и далекого города было нечто одновременно сладостное и печальное. Таков был скрытый смысл того, что играл пианист. Таким, во всяком случае, он мне казался. Я думал именно об этом, когда в прозрачно темном четырехугольнике распахнутой стеклянной двери показалась фигура Мервиля.
Его появление здесь было для меня совершенной неожиданностью, я думал, что он в Америке; год тому назад он уезжал туда после своей женитьбы, и я помнил, как он говорил мне о начале новой жизни. Я знал его давно и хорошо, мы были с ним вместе в университете, где он сдавал ненужные ему экзамены по истории философии и литературы, после чего он занялся коммерческими операциями, довольно успешными. Его склонность к отвлеченным предметам, однако, не была случайной, потому что он периодически увлекался то той, то другой теорией, и это каждый раз стоило ему денег и сопровождалось обычно неприятностями. Все его существование было сменой этих бурных и чаще всего бескорыстных увлечений. Он переходил от искусства к астрономии, от астрономии к архитектуре, от архитектуры к биологии, от биологии к изучению персидских миниатюр. В ранней молодости он мечтал быть боксером, дипломатом, ученым, полярным исследователем. В результате всего этого он знал множество разнородных вещей, которые ему не удавалось соединить в одну сколько-нибудь стройную систему. Но помимо этого, он всегда был верным товарищем, был неизменно щедр и великодушен, и когда я как-то упрекал его за то, что он дал довольно крупную сумму денег тому, кому ее не следовало давать, он пожал плечами и ответил, что при всех обстоятельствах на похороны всегда останется, а если не останется, то это тоже неважно. Он был женат несколько раз, каждый раз неудачно, и ему неизменно не везло, как он говорил, ни в браке, ни вне брака. Он никогда не хотел согласиться с тем, что главная причина этих неудач заключалась в нем самом, а совсем не в том или ином стечении обстоятельств. По отношению к женщинам он всегда вел себя так, точно для него соединить свою судьбу с той, о которой в каждом отдельном случае могла идти речь, было ничем не заслуженным счастьем. Каждой из них он внушал одну и ту же мысль – что в ней для него сосредоточены все сокровища мира, а что он сам бедный простой человек, пользующийся случайным расположением этой удивительной женщины. Такое представление, – которому он никогда не изменял и в котором, как я говорил ему, было бы, вероятно, нетрудно найти признаки клинического морального извращения, – никогда и ни в какой степени не соответствовало действительности: он был гораздо умнее и душевно богаче всех своих женщин, вместе взятых. Кроме того, у него было приятное лицо с темными и мягкими глазами, он был прекрасно сложен и силен физически и был вдобавок богат, что в его глазах не имело никакого значения, но что чаще всего играло известную роль для каждой из его жен и каждой из его любовниц. Он с таким упорством и такой настойчивостью повторял свои слова о незаслуженном счастье, что даже самые неиспорченные женщины рано или поздно поддавались его аргументации и сами начинали верить в абсурдную убедительность этих утверждений. И с той минуты, когда они проникались наконец этими мыслями, события неизменно приближались к катастрофическому завершению – в той или иной форме. Кроме того, женщин, с которыми он расходился, ждали неизбежные разочарования – очень скоро после расставания с ним они убеждались, что так, как думал Мервиль, не думал больше никто: он оставлял в их воображении прочно установившиеся представления, резко противоречившие всему, что могло их в дальнейшем ожидать. Может быть, поэтому ни одна из них потом не отзывалась о нем положительно, точно мстя ему за тот длительный обман, которого она считала себя жертвой – как это ни казалось парадоксально на первый взгляд.
Я никогда не интересовался вопросом, что именно делал Мервиль и что приносило ему довольно значительные доходы. Было, однако, нетрудно себе представить, что при его всегдашней разбросанности он мог заниматься очень разными вещами одновременно. У него были дела за границей, он часто уезжал то в одну, то в другую страну, и жены его были тоже разной национальности. Последний раз, год тому назад, он женился на кинематографической артистке австрийского происхождения, очень красивой, холодной и глупой женщине, душевное убожество которой было настолько очевидно, что со стороны становилось как-то неловко за него. Но он был влюблен, говорил об Америке, о том, что ее исключительный артистический дар, которому до сих пор мешали развернуться неблагоприятные обстоятельства… Но даже его иллюзий хватило только на несколько месяцев, после чего он расстался с ней и она, пережив два или три неудачных романа, кончила тем, что вышла замуж за какого-то чикагского промышленника, который подходил ей, вероятно, гораздо больше, чем этот вздорный человек, говоривший вещи, которых она не понимала.
Мервиля нельзя было тотчас же не узнать, в частности потому, что у него была совершенно седая голова, – она стала такой, когда ему не было еще тридцати лет, – и в темных его глазах на загоревшем лице было выражение печальной рассеянности, которое было характерно для него в те периоды, когда он еще не собирался жениться или был женат в течение сравнительно долгого времени. Я окликнул его. Он быстро подошел ко мне, и у меня было впечатление, что он искренно обрадовался. Через минуту он сидел против меня, пил черный кофе и все посматривал в сторону пианиста, который продолжал играть по-прежнему – небрежно и неутомимо. Я спросил его, давно ли он здесь и как его дела. Он пожал плечами и ответил:
– Ты знаешь, что состояние моих дел меня никогда особенно не волновало. Здесь я около трех недель, но это тоже неважно, – в сущности, не все ли равно, где именно быть?
И в это время, как назло, под пальцами пианиста прозвучал целый отрывок из «Венгерской рапсодии». У Мервиля дернулось лицо – я знал это его движение еще со студенческих лет, – и он тряхнул головой. Я сказал:
– Что делать, мой милый, мне тоже иногда кажется, что мир состоит из напоминаний.
Не глядя на меня, он сказал таким тоном, точно разговаривал сам с собой, не обращаясь к собеседнику:
– Самые грустные периоды в жизни – это те, когда ты ощущаешь непоправимую пустоту.
– Представь себе, что я об этом тоже только что думал, – ответил я, – какое странное совпадение. В противоположность тебе, однако, я склонен считать, что ощущение пустоты – это скорее приятная вещь. Мы с тобой об этом неоднократно говорили и, вероятно, будем еще не раз говорить. Но знаешь, о чем я сейчас, только что, подумал? Что, по-видимому, игра пианиста полна совершенно определенного содержания. Ты видишь, и у тебя и у меня она вызвала одну и ту же мысль. Мы, однако, совершенно разные люди, у нас разная жизнь и разные взгляды на жизнь, и я не видел тебя больше года. Ты давно вернулся из Америки?
В прозрачном потолке сильнее темнело небо, дым папиросы растворялся и исчезал. Мервиль ответил:
– Я ошибся и на этот раз, как я ошибался до сих пор. Я вернулся в Европу три месяца тому назад. Теперь я один, и я спрашиваю себя, на кой черт я вообще существую?
– Извини меня за откровенность, – сказал я. – Мне за тебя неловко. Ты изучал искусство, биологию, астрономию, историю философии, и ты не можешь выйти из очень узкого круга твоих личных чувств и делаешь наивнейшие обобщения, которые тебе непростительны. Что тебе неприятен тот или иной оборот событий или оборот твоего сентиментального фиаско, это совершенно естественно. Но что ты на основании этого склонен строить какую-то отрицательную философскую систему общего порядка – это было бы понятно, если бы ты был двадцатилетней мидинеткой[5], а не тем, что ты все-таки собой представляешь.
Но он был безутешен. Он говорил, что ощущения теряют свою силу, что ему все труднее и труднее вновь находить тот лирический мир, вне которого он не представлял себе счастья, что ему тридцать семь лет и остается мало времени, что душевное богатство, которое ему отпустила судьба, – если это можно назвать богатством, – подходит к концу и этот конец будет катастрофой.
– Ты мне сам говорил, что на похороны всегда останется.
– Ты считаешь это соображение утешительным?
Мы вышли из ресторана. Узкая аллея, обсаженная пальмами, вела к дороге. Под ногами трещала галька. Из стеклянного, освещенного квадрата над морем доносились слабеющие звуки рояля. Когда мы дошли до его автомобиля, он спросил:
– Ты здесь один?
Я утвердительно кивнул головой.
– Поедем ко мне, – сказал он. – Я живу возле Канн. У меня тяжело на душе, и я к тебе обращаюсь за дружеской помощью. Поедем ко мне, побудем вместе несколько дней. Ты мне расскажешь о своей работе.
– Хорошо, – сказал я. – Завтра утром мы вернемся в мою гостиницу, чтобы взять вещи, которые мне необходимы. На несколько дней я в твоем распоряжении.
Он жил один в двухэтажной вилле, и в течение целой недели, до его отъезда в Париж, где у него были дела, мы с ним почти не расставались. Мы вместе купались и обедали, вместе гуляли и вспоминали наших товарищей по давним университетским временам. Мы говорили с ним на самые разные темы, я объяснял ему, как я работаю и как проходит моя жизнь, и мне казалось, что к нему постепенно возвращалось относительное душевное спокойствие, от отсутствия которого он так страдал в тот вечер, когда я его встретил. Я лишний раз убедился в том, что никакие испытания не могли его изменить: смысл его существования заключался в потребности жертвовать своими удобствами, своим спокойствием и своими деньгами для «лирического мира», о котором он говорил и который населяли воображаемые и замечательные женщины, которым никак не удавалось окончательно воплотиться в тех, кого он встречал в действительности. Все остальное имело для него второстепенное значение. Мне со стороны было жаль, что его душевные способности и все другие его качества, чрезвычайно, как мне казалось, ценные, уходили на тщетные попытки достижения этой явно иллюзорной цели. Но это мне казалось непоправимым.
– Я готов с тобой согласиться в пессимистической оценке мира, – сказал я, – но по иным причинам. Я давно не нахожу особенного соблазна ни в чем, и я не представляю себе вещей, которые могли бы мне дать то бурное чувство счастья, о котором ты говоришь как о потерянном рае. Разница в том, что ты веришь, что тебе это счастье может дать какая-то, никогда не существовавшая и нигде не существующая, скажем, леди Лигейя. Я лично в это верю меньше всего. Мне иногда кажется, что все вообще имеет очень ограниченную ценность, которую мы склонны преувеличивать. Может быть, это не суждение, строго говоря, а ощущение. Я его испытываю не всегда, конечно, но довольно часто.
– Если бы все рассуждали, как ты, то не было бы ни войн, ни революций, ни подвигов, ни даже убийств. Дездемона умерла бы естественной смертью в возрасте шестидесяти или семидесяти лет. И никто не испытал бы той непередаваемой внутренней дрожи, которая охватывает тебя, когда перед четвертым актом поднимается занавес и на сцене ты видишь кровать, в которой она будет задушена.
– Другими словами, мы сохранили бы Дездемону, но потеряли бы Шекспира, – сказал я. – Но мы можем быть спокойны: эта опасность миру не угрожает.
Мервиль уехал, я после этого еще долго оставался на Ривьере и вернулся в Париж только в начале октября. Я думал не без некоторого удовольствия о том, как я войду в свою квартиру и снова обрету те привычные удобства, которых я был лишен во время моего отсутствия из Парижа, – мое кресло, мой стол, мои книги над головой, мой диван, расположение всех предметов, каждый из которых я мог найти с закрытыми глазами, все, в чем прошло столько дней моей жизни и в чем не было никакого элемента неизвестности. Это было иллюзорным ограждением от внешнего мира и уходом от всего, что меня иногда так тяготило в отношениях с людьми и в необходимости поддерживать эти отношения. Я видел перед собой книжные полки, стены без гравюр и картин, строгую правильность линий стола, стульев, занавесок на окнах, прямоугольники зеркал в передней и ванной, ту геометрическую стройность, которая в такой совершенной степени отсутствовала в моей внутренней жизни, во всех этих провалах и исчезновениях того, что в течение некоторого времени я склонен был считать самым важным и существенным, и в возникновении чего-то, что я не мог себе представить еще минуту тому назад, – словом, в той бесформенной и неизменно смещавшейся действительности, над которой у меня не было власти, как ее не было ни у кого другого. Я думал о знакомой уютности зимних вечеров, когда за окном льет ледяной дождь и ровным светом горит лампа над креслом или над письменным столом, о белых, туго натянутых простынях моего дивана и о том, как каждую ночь, ложась спать и выкурив последнюю папиросу, я погружаюсь в мягкое небытие, которого я так боялся, когда был ребенком, – потому что мне каждый раз казалось, что я больше никогда не проснусь, и к которому я с тех пор давно привык, как к теплой могиле. Я думал обо всем этом, подъезжая поздним вечером к дому, в котором я жил. Потом я широко открыл глаза от удивления: окна моей квартиры были освещены. Я не понимал, что могло произойти и кто мог там находиться. Я поднялся по лифту и отворил ключом дверь. Знакомый женский голос спросил с интонацией, которую я хорошо знаю: – Кто там? Это ты?
Эвелина! Я меньше всего ожидал ее появления здесь – как встречи с Мервилем на юге. Я давно и хорошо знал Эвелину, так же, как ее знали Мервиль и еще двое наших университетских товарищей, Андрей и Артур, входившие в наш своеобразный и нерасторжимый союз, которого нельзя было бы себе представить без нее. Она была хороша собой, у нее были черные волосы и синие холодные глаза, она была несомненно умна, очаровательна и, когда она этого хотела, неотразима; но я не мог себе представить более абсурдного и вздорного существования, чем то, которое она вела. Она была наполовину испанка, наполовину голландка. Ее отец был богатым человеком, владельцем каких-то плантаций в Южной Америке, где он жил почти безвыездно, посылая своей дочери в Европу довольно крупные деньги, которых ей никогда не хватало. Время от времени он терял терпение, переставал отвечать на ее письма, приток денег прекращался, и Эвелина оставалась без копейки. Тогда она переезжала к Мервилю или ко мне, и ее пребывание у нас продолжалось ровно столько времени, сколько проходило до того дня, когда ее отец возобновлял свои денежные переводы. Затем снова начинались те нелепые события, которые составляли ее жизнь. Она была артисткой, балериной, журналисткой, переводчицей, – и каждый очередной эпизод ее существования кончался какой-то невероятной путаницей, в которой никто ничего не понимал и в которой все оказывались пострадавшими в той или иной степени, – все, кроме Эвелины. У нее были бурные увлечения, часто казавшиеся нам непонятными, которые кончались так же внезапно, как начинались. Когда она к нам возвращалась, то через некоторое время оказывалось, что мы все были вовлечены в то, что с ней происходило, и каждому из нас приходилось чем-то для нее жертвовать, – Мервилю деньгами и своим спокойствием, мне – тем, что в моей собственной квартире я переставал себя чувствовать дома, так как всюду была Эвелина – в спальне, в ванной в столовой; в моем шкафу висели ее платья, на моем кресле оказывалась ее сумка, в ящиках моего письменного стола ее браслеты, серьги, ожерелья и кольца. Когда она была с нами, все мы, помимо нашего желания, были втянуты в какое-то стремительное движение, и это продолжалось до тех пор, пока она не исчезала опять, – и после этого все медленно начинало приходить в порядок.
– Ее несчастье в том, – сказал мне однажды Мервиль, – что много лет тому назад она взяла какой-то неудержимый разгон и никак не может остановиться. Что ей было бы нужно – это задержаться и задуматься о том, какой смысл имеет это хаотическое и беспорядочное движение ее жизни. – Ее несчастье и наше несчастье, не забывай этого. – Такова, по-видимому, наша судьба, – сказал он. – Ты видишь возможность это изменить?
– Увы, нет, – ответил я – Я не знаю почему, но я твердо убежден, что этой возможности у нас нет.
Я знал в течение сравнительно короткого времени ее близость – и этого нельзя было забыть, глубины ее чувства, непередаваемых интонаций ее голоса, выражения ее глаз, душевной теплоты, мгновенного понимания каждого эмоционального движения, всего, что ее делало не похожей на других. И потом, без того, чтобы этому предшествовали размолвка или охлаждение, все это прекратилось, и на следующий день Эвелина вновь возникла в своем обычном облике – холодные ее глаза, такое впечатление, что между ней и мной никогда ничего не было, стремительность ее решений и поступков и, наконец, ее исчезновение, – «прощай, не забывай меня, мы, может быть, еще встретимся».
Никто из нас никогда не мог ей сопротивляться, и никто не пробовал этого делать. Она могла быть утомительна и несносна, но никто из нас никогда не сказал ей ни одного резкого слова и не отказал ей ни в одном требовании. Никто из нас не понимал, почему мы это делали. По отношению к ней мы все вели себя так, точно мы имели дело с каким-то отрицательным божеством, которое не следует раздражать ни в коем случае – и тогда, может быть, оно растворится и исчезнет.
То, что о ней сказал Мервиль, было верно, но это было не все. В ее глазах, например, была холодность, которая была ей несвойственна, так что они выражали то, чего в ней не было, и это могло ввести в заблуждение всех, кто не знал ее так хорошо, как мы. В ее поведении была нелепость, которая тоже была чужда и подлинному ее характеру, и ее уму. Ее бурные чувства и увлечения были, в конце концов, поверхностными и не задевали ее души. Все, что она делала, и то, как она жила, казалось неправдоподобным и поэтому раздражающим. Но до сих пор никому не удавалось это изменить.
– Я тебя не ждала, – сказала она. – Откуда ты?
– Я приехал с юга. И если я тебе скажу, что я тоже не ожидал тебя здесь встретить, ты, наверное, не удивишься.
– Я не хотела жить у Мервиля, – сказала она. – Знаешь почему? У него слишком много места. Здесь у тебя как-то уютнее.
– Я очень польщен этим предпочтеньем.
– Когда ты излечишься от твоей постоянной иронии?
– Мы об этом поговорим в другой раз, – сказал я. – Если ты ничего не имеешь против, я хотел бы принять ванну.
– Мой милый, это невозможно. Ванна забита. Я вызывала водопроводчика, он обещал прийти на днях.
– Печально, – сказал я.
– Да, еще одно. Тебе придется спать на твоем диване просто под одеялом, в пижаме. Ты помнишь, впрочем, я всегда находила, что спать голым, как ты это делаешь, неприлично. Я отдала в стирку все твои простыни. Они лежали в чистом белье, но были какие-то серые. Осталось только две простыни для меня.
– Эвелина, на твою жизнь никто никогда не покушался?
– Нет, – сказала она с такой теплой и неудержимой улыбкой, которая сразу изменила ее лицо и за которую ей можно было простить все. – Но, повторяю, я тебя не ждала. Я спрашивала Мервиля, когда ты вернешься, он мне сказал: ты знаешь, с ним никогда ничего не известно. – Я так хорошо здесь отдыхала одна. Но я не могу на тебя сердиться, я всегда питала к тебе непонятную слабость.
– Временную и незаслуженную, – сказал я.
– Ты неисправим, – сказала она со вздохом. – Хочешь чаю?
Она оставалась в моей квартире еще три недели, в течение которых я был, в сущности, лишен дома. Только за несколько дней до ее отъезда я заметил некоторые признаки того изменения, которое должно было наступить в ближайшем будущем. Она стала подолгу отсутствовать и возвращалась с оживленными глазами. И когда она спросила меня, понимаю ли я и понимал ли я вообще когда-нибудь, что такое настоящее чувство, я вздохнул с облегчением. Потом она мне сказала, вернувшись однажды в сумерках:
– Мой дорогой, можно тебя попросить об одном одолжении? Ты можешь сегодня ночевать не дома?
– Ты мне разрешаешь вернуться завтра?
– Только не очень рано утром, хорошо?
Я ночевал у Мервиля. Когда я вернулся домой на следующий день, в квартире был необыкновенный беспорядок. Но Эвелины не было. Она оставила записку:
«Мой дорогой, я уезжаю. Я не могу тебе рассказать в двух словах, что произошло. Во всяком случае, я исчезаю – как ты выражаешься – надолго, может быть, навсегда. И если ты вспомнишь обо мне, подумай о том, что я впервые в жизни по-настоящему счастлива».
Я потратил два дня, чтобы вновь сделать мою квартиру такой, какой она была до появления Эвелины. Я стирал с зеркал следы губной помады, которую она почему-то пробовала именно таким образом, и следы пудры с моих книг. В ящике моего письменного стола я нашел чулок, который она там забыла. Мне пришлось купить новый гребешок, потому что мой она сломала, расчесывая свои густые волосы. Умывальник и ванна были опять забиты мокрой ватой, которую она употребляла в неумеренном количестве и в самых разных обстоятельствах. Она даже ничем не прикрыла постель, на которой провела ночь, оставив ее совершенно всклокоченной.
Мне понадобилось время, чтобы окончательно прийти в себя и медленными, постепенными усилиями восстановить то состояние, в котором я находился до тех пор, пока не увидел Эвелину. И я думал, что идея отрицательного счастья, – устранение бедствия, – заключает в себе такое богатство содержания, которого раньше я не мог себе представить.
И я вновь вернулся к той блаженной пустоте, о которой мы говорили с Мервилем на берегу Средиземного моря. После напряженной многомесячной работы, предшествовавшей моему отъезду на юг, мне было необходимо, – так, по крайней мере, мне казалось, – отсутствие какого бы то ни было усилия. Но совершенной пустоты все-таки не могло быть. Время от времени в моей памяти вставали те или иные образы или события, безмолвно возникавшие передо мной в далеком пространстве, – события, образы, некоторые движения, некоторые слова, некоторые интонации, имевшие когда-то значение и потерявшие его теперь. Как это говорил Мервиль? «Исчезновение того лирического мира…» И я вдруг вспомнил, как он рассказывал мне вечером, на юге, накануне своего отъезда в Париж, то, что с ним случилось в поезде и чего он, по его словам, не мог забыть. В тот вечер я слушал его невнимательно и думал о чем-то другом; к тому же история, которую он рассказывал, была как будто списана из какого-нибудь фривольного журнала и то, что с ним произошло, было совершенно не похоже на него. В спальном вагоне он познакомился с миловидной, скромно одетой дамой. Разговор с ней кончился так, как это обыкновенно происходит в фарсах, к которым он питал такое непреодолимое отвращение, которое я всецело разделял.
– Так все это могло казаться, – сказал он мне, – но это было что-то совсем другое.
Он говорил об этом с необыкновенным волнением. Он сказал, что никогда в жизни он не знал ничего похожего на это, не потому, что эта женщина оказалась замечательнее других, а оттого, что он испытал ощущение трагического восторга, которого не знал до этого.
– Почему трагического?
– Я не могу тебе этого объяснить, – сказал он. – Что могло бы быть, казалось бы, подлее и вульгарнее такого дорожного приключения? Но клянусь тебе, что это было совсем не то. Я ничего не знаю об этой женщине. Но по первому ее слову я бы отдал ей все, что у меня есть.
– И ты совершенно не знаешь, кто она такая?
Нет, он этого не знал. Она сошла в Ницце, он поехал дальше. Она дала ему свой ниццкий адрес и свою фамилию и сказала, что он может прийти к ней, когда хочет.
В тот же день, вечером, он явился туда. Он помнил адрес наизусть: такая-то улица, гостиница «Феникс». Но никакой гостиницы там не оказалось, и никто не знал той фамилии, которую ему дала его спутница – мадам Сильвестр. Он провел трое суток в Ницце, ища ее повсюду, но нигде не мог ее найти.
– Ты знаешь это впечатление, которое нельзя смешать ни с чем другим, – когда ты видишь человека первый раз и через несколько минут тебе начинает казаться, что ты знал его всю жизнь. В ту ночь я понял, что никогда не знал счастья до этой женщины и что именно ее я ждал все эти годы. Судьба дала мне самое ценное, что мне было суждено на этом свете, – и я его потерял.
– Какого она была вида?
Он ответил, что она была блондинка с черными глазами, высокого роста, что у нее был непередаваемый взгляд, что она говорила по-французски без южного акцента.
– Я никому не рискнул бы это рассказать, – сказал он. – Но ты хорошо меня знаешь, ты знаешь, что я меньше всего похож на любителя таких вагонных приключений. Даю тебе слово, что это в такой же степени не характерно для нее.
И вот теперь, через несколько дней после отъезда Эвелины, я вдруг вспомнил об этом разговоре с Мервилем. Я знал, что он всегда был склонен к преувеличениям, не в том смысле, что он говорил неправду, а в том, что события, случавшиеся с ним, казались ему полными значения, которого они чаще всего были лишены. Может быть, то, что произошло в поезде и чего он не мог забыть, было для его соседки чем-то обычным, случавшимся с ней далеко не первый раз. Но в конце концов это было не так важно. Существенно было то, как именно это представлял себе Мервиль, который действительно никогда не был искателем таких сомнительных историй. Я подумал о том, куда могло завести этого человека его постоянное ослепление или, вернее, та воображаемая действительность, которой он жил и которая тотчас же возникала, как только происходило какое-нибудь событие, заслоняя его, меняя его облик, как сумеречный свет меняет иногда очертания. Порой я невольно начинал ему завидовать – потому что я давно потерял доступ в тот иллюзорный мир, в котором он жил и которого не могла разрушить никакая очевидность. Вместе с тем я привык к мучительным усилиям воображения, которых требовала моя литературная работа. Но я столько раз заставлял себя переживать чувства моих героев, что под конец у меня не хватало сил для самого главного – преображения моей собственной жизни. И та пустота, в которой я находился теперь, была, в сущности, непосредственным результатом именно этого порядка вещей.
Была середина ноября, на редкость холодного и дождливого, когда ко мне однажды явился Андрей, один из наших товарищей, с очень неожиданной просьбой – сопровождать его в Перигё. У него был такой расстроенный вид, он находился в таком смятении, что мне стало его жаль. Он был инженер, очень милый человек, отличавшийся необыкновенной чувствительностью, которая, как я всегда думал, объяснялась тем, что его нервная система никуда не годилась. Он боялся всего – темноты, больших пространств, грозы, вида крови. То, что для других людей составляло обычное существование, было для него жестоким испытанием, и каждый поступок, который он должен был совершить, требовал от него особенного усилия. В этом смысле он отличался своеобразным мужеством, потому что ему удавалось побеждать свой постоянный страх, чем-то похожий на разбросанную манию преследования, бесформенную и угрожающую. Эта борьба с самим собой иногда совершенно изнуряла его, у него бывали припадки слабости, обмороки, сердечные перебои. Он пришел ко мне, упал в кресло, выпил чашку горячего кофе – руки его дрожали, губы дергались от волнения – и сказал, что я оказал бы ему большую услугу, если бы согласился поехать вместе с ним в Перигё, к его старшему брату, с которым произошел несчастный случай: он чистил ружье, оно выстрелило и ранило его очень серьезно, он, может быть, при смерти. Его старшего брата мы все знали хорошо по Парижу. Его звали Жорж, он был теперь состоятельным человеком, владельцем нескольких земельных участков возле Перигё, где он постоянно жил и куда он переехал из Парижа после смерти своего отца, сделавшего его своим единственным наследником и ничего не оставившего Андрею, младшему сыну.
Разговаривать с Андреем как с нормальным человеком было невозможно. Он торопился, хотел немедленно выезжать, но категорически заявил, что не поедет поездом, так как у него предчувствие, что случится катастрофа. Он предпочитал ехать на автомобиле, который ждал нас внизу и который ему дал Мервиль.
– У тебя гораздо больше шансов попасть в автомобильную катастрофу, чем в железнодорожную, – сказал я. – Ты только посмотри на себя, ты все время дрожишь. Едем поездом, хотя я не вижу, чем я тебе могу быть полезен.
– Нет, я тебя умоляю, – сказал он. – Я сяду в машину и просто закрою глаза.
– В поезде ты тоже можешь их закрыть.
– Нет, я с тобой буду спокойней. Ты сядешь за руль, – ты понимаешь, в таком состоянии я не могу править, я с трудом доехал от Мервиля к тебе, – и мы прямо поедем туда.
Он был совершенно невменяем, и было ясно, что если я ему откажу, это вызовет истерический припадок. Я пожал плечами и согласился, хотя у меня не было ни малейшего желания ехать в Перигё.
Я сохранил самое отвратительное воспоминание об этой поездке. Дождь лил не переставая, колеса автомобиля скользили на скверной дороге, узкой и взгорбленной, все терялось во влажном тумане – луга, рощи, дома. По дороге мы ночевали в какой-то гостинице, с плохим отоплением и сырыми простынями. И когда мы наконец приехали в Перигё, выяснилось, что сообщение о несчастном случае с выстрелившим ружьем не соответствовало действительности. Не было ни ружья, ни, строго говоря, несчастного случая. Было просто убийство. Жорж был найден в своей кровати с размозженным черепом.
Комната носила следы отчаянной борьбы. Что касается истории с выстрелившим ружьем, то ее придумала экономка Жоржа для того, чтобы постепенно, как она выразилась, подготовить Андрея к истине. Но, не говоря о том, что эта постепенность существовала только в ее воображении, вообще подготовить Андрея к такой истине было совершенно невозможно. Он начал с глубокого обморока, за которым последовал сердечный припадок. Самое удивительное, однако, было то, что он всегда ненавидел своего брата и его судьба мало его трогала. Но на него произвели необыкновенное впечатление чисто внешние обстоятельства – труп в доме, то, что Жорж не просто умер, а был убит, и то, что на него, Андрея, обрушилось это бедствие. Зная его, я понимал, что смерть брата, как таковая, конечно, его волновала меньше, чем удар грома в летнем небе или необходимость пройти одному через пустынное поле. И когда он несколько оправился от своего недомогания, вызванного потрясением, которое он испытал и в котором смерть Жоржа играла далеко не самую главную роль, он сказал мне:
– Знаешь, я продам теперь все эти земли, брошу службу, куплю себе небольшой дом где-нибудь на юге и наконец заживу спокойно. Ты тогда приедешь в гости ко мне, ты обещаешь? Твой отказ меня бы очень огорчил.
– Боюсь, что до этого, то есть до покупки дома на юге, тебе придется пройти через множество формальностей, – сказал я. – Но что ты вообще думаешь обо всем этом?
– Это, конечно, ужасно, – сказал он совершенно спокойным голосом. – Но ты знаешь, я всегда был склонен к религии.
– Я никогда этого не замечал.
– Ты просто не обращал на это внимания. Ты понимаешь, в Евангелии сказано, что без воли Господа ни один волос не упадет с головы человека? Я преклоняюсь перед волей Всевышнего.
Мы сидели перед огромным камином, в котором дымились сырые дрова. Я быстро посмотрел на Андрея и подумал, что странности этого человека не ограничивались его болезненной боязнью событий. На его лице было выражение спокойствия, какого я до сих пор у него не видал. Но это продолжалось недолго, и он снова начал волноваться, когда экономка сказала ему, что его хочет видеть инспектор полиции.
Это был человек средних лет с замкнутым выражением лица, неподвижными глазами и резким голосом, лишенным гибкости. Он спросил, кто мы такие, что мы здесь делаем, кто нас известил об убийстве и что мы об этом знаем.
– Мы только что приехали из Парижа, – сказал Андрей, – и это я должен был бы вас спросить, что вам известно о том, что произошло с моим братом. Я вам никаких указаний дать не могу по той простой причине, что я видел Жоржа последний раз два года тому назад.
– В каких вы были с ним отношениях?
– Извините меня, пожалуйста, – сказал Андрей с резкостью, которая меня удивила, – но это вас совершенно не касается.
– Разрешите мне самому судить о том, что меня касается.
– Сколько угодно, – ответил Андрей. – Но я напоминаю вам, что я брат покойного, что меня вызвали из Парижа, я приехал сюда и узнал о его трагической смерти. Я полагаю, что это достаточное испытание, и хотел бы быть избавленным от неуместных вопросов. Бели вы хотите получить подробные сведения обо мне, обратитесь к мэру города: он был личным другом моего отца и знает меня с детства. Не смею вас удерживать.
Инспектор ушел, не попрощавшись. – Какой бестактный субъект! – сказал Андрей. – Я узнаю трагическую новость, которой, может быть, мои нервы не в состоянии перенести, и сюда вдруг является какой-то фрукт, который собирается устраивать мне допрос, ты себе представляешь? Нет, всякой бесцеремонности есть границы.
– Он на меня произвел впечатление человека не блестящего, – сказал я, – но согласись, что его любознательность понятна. Теоретически говоря, он должен найти убийцу. Ты имеешь какое-нибудь представление о знакомствах и частной жизни твоего брата?
– Нет, – сказал Андрей, – и, по правде говоря, это меня никогда не интересовало.
– Кто-то его все-таки убил, и какая-то причина для этого была.
– Вероятно, – сказал Андрей все с тем же спокойствием. – Но неужели тебя это так занимает?
– Как тебе сказать? Да, в известной мере. Если хочешь, чисто логически: мы знаем следствие, надо было бы узнать причину.
– Я надеюсь, – сказал Андрей, пожав плечами, – твоя наивность не доходит до того, чтобы предполагать, что все происходящее подчинено законам логической зависимости?
– Нет, – сказал я, – если бы это было так, все было бы слишком просто. Но все-таки даже в чисто эмоциональной области логика нередко играет, как мне кажется, значительную роль. Это не всегда похоже на классический силлогизм, но это все-таки своеобразная логика. Если ты найдешь к ней ключ…
– Как к шифрованной депеше?
– Если хочешь.
Андрей наклонился и бросил в камин небольшую щепку. Потом он поднял на меня глаза и сказал:
– Я тебе скажу откровенно, что я думаю: я не знаю и не интересуюсь знать, как и почему это произошло. Но одно я знаю: этот человек, – я имею в виду моего брата, Жоржа, – не заслуживал ничего другого.
Я вернулся в Париж на следующий день, оставив в Перигё Андрея, который, казалось, совершенно справился со своими нервами. Он долго благодарил меня за «моральную помощь», которую я ему оказал, и обещал, что в Париже он мне расскажет обо всем, что ему удастся узнать. Я не мог отделаться от крайне странного впечатления, которое на меня произвело поведение Андрея. Я убедился, что его страх перед всякими событиями был больше всего метафизическим, он боялся не вещей, а своих собственных представлений, чаще всего произвольных. Его равнодушие к трагической судьбе его брата тоже казалось мне по меньшей мере удивительным. Я знал, что он ненавидел Жоржа, но все-таки я не ожидал от него такого спокойствия, нехарактерного для него ни при каких обстоятельствах вообще. Он вел себя как человек, который присутствует при совершенно естественном явлении, – точно жизнь его брата должна была кончиться именно так, как это произошло, этим «несчастным случаем» – слова, которые упорно повторяла его экономка, от которой нельзя было добиться никакого толка. Ее печальная и спокойная глупость была настолько непоколебима, что разговор с ней по этому поводу, – так же, впрочем, как по всякому другому, – не мог привести ни к чему. Она только повторяла, что все это случилось глубокой ночью и что в доме не было никого, кроме ее хозяина и ее самой.
– Все-таки был еще кто-то, кто его убил, – сказал я.
– Я не знаю, – сказала она, – я никого не видела и не слышала, чтобы кто-нибудь входил. А у меня очень чуткий сон.
Я пожал плечами и отказался от дальнейших вопросов. Когда Андрей приехал в Париж – это было дней через десять – и пришел ко мне, я его спросил:
– Ты что-нибудь выяснил?
– Состояние оказалось несколько меньше, чем я предполагал, – сказал он. – Некоторые неудачные финансовые операции…
– Постой, это не так интересно, – сказал я. – Как подвигается расследование?
– В вечерних газетах ты прочтешь об аресте предполагаемого убийцы, – сказал Андрей. – Это бывший садовник Жоржа Поль Клеман, человек с уголовным прошлым, которого он недавно рассчитал и который неоднократно говорил, что он ему отомстит. Он, между прочим, категорически отрицает свою вину.
– После убийства была обнаружена какая-нибудь кража?
– Бумажник Жоржа, в котором, вероятно, было несколько тысяч франков.
– А какие улики против Клемана?
– Улик, собственно говоря, нет, есть только подозрение.
– Ты лично считаешь его виновным?
Он отрицательно покачал головой. Он очень изменился за эти дни, и от его прежней неуверенности в себе не осталось следа. Казалось, что смерть его брата подействовала на него так благотворно, как не мог бы подействовать никакой курс лечения. Я подумал о том, как плохо мы все знали Андрея, и тотчас же после этого у меня мелькнула мысль, что он сам себя тоже не знал и так же, как мы, не мог предвидеть той перемены, которая с ним произошла.
– Слушай, Андрей, – сказал я, – мне кажется, что у тебя есть какие-то предположения о том, почему Жорж был убит. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление.
– Есть вещи, о которых трудно говорить, – сказал он. – Но твоя любознательность совершенно праздная. Какое значение для тебя имеет вся эта история? Алгебраическая задача? Что тебе до Жоржа, например? Ты всегда относился к нему отрицательно.
– Да, конечно. Но вот, скажем, арестован его садовник, который, может быть, тут ни при чем.
– Если он, как ты говоришь, ни при чем, то рано или поздно его выпустят. Но представь себе даже, что его приговорят к пожизненному заключению. В этом тоже не было бы никакого несчастья и никакой несправедливости, строго говоря. Это пьяница, ежедневно избивающий свою жену и своих детей, и если он сгниет в тюрьме, то жалеть об этом не стоит.
– У тебя очень, своеобразное представление о правосудии.
– Тут у меня нет особенных иллюзий, – сказал он, – я ему цену знаю.
– Поэтому ты считаешь, что тот, кто действительно убил Жоржа, имеет какое-то право уклониться от ответственности?
– Этот вопрос мне кажется второстепенным, – сказал он. – Я не хочу рассматривать общую систему идей морального порядка, ты понимаешь? Я беру отдельный, совершенно определенный случай, убийство Жоржа. Вот мои заключения. Во-первых, никому решительно, кроме, пожалуй, его экономки, эта смерть не доставила никаких огорчений.
– Ах да, экономки, у которой такой чуткий сон, как она говорит.
– Я не знаю, какой у нее сон, – сказал Андрей, – но могу тебе сообщить, что она каждый день к вечеру мертвецки пьяна. Но я продолжаю.
– Да, я слушаю.
– Во-вторых, есть один человек, которому переход Жоржа в лучший мир оказался очень кстати. Этот человек – я.
– Ты забываешь, что это все-таки твой брат.
– Я ничего не забываю, – сказал Андрей. – Как ты хочешь, чтобы я оплакивал Жоржа, который не дал бы мне корки хлеба, если бы я умирал с голода? Теперь я бросил службу, мне не надо думать о будущем, и я наконец начну жить так, как хотел жить всегда. Я не хочу сказать, что я должен быть благодарен неизвестному убийце.
Он поднялся с кресла, на котором сидел, и стал ходить по комнате.
– Бели его найдут и он, как говорится, заплатит свой долг обществу, это будет понятно и законно. Но это дело полиции и судебных властей, а не мое. Дальше. Участь садовника, – ты со мной согласишься, – тоже не заслуживает того, чтобы о ней беспокоиться. Что остается? Праздный, в сущности, вопрос: имел ли право или, вернее, достаточные основания этот неизвестный человек так действовать? Этого мы не знаем. Я тебе могу только сказать, что если бы существовала та справедливость, о которой ты говоришь, то я не знаю, на чьей стороне она оказалась бы – на стороне убитого или на стороне убийцы.
– Ты не думаешь, что это могло быть трагической случайностью?
– Это мне кажется чрезвычайно маловероятным. Но одно мне представляется несомненным: Жорж не ожидал покушения на его жизнь. Все произошло в несколько секунд, Я думаю, что он был убит, когда он спал.
– Это не совсем так, мне кажется. Вспомни, что комната носила следы борьбы.
Он опять отрицательно покачал головой. Я с удивлением посмотрел на него.
– Что ты хочешь сказать?
– Никакой борьбы не было.
– Как не было?
– Рапорт об этом составил тот полицейский инспектор, который, помнишь, приходил меня допрашивать. Ты был бы склонен доверять его заключениям?
– У меня было впечатление, что в смысле умственных способностей он вряд ли ушел далеко от экономки, – сказал я. – Но это только впечатление, может быть ошибочное.
– Я эту комнату видел, – сказал Андрей. – Мебель действительно была перевернута. Но это было сделано с чрезвычайной осторожностью. Стеклянные вещи не были разбиты. Ковер не был помят. Тяжелое старинное кресло, которое при падении должно было сломаться, цело. Ни на одном зеркале нет царапины. Часы, стоявшие на ночном столике, лежали на полу, и ни один винтик не пострадал. Ты понимаешь?
– Другими словами, все это было сделано, чтобы ввести полицию в заблуждение?
– Самым очевидным образом. И пропавший бумажник тоже.
– Стало быть, садовник действительно ни при чем.
– Вне всякого сомнения.
– Ну да, – сказал я. – Мы предполагаем, значит, что убийца вошел в дом ночью, что Жорж был убит во сне и что никакой борьбы не было. Убийца был человеком необыкновенного хладнокровия. Причины, по которым он действовал, неизвестны. Это приблизительно все.
– Может быть, это была ревность, – рассеянно сказал Андрей. – Я имею в виду мужскую ревность, – прибавил он, встретив мой вопросительный взгляд. – В последние годы своей жизни Жорж, кажется, интересовался молодыми людьми, отличающимися некоторыми особенностями… Ты понимаешь?
Я пожал плечами.
– Ты видишь теперь, – сказал Андрей, – что вся эта темная история не стоит того, чтобы мы с тобой теряли время на ее обсуждение. Некоторые ее последствия – другое дело. Я имею в виду дом на юге.
В течение нескольких недель после моей парижской встречи с Андреем никакие внешние события не нарушали того душевного бездействия, в котором я теперь проводил свое время. Я сравнительно редко выходил из дому, никого не видел и читал случайные книги, которые мне попадались под руку. Несколько раз я вспоминал о поездке в Перигё, но без той вспышки интереса, которая у меня была вначале. Я знал из газет, что Поль Клеман был обвинен в убийстве и что во время допросов он не мог скольк-нибудь связно рассказать о том, где именно он находился в ту ночь, когда Жорж был убит. Он говорил, что был пьян и ничего не помнил. Но так как домой он вернулся только под утро и до этого времени его никто не видел, то его объяснения были признаны недостаточными.
Через некоторое время все это стало казаться мне похожим на тягостный сон: сомнамбулическая экономка с неизменным выражением печальной глупости в глазах, внезапная перемена, которая произошла с Андреем, дом Жоржа с огромными, плохо отапливающимися комнатами, осторожно перевернутая мебель, о которой Андрей мне говорил, и, наконец, то, что я так мало знал моего старого товарища, которого я не считал способным ни к такому поведению, ни к такой наблюдательности. Но все это и не имело особенного значения, как, впрочем, ничто другое. Уже давно я замечал, что не только у меня, но у многих людей моего поколения началась эта потеря интереса к происходящему, которая со стороны должна бы казаться по меньшей мере преждевременной. То, что нас интересовало раньше и что должно было, казалось, сохранить свое значение при всех обстоятельствах, медленно уходило от нас, бледнея и удаляясь. Может быть, это следовало объяснить усталостью, которая незаметно все эти годы проникала в нас, заставляя нас вести какое-то отраженное существование, нечто похожее на механическую последовательность поступков, слов и суждений, которые заменили настоящую жизнь, ту, какую мы должны были бы вести, если бы все было нормально. Я с удивлением вспоминал, как еще не так давно я ночами сидел за книгами, в которых обсуждались те самые проблемы, которые теперь оставляли меня совершенно равнодушным. Но все-таки время от времени я возвращался к вопросу о том, что произошло в Перигё. Я был твердо убежден, что результат судебного процесса не даст ответа на этот вопрос, независимо от того, каким будет решение присяжных.
Суждение Андрея о Клемане казалось мне все-таки слишком жестоким, хотя факты его в общем подтверждали: этот человек действительно был злобным пьяницей, действительно избивал жену и детей и, в сущности, теперь расплачивался именно за это, потому что, если бы он был другим, подозрение в убийстве могло бы его не коснуться. Я понимал, как мне казалось, что соблазн подобного обвинения был слишком очевиден для того, чтобы люди, ведущие следствие, не поддались ему, может быть, искренно полагая, что они правы.
Я думал об этом, однако, не потому, что стремился во что бы то ни стало найти ответ на вопрос о том, что произошло в Перигё, а заставлял себя возвращаться к этим размышлениям потому, что они каким-то образом связывали меня с действительностью, которая все время от меня ускользала. В этом искусственном уединении, в моей квартире, где не было никого, кроме меня, где всегда стояла тишина и не было никакого движения, я сидел часами в кресле с потухшей папиросой во рту, и если бы Андрей мог видеть меня в этом состоянии, он, конечно, не упрекнул бы меня в праздном интересе к чему бы то ни было. Мне ничего не было нужно, и я с недоумением иногда вспоминал о Мервиле и его судорожных поисках лирического мира, без которого жизнь казалась ему пустой.
Всякому факту, который теоретически мог бы произойти, предшествовало мое убеждение в его конечной несостоятельности и в том, что, если бы он не произошел, это тоже было бы неважно, – ощущение, к которому я вначале отнесся как к тревожному признаку душевного разложения, но к которому я давно привык. Это не было, однако, сознательным предпочтением созерцания действию: я был убежден, что даже если бы мне удалось понять до конца значительное количество вещей и если бы годы уединения оказались в этом смысле чрезвычайно плодотворными, это тоже ничего не изменило бы и не вернуло бы мне того бурного ощущения жизни, которое уходило от меня как тень, не оставляя за собой даже сожаления, но увеличивая немой груз ненужных воспоминаний, который я влачил за собой всю свою жизнь, как в прежние времена каторжники свое чугунное ядро, прикованное к ноге, le boulet de trente six[6], о котором я еще ребенком читал во французских романах начала прошлого столетия.
Что-то когда-то произошло, чего я в свое время не заметил и не понял и что предопределило то состояние душевной пустоты, в котором я теперь находился. Я знал еще несколько лет тому назад притяжение «лирического мира», которое составляло смысл существования Мервиля, но и оно ушло от меня, бесшумно и незаметно, как все остальное. Может быть, существовали вещи, ради которых действительно стоило жить и для достижения которых не было жаль никаких усилий? Вероятно, я смутно все-таки верил в это; вернее, не я, а та совокупность нервов и мускулов, которая составляла меня, – она верила в это, и потому моя жизнь состояла из неопределенного ожидания чего-то, чего я не знал, и это было, быть может, только ошибкой ощущения, чем-то похожей на оптический обман, который заставляет нас видеть в воде согнутое под утлом изображение палки, которая пряма, как стрела.
Может быть, это было именно так. Но в том мире и среди тех событий, в которых протекала моя жизнь, я не находил ничего, что стоило бы пристального внимания. И если я продолжал в нем существовать и даже проявлять к нему некоторый внешний интерес, то это объяснялось, во всяком случае, не праздным любопытством, в котором упрекал меня Андрей, а судорожным желанием создать себе какое-то подобие жизни, для которого у меня, казалось, не оставалось внутренних оснований. И так как вещи, которых я был свидетелем, казались мне недостаточно значительными, я старался всячески их дополнить, втиснуть их в какую-то систему идей и убедиться в их соответствии уже существующим законам, которые предопределяли их развитие. Я знал, однако, что и это предположение было, в сущности, произвольным, потому что законы не предшествовали действительности, а следовали за ней и были в какой-то степени ее временным отражением – с той разницей, что она менялась, а они оставались неподвижными.
Я вспомнил, что некоторое время тому назад мне пришлось разговаривать с одним адвокатом, специалистом по уголовным делам. Его взгляды мне показались слишком упрощенными; может быть, это объяснялось тем, что он принадлежал к крайне левой политической партии и ее примитивные концепции оказали на него известное влияние. Он был убежден, что огромное большинство преступлений объясняются бедностью и недостатком образования. Мне трудно было бы с ним спорить, и это не входило в мои намерения. Его познания в истории преступлений были чрезвычайно обширны. Он сказал:
– Посмотрите: такой-то, такой-то, такой-то. Убийство, ограбление, сведение счетов, снова убийство. Кто эти люди? Один маляр, другой кровельщик, третий сутенер, четвертый каменщик или литейщик, пятый батрак. Если это женщина, то это либо горничная, либо прачка, либо проститутка, либо, наконец, крестьянка.
Я привел ему другие примеры – аптекарь, врач, сын банкира. Он стал доказывать, что социальное соотношение бесспорно: девяносто процентов преступлений совершается людьми «снизу», как он выразился. Он обвинял в этом среду, воспитание или, вернее, отсутствие воспитания, нищету, условия жизни, государство. Он пользовался этими же доводами на процессах, где он выступал. Его речи имели успех у его политических единомышленников и некоторой части аудитории, но очень редко у судей. Однако если они не разделяли его взглядов на вину государства или бытовых условий, которые способствуют тому, что человек становится преступником, то убеждение, что уголовные поступки чаще всего совершаются людьми «снизу», казалось бесспорным. Другими словами, если бы одно и то же обвинение было теоретически предъявлено – с одинаковой степенью недоказанности – рабочему или банковскому служащему, то осужден был бы, вероятнее всего, рабочий. Против него была статистика – те немые цифры, которые вдруг оживали и приобретали значение страшной угрозы.
Поэтому я думал, что положение Клемана, если бы в течение следствия не произошло никакой сенсации, которая изменила бы все, было почти безнадежным. Я знал, что участь Клемана Андрея не интересовала, прежде всего потому, что Клеман избивал своих маленьких детей, что Андрей считал ббльшим преступлением, чем убийство. – Что изменится в мире, если будет открыта истина? – сказал он мне во время нашего последнего разговора. – Будет, как ты говоришь, одной несправедливостью меньше? Но у нас разные понятия о справедливости. Представь себе человека, который совершил преступление, оставшееся нераскрытым. Затем, через некоторое время, его осуждают по обвинению в другом преступлении, в котором он действительно не виноват. Ты скажешь, что это судебная ошибка. Хронологически – да, ты прав. Но только хронологически. В остальном люди, осудившие его, поступили совершенно правильно, хотя они сами этого не подозревают. Это другой вид справедливости, и нисколько не менее убедительный. Ты не думаешь?
Я сохранил в памяти все сколько-нибудь знаменательные даты этого периода времени. Я помнил, в частности, что двадцать четвертого ноября, выходя утром из дому, я встретил Эвелину, о которой ничего не знал с того дня, когда она уехала из моей квартиры. Ее появление было настолько неожиданным, что я остановился как вкопанный на пороге.
– У тебя такое выражение лица, что можно подумать, что ты увидел призрак, – сказала она, улыбаясь. – Я к тебе только на одни сутки. Ты уходишь? Дай мне ключ, я поднимусь сама.
– Нет, я предпочитаю подняться вместе с тобой, – сказал я. – Ты действительно только на один день?
– Да. Я хочу принять ванну, что-нибудь съесть и отдохнуть.
В передней она сбросила шубу, поправила перед зеркалом прическу и сказала, что идет принимать ванну.
– На этот раз она не забита, – сказал я.
– Тем лучше. Ты выйдешь что-нибудь купить к чаю? Масла, ветчины? Купи мне красной икры, пожалуйста.
Я спустился вниз за покупками, потом вернулся и накрыл стол. Через несколько минут Эвелина вышла из ванной в моем купальном халате и села против меня. Когда она отпила глоток чая и съела первый бутерброд с икрой, я спросил ее:
– Что происходит в твоей жизни?
– Если я тебе скажу, ты не поймешь.
– Я все-таки постараюсь.
– Ты знаешь, что такое метампсихоз?
Я сбоку посмотрел на нее. У нее были те же ясные глаза с холодным выражением, которое я хорошо знал.
– Ты, наверное, очень устала, – сказал я неуверенно.
– Я предупреждала тебя, что ты не поймешь. После некоторого молчания я спросил:
– При чем тут метампсихоз и что все это значит? – Я счастлива, – сказала она. – Ты понимаешь?
Счастлива. У меня нет ни копейки, нет квартиры, и я счастлива, как никогда не была счастлива до сих пор.
Она так настойчиво повторяла это слово «счастлива», что у меня было впечатление, что она сама себя хочет в этом убедить.
– Я понимаю, но почему метампсихоз?
– Я звонила Мервилю, – сказала она, не отвечая, – но его не было дома. Он мне очень нужен. Я позвоню ему через полчаса отсюда, я хочу предложить ему одно дело.
Я бы предложила это тебе, если бы у тебя было достаточно денег.
Я сумрачно на нее смотрел. До сих пор дела, в которых участвовала Эвелина, неизменно кончались катастрофой для всех, кроме нее. Она мне объяснила, что на этот раз она собирается открыть ночное кабаре и извлекать из него некоторый постоянный доход, который позволил бы Котику заниматься метампсихозом.
– Кто такой Котик и что значит заниматься метампсихозом? – спросил я. – Ты говоришь об этом так, точно это профессия или работа.
– Котик? – сказала она, и в глазах ее появилось далекое выражение. – Один из самых замечательных людей, каких я знала в моей жизни.
И она стала мне рассказывать о Котике, который в ее описании выходил не столько замечательным, сколько чрезвычайно странным человеком. До недавнего времени он был инженером, где-то служил и все шло более или менее нормально, пока он не встретил того, кто стал, по его словам, его духовным отцом. Это был – опять-таки по словам Котика – мудрец, погруженный в глубины восточной философии. После долгих разговоров с ним и после того, как Котик прочел книги, которые ему дал мудрец, он понял, что вся его жизнь была чудовищной ошибкой. Он объяснил это Эвелине. Он понял, что в нем, Котике, заключена частица той божественной и бессмертной материи, за которую он несет ответственность перед вечностью, что после его смерти – которую теперь он склонен был рассматривать как короткий этап эволюции, теряющейся во времени, – после его смерти эта частица перейдет в другое существо, после смерти этого существа в следующее и через три тысячи лет она вернется к нему, Котику, и крут будет замкнут. Затем начнется новая эволюция. Никакие материальные соображения не имеют значения. Наша физическая оболочка – это только телесные границы заключенного в нас бессмертного духа. Забота о них недостойна человека.
– Ну да, – сказал я, – этот утомительный бред можно продолжать до бесконечности. Согласись, однако, что это очень странное соединение – метампсихоз и ночное кабаре. И почему у тебя нет ни квартиры, ни денег?
Она начала говорить о пифагорейцах и о Платоне, потом сказала, что в жизни Котика метампсихоз занимает такое место, что у него не остается времени думать о материальной стороне жизни. Поэтому она, Эвелина, должна взять эту заботу на себя, – отсюда идея кабаре. Все это было так нелепо и так по-детски глупо, что я не понимал, как Эвелина, с ее умом и жизненным опытом, могла находить это приемлемым. Я сказал ей об этом.
– Но ты пойми, – сказала она, – я живу теперь в другом мире.
– Все это так на тебя не похоже. В другом мире… А в каком мире ты собираешься открывать кабаре?
– Об этом сейчас будет речь, – сказала она. – Я иду звонить Мервилю. Алло! Да, это я. Я звоню из квартиры нашего друга, – она назвала меня. – Я хотела с тобой поговорить о деле. Ночное кабаре. Да, все буду вести я. Да. Как нет денег? Этого не может быть. Это очень просто, ты отложишь свой отъезд на один день.
Я понимал, что Мервиль пытался защищаться, но я слишком хорошо знал Эвелину и знал, что исход предрешен заранее. Мне хотелось ему помочь, но я не видел, как это можно сделать.
– Завтра, – говорила Эвелина. – Мы обсудим это подробно. Я еще не знаю. Не так много, в конце концов. Хорошо, значит, до завтра. Часов в десять утра.
Посмотрев внимательно на ее лицо, я сказал:
– Ты полна энергии, как всегда, но вид у тебя очень усталый. Как твое здоровье?
– Об этом я забыла тебе сказать. Мне надо делать операцию, и на это тоже у меня нет денег.
– Ты знаешь, – сказал я, – что тут тебе ни о чем беспокоиться не надо. Позвони по телефону, поезжай в клинику и не думай ни о чем. Но какая операция?
– Глупейшая, – сказала она, – аппендицит. Но до этого я, во всяком случае, должна повидать Мервиля. А сейчас я хочу отдохнуть.
Она легла в кровать – и через пять минут уже спала глубоким сном. Я вышел из дому и поехал к Мервилю, с которым у меня был долгий разговор. Я советовал ему сослаться на срочные платежи и сказать Эвелине, чтобы она отправила своему отцу телеграмму, составленную в самых патетических выражениях.
– Почему она вдруг решила открывать кабаре? – спросил Мервиль.
– Это из-за метампсихоза. Не смотри на меня так, спешу тебе сказать, что с ума я не сошел.
И я подробно рассказал ему о том, что мне говорила Эвелина.
– Нет, всему есть все-таки границы, – сказал Мервиль. – Этому надо положить конец.
– Когда у тебя будет уверенность в том, что ты можешь это сделать, не забудь позвать меня, я хотел бы при этом присутствовать.
– Я тебе всегда говорил, что в этом есть какое-то колдовство, – сказал он. – Иначе чем объяснить, что она делает с нами все, что хочет? Почему ты должен уступать ей свою квартиру, из которой она тебя чуть ли не выгоняет? Почему я всегда обязан за нее платить? Мне денег не жалко, это ерунда, но это вопрос принципа. И вот теперь метампсихоз, какой-то Котик, о котором мы не имеем представления, и ночное кабаре. Нет, это слишком. Но когда я вспомню ее глаза… Как ты говорил? Какое в них выражение?
– Неумолимое, по-моему. Но ей нужно теперь отказать без всяких объяснений.
– Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. У тебя когда-нибудь хватило мужества отказать ей в пользовании твоей квартирой?
– Нет, но в деньгах, я думаю, я мог бы ей отказать.
– Это ты говоришь только потому, что она к тебе за деньгами не обращалась.
Я сидел и смотрел в окно. Мне всегда нравился дом Мервиля, который он купил несколько лет тому назад у какого-то разорившегося миллионера. Огромные, во всю стену, окна выходили в сад, кончавшийся аллеей, деревянные переплеты которой были густо обвиты плющом. Аллея вела к железным воротам, выходившим на одну из тихих улиц, недалеко от Булонского леса. Ноябрьский дождь шумел за окном.
– Что же делать? – спросил Мервиль.
Он решил, в конце концов, уступая моим настояниям, принять план, который я ему предложил. Эвелина отправит длинную телеграмму своему отцу, объяснив ему, что она собирается открывать коммерческое предприятие и начинать новую жизнь. – К тому же это действительно так, – сказал Мервиль. – В том случае, если отец откажет ей в деньгах, Мервиль постарается найти какой-нибудь другой выход из положения. Это по крайней мере давало ему отсрочку – при условии, что Эвелина согласится ждать. Мервиль настаивал на том, чтобы я непременно присутствовал при его разговоре с Эвелиной.
На следующий день, через час после назначенного времени, Эвелина приехала к Мервилю на такси. Из моей квартиры она ушла рано утром. Она вошла в комнату, где мы сидели, посмотрела на меня и спросила:
– Это что? Заговор? Будь добр, – сказала она, обращаясь к Мервилю, – пошли горничную заплатить за такси. Как ты сюда попал?
Этот вопрос относился ко мне.
– Случайно, – сказал я. – Но это вышло кстати, это дает мне возможность еще раз видеть тебя.
– Оставь нас вдвоем, – сказала она, – мне надо серьезно поговорить с Мервилем.
– У меня от него нет секретов, – сказал Мервиль. – Мы все старые друзья, нам нечего скрывать друг от друга. Я тебя слушаю.
В течение сорока минут – я следил по часам – Эвелина рассказывала нам о том, как она предполагает устроить кабаре, – программа, импровизации, оркестр, цыганские скрипки, столики, освещение, туалеты; это было похоже на прекрасный репортаж. Она даже села к роялю и, аккомпанируя себе, спела испанскую песенку. Голос ее вдруг изменился, и я узнал в нем давно забытые интонации, которые я слышал в тот короткий период времени, когда она действительно питала ко мне слабость, как она выражалась. Потом она перешла к деловой стороне вопроса.
Она ушла поздно вечером, после ужина, унося с собой чек, который ей дал Мервиль. Но первый раз за все время она была не так неумолима, как всегда, и согласилась ждать ответа из Южной Америки. После ее ухода Мервиль сказал:
– Я думаю, что я обязан тебе значительным сокращением расходов. Я был готов к худшему. Я тебе чрезвычайно благодарен.
– Милый друг, – сказал я, – твоя благодарность направлена не по адресу. У меня по этому поводу нет никаких иллюзий, я так же бессилен против Эвелины, как и ты. Ты должен быть благодарен не мне, а Котику.
– Ты думаешь?
– Разве ты не заметил, как она смягчилась, когда она пела, думая о нем?
– Да, может быть, это Котик, – сказал он. – Кстати, что он собой представляет?
– Не могу об этом судить, – сказал я, – я никогда его не видел. Но ты знаешь, что Эвелина выбирает своих любовников только среди так называемых порядочных людей. Тут за нее можно быть спокойным.
– И почему вдруг этот нелепейший метампсихоз?
– Тут я на твоем месте воздержался бы от критики. Вспомни о своих собственных увлечениях. С тобой это тоже могло бы случиться, не в такой карикатурной форме, конечно, но могло бы. Конечно, это нелепо. Эвелина говорила со мной о пифагорейцах и Платоне.
– Интерес к этому мне вовсе не кажется чем-то неестественным.
– Вообще говоря, нет, конечно. Но у Эвелины это случайное отражение тех самых чувств и ощущений, в результате которых она открывает кабаре. Ты видишь, откуда возникает воспоминание о философских доктринах и о том, что мы называем культурным наследством Эллады?
– Если это даже так, то что в этом дурного? – сказал Мервиль. – В конце концов, все это – слепое пантеистическое движение мира, выражающееся в неисчислимом множестве форм, и вне этого нет жизни.
– Я понимаю, – сказал я. – Но некоторые формы мне хотелось бы из этого исключить.
– Мы не можем произвольно их исключать или не исключать. Мы вынуждены принимать мир таким, каким он создан, а не таким, каким мы хотели бы его видеть.
– Я мог бы тебе возразить и на это, – сказал я, – но уже поздно и это завело бы нас очень далеко. Я только должен лишний раз констатировать, что до тех пор, пока ты не впадаешь в твой очередной сентиментальный транс, ты рассуждаешь в общем как нормальный человек. Как обстоят твои дела в том, что ты всегда называл лирическим миром?
– Так же, как это было тогда, когда мы встретились с тобой на Ривьере, – сказал он, вставая. – Все пусто и мертво, и даже музыка звучит так же печально, как она звучала тогда, в этом стеклянном ресторане, где играл на рояле этот круглоголовый импровизатор в смокинге.
Этими долгими зимними вечерами, когда я сидел один в своей квартире в той идеальной душевной пустоте, в которой я находил столько положительного, а Мервиль столько отрицательного, я думал о разных вещах, но думал так, как мне почти не приходилось этого делать раньше, – вне всякого стремления прийти к тому или иному заранее намеченному выводу, который мне лично казался бы желательным. Я убеждался в том, что классическое построение всякой литературной схемы чаще всего бывает произвольным, начинается обычно с условного момента и представляет собой нечто вроде нескольких параллельных движений, приводящих к той или иной развязке, заранее известной и обдуманной. От этого правила бывали отступления, как, например, введение пролога в старинных романах, но это было, в сущности, отступлением чисто формальным, то есть переносом действия на некоторое время назад, когда происходили события, не входящие в задачу данного изложения. Вместе с тем мне теперь казалось, что всякая последовательность эпизодов или фактов в жизни одного человека или нескольких людей имеет чаще всего какой-то определенный и центральный момент, который далеко не всегда бывает расположен в начале действия – ни во времени, ни в пространстве – и который поэтому не может быть назван отправным пунктом в том смысле, в каком это выражение обычно употребляется. Определение этого момента тоже заключало в себе значительную степень условности, но главная его особенность состояла в том, что от него, если представить себе систему графического изображения, линии отходили и назад и вперед. То, что ему предшествовало, могло быть длительным, и то, что за ним следовало, коротким. Но могло быть и наоборот – предшествующее могло быть коротким, последующее – долгим. И все-таки этот центральный момент был самым главным, каким-то мгновенным соединением тех разрушительных сил, вне действия которых трудно себе представить человеческое существование.
Эти рассуждения – в те времена – имели для меня чисто отвлеченный интерес. Но когда впоследствии я возвращался к этим мыслям, я неизменно приходил к одному и тому же заключению, именно, что этим моментом в тот период времени, через который мы все проходили тогда, была декабрьская ночь в Париже в начале суровой зимы. В эту ночь Эвелина праздновала открытие своего кабаре на одной из узких улиц, отходящих от Елисейских полей. В морозном воздухе горели уличные фонари, двигались и останавливались автомобили, светились вывески, на тротуарах, – был второй час ночи, – стояли проститутки, закутанные в меховые шубы, в конце прямой, поднимающейся вверх, незабываемой перспективы Елисейских полей темнела Триумфальная арка. Мы ехали с Мервилем в его машине. До этого мы ужинали с ним у меня дома, он сказал мне, что операция Эвелины прошла благополучно, что Эвелина получила наконец деньги из Южной Америки и что он лично пострадал гораздо меньше, чем ожидал. Он был благодушно настроен и был склонен рассматривать метампсихоз, о котором Эвелина не переставала говорить, как совершенно невинную, в сущности, вещь, никому не причиняющую особенного вреда. Он подтрунивал надо мной и над тем, как я, по его словам, защищал Платона от комментаторских покушений Эвелины.
– Слава Богу, – сказал он, – что бы ни говорила Эвелина, это ничего изменить не может. А тебе бы хотелось, чтобы в ту минуту, когда она начинает говорить об Элладе, она бы вдруг исчезла и на том месте, где она только что была, возник лоб Сократа с этой необыкновенной вертикальной морщиной, и ты услышал бы блистательную речь о том, что так как мы неспособны представить себе вечность, то боги дали нам ее верное отражение в понятии о времени?
– Я не буду тебе отвечать на цитату из Платона, – сказал я. – Но ты угадал мое искреннее желание: я бы действительно хотел, чтобы Эвелина исчезла, независимо от ее рассуждений, ты понимаешь, какое это было бы счастье? Ты только представь себе: она начинает говорить, ты с ужасом встречаешь ее неумолимый взгляд – и вдруг она исчезает. И нет больше Эвелины. Увы, это счастье нам не суждено. Кстати, как, ты говорил, называется ее кабаре?
– «Fleur de Nuit»[7].
– Название многообещающее.
Когда мы вошли в кабаре, там было полно народу. Это были обычные посетители таких мест: немолодые дамы с голодными глазами, молодые люди в смокингах, пожилые мужчины с усталыми лицами и представители той трудноопределимой категории, которые говорят на всех языках с акцентом и которые могут с одинаковой степенью вероятности получить на следующий день орден Почетного легиона или вызов к судебному следователю по обвинению в выдаче чеков без покрытия. Первым, кого я увидел, был человек, которого я давно знал, немолодой мужчина с озабоченным лицом, – выражение, которое он сохранял при всех обстоятельствах. Он начал свою карьеру на юге России много лет тому назад с того, что приобрел небольшую типографию, где стал печатать фальшивые деньги. Его дело неизменно расширялось, и, когда он уехал за границу, у него уже был значительный капитал. Затем он перенес свою деятельность в Константинополь и страны Ближнего Востока, заработал крупное состояние и переселился наконец в Западную Европу, где стал собственником нескольких доходных предприятий и где жил теперь, посещая театры, концерты и кабаре. Но эта жизнь его не удовлетворяла, и он искренне жалел о прежних временах. К тому, чем он заполнял теперь свои многочисленные досуги, он никак не мог привыкнуть. Он любил, как он говорил, искусство, и это действительно было верно, хотя и не в том смысле, который он этому придавал. Речь шла обычно о театре и музыке. Но на самом деле он любил, конечно, другое: гравюры, точность рисунка, безупречность типографской работы, то, что составляло подлинный смысл его жизни и вне чего он никак не мог найти себе применения. Он сидел за своим столиком один перед бутылкой шампанского.
Я обвел глазами небольшой зал и увидел еще несколько знакомых лиц, фамилии которых часто фигурировали в так называемой светской хронике: кинематографические артисты, люди без определенных занятий. У Эвелины были знакомства в самых разных кругах; среди тех, чье присутствие она считала необходимым в этот вечер, было, например, два велосипедных гонщика и один боксер среднего веса, который издали был заметен, потому что его смокинг как-то уж очень резко не гармонировал с его плоским лицом и раздавленными ушами. – Откуда она всех знает? – сказал я Мервилю. Он пожал плечами. На Эвелине было черное, открытое платье и жемчужное ожерелье на шее, и это очень меняло ее.
– Хороша все-таки, – сказал Мервиль.
На небольшой эстраде, освещенной прожекторами, все время сменялись артисты. Программа была не хуже и не лучше, чем во всяком другом кабаре, все было, в конце концов, приемлемо. Каждого артиста представляла Эвелина. В середине спектакля, – был второй час ночи, – после двух русских гитаристов, она вышла на сцену и сказала, что сейчас будет выступать Борис Вернер.
– Он не нуждается в рекламе, – сказала она, – мы все его знаем.
Я переглянулся с Мервилем, он посмотрел на меня удивленными глазами. Я не успел ему, однако, сказать, кто такой Борис Вернер; в зале раздались аплодисменты, и на эстраду вышел тот самый круглоголовый пианист, которого мы слышали летом в этом стеклянном ресторане над морем на Ривьере, где я встретил Мервиля. В эту ночь он играл иначе, без своей тогдашней небрежности, – настолько виртуозно, что невольно возникал вопрос: отчего этот человек выступает в кабаре, а не дает концерты? Я сидел и слушал, и, в отличие от того впечатления, которое у меня было, когда я впервые увидел его за роялем, теперь мне казалось, что вместо пустоты, о которой он играл в прошлый раз, сейчас возникало представление о далеком и прозрачном мире, похожем на удаляющийся пейзаж, – облака, воздух, деревья, влажный шум реки. Он был действительно прекрасным пианистом.
Только тогда, повернув голову, я заметил Андрея, который сидел с какой-то блондинкой, не очень далеко от нас. Я подумал, что в его жизни произошли значительные изменения: в прежние времена его средства не позволяли ему посещать такие места. Но то, что меня поразило больше всего, это его бледность и выражение тревоги в его лице. Я проследил его взгляд и увидел, что он, не отрываясь, смотрел на высокую женщину, сидевшую за одним из крайних столиков, на небольшом расстоянии от столика бывшего фальшивомонетчика. Это продолжалось недолго, Андрей расплатился и ушел, поддерживая под руку свою белокурую спутницу. Я опять посмотрел в ту сторону, где сидела эта женщина. Далекое и смутное воспоминание возникло передо мной. Где я мог видеть эти неподвижные серые глаза? Мне показалось, что я стал жертвой галлюцинации: этого лица, – это я знал твердо, – я не видел никогда и нигде. Но ее спутника я знал. Я встречал его несколько раз, он был любителем искусства не меньше, чем фальшивомонетчик, с той разницей, что он предпочитал литературу всему остальному. Он был настоящим и бескорыстным библиофилом, но, поговорив с ним как-то об этом, я убедился, что он все воспринимал с одинаковым доверием. Он любил литературу вообще, как люди любят природу, а не какого-либо отдельного автора в особенности. В сравнительных достоинствах литературных произведений он не разбирался, и они его, в сущности, не интересовали. Ему было тридцать пять или тридцать шесть лет, у него были покатые плечи, роговые очки и выражение восторженности на лице, не менее постоянное и не менее утомительное, чем выражение озабоченности на лице фальшивомонетчика, с которым у него было вообще какое-то непонятное, на первый взгляд, сходство.
Я смотрел на него, вспоминая, как несколько месяцев тому назад он говорил с дрожью в голосе о каком-то авторе, фамилию которого я забыл, и вдруг почувствовал, что Мервиль сжимает мне руку. Я повернулся в его сторону и увидел, что он был в чрезвычайном волнении.
– Это она, – сказал он. – Мог ли я думать?..
– Кто «она»?
– Она, мадам Сильвестр!
– Та дама, с которой ты познакомился в поезде?
– Боже мой, твоя медлительность иногда так неуместна… Что теперь делать? Как к ней подойти? Неужели она меня не узнает?
Я никогда не видел его в таком состоянии.
– Подожди, все это не так сложно, – сказал я. – Я знаком с человеком, который ее сопровождает.
– Что же ты молчал до сих пор? Я пожал плечами.
– Извини меня, – сказал он, – ты видишь, я не знаю, что говорю.
Через несколько минут Мервиль сидел с ней за одним столиком и излагал ей что-то настолько бессвязное, что за него было неловко. К счастью, спутник мадам Сильвестр успел выпить один чуть ли не всю бутылку шампанского и сидел совершенно осовелый, глядя перед собой мутными глазами и плохо понимая, что происходит вокруг. С эстрады смуглый мужчина в ковбойском костюме, держа в руках небольшую гитару, на которой он себе аккомпанировал, пел вкрадчивым баритоном по-испански, черное открытое платье Эвелины медленно двигалось между столиками, и в неверном свете зала тускло сверкали ее жемчуга. Фальшивомонетчик сидел, подперев голову рукой, с выражением далекой печали в глазах, и я подумал: о чем он жалеет? О том, что прошли лучшие годы его жизни и ничто не заменит ему того типографского станка, с которого все началось и которого давно не существует? О том, что вялое существование так называемого порядочного человека скучно и тягостно и никогда больше не будет этого магического шуршания новых кредитных билетов, которые были обязаны своим возникновением его вдохновению, его творчеству? Спутник мадам Сильвестр, преодолевая смертельную усталость и дурь, сказал, обращаясь ко мне: – Джойс…
Но это имя мгновенно вызвало у него спазму в горле. Он взял неверной рукой бокал шампанского, отпил глоток и повторил:
– Джойс…
В ту ночь мне не было суждено узнать, что он думает об авторе «Улисса», потому что после третьей попытки он отказался от надежды высказать свое мнение; его состояние явно не позволяло ему роскоши сколько-нибудь обстоятельных комментариев по поводу какого бы то ни было писателя. Он умолк и смотрел на меня мутным взглядом, и я подумал, что такими рисуют обычно глаза рыбы, глядящей в иллюминатор потонувшего корабля. На эстраде, сменив смуглого мужчину в кожаных штанах, цыганско-румынский оркестр играл попурри из русских романсов, и голос одного из музыкантов, – я не мог разобрать которого, – время от времени выкрикивал в такт музыке слова, имевшие отдаленное фонетическое сходство с русскими; плоское лицо боксера, казалось, еще расширилось, и раздавленные его уши стали пунцовыми. В полусвете кабаре, сквозь папиросный дым и цыганскую музыку, отражаясь в изогнутых стенках бокалов, смещались, строго чередуясь точно в возникающих и исчезающих зеркальных коридорах, белый и черный цвет крахмальных рубашек и смокингов. Потом опять, словно вынесенные на вершину цыганской музыкальной волны, появлялись неувядающие жемчуга Эвелины. Я сидел, погруженный в весь этот дурман, и до меня доходил заглушённый голос Мервиля, который говорил мадам Сильвестр о движении поезда, похожем на путешествие в неизвестность, и о том трагическом душевном изнеможении, которого он не мог забыть все эти долгие недели и месяцы, о том, чего, вероятно, не существует и не существовало нигде, кроме этого движущегося пространства, – летний воздух, стремительно пролетавший в вагонном окне, далекая звезда в темном небе, – ваши глаза, ваше лицо, – сказал он почти шепотом, – то, за что я так бесконечно благодарен вам…
Спутник мадам Сильвестр все так же прямо сидел на своем стуле в состоянии почти бессознательного героизма, и было видно, что он давно уже не понимал смысла событий, которые клубились вокруг него в звуковом бреду, значение которого от него ускользало, и нельзя было разобрать, где кончалась скрипичная цыганская мелодия и где начинался чей-то голос, который то проступал сквозь нее, то снова скрывался за особенно долгой нотой, в судорожном вздрагивании смычка на пронзительной струне, – Мервиль находил даже, что исчезновение мадам Сильвестр и этот воображаемый адрес в Ницце теперь, когда он снова видит ее, что все это было чем-то вроде счастливого предзнаменования, и он это понял только сейчас, глядя в ее лицо… Был пятый час утра. Я поднялся со своего места, пожал руку Мервиля, посмотрел на замершее лицо спутника мадам Сильвестр, сказал, прощаясь с ним, что я совершенно согласен с его суждением о Джойсе, и направился к выходу, у которого меня остановила Эвелина, обняв мою шею своей теплой рукой. Она была пьяна, но я знал ее необыкновенную сопротивляемость алкоголю. Она была пьяна, и поэтому выражение ее неумолимых глаз стало вдруг мягким. Она сказала:
– Спасибо, что ты пришел, я это очень оценила. Ты сволочь, но ты знаешь, что я тебя люблю. И если бы я теперь не любила Котика… Прощай, приходи.
Ее жемчуга мелькнули передо мной последний раз и исчезли. Я вышел на улицу. Была студеная ночь, над моей головой, окрашивая все в призрачный цвет, как сквозь освещенную воду аквариума, горели буквы «Fleur de Nuit». Ко мне тотчас же подошла очень бедно одетая женщина, которая держала в руке маленький букет фиалок: «Monsieur, les violettes…»[8] Я знал, что этот букет она предлагала всем, кто выходил из кабаре. Она была пьяна, как всегда, и, как всегда, не узнала меня. «Monsieur, les violettes…» Некоторые отворачивались, другие давали ей немного денег, но никто, конечно, не брал цветов, и она рассчитывала именно на это. Ей было около пятидесяти лет, ее звали Анжелика, и я однажды, несколько лет тому назад, просидел с ней два часа в ночном кафе, и она рассказывала мне свою жизнь, вернее, то, как она себе ее представляла в ту ночь. Это представление смещалось в зависимости от степени ее опьянения – и тогда менялись города, названия стран, даты, события и имена, так что разобраться в этом было чрезвычайно трудно. То она была вдовой генерала, то женой морского офицера, то дочерью московского купца, то невестой какого-то министра, то артисткой, и если бы было можно соединить все, что она говорила о себе, то ее жизнь отличалась бы таким богатством и разнообразием, которых хватило бы на несколько человеческих существований. Но так или иначе, результат всего этого был один и тот же, и этого не могло изменить ничье воображение: она была бедна, больна и пьяна, и в том, что ожидало ее в недалеком будущем, не было ничего, кроме безнадежности и перспективы смерти на улице, в зимнюю ночь, перед затворенной дверью кабаре, за которой пили шампанское и слушали музыку. Я дал Анжелике несколько франков и пошел дальше. Было пустынно, тихо и холодно. Я поднял воротник пальто – и вдруг передо мной возникли: теплая ночь на Ривьере, стеклянный ресторан над морем и тот удивительный импровизатор, игра которого теперь в моем воображении была чем-то вроде музыкального вступления к тому, что сейчас происходило, что было предрешено и что уже существовало, быть может, в недалеком будущем, которое ожидало нас всех в этом случайном соединении: Анжелику, Мервиля, Андрея, мадам Сильвестр, Котика, Эвелину и меня – в том, чего мы не знали и что, вероятно, не могло произойти иначе, чем ему было кем-то суждено произойти.
Я провел целую неделю один, почти не выходя из дома. Без того, чтобы в этом была какая-либо необходимость, я часами, сидя в кресле, вспоминал события, которые некогда происходили и которых я был свидетелем или участником и соединение которых мне казалось вначале обусловленным только случайностью, и ничем другим. Но потом я заметил, что все эти воспоминания были сосредоточены вокруг нескольких главных идей, нескольких соображений общего порядка. Я вспомнил, в частности, все, что было связано с Жоржем, братом Андрея, – я как-то не думал об этом после его смерти. Теперь мне казалась удивительной эта непонятная и невольная забывчивость. В те далекие времена, когда Жорж жил в Париже и мы все часто встречались с ним, он был молчаливым молодым человеком, плохо понимавшим юмор, так что иногда из-за этого его общество становилось стеснительным. То, что его резко отличало от других, это была его необыкновенная, непобедимая скупость. Я один раз видел слезы на его глазах, это было в тот день, когда он получил письмо из Перигё, в котором его отец ему писал, что сгорел сарай, где хранились запасы зерна. Если мы бывали в кафе, он никогда ни за кого не платил и никогда не протестовал против того, что за него платили другие. Он торговался всюду и всегда, особенно с уличными женщинами, к которым его всегда тянуло, и получалось впечатление, что вся его жизнь проходила в судорожном напряжении – не истратить лишнего франка. Я находил в этом нечто вроде проявления морального идиотизма. Мервиль, который был готов платить всегда, всюду и за всех, его презирал, Андрей его ненавидел уже тогда. Но в те времена Жорж был действительно очень беден, его отец посылал ему на жизнь какие-то гроши, хотя ценил, как это позже выяснилось, его склонность к экономии и все состояние оставил именно ему, обойдя в своем завещании Андрея.
И если бы все ограничивалось этим, если бы в душевном облике Жоржа не было ничего другого, это было бы чрезвычайно просто. Но это было не так. У этого убогого и свирепо скупого человека был несомненный поэтический дар, и больше всего остального он любил поэзию, в которой разбирался безошибочно. Его слух в этом смысле был непогрешим, и, недостаточно в общем зная английский язык, он пожимал плечами, слушая восторженные комментарии Мервиля о стихах Китса, которого он понимал лучше, чем Мервиль, знавший английский язык в совершенстве. Жорж, как никто из нас, чувствовал движение гласных, перемещение ударений и все оттенки смысла в каждом стихотворении. То, что он писал сам, мне всегда казалось замечательным. Я помнил его темные глаза, которые вдруг становились восторженными, и те строфы, которые он нам читал своим глуховатым голосом. Никто из тех, кто его слышал, не мог этого забыть. Мервиль мне сказал однажды:
– Подумать только, что у этого животного такой необыкновенный дар! Как ты это объясняешь?
Я объяснения этому не находил, как его не находил никто другой. И странным образом его лирическое богатство, его воображение, железный ритм его поэзии и те душевные движения, которые были заключены в ней с такой чудесной гармоничностью, – все это переставало существовать, как только он кончал свое чтение, и тот же Жорж, скупой и мрачный, который вызывал пренебрежение или враждебность, вновь возникал перед нами. Я много раз пытался узнать от него, как он пишет и как у него это получается, но он неизменно уклонялся от разговоров на эту тему.
– Ты этого не поймешь, – сказал он мне наконец, – потому что ты не родился поэтом. – А ты? – Я – да. – Но поэзия в твоей жизни занимает меньше места, чем, например, соображения о дороговизне, – сказал я с раздражением. Он молча на меня посмотрел и ничего не ответил.
Позже, когда Жорж уехал из Парижа и поселился в Перигё, – это было после смерти его отца, – мы очень редко говорили о нем. Воспоминание о Жорже вызывало у нас чувство тягостной неловкости, точно мы были в какой-то степени ответственны за его недостатки. Я спросил как-то Мервиля:
– Ты думаешь, что его поэзия может быть результатом слепого таланта, не связанного ни с чем другим?
– Что ты хочешь сказать?
– Что возникновению поэзии – теоретически по крайней мере – предшествует какая-то лирическая стихия, движение чувств, какое-то, в конце концов, душевное богатство. Никаких следов этого у Жоржа нет.
– Не знаю, – сказал Мервиль. – Но это все-таки недаром. Я не берусь судить о том, что важнее для его окончательной характеристики – его идиотская скупость или то, что он настоящий поэт. Виктор Гюго тоже был скуп.
– Да, но не в такой клинической степени.
– Это уже оттенок.
Теперь все это было неважно, потому что Жорж перестал существовать. – Теперь вы владелец крупного состояния, – сказал нотариус Андрею. И тот автомобиль, в котором Жорж ездил по дорогам южной Франции, стоял у подъезда парижской квартиры его брата. Во всяком случае, так было до недавнего времени, потому что после той ночи открытия кабаре Эвелины Андрей исчез. Я звонил ему по телефону несколько раз, но на звонок никто не отвечал. Я поехал тогда к Мервилю и застал его в том восторженном состоянии, в котором мне неоднократно приходилось его видеть раньше и значение которого я хорошо знал. Он отвечал невпопад на мои вопросы и смотрел перед собой ничего не видящими глазами. Об Андрее он ничего не знал.
– Что вообще у тебя? – спросил я.
Он посмотрел на меня так, как будто только что пришел в себя. Потом он сказал:
– Нет, мой дорогой, ты этого не поймешь.
– Эвелина! – сказал я. – Эвелина мне сказала то же самое, когда говорила о Котике и метампсихозе. Неужели это так неизбежно – впадать в такую умственную несостоятельность при известных и в конце концов не таких уж исключительных обстоятельствах? Две недели тому назад все, что окружало тебя, было бессмысленно, лишено оправдания и бесконечно печально. Таким был мир, в котором ты жил и в котором ты поселил рядом с собой все человечество. И вот теперь ты находишься в лирическом оцепенении и ты забыл все, что ты знал раньше?
Глядя мимо меня, он сказал:
– У нее удивительный, незабываемый голос.
Расставшись с Мервилем и думая о состоянии, в котором он находился, я вспомнил, что в последнее время его романы приобрели несколько сумрачный оттенок, придававший им особенную остроту, которую он со свойственным ему романтическим преувеличением назвал трагическим восторгом – тогда, когда рассказывал мне о своей первой встрече с мадам Сильвестр. Память его должна была бы подсказать ему, что, в сущности, каждая его любовь была последней. Но он об этом забывал. И все-таки, по мере того как проходило время, эта мысль – «моя последняя любовь», «последнее чувство, на которое я способен», – все больше и больше приближалась к истине и, может быть, теперь действительно наступил тот период его жизни, когда ему было суждено пережить в самом деле последнее увлечение.
Нас было пятеро в нашем странном, но неразрывном союзе: Эвелина, Мервиль, Андрей, Артур и я. Артура я давно не видел. И вот через несколько дней после того, как я был у Мервиля, он явился ко мне.
Жизнь его сложилась очень своеобразно, и это не могло быть иначе: достаточно было посмотреть на его розовое, как у девушки, лицо, его пухлые белые маленькие руки, на всю его фигуру, покачивающуюся, когда он шел, не без некоторой грации, в которой, однако, не было ничего мужского, – чтобы понять, почему это не могло быть по-другому. Но в нем не было ничего отталкивающего. Он был неглупый, культурный и талантливый человек, и его губили две страсти, каждой из которых было бы достаточно, чтобы исковеркать любую человеческую жизнь: его многочисленные романы и непобедимое тяготение к азартным играм. Существование его проходило так же бурно, как беспорядочно. Иногда он жил в прекрасном доме возле Булонского леса, проводил свои досуги в чтении Кокто и Валери и ездил в декоративном автомобиле кремового цвета, иногда возвращался в свою скромную квартиру и обедал не каждый день, иногда он приходил с озабоченным выражением лица, так как ему было нужно, по очень важным причинам, чтобы никто не знал о его местопребывании. В числе тех, с кем его связывали близкие отношения, были самые разные люди. Мервиль рассказывал мне со слезами на глазах от смеха, которого он не мог сдержать, что однажды он вошел в меховой магазин, недалеко от Больших бульваров, и увидел Артура, который стоял за прилавком. – Как ты сюда попал? – спросил Мервиль. Артур оглянулся по сторонам, хотя в магазине никого не было, кроме Мервиля, и сказал, понизив голос, что владелец этого магазина, немолодой, но очень милый человек… и в это время туда действительно явился толстый пожилой еврей. – Его лицо ты знаешь, – сказал Мервиль, – это было нечто среднее между библейским пророком и современным ростовщиком. Через некоторое время после этого меха так же исчезли из жизни Артура, как перед этим автомобиль кремового цвета и квартира возле Булонского леса. Вместо этого возникли матовые стекла огромных электрических шаров в кафе, возле одного из парижских вокзалов, где Артур проводил свое время потому, что меховщика заменил один из гарсонов этого кафе, широкоплечий мужчина с мрачным выражением. После мехового магазина и кафе Артур с облегчением вернулся, как он говорил, в артистический мир, где он мог снова заняться комментариями поэзии Клоделя или пространными рассуждениями о «Коридоне» Андрея Жида – ни в меховом магазине, ни в кафе возле вокзала его собеседники не имели понятия об этой замечательной книге, которая… Он даже полагал, что между метампсихозом Котика и тем, что он, вслед за Жидом, называл уранизмом, было нечто общее, – я с удивлением на него посмотрел, – в том смысле, что и метампсихоз и уранизм показывали нам, каждый со своей стороны, один из аспектов вечности.
У Артура была небольшая квартира, обставленная очень, по его словам, ценной мебелью, в подборе которой, однако, отсутствовало известное единство стиля, – как я ему это заметил. – Разные люди, разные вкусы, – ответил он. Но по мере того, как проходило время, его квартира пустела и под конец у него остались – один диван, очень широкий, очень низкий и совершенно продавленный, маленький столик и прекрасная копия рембрандтовского воина в каске. Исчезновение мебели Артур объяснял тем, что те, кто ему ее дарили, постепенно ее забирали. Может быть, это соответствовало действительности, но могло быть и так, что Артур ее проиграл – потому, что все деньги, которые у него бывали, он неизменно проигрывал в карты или на скачках. В этом он был совершенно неудержим, и никакие соображения не могли его остановить. Он знал каких-то сомнительных арабов, которые покупали у него поношенные вещи; от араба он шел к букмекеру, и деньги держались в его руках ровно столько времени, сколько ему было нужно, чтобы пройти это расстояние от одного жулика до другого. Артура можно было одеть у лучшего портного, дать ему денег и открыть текущий счет в банке – и через две недели от всего этого не осталось бы ничего.
Он отличался еще одной особенностью, за которую Мервиль, например, был готов простить ему все: у него всегда была собака, чаще всего небольшая, о которой он трогательно заботился, – и в его несчастной, судорожной жизни эта забота была, кажется, единственным неизменным занятием. В течение последних двух лет у него был Том, желтая такса с необыкновенно выразительными глазами. Менялись люди, места и обстоятельства, но Том всегда был с Артуром и так же знал нас всех, как его хозяин.
– Вот мы пришли. Том и я, – сказал Артур. – Я к тебе по делу. Эвелина мне говорила… – Эвелина, оказывается, рассказала ему о романе Мервиля с м-м Сильвестр и показала ему ее фотографию.
– Постой, ты что-то путаешь, – сказал я. – Откуда у нее может быть фотография м-м Сильвестр?
– Групповой снимок в ночь открытия кабаре.
– Да. И что же?
– Я пришел тебе сказать, что Мервиля надо предупредить.
– В каком смысле?
– Надо, чтобы он с ней расстался.
– Ты знаешь, что к так называемым приключениям Мервиль не склонен, так что каждый раз это носит более или менее серьезный характер.
– Тем более необходимо его предупредить, пока не поздно.
– Что ты рассказываешь? Почему?
– Ты понимаешь, – сказал Артур, – то, что я тебе скажу, может показаться неубедительным, я в этом прекрасно отдаю себе отчет. Мне кажется, что я уже где-то видел это лицо, и это воспоминание связано с преступлением или опасностью. Я не помню, где и когда, может быть, даже моя память меня обманывает. Но когда я увидел фотографию, которую мне показала Эвелина, это произвело на меня такое впечатление, что я решил – надо предупредить Мервиля, ему грозит опасность.
– Милый мой Артур, – сказал я, – ты знаешь, что напутать Мервиля трудно, это тебе не Андрей. Кроме того, согласись, что твои доводы не могут на него подействовать – и ты сам мне сказал, что понимаешь их неубедительность.
– А какое впечатление она на тебя произвела?
– Если ты хочешь знать правду, скорее отрицательное, не знаю, собственно, почему.
– Может быть, в конце концов, я преувеличиваю, – сказал Артур. – Но у меня на душе неспокойно.
Я никогда не отличался способностью предчувствовать наступление какой-либо катастрофы. Я знал очень хорошо, что тоска, которую я так часто испытывал, ставшая для меня почти естественным состоянием, всегда объяснялась отвлеченными причинами и не была связана с внешними событиями. Но с недавнего времени, – после моего возвращения в Париж, – я стал ощущать непонятное томление, от которого не мог отделаться и для которого не было, казалось бы, никаких причин. Я просыпался и засыпал со смешанным чувством сожаления и тревоги. И то, что окружало меня, постепенно приобретало вздорный характер предостережения или напоминания. Даже мои нервы, на которые я до сих пор никогда не мог пожаловаться, стали сдавать: я начал вздрагивать от неожиданного звука хлопнувшей двери, стал прислушиваться ко всякому шуму, на который я раньше не обратил бы никакого внимания. Иногда я просыпался ночью, и мне вдруг начинало казаться, что из глубины комнаты по направлению ко мне приближается безмолвный человеческий силуэт, и абсурдная убедительность этого движения была так сильна, что я зажигал лампу над моим изголовьем и тотчас тушил ее с чувством неловкости и стыда за себя. Я неоднократно перебирал в памяти все события, происходившие за последнее время, все, что случилось со мной или с окружающими, – и никогда не находил в этом ничего, что могло бы объяснить то тягостное состояние, в котором я находился, ту непонятную и беспредметную тревогу, которую я испытывал. Я думал об этом после ухода Артура. Мне почему-то не нравился, – я бы, впрочем, никогда не решился признаться в этом Мервилю, – неподвижный взгляд м-м Сильвестр. Но никакого страха она мне не внушала, и то, что говорил о ней Артур, могло объясняться только его повышенной – в некоторых случаях – чувствительностью.
Я редко видел Мервиля в течение этой зимы. Я обедал с ним два или три раза, он всегда при этом торопился. – Точно тебе остается жить только сегодня, – сказал я ему однажды. Он только раз вскользь сказал мне:
– Я знаю, ты думаешь, как всегда, что это моя очередная иллюзия. Уверяю тебя, что на этот раз ты ошибаешься.
В холодный мартовский день я получил открытку от Андрея, который писал мне из Сицилии. В нескольких словах он объяснял свой отъезд из Парижа тем, что его нервная система была в очень плохом состоянии и что ему был необходим длительный отдых на юге.
«Ты знаешь, что в прежние времена я не мог позволить себе таких путешествий. Но теперь, когда эта возможность есть, зачем я стал бы себя лишать этого южного неба, этой сицилийской сладости бытия?» Прочтя эти строчки, я пожал плечами: еще несколько месяцев тому назад кто бы мог себе представить Андрея, который бы говорил о южном небе и сладости бытия?
Я нашел его открытку, вернувшись из города. Было около девяти часов вечера, я сидел за письменным столом и держал ее в руках, когда раздался звонок. Я отворил дверь с некоторым удивлением, – в тот день я никого не ждал, – и увидел Мервиля. Он был нагружен свертками, – как это бывало всякий раз, когда он без предупреждения приходил ко мне ужинать. Я внимательно на него посмотрел; в выражении его лица я впервые увидел счастливое спокойствие, которое до сих пор было ему совершенно чуждо. Он бывал либо мрачен, либо находился в состоянии судорожного восторга, – как герой Достоевского, – сказала о нем Эвелина.
– У меня сегодня свободный вечер, – сказал он, – и я вспомнил о тебе. Я принес с собой ужин.
– Рад тебя видеть, – сказал я, – как ты поживаешь? Ты совершенно пропал.
– Если бы ты был на моем месте, с тобой было бы то же самое.
– Я этого не отрицаю. Только вряд ли я мог бы оказаться на твоем месте, ты знаешь, что в этом мире наши места распределены раз навсегда.
– Я тоже так думал до последнего времени, – сказал он. – Теперь я в этом не уверен. Но давай ужинать, я голоден как собака.
Он начал говорить, когда мы пили кофе. Я ждал этого все время, я был убежден, что он ко мне пришел для этого разговора, – я слишком хорошо его знал, чтобы предположить, что его приход ко мне носил только случайный характер.
– Ты помнишь, – сказал он, – когда мы были студентами и когда я был так влюблен в Нелли, мы были ночью в верхнем зале какого-то кабачка на Монпарнасе втроем: она, ты и я – потому что она не хотела идти вдвоем со мной и я пригласил тебя. Ты помнишь это?
– Да, да, – сказал я. И я вспомнил летнюю ночь, темные деревья на бульварах, мутноватые стекла окон в этом верхнем зале, шум голосов, доносившихся снизу, печальную физиономию гарсона, Нелли, ее белокурые волосы и огромные черные глаза с насмешливым выражением, – она потом вышла замуж за архитектора и уехала с ним в Канаду. – Да, помню.
– Я заказал шампанского, и ты произнес очень короткий тост. Присутствие Нелли действовало на меня сильнее, чем любое шампанское, конечно, я отдаю себе отчет в том, что это было совершенно очевидно и тебе, вероятно, было жалко меня. Во всяком случае ты сказал: – Я пью за исполнение наших желаний.
– Тут меня трудно было бы обвинить в намерении сказать что-либо оригинальное.
– Я не об этом. Но я недавно вспомнил этот тост и подумал, что этого исполнения желаний у меня никогда не было в жизни – до самого последнего времени.
– Вероятно, тебе так казалось всякий раз – до того момента, когда ты начинал переживать очередной период иллюзорного счастья.
– Нет, все-таки я всегда знал, что это не то.
– Зато теперь у тебя нет никаких сомнений?
– Не может быть, – сказал он, – нет, это, конечно, невозможно, чтобы ты никогда не представлял себе в воображении, когда ты не стеснен ни временем, ни обстоятельствами, ни соображениями правдоподобности, – чтобы ты не представлял себе какой-то идеальный роман с идеальной женщиной. Это делали мы все, я думаю.
– Вероятно. И ты, в частности, больше, чем другие.
– Может быть. И вот сейчас, если бы я обладал самым могучим воображением в мире, то, что происходит, не могло бы быть прекраснее, чем оно есть. Ты знаешь, что всякая попытка описать это обречена на неудачу. Я не буду этого делать. Я только скажу тебе, что я никогда не предполагал, что может существовать такая мягкость, такое доверие к тебе и такое очарование, объяснение которого ты тщетно старался бы найти. Я закрываю глаза и вижу ее движения, слышу ее голос, которого нельзя забыть, и мне кажется, что возможность приближения к ней есть такое незаслуженное счастье, на которое я никогда не был бы вправе рассчитывать. И это счастье рядом со мной.
Он подошел ко мне и сжал мое плечо.
– Ты помнишь, – сказал он, – ты помнишь, как в нашей юности мы читали стихи? Ты помнишь, как писал Жорж? Ты думаешь, что оттого, что мы стали старше, поэзия потеряла свою свежесть и силу? Я тебе могу сказать, что я никогда не чувствовал ее, как теперь, после стольких душевных катастроф и такой усталости, которая мне казалась непоправимой. У меня не то представление о мире, какое было тогда. Но оттого, что я знаю, что все, в сущности, бесконечно печально, – ты мне это так упорно доказывал на юге, – от этого ощущение счастья еще сильнее. Ты помнишь?
Он стоял рядом с моим креслом. Потом он наклонился ко мне и сказал:
– И если бы завтра, ты понимаешь, завтра я должен был бы умереть, я знаю, что я недаром прожил жизнь, что это стоило делать.
Он выжидательно смотрел на меня. Я ощущал тягостную неловкость, мне было ясно, что если бы я стал говорить ему обо всем, что я думал в последнее время, это было бы совершенно неуместно – и он просто не понял бы этого. Я сказал:
– Милый друг, я искренне за тебя рад. Что я могу еще тебе сказать? Я мог бы тебе напомнить начало строфы, которой ты цитируешь только вторую половину. Я мог бы тебе изложить всякие соображения логического и материального порядка. Какой это имело бы смысл? Но меня интересуют – просто по-дружески – некоторые вещи. Как и где до сих пор жила м-м Сильвестр, что она собой представляет вне ее, так сказать, лирического облика, каковы твои планы на будущее?
Он ответил, что она рассказала ему свою жизнь, что она вдова, что родом она из Ниццы и что с той ночи, когда она встретила его в поезде, она ни на минуту не переставала думать о нем, но дала ему несуществующий адрес потому, что боялась своего собственного чувства. Насколько я понял, в том, что она говорила Мервилю, были значительные пробелы, но ему, конечно, она могла рассказать все, что угодно. У меня создалось впечатление, что она все переходила, каждый раз, когда это ей представлялось нужным, к монологу о своих чувствах, что ее ни к чему не обязывало и избавляло от необходимости давать сведения фактического порядка.
– И когда я встречаю взгляд ее глаз, – сказал Мервиль, прерывая себя, – мне кажется, что до меня доходят далекие звуки рояля, лирические и прозрачные, такие, которых я, конечно, никогда не слышал в действительности.
Я пристально посмотрел на него, – я искренно любил этого человека, – и сказал:
– Ты слышал эту музыку в стеклянном ресторане над морем, прошлым летом. Это были те же самые звуки, и тогда тебе казалось, что они оттеняют твою душевную пустоту. Этого импровизатора зовут Борис Вернер, и ты слышал его последний раз в ту ночь, на открытии кабаре Эвелины, когда ты встретил вторично м-м Сильвестр.
Мне казалось, что Мервиль глух сейчас ко всему, что не касается его собственных чувств, и что никакие другие соображения не могут его занимать. Но это было не совсем так, потому что он сказал:
– Ты смотришь на меня, и тебе, может быть, почти что жаль меня – за мое ослепление и мое иллюзорное, как ты говоришь, счастье. Я думаю все-таки, что прав я, а не ты. Вспомни, что ты не всегда был таким.
– Мир меняется, мой дорогой, и мы меняемся вместе с ним.
– Да, и если бы это было иначе, то не стоило бы жить. Я сейчас уйду и пожелаю тебе спокойной ночи.
Он вышел в переднюю и вернулся уже в пальто и в шляпе. Я сидел в кресле и смотрел перед собой на тот угол комнаты, где несколько лет тому назад висел портрет, который я снял. Мервиль подошел ко мне и пожал мне руку.
– Спокойной ночи, – сказал он. – И когда я выйду и закрою за собой дверь и ты останешься один, вспомни Сабину.
И он ушел. Я просидел несколько минут в кресле, не думая ни о чем. Потом я поднялся и сделал несколько шагов по комнате. Мне не нужно было напоминания Мервиля, чтобы думать о Сабине. Я никогда о ней не забывал. Я видел перед собой ее ледяные глаза, ее тонкие брови, ее губы. У нее были мягкие и сильные пальцы и тяжелая, стремительная походка. Я вспомнил, как однажды я ждал ее ночью зимой на пустынной набережной Сены – она была приглашена к каким-то знакомым, которых я не знал, и сказала мне, что рассчитывает уйти оттуда около часу. Я долго ждал ее, подняв воротник пальто и стоя за углом, так как она не хотела, чтобы кто-либо знал о моем присутствии. Было уже без четверти три, когда я услышал ее звонкие и тяжелые шаги. Она поравнялась со мной, я сразу забыл о том, что прождал ее на морозе три часа, и сказал:
– Твою походку нельзя не узнать. Если бы я слышал ее в первый раз, не имея представления о том, кто идет, я бы сказал, что это шаги командора.
– Ты был бы, в конце концов, не так далек от истины, как ты думаешь? – ответила она. – В том смысле, скажем, что, может быть, было бы лучше, если бы ты меня не знал.
Она всегда говорила именно такие вещи. В те дни я встречался с ней перед этим целый год и мои отношения с ней были такими же, как в самом начале нашего знакомства, – в те дни, когда я почувствовал, что в них наконец наступает перелом, на который я почти перестал надеяться, в последние минуты перед тем, как произошло то, что не могло не произойти, она сказала мне вдруг, впервые перейдя на «ты», – и когда я услышал это, у меня потемнело в глазах:
– Может быть, лучше, чтобы этого не было? Потом тебе будет тяжелее.
В этом, конечно, она была права: если бы я не знал, что значит ее близость, я, может быть, мог бы забыть о ней. Но она всегда и во всем, сознательно или случайно, действовала так, как будто то, что происходило, было, в сущности, преодолением невозможности.
Я знал, что, когда она мне назначала свидание поздним вечером, это ровно ничего не значило. Она встречала меня, одетая в черное закрытое платье, и говорила:
– Мой дорогой, я хотела тебе позвонить в последнюю минуту и сказать, чтобы ты не приходил. У меня весь вечер болит голова, и я мечтаю только о том, чтобы лечь в постель и заснуть. Ты меня извинишь? Я знаю, ты ждал этот вечер десять дней, но что же делать, мой милый, обстоятельства против тебя.
Но когда она наконец давала волю своим чувствам, ее эмоциональное богатство казалось неисчерпаемым, она очень хорошо это знала и сказала однажды, лежа рядом со мной:
– Интересно знать, для кого я тебя всему этому учу?
Но эта наука мне стоила дорого. Я мало спал, плохо питался, мне приходилось слишком много работать, наверстывая то время, которое я проводил с ней в ожидании того, что вдруг окажется, что у нее не болит голова, или что она не занята в этот вечер, и что она никого не ждет, – кроме меня, – и она говорила:
– На сколько времени у тебя хватит сил для такой жизни? Ты действительно какой-то двужильный.
Но Мервиль был прав. В этот период моей жизни я тоже не представлял себе существования без мысли о Сабине, и это тоже был, конечно, лирический мир, где слова некоторых стихотворений приобретали магическое значение, понятное только ей и мне и еще, может быть, тому умершему поэту, который в случайном вдохновении сказал именно то, что должны были бы сказать мы. Я никогда, ни до, ни после этого, не испытывал чувств такой разрушительной силы – и я запомнил на всю жизнь, например, ту ночь в далеком кабаре где-то возле Больших бульваров, когда я танцевал с ней под томительную музыку цыганского оркестра и вдруг увидел, как таяли ее ледяные глаза и как шевелились ее губы, произнося слова, которых она никогда не говорила вслух, но значения которых я не мог не знать. Но она создавала искусственное и неизменное представление, вне которого ничего не могло быть и повелительность которого не допускала никаких возражений, представление о том, что все происходящее – результат необыкновенной и счастливой случайности и что это, конечно, не может быть длительным, как путешествие в поезде, как полет в аэроплане. И в том, что происходит сейчас, уже есть тень конца, неизбежного и неотвратимого. И оттого, что эта тень неудержимо приближается к нам, все приобретает печальный и неповторимый оттенок, которого не было бы, если бы мы этого не знали. Иногда, сделав необыкновенное усилие, чтобы избавиться от мысли об этой властной и, быть может, в конце концов, мнимой неотвратимости, я задавал себе вопрос: почему, в сущности, это непременно должно быть именно так?
Я сказал ей однажды об этом. Она посмотрела на меня пристально и спросила:
– Ты хотел бы оказаться на месте моего будущего мужа?
– Разве это так невероятно? Почему?
И тогда, первый и последний раз за все время, она сказала мне то, что было для нее совершенно нехарактерно:
– Потому, что я тебя люблю и думаю, что ты заслуживаешь лучшего – того, что есть сейчас и чего он никогда не будет знать.
Она поднялась со стула – мы сидели в кафе, была летняя ночь, на небе светили звезды, – сжала мою руку своими сильными и теплыми пальцами и сказала:
– Теперь проводи меня домой. Потом ты мне постелешь кровать, разденешь меня, отнесешь меня в ванную, потом принесешь обратно и пожелаешь мне спокойной ночи. Хорошо?
Она имела жестокость, почти непонятную и ненужную, как мне казалось, настоять на том, чтобы я присутствовал на ее свадьбе. Это была, как она сказала, ее последняя просьба. Несмотря на то что это мне казалось самым тягостным испытанием, какое могло выпасть на мою долю, я тогда еще был лишен душевной возможности отказать ей в чем бы то ни было. Я пришел в мэрию, где это должно было происходить, – и туда же явился Мервиль; я знал, что он был верным другом и что я мог рассчитывать на него во всех обстоятельствах. Когда мы с ним вышли на улицу после того, как кончилась церемония, я спросил его, не удержавшись:
– Ты пришел сюда как на мои похороны?
– Она вышла замуж за фабриканта мебели, – сказал он, не отвечая на мой вопрос. – Откровенно говоря, я полагаю, что ты этого все-таки не заслужил. Это похоже на финал какой-то пьесы дурного вкуса. Но в чем я убежден, это в том, что счастлива она не будет.
Сабина исчезла из моей жизни, и я был готов иногда проклинать свою память, сохранившую все, что было с ней связано. С тех пор прошли годы, я очень хорошо знал, что все это совершенно непоправимо и что, может быть, это не заслуживает сожаления. Но каждый раз, когда мое внимание не было отвлечено тем, чем я был занят в тот или иной момент, передо мной возникали ее сначала ледяные, потом тающие глаза – и тогда все, что окружало меня, становилось похожим на безмолвное напоминание о том, что вне этого исчезнувшего теперь мира остается только та же самая идея смерти и конца, явная во всем, – будь это каменная симфония готического собора, музейное великолепие Лувра, ночной пейзаж южного моря или книга, которую я читал. Зачем Мервиль еще раз напомнил мне об этом?
В течение всей весны, дождливой и холодной, и начала лета я не видел ни одного из моих друзей. Мервиль был всецело погружен в то, что происходило теперь в его жизни, Эвелина была занята Котиком, метампсихозом и кабаре, Андрей был в Сицилии, о том, где был Артур, я не имел представления. И в начале лета я уехал на берег моря, на юг Франции. Перед отъездом я позвонил Мервилю. Он попросил меня сообщить ему с юга мой адрес и сказал, что в ближайшем будущем он тоже думает вернуться в ту виллу, возле Канн, где я прожил у него несколько дней прошлым летом.
Я поселился в маленьком местечке недалеко от Канн, отправил Мервилю открытку с моим адресом, но чувство облегчения, которое я испытал от того, что был в тысяче километров от Парижа, продолжалось недолго. Через три дня после приезда я увидел в вечерней парижской газете сообщение о том, что в Перигё, где мы были с Андреем, в этом маленьком городе, который возникал в моей памяти, окутанный туманом и дождем, начался процесс Клемана, садовника Жоржа. Читая отчеты о заседаниях суда, я убедился еще раз, что, в сущности, обвинение не располагало никакими неопровержимыми уликами, что тщетно подчеркивал защитник Клемана. Он не мог, однако, не отдавать себе отчета в том, что казалось очевидным со стороны, а именно что приговор Клеману был вынесен заранее и вне зависимости, как это ни дико звучало, от его подлинной виновности или невиновности. На суде излагалась его биография: он был батраком, был чернорабочим, наконец, садовником. У него была жена, изображавшаяся во всех газетах как несчастная, забитая женщина, у которой не хватало денег, чтобы накормить детей, потому что Клеман пропивал все свои заработки. Многочисленные свидетели и соседи подтверждали, что он часто избивал и жену и детей. В его прошлом было несколько краж, правда, не очень значительных. В газетах я неоднократно видел его фотографию, всегда почему-то одну и ту же, где он был представлен в своей рабочей куртке и в кепке. Наружность его тоже, конечно, не располагала к себе: у него было тупое лицо, отяжелевшее, по-видимому, от хронического пьянства, и маленькие глаза. Он упорно отрицал свою вину, но простодушно признавался, что ненавидел Жоржа и что известие о его смерти его нисколько не огорчило.
Я знал со слов Андрея, что Клеман не совершал убийства, в котором его обвиняли. И оттого, что я ничем не мог ему помочь, меня охватывало тягостное чувство своей смутной ответственности за то, что происходило. Может быть, Андрей был по-своему прав и Клеман не заслуживал лучшей участи. Но в конце концов его судили – по крайней мере теоретически – не за то, что он пил и бил жену и детей, а за убийство, в котором он не был виновен. Обвинению, которое было предъявлено ему следователем и прокурором, которые привыкли к логическому мышлению, он мог противопоставить только отрицание своей вины и свое убогое простодушие, которое могло лишь повредить ему. Во время следствия он несколько раз выходил из себя и кричал, что его не имеют права держать в заключении, что он жертва судебного произвола. Он выражался иначе, но смысл его протеста был именно таков. Тогда его обвинили в оскорблении представителей министерства юстиции. Его судьями были люди, хорошо знавшие его, жители этого же города, и каждый из них относился к нему отрицательно. Его жизнь стала известна во всех подробностях, и некоторые из них не могли не показаться удивительными. Он, как это выяснилось, имел известный успех у женщин, этот маленький, грязный и свирепый человек, был крайне мстителен и, в частности, однажды чуть не убил местную гадалку, обещавшую ему, что одна из этих женщин, которая его бросила, его опять полюбит, – и не выполнившую своего обещания. В жизни его, – насколько можно было себе составить о нем представление, читая газеты и не видя его самого, – главную роль играли две черты его характера, друг друга, казалось бы, взаимно исключающие: алкоголь и стяжательство. Когда он на некоторое время переставал пить, он начинал копить деньги, лишая по-прежнему жену и детей необходимого. Я невольно задумался, прочтя об этом. Откуда у этого темного человека, жившего всегда в убогой лачуге, носившего круглый год одно и то же рабочее платье, возникла мечта о каком-то будущем богатстве и что бы он стал с ним делать? Впрочем, жестокая скупость Жоржа была так же преступно бессмысленна, как стремление его садовника к богатству. Жорж ему платил четыреста франков в месяц, и я подумал, что иначе это быть не могло. Клеман заплатил пятьдесят франков гадалке за то, чтобы она заставила его бывшую любовницу, здоровенную крестьянку тридцати лет, оставившую его для соседа, вернуться к нему. И когда выяснилось, что гадалке это не удалось, он чуть ее не задушил, ее спасли подоспевшие соседи. Гадалка тоже была на суде в качестве свидетельницы.
Я отложил газеты. В каком бедном и темном мире все это происходило! Клеман верил, что за пятьдесят франков гадалка может сделать так, чтобы его бывшая любовница вернулась к нему и согласилась бы выйти за него замуж и он стал бы хозяином ее фермы, коров и земли, – в этом, собственно, и заключался его план, и он доверил его выполнение пожилой женщине в черном платье, которая, как он думал, имела власть над чувствами людей и могла заставить их поступать так, как она находила нужным. Но и она, эта профессиональная гадалка, тоже верила в какие-то оккультные силы, заговоры, кофейную гущу и комбинации игральных карт, она была твердо убеждена в своем призвании, и ее деятельность была жульнической, в сущности, только наполовину. Ее клиентки и клиенты, невежественные люди, платили ей деньги за ее воображаемую власть над событиями и человеческими чувствами. И она сама, немногим отличавшаяся от них и такая же малограмотная, как они, не могла им сказать, что это вздор и обман, и не могла даже сама этого подумать: в это верили, стало быть, это было так. Жена Клемана была поденщицей, и он отнимал у нее деньги, которые она зарабатывала. Дети его были одеты в лохмотья, маленькая девочка и два мальчика, старшему из которых было восемь лет. – Он нам всегда говорит гадкие слова, и он очень страшный, – сказал этот мальчик журналисту, который разговаривал с ним. Я начинал понимать Андрея: может быть, такого человека действительно не стоило защищать. В эти же дни, во время процесса, я получил из Сицилии письмо от Андрея, отправленное в Париж, откуда мне его переслали.
«Я вспомнил о тебе, потому что один из моих соотечественников, постоянно живущий здесь и получающий парижскую газету, передал мне несколько номеров, в которых напечатаны отчеты о деле Клемана. Я не сомневаюсь, что ты их тоже читал. Ты помнишь наши разговоры об этом? Теперь, когда ты знаешь, что представляет собой Клеман, склонен ли ты по-прежнему утверждать, что твоя идея правосудия имеет в данном случае какое бы то ни было моральное основание? Ты был готов поставить мне в вину то, что я отнесся к участи этого человека с таким недопустимым, как ты сказал, равнодушием. Продолжаешь ли так думать теперь? Защищал бы ты его на моем месте? Думаешь ли ты, что отвлеченное представление, сколько бы оно ни казалось положительным, можно противопоставить той животно-человеческой мерзости, в которую ты погружаешься, когда читаешь отчеты об этих судебных заседаниях? Спроси об этом Мервиля, – ты знаешь, что он лучше нас всех, – и он первый скажет тебе, что прав был я, а не ты.
Мне кажется, что с того времени, когда мы сидели с тобой в Перигё перед сырыми дровами, так плохо разгоравшимися в камине, в этой огромной гостиной Жоржа, прошло чуть ли не целое столетие. Солнце Сицилии! Я прожил всю жизнь в какой-то душевной дрожи от внутреннего холода. Мой брат ненавидел меня, мой отец меня презирал, я никогда не знал ни удачи, ни спокойствия, ни даже той минимальной обеспеченности, которая была бы естественна для человека моего происхождения. Теперь все это кончено. Я медленно согреваюсь здесь и живу, стараясь не думать и особенно не вспоминать ни о чем. Еще немного времени, – может быть, несколько месяцев, – и мы снова увидимся с тобой в одном из тех кафе Латинского квартала, где прошла наша молодость.
Теперь еще одно. Артур мне писал, что ты отнесся к тому, что он говорил о м-м Сильвестр, скорее иронически. Что касается меня, то я верю его интуиции, тем более что эта женщина произвела на меня такое же впечатление, как на него. Вряд ли это только случайное совпадение. Подумай об этом, пока не поздно, и не забывай, что на тебе лежит известная ответственность за то, что может произойти».
Я ответил ему, что я не могу убеждать Мервиля при помощи таких доводов, как интуиция и впечатление, что и у Артура и у него, Андрея, повышенная чувствительность, отчего вещи могут казаться им не такими, каковы они в действительности, и я не думаю, что Мервилю угрожает опасность.
На следующий день в газетах было сообщено, что Клеман приговорен к двадцати годам каторжных работ.
Я должен был себе признаться, что – как бы жестоко или несправедливо это ни казалось – я предпочитал те периоды жизни Мервиля, когда он терял на время то, что называл лирическим миром, или думал, что он его потерял. В действительности потери этого мира не было, было только то, что представление Мервиля о нем оказывалось не таким, как представление тех, с кем его связывала судьба, и это в свою очередь объяснялось его умственным и душевным превосходством над всеми его спутницами в том сентиментальном путешествии, которое продолжалось всю его жизнь. Но когда он был несчастен, он был способен понимать то, о чем в наиболее бурные периоды его романов он совершенно забывал, точно это переставало для него существовать. Когда он был несчастен, он был прекрасным и внимательным собеседником – качество, которое он неизменно терял всякий раз, когда погружался вновь в свой лирический мир.
– Моя жизнь, – сказал он мне как-то, – проходит в судорожных, но чаще всего неуспешных попытках найти какое-то гармоническое эмоциональное равновесие, которое иногда кажется мне недостижимым. Поверить до конца в эту недостижимость я не могу. Бели бы я в нее поверил, то не стоило бы жить. Но я часто думал – в чем состоит твоя жизнь? Я знаю тебя давно, и если бы меня спросили о тебе, я мог бы сказать многое. Но на этот вопрос я не мог бы ответить.
Этот разговор происходил у него на квартире зимой в Париже. Я выпил за ужином несколько бокалов вина, к которому я не привык, и находился в приподнятом настроении, и мне было легче говорить в тот вечер, чем обычно. – У меня такое впечатление, – сказал Мервиль, – что ты как будто немного размяк душевно, ты понимаешь? И в том, что ты можешь сегодня сказать, не будет, я надеюсь, той какой-то геометрической логики, которая составляет главный недостаток твоих рассуждений. Ты все пытаешься анализировать, и всякий отдельный случай ты склонен рассматривать как своего рода эмоциональную алгебраическую задачу. Но не все можно анализировать, ты это знаешь, ты только делаешь вид, что вот с высоты твоей беспристрастности это представляется так-то и так-то, а в самом деле ты вряд ли в это веришь. Почему ты так смотришь на меня? Ты считаешь, что я не прав?
– Нет, дело не в этом. Ты сказал, что твоя жизнь состоит из поисков эмоциональной гармонии, и спросил, из чего состоит моя жизнь. Я тебе постараюсь ответить.
Я закрыл глаза. Передо мной проходили разрозненные, беспорядочные эпизоды и пейзажи – снежные поля, южное море, леса, холод и зной, далекие воспоминания, глаза Сабины и желание, не менее повелительное, быть может, чем у Мервиля, – найти во всем этом какой-то смысл, который связывал бы все это в понятную последовательность, характерную для одной человеческой жизни.
– Если ты спишь, то я хотел бы знать, что тебе снится? – спросил Мервиль.
– Я стараюсь найти ответ на твой вопрос, – сказал я. – Ты знаешь, чего мне хотелось бы больше всего? Моя жизнь тоже проходит в поисках. Я хотел бы найти наконец возможность воплощения, ты понимаешь? Я хотел бы быть портным, сапожником, депутатом парламента, архитектором, то есть найти что-то определенное раз навсегда и не теряться в тех бесконечных блужданиях, в которых проходит мое существование. Я чувствую себя иногда старухой, у которой отвисает нижняя челюсть и трясется голова, или чернорабочим, язык которого состоит из четырехсот слов, бухгалтером или приказчиком мебельного магазина, социалистическим оратором, произносящим речь о прогрессе и демократии, солдатом на войне или влюбленной девушкой, цирковым акробатом или взломщиком несгораемых шкафов – и вот это многообразие, к которому я, по профессиональной обязанности, принуждаю свое бедное по природе воображение… Во всем этом, ты понимаешь, я давно себя потерял. И вот я иногда встряхиваюсь, мне хочется забыть о всех этих людях и стать наконец самим собой. Но самого себя я придумать не могу, так как если я это сделаю, то окажется, что это не я, а опять-таки какой-то воображаемый персонаж. Я знаю, что со стороны это не может не казаться странным, но это именно так. И должен тебе сказать, что это очень тягостная вещь.
– Это похоже на жизнь актера.
– Если хочешь, да, но с той разницей, что актер говорит слова, которые написал автор пьесы, а я должен быть и автором и актером. Мне иногда удается от всего этого избавиться на некоторое время, обычно после того, как я кончаю книгу, которую я писал. Но те разрушительные усилия, которые я должен делать, утомляют меня настолько, что у меня не хватает сил вернуться к самому себе и построить для себя какую-то утешительную и положительную схему. И в лучшем случае я погружаюсь в пустоту, где нет ничего. Это то, что тебя всегда пугало и что я, напротив, готов приветствовать каждый раз, когда у меня появляется эта возможность.
– Нирвана? – сказал Мервиль.
– Во всяком случае состояние, которое не требует от тебя никаких усилий, в котором вообще нет таких понятий, как необходимость, желание, стремление, действие. Это уход от всего, что обычно наполняет твою жизнь. Но это в то же время не похоже на погружение в небытие. У тебя в этом состоянии остается самая ценная, по-моему, возможность, которая дана человеку, – созерцание. Ты видишь жизнь, которая проходит перед тобой, но не принимаешь в ней участия. Перед тобой начинается беззвучное движение, за которым ты следишь и смысл которого тебе становится яснее и понятнее, чем когда бы то ни было.
– Я знаю ощущение пустоты, – сказал Мервиль, – но, по-моему, это самая печальная вещь, какая только может быть.
– У тебя не это ощущение, у тебя другая пустота, кажущаяся. Это не пустота, потому что она наполнена сожалением о том, что должно было бы быть и чего не было или что оказалось не таким, как ты думал. Это другое.
– Но такое состояние у тебя бывает сравнительно редко, – сказал Мервиль. – А в остальное время?
– В остальное время, милый мой, это блуждания и невозможность воплощения.
– В сапожника или депутата парламента?
– Хотя бы. Ты никогда не думал о том, что в упорном и постоянном занятии литературой есть что-то почти клинически неестественное? Где ты видел нормальных людей, которые занимаются литературой?
– Сколько угодно, – сказал Мервиль. – Они этим зарабатывают деньги и делают это так же, как если бы они торговали обувью или промышленными изделиями. Но ты, конечно, не их имеешь в виду.
– Нет, я имею в виду, как ты понимаешь, нечто другое. Писатель, вообще говоря, это человек с каким-то глубоким недостатком, страдающий от хронического ощущения неудовлетворенности. Его личная жизнь не удалась и не может удаться, потому что он органически лишен способности быть счастливым и довольствоваться тем, что у него есть. Он не знает, что ему нужно, не знает, что он собой представляет, и не верит до конца своим собственным ощущениям. Вся его литература – это попытка найти себя, остановить это движение и начать жить как нормальные люди, без неразрешимых проблем, без сомнений во всем, без неуверенности и без понимания того, что эта цель недостижима. Когда он пишет книгу, у него есть смутная надежда, что ему удастся избавиться от того груза, который он несет в себе. Но эта надежда никогда не оправдывается. В этом его несчастие и его отличие от других людей.
– Ты забываешь о тщеславии.
– Тщеславие – это тоже неуверенность в себе.
– Одним словом, все отрицательно?
– Нет, – сказал я, – в конце концов, это можно себе представить так. Ты пишешь книгу. Зачем? Почему? Потому что тебе кажется, что ты понял и увидел какие-то вещи, которых не поняли или не успели понять и увидеть другие, и ты хочешь с ними поделиться своими соображениями, которые тебе кажутся важными. Ты стремишься понять мир, в котором ты живешь, и передать это понимание другим, – это понимание и это видение мира. Это, конечно, не все, есть другие побуждения, которые заставляют тебя писать, – графомания, которой страдают все литераторы, тщеславие, о котором ты говорил, та или иная степень мании величия и периодическая атрофия твоих аналитических способностей, – потому что если бы этой атрофии не было, ты бы понимал, что книгу, которую ты пишешь, вообще писать не стоит.
– Значит, большинство книг, по-твоему, написано напрасно?
– Несомненно.
– А те книги, которые ты пишешь?
– Тоже.
– Зачем же ты это делаешь?
– Если бы ты мог мне это объяснить, я был бы тебе благодарен.
– Это на тебя вино так подействовало, – сказал Мервиль. – Если бы ты был в нормальном состоянии, ты говорил бы об этом иначе.
– Может быть, – сказал я. – Но есть еще другая причина – никому, кроме тебя, я бы этого не сказал.
– Почему именно меня?
– Во-первых, потому, что ты полон благожелательности. Во-вторых, потому, что это собственно тебе следовало бы писать романы, а не мне, у тебя для этого больше данных, в частности воображения.
– Откуда ты это взял?
– Ну, милый мой, вся твоя жизнь это доказывает. Ты встречаешь какую-то женщину, и через некоторое время она перестает быть такой, какой была до этого, с ней происходит необыкновенное превращение. Выясняется, что она всегда любила Рильке, что она предпочитала Ван Гога Гогену, что она, как никто другой, поняла гений Донателло, что она не может оторваться от книг Паскаля. Но все это результат твоего восторженного бреда. И потом вдруг в какое-нибудь холодное осеннее утро, – если оставаться в традициях классического романа, где погода должна соответствовать чувствам героев, – ты вдруг начинаешь понимать, что все это – твое воспаленное воображение, что она не способна отличить Рильке от Жеральди, Рембрандта от Мейсонье и Донателло от Ландовского. Но и это еще не самое важное. Ты награждаешь ее душевными качествами, которых у нее нет и никогда не было. И ты все это называешь исканием эмоциональной гармонии.
– Ты знаешь, почему ты не прав? – сказал Мервиль. – И ты знаешь, в чем ты не прав? Ты хочешь, чтобы я тебе это объяснил?
– Нет, – сказал я, – я знаю, что ты скажешь или, вернее, что сказал бы я, если бы я был на твоем месте. Я бы ответил, что действительности, вообще говоря, нет. Действительность создаем мы, такую, какой она нам нужна, какой она должна быть. И если факты этому не соответствуют, тем хуже для фактов. Женщина, которую я люблю, не может не понимать того, что понимаю я, в том числе Рильке, Донателло и Паскаля. И пока у меня хватает душевной силы и чувства, я вижу ее именно такой, и это не может быть иначе.
– В конце концов, эта эмоциональная гармония и мир, в котором она заключена, это не бред и не воображение, это существует, только надо это найти. Конечно, нет ничего легче, как сказать, что только наивные и восторженные люди в это могут верить. Но это неверно, это нечто вроде душевной капитуляции.
– Другими словами, лучше быть Дон-Кихотом, чем Гамлетом. Но я тебе скажу еще одну вещь. Вот у нас с тобой расхождение. Я считаю, грубо говоря, что ты теряешь время напрасно, стремясь к явно недостижимой цели. Ты считаешь, что я упускаю из виду и исключаю из своей жизни лучшее, что может быть. Получается приблизительно так?
– Да, но очень приблизительно.
– Теперь я тебе скажу, мой милый, что я действительно думаю. Я полагаю, что в этом споре, – опять-таки если это можно назвать спором, – прав ты. Я говорю это не для того, чтобы доставить тебе удовольствие, а потому что я действительно в этом убежден. И лучше тысячу раз ошибаться, чем не ошибиться ни разу, но ни к чему не стремиться. Это звучит как плохой афоризм, но это именно так.
Я сидел на террасе небольшого кафе над морем, которое было внизу, и на обрыве, спускавшемся к нему, росли пальмы, кипарисы и эвкалипты. Был конец жаркого дня, медленно приближались сумерки, сверкало солнце в безоблачном небе, на море была легкая зыбь. Вечером меня ждал ужин в приморском ресторане – красное вино, до которого я не дотрагивался в Париже, но которое я пил на юге каждое лето, так, точно в зависимости от этого географического перемещения те же самые вещи изменяли свою природу и свой вкус; рыбные блюда с острой приправой, от которой я тоже отказался бы в Париже, но которую здесь я находил совершенно необходимой; крепкий кофе, потом долгая прогулка вдоль моря и, наконец, глубокий сон в комнате, где, засыпая и просыпаясь, я слышал легкий плеск волн, разбивающихся о берег. От всего этого я испытывал постоянно раздваивающееся ощущение – того, что это доставляет мне долгожданное удовольствие, и того, что я вижу себя со стороны, слежу за всеми этими впечатлениями и испытываю одновременно нечто вроде зависти к самому себе, зависти, за которой идет сознание, что все это временно и случайно, – запах деревьев под солнцем, горячий воздух, особый вкус вина и рыбы и глубокий сои ночью. Я точно не верил до конца тому, что все это действительно так и что это вообще могло бы не быть иначе. И я жалел о том, что за долгие годы я никогда не научился жить без постоянной оглядки назад, что, помимо моего желания, память неизменно возвращала меня к тому, о чем следовало бы забыть, и влачила за собой ненужный груз образов, представлений, чужих жизней, печальной судьбы несуществующих людей, которые возникли однажды в моем воображении и потом не покидали меня, сопровождая меня, как безмолвная толпа созданных мной призраков, от которых я не мог уйти. Но это все-таки не было самым главным. Главным было то, что на вопросы, которые я ставил себе, не было и не могло быть ответа. Иногда я начинал завидовать авторам некоторых книг, которые я читал и где излагались совершенно бесспорные, по мнению этих людей, истины о том, что вне материалистического метода не существует возможности понять мир или что только приближение к христианским откровениям может спасти человека от бездны, на краю которой он стоит. Я вспоминал споры с моими товарищами о воображаемых и недоказуемых законах истории и о длительном бреде старого и несчастного в личной жизни человека с длинной бородой, бесчисленные и бесполезные портреты которого были теперь развешаны в общественных учреждениях и в кабинетах людей, многие из которых ничего не поняли в его архаических теориях. Но христианство…
Наступали сумерки, пора было идти ужинать, но мне не хотелось уходить, и мне вдруг стало казаться что вот еще одно усилие, еще несколько, быть может, минут, и все станет ясно, и я наконец пойму… По длительному опыту я знал, что это могло быть только иллюзией и что я никогда не найду одного определенного смысла в том нагромождении чувств, ощущений, мыслей, воспоминаний, видений, из которого состояла моя жизнь.
Мне хотелось есть, и было что-то унизительное в сознании, что судьбы христианства или размышления о той или иной философской системе имели меньше значения сейчас для меня, чем вопрос о сегодняшнем меню ужина. И уже когда, расплатившись, я направился к выходу, я вдруг вспомнил высокого, худого человека с выражением ненависти и страдания в глазах, который был членом крайне левой политической партии и в своих речах говорил о необходимости физического истребления тех классов, которые эксплуатируют труд, и иногда его охватывала настоящая дрожь, вызванная его непонятной злобой. Но и его политические взгляды и его ненависть объяснялись, как я это узнал потом, не длительным изучением и анализом социальных проблем, а мучительной болезнью и связанными с ней личными неприятностями; незадолго до начала его короткой политической карьеры девушка, в которую он был влюблен и которой он сделал предложение, ответила ему со спокойной и неумной жестокостью, что о браке не может быть и речи, так как друзья ей сказали, что у него язва желудка, которая, судя по всему, переходит в рак, и что было бы нелепо, если бы она согласилась на предложение человека, которому остается жить, может быть, несколько месяцев. Именно после этого он стал говорить о необходимости физического истребления класса эксплуататоров. И когда он произносил свои речи, он испытывал нечто вроде мрачного и косвенного удовлетворения, совершенно иллюзорного, – чего он, впрочем, не понимал. Через некоторое время, однако, его политическая карьера кончилась так же неожиданно, как началась. Когда его страдания стали невыносимы, его отвезли в клинику, где его оперировали и выяснилось, что никакого рака у него не было. Он выздоровел, перестал испытывать боли, поступил на службу в банк, вскоре после этого женился, забыв о девушке, которой он делал свое первое предложение, и через три или четыре года после всего этого, ужиная иногда с друзьями в ресторане, он высказывал весьма умеренные взгляды и говорил, что право собственности вносит в человеческое общество тот необходимый фактор равновесия, вне которого нельзя себе представить ни прогресса, ни повышения жизненного уровня. Я встретил его как-то в этот период его жизни, и его нельзя было узнать: он пополнел, отяжелел, глаза его стали невыразительными и почти сонными и от прежнего его политического воодушевления не осталось следа. В том, что с ним произошло, был, конечно, какой-то назидательный элемент, и когда я думал об этом, у меня невольно возникал соблазн обобщений и аналогий: в конце концов, кто знает, если бы судьба более милостиво отнеслась к Марату, если бы он не был дурно пахнущим и покрытым прыщами человеком, может быть, его жизнь сложилась бы иначе, он не мстил бы своим современникам за то, что к нему трудно было не питать отвращения, – и мог бы умереть от несварения желудка или просто от старости, без ножа Шарлотты Кордэ в груди, не оставив в истории Франции ни следа, ни воспоминания о своем дурном запахе, своих преступлениях и своей трагической судьбе, – трагической не потому, что его было бы жаль, а оттого, что обстоятельства его смерти казались зловеще убедительными и при воспоминании о них возникала идея возмездия, чрезвычайно спорная. Я успел подумать обо всем этом, пройдя то небольшое расстояние, которое отделяло кафе, откуда я вышел, до ресторана, куда я пришел ужинать и где я собирался заказать себе буйабес.
В этом ресторане все говорило о юге, начиная от пряных запахов и кончая акцентом, с которым говорили все служащие. Недалеко отсюда была Ницца, где родилась и выросла м-м Сильвестр, – и я опять вспомнил о Мервиле. В сущности, я был искренно рад за него, независимо от того, что представляла собой в действительности м-м Сильвестр и что скрывалось за неподвижным взглядом ее глаз. И я подумал, что я даже не слышал ее голоса. В тот вечер, когда я видел ее в кабаре Эвелины, я слышал только прерывающуюся от волнения речь Мервиля, в ответ на которую она молчала, сознавая, быть может, что в конце концов слова не могут быть такими же выразительными, как ее глаза и движения. Она могла не думать об этом, но безошибочным своим инстинктом она знала, что дело было не в том, что она скажет или чего она не скажет. То, что приближало ее к Мервилю, было похоже на немую симфонию, в которой слова были только далеким и неверным отзвуком чего-то, что не укладывалось в последовательность фраз и что было в эти минуты важнее всего другого. Я подумал, что в своем споре со мной Мервиль был, может быть, прав: ощущения, которые он испытывал, создавали целый мир – и созерцание этого мира давало ему представление о той идее совершенства, возникновение которой в человеческом сознании Декарт считал неопровержимым доказательством существования Бога. Все это началось с той памятной декабрьской ночи, когда мы приехали с Мервилем на открытие кабаре Эвелины. С тех пор прошло много времени, и я ни разу после этого не видел ни Эвелины, ни Андрея, ни Анжелики, никого из тех, кто был там, кроме Мервиля. И только раз, поздней весной, на террасе одного из кафе на Елисейских полях я встретил спутника м-м Сильвестр, любителя литературы. Он пригласил меня за свой столик. После первых слов разговора я сказал ему: – Я помню, что одним из ваших последних увлечений был Джойс, о котором вы столько говорили, когда мы с вами были в кабаре возле Елисейских полей зимой прошлого года.
– Да, да, прекрасно помню, – сказал он. – Джойс один из гениев нашего времени, который… – Кстати, – сказал я, – кто была дама, которую вы сопровождали в тот вечер? – Какая дама? – спросил он с удивлением. – Дама? Я был один, насколько я помню. – Но во всяком случае вы сидели с ней за одним столиком.
Он делал мучительные усилия, чтобы вспомнить это, но, по-видимому, он тогда был настолько пьян, что все происходившее в кабаре представлялось ему неверным и расплывчатым; он, оказывается, плохо переносил шампанское и даже был удивлен, что говорил со мной о литературе. В сущности, думал я, что можно было от него требовать? Он жил среди книг, содержания которых он не понимал или понимал не так, как следовало. Что касается живых людей, то они его мало интересовали, даже если занимались литературой, – и в этом смысле одно из его высказываний было чрезвычайно характерным; он как-то сказал, говоря об одном известном писателе, что тот, к сожалению, еще жив, и объяснил при этом, что мы можем составить себе окончательное суждение о творчестве того или иного автора только после его смерти, которую он рассматривал как нечто вроде решающего и необходимого критерия или литературной оценки. И в его длительном путешествии через воображаемый мир героев и авторов-героев, которых не существовало, и авторов, которые умерли, – в этом путешествии появление м-м Сильвестр, о которой он не мог вспомнить, было, конечно, совершенно незначительным эпизодом, не заслуживавшим внимания. Словом, он был последним человеком, который мог бы мне дать какие-либо сведения о ней.
Я ужинал один в просторном ресторане. С моря дул легкий ветер, горячий буйабес был таким, каким он бывает только на юге Франции, и между ним и тем буйабесом, который я иногда зимой ел в Париже, была такая же разница, – это сказал мне как-то Мервиль, – как между оригиналом картины и ее копией. Но даже в Париже вкус буйабеса сразу и с необыкновенной силой возвращал меня к этому южному пейзажу моря, сосен на песке, пальм, кипарисов, эвкалиптов, зарослей мимоз, раскаленного воздуха, легкой ряби на синеватой или зеленоватой воде. Прошлым летом я говорил Мервилю, который был в безутешном настроении: – Как понятно, что эллинская культура, наследством которой мы живем уже больше двух тысяч лет, возникла именно на этих берегах. – С другой стороны Средиземного моря, – мрачно сказал он, – география не допускает произвольных толкований. – Все представлялось ему тогда печальным, обманчивым и несущественным, и упоминание о чем бы то ни было – будь то эллинская культура, римская цивилизация или расцвет Возрождения, – все это непонятным, но неудержимым образом пробуждало вдруг в его памяти интонации умолкнувшего для него голоса, выражение глаз или движения той, в которой он так жестоко ошибся. – Выражение, вероятно, не изменилось, интонации тоже, – сказал я, – и что делать, если они обращены теперь не к тебе? Они остались такими же, какими были раньше, и если они тебе тогда казались замечательными и неповторимыми, то они не менее замечательны и неповторимы теперь. Попробуй отказаться от эгоцентризма, – тебе не хватает склонности к созерцательному мышлению. – Бели бы я тебя не знал, – ответил он, – то, выслушав твою тираду, я бы мог подумать, что ты не способен понять что бы то ни было в том, что мы условно называем эмоциональным миром. Но я тебя знаю давно и хорошо, и вся твоя логика и твой беспристрастный, как ты говоришь, анализ меня убедить не могут. Ты выдумал себе совершенно воображаемое и неверное представление о своем собственном облике – все иллюзия и обман, наши чувства случайны и непостоянны, единственное, что имеет ценность, это правильное, по мере возможности, суждение о том, что происходит или произошло, суждение, основанное на якобы неопровержимом сравнительном методе, – все, что ты так хорошо понимаешь, жалея тех, кто это понимает иначе, чем ты, то есть, ошибочно, тех, кто придает некоторым вещам преувеличенное значение. Но все это, милый мой, только ширма, и я мог бы тебе доказать, как дважды два четыре, что ты так же уязвим, как другие, если не больше. Но ты с бесплодным усердием продолжаешь играть роль, которую себе сам придумал. Меня, во всяком случае, ты в заблуждение не введешь. – Я никогда не собирался вводить тебя в заблуждение, – сказал я. – Но ты не делаешь никакого усилия, чтобы понять некоторые вещи не только так, чтобы твое суждение всецело зависело от твоего чувства, положительного или отрицательного. Ты понимаешь, что это не может быть так просто: все хорошо, если ты счастлив, и все плохо, если ты несчастлив. Искусство, музыка, поэзия, лиризм – все расцветает, когда ты смотришь в единственные в мире глаза, чудесно отражающие твое чувство, – и все увядает, когда ты больше не видишь этих глаз. Но в конце концов искусство имеет какую-то постоянную ценность, которая не меняется от того, что ты в такое-то время испытываешь те или иные чувства. Этого ты отрицать не можешь. – Кто говорит об отрицании самой бесспорной из истин? – сказал он. – Но вот все это великолепие, которое возникает передо мной, как блистательное подтверждение моих чувств тогда, когда они, как ты их скучно называешь, положительны, – это великолепие только усиливает мое ощущение эмоциональной катастрофы или провала, – тогда, когда эти чувства отрицательны. Ценность искусства, может быть, остается неизменной. Но в одном случае это подтверждение счастья, в другом это напоминание о его потере. – Нет, ты неисправим, – сказал я.
В чем была замечательность этого буйабеса? Его вкус неуловимым образом переходил из физиологического, в конце концов, ощущения в нечто трудноопределимое и почти отвлеченное, заключавшее в себе этот южный пейзаж и возвращение к мыслям об эллинской культуре, и мне казалось, что, где бы я ни был, воспоминание об этом вкусе будет всегда содержать в себе те представления, которые – именно в этом соединении – не могли бы возникнуть при других обстоятельствах. И холодный воздух той декабрьской ночи, когда в кабаре Эвелины произошла вторая встреча Мервиля с мадам Сильвестр, начинал мне казаться бесконечно далеким – так трудно мне было его себе представить. Я закрыл на секунду глаза, думая об этом, – и тогда, из дали и холода, передо мной появилась бедная Анжелика, с ее фиалками на морозе и наивно выдуманной историей ее жизни, в которой она так давно и безнадежно запуталась, с этой нелепой ложью о прошлом, которого не было нигде, кроме ее воображения, возбужденного алкоголем. Она точно всплывала передо мной с парижского дна, из этого мира людей, давно погрузившихся в пьяное небытие, ночных бродяг, странников и нищих, – мира, который я видел в Париже и потом в Нью-Йорке, на улицах Баури, где я обходил тела в лохмотьях, лежавшие на мостовой или на тротуаре, не зная – трупы это или спящие, где на растрескавшейся двери убогой гостиницы была надпись «Только для мужчин». Таков был мир Анжелики, призрачный и трагический, в котором люди двигались как сквозь смертельный сон. Фиалки – и ледяной ветер зимней ночи, эти мутные глаза и почти омертвевшая гортань, в которую вливалось красное вино, вылезший мех на воротнике порванного манто, заколотого в разных местах английскими булавками, холодный чердак или сырой подвал, где она жила и куда она возвращалась почти вслепую на рассвете, – как далеко все это было от той жизни, которую вели мы и которую могла бы вести она, если бы обстоятельства сложились иначе. И ничто не могло помочь ни Анжелике, ни ее сестрам и братьям по несчастью в этом Богом забытом мире – и я подумал, что только, быть может, в последний день над деревянным ее гробом хор русской церкви будет петь эти незабываемые и торжественные слова «со святыми упокой» – если ей не будет суждено быть похороненной в братской могиле муниципального кладбища, откуда в объятиях ангела с лебедиными крыльями ее бедная душа вознесется туда, где «несть ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная», – как это давно, в моем детстве, объяснял нам отец Иоанн, наш законоучитель, высокий человек в рясе, с лицом пророка и картинной черной бородой. Славянские глаголы в их архаическом великолепии медленно струились в его речи, и он всегда оставался для нас живым образом того библейского и евангельского мира, о котором он говорил на своих уроках и в своих проповедях в церкви: Иисус Навин останавливал солнце, пророк Даниил стоял, окруженный львами, горела и не сгорала неопалимая купина, апостол Павел писал свои послания, и на Царских Вратах нашей церкви, освещенные огнем восковых свечей, горели слова: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные и Аз упокою Вы».
В тот вечер я прошел большое расстояние вдоль моря. После знойного дня воздух стал свежим, по временам поднимался небольшой ветер, шипела пена волн, откатывающихся от берега, шуршала галька, и не было вокруг ничего, кроме темного моря и неба. Я шел и думал о людях, которых я знал и которые были мне близки в разные периоды моей жизни, – большинство из них были теперь отделены от меня временем и расстоянием. Я вспомнил, как давно, в бурную осеннюю ночь в России мы сидели – трое моих товарищей и я – в жарко натопленном доме на севере Крыма и когда ужин подходил к концу, один из нас предложил – что бы ни случилось и где бы мы ни были – встретиться ровно через пять лет, в четыре часа дня, в Париже, возле обелиска на площади Конкорд. Через пять лет, в назначенный день и час я пришел к обелиску и, конечно, никого из моих товарищей там не было. Этого следовало ожидать – как можно было рассчитывать на верность этой юношеской клятвы? Но в тот день я впервые почувствовал, что мир, в котором я живу, постепенно и безвозвратно уходит от меня и никакая сила этого изменить не может.
Значительно позже я узнал о судьбе моих товарищей: один остался в России, другой умер от туберкулеза в Германии, третьего судьба занесла в Южную Америку, где он бесследно исчез. Я остался один, – с ненужной верностью этому обещанию встречи, которой не могло быть, потому что у нас не было власти над нашей судьбой и только случайное стечение обстоятельств позволило мне одному дойти до обелиска площади Конкорд оттого, что на моем пути не было ни невозможности покинуть Россию, ни смерти, ни океана, отделявшего Францию от Южной Америки. Все было результатом миллионов случайностей – смерть, условия жизни, понимание или непонимание самых важных вещей, листок бумаги, на котором Эйнштейн впервые записал свои формулы – и оттого, что он это сделал, через сорок лет после этого на другом конце света сотни тысяч людей с желтой кожей погибли от взрыва атомной бомбы и весь облик мира изменился, но не стал ни понятнее, ни лучше.
Я продолжал медленно идти вдоль моря. Была странная двойственность в отчетливости воспоминаний, возникавших передо мной, и в призрачности моей собственной судьбы и судьбы тех, кого я знал, и мне начинало казаться, что это похоже на длительный бред во сне, который все не может прекратиться. Я видел себя солдатом, рабочим, бродягой, студентом в Париже, наконец, автором романов и рассказов, которые я позже перечитывал с тягостным чувством неловкости и удивления, и мне казалось, что их писал кто-то другой, а не я, – настолько все в них было нелепо и неубедительно. Я понимал причину этого: книги оставались такими же, какими были годы и годы тому назад, а я успевал за это время измениться. Кроме того, от приблизительного соответствия между содержанием книг и литературными намерениями, которые были у меня, когда я их писал, не оставалось больше ничего или почти ничего. Оно, впрочем, всегда носило характер только иллюзорного приближения к тому, что я хотел сказать, и мне никогда не удавалось его выразить сколько-нибудь полно. Но время уничтожало даже эти иллюзии, и каждая законченная вещь имела только одну ограниченную ценность – я еще раз понимал, как не нужно писать, это было чисто отрицательным и бесполезным знанием: я не повторял потом прежних ошибок, но делал другие, не менее непростительные. Это продолжалось много лет, и не было как будто никаких оснований думать, что это когда-нибудь может измениться.
Было уже около одиннадцати часов вечера, когда я вернулся в свою гостиницу. Молодой человек, стоявший внизу, за конторкой, сказал мне:
– Вам только что звонили из Парижа и просили передать, что позвонят опять через четверть часа.
– Я буду у себя в комнате, – сказал я.
Я не успел раздеться, как раздался телефонный звонок. Голос Мервиля сказал:
– Куда ты делся? У тебя все благополучно?
– Ты боялся, что я утонул? Нет, все обстоит нормально. Что у тебя?
– Я хотел тебя предупредить, что приеду дней через десять, глупейшие дела, которые меня задержали. Как идет твоя жизнь?
– Юг, солнце, буйабес, прогулки и размышления о разных вещах, – сказал я. – Ничего интересного, но в общем лучше, чем в Париже. Ты знаешь, я всегда мечтал быть адмиралом в отставке и жить на берегу Средиземного моря. При небольшом усилии воображения я могу себе это представить. Значит, жду тебя через десять дней.
Каждое утро я шел к пустынному месту берега, где среди невысоких скал была узкая полоска каменистого пляжа. Расстелив там циновку, я ложился на нее и лежал так часами под знойным солнцем. Потом, когда становилось невыносимо жарко, я бросался в воду с плоского, покрытого мхом камня, и ощущение блаженной прохлады охватывало меня. Отплыв от берега, я ложился на спину, потом нырял, затем опять поднимался на поверхность воды и через некоторое время возвращался на берег. Это я повторял несколько раз каждое утро. Кончив купанье, я шел в гостиницу, где обедал, а после обеда ложился спать. Через час или полтора я вставал, выпивал чашку крепкого кофе и опять шел купаться. Потом я снова возвращался в гостиницу, принимал ванну и шел в кафе пить ледяной оранжад. Потом был ужин и прогулка вдоль моря. В одиннадцать часов вечера я уже был в постели.
Так проходили дни. – Так нужно было бы жить, – думал я, – без обязательств, без проблем, без вопроса о личных отношениях, без происшествий, в этом своеобразном небытии, из которого я возник и в которое мне суждено было вернуться через некоторое время после этого эпизода – моего пребывания на поверхности земли, в таких-то и таких-то странах, в таких-то и таких-то обстоятельствах. И если бы можно было ограничить свою жизнь только таким времяпрепровождением, это было бы лучше всего. Но каждый раз, когда я просматривал газету, я, помимо своего желания, погружался в тот мир, от которого трудно было отгородиться, мир, в котором играли такую значительную роль невежественные фанатики, убийцы, деспоты и их министры, голодающее население азиатских стран, нищие арабы, американские негры, наркоманы, преступники, проститутки, – и весь тот человеческий мусор, который всегда всплывает на поверхность событий. Это было неизбежной и наиболее отвратительной частью каждого человеческого существования, – во всяком случае в известном кругу людей, – но от этого все-таки можно было держаться вдалеке, не принимая в этом никакого участия. Но был другой мир, в котором я жил, – мои друзья, лучшее, что у меня было, – и о них я не мог забыть и не хотел забывать.
Прошло около двух недель после моего разговора с Мервилем. И вот однажды утром он позвонил мне из той же виллы, где я жил у него в прошлом году, и я приехал к нему обедать. Только тогда я впервые увидел как следует мадам Сильвестр и узнал ее имя – ее звали Маргарита. Она была по типу южанкой – густые волосы, темные глаза, смуглая кожа. Но холодное выражение ее лица резко противоречило этому ее южному облику. У нее был низкий голос, точные и быстрые движения; она была чрезвычайно сдержанна, очень далека от всякой экспансивности и по своей манере держаться напоминала скорее северную женщину. Она говорила мало, но внимательно слушала Мервиля. В ней чувствовалась, как мне показалось, несомненная сила, одновременно душевная и физическая. По ее голосу было слышно, что она умна. И я заметил еще одно, то, чего я не заметил, когда видел ее в первый раз, – и я вспомнил Артура. Она возбуждала очень далекое, очень смутное ощущение какой-то опасности или угрозы, и я не понимал, чем оно могло быть вызвано.
После обеда она сказала, что не очень хорошо себя чувствует, и ушла в свою комнату, на второй этаж. Мы с Мервилем остались вдвоем. – Какое она на тебя произвела впечатление? – спросил он. – Она не похожа ни на одну из тех женщин, с которыми я тебя видел раньше, – сказал я. – Но хорошо это или плохо, об этом я не берусь судить. Что ты знаешь о ее жизни? – Не очень много, – сказал Мервиль, – она об этом говорит неохотно. Родилась в Ницце, кончила лицей, вышла замуж, через год ее муж умер. Родителей ее нет в живых, семья буржуазная, отец морской офицер, мать в молодости была преподавательницей. – Все это как-то невыразительно, – сказал я, – и, конечно, не в этом дело. Как она жила после смерти мужа? Откуда она приехала, когда ты ее встретил в поезде? Как она попала в Париже на открытие кабаре Эвелины? Какое отношение она имела к любителю литературы, с которым она сидела за одним столиком? – Ты знаешь, – сказал он, – я ее, собственно, ни о чем не расспрашивал. – Да, я понимаю, это твой стиль, – сказал я, – полное доверие во всем, при всех обстоятельствах. Но все-таки, неужели тебе не хотелось бы знать, как проходила ее жизнь до встречи с тобой? Даже в том случае, если она была такой, что ей ничего нельзя поставить в упрек? – Да, конечно, – сказал он, – но рано или поздно она, вероятно, заговорит об этом сама. – Я в этом не уверен, – сказал я. – И может быть, не потому, что ей надо что-то скрывать, а просто потому, что она не расположена к душевным излияниям. Но это, конечно, только мое впечатление, и, может быть, я в этом жестоко ошибаюсь.
Что я сразу же заметил, это то, что в мадам Сильвестр, несмотря на ее южный тип, не было той теплоты, которая сразу определяет отношение к женщине всех, кто ее встречает. В ней не было также, как мне показалось, ни притягательности, ни душевного очарования, и в глазах ее не отражалось ни одно из чувств. Оставаясь наедине с Мервилем, она, вероятно, становилась другой, это не могло быть иначе. Но в разговорах со мной, коротких и всегда касавшихся незначительных вещей, она продолжала быть такой же далекой, как в первые минуты. Никакие мои слова или интонации голоса не могли этого изменить. Эта невозможность человеческого контакта была чрезвычайно тягостной и раздражающей, и под разными предлогами я уклонялся от встреч с ней, несмотря на настойчивые приглашения Мервиля.
Однажды утром, когда я был в Каннах и шел по набережной Круазет, я увидел мадам Сильвестр, выходившую из цветочного магазина. Я еще не дошел до магазина, и она меня не видела. В эту минуту к ней приблизился высокий мужчина, который на очень плохом французском языке – он был американец – спросил ее, местная ли она жительница и знает ли она, в каком ресторане можно лучше всего пообедать. Он говорил с таким акцентом, что его трудно было понять, и его запас французских слов был чрезвычайно ограничен. Она пожала плечами и ответила, что никаких ресторанов она не знает. Он не понял того, что она сказала, и опять повторил свой вопрос. Она посмотрела на него и быстро заговорила по-английски. В этом не было ничего удивительного. Удивительно было то, что она говорила так, как говорит толпа в Нью-Йорке, и это не имело ничего общего с академическим английским языком. – Я так рад встретить соотечественницу, – сказал американец. – Я этой радости не разделяю, – сказала она, – оставьте меня в покое и избавьте меня от глупейших вопросов. – Он был явно растерян и изумлен. Он пробормотал – прошу у вас прощения – и пошел в обратную сторону. Я боялся, что мадам Сильвестр может обернуться и увидеть меня, – поэтому я остановился перед витриной ювелирного магазина и подождал, пока она отойдет на известное расстояние.
То, что произошло, показалось мне чрезвычайно странным. Откуда у мадам Сильвестр были эти нью-Йоркские интонации? Вряд ли она могла им научиться в ниццком лицее. На следующий день я спросил Мервиля, воспользовавшись удобным предлогом – он всегда, где бы он ни был, привозил с собой несколько его любимых английских книг и почему-то толстые тома Финнея о Византии. – Я знаю, что это устарело, – говорил он, – но в этом есть приятность и простодушие. – Ты считаешь, что это так ценно, когда речь идет об историческом труде? – Нет, нет, но это очень отдохновительное чтение, не говори. – Я спросил его, не ознакомил ли он мадам Сильвестр со своей передвижной библиотекой, если, конечно, она знает по-английски. – Да, мы с ней кое-что просматривали, – сказал он, – и она неплохо читает вслух. – По-английски или по-американски? – По-английски, – сказал он. – Об Америке у нее только географическое представление, она там никогда не бывала. – Ты в этом уверен? – Она сама мне это сказала. Почему ты спрашиваешь? – Просто так, пришлось к слову.
Прошла неделя, в течение которой я ни разу не видел ни Мервиля, ни мадам Сильвестр. Потом, поздно вечером, когда я поднялся в свою комнату, мне позвонили по телефону снизу и попросили спуститься. Я сошел с лестницы и увидел Мервиля. У него был крайне расстроенный вид. – Что случилось? – спросил я. – Мне нужно с тобой поговорить. – В чем дело? – Это трудно сказать в двух словах.
Мы пошли в бар гостиницы, совершенно пустой в этот час, и сели за столик. Мервиль заказал себе рюмку коньяку, которого он обыкновенно не пил, а проглотил ее содержимое с гримасой отвращения.
– Я тебя слушаю, – сказал я.
– У меня к тебе просьба, – сказал он. – Я должен лететь в Нью-Йорк, где мне надо провести дней пять. Маргарита категорически отказывается меня сопровождать, она говорит, что не выносит полета. Она остается здесь одна. Я буду тебе благодарен, если ты ею немного займешься. – Откровенно говоря, – сказал я, – я думаю, что мое общество ей не доставляет удовольствия. – Она знает, что ты мой друг, и было бы странно, если бы ты даже не поинтересовался тем, что она делает. – Да, да, – сказал я, – но ты знаешь, она меньше всего похожа на девочку, за которой надо смотреть. Она прекрасно может обойтись без меня, тем более что никакой симпатии ко мне она явно не питает. – Это все не так просто, – сказал Мервиль. – Я это вижу, но объясни мне, в чем дело? – Что-то очень странное и тревожное, – сказал он. – Не знаю, как это сказать. Происходит что-то, чего я не понимаю. Несколько раз…
Он остановился и опять заказал себе коньяк. Я покачал головой. – Коньяк тебе не поможет, я думаю, – сказал я. – Ты сказал: несколько раз… – Несколько раз я видел на ее глазах слезы. – Слезы? – спросил я с удивлением. – Это на нее, мне кажется, мало похоже. – Тем более, – сказал он, – что для этого нет решительно никаких оснований. И иногда, ты знаешь, она смотрит на меня так, как будто мы с ней должны через несколько минут расстаться навсегда, – по крайней мере у меня такое впечатление. На мои вопросы она отвечает, что все хорошо, что я напрасно беспокоюсь… Но ты понимаешь? Я чувствую, я знаю, что за всем этим есть что-то очень важное, о чем она не говорит. Я не знаю, что это может быть. Но я думаю, что если бы я ее потерял, это было бы непоправимой катастрофой. Теперь ты понимаешь, в чем дело? – Не больше, чем ты, – сказал я. – В общем, ты боишься, что ты уедешь и когда ты вернешься, то ее здесь не будет? – Что делать? – сказал он. – Я могу отменить поездку в Нью-Йорк, черт с ней. И если бы я думал, что это может чему-нибудь помочь, я бы это сделал. Но я в этом не уверен. И теперь я все чаще думаю о том, что после нашей первой встречи в поезде она дала мне фальшивый адрес – ты помнишь, в Ницце? И только счастливая случайность – кабаре Эвелины – позволила мне ее найти. – Да, да, – сказал я, – все было странно с самого начала.
Мервиль не дотронулся до коньяка и стал спокойнее, как человек, который принял важное решение и именно то, которое нужно принять. – Я могу рассчитывать на тебя? – спросил он. – Может быть, будет лучше, если я буду отсутствовать несколько дней. Ты удержишь ее, если она действительно захочет опять так исчезнуть, как она исчезла в Ницце? – Ты понимаешь, что я не могу тебе этого обещать, – сказал я, – силой ее удержать нельзя. Но я постараюсь убедить ее в некоторых вещах, если она захочет меня слушать.
Мы условились, что на следующее утро я приду к нему, мы втроем поедем на аэродром, затем я вернусь на его машине вместе с мадам Сильвестр на виллу и проведу там весь день, если она на это согласится, конечно, в чем Мервиль не сомневался, но в чем сомневался я.
Был ветреный день, дул мистраль. На аэродроме, несмотря на горячее солнце, было прохладно. Когда аэроплан, на котором улетал Мервиль, поднялся в воздух, мы вернулись к машине в молчании. Я довез мадам Сильвестр до виллы – за всю дорогу она не произнесла ни слова. Потом она вышла из автомобиля и невыразительным голосом сказала, что ждет меня к обеду. Было ясно, что она это обещала Мервилю, так же как то, что она будет вести себя по отношению ко мне иначе, чем до сих пор. Но это ей плохо удавалось.
В половине первого я приехал на виллу. Пожилая женщина, которую Мервиль нанимал для услуг по хозяйству каждый раз, когда приезжал на Ривьеру, подала нам обед. Стол был накрыт на террасе, и пришлось есть на ветру, в чем не было никакой необходимости и что было очень неприятно. Только тогда, когда мы перешли в гостиную, куда был подан кофе, у меня стало понемногу проходить раздражение – оттого, что все это мне казалось бесполезным, оттого, что мадам Сильвестр все время молчала, оттого, что дул мистраль и на террасе некуда было от него укрыться. Я не знал, с чего начать разговор, которого требовало элементарное приличие, и молча пил кофе.
Потом я наконец сказал:
– Насколько я знаю, вы уроженка юга и вам, вероятно, неизвестно ощущение, которое здесь испытываем мы, то есть люди, живущие обычно в другом климате. Я хочу сказать, что я, например, приезжая сюда, начинаю думать, что именно здесь всегда нужно было бы жить, далеко от туманов, холода и дождей. И у меня впечатление, что я возвращаюсь на родину, которую я давно покинул.
– Да, конечно, у меня этого ощущения нет, – сказала она, глядя не на меня, а в окно.
– Вы знаете, в Париже… – сказал я. И я стал рассказывать ей о наших студенческих годах в Латинском квартале, о том, как мы проводили ночи в кафе, рассуждая о философии и поэзии, о том, как Мервиль увлекался то живописью, то литературой, то музыкой, о наших ночных прогулках. – Мы все с тех пор изменились, – сказал я. – Но Мервиль как был, так и остался романтиком.
У нее было совершенно мертвое выражение лица. Она никак не реагировала на то, что я говорил, и ни разу даже не улыбнулась, когда я рассказывал о наших студенческих шутках, и через некоторое время я почувствовал необыкновенную усталость от этого напрасного монолога. Затем она наконец спросила:
– Хотите еще кофе?
– Нет, благодарю вас.
Опять наступило долгое молчание. Мне казалось, что я никогда еще не был в таком глупом положении; она даже не давала себе труда хотя бы сделать вид, что она меня слушает. Потом она сказала, что не очень хорошо себя чувствует, что у нее болит голова от мистраля. Это была явная ложь: по ее глазам было видно, что никакой головной боли у нее не было. Я поднялся со своего кресла и спросил, когда я могу ей позвонить, чтобы узнать, как ее здоровье? – Когда хотите, как-нибудь на днях, – сказала она. – Хорошо, – сказал я, – постараюсь не слишком часто вас беспокоить.
И когда я вышел из виллы, мне стало легко и я даже подумал, что когда дует мистраль, то в этом может быть несомненная приятность. Мервиль был неисправим, и никакой опыт не мог его предохранить от психологических ошибок: почему бы мадам Сильвестр вдруг почувствовала ко мне такое доверие, что я ее мог бы в чем-то убедить или удержать от чего бы то ни было?
Мервиль позвонил мне по телефону из Нью-Йорка на следующий вечер и спросил, как дела.
– Ты с ней, наверное, уже говорил, – сказал я, – она тебе должна была рассказать. – Она сказала, что обед прошел очень мило. – Тем лучше. – Я хотел знать, какое впечатление осталось у тебя? – Ничего, все было нормально. – Ну, я очень рад. Я тебе позвоню.
И он повесил трубку.
Через день он опять вызвал меня. На этот раз он был обеспокоен тем, что звонил на виллу в разные часы и ответа не было. – Это может быть просто случайность, – сказал я. – Я тебя очень прошу все-таки, узнай, в чем дело. Я тебе позвоню завтра в это же время.
Но на мои телефонные вызовы тоже не было ответа. Тогда я поехал туда на автомобиле. Стоял полуденный зной, узкая улица, на которой находилась вилла, была ярко освещена солнцем, листья деревьев были неподвижны. Ворота сада, окружавшего виллу, были заперты. Сквозь железные прутья был виден дом с наглухо затворенными ставнями. Я долго звонил у ворот, но они не отворялись. Я пожал плечами и уехал.
Я еще раз вернулся на виллу вечером, когда было темно. Ни в одном окне не было света. Я приехал в гостиницу, поднялся в свою комнату, и через несколько минут после этого зазвонил телефон и голос Мервиля спросил:
– Ты был там? Что происходит?
– Я был два раза, там никого нет.
– Что это может значить?
– Не знаю. Она, может быть, уехала в Ниццу по своим делам или куда-то надолго отлучилась.
– Но надо что-то сделать, ты понимаешь?
– Понимаю.
– Ты помнишь, я этого боялся, когда уезжал?
– Я не вижу, что можно сделать. В полицию обращаться, по-моему, нелепо и во всяком случае преждевременно.
– Я завтра вылетаю из Нью-Йорка и приеду прямо к тебе.
– Хорошо, буду тебя ждать.
От всего этого у меня был чрезвычайно неприятный осадок, точно я был в чем-то виноват или не поступил так, как должен был поступить, хотя я прекрасно отдавал себе отчет в том, что мои возможности в этом смысле были очень ограничены. Кроме того, я не питал к мадам Сильвестр никакого доверия. Вся эта история – ее исчезновение после встречи в поезде, ее появление на открытии кабаре Эвелины, ее отказ сопровождать Мервиля в Нью-Йорк, – для всего этого должны были быть причины, о которых ни Мервилю, ни мне ничего не было известно. Я был к тому же убежден, что ее биография, которую она в нескольких словах рассказала Мервилю, – то, что она родилась в Ницце и кончила там лицей, что ее отец был французским морским офицером, – в действительности была совершенно другой. Я был уверен, что она американка или что она выросла в Нью-Йорке и что все, что она о себе рассказывала, было вымыслом или фальсификацией.
Я был погружен в эти размышления утром, когда мне снизу позвонили и сказали, что меня хочет видеть полицейский инспектор. Это меня очень удивило, и я ответил, что я его жду. Через несколько минут раздался стук в дверь.
– Войдите, – сказал я.
Вошел человек в синем костюме с галстуком, несмотря на жару. У него было замкнутое выражение лица и серые глаза. Он был высокого роста и широк в плечах. Он явно не был местным жителем, так как говорил без южного акцента.
– Садитесь, пожалуйста, – сказал я. – В чем дело?
– Ваша профессия? – спросил он.
– Литератор и журналист, – сказал я.
– Литератор? – переспросил он. – Вы можете это доказать?
Я снял с полки одну из моих последних книг, вышедшую несколько месяцев тому назад, и дал ему ее. Он ее перелистал и вернул мне. Мне показалось, что мой ответ на его вопрос о профессии был для него неожиданным.
– Вы живете в Париже?
– Большую часть времени.
– Вы снимаете комнату или живете в гостинице?
– Ни то ни другое, – сказал я. – У меня собственная квартира.
– И ваше постоянное занятие – это литература?
– Да.
– Где вы получили образование?
– В Парижском университете.
– Хорошо, – сказал он. Потом без перехода, прямо глядя мне в глаза, он спросил:
– Когда вы были в последний раз в Соединенных Штатах?
– Восемь лет тому назад.
– Сколько раз вы там были?
– Один раз, – сказал я, – я провел там три месяца.
– У вас там обширные знакомства?
– Нет, не очень, – сказал я. – Знакомства, ограниченные главным образом литературными и издательскими кругами.
– В каком городе вы жили?
– В Нью-Йорке.
– Вы не были в Калифорнии?
– Нет, не успел и очень жалею. А теперь можно вас спросить в свою очередь – чем вызван ваш интерес к моей биографии?
– Вопросы задаю я, – сказал он с совершенно безличной интонацией.
– В таком случае разрешите вам напомнить, что вы мне не можете предъявить никакого обвинения в чем бы то ни было, что я не нахожусь под следствием и тот факт, что я с вами веду разговор, есть только доказательство моей доброй воли. Я бы не хотел, чтобы у вас по этому поводу были какие-либо заблуждения.
– Вы меня не так поняли, – сказал он. – Это не имеет ничего общего ни с допросом, ни со следствием. Я просто рассчитываю на вашу помощь.
– Бели это так, то вы неправильно подошли к делу, чисто диалектически, если хотите, – сказал я. – Надо было действовать иначе. Я вам ответил на ваши вопросы, потому что я так же ответил бы кому угодно и потому что мне нечего скрывать. Но я не вижу смысла в дальнейшем разговоре, если не буду знать, с какой целью вы меня спрашиваете о разных вещах. Вряд ли это может объясняться с вашей стороны совершенно бескорыстной любознательностью.
В это время раздался телефонный звонок, и через секунду я услышал голос Мервиля, который говорил из Нью-Йорка.
– Что происходит? Есть что-нибудь новое? Я ответил ему по-английски.
– К сожалению, я тебе ничего сообщить не могу. Я повторяю только, что я был на твоей вилле, она пуста и там никого нет. Что произошло, я не знаю, боюсь, что это похоже на ниццкую историю. Когда ты вылетаешь?
– Почему ты вдруг заговорил по-английски?
– У меня есть для этого некоторые основания, – сказал я. – Я тебе это потом объясню.
– Я рассчитываю сегодня вечером тебя увидеть.
– Очень хорошо. Простите, – сказал я, обращаясь к моему посетителю, – это был звонок из Нью-Йорка, и я не мог сказать, чтобы меня вызвали позже.
– Ваш собеседник был американец?
– Ваша профессия приучила вас думать вопросами, по-видимому? – сказал я. – Нет, это мой товарищ по университету, ваш соотечественник. Но я жду ваших объяснений.
Он вынул из своего портфеля большую фотографию, протянул ее мне – и тогда я убедился, что мои подозрения не были напрасны. На фотографии, снятой при ярком солнечном свете, была мадам Сильвестр в купальном костюме, стоявшая рядом с широкоплечим, смеющимся человеком. Внизу была указана дата – лето позапрошлого года и место – Лонг-Айленд.
– Вы знаете эту женщину?
– Знаю, – сказал я. – Ее зовут мадам Сильвестр, она француженка, родилась и выросла в Ницце, была замужем и недавно овдовела.
– Это то, что вы о ней знаете?
– Я с ней едва знаком, – сказал я, – более подробных сведений о ней у меня нет, и должен вам сказать, что они меня не очень интересуют.
– Если бы вы располагали этими сведениями, то вы бы убедились, что они заслуживают интереса.
– Почему?
– Потому что она не мадам Сильвестр и не француженка. Она американка, родившаяся на сто двадцать третьей улице в Нью-Йорке, и ее разыскивает американская полиция.
– По какому поводу?
– Человек, который снят рядом с ней и с которым она жила, был убит несколькими револьверными выстрелами. По подозрению в убийстве был арестован один из его товарищей, субъект с уголовным прошлым, так же, впрочем, как убитый. На следствии он заявил, что его друга застрелила именно эта женщина, которая бесследно исчезла. Все это произошло два года Фому назад. Ее зовут Луиза Дэвидсон и называют Лу.
– Маргарита Сильвестр, – сказал я.
– Луиза Дэвидсон, которая подозревается в убийстве Боба Миллера – это фамилия человека, который снят рядом с ней. Как видите, моя любознательность объясняется вполне конкретными причинами.
– Я понимаю, – сказал я. – Я приезжал на виллу, где она жила, несколько раз. Отсюда тот вывод, что я каким-то образом связан с этой женщиной. Но должен вам сказать, что ее исчезновение было для меня неожиданностью, и я понятия не имею, где она может сейчас быть.
Он пожал плечами.
– Вы с ней разговаривали, – сказал он, – у нее нет американского акцента?
– Ни малейшего.
– По сведениям, которые нам сообщила американская полиция, она может себя выдавать за француженку или за испанку.
– За француженку, во всяком случае.
Он встал, собираясь уходить. Потом он спросил:
– Мы можем рассчитывать на то, что, если вы узнаете, где она, вы нам дадите об этом знать?
– Вы это говорите серьезно?
– Вполне. Почему?
– Потому что на это рассчитывать вы не можете, – сказал я, – у меня нет никаких полицейских функций, и я не хотел бы также вводить вас в заблуждение. Я думаю, однако, что это забота праздная, – вряд ли у меня будут подобные сведения.
– Откровенно говоря, я тоже так думаю, – сказал он. – Но имейте в виду, что если бы это произошло и вы бы об этом не сообщили, вы рискуете быть обвиненным в укрывательстве злоумышленницы, а это уж уголовный проступок.
– Я готов за него отвечать, – сказал я, – но, повторяю, я не думаю, что это может случиться.
Я провел день как обычно – был на море, купался, потом обедал, после обеда читал у себя в комнате. В пять часов дня явился Мервиль, приехавший ко мне с аэродрома. На нем лица не было.
– Ты не заезжал на виллу? – спросил я.
– Нет, я прямо приехал к тебе.
– Хорошо сделал.
– Почему?
– Потому что за твоей виллой следят.
– Следят? Что с тобой?
– Садись и слушай, – сказал я.
И я подробно рассказал ему обо всем, начиная с того, как я слышал разговор г-жи Сильвестр с американским туристом, и кончая тем, что было утром.
– Я должен установить, – сказал я, – что г-жа Сильвестр, – будем ее называть так, хотя ты знаешь теперь, что это не ее настоящая фамилия, – по-видимому, с самого начала почувствовала мое недоверие к ней, – именно почувствовала, а не поняла. В этом случае интуиция ее не обманула.
– Ты хочешь сказать, что ты к ней относишься враждебно?
– Нет, никакой враждебности у меня не было и нет. Он внимательно на меня посмотрел.
– Подожди, дай мне подумать, – сказал он, – у меня голова идет кругом. Считаешь ли ты, что на основании некоторых фактов, даже если эти факты действительно были, можно себе составить совершенно правильное представление о ком-либо?
– Далеко не всегда, мне кажется. Это зависит от того, какие факты. Если это донос, шантаж или анонимные письма, тогда ты знаешь, что имеешь дело с мерзавцем. Но в других случаях… Вот тебе два примера, два человека. Один из них был вор, другой убийца. Не смотри на меня с таким удивлением. Первый находился одно время в крайне бедственном положении, ему нечего было есть. У него была жена и двухлетняя девочка – и он воровал для них картошку в продовольственных магазинах до тех пор, пока не получил наконец работу. Второй был мой товарищ, которого я знал всю жизнь. Во время гражданской войны в России его отряд – он был в кавалерии – занял небольшое село, где жили главным образом евреи. Он увидел, что один солдат, который вообще был профессиональным бандитом, насиловал еврейскую девочку лет десяти-двенадцати. У нее было посиневшее лицо, и она даже не могла кричать. Мой товарищ слез с лошади и из револьвера убил этого солдата. Потом он оттолкнул ногой его труп, взял девочку на руки и внес ее в ближайший дом. И ты знаешь, что он мне сказал? – Если бы я должен был еще раз это сделать, я бы не колеблясь убил его как собаку, и это один из поступков, о которых я никогда не жалел. Вот тебе, мой милый, совершенно неопровержимые факты: воровство и убийство. Какой прокурор мог бы осудить этих людей?
– Мне иногда кажется, что ты похож на машину, которая регистрирует события и потом из них получаются какие-то архивы воспоминаний, – сказал Мервиль. – Но вернемся к г-же Сильвестр. Я отказываюсь верить в подозрения американской полиции. Я знаю ее лучше, чем кто-либо другой, я знаю, что она не способна на убийство. Надо сделать все, чтобы оградить ее от опасности, которая ей угрожает.
– Откуда ты знаешь, на что она способна иль не способна? – сказал я. – Как ты можешь об этом судить? Ты мог подумать, что она американка?
– Нет, но это неважно.
– Я не говорю, что это имеет какое-нибудь значение, я только говорю, что ты не можешь судить о некоторых вещах. Я знаю о ней немного, но то, что я знаю, позволяет все-таки сделать известные выводы.
– Ах, опять твои выводы!
– Но, милый мой, согласись, что если ты хочешь что-либо понять, то выводы необходимы.
– Самое смешное – это то, что если я найду г-жу Сильвестр и попрошу тебя помочь ее спрятать, то я уверен, что ты это сделаешь, несмотря на всю твою логику.
– Одно другого не исключает, – сказал я. – Она производит впечатление очень холодной и сдержанной женщины, несмотря на свой южный тип. Но это впечатление обманчиво, мне кажется – ее поведение во время первой встречи с тобой доказывает, что ни холодности, ни сдержанности в известных обстоятельствах у нее нет. Я не берусь судить о ее нравственном облике. Но что при некоторых условиях или, выражаясь юридически, в состоянии аффекта она способна на крайности, это, я думаю, вполне допустимое предположение.
– Но что это за история в Америке?
– Может быть, тебе дадут более обстоятельные сведения об этом, чем мне, – сказал я, – потому что тебе, по всей вероятности, предстоит полицейский допрос. Как только ты появишься на вилле, это сразу станет известно и тебе придется иметь дело с тем же мужчиной, который приходил ко мне сегодня утром. Не забывай, что он прекрасно знает, что вилла принадлежит тебе и что г-жа Сильвестр жила у тебя.
– Это меня совершенно не устраивает, – сказал Мервиль, – я предпочитаю уехать в Париж, где я буду вне досягаемости.
– Я думаю, что субъект, который приходил ко мне, вероятно, приехал из Парижа.
– Может быть, но в Париже его легче нейтрализовать.
– В конце концов, тебе решительно ничто не угрожает, ты ни в чем не виноват.
– Я хочу быть свободен в своих действиях, ты понимаешь? В Париже я могу это устроить, здесь это сложнее – да и зачем мне оставаться здесь?
– Что ты, собственно, собираешься делать?
– Разыскать ее во что бы то ни стало.
– Я бы хотел тебе напомнить, что во Франции около сорока пяти миллионов жителей. И кроме того, американской и французской полиции потребовалось два года усилий, чтобы напасть на след г-жи Сильвестр.
– Ты упускаешь из виду, что от полиции она скрывалась, а от меня скрываться не будет.
– Я знаю, что тебя бесполезно убеждать, – сказал я, – но мне кажется, было бы, может быть, лучше, чтобы ты забыл о ее существовании. Ты не думаешь, что Лу Дэвидсон может продолжать свой жизненный путь, – выражаясь метафорически, – без тебя? Нью-Йорк, этот район – сто двадцатая, сто тридцатая, сто сороковая улицы, ты их помнишь, эти мрачные дома? Эта жизнь, с которой у тебя нет ничего общего, – зачем тебе все это? Этот мир тебе совершенно чужд, ее мир, ты понимаешь?
– Во-первых, нельзя бросать людей в беде.
– Но ведь не ты ее бросил, а она тебя.
– Нет, ты прав, ты меня не убедишь. Впрочем, ты сам в этом не уверен.
– Знаю. Ты опять скажешь – лирический мир.
– На этот раз единственный и неповторимый, – сказал Мервиль. – Это мой последний шанс. Лу Дэвидсон или Маргарита Сильвестр – это для меня только фонетические сочетания, больше ничего. Нью-Йорк или Ницца – какое это имеет значение? Важно то, что ни одна женщина в мире не может мне дать то, что может дать она, как бы ее ни звали. Я никогда не знал этого ощущения – блаженного растворения, чем-то напоминающего сладостную смерть, – и потом неудержимого возвращения к жизни. И ты хочешь, чтобы я обо всем этом забыл?
Он встал с кресла и подошел близко ко мне.
– Даже если она убийца, ты понимаешь? Но я в это не верю, я не могу верить, я не должен верить, этого не было и не могло быть, а если это было, то этого все равно не было, понимаешь?
– Черт его знает, может быть, ты и прав, – сказал я.
Мервиль уехал в Париж в тот же вечер, не зайдя в свою виллу. На следующий день утром я проснулся и подумал, что следовало бы теперь забыть о том, что происходило со времени приезда Мервиля и г-жи Сильвестр, и вновь погрузиться в ту жизнь, которую я вел до этого. Но мои размышления прервал телефонный звонок. Неизвестный мужской голос спросил по-английски, я ли такой-то. После моего утвердительного ответа голос сказал:
– Мне необходимо вас видеть. Приходите, пожалуйста, – он назвал одну из больших гостиниц в Каннах, – комната номер четыреста двенадцать, я буду вас ждать.
– Простите, пожалуйста, – сказал я, – кто вы такой и в чем дело?
– Я действую по поручению американских судебных властей, – сказал он, – и мне нужны ваши показания. Я вас жду сегодня утром, в одиннадцать часов. У меня рассчитано время, я уезжаю сегодня вечером, так что отложить это я не могу.
– Я очень об этом жалею, – сказал я, – но сегодня утром у меня нет времени и это свидание совершенно не входит в мои планы. Бели вы непременно хотите меня видеть, то приезжайте сюда – я дал ему мой адрес – часов в пять вечера.
– Нет, это невозможно, – сказал он, – я не могу ждать до этого времени, я вам уже сказал, что я должен уезжать сегодня вечером.
– Тогда мне остается пожелать вам приятного путешествия.
– Но мне необходимы ваши показания, вы должны приехать.
– Я решительно ничего не должен, – сказал я с раздражением, – у меня нет никаких обязательств по отношению к американским судебным властям, если вас не устраивает то, что я вам предлагаю, то я помочь вам не могу. Бели вы не можете приехать сюда в пять часов, то желаю вам всего хорошего.
– Я приеду, – сказал он после короткого молчания.
В пять часов вечера он явился. Это был высокий человек редкого атлетического совершенства, с открытым лицом, ясными глазами и точными движениями. То, что его отличало от других людей, это были его уши, очень большие, с необыкновенным количеством извилин внутри, что было похоже на какие-то своеобразные кружева из человеческой кожи. Он принес с собой портативную пишущую машинку и портфель. Я предложил ему сесть. Он начал с того, что показал мне свое удостоверение личности, где были обозначены его профессия, адрес и фамилия – Колтон. Потом он вынул из портфеля фотографию и протянул ее мне – совершенно так же, как это сделал накануне его французский коллега, и фотография была та же самая: г-жа Сильвестр в купальном костюме рядом со своим тогдашним спутником.
– Я так и думал, – сказал я. – Я уже видел эту фотографию.
– Под какой фамилией вы знаете эту женщину?
– Вы хотите сказать – эту даму?
– Она не дама, она женщина, – сказал он. – Но это неважно. Какую фамилию она носила, когда вы ее встречали?
– Маргарита Сильвестр.
– Вы не знаете ее другого имени?
– У вашего французского коллеги вчера со мной был такой же разговор, и он мне сказал, что ее зовут Луиза Дэвидсон.
– Совершенно верно. Но вы этого не знали?
– Нет, я считал ее француженкой.
– Вы не знаете, где она находится в данный момент?
– Понятия не имею.
– Когда вы видели ее в последний раз?
– Несколько дней тому назад.
– Она вам не говорила, что собирается уезжать?
– Нет.
– Что она вам говорила о себе?
– Решительно ничего. Я ее, впрочем, ни о чем не спрашивал.
– Какое отношение она имеет к Мервилю?
– Об этом надо спросить его, а не меня.
– Но вы это должны знать.
– Это меня не касается.
– У вас есть какие-нибудь коммерческие дела с Мервилем? Вы зависите от него материально?
– У меня нет никаких коммерческих дел ни с Мервилем, ни с кем бы то ни было другим, я никогда не занимался делами и не завишу материально ни от какого коммерсанта.
– Каковы источники ваших доходов?
– Это не имеет отношения к предмету нашего разговора.
– Вы отказываетесь отвечать на этот вопрос?
– Мне это было бы нетрудно сделать, но этот вопрос мне кажется праздным. Насколько я понимаю, речь идет не обо мне, а о вашей соотечественнице, Луизе Дэвидсон. Какая связь между ней и источниками моих доходов? Вы можете мне это объяснить?
– Я хотел бы иметь представление о человеке, который встречался во Франции с Луизой Дэвидсон.
– Я ее едва знаю.
– Где вы с ней познакомились?
– Здесь, на Ривьере, я видел ее два раза.
– Вы были уверены, что она действительно француженка?
Я вспомнил разговор г-жи Сильвестр с американским туристом. Но я не находил нужным ставить об этом в известность моего собеседника.
– У меня не было оснований в этом сомневаться и вообще задавать себе этот вопрос.
– Я должен констатировать, что вы не очень стремитесь нам помочь.
– Помочь в чем?
– В том, чтобы найти эту женщину.
– Почему я вам должен в этом помогать?
– Это ваш долг.
– По отношению к кому?
Он с удивлением на меня взглянул и ответил:
– По отношению к обществу.
Я посмотрел на него внимательно. На его лице было выражение непоколебимой уверенности в том, что он действительно выполняет свой долг и что он убежден в совершенной своей непогрешимости. Он существенно отличался в этом от своих французских коллег: те делали свою работу, а он именно выполнял долг. Тот факт, что и он и они действовали одинаковыми методами и задавали приблизительно одинаковые вопросы, – это было второстепенно. Мне казалось очевидным, что никаких сомнений или проблем психологического порядка у этого человека не было.
– Когда вы уезжаете? – спросил я.
– Завтра утром, – сказал он. – Я хотел ехать сегодня вечером, но выяснил, что не успею. Почему вы меня об этом спрашиваете?
– Потому что, если вы свободны сегодня вечером, я приглашаю вас ужинать.
– Ужинать? – сказал он с удивлением.
– Если вы ничего не имеете против.
– Я должен признаться, что ваше предложение застало меня врасплох, я этого не ожидал.
– Я думаю, вы теперь выяснили, что я не могу вам дать тех сведений, на которые вы, может быть, рассчитывали. Но мы можем поговорить о разных вещах за ужином, как вам кажется?
– Да, конечно, – сказал он неуверенным голосом.
– Видите ли, – сказал я, – я надеюсь, что вы относитесь ко мне без враждебности, потому что я не имею никакого отношения к Луизе Дэвидсон, почти ничего о ней не знаю и мне нечего от вас скрывать. Я со своей стороны хотел бы поговорить с вами как человек с человеком, а не как свидетель с представителем американского министерства юстиции. Риска тут нет никакого ни для вас, ни для меня, так же как выгоды или заинтересованности.
– Я плохо знаю Европу и европейцев, – сказал он, – но они существенно отличаются от нас.
– Может быть, меньше, чем вам кажется.
– Нет, нет, здесь все по-другому, – сказал он, – по крайней мере такое у меня впечатление.
– Вы в Европе первый раз?
– Два года тому назад я был в Англии. Но во Франции я никогда не был. Мне кажется, что я попал в другой мир. Здесь все идет в замедленном темпе, никто никуда не спешит и не боится опоздать и живет так, как будто мир неподвижен. Я был в Ницце, пришел в контору моего французского коллеги в три часа дня. Во всем здании было пусто. Знаете, когда он вернулся? В половине пятого. И пригласил меня в кафе, где мы с ним разговаривали. Я должен сказать, что у него был рассеянный вид и Луиза Дэвидсон его не очень интересовала, хотя он знал о ней все, что ему полагалось знать. Может быть, кстати, – сказал он, взглянув на меня, – вам тоже было бы интересно иметь представление о том, кто такая в действительности женщина, которую вы знали как Маргариту Сильвестр?
– Мне сказали, что она родилась в Нью-Йорке на сто двадцать третьей улице и что она принадлежит, в сущности, к уголовному миру.
– Вы были в Нью-Йорке, вы помните эту улицу?
– Я помню этот район, да.
– Она родилась двадцать семь лет тому назад, ее отец был владельцем магазина готового платья. Ее мать, француженка, до замужества был артисткой мюзик-холла. Женщина она была очень способная и неглупая, но отличалась исключительным темпераментом, и это вызывало постоянные драмы в семье. Выбор ее друзей, чаще всего кратковременных, носил случайный характер, и в числе их были такие, которых следовало бы избегать. Дочь свою она любила, пока та была маленькой, позже она перестала о ней заботиться. Это она научила Луизу говорить по-французски. Луиза была в школе, как все. Но она, по-видимому, унаследовала от матери некоторые ее особенности – и в пятнадцать лет исчезла из дому. Ее нашли в Калифорнии через полгода, она жила с человеком, которому было тридцать шесть лет и у которого было тяжелое уголовное прошлое. Когда к нему явилась полиция, он думал, по-видимому, что это было по другому делу, он оказал полицейским вооруженное сопротивление и случайным выстрелом был убит. Все это произошло на глазах Лу. Как видите, начало ее карьеры было многообещающим. Ее вернули домой. Но там ее приняли плохо, отец сказал, что он знать ее не хочет, мать ее не защищала, – к тому же тоща она уже сильно пила и часто бывала просто невменяемой. Через месяц Лу опять ушла из дому – и на этот раз ее даже не разыскивали. И вот начались ее странствия. Она была всюду – в Сан-Франциско, в Чикаго, в Детройте, Вашингтоне, во Флориде, где хотите. Мы не знаем, где и когда она изучила стенографию, но она прекрасная секретарша, и все, у кого она работала, отзывались о ней очень хорошо. Но она нигде долго не оставалась. Она была в связи с разными субъектами, и уголовный мир – это тот мир, который она лучше всего знает. Надо еще сказать, что одно время она работала в цирке. Она отличается исключительной физической силой и очень хорошо знает современные приемы борьбы и защиты. Однажды случилось так, что один из ее малопочтенных знакомых пытался заставить ее делать то, чего она не хотела. Это был очень крупный, крепкий человек, крайне жестокий вдобавок, и он начал с того, что дал ей пощечину. Знаете, чем это кончилось? У него были сломаны руки и плечо, а его лицо было похоже на кровавую массу. Он провел в госпитале три месяца и вышел оттуда слепым инвалидом. Лу очень опасная женщина, это знают все, кому пришлось с ней близко познакомиться. Об этом, однако, не думал Боб Миллер, тот самый, который снят рядом с ней на фотографии. Это было то, чего он не принял во внимание, и это стоило ему жизни. Потому что, что такое огнестрельное оружие и как с ним обращаться, это Лу тоже хорошо знает. Вы понимаете теперь, почему ее разыскивает американская полиция? Мы не все знаем о ней. Кроме того, она слишком умна, гораздо умнее большинства тех, с кем она имела дело, и в ее прошлом нет ни одного судебного преследования. Единственное обвинение, которое, может быть, ей можно будет предъявить, это убийство Боба.
– Насколько я понял, оно основано на показаниях уголовного преступника, которому трудно верить. Вы считаете, что факт этого убийства установлен и что именно она убила Боба?
– Нет, мы хотим допросить ее в качестве свидетельницы. Но мы уверены, что в результате этого ей было бы предъявлено формальное обвинение. Она это прекрасно знает, и именно этим объясняется ее исчезновение. Во всяком случае, скажите Мервилю – он ведь ваш друг, – кто такая Маргарита Сильвестр. Это действительно ваш долг.
– Хорошо, – сказал я, – я это сделаю.
– Но помните, что это опасно.
– Этого я не думаю, – сказал я.
Мы ужинали с ним на террасе ресторана, выходившей в море. Нам подали прекрасно приготовленную рыбу и местное вино, за кассой ресторана сидела рыжая красавица с ослепительной улыбкой и теплыми черными глазами. Где был теперь Мервиль? Где была г-жа Сильвестр? И что было самым главным в ней? Г-жа Сильвестр с ее несравненным очарованием, о котором с таким волнением говорил Мервиль, или Лу Дэвидсон, подозревавшаяся в убийстве одного из своих любовников в Америке? И что было для нее более характерно? Ривьера и французский язык или Нью-Йорк и американский сленг?
– Вы не думаете, – сказал я моему собеседнику, – что есть люди, у которых только одна жизнь и одно лицо, и есть другие, у которых может быть две или три жизни?
– То, что вы задаете такой вопрос, меня не удивляет, – сказал он. – Мой французский коллега сообщил мне, что вы занимаетесь литературой.
– Какая связь между этим вопросом и моей профессией?
– Самая непосредственная. Ваша профессия предрасполагает вас к тому, чтобы представлять себе вещи сложнее, чем они есть.
– Вы считаете, что все это проще?
– Нет, – сказал он, – но эта сложность нередко бывает чисто внешней. Даже если допустить, что у человека может быть две или три жизни, то только одна из них настоящая, это та, которая характеризуется его нравственным обликом. Убийца может быть банкиром, бандитом, портным – кем угодно. Но самое главное это то, что он убийца. Все остальное неважно или, если хотите, менее важно.
– С точки зрения интересов общества?
– С любой точки зрения.
– Можно вас спросить, – сказал я, – что вас заставило выбрать именно тот вид деятельности, которым вы занимаетесь?
– Я родился и вырос в одном из самых бедных районов Нью-Йорка, – сказал он, – и я с детства знал, что такое уголовный мир. Когда мне было двадцать лет, я стал проповедником. Но я убедился в том, что проповедь действует главным образом на людей, которые и без того верят в Бога. Есть другие, которые слишком испорчены, чтобы их можно было в чем-либо убедить. Таких людей следует нейтрализовать – во что бы то ни стало. Напоминание о заповедях блаженства их изменить не может.
– Таким образом, вы не видите противоречия между началом вашей деятельности и тем, что произошло потом? Другими словами, вы продолжаете то же самое, но иным способом?
– Нет, это, конечно, не совсем точно, но в общем действительно противоречия здесь нет. Вам кажется, что это не так?
– Есть слова, которые тотчас же вспоминаются в этом случае, – сказал я. – Они поставлены как эпиграф к одному из самых замечательных романов нашей литературы. Господь говорит: «Мне отмщение и Аз воздам».
– Ваш довод, на первый взгляд, может показаться убедительным. Вы, однако, согласитесь со мной, если я скажу, что с вашей стороны это просто диалектический прием. Господь говорит, что Он воздаст. Но здесь вопрос идет о вечности и о последнем, Страшном Суде. А на земле мы выполняем волю Божью, то есть делаем все, чтобы человечеству не мешали жить по тем нравственным законам, которые дала нам религия и вне которых спасения нет.
– Я бы вам не возражал, если бы вы говорили о необходимости оградить нас от действий тех, кто нарушает законы, и о том, что соблюдение этих законов нужно для сохранения общества в том виде, в каком оно существует, – довольно непривлекательном, тут, я надеюсь, вы не будете спорить. Но при чем здесь религия, в частности христианство? Если в данном случае вы ссылаетесь на христианство, то это значит, что вы сводите его до пределов полицейской системы. Смысл христианства – это всепрощение. Вспомните еще раз разбойника, распятого вместе с Христом, и то, что Он обещал ему Царство Небесное.
– Он искупил свою вину, умирая на кресте, – сказал он, – и как вы хотите, чтобы Спаситель решил еще раз наказать его?
– Спаситель простил его потому, что он покаялся, – сказал я. – Христос понимал неизбежность несовершенства человеческого общества, оно не может быть другим. «Блаженны плачущие, яко тии утешатся». В идеальном человеческом обществе, где все идет по предписанным свыше законам – как вы это считаете, плачущих не должно быть, во всяком случае целой категории людей, которых Господь определяет этим словом. «Блаженны нищие духом, яко тих есть Царство Небесное» – еще одна категория несчастных. В представлении христианства земное существование – это тягостное ожидание того дня, когда мы перейдем в другой мир, мир вечный, а не временный. Вот к чему нас зовет христианская религия. Государственное принуждение во всех его видах – это идея антихристианская. Где вы видели служителя церкви, преследующего преступника? Кто может себе представить епископа в составе суда, который приговаривает нарушителя нравственного закона к смерти?
Уши моего собеседника покраснели – это был единственный признак его волнения.
– Я напомню вам один из вечных вопросов, – сказал я. – Почему Господь допускает то, что происходит в мире, – преступления, убийства, войны? Почему? Потому что пути Господни неисповедимы и нашим слабым человеческим разумом мы не можем постигнуть Его божественной мудрости? Но если это так, то мы и остального понять не можем, и, впрочем, Господь, может быть, не требует от нас понимания, зная, что оно нам не по силам? Я готов принять всякое объяснение христианства, я только продолжаю думать, что ни в каком случае оно несовместимо с уголовным преследованием.
– Я не могу себе, однако, представить, – это было бы чудовищно, – что всякое преступление может быть ненаказуемо потому, что христианство проповедует всепрощение. Не допускаю, что вы это думаете.
– Нет, я очень далек от этой мысли. Я не согласен только с одним: со ссылкой на этику, которой учил Христос. Пресекайте преступления, делайте все, что для этого нужно, но не говорите при этом о религии.
– Как можно было бы прекрасно жить, – сказал он, не отвечая мне, – если бы человечество состояло только из порядочных людей. Вычеркните из человеческой жизни преступления – какие необыкновенные перспективы открылись бы перед нами.
– У меня очень бедное воображение, – сказал я, – я себе это плохо представляю. Я думаю, однако, что если мы исключим из человеческого существования всякое отрицательное начало, – что на первый взгляд кажется желательным, – то через некоторое время жизнь потеряет интерес. Вы верите в дьявола?
– Конкретно – нет. Метафизически – да, то есть в дьявола именно как олицетворение этого отрицательного начала мира.
– Но вы знаете, что для торжества христианства дьявол необходим, тот самый дьявол, который искушал Спасителя. «Отойди от Меня, Сатана!» Надо ли еще раз напоминать, что если бы его не было и не было зла, то как бы мы знали, что такое добро? Если бы не было ни страданий, ни преступлений, то не было бы, может быть, ни христианства, ни необходимости религии. Вы все это знаете так же хорошо, как и я, это азбучные истины. Но оттого, что они азбучные, они не перестают быть истинами.
– Есть еще один вопрос, – сказал он, – который я ставил себе много раз: почему жизнь так нелепа? Вам он, наверное, покажется по-американски наивным.
– Нет, я думаю, что это вопрос не американский и не наивный. Я полагаю, что очень немногие люди могут с уверенностью считать, что они созданы для той жизни, которую они ведут, и это чаще всего люди неумные. Возьмите большинство профессий, – они носят явно искусственный характер, и мне приходит в голову такая мысль: думал ли Господь Бог, создавая мир, что рано или поздно начнут существовать кассиры, агенты страховых обществ, служащие того или иного министерства, администраторы и так далее? Все это, вероятно, необходимо, но все-таки люди не рождаются контролерами или бухгалтерами. Но вот каждый человек втиснут в какие-то рамки и он действует в их пределах, независимо от того, нравится ему это или нет. И если он начинает думать об этом, – что, правда, делают далеко не все, – то он, конечно, понимает то, о чем вы говорите, что жизнь сложилась нелепо.
– Вы считаете, что нет вообще естественных профессий, то есть в которых есть соответствие человеческой природе?
– Есть, я думаю.
– Например?
– Воин, судья, учитель, врач, проститутка, архитектор, поэт, скульптор, художник, музыкант, ученый. Есть, вероятно, и другие, я говорю только о тех, мысль о которых сразу приходит в голову.
– Вот мы говорили о христианстве, – сказал он. – Знаете, что меня больше всего поразило в истории, которая связана с христианством? Вы, конечно, помните это. Когда Аттила со своими войсками подошел к Риму и Рим был лишен возможности защищаться, то из ворот города, направляясь к палатке Аттилы, вышел босой старик, папа Лев Первый. Он разговаривал с Аттилой несколько часов и потом вернулся в Рим. И Аттила отдал своим войскам приказ отступать. Ничто не мешало ему взять город и разграбить его бесчисленные богатства. Что мог сказать Лев Первый этому варвару, предводителю свирепых и диких гуннов? Может быть, за плечами Льва Первого стояла тень Христа? Во всяком случае, это торжество непобедимого христианства.
– Да, несомненно, – сказал я. – Это мне тоже всегда казалось необъяснимым. Но не забывайте, что Аттила, вопреки обычным представлениям о нем, не был варваром в подлинном смысле слова. Он учился в Риме, и в нем Лев Первый нашел, вероятно, достойного собеседника.
– Но все-таки это тот же Аттила, который сказал, что там, где пройдет его конь, не растет трава.
– Это, я думаю, фраза апокрифическая.
– Может быть, но это на него похоже.
Я по временам взглядывал на моего собеседника и убеждался, насколько мое первое представление о нем было неправильным. Выражение его глаз изменилось, и он перестал быть таким, каким казался мне вначале, – человеком, не знающим сомнения и уверенным в своей юридической и этической непогрешимости. И я подумал, что, может быть, христианство ему было необходимо, чтобы как-то сохранить свое душевное равновесие и оправдать свою жизнь и работу, это было нечто вроде стены, на которую он мог опереться. Но эту работу он вел добросовестно. Я судил об этом потому, что он мне сказал, что с Ривьеры он возвращается в Соединенные Штаты, – в то время как я был совершенно уверен, что следующий этап его путешествия – это Париж и что следующим его собеседником должен быть Мервиль.
Мы с ним расстались у входа в его гостиницу, куда я его довез на автомобиле. Он поблагодарил меня, сказал, что не забудет этого вечера и нашего разговора, просил меня непременно дать ему знать, если я приеду в Америку, пожал мне руку, толкнул вращающуюся стеклянную дверь гостиницы – и исчез. Я вернулся к себе, разделся, лег в кровать, вспомнил еще раз удивительные узоры ушей моего случайного собеседника и заснул крепким сном.
На следующее утро я проснулся и вдруг почувствовал, – я никогда не мог понять до конца, почему именно, – что Ривьера, Канны, Средиземное море, буйабес – все это внезапно потеряло для меня ту прелесть, которую я с такой силой ощущал еще накануне. Я позвонил в Париж Мервилю, чтобы сказать ему, что я уезжаю в Италию.
– Что у тебя нового? – спросил я.
– Я ее ищу.
– Каким образом? Где?
– Я дал объявление в газетах, французских и американских. Я чувствую, что она должна откликнуться. Остается только ждать этой минуты, ты понимаешь?
– Я понимаю, – сказал я, – теоретически, конечно. Но я хотел тебя предупредить, что, вероятно, завтра к тебе явится некий Колтон, из американского министерства юстиции, который был у меня вчера и с которым я ужинал. У него, между прочим, необыкновенные уши, обрати внимание. Он будет тебя расспрашивать.
– Если он надеется…
– Я не думаю, чтобы у него были особенные иллюзии, он человек неглупый, – сказал я. – Но вопросы тебе он будет ставить.
– Что ты ему сказал, когда он с тобой разговаривал?
– Моя задача облегчалась тем, что мне действительно нечего было ему рассказывать. Ты – это дело другое.
– Ты его не предупредил, что не стоит ехать в Париж?
– Нет, потому что он мне сказал, что возвращается в Америку первым аэропланом. Я не очень убежден, что он думал, что я ему поверю, но ставить меня в известность о своих планах он, конечно, не мог, это понятно. Хотя бы для того, чтобы я тебя не предупредил о неизбежности его визита.
– Если все его расчеты так же правильны, как этот… Значит, ты едешь в Италию? Не забудь мне сообщить твой адрес. Я тебе позвоню и сообщу, что происходит.
Я уложил вещи, расплатился в гостинице, сел в автомобиль и поехал к итальянской границе. Я проехал через Сан-Ремо, затем свернул с итальянской Ривьеры к Адриатическому побережью и, переночевав в Генуе, приехал в Венецию. Затем, поставив автомобиль на паром, я пересек лагуну и поселился на Лидо. Опять было море, освещенное солнцем, – лошади на соборе святого Марка, крылатые львы, виллы и дворцы над каналами, и опять, в который раз, я смотрел на этот единственный в мире город, и мне снова казалось, что когда-то, в давние времена, он медленно всплыл со дна моря и остановился навсегда в своем последнем движении: застыл каменный бег линий, образовавших его дома, влилось море в берега каналов и возник этот незабываемый пейзаж лагуны, мостов, площадей, колонн и церквей. И без всякого усилия с моей стороны я чувствовал это необычайное артистическое богатство, к которому я становился как будто причастным, так, точно я давно, всегда знал, на что способен человеческий гений, так, точно часть моей души была вложена в эти картины, статуи, дворцы, так, точно, попадая туда, я переставал быть варваром и ощущал наконец все великолепие раз навсегда и безошибочно найденной гармонии, непостижимой для меня ни в каких других обстоятельствах. В это время года – был конец июня – туристов в Венеции было еще не так много, и вечерами я сидел в кафе на площади Святого Марка, слушая оркестр, игравший иногда самые неожиданные вещи, вплоть до русских романсов в особой, итальянской интерпретации, скрывавшей их неизменную славянскую печаль, растворявшей в итальянском звучании эти снега русских полей и эти зимние российские пейзажи, которые как-то не вмещались в южное венецианское пространство, – и думал о самых разных вещах, чрезвычайно далеких от моих недавних размышлений по поводу Мервиля и мадам Сильвестр.
Я написал ему короткую открытку, в которой сообщал, что приехал на Лидо и живу в такой-то гостинице. Проходили дни за днями, звонка из Парижа не было, и через некоторое время я потерял представление о том, где он находился и что он делал. Это меня несколько удивляло, хотя за время моей многолетней дружбы с ним иногда случалось, что я долгие месяцы не знал, что происходит с Мервилем. Но рано или поздно это всегда кончалось одинаково: телефонный звонок или телеграмма, его появление и очередной рассказ о том, что он никогда не думал… что он не понял… что теперь он знает лучше, чем когда-либо… И мне казалось, что каждый раз, когда Мервиль вновь вход ил в мою квартиру, неизменно печальный, после расставания с той, которая… – он возвращался в мир, где не могло быть ни неожиданностей, ни трагедий, ни сколько-нибудь значительных изменений, мир анализа и комментариев и попыток понять по-иному то, что происходило и произошло. В этом, на первый взгляд, была некоторая парадоксальность, так как Мервиль всегда начинал с того, что повторял истину, в бесспорности которой он был, по его словам, твердо убежден: логика и анализ, выводы и заключения неизменно оказываются несостоятельны, когда речь идет о движении человеческих чувств. Но как это ни казалось странно, он все-таки каждый раз возвращался именно к этому. Было, конечно, и нечто другое – уверенность в незыблемости этого мира: нас было несколько, и каждый из нас всегда был готов прийти другому на помощь, в чем бы она ни заключалась. И без этой помощи, например, я не знаю, что стало бы с Артуром, который нередко оказывался без пристанища и без копейки денег, и тогда он являлся к Мервилю или ко мне, зная, что все будет устроено и что его не оставят в беде. Совершенно так же поступала Эвелина – с той разницей, что у нее был такой вид, будто она нам делает одолжение и мы должны ценить то, что она обращалась к нам, а не к кому-нибудь другому. У Мервиля было иное положение – он был богат, но моральная поддержка была ему не менее необходима, чем материальная помощь была – Артуру или Эвелине. Ему было нужно что-то, что не может измениться, на что можно рассчитывать всегда. Конечно, об этом никогда не было речи, конечно, об этом никто никогда не думал, но это было именно так. И когда, после долгого отсутствия и путешествий – Америка, Канада, Испания – Мервиль входил в мою квартиру и садился в кресло, он говорил:
– Есть что-то утешительное в этом, ты знаешь? Все те же книги на тех же полках, тот же диван, тот же стол, ничто не меняется. Удивительно, как ты можешь жить в этой неподвижности?
– У тебя в твоем парижском доме обстановка тоже не меняется.
– Нет, я говорю – психологически, ты понимаешь? – Обстановка психологически меняться не может, это то, что в физике называется твердыми телами.
– Нет, я хочу сказать, фон, на котором ты возникаешь. Да, я знаю, это неподвижность, так сказать, бытовая и даже не географическая, потому что ты все-таки не всегда живешь в Париже. Но каждый раз, когда я возвращаюсь в эту квартиру и сажусь против тебя, мне кажется, что мы только вчера расстались и что все может продолжаться по-прежнему. Ничего не может быть обманчивее этого впечатления, но оно именно такое. И я невольно задаю себе вопрос: где подлинная реальность? В этом обманчивом ощущении или в том, что ему предшествовало?
– Вероятно, и там и здесь, – сказал я, – но только это реальность разная. Я уверен в одном: во всех твоих эмоциональных катастрофах ты виноват только в той степени, в какой твое воображение и твое чувство не дают тебе возможности применять те суждения и тот анализ, значение которых ты так упорно отрицаешь. Ты ищешь эмоционального богатства и находишь душевную бедность, ждешь бескорыстного чувства и наталкиваешься на расчет, и это все отличается обидной простотой. А здесь, у нас, тебе не нужны никакие усилия воображения, ты знаешь заранее все. Ты возвращаешься домой, если хочешь. Ты очень хорошо знаешь, что если после долгого отсутствия ты явишься к нам, потеряв все свое состояние, усталый и отчаявшийся во всем, – мы тебе все устроим, и ты будешь спокойно жить, не нуждаясь в самом необходимом и ожидая наступления лучших времен. Потому что нам не нужны ни твои деньги, ни твое положение, и если завтра ты станешь нищим или миллиардером, то ни то, ни другое не изменит нашего отношения к тебе.
Была еще одна причина того, что Мервиль неизменно возвращался к нам. После каждой его неудачи, которую он переживал как катастрофу, ему казалось, что все погибло и что он, в сущности, конченый человек. Это представление, явно ошибочное, казалось ему, несмотря на его несомненный ум, соответствующим истине. И вот, когда он вновь появлялся у нас, в этом неподвижном, как он говорил, мире, где за это время ничто не изменилось, он начинал думать, что, может быть, в конце концов, не все так безнадежно, как он думал. Это бывало началом его медленного и постепенного возвращения к самому себе – такому, каким он был всегда и каким мы его знали. Потом он опять исчезал, и Андрей насмешливо называл это Perpetuum mobile[10].
Где был Мервиль? В Париже, в Нью-Йорке, в Италии, в Калифорнии? Возвращаясь время от времени к этому вопросу, на который не могло быть ответа до тех пор, пока не раздастся его телефонный звонок, я продолжал жить на Лидо в бездумном и блаженном ничегонеделании, как я жил на Ривьере до приезда Лу. С некоторого времени я чаще всего вспоминал это односложное имя – может быть потому, что в моем представлении возникала теперь вместо Маргариты Сильвестр, француженки из Ниццы, американская авантюристка Луиза Дэвидсон, просто Лу – и в этом одном слоге было заключено больше событий и было больше содержания, чем во французской звуковой фальсификации – мадам Маргерит Сильвестр. Я был к тому же уверен, что Лу, такая, какой она была в Америке, была не похожа на мадам Сильвестр – не по чертам лица, росту и фигуре, а по общему выражению. Я помнил удивительное изменение ее голоса, когда она говорила резким тоном с американским туристом в Каннах. Вероятно, в Америке у нее было другое выражение глаз и лица, может быть, даже другая походка и, несомненно, другая манера себя держать. В этом смысле ее перевоплощение во Франции могло бы, наверное, ввести в заблуждение тех, кто знал ее в Америке. Самым странным, однако, мне казалось то, что она меньше всего была похожа на женщину, у которой была такая бурная жизнь. Неизменно холодное выражение ее лица никак не предрасполагало к желанию завязать с ней знакомство и уверенности, что эта попытка увенчается успехом. Конечно, это было впечатление обманчивое, и, судя по тому, что рассказал мне мой американский собеседник, Лу можно было упрекнуть в чем угодно, но не в холодности, если речь шла о возможности сближения с ней. Но чем больше я думал о ней, тем больше мне казалось, что американская полиция далека от истины – не в вопросе о том, кто убил Боба Миллера, а в своем представлении о Лу Дэвидсон, вполне определенном и крайне несложном: опасная женщина, которая провела свою жизнь в уголовной среде и которая способна на всякое преступление. Это было далеко не так просто, и если в этом была часть истины, то этим все не исчерпывалось, и, может быть, вторая часть истины была совершенно другой и именно она была самой важной.
Но все это были чисто теоретические догадки; это могло быть так и могло быть иначе. Тем более что Лу, по-видимому, обладала такой способностью исчезать, когда она это считала необходимым, которая не уступала ее удивительному дару перевоплощения.
Из каких глубин моего сознания возникла во мне эта любовь к Венеции? Почему, когда я первый раз попал в этот город, у меня было впечатление, что я наконец вернулся туда, хотя я там никогда до этого не был? У меня не было такого ощущения ни в Генуе, ни в Вероне, ни в Риме, ни во Флоренции, ни в других городах и странах. Мне казалось, что я всегда знал эти повороты каналов, эти площади и мосты, этот незабываемый воздух летних венецианских вечеров, это море, эту лагуну. Это был пейзаж, который поглощал и растворял в себе все, что ему предшествовало в пространстве и времени, в нем тонули все воспоминания о других местах, все города разных стран – громады Нью-Йорка, улицы Парижа, озера, реки, моря, все, что я знал раньше. И вот, возникая из всего этого в неудержимом движении, освещенная солнцем, окруженная морем, передо мной была Венеция, самое гармоническое из всех моих видений.
Мервиль знал Венецию лучше, чем я. В числе его увлечений тем или иным периодом истории или культуры на одном из первых мест была итальянская живопись, о которой он мог говорить часами, и я помнил, как при мне он спорил с Артуром, который показывал нам свое последнее приобретение, историю искусства в трех томах с прекрасными репродукциями. Мервиль утверждал, что книги историков искусства – это чаще всего та или иная система классификации, к которой прибавлено несколько суждений общего порядка, неопровержимых, но лишенных глубины личного восприятия и попытки проникновения в тот исчезнувший мир, где возникало непостижимое вдохновение Тинторетто или Карпаччио.
Почему ни одна из тех женщин, которые в разное время пересекали жизнь Мервиля, не могла стать его спутницей в этих его постоянных уходах то в эллинскую философию, то в английскую поэзию, то в итальянский Ренессанс? Единственным исключением могла бы быть Эвелина, которая при всей своей раздражающей вздорности отличалась непогрешимым эстетическим вкусом. Но она всегда была настолько занята своей личной жизнью и создаванием того абсурдного мира, которого она была смещающимся центром, что у нее, казалось, не оставалось времени ни на что другое. И вдруг мы с изумлением узнавали, что она помнила наизусть стихи Китса или Леопарда и те обстоятельства, в которых писал свои картины Джотто или Беллини.
Но Эвелина никогда не играла в жизни Мервиля роли его спутницы. Те женщины, которые играли эту роль, все до одной отличались неспособностью что-либо понять в области отвлеченных представлений, философских систем и эстетических концепций, которая была неотделима от существования Мервиля. Те из них, которые были умнее, делали вид, что они следуют за ним в его рассуждениях и тирадах, но это не могло даже его привести к сколько-нибудь длительному заблуждению по поводу их возможности что-то действительно понять в этих его увлечениях, которые им казались в одинаковой степени праздными и непостижимыми.
Что в этом смысле могла дать ему Лу? Если мой американский собеседник более или менее правильно описал ее жизнь, если она действительно провела ее среда уголовных субъектов, то там, конечно, она не могла почерпнуть какие бы то ни было сведения о философии или искусстве. И в этом случае трудно было себе представить, как Мервиль мог бы найти с ней общий язык.
Он по-прежнему не давал о себе знать. Его надежда разыскать Лу казалась мне неосуществимой – и в конце концов, может быть, было бы лучше, чтобы она действительно исчезла без следа. Но, конечно, убедить его в этом было бы невозможно.
Была уже вторая половина июля, и мне казалось, что я живу здесь так давно, что Париж, мои друзья, моя работа – все это бесконечно далеко от меня. У меня было впечатление, что я все больше и больше ухожу от себя самого – такого, каким я видел себя обычно. Больше как будто не оставалось неразрешимых вопросов, не было ни моих любимых книг, ни моих любимых авторов – и только один раз в Венеции, в ресторане, где подавал к столу неприятного вида официант, у которого на лице было смешанное выражение лакейской угодливости и наглости, я вдруг вспомнил беспощадные слова Сен-Симона о Людовике XIV, то место в его воспоминаниях, где он говорит, что Людовик XIV очень хорошо обращался со своими лакеями и что именно в их обществе он чувствовал себя лучше всего. Но это было несколько строк, которые вдруг всплыли перед моими глазами, – и больше ничего. Мне казалось, что все, что было лишним и тягостным в моей жизни, точно растворялось в этом адриатическом воздухе, что я теряю самого себя и потом вновь возникаю из неизвестности и небытия, так, точно этому ничто не предшествовало. В этом ощущении было избавление от той бытовой тяжести, которая сопровождала меня всю жизнь – национальность, возраст, биография. Все это теряло всякое значение.
Так прошло больше полутора месяцев, и мне надо было сделать усилие над собой, чтобы вспомнить о Париже, куда мне все-таки предстояло вернуться в ближайшем будущем, и наконец наступил день, когда я уехал из Венеции. Я ехал на автомобиле не спеша через Бреннер, Мюнхен, Штутгарт и Страсбург, останавливаясь несколько раз по дороге, и через четыре дня я въезжал в Париж, пустынный и тихий в эти августовские дни. Я вернулся в свою квартиру, где нашел все в идеальном порядке – на этот раз Эвелины там не было. Ее кабаре было закрыто на летние месяцы и должно было открыться только двадцатого сентября. В Париже не было никого из моих друзей, мой телефон безмолвствовал, и писем тоже не было. И как только я вернулся в свою квартиру, у меня опять возникло то чувство, которое я так давно знал, – что все идет не так, как должно было бы идти, и что в этом есть что-то непоправимое. Я никогда не мог вспомнить, где, когда и почему это чувство появилось и осталось во мне, как я думал, навсегда.
Я несколько раз звонил по телефону Мервилю, но на звонок никто не отвечал. То, что его не было в Париже в августе месяце, было естественно, но события последнего времени в его жизни развивались так, что трудно было себе представить, где он мог быть и что он делал. Через несколько дней я узнал, что Мервиль был в Париже еще в конце июня и уехал в начале июля.
Я узнал об этом совершенно случайно, так как через неделю после моего приезда ко мне явился Артур со своим таксиком, Томом, – Артур растерянный, взъерошенный и несчастный. Он рассказал мне о том, как он жил некоторое время на Ривьере со своим другом, – он привел при этом чрезвычайно звучную испанскую фамилию, которую я тотчас же забыл, я помнил только, что она состояла из последовательности трех собственных имен, перемежавшихся приставками.
– Ты, конечно, слышал о нем? – спросил Артур. – Нет, – сказал я, – чем он известен? – Как, ты не знаешь? Он ставит теперь «Лебединое озеро» в Рио-де-Жанейро. – «Лебединое озеро» в Бразилии? – Что в этом странного? Он уже поставил там «Жизель», потом он намерен… – Но какое отношение все это имеет к тебе? – Мы были вместе с ним на юге, но несколько дней тому назад он получил телеграмму, он должен был все бросить и немедленно возвращаться в Рио-де-Жанейро, и мы остались с Томом, ты понимаешь, одни. Из гостиницы пришлось уехать, денег на дорогу в Париж не было, мы ехали в разных автомобилях, которые мы останавливали то там, то здесь и так наконец добрались сюда. Сейчас, ты понимаешь, создалось такое положение… – Понимаю, – сказал я, – можешь располагаться здесь, потом посмотрим.
Артур пошел принимать ванну, потом лег спать – было около семи часов вечера – и проспал до следующего утра, оставив на мое попечение Тома, которого я кормил и выводил гулять.
На следующее утро мы сидели с Артуром в столовой, пили кофе и разговаривали. Он был хорошим собеседником, у него были обширные познания в области искусства, и, как это нередко бывает у таких людей, как он, – он был невысокий, худощавый человек со слабыми, как у женщины, руками, – у него было тяготение к таким художникам, как Тициан или Рубенс, ко всякому проявлению силы. Он сам был неплохим рисовальщиком, и альбомы, в которых он делал свои наброски карандашом, были полны изображений греческих богов и мифологических героев с выпуклыми мускулами. Когда он начинал говорить о балете, он не мог остановиться, и иногда создавалось впечатление, что весь мир представляется ему как ряд ритмических движений и бег линий, сплетающихся в каких-то метафорических и неубедительных – для его собеседников – соединениях. Предельным выражением совершенства казался ему «Le spectre de la Rose»[11] – напоминание о полете Икара, где было одновременно торжество человеческой воли и тот неизбежный трагический конец, без которого каждое искусство… Он часто не кончал своих фраз, и интонация заменяла ему тот период, который он должен был произнести и который оставался непроизнесенным. Но смысл его, в представлении Артура, не мог ускользнуть от его собеседника, и когда ему приходилось иметь дело с людьми, для которых то, что он говорил казалось слишком сложным, он терялся и умолкал, и в такие минуты его становилось жаль. Он был на редкость беспомощен в жизни, но многочисленные и жестокие испытания, которые выпадали на его долю, – он нередко оказывался без крова, без средств, не знал, что с ним будет завтра, – он переносил совершенно стоически, никогда не жалуясь и считая это неизбежным, как дождь осенью или снег зимой. Было в нем что-то необыкновенно привлекательное, в чем он, казалось, не отдавал себе отчета. Никому из нас не приходило в голову спросить Артура, почему он не думает о том, что ждет его завтра, на что он рассчитывает и отчего, например, в его жизни ни о какой службе не может быть речи. Он всецело зависел от других, и странным образом это казалось настолько естественно, что никогда не стесняло ни его, ни тех, от кого он зависел.
Мы говорили с ним о разных вещах, в частности о Венеции. Потом он меня спросил:
– Ты видел летом Мервиля?
– Очень короткое время, – сказал я, – на Ривьере.
– Ты знаешь, что произошло потом?
– Я знаю, что он вернулся в Париж. Что с ним случилось позже, понятия не имею. Я очень давно о нем ничего не знаю.
– Ты помнишь эту историю с мадам Сильвестр?
– Помню.
– Ты знаешь, что она исчезла и что он ее разыскивал?
– Я знаю, что он хотел ее найти во что бы то ни стало. Но мне с самого начала казалось, что из этих розысков ничего не выйдет.
– Ты ошибаешься, – сказал Артур, взглянув на меня как-то сбоку. – Он ее нашел. Вернее, не он ее нашел, а она его нашла. Она пришла к нему, позвонила, он отворил ей дверь, она едва держалась на ногах и упала без сил, он только успел ее подхватить. Я был у него на следующий день после этого, а еще через день он уехал вместе с ней.
– Куда же он уехал, ты не знаешь?
– Не знаю, кажется, за границу, – сказал Артур.
Двадцатого сентября открылось кабаре Эвелины, – я вспомнил об этом накануне, разбирая письма и найдя приглашение, которое она мне послала. Этот день приходился на субботу, и я остался дома, потому что думал, что в кабаре будет слишком много публики. Я пошел туда в ночь с понедельника на вторник.
Не все столики были заняты, оркестр играл как-то вяло. На эстраде известная певица – как это было объявлено в программе, и я никогда не слыхал ее имени – пела с одинаковой легкостью на всех языках сентиментальные романсы, переходя от американского репертуара к итальянскому и от мексиканского к русскому. Нельзя было понять, какой она национальности. Сначала я думал, что она американка, потом мне стало казаться, что она, может быть, итальянка, жившая в Соединенных Штатах, и даже по-русски она пела без малейшего акцента. В конце концов оказалось, что она венгерка.
Эвелины не было видно, и она появилась только через полчаса после моего прихода, войдя в зал из боковой двери. На этот раз она была в белом шелковом платье. В ее глазах, когда она переставала улыбаться тому или иному посетителю, вновь было то далекое выражение, которое я хорошо знал. Она увидела меня, подошла к моему столику, села против меня, отпила глоток шампанского из моего бокала, до которого я не дотронулся, и спросила:
– Ты один? Ты никого не ждешь?
– Один, как всегда.
– Пойдем ко мне, поговорим, у меня тут рядом бюро.
Я пошел за ней. Мы вошли в хорошо обставленную комнату, украшенную многочисленными портретами артистов с автографами; я смотрел на эти выставочные лица и буквы, написанные нарочито размашистым почерком. Эвелина села на диван и указала мне место рядом с собой.
– Что у тебя хорошего? – спросил я. – Ты не изменила своего мнения о метампсихозе?
Она посмотрела на меня насмешливо.
– Ты хочешь, чтобы я тебе все объяснила?
– Нет, – сказал я, – в этом нет необходимости. Я хотел бы только тебе напомнить, что каждое твое увлечение чем бы то ни было – философией Платона, к которой ты в свое время питала слабость, Бетховеном, литературой, современной живописью, чем угодно, вплоть до метампсихоза, возникает, моя дорогая, моя несравненная Эвелина, из твоих эмоциональных глубин, а не из предпочтения, основанного на выводах и рассуждениях.
– Если бы это было иначе, я не была бы женщиной.
– Я очень далек от мысли тебя за это упрекать.
– У тебя всегда была эта особенность, – сказала Эвелина, – не называть вещи своими именами.
– Ты знаешь почему? Потому что мне кажется, что так называемые свои имена не всегда соответствуют тому, что ты хочешь сказать. Свои имена – это вещи простые, а это далеко не ко всем подходит – к тебе в частности.
– Я хотела бы знать, – сказала она, – почему это так неизбежно – умирание каждого чувства?
– Это, милая моя, тема для Мервиля. Я думаю, что с ним тебе было бы легче сговориться, чем со мной.
– Его нет в Париже, – сказала она. – Ты знаешь, он так увяз в этой своей истории – я не представляю себе, чем все это кончится. Ты знаешь, что после ее исчезновения они в конце концов встретились?
– Мне об этом говорил Артур.
– Очень темная история. Тем более что нет ничего легче, как обмануть Мервиля, он всему верит. Любая женщина может его заставить сделать все, что она захочет. Если бы я могла ему помочь…
– Мне кажется, что сейчас ему помощь не нужна.
– Не знаю, – сказала Эвелина. – Мы это увидим. Но вернемся к тому, о чем мы говорили. Ты меня хорошо знаешь. Ты думаешь, я не заслуживаю лучшего, чем то, что у меня есть?
– Чего-то тебе не хватает для этого. Может быть, – я в этом не уверен до конца, – способности созерцания, углубления, что ли. У тебя все протекает бурно и стремительно.
– Это вопрос темперамента.
– Равновесие, Эвелина, вот то слово, которое я искал. И еще одно.
– Что именно?
– Я думаю, что для тебя важнее всего не тот, кого ты, как тебе кажется, любишь, а твое чувство, которое растет само по себе, развивается и потом постепенно слабеет и умирает. Но в этом чувстве ты, в сущности, одинока, как это ни кажется парадоксальным. Никто до сих пор не мог задержать его ослабления, как нельзя задержать развитие некоторых болезней. И никто тебе в этом не может помочь. Бели когда-нибудь придет такое время, когда ты забудешь о себе и будешь думать только о том, кого ты любишь, а он, в свою очередь, будет думать только о тебе, – тогда, теоретически, ты испытаешь настоящее счастье. Может быть – понимаешь?
Она смотрела на меня, у нее были далекие и печальные глаза.
– Ты недовоплощена, Эвелина, – сказал я. – До сих пор это тебе не удалось. Но, может быть, когда-нибудь удастся.
Выражение ее лица опять изменилось, в ее глазах снова появилась насмешливость, но голос еще хранил отражение того чувства, которое она только что испытала, и поэтому странно не соответствовал ее взгляду. Она сказала:
– И тогда я предложу тебе написать обо мне книгу. Это избавит тебя от необходимости писать о выдуманных героях и героинях. Ты напишешь о том, как мутнеют мои глаза от охватившего меня чувства. Ты напишешь, как я сижу и плачу и мое лицо становится некрасивым от слез, потому что я думаю, что мой возлюбленный меня забыл. Ты напишешь, как мы медленно идем с ним ночью, под дождем, и он держит меня за талию, и мои мокрые волосы свисают на плечи. Что ты напишешь еще?
– Я напишу, как ты просыпаешься утром и смотришь на лицо твоего возлюбленного до тех пор, пока он не откроет глаза, почувствовав на себе твой взгляд.
– Ты этого не забыл? – сказала она. – Ты знаешь, мой дорогой, один из твоих недостатков – это твоя память, которая тебе никогда не изменяет.
– Бели бы ее у меня не было, Эвелина, – как я мог бы написать о тебе книгу?
– Ты хочешь, чтобы я сделала тебе признание?
– Признание?
– Да. Ты знаешь, почему я тебя люблю?
– Ты меня не любишь.
– Я знаю, что я говорю. Я люблю тебя за то, что ты – живое напоминание о сожалении, которое я испытываю. Я думаю: как жаль, что мы не можем быть вместе. Как грустно и приятно в то же время думать о том, что могло бы быть и чего нет, и как жаль, что этого нет. Ты для меня – напоминание о возможности счастья, которого нет.
– Мы с тобой еще поговорим об этом, – сказал я. – Сейчас поздно, надо идти домой.
И я встал с дивана. Она протянула мне руку с кольцом, в котором сверкал фальшивый брильянт.
– Спокойной ночи, – сказала она, и в ее голосе прозвучала та нежная интонация, которую я слышал два или три раза, несколько лет тому назад и которой я не мог забыть все эти годы. – Хорошо, что ты все-таки существуешь, и я знаю, что если наступит день, когда у меня ничего не останется, когда я буду бедна и несчастна, я приду к тебе и ты отворишь мне дверь.
– Ты знаешь очень хорошо, – сказал я, – что пока мы есть, Мервиль и я, ты никогда не будешь без крова и без средств.
– Самая большая ошибка, – сказала Эвелина, – это сжигать за собой все мосты. Спокойной ночи – и не забывай меня.
– Кто может тебя забыть? – сказал я, уже уходя. – Даже если бы он хотел?
Я вышел на улицу. Была теплая сентябрьская ночь, и я невольно вспомнил декабрьский холод, когда я был первый раз с Мервилем в кабаре Эвелины. С тех пор прошло десять месяцев – после этой второй встречи Мервиля и Лу. Что он в ней нашел? В десятый раз задавал я себе этот вопрос, совершенно бесплодный и беспредметный, ответ на который терялся в бездонной глубине бесчисленных совпадений, долгого ожидания, сожалений и надежд. Я шел вверх по пустынным в этот час Елисейским полям и думал о мире, в котором я жил и который пытался определить знакомыми мне понятиями. Но их хватало только для изложения фактов и нескольких выводов, не имеющих особенной ценности. И они оказывались несостоятельными, когда я пытался найти подлинные причины того, что происходило. Я давно привык к этим постоянным и неизбежным неудачам. Все, что я знал, все, что я мог сказать, было приложимо, в сущности, только к неподвижным вещам, к тому, что прошло и кончилось. И в этой застывшей раз навсегда неподвижности того, что перестало существовать, выводы и заключения вновь приобретали смысл, которого у них не было при других обстоятельствах. – Мы можем судить о значении и смысле той или иной человеческой жизни только после того, как она кончится, – думал я. – Потому что, пока она движется, вчерашний герой может стать преступником или порядочный человек растратчиком чужих денег. Я знал профессионального вора, который стал всеми уважаемым священником, знал шулера, который стал знаменитым артистом, знал профессора философии, который стал нищим и бродягой, знал людей, которые, казалось, могли многое дать и не дали ничего, и знал других, над невежественностью которых все смеялись и которые стали учеными. Эти неожиданные и необъяснимые, казалось бы, превращения совершенно меняли наше представление о них, их психологический облик, в определении которого мы так жестоко ошибались, и это было доказательством нашей органической неспособности отличить в истории человеческой жизни то, что в ней было самым важным и существенным. И только смерть, останавливавшая навсегда это движение, давала ответ на те вопросы, которые еще накануне казались бессмысленными и теперь приобретали все свое столь очевидное значение.
Елисейские поля давно остались позади. Я шел и продолжал думать о том, о чем я думал всегда, всю жизнь, везде, где я был. Всегда были эти одинокие прогулки – в России, во Франции, в Германии, в Италии, в Америке, всюду, куда заносила меня судьба. Менялись города, страны, пейзажи, но не менялось только одно – это непрерывное и медленное движение ощущений и мыслей, то, о чем мне как-то сказал Жорж:
– В сущности, в знаменитой фразе Декарта нужно было бы переставить глаголы: не «Cogito Ergo Sum», а «Sum Ergo Cogito»[12].
– Откуда у тебя такие идеи? – сказал ему Мервиль. – Ты, по-моему, думаешь больше всего о том, сколько ты истратил денег, и испытываешь по этому поводу глубокую и неподдельную печаль. Любую философскую систему тебе заменяют простейшие арифметические действия, сложение и вычитание.
– То, что ты говоришь, – ответил Жорж, – свидетельствует о твоем неумении или нежелании понять человека, который не похож на тебя. Ты не понимаешь, что деньги – это символ власти. Нищий, который сидит на груде золота, знает, что он король, что он может сделать все. И потому что он знает, что в его руках власть над людьми, одного этого ему, как созерцателю, достаточно. Так он и живет – властелин в лохмотьях, и ты находишь, что в этом нет какого-то библейского великолепия?
– Нет, милый мой, – сказал Мервиль, – не только нет библейского великолепия, а есть то, что наш общий друг – он показал на меня – как-то назвал моральным идиотизмом. Ты говоришь о потенциальных возможностях, но если они не использованы, то остается неподвижность и бессилие, – какой тут, к черту, король? Тем более, что твой нищий умирает на своем золоте, которое тянет его вниз, как мертвый груз, так и не сделав ничего в своей жизни – не потому, что он этого не хотел, а оттого, что не мог.
– Ты никогда не поймешь, что такое деньги, – сказал Жорж, – хотя их у тебя больше, чем у всех нас, вместе взятых. Но это величайшая несправедливость, это ошибка слепой судьбы.
Я вспомнил об этом разговоре Мервиля и Жоржа, людей со столь разной судьбой, точно их создал и придумал какой-то насмешливый и жестокий гений. Но что вообще характернее почти для всякой человеческой жизни, чем повторение этих двух слов – ошибка и несправедливость?
– Ты понимаешь, такие люди, как я, которые созданы для спокойной жизни без материальных забот…
Это были слова Андрея, когда мы все как-то ужинали у Мервиля. И Эвелина сказала, смотря ему в лицо холодным взглядом своих синих глаз:
– Откуда ты знаешь, для чего ты создан?
– Ты считаешь, что у человека нет определенного назначения на земле?
– Есть, но не у всех.
– Что ты хочешь сказать?
– Ну вот Мервиль создан для того, чтобы делать глупости и тратить деньги. Он, – она кивнула головой на меня, – для того, чтобы заниматься литературой, в ценность которой он не верит, жить в воображении жизнью других и делать из всего, что он видит и чувствует, выводы и заключения, чаще всего ошибочные. Жорж, твой брат, – для того, чтобы своей жизнью доказывать, что может существовать такое соединение – жалкая скупость и исключительный поэтический дар. Но для чего ты создан, этого никто не знает.
– Эвелина, ты когда-нибудь кого-нибудь пожалела в твоей жизни? – спросил, улыбаясь, Мервиль. У Эвелины с актерской быстротой изменилось лицо, как будто осветившись внезапно возникшим чувством, и тотчас же, следуя за выражением глаз, изменился ее голос.
– Да, мой дорогой, – сказала она, – жалела – и прежде всего тебя. И не только тебя, – добавила она, взглянув в мою сторону.
– Эвелина, – сказал Жорж, – если бы каждый из нас сделал тебе предложение, как бы ты ответила на это?
– Отказом, – сказала она, – отказом, но по разным причинам. Тебе – потому что я тебя презираю, Андрею – потому что он не мужчина, Мервилю и моему дорогому другу – она положила мне руку на плечо – потому что я их люблю и не желаю им несчастья. И единственный, кому я не ответила бы отказом, это Артуру, потому что он не сделал бы мне предложения. Но это мне не мешает испытывать к нему нежность.
Позже, когда все разошлись и мы остались вдвоем с Мервилем, он мне сказал:
– Ты знаешь, мне иногда кажется, что Эвелину создал задумчивый дьявол, в тот день, когда он вспомнил, что когда-то был ангелом.
– Вспомнил ли? – сказал я. – Я в этом как-то не уверен.
– Ее мать голландка, – сказал Мервиль, – отец испанец. Но все не так, как это можно было бы себе представить. У ее матери была бурная жизнь и неутолимая жажда душевных движений – ты понимаешь, что я хочу сказать. Ничего северного, голландского в ней нет. А отец Эвелины – один из самых меланхолических и спокойных людей, каких я видел, меньше всего похожий на испанца. Результат этого брака – Эвелина. И вот теперь, ты видишь, она вносит в нашу жизнь элемент абсурда, без которого иногда было бы скучно. Мне порой кажется, что она все это делает нарочно, потому что она действительно умна и все понимает, когда находит это нужным.
– Странный у нас все-таки союз, – сказал я. – Мы очень разные – Эвелина, Андрей, Артур, ты и я. Но вот наша связь не рвется ни при каких обстоятельствах. Что, собственно, нас объединяет?
– Может быть, то, что никому из нас до сих пор не удалось стать счастливым. Или – что было бы печальнее – никто из нас не способен быть счастливым.
– Во-первых, одного этого недостаточно. Во-вторых, я в этом не уверен. У меня, например, как мне кажется, очень скромные требования к жизни, и, я думаю, будь все чуть-чуть лучше, я мог бы быть совершенно счастлив.
– Я не могу поверить, что у тебя есть эта иллюзия, – сказал Мервиль. – Твоя память перегружена, твое воображение никогда не остается в покое, и даже когда тебе кажется, что ты ни о чем не думаешь, в тебе все время идет упорная работа, и это продолжается всю твою жизнь. Быть счастливым – это значит забыть обо всем, кроме одного блистательного чувства, которое ты испытываешь. Но ты никогда ничего не забываешь. Нет, милый мой, до тех пор, пока ты не изменишься и не станешь таким, каким ты был раньше – мы все помним, каким ты был несколько лет тому назад, – до тех пор ты не способен стать счастливым.
– Не забудь, что иногда я погружаюсь в блаженное небытие.
– Это потому, что твой организм требует отдыха, – сказал Мервиль, – это как потребность сна. Не смешивай это с другими вещами.
Я подходил к своему дому. Он стоял на маленькой улице, довольно далеко от центральных районов города, и эта улица, с узким пространством между ее зданиями, когда туда проникал солнечный свет, напоминала мне гравюру в темных тонах. Но в свете электрических фонарей это впечатление терялось.
Я поднялся на лифте на свой этаж и, подходя к двери, услышал, что в моей квартире звонит телефон. Кто мог вызывать меня в этот час, на рассвете сентябрьской ночи?
Далекий женский голос спросил по-английски, но с резким иностранным акцентом, я ли такой-то. После моего утвердительного ответа женщина сказала:
– С вами сейчас будут говорить.
Через несколько секунд голос Мервиля сказал:
– Я хотел знать, все ли у тебя благополучно.
– Как всегда, – сказал я, – откуда ты звонишь?
– Из Мексики.
– Как ты туда попал?
– Мы тут задержались на некоторое время. В недалеком будущем мы вернемся в Париж и я тебе все расскажу. Ты видел Артура?
– Он живет у меня.
– Значит, главное ты знаешь. Я давно хотел тебе позвонить, но как-то не получалось. Ты понимаешь, трудно это сказать в нескольких словах, все так необыкновенно…
– У тебя часто бывают необыкновенные вещи, – сказал я. – Буду ждать твоего приезда.
На этом разговор кончился, и, ложась спать, я подумал – почему Мервиль оказался в Мексике, что это могло значить?
Утром Артур мне сказал, что ему снилось, будто ночью звонил телефон, но когда он проснулся, в квартире было тихо.
– Ты видишь, – сказал он, – насколько обманчивы наши представления и насколько неверны даже те ощущения, которые возникают из таких, казалось бы, конкретных вещей, как пять чувств. Мне снится, что звонит телефон, это происходит от раздражения уха. Мое воображение под влиянием сна и звуковых воспоминаний создало это впечатление, которое не соответствует ничему реальному. Наше восприятие – это сны, воспоминания, ощущения, значение которых от нас ускользает, это ежеминутно меняющийся мир, природа которого тоже не какое-то постоянное понятие. Вся непостижимая сложность нашего душевно-психического облика, который тоже…
– Подожди, – сказал я. – Все, что ты говоришь, может быть верно…
– Мы не знаем, что верно и что неверно. Когда ты вступаешь в область категорических утверждений, единственное, в чем ты можешь быть уверен, это в их несостоятельности.
– Ты мне не даешь договорить. Дело в том, что вчера ночью в моей квартире действительно звонил телефон. Ты это услышал во сне, но проснулся не сразу, и, когда ты открыл глаза, то все уже было тихо. А тихо было потому, что разговор по телефону был очень короткий. Так что вся твоя тирада о недостоверности и неопределимой природе наших ощущения произнесена зря.
– Кто тебе мог звонить в это время?
– Мервиль.
– Мервиль? Откуда?
– Из Мексики. Он сказал – мы в Мексике.
– Ах, опять эта женщина, – сказал Артур. – Я чувствую в ней что-то враждебное и не могу от этого чувства избавиться. Она тебе нравится?
– Нет, – сказал я. – Я провел с ней некоторое время, довольно короткое, и нашел, что это крайне утомительно.
– Я думаю, что она должна приносить несчастье всем, кто с ней сталкивается. И мне искренно жаль Мервиля, я за него боюсь.
– Ты уже говорил мне об этом, – сказал я. – Но какие у тебя основания для этого?
– Я не могу тебе объяснить. Это интуиция. Конечно, логически, чего, казалось бы, бояться? Но вспомни, что Андрей так же думает, как я.
– Все это решительно ничего не доказывает.
– Дело не в доказательствах, а в ощущении. Если ты будешь ждать доказательств или фактов, то может оказаться, что будет слишком поздно. Посмотри – ты, Андрей, Эвелина, я – мы все к ней относимся отрицательно не потому, что она нам сделала что-то дурное, а инстинктивно, и это недаром.
– Почему ты считаешь, что твой инстинкт – или чей-либо другой – безошибочен, а инстинкт Мервиля вдруг оказывается не таким, как нужно? Почему ты думаешь, что прав ты, а не он?
– Я ничего не думаю, я чувствую и очень жалею, что этого чувства Мервиль не испытывает.
– Рано или поздно мы увидим, кто в конце концов окажется прав.
– Мне не хочется даже думать об этом, – сказал Артур.
На следующий день Артур исчез, – как это с ним уже неоднократно бывало, – не оставив, по обыкновению, даже записки. Утром, когда я проснулся, его уже не было. Комната, в которой он жил, была в идеальном порядке, все стояло на своем месте. Но шкаф, в котором висели его костюмы, был пуст и коврика, на котором спал Том, не было. Артур прожил у меня недолго, но я успел привыкнуть к его присутствию, которое никогда не было стеснительным, привык слышать его быструю походку, его голос, видеть его за столом или в кресле, и мне показалось, что в квартире стало пусто. Я годами жил один, никогда не думал о своем одиночестве и его не чувствовал. Но после ухода Артура я вдруг по-новому понял, что я опять остался один, и на этот раз мне было как-то неприятно, – точно Артур не был моим случайным и временным гостем, а был человеком, присутствие которого мне стало казаться естественным и почти необходимым. Я знал, что рано или поздно он вернется. Но он мне был нужен именно теперь, потому что, пока он жил в моей квартире, я, в свою очередь, был нужен ему, и от этого мое существование переставало казаться мне совершенно бесполезным.
Я думал о своих друзьях. У каждого из них было что-то, чего у меня не было, чаще всего чувства, которое искало бы выхода или удовлетворения, интерес к искусству или философии, наконец, просто стремление к спокойствию и обеспеченности, как у Андрея. У Артура были бурные страсти, над которыми мы смеялись, потому что нам они казались непонятными – в том смысле, что мы не были способны даже отдаленно себе представить, что могли бы испытать нечто подобное. У Мервиля был его «лирический мир» и поиски эмоционального равновесия, у Эвелины – своя собственная жизнь, в которой она, как актриса, играла то ту, то другую роль, чаще всего роль возлюбленной, и жестокий ее эгоцентризм. Правда, в отличие от Мервиля и Артура, она знала, избегая в этом признаться даже самой себе, что это все было похоже на вздорный мираж и что в этом не было ни подлинного чувства, ни подлинного увлечения. Ее существование однажды очень правильно определил Мервиль, сказав, что для нее в одинаковой степени характерны две особенности, которые, казалось бы, должны были исключать друг друга: глупейшая жизнь – и несомненный ум. И когда после этих размышлений я возвращался к мыслям о самом себе, я думал, что у меня не было ничего, чем жили мои друзья, – даже возможности хотя бы на короткое время представить себе, что все идет так, как нужно, и что я именно этого хочу. Вместе с тем, когда у меня проходила душевная усталость, которая чаще всего отравляла мое существование, как постоянно действующий медленный яд, мне казалось, что в известных условиях, – как это было до тех пор, пока Сабина была со мной, – все могло бы быть совершенно иначе, чем теперь. Но об этом я никогда никому не говорил.
Я принялся за чтение, которое прерывал обычно приход женщины, которая убирала мою квартиру три раза в неделю, немолодой испанки, чрезвычайно словоохотливой, бросавшей работу, когда она начинала мне что-нибудь рассказывать. Работать и говорить одновременно она не могла, и получалось впечатление, что произносить слова и составлять из них фразы требовало от нее такого же усилия, как мыть окна или посуду. У нее не было точной границы между речью и движением, так, как будто в ней духовный и физический мир были одним целым. Она неоднократно рассказывала мне разные эпизоды своей жизни, и если бы я понимал как следует то, что она говорила, я, вероятно, хорошо бы знал ее биографию. Но мне почти никогда не удавалось, несмотря на все мои усилия, понять то, что она говорила. Она была убеждена, что говорит по-французски, но, насколько я мог составить себе об этом представление, это была странная смесь безжалостно исковерканных французских слов с испанскими, смесь, в которой существительные иногда были похожи на французские, но глаголы были испанские. И если мне удавалось понять то или иное существительное, то я не знал, что с ним происходило, потому что эти обозначения предметов или фактов были связаны между собой словами, значение которых от меня ускользало. Она мне как-то рассказала, что когда она была на похоронах своей матери, она встретила там человека, который впоследствии играл очень важную роль в ее жизни. В то время как, кончив свой рассказ, она принялась за работу, ко мне пришла Эвелина, которой я сказал, что вот уборщица рассказала мне, как на похоронах ее матери…
– Ты уверен, что ты все правильно понял? – спросила Эвелина.
– Нет, – сказал я, – но мне показалось.
– Подожди, я ее спрошу.
Последовал быстрый разговор по-испански между Эвелиной и уборщицей, и потом Эвелина сказала:
– Она говорит, что не могла быть на похоронах своей матери, потому что в это время была в другом городе и была связана с человеком, который был ничтожеством и не играл в ее жизни никакой роли, она с ним очень скоро рассталась и никогда об этом не жалела.
– Ну да, – сказал я, – это подтверждает то, что я давно подозревал: я понял некоторые существительные, но не понял глаголов.
– Что важнее? Глаголы или существительные? – сказала Эвелина.
– Вероятно, все-таки соответствие между ними, – сказал я.
По мере того как проходило время, я замечал, что многих книг, которые я брал с полки, я не мог читать, их несостоятельность начинала мне казаться очевидной с первых же страниц. Я вспомнил, как мне попались путевые записки автора, который одно время пользовался некоторой известностью. Я открыл его книгу, и первая строка, которую я прочел, была такая:
«Я приближаюсь к морю. Знает ли оно, как я его люблю?»
На этом мое чтение его записок кончилось, и у меня не хватило мужества читать дальше. Но пример этой риторической глупости далеко не был единственным или исключительным. Бели бы я читал эту книгу много лет тому назад, я бы продолжал все-таки искать в ней что-нибудь, что заслуживало бы внимания. Но длительный опыт научил меня тому, что эти поиски обычно оказываются бесплодными, и теперь у меня не было желания терять на них время. В результате этого круг моего чтения все время суживался, как шагреневая кожа.
Я сидел в кресле и перечитывал еще раз «Войну и мир», – это было через три дня после ухода Артура, был шестой час вечера, – когда раздался телефонный звонок. Звонила Эвелина, сказавшая, что ей нужно со мной поговорить и она придет через двадцать минут.
Когда она вошла в квартиру, у нее было такое выражение лица, по которому было видно, что она только что приняла очень важное решение.
– Чем я могу тебе быть полезен? – спросил я.
– Ты не хотел бы стать моим компаньоном?
– Компаньоном? – сказал я с изумлением. – В чем?
– В моем деле. Я знаю, что ты в этом ничего не понимаешь, но твоя роль была бы очень скромной, ты был бы только юридической фикцией.
– Худшего выбора ты не могла бы сделать, – сказал я, – и ты должна это знать. Какое дело? Твое кабаре?
– Да, – сказала она. – Оно приносит некоторый доход.
– А Котик?
– Котик, – сказала она, – это прошлое, и вдобавок такое, которым гордиться не приходится.
– Это было ясно с самого начала, – сказал я. – Но что изменилось и что произошло?
– Я не могу больше выносить его утомительной глупости, – сказала Эвелина. – Я сделала все, чтобы придать этому видимость какого-то приличия, но это невозможно. Ты знаешь, в чем мой главный недостаток?
– Для этого следовало бы знать, какой из твоих недостатков ты считаешь главным.
– Тут ты не мог удержаться, – сказала она. – Но не будем спорить. Я только хотела сказать, мой милый, что ничего не может быть грустнее, когда женщина умнее своего любовника. А со мной это всегда именно так и происходит.
– Ты считаешь, что каждый раз это случайно?
– Вероятно, мне не везет.
– Нет, моя дорогая, – сказал я. – Будем откровенны. Я тебе, помнится, как-то сказал, что ты выбираешь тех, над кем ты чувствуешь свое превосходство. Если этого нет, тебе неинтересно. Вместе с тем ты хочешь себе внушить, что вот наконец ты нашла кого-то, кто достоин твоего чувства. Я никогда не мог понять, зачем ты это делаешь. В тебе есть какой-то постоянный разлад между душой, умом и твоей эмоциональной жизнью. Ты испытываешь, скажем, влечение к человеку, глупость которого для тебя очевидна. Это могло бы быть длительным, если бы твои душевные и умственные способности были раз навсегда атрофированы. Ты пытаешься их нейтрализовать, но это тебе никогда до конца не удается, и ты знаешь, что это не может удаться. Я только напоминаю тебе элементарные истины, Эвелина. Помнишь наш с тобой разговор о Котике и метампсихозе? Мы оба знали с самого начала, насколько это было глупо, – и ты знала, что я это знал.
– Это было нетрудно, – сказала она, – Ты, впрочем, этого не скрывал. Но и тогда, во время этого разговора, я очень хорошо знала, что Котик уйдет и будет забыт, как старая тряпка, а ты останешься.
Она задумалась на минуту и потом сказала:
– Посмотри в окно.
Начинались сумерки, шел холодный дождь, и казалось, что наступала настоящая осень. И я вспомнил недавние летние дни, Ривьеру, буйабес, Адриатическое море и Лидо ди Венециа.
– Мы сидим с тобой здесь, – сказала Эвелина, – и есть в этом что-то необыкновенно уютное, ты не находишь? Но через некоторое время я уйду и ты останешься один со своими невеселыми мыслями. А я вернусь к себе и увижу Котика, который лежит на диване и читает книгу об индусской мудрости, в которой он ничего не понимает. И если бы он был немного умнее, он бы думал: как хорошо, что существует дура, которая обо мне заботится и которая только в последнее время проявляет некоторую непонятную холодность. А если бы он был еще умнее, он бы понял, что ему осталось мало времени до того дня, когда он лишится этой женщины, которую он напрасно считает дурой.
– А если бы он был еще умнее, – сказал я, – то он никогда не пользовался бы расположением этой женщины и не занимался бы метампсихозом.
– Мне иногда кажется, – сказала она, – что ты мне мстишь за то, что я тебя слишком хорошо знаю и что ты меня не можешь обмануть.
– Я никогда тебя не старался обмануть.
– Нет, не обмануть в буквальном смысле слова, – это действительно тебе несвойственно. Но ввести меня в заблуждение, сделать так, чтобы я поверила в твой мнимый академизм и твою отрешенность от суетных забот. Это тебе не удается, и у тебя остается против меня одно оружие – насмешка и ирония. Но этим оружием ты пользоваться как следует не можешь. И ты знаешь почему?
– Потому что я никогда не хотел тебя обидеть.
– Верно, – сказала она. – А почему? Хочешь, я тебе скажу? Потому что ты меня любишь.
– Эвелина!
– Ты будешь это отрицать?
– Самым категорическим образом!
Она посмотрела на меня так, как умела смотреть только она, и глаза ее стали близкими, теплыми и нежными. Потом их выражение медленно изменилось, и она сказала:
– Категорическим образом, мой дорогой?
– Самую правильную вещь о тебе сказал один из наших общих знакомых, – сказал я, – что тебя создал однажды задумчивый дьявол – в тот день, когда он вспомнил, что раньше был ангелом.
– Мервиль? – спросила она, засмеявшись. – Это на него похоже, и это могли обо мне сказать только два человека – ты или он.
В последнее время мои разговоры с Эвелиной стали происходить гораздо чаще, чем раньше. Во время одного из них я еще раз откровенно высказал свое мнение о теперешнем периоде ее жизни и, вопреки ожиданию, она почти не защищалась и была готова согласиться со мной.
– Ты не думаешь, в частности, что роль владелицы ночного кабаре тебе мало подходит? Этот обязательный дурной вкус, эти посетители, что может быть более презренного?
– Никто из нас не святой, – сказала она, – ни ты, ни я. Но ты напрасно так упорно убеждаешь меня. Кто тебе сказал, что я до конца жизни останусь собственницей «Fleur de Nuit»?
Я несколько раз с удивлением спрашивал себя, почему, собственно, теперь вопрос о том, что делает и как живет Эвелина, так занимал меня. В конце концов, не все ли равно, хотела ли она открыть театр или экспортное предприятие? Такой эпизод тоже был в ее жизни, и она обнаружила незаурядные коммерческие способности, но увлеклась одним начинающим композитором и уехала с ним в Италию, бросив все почти на произвол судьбы и передав доверенность на ведение дел Мервилю, который быстро ликвидировал их с довольно крупной выгодой, и, когда Эвелина вернулась в Париж одна, он передал ей значительную сумму, от которой через короткое время не осталось ничего, и Эвелина уехала навсегда, как она сказала, в Южную Америку. Ей был устроен прощальный прием с шампанским у Мервиля, и Эвелина говорила, что никогда нас не забудет. – К сожалению, – сказал я, не удержавшись. – Неблагодарный, – смеясь ответила она. – Пойми, что ты, может быть, никогда в жизни меня больше не увидишь. – Мы приедем к тебе в Южную Америку, Эвелина, – примирительно сказал Мервиль, – и мы тебя тоже не забудем.
Через год после этого, зимой, вечером, в квартире Мервиля раздался звонок, горничная отворила дверь, и мы не успели подняться из-за стола, за которым ужинали Мервиль, Артур и я, как на пороге показалась Эвелина в норковой шубе и с брильянтовыми серьгами в ушах.
– Эвелина во всей ее славе, – сказал Мервиль. – Я надеюсь, ты с нами поужинаешь?
Эвелина сняла шубу, которую отдала горничной, села за стол и сказала:
– Спасибо за приглашение. Поужинаю и останусь ночевать, а завтра я подумаю о дальнейшем.
И когда она вышла из столовой, чтобы заняться туалетом, Артур сказал:
– Эвелина – это своего рода мементо мори. Она неизбежна, несокрушима, и ничто не может ее остановить.
– Это верно, – сказал Мервиль. – Но согласись, что она неотразима.
– Несомненно, – сказал Артур.
– И что в этом есть что-то приятное, – сказал я. Я вспомнил об этом, когда Эвелина снова была у меня и заговорила о Котике.
– Откровенно говоря, мне его жаль, – сказал я.
– Почему?
– Потому что ты ввела его в заблуждение. Это ты создала вздорную иллюзию любви и взаимного понимания. Насколько я мог себе составить о нем представление, он человек беззащитный, он всему этому поверил, не зная, что с твоей стороны это был только каприз, который тебя ни к чему не обязывал. Ты понимаешь, моя дорогая, что ты несешь ответственность за свои поступки. Если ты действуешь определенным образом, из этого надо делать определенные выводы. Ты берешь на себя известные моральные обязательства, и потом ты от них уклоняешься.
– Ты говоришь так, как будто все можно подвести под какие-то правила. Выходит, что если я делаю глупость, то я всегда, всю жизнь должна за нее расплачиваться. Я должна отказаться от всего, что мне еще, быть может, предстоит, и посвятить свое существование заботам о Котике? Ты говоришь – обязательства. Но когда речь идет о чувстве, которое умерло или умирает, то о каких обязательствах можно говорить? Я понимаю, – если есть семья, дети, быт. Но если ничего этого нет?
– Пойми меня, я Котика не защищаю. Я обвиняю тебя в неосмотрительности, в том, что ты склонна уступать какому-то чувству, которое не может быть ни глубоким, ни длительным, – и ты это знаешь. Проснись наконец, черт возьми, и начни жить по-человечески.
– А ты не думаешь, мой дорогой, – сказала она изменившимся голосом, – что ты обо мне лучшего мнения, чем то, которого я заслуживаю?
– Нет, – сказал я. – Но мне иногда хочется схватить тебя за плечи и трясти до тех пор, пока ты не поймешь, что пора перестать делать глупости.
– Почему ты никогда этого не сделал?
– Не знаю, – сказал я. – Может быть, потому, что ты еще не созрела для этого. То, что ты живешь не так, как нужно, это ты всегда понимала, ты достаточно для этого умна. Но, может быть, наступит день, когда ты это почувствуешь, то есть произойдет то, чего не могут заменить никакие доводы, как бы неопровержимы они ни были. И вот, когда это случится – и если это случится, – ты станешь такой, какой ты, мне кажется, должна быть. Но когда? И настанет ли когда-нибудь такой день?
– Может быть, – сказала она.
– В этот день я буду за тебя искренно рад.
– Я в этом не сомневаюсь. И я не сомневаюсь, что ты считаешь, что тот, на кого падет мой последний и окончательный выбор и с кем я действительно свяжу свою жизнь, должен будет простить мне все, что этому предшествовало.
– Его заслуга будет небольшая, – сказал я. – Прощать тебе нечего. В конце концов, ничего дурного ты не делала – ты вредила прежде всего самой себе.
Она смотрела на меня невидящими, остановившимися глазами. Я взглянул на нее и сказал:
– С тобой происходит что-то странное, Эвелина.
– Ты это наконец заметил?
Она встала с кресла, подошла ко мне и поцеловала меня в лоб.
Мервиль позвонил мне из Рима. Это было в десять часов вечера, через две недели после телефонного вызова из Мексики.
– Ты приближаешься, – сказал я, – когда ты будешь в Париже?
– Встретимся послезавтра вечером у тебя, хорошо? Он явился в назначенное время. Я заметил сразу же, что он находился в состоянии, далеком от безудержного восторга.
– Ну, рассказывай, – сказал я, когда он сел.
– Это не так просто, – сказал он. – В одном я уверен: никогда в моей жизни до сих пор не было ни таких серьезных проблем, ни такой ответственности за то, что происходит или может произойти. Мне предстоит множество трудностей. Что такое эти трудности, я постараюсь тебе объяснить. Начнем с того, что Лу была против моего прихода к тебе. У меня такое впечатление, что она тебя боится.
– Боится? – сказал я. – Мне кажется, что это на нее не похоже. Она просто питает ко мне антипатию. Как ты реагировал на то, что она не хотела, чтобы мы с тобой встретились?
– Я постарался убедить ее в том, что есть вещи, которых она изменить не может.
– Неужели это было трудно понять?
– Ты не отдаешь себе отчета во всем этом, ты не знаешь, что такое Лу.
– Да, конечно, но все-таки объяснить такую простую вещь, – на это достаточно пяти минут. Тем более что она производит впечатление женщины неглупой.
– Дело не в этом. Она жила до сих пор в мире, о котором мы не имеем представления, где опасность ждет тебя на каждом шагу, где никому нельзя доверять и где главное значение имеют угрозы или шантаж. Ты понимаешь? И тот, кто сильнее, у кого есть власть, может позволить себе все, потому что другие его боятся. Нечто вроде этого – почти бессознательно, если хочешь – определяет отношения между мужчиной и женщиной. Один из двух всегда, как она, вероятно, думает, сильнее другого и тому или той, кто слабее, остается только подчиняться. И вот у нее, по-видимому, создалось впечатление, что у нее надо мной есть какая-то власть. Вместе с тем она сделает для меня все и ни перед чем не остановится. Она мне сказала, что такое чувство она испытывает первый раз в жизни.
– Эту фразу, я думаю, ты слышал много раз, – сказал я. – В этом смысле Лу ничем не отличается от других женщин, как мне кажется.
– Фраза, может быть, такая же, – сказал Мервиль, – но психология другая. Все это надо переделывать и перестраивать. Ты знаешь, чем кончился разговор о тебе? Она сказала, что если я не хочу принимать во внимание ее желания, то она не видит, зачем она должна оставаться со мной.
– И что ты на это ответил?
– Я ей сказал, что она совершенно свободна поступать так, как она находит нужным, и что я не считаю себя вправе ее удерживать. Она вышла из комнаты и хлопнула дверью. Но через полчаса вернулась, и на ее глазах были слезы.
– Все это очень дурной вкус, – сказал я, – ты не находишь? Извини меня за откровенность.
– Да, конечно, но это серьезнее. Она сказала, что понимает, что я не такой, как другие. Ты заметишь, что это тоже не ново, и будешь прав, но у нее все приобретает особый характер, – и что я могу ставить ей свои условия, – опять-таки, понятие о власти. Я повторил, что она совершенно свободна и что ей нечего бояться какого бы то ни было принуждения. Я добавил, что у меня есть несколько старых друзей, которыми я не пожертвую ни для кого, и что если она это считает неприемлемым, то я даю ей право и возможность распоряжаться своей свободой.
– До сих пор ты никогда так с женщинами не говорил.
Мервиль встал с кресла и сделал несколько шагов по комнате. Потом он остановился и сказал:
– Ты знаешь, я думаю, что я очень изменился за последнее время. И я думаю, что, когда ты мне говорил, что я вел себя как кретин, ты был прав.
– Я никогда этого не говорил, – сказал я, – не клевещи на меня. Я считаю тебя неисправимым романтиком. Я считаю, кроме того, что ты никогда не хотел отказаться от своих иллюзий и измерить то расстояние, которое их отделяло от действительности.
– Есть еще одно, – сказал он. – Я имею в виду то, что происходит сейчас. До сих пор все, кого я знал, принадлежали приблизительно к одному и тому же кругу людей. Хорош он или плох, это другое дело. Но с ними у меня был общий язык.
– Во многих случаях не было, милый друг. Вспомни, как ты излагал Анне свои соображения по поводу Гегеля и Лейбница в то время, как она с трудом могла усвоить таблицу умножения.
– Да, да, – нетерпеливо сказал он. – Но в области этических понятий ей ничего не нужно было объяснять.
– В этом я с тобой согласен. Не нужно было потому, что она все равно ничего не поняла бы.
– Ей не надо было понимать, они у нее носили, так сказать, органический характер. – Ее родители и подруги, среда, в которой она выросла, – это была вполне определенная социальная категория, для которой характерна известная этическая система. Но представь себе, что ты сталкиваешься с кем-то, кто об этой системе не имеет понятия, чья жизнь была построена на совершенно других принципах. Представь себе общество, которое состоит из профессиональных преступников, шантажистов, взломщиков, наемных убийц – то, что в газетах иногда называют джунглями. Мы с этим миром никогда не встречались, мы не знаем, что это такое.
– Нет, у меня о нем есть некоторое представление.
– О себе я этого сказать не могу. И вот Лу жила именно в этой среде, во всяком случае, ей часто приходилось иметь дело с этими людьми. Это была не ее вина, она всегда стремилась оттуда уйти и жить иначе.
– Ты в этом совершенно уверен?
– Убежден, – сказал он. – Но до тех пор, пока этот уход ей не удавался, она должна была действовать так, чтобы себя защитить, ты понимаешь? Она привыкла всегда быть настороже, никогда никому до конца не верить и на угрозу отвечать силой.
– Конечно, то или иное прошлое не всегда определяет человека на всю жизнь, я это знаю, – сказал я. – Но боюсь, что иногда оно оставляет неизгладимый след.
– Она в этой среде была исключением, – сказал Мервиль. – Она знает четыре языка – английский, французский, испанский и итальянский, она чему-то училась, и у нее есть нечто похожее на культуру, конечно, очень поверхностную, тут себе иллюзий строить не следует. Но это, в общем, второстепенно. Есть главное – и об этом труднее всего говорить. Именно оно все определяет, и когда ты это поймешь, тебе становится ясно, что все остальное не имеет или почти не имеет значения.
– Когда ты говоришь о главном и второстепенном, что, собственно, ты имеешь в виду?
– Ты это должен знать лучше, чем кто-либо другой, – сказал Мервиль, – это, если хочешь, твоя профессиональная обязанность.
– Почему профессиональная?
– Потому что ты писатель.
– Милый друг, быть писателем – это не профессия, это болезнь.
– Бросим эти парадоксы, – сказал он, – даже если ты в какой-то степени прав, то сейчас дело не в этом. Ты сам говоришь, что у многих людей есть несколько жизней. Я тебе это напоминаю. Одна из них – это биография, которая определяется местом рождения, национальностью, средой, образованием, бытовыми условиями. Но наряду с этим есть другие возможности, потенциальные, в этом же мужчине или в этой же женщине. Они могут никогда не осуществиться. Но именно эти непроявленные еще возможности, именно это – вторая природа того или той, о ком идет речь, подлинная, в тысячу раз более важная, чем биографические подробности. Это главное, а остальное второстепенно. Ты со мной согласен?
– В некоторых случаях да, если хочешь. Но трудность заключается в диагнозе.
– А если диагноз очевиден?
– Это, мне кажется, бывает редко.
– Но это может быть?
– Несомненно.
– Жизнь Лу, если это постараться выразить в нескольких словах, это отчаянная борьба, в которой почти не было перерывов, это общество людей, за каждым движением которых надо было следить и надо было держать наготове оружие, – так сказать, символически, понимаешь?
– Может быть, не только символически. Американский следователь, который приезжал на Ривьеру, рассказал мне биографию Лу. В ней много не хватало. Но то, что он мне сказал, давало о ней некоторое представление. Она женщина опасная, ты знаешь это?
– Кому ты это говоришь? – сказал он. – Я это очень хорошо знаю. Я не хотел бы быть ее врагом.
– Боб Миллер?
– Она была в Нью-Йорке, когда он был убит, а убийство произошло на Лонг-Айленде.
– Почему в таком случае ее разыскивала американская полиция?
– Потому что это совпало по времени с ее исчезновением. Лу Дэвидсон перестала существовать, и за тысячи километров от тех мест, где это происходило, на французской Ривьере появилась Маргарита Сильвестр.
– Ты уверен, что это было именно так?
– Как ты думаешь, зачем я ездил в Америку вместе с ней?
– Я не знал, что ты был с ней в Америке, – сказал я, – я думал, что речь шла о Мексике.
– Мексика была после Америки, – сказал он. – Но там, в Нью-Йорке, я настоял на выяснении этого дела и с нее были сняты все подозрения. Ей не грозит больше никакое преследование. Но я замечаю, что мой рассказ выходит очень сбивчивым.
– Если хочешь, начнем сначала. После того как она уехала с твоей виллы возле Канн и ты вернулся в Париж и давал объявления в газетах, что случилось? Как произошла новая встреча? Артур мне говорил об этом, но очень коротко. По его словам, это не ты ее нашел, а она пришла к тебе.
– Ты знаешь, – сказал Мервиль, – я не буду описывать тебе состояния, в котором я находился. И когда я спрашивал себя в тысячный раз, что произойдет, если я опять ее увижу, к концу дня – горничная ушла, я был один в квартире – раздался звонок. Я отворил дверь и увидел Лу. Она сделала шаг вперед и упала без чувств. Я положил ее на диван, потом приподнял ее голову и заставил ее выпить виски. Она пришла в себя. Я сел рядом с ней, и она сказала:
– Я буду говорить по-английски, хорошо? Я так устала, что мне трудно говорить по-французски.
Тогда я понял, что у нее действительно не оставалось сил.
– Ты помнишь, – сказал я, – я тебя как-то спросил, знает ли она по-английски, и ты мне сказал, что она говорит как англичанка. Когда я слышал ее разговор с туристом в Каннах, у меня не было никаких сомнений, что она американка.
– Я в этом тоже тотчас же убедился, – сказал Мервиль. – Она начала с того, что ее приход ко мне – это нечто вроде капитуляции, первой в ее жизни.
Мервиль повторил по-английски ее слова, и в них была несомненная выразительность и сила.
– Я никогда не думала, что это может со мной случиться, – Мервиль продолжал повторять ее слова, – у меня всегда была воля быть сильнее обстоятельств и сильнее тех, с кем я имела дело. Никто никогда не мог меня согнуть и подчинить себе. Но после встречи с тобой все изменилось. У меня больше нет ни сил, ни желания сопротивляться.
Мервиль ее спросил:
– Сопротивляться чему?
Она посмотрела на него и ответила:
– Тебе и моему чувству.
– А зачем этому сопротивляться? – спросил Мервиль. – Разве в этом есть необходимость?
– Зачем? – сказала она с удивлением. – Чтобы чувствовать себя свободной, чтобы принадлежать самой себе, а не кому-то другому.
– Одно не исключает другого, – сказал Мервиль. Тогда она спросила:
– Ты знаешь, кто я такая? Ты знаешь, почему я говорю с тобой по-английски? Ты знаешь, почему я уехала из Канн? И почему я не хотела лететь с тобой в Нью-Йорк?
– Знаю, – сказал Мервиль. Она повторила:
– Ты знаешь, кто я такая?
– Тебя зовут Луиза Дэвидсон, – сказал Мервиль. – Ты родилась в Нью-Йорке, и тебя разыскивает американская полиция, потому что думает, что ты убила Боба Миллера, который был человеком с уголовным прошлым и твоим любовником. Поэтому ты отказалась сопровождать меня в Нью-Йорк, сказав, что ты не переносишь путешествий в аэроплане.
Мервиль сказал это совершенно спокойным голосом.
– И, зная все это, ты хотел, чтобы я вернулась к тебе?
– Какое значение имеет твое прошлое?
– Но ты не знаешь моего прошлого, – сказала она. – Откуда тебе известно, как меня зовут, и откуда ты узнал, что меня разыскивает американская полиция?
– Это очень просто, – сказал Мервиль. И он рассказал ей, как ко мне приходил полицейский инспектор на Ривьере, как потом я встретился с его американским коллегой, о чем они меня спрашивали, что они говорили и как я, в свою очередь, передал все это ему, Мервилю.
– Что он тебе сказал об этом? Что ты связался с преступницей?
– Нет, этого он не говорил. Но то, что ты американка, он знал до этого.
– Каким образом?
– Он слышал, как ты в Каннах разговаривала с американским туристом.
– И он об этом сказал тем, кто его допрашивал?
– Нет.
– Ты в этом уверен?
– Совершенно. Он сказал другое, когда говорил с французским инспектором. Тот его спросил – если вы когда-нибудь узнаете, где находится Лу Дэвидсон, я надеюсь, что вы нам об этом сообщите? Он ответил, что на это рассчитывать не следует и что если он что-либо узнает, то ставить об этом в известность полицию он не намерен.
– Это меня удивляет, – сказала она. – Он всегда относился ко мне враждебно, и когда я встречала его взгляд, мне казалось, что он меня готов подвергнуть полицейскому допросу. У него глаза судебного следователя, и он никому не верит. Я всегда его остерегалась.
– Ты его не знаешь, – сказал Мервиль. – Он мой старый друг, и я ему могу верить как самому себе.
– Между вами нет ничего общего.
– Как ты можешь об этом судить? Ты слишком мало знаешь и о нем и обо мне. И доказательство того, что ты мало знаешь даже меня, это то, что тебя удивляет мое безразличие к твоему прошлому.
– Я чувствую себя совершенно растерянной, – сказала она. – До сих пор я всегда знала, как надо действовать и что надо думать о том, что происходит. Теперь от всего этого ничего не осталось. Я себя потеряла. Единственное, что у меня есть на свете, это ты.
– Это был очень долгий разговор, вернее монолог, – сказал Мервиль. – Она мне рассказала всю свою жизнь. И я должен тебе сказать, что всякая другая женщина на ее месте давно бы погибла, я думаю, у нее не хватило бы сил со всем этим справиться и уйти в конце концов из этого мира, который был для нее неприемлемым.
– Она тебе сказала, что ушла из дому, когда ей было пятнадцать лет?
– Не было пятнадцати, – сказал Мервиль.
– Она сразу попала в уголовную среду и оставалась в ней до последнего времени. И ее постоянное пребывание там, – тебе не кажется, что это может быть не только случайность? Американец мне сказал, что Лу прекрасно знает технику защиты, что она очень хорошо умеет обращаться с огнестрельным оружием и что человеку, который, скажем, захотел бы заставить ее делать то, что ей не нравится, пришлось бы очень скоро отказаться от этой мысли и дорого за это заплатить. Он мне привел пример этого – единственный, который он знал. Человек, о котором шла речь, оказался в госпитале, откуда он вышел инвалидом. Я не сомневаюсь, что он, может быть, лучшего не заслуживал, но согласись, что иметь дело с такой женщиной довольно опасно. Она тебе об этом эпизоде не говорила?
– Я этот эпизод знаю, – сказал Мервиль. – Кроме того, она стреляет без промаха, она работала в цирке, она все видит, все замечает, застигнуть ее врасплох почти невозможно, и она умеет найти выход из любого положения.
– Что она тебе сказала о том, как она ушла из дому?
– Когда ей было четырнадцать с половиной лет, она познакомилась на улице с человеком, который ей очень понравился, – что она могла понимать в этом возрасте? И вот однажды вечером он просто увез ее из Нью-Йорка и они поселились в Калифорнии. Это был единственный человек в ее жизни, о котором она сохранила благодарное воспоминание. Она до конца не знала, чем он занимался. У них никто не бывал – и она только потом, значительно позже, поняла, что он охранял ее от среды, в которой он жил. Он часто говорил ей: – Когда меня не будет… или: – Когда мы расстанемся, не забывай одного: не верь никому. Он это повторял много раз. Что она скоро заметила, это что он никогда не расставался с револьвером. Мервиль покачал головой.
– Он был ее учителем, если хочешь. Он ей излагал свою несложную философию: никому верить нельзя, мир построен на зависти, ненависти и страхе перед силой. И надо жить так, чтобы быть готовым к тому, что завтра, может быть, тебя не станет, как на войне. Он учил ее, как надо защищаться, если на тебя нападают, и надо сказать, что она оказалась очень способной ученицей. В прошлом этого человека, как она узнала потом, было несколько убийств и были годы тюрьмы. Однажды вечером раздался звонок в их квартире, он отворил дверь и увидел двух полицейских. Лу выбежала в переднюю, когда услышала два выстрела. Он ранил одного полицейского в плечо, но второй сразу открыл огонь, и первая же пуля оказалась смертельной. Он лежал на полу в крови, и когда Лу опустилась на колени перед ним, он успел сказать два слова, всего два: «Не забывай».
– Не забывай! – повторил Мервиль. – И этого она не забыла. Ты понимаешь? Все-таки его последняя мысль была о ней. Не забывай. Не забывай, что жизнь беспощадна. Не забывай, что никому нельзя верить. Не забывай, что смерть ждет тебя на каждом шагу. И, может быть, последнее, не забывай меня – что-то настоящее и человеческое в этом мире отчаянной борьбы, исход которой рано или поздно предрешен: «Когда меня не будет». И вот тогда, стоя на коленях перед его телом, не понимая, что перед ней уже только труп, она кричала: не умирай!
Губы Мервиля дернулись.
– Так кончилась ее первая любовь. Что можно сказать после этого?
– Ты знаешь, – сказал я, – мне кажется, что в этих нескольких месяцах ее существования, которые кончились так внезапно и так трагически, уже заключено то, что определило всю ее жизнь, вплоть до встречи с тобой. Прежде всего это предостережение. Если б она забыла о нем, она, я думаю так же, как и ты, погибла бы. Ее спасло то, что после этого она всегда была настороже. И еще одно, самое главное. До тебя он был, вероятно, единственным человеком, которому она верила, которого не надо было остерегаться, который ее действительно любил и которого она любила.
– Она говорила о себе в самых жестоких выражениях, – сказал Мервиль. – Ты знаешь, что она мне сказала? Если считать, что любовь невозможна без нежности, то я никогда никого не любила, никого из всех тех, кто был мне близок.
– Кроме первого, – сказал я.
– Она мне сказала, – продолжал Мервиль, – что у нее нередко бывали припадки холодного бешенства. Я думаю, что ее исключительное физическое совершенство, этот неисчерпаемый запас силы, все это требовало какого-то выхода, ты понимаешь? И то, что она работала некоторое время в цирке, мне кажется, вполне понятно. Случайностью было то, что она познакомилась с цирковым акробатом. Это был силач, который держал на себе целую пирамиду гимнастов, выжимал штанги и жонглировал гирями. Она стала путешествовать с ним, и потом он начал ее тренировать для выступлений. Через некоторое время она появилась на арене цирка в Чикаго. Потом она подготовила еще несколько номеров. Она метала ножи, затем она заменила ножи стрельбой из винчестера. А в свободное время она изучала стенографию. И вот однажды она ушла из цирка, уехала в другой город и стала секретаршей.
– Об этом мне тоже говорил мой американский собеседник.
– Я не могу повторить все, что она мне рассказала, – сказал Мервиль. – У нее есть некоторые особенности: она требовала, например, к себе известного уважения, на которое она не могла – так, по крайней мере, многим казалось – рассчитывать. Кроме того, она не придает особого значения деньгам, купить ее нельзя. Это тоже отличало ее от многих женщин. Все это вызывало нередко недоразумения, и некоторые из них кончались трагически. Одним словом, когда ты слушаешь рассказ о ее жизни, то самое удивительное в нем – это то, что она осталась жива и невредима.
– У нее для этого были данные, которых не было бы у другой женщины.
– Несомненно. Прежде всего нечто похожее на безошибочный инстинкт, она всегда чувствовала приближение опасности.
– Не говоря о том, что она сама представляла собой опасность для всех, кто имел с ней дело.
– Не для всех, – сказал Мервиль, – но для многих.
– Ее прошлое, – сказал я, – это трагедия, бегство, опасности. И после всего этого в тысячах километров от тех мест, где это происходило, – последняя по времени встреча, то есть ты, бедный и беззащитный романтик. Удивительная судьба, ты не находишь?
– Ты знаешь, – сказал Мервиль, – я часто упрекал себя в том, что допускал очевиднейшие ошибки, заблуждался, был жертвой иллюзий – и если бы я этого сам не понимал, то ты бы мне это напомнил, ты, впрочем, делал это много раз. Но никогда еще я не был так убежден, что я действую правильно, как я в этом убежден теперь. Считаешь ли ты, что я ошибаюсь и на этот раз?
– Этого я не знаю, – сказал я. – Но я думаю, что у тебя нет выбора. Я думаю, кроме того, что у нее тоже нет выбора и это ее последний шанс. Если она этого не поймет, это будет конец. Выхода у нее, мне кажется, нет.
– Ты думаешь, что я незаменим?
– Для нее – да.
– Почему?
– Я тебе скажу это в другой раз, мне нужно об этом подумать. То, что я тебе только что сказал, это не логический вывод, это ощущение, интуиция, если хочешь, то есть то, что, как ты думаешь, для меня совершенно не характерно. Но это именно так.
Через три дня после этого разговора с Мервилем, – были сумерки, и я только что зажег лампу над моим письменным столом, – раздался телефонный звонок. Я поднял трубку, сказал «алло» – и услышал голос Андрея.
– Я думал, ты в Сицилии, – сказал я.
– Я только что оттуда приехал, – ответил он, – на короткое время. Ты – первый человек, которому я звоню. Можно к тебе зайти? Я здесь недалеко, в кафе.
– Приходи, – сказал я, – буду рад тебя видеть.
Он пришел через десять минут – не похожий на себя, загорелый, прекрасно одетый. Даже голос его изменился – я никогда не слышал у него этих спокойных баритональных нот, которые теперь стали для него характерны. В его манере держаться, в том, как он говорил, появилась уверенность, которой прежде никогда не было.
– Это на тебя так благотворно подействовало солнце Сицилии? – спросил я. – Суд я по твоему виду, можно подумать, что нам всем следует туда ехать и там жить.
– Во всяком случае, – сказал он, – это в тысячу раз лучше, чем жить в Париже.
– Стоит на тебя посмотреть, чтобы в этом не возникало сомнений. Ты на себя не похож – я хочу сказать, такого, каким мы тебя всегда знали.
– В каком смысле?
– Ну, прежде всего в том, что у тебя больше нет хронической нервной дрожи, которая была раньше, этого несчастного вида, этой постоянной печали, этого срывающегося голоса. Тебя узнать нельзя.
– То, что ты говоришь, доказывает поверхностность твоих прежних наблюдений.
– Поверхностность?
– Да, да, – сказал Андрей. – И не только твою, а всех вас. Вы все меня себе представляли совершенно неправильно.
– Я очень рад в таком случае, что мы ошибались, – сказал я, – но согласись, что наша ошибка была понятна. Ты проводил свою жизнь в постоянном волнении, ты всего боялся, и малейшая неприятность вызывала у тебя нервную депрессию. Ты называешь теперь это поверхностными наблюдениями, но ты забываешь, милый мой, что ты был именно таким. Поверхностность здесь ни при чем.
– То или иное состояние человека, – сказал он (он даже сидел теперь иначе, чем раньше, не на кончике стула, а в глубине кресла), – может быть случайным или органическим.
– Ты собираешься читать мне лекцию по психологии?
– Нет, но я хочу тебе показать, насколько внешние обстоятельства могут действовать на облик человека, могут искажать его, понимаешь?
– Понимаю, – сказал я. – Это настолько очевидно, что мы тебя считали инженером, в то время как ты, в сущности, был по призванию философом, как я теперь вижу.
– Ты неисправим, – сказал он, улыбнувшись. – Нет, я не претендую на философские заслуги, предоставляю это тебе и Мервилю, любителям диалогов и отвлеченных рассуждений. Я человек простой. Но то, что вы оба во мне ничего не понимали, это факт.
– Жаль, что Мервиля тут нет. Но ты объясни мне наши заблуждения, и если мы были не правы, то мы это признаем.
– Объяснение заключается в том, что я всегда был по природе человеком уравновешенным и спокойным и всегда стремился к той жизни, которая соответствовала бы моему характеру.
– Это ты – уравновешенный и спокойный? Что ты мне рассказываешь?
– Да, да, – сказал он, – это именно так. Таким я был создан, понимаешь? Но все было против меня – эти трудности, эти обстоятельства, это отсутствие поддержки со стороны моей семьи, – все. И вот все это, вместе взятое, так на меня действовало, что я не мог быть самим собой, таким, какой я в действительности. И если бы я по природе был таким, каким я был в твоем представлении, то есть несчастным, издерганным человеком с больной нервной системой, то никакие внешние изменения не могли бы привести к тому, к чему они, как видишь, привели. Ты со мной согласен? Ты понимаешь теперь твое заблуждение? И если ты это понимаешь, то имей мужество это признать.
– Охотно, – сказал я. – Но что-то тут еще есть, что от меня – и от тебя тоже, я думаю, – ускользает. Это все не может быть так просто, как тебе кажется. Я думаю, что не обстоятельства тебя изменили, а ты изменился, потому что обстоятельства стали другими.
– Это риторика.
– Не думаю. Есть люди, которые при всех условиях остаются одинаковыми: несчастье или удача, бедность или богатство, болезнь или здоровье – они не меняются. И есть другие, такие, как ты, которые съеживаются, когда холодно, и выпрямляются, когда греет солнце.
– Но если бы твои прежние наблюдения были правильны, то я не мог бы выпрямиться.
– Они были правильны, когда было холодно, и стали неправильны при солнечном свете. Другого объяснения я сейчас не могу найти. Но расскажи мне лучше, как ты живешь?
– Я тебе говорю, – сказал Андрей, – так, как я должен был бы всегда жить.
И он начал мне рассказывать о Сицилии, о небольшом доме на берегу моря, о солнце, купанье, южных сумерках, итальянской кухне.
– Я с удивлением замечаю, – сказал он, – что, в сущности, это благополучие и отсутствие забот – все это можно описать в нескольких словах, и все будет ясно. У счастливых народов нет истории, это верно. Со стороны может показаться, что мое существование бессодержательно. Действительно, делать мне как будто нечего, это то, о чем я всегда мечтал. Крепкий сон, вкус кофе утром, солнечный свет, прогулки, обед, отдых, купанье, время от времени поездка в город вечером, несколько книг, иногда даже газета – но это скучно, у меня не хватает терпения дочитать ее до конца. А главное – ни от кого не зависеть, никому ничем не быть обязанным, не думать, как себя надо вести, как надо действовать в таких-то и таких-то случаях. Ты понимаешь, как все это замечательно?
– Сколько времени ты так живешь?
– Около года. И удовольствие, которое я от этого испытываю, теперь не меньше, чем было вначале, я бы даже сказал, глубже.
– Последний раз, когда я тебя видел в Париже, ты был с какой-то девушкой, блондинкой, которой я не знаю. Ты в Сицилии один?
– Эта девушка, – сказал он, – моя невеста, она живет со мной. Если хочешь, нас с ней свела судьба. У нее тоже в прошлом безотрадное существование, необходимость зарабатывать на жизнь, полнейшее отсутствие перспектив – как у меня. Мы с ней как-то познакомились в ресторане, куда оба приходили во время обеденного перерыва. То, что нас соединяло, ты понимаешь, это печальная жизнь, которую мы тогда вели, и она, и я. Оба мы были обречены на грустную участь, как нам казалось. И ей и мне лучшее будущее представлялось несбыточным. Что произошло потом, ты знаешь.
– Да, да, поездка в Перигё и все, что за этим последовало.
– Но я хотел тебя спросить, – сказал Андрей, – как все наши? Что с Мервилем? Как Эвелина? Как Артур?
– Долго было бы рассказывать. Но в общем можно сказать, что все благополучно.
– Ты знаешь… я хотел тебе напомнить… если кто-нибудь из вас окажется в трудном положении, не забывай, что у меня теперь есть возможности, которых раньше не было.
– Я как-нибудь поймаю тебя на слове и отправлю к тебе Артура в Сицилию.
– Скажи ему, что он может приехать когда угодно и оставаться там сколько захочет.
– Для того, чтобы это ему сказать, надо знать, где он и что он делает, – сказал я. – Ты знаешь, он появляется и исчезает. Он жил у меня некоторое время после того, как вернулся в Париж с юга, но где он теперь, я не имею представления. Эвелину ты можешь увидеть каждый вечер в ее кабаре.
– Оно еще существует?
– До последнего времени существовало. Что будет дальше, не знаю. Жизнь Эвелины, как ты, наверное, заметил, состоит из последовательности сравнительно коротких эпизодов.
– А Мервиль?
– Мервиль – это другое дело.
– Его жизнь тоже состоит из эпизодов – не таких, конечно, как у Эвелины, но все-таки из эпизодов.
– Состояла, Андрей, состояла, а не состоит.
– Что ты хочешь сказать?
– У меня такое впечатление, что его теперешний эпизод носит окончательный характер.
– Так могло казаться уже неоднократно.
– Нет, нет, раньше каждый раз всем, кроме него самого, было ясно, что это долго продолжаться не может. Теперь это совсем другое.
– Мадам Сильвестр?
– Ее зовут иначе.
– Это меня не удивляет, – сказал Андрей. – Она тебе нравится?
– Как тебе сказать? Я ее слишком мало знаю. Но все это гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
– У меня к ней инстинктивное недоверие. Мне, так же как Артуру, почему-то кажется, что она должна приносить несчастье тем, с кем она сталкивается. Я никогда не мог отделаться от этого ощущения.
– Ты ее видел раз в жизни.
– Я понимаю, я не высказываю о ней никакого суждения. Но у меня от нее органическое отталкивание. Ты ее встречал в последнее время?
– Нет, я ее видел два раза на юге этим летом.
– Она в Париже?
– Да. Но она, кажется, не совсем здорова.
– Как ты ко всему этому относишься? Ты всегда играл роль в жизни Мервиля. Ты не мог бы на него повлиять?
– Начнем с того, что в его жизнь я никогда не вмешивался. Затем – как, по-твоему, я должен был бы на него влиять?
– Не знаю, подействовать на него в том смысле, чтобы он отказался от этой женщины, пока не поздно.
– В том-то и дело, что это слишком поздно, – сказал я.
Андрей пожал плечами. Потом спросил:
– Если я пойду в кабаре Эвелины, я не рискую там оказаться рядом с мадам Сильвестр?
– Нет, можешь быть спокоен.
– Ты знаешь, я соскучился по нашей Эвелине, – сказал он. – Я люблю ее откровенность, люблю, что она всегда прямо идет к своей цели, не останавливаясь ни перед чем, люблю эту ее неудержимость. Я с удовольствием ее повидаю. Знаешь, я чувствую себя в Париже чем-то средним между туристом и паломником.
– Если к числу святых мест относить «Fleur de Nuit».
– Нет, верно, – сказал он. – Я живу в приличной гостинице – этого со мной раньше не бывало, всегда были какие-то чердаки, где я ютился. И Париж мне сейчас кажется не таким, как раньше, он потерял тот мрачный характер, к которому я давно привык, все в нем как-то легче, яснее и проще.
– И жизнь, в конце концов, не непременно должна быть печальна?
– Нет, не непременно. И в паломничестве тоже есть несомненная приятность. Перед отъездом из Сицилии я с удовольствием думал, как я встречу всех вас – тебя, Эвелину, Мервиля, Артура. Есть вещи, которые не забываются. Ты знаешь, например, что тебе, в частности, я искренно благодарен за то, что ты поехал со мной тогда в Перигё.
– Есть за что, – сказал я. – Погода была отвратительная, дорога еще хуже, кормили нас плохо, не говоря уж обо всем остальном.
– Хорошо, – сказал он, вставая. – Мы с тобой еще увидимся. Ты не будешь сегодня вечером у Эвелины?
– Не думаю.
– Я тебе позвоню завтра или послезавтра. Вот тебе адрес моей гостиницы и мой телефон.
И он ушел. Даже походка его совершенно изменилась. В прежнее время, когда я видел его со спины на улице, у меня было впечатление, что это идет старый, усталый человек. Теперь в его движениях появилась легкость и гибкость, которых не было раньше. Но за этими чисто внешними изменениями было что-то другое, чему я не мог найти объяснения. Изменились его суждения, появилась какая-то небрежность, характерная для человека, уверенного в себе, – и я думал: неужели то, что в его распоряжении оказались деньги, которых у него не было раньше, могло так на него повлиять и сделать его неузнаваемым? Или, может быть, он действительно был прав, утверждая, что мы были поверхностными наблюдателями и плохо его знали? Мне, однако, казалось, что таким, как теперь, он раньше просто не мог быть. Он был все-таки сыном своего отца и братом Жоржа, для которых самое важное значение в жизни имели деньги. Но в их представлении они приобретали какую-то почти мистическую ценность, были чем-то вроде безмолвного и могущественного божества, к которому они питали безграничное уважение.
Для Андрея, – думал я, – деньги тоже имели огромное значение, но в другом смысле. В отличие от своего отца и брата Андрей никогда не был скуп. Но он всегда и почти бессознательно был убежден, что родился, чтобы быть богатым. И оттого, что его судьба до последнего времени была не такой, какой, по его мнению, она должна была быть, оттого, что он был лишен самого главного, он как-то съеживался морально и даже физически – ему всегда было холодно, и он вздрагивал от внутренней дрожи. В конце концов, его отъезд в Сицилию – это тоже было неспроста – тепло вместо холода, солнце вместо зимних парижских туманов, свет вместо сумерек. Он проник в тот мир, где, как ему казалось, он всегда должен был жить и где он не мог, конечно, продолжать быть таким, каким был раньше, – несчастным эмигрантом в своей собственной стране. И до сих пор, пока не произошло это его переселение в другой мир, он ненавидел и презирал Жоржа, о котором позже он стал говорить с каким-то снисходительным пренебрежением: – Все-таки нельзя отрицать его несомненного поэтического таланта и, может быть, даже – связанной с этим – некоторой индивидуальной ценности, и почему слишком строго судить человека, даже если он был убогим? Таким создала его природа. – Но о самом главном достоинстве Жоржа он не говорил, а оно заключалось в том, что Жорж умер. Пока он был жив, ему не было оправдания и он заслуживал только ненависть и презрение. Но, умерев, он приобрел неожиданную ценность, и те качества, которых Андрей не признавал за Жоржем при жизни, вдруг возникли тогда, когда эта жизнь прекратилась, точно обеспечив ему относительную посмертную славу, которой не было бы, если бы он остался жив. И бесполезные деньги, на которых Жорж сидел, как нищий на груде золота, позволили наконец Андрею вести ту жизнь, которая ему, в сущности, была всегда суждена. Этим объяснялась его удивительная метаморфоза, думая о которой я невольно пожимал плечами.
Я вспомнил, как однажды Жорж, насмешливо глядя на меня, сказал:
– В вашем удивительном союзе твоя роль – это нечто среднее между духовником и юрисконсультом, хотя у тебя нет данных ни для того, ни для другого.
Я вспомнил эти слова, когда ко мне на следующий день после приезда Андрея опять пришел Артур. Он находился в одном из благополучных периодов его жизни – был прилично одет, и в глазах не было того беспокойного выражения, которое появлялось каждый раз, когда он оказывался в трудном положении.
– Как твои дела? – спросил я. – У меня такое впечатление, что все в порядке.
– С одной стороны, да, конечно, – сказал Артур. – У меня сейчас есть регулярный доход, это бывает редко. Но дается это недаром.
– Можно узнать, что именно ты делаешь?
– Я пришел, чтобы тебе это рассказать и с тобой посоветоваться. Ты бываешь в кабаре Эвелины?
– Очень редко.
– Я там встретил одного человека, которого немного знал раньше. Ты, вероятно, о нем слышал. Его фамилия Ланглуа. Тебе это что-нибудь говорит?
– Ланглуа? – сказал я. – Это старый человек в смокинге, с желтым лицом, похожий на мумию?
– Ты говоришь, мумия? Я бы сказал – мертвое лицо, которое иногда вдруг оживляется.
– У него, кажется, в прошлом было что-то неблаговидное, чуть ли не торговля наркотиками?
– Что-то в этом роде, – сказал Артур. – Но дело не в этом. Он, понимаешь, живет теперь на покое, и у него есть кое-какие средства, по-видимому. Этот невежественный, едва грамотный человек, и вот, представь себе, у него появились – почему? как? откуда? – непонятно – литературные претензии.
– Литературные?
– Нелепо, не правда ли?
– В конце концов… Но какое значение это все имеет для тебя?
– Он обратился ко мне с просьбой написать книгу его воспоминаний.
– Какого рода?
– О его личной жизни. Она была, судя по его рассказам, довольно бурной.
– Судебное преследование, аресты, тюрьма, обвинения в шантаже?
– Нет, об этом ни слова. Речь идет почти исключительно о разных женщинах, с которыми он был связан, о их изменах, его огорчениях и так далее.
– Подожди, я что-то вспомнил, – сказал я. – Несколько лет тому назад я читал отчет о судебном процессе, где он был обвиняемым. Он был оправдан за отсутствием состава преступления. И там, по-моему, говорилось, что он начал свою карьеру с того, что был, если мне не изменяет память, сутенером. К торговле наркотиками он перешел несколько позже.
– Я этого отчета не читал, – ответил Артур, – но это меня не удивляет, так оно, вероятно, и было.
– Но тогда что он имеет в виду, когда говорит об изменах?
– Это сложно, – сказал Артур, – в этой среде все по-своему. Но, так или иначе, он хочет писать свои воспоминания. И вот он мне рассказывает, а я должен это излагать в литературной форме.
– Искренно тебе сочувствую.
– Самое грустное, что все это совершенно бессодержательно. Как это ни странно, никакого действия там нет. И все такие фразы – «Она посмотрела на меня, и в ее глазах показались слезы» или «Я задыхался от волнения, когда должен был ее встретить». В общем, мелодраматический вздор, ты понимаешь? Я все это пишу, и надо тебе сказать, что это очень трудно. Главное, я не могу найти тона, в котором должен, вестись этот рассказ, и не могу найти ритма. Я пришел с тобой посоветоваться – как быть?
– Ты что-нибудь уже написал?
– Да, несколько страниц.
– Прочти мне.
– Хорошо, – сказал Артур, – ты увидишь, что это такое.
И он начал читать.
– «Я впервые встретил ее на Монмартре. Я сразу же увидел, что она недавно попала в Париж, потому что ее лицо сохраняло ту девическую свежесть, для которой климат Парижа губителен. Когда я обратился к ней и пригласил ее в кафе, она ответила мне с такой искренностью и откровенностью, которые липший раз убедили меня в том, что еще несколько недель, быть может, тому назад она вдыхала воздух полей и леса. Я тогда же подумал: было бы лучше, чтобы она не знала никогда соблазнов большого города, который привлекал ее к себе и о котором у нее было, конечно, совершенно превратное представление. Как я мог объяснить ей, что ее наивные, почти детские мечты были далеки от действительности? Что в этом отравленном воздухе ей скоро станет нечем дышать? Что ее ждут обманы, разочарования и неизбежные драмы? Что все это бесконечно печально? Как я мог ей это сказать?»
Артур остановился и сказал:
– И все в таком же роде. Ты не чувствуешь в этом необыкновенной фальши?
– Подожди, – сказал я. – Он от тебя требует, чтобы это было написано именно так, а не иначе?
– Нет, но я стараюсь писать приблизительно так, как он говорит.
– Тут ты, я думаю, действуешь неправильно. И оттого, что ты так пишешь, тебе становится противно. Почему тебе не писать по-другому? Так, как это свойственно тебе, а не ему?
– Это было бы нечто совершенно иное, это была бы своего рода фальсификация.
– Но то, что ты пишешь и что он тебе рассказывает, это тоже фальсификация.
– Да, конечно.
– По-моему, надо писать так, чтобы ты не испытывал отвращения к своей работе.
– А как бы ты это делал?
– Давай попробуем этот отрывок написать иначе. Пиши, я тебе буду диктовать.
Артур послушно стал записывать.
– «После долгих и бесцельных блужданий по городу – я шел, в сущности, не зная куда, и это было движение, в котором понятие направления не играло роли, – я вдруг заметил, что оказался на Монмартре. Был конец весеннего дня, наступали сумерки. В эти часы Монмартр был не таким, каким я привык его видеть и каким его видели тысячи и тысячи людей. Не было ни световых реклам, ни этого искусственного вечернего или ночного оживления, и даже вход в кабаре, поблизости от которого я остановился, казался тусклым и серым. И я бы сказал, что в этом исчезновении обычного облика Монмартра была своеобразная печаль и напоминание о том, что должно было возникнуть через час или полтора и в чем я всегда видел нечто тягостное и ненужное, – назойливый свет на улице, полутьму там, куда входила публика, этих бедных певцов, этих артисток-певцов без голоса, артисток без таланта, – плохое шампанское, плохие оркестры и судорожные попытки создать несуществующее веселье, потому что, в конце концов, жизнь всех этих людей была продажной и трагической и оттого, что многие из них этого не понимали и не знали, она не переставала быть трагической. Я думал об этом и о многом другом, о чем мне трудно было бы рассказать в нескольких фразах; я шел, не видя перед собой почти ничего, пока почти не столкнулся с невысокой молодой женщиной, которая шла мне навстречу. И тогда, подняв на нее глаза, я впервые увидел Антуанетту – и кто бы мог сказать в ту минуту, что потом пройдут долгие годы бурного существования и трагических перемен, но это лицо будет возникать передо мной всякий раз, когда я буду вспоминать о лучших днях, о лучшем времени моей жизни?»
Артур остановился и сказал:
– Сомнамбулический стиль.
– Я не говорю, что надо писать именно так. Но я думаю, что ты можешь позволить себе известную свободу. Это вопрос воображения. Постарайся понять, что характерно в Ланглуа. Его прошлое, это уголовщина. Но судя по тому, что он тебе рассказывает, у меня получается впечатление, что у этого старого преступника в отставке душа бедной горничной, которая читает со слезами бульварные романы, где описаны злодеи и добродетельные герои, испытывающие глубокие и благородные чувства. По отношению к тебе, как клиент, он беззащитен. Ты скажешь ему – надо писать так, – и он тебе поверит. Пиши как тебе хочется, понимаешь? Если у тебя возникнут сомнения, приходи ко мне, я тебе с удовольствием помогу. Кстати, ты знаешь, что Андрей в Париже?
– Он был в Сицилии, кажется?
– Он приехал на некоторое время, был у меня и спрашивал о тебе. Он неузнаваем. Теперь это спокойный, уверенный в себе человек. Ты помнишь, каким он был раньше? Ничего от этого не осталось.
– У него всегда были волнения и драмы, – сказал Артур. – Он на все жаловался, считал себя жертвой и так привык к этому, что я не понимаю, как с ним могло произойти то превращение, о котором ты говоришь.
– Он мне сказал, что мы просто плохо его знали.
– Ну, это он может рассказывать кому-нибудь другому, а не нам. А как Эвелина?
– Я ее давно уж не видел. Кажется, она рассталась или вот-вот расстанется с Котиком.
– И он погрузится в небытие, как все его предшественники. Ты не находишь, что в Эвелине есть какое-то разрушительное начало?
– Я в ней нахожу много начал, милый мой.
– Ты помнишь, – сказал Артур, – как она уехала навсегда в Южную Америку и через год явилась к Мервилю, как снег на голову?
– Как статуя командора, Артур. Где ты живешь, между прочим? Я хотел бы дать твой адрес Андрею.
– Он найдет меня без труда, – сказал Артур, – я живу на своей прежней квартире, в Латинском квартале. Ведь свой долг за нее я заплатил.
Когда за ним захлопнулась дверь, я подумал о работе, которой он теперь занимался, и о его клиенте. Мне пришлось в жизни встречать людей такого типа. Для них всех было характерно одно: уйдя на покой, они чувствовали себя совершенно растерянными. Но большинство из них действительно питало слабость к мелодраматическим эффектам, торжеству добродетели и наказанию порока, хотя вся их жизнь была, казалось бы, опровержением этого и отрицанием положительной морали. Конечно, Артуру было трудно понять психологию такого человека, как Ланглуа. Тот факт, что они говорили на одном языке, никаких трудностей не разрешал. Оставалось одно: писать книгу так, как если бы Ланглуа был похож на Артура.
– Но все-таки, – думал я, – это лучше, чем то зыбкое существование, которое вел Артур, когда он оставался один. Его особенность заключалась в том, что он не умел зарабатывать деньги, и я помнил – за все время – только один случай, когда Артур получил сравнительно крупную сумму. Это было несколько лет тому назад. Он познакомился где-то у своих друзей с молодой и красивой женщиной, которая считала себя балериной или, вернее, чувствовала призвание к балету; она жила на содержании очень состоятельного человека, который был готов субсидировать постановку спектакля, где она должна была исполнять главную роль. Сюжет этого представления она придумала сама. Она была полна иллюзий по поводу своих данных, но в том, что касалось литературной обработки сюжета, она понимала, что ей был нужен человек, который мог бы это сделать: в этой области у нее не было никаких претензий. Она поручила это Артуру.
В свое время он рассказывал нам содержание балета, и Мервиль, слушая его, пожимал плечами – там была пустыня, в которой стоял неизвестно как попавший туда диван, на нем лежала героиня, и над ней застывали рабы с опахалами. Она говорила, что эти второстепенные персонажи должны были поддерживать ее роль, как она выражалась. – Как веревка поддерживает повешенного, – сказал Мервиль.
Артур предполагал, что это было своеобразное соединение «Аиды» и одной из пьес знаменитого поэта и драматурга, где в «кавказской пустыне» – это не может быть случайным совпадением, – сказал Артур, – стояло дерево, к которому была прибита гвоздями несчастная принцесса: знаменитый поэт не знал, что пустыни на Кавказе не было. – А если бы она даже была, – сказал я, – то откуда в пустыне могли появиться дерево, молоток и гвозди? Но так или иначе, Артур произвел литературную обработку этого сюжета и получил за это деньги, на которые он тотчас же заказал себе несколько костюмов и рубашек с вышитыми на них его инициалами. Балетный спектакль был представлен один раз и больше не повторялся, и Артур потом избегал встречи со своей заказчицей, почему-то думая, что в этой неудаче она может обвинить его. Он вздохнул свободно только тогда, когда она покинула своего прежнего покровителя, вышла замуж за какого-то американца и уехала с ним в Соединенные Штаты, забыв о балете, пустыне, диване, рабах, опахалах, об Артуре и деньгах, которые она ему заплатила, и всецело погрузившись, вероятно, как он нам сказал, в свое новое счастье. – Но что такое счастье в ее представлении? – Опасный вопрос, – сказал Мервиль. – Я неоднократно думал о том, что многие слова имеют, если так можно выразиться, несколько этажей. Самый нижний этаж – это твоя заказчица. Самый верхний этаж – это, скажем, тот или иной философ. А слово одно и то же. Вот почему, в частности, люди иногда не понимают друг друга. – Никто лучше тебя этого не знает, – сказал я, – тут мы с тобой спорить не можем. Но есть этажи, и есть еще разный смысл, который придается некоторым словам. Я помню, что двое моих знакомых часто употребляли слово «неприятности». Но у одного это значило конфликты сентиментального характера. У другого «неприятности» значило – тюремное заключение. В конце концов, оба были правы: это действительно были неприятности и в том и в другом случае.
– Самое важное – это чувства, которые придают смысл словам, – сказала Эвелина. – Я говорю: «Я тебя люблю». Но какое разное содержание вкладывается в эти одинаковые слова!
– Как в слово «неприятности», – сказал я.
Все это происходило несколько лет тому назад, и с тех пор прошло много времени. Эвелина имела возможность неоднократно проверить, насколько смысл этих трех слов «я тебя люблю» может быть разным, Артур мог убедиться в том, что некоторые виды человеческой глупости – как, например, неправильное представление об артистическом призвании – редко приносят доход и надеяться на вторую заказчицу этого рода не приходилось. Но одна из особенностей нашего союза заключалась в том, что время там не играло роли – не все ли равно, было ли это вчера или пять лет тому назад? И только в последний год произошли изменения, о которых я часто думал: появление Лу в жизни Мервиля, смерть Жоржа и расцвет Андрея, увлечение Эвелины метампсихозом и Котиком, которое отличалось от других ее романов тем, что заставило ее наконец понять некоторые вещи и, может быть, впервые задуматься над своей собственной судьбой.
Она пришла ко мне, на этот раз даже не позвонив по телефону. Были сумерки ноябрьского дня. Она вошла, сняла свою шубку – ту самую, в которой она явилась к Мервилю после возвращения из Южной Америки, – и осталась в черном платье. На ее шее было жемчужное ожерелье, как в ту ночь, когда происходило открытие ее кабаре, почти год тому назад. Я обратил внимание на непривычную для нее медлительность движений, выражение ее глаз, задумчивое и печальное, и ее изменившийся голос, который, как мне показалось, стал ниже и глубже. Она прошла в мою комнату, где горела лампа только на моем письменном столе, и села в кресло. Свет падал на ее лицо, оставляя все остальное в тени.
– Ты знаешь, о чем я вспомнила, когда вошла сюда? – сказала она. – О том, что ты мне как-то сказал: «Эвелина, пока мы существуем, Мервиль и я, что бы с тобой ни случилось, ты можешь прийти к нам и твоя жизнь будет обеспечена, тебе не надо будет заботиться ни о крове, ни о пропитании».
– Надеюсь, ты не сомневаешься, что я готов это повторить?
– О нет, – сказала она, – в этом я никогда не сомневалась. Я это всегда знала.
– Но этого, вероятно, никогда не произойдет.
– Ты думаешь?
Что-то меня поразило в ее интонации. Я посмотрел на нее, – в ее глазах были слезы.
– Что с тобой? – спросил я. – В чем дело, Эвелина? Она вытерла пальцем слезу, оттягивая вниз рот.
Потом она сказала:
– Глупости, не обращай внимания. Я хотела с тобой поговорить об очень важных вещах и вот не знаю, как начать.
Бели бы она мне это сказала при других обстоятельствах, раньше, я бы ей ответил, что это на нее не похоже, она всегда знала, как и о чем говорить. Но я чувствовал, что сейчас этого сказать нельзя.
– Вероятно, у каждой женщины в жизни наступает время, когда она задает себе вопрос: что будет дальше? Но я думаю не о других, а о себе. Опусти, пожалуйста, абажур, свет мне прямо в лицо.
Я передвинул лампу, и Эвелина ушла в тень, так что ее голос доходил до меня из полутьмы. Я еще раз подумал о том, насколько он изменился; мне казалось, что если бы я услышал его из соседней комнаты, не зная, что это говорит Эвелина, я бы его не узнал. Это было, конечно, неверно, но мне так казалось оттого, что Эвелина говорила не так, как обычно, и не то, что обычно.
– Одно ясно, – сказала она. – То, что глупее жить, чем я жила до сих пор, трудно. И я устала от этой глупости.
– Я не хотел бы тебя прерывать, – сказал я, – моя роль сегодня – это скорее роль слушателя, чем собеседника. Но все-таки, если ты против этого не возражаешь, один вопрос: Котик по-прежнему с тобой?
– Мы расстались с ним позавчера, – сказала она. – Ты знаешь, я чувствовала свою вину перед ним – нет, нет, не пожимай плечами. Я не сказала ему, что я думаю о его философии, я не сказала, что с моей стороны все это было не так, как нужно, и что все, в общем, случилось только потому, что он был не похож ни на кого из тех, кого я знала раньше. Это было нехорошо – ты со мной согласен?
– Мне кажется, было бы лучше, если бы этого не было. Но не только оттого, что это было нехорошо по отношению к Котику. Ты вела себя, скажем, не так, как нужно, по отношению к самой себе. Я тебе говорил об этом.
– Когда Котик уходил, я дала ему чек – у него нет денег, ему будет трудно, ты понимаешь? Ты можешь себе представить, как он на это реагировал?
– Он тебе его вернул?
– Почему ты так думаешь?
– Это для него было бы естественно, мне кажется.
– Он его вернул и сказал, что я потеряла лучшее, что я знала в жизни.
– Доступ в тот мир, который…
– Да, все то же самое. Но у меня никогда не было так тяжело на сердце, как в день его ухода. Ты это понимаешь? А я его по-настоящему не любила, теперь это для меня яснее, чем когда бы то ни было. Откуда же эта печаль?
– Будем откровенны до конца, Эвелина. Хочешь, я скажу это за тебя? У тебя так тяжело на сердце не потому, что ушел Котик, что он уйдет, это ты знала давно, а оттого, что ты, первый раз, может быть, за всю жизнь, пожалела себя. Сколько у тебя было романов?
– Много, – сказала она, понизив голос.
– А я думаю, ни одного, Эвелина, ты понимаешь? Ни одного. О том, что было, не стоит говорить. Ты никогда никого не любила. Ты никому, ни одному человеку, не дала того, что у тебя есть. Поэтому ни одно твое увлечение не продолжалось больше нескольких месяцев. И ни одно из них нельзя было назвать настоящим человеческим чувством. Что может быть печальнее этого? Ты это поняла только теперь?
– Нет, уже некоторое время тому назад, – сказала она, поднимаясь с кресла. – Мне надо уходить.
– Почему?
– Я вижу, что я должна еще о многом подумать.
– Теперь, мне кажется, торопиться тебе не нужно. Вспомни золотое правило: если ты выигрываешь в скорости, ты теряешь в силе. Ты теряешь в скорости, но выигрываешь в силе. Перенеси этот закон в область человеческих чувств.
– Это, может быть, неплохой совет, – сказала она. – Но еще лучше, мне кажется, забыть о законах и логике – и это то, что должен был бы сделать ты. Ты не думаешь?
В течение нескольких дней после этого разговора с Эвелиной я помогал Артуру в его работе. Он явился ко мне, снял пальто и шляпу, сел в кресло и сказал, что не знает, как быть дальше.
– Ты понимаешь, – сказал он, – все, что он рассказывает, это, в сущности, одна и та же история, чрезвычайно несложная, независимо от того, о какой женщине идет речь. Если все это писать, то каждая страница будет похожа на предыдущую как две капли воды. Что делать? Я ума не приложу.
– Он человек простой, судя по всему, – сказал я, – особенных требований к нему нельзя предъявлять.
– Это я понимаю, но это не облегчает моей работы. – Ты не пробовал перевести его на какую-нибудь другую тему?
– У него нет других тем, – сказал Артур. – О том, что было самым главным в его жизни, то есть о его уголовном прошлом, он не говорит ни слова.
– Тогда единственное, что остается, это приписывать ему чувства, ощущения и мысли, которых у него не было и не могло быть.
– Но их нужно придумывать.
– За это он тебе платит деньги.
– Я знаю, но у меня не хватает воображения.
– Этому я не могу поверить.
– Уверяю тебя, необыкновенно трудно.
– У тебя действительно несчастный вид. Хорошо, мы с тобой этим займемся. Будем работать.
Артур был прав – это было нелегко. Не было ничего более бессодержательного, чем рассказы Ланглуа. Но в чем Артур ошибался, это в том, что он не может ничего написать. Ему достаточно было толчка – и повествование начинало развиваться. Конечно, это не имело ничего общего с тем, что говорил Ланглуа. В его книге появились описания Парижа, ссылки на авторов, о которых Ланглуа, конечно, никогда не слышал, соображения о живописи вообще, страницы, посвященные искусству Жоржа де Ла Тур.
Артур писал это и хватался за голову: – Что он скажет? Что он скажет?
– Что он тебе сказал о том отрывке, который мы с тобой переделали? О котором ты говорил, что он написан в сомнамбулическом стиле?
– К моему изумлению, остался доволен.
– Вот видишь? Это расчет безошибочный, ты понимаешь? Ему лестно, что в его воспоминаниях есть такие места. Ты знаешь, он не один. Сколько политических деятелей, например, неспособных произнести речь в парламенте? Им ее пишут другие. Это продолжается годами. Их репутация – это репутация тех, кто для них работает и чьих имен никто не знает. А мемуары знаменитых артисток? А исторические труды? А научные исследования?
– Хорошо, – сказал Артур. – Мы делаем из Ланглуа героя, которым он никогда не был. Мы приписываем ему знания, которых у него нет, мысли, которых у него не могло быть, как ты мне только что сказал. Что остается от подлинного Ланглуа?
– Ничего, – сказал я, – или почти ничего. Но какое это имеет значение? Ты создаешь его заново. Из старого человека с уголовным прошлым ты делаешь юного романтика и любителя искусств. Ты переселяешь его в мир, которого он не знал и не мог знать, и мне кажется, что за это он должен быть тебе благодарен. А то, что это фальсификация, – разве это имеет такое значение? Будем продолжать.
Артур писал:
«Я сидел однажды вечером дома и включил аппарат радио. Играл оркестр, и я стал следить за этим движением звуков. Мне казалось, что я уже слышал где-то эту мелодию, но тогда она звучала иначе, беднее и невыразительнее. И когда она подходила к концу, в ней явственно проступил крик петуха, за которым последовали заключительные аккорды. Что это было? Голос спикера сказал: „Вы прослушали La Dance macabre[13] Сен-Санса в исполнении оркестра Парижской оперы под управлением Артура Тосканини“. И тогда я понял гений этого удивительного дирижера. Сколько раз до этого я слышал „La Dance macabre“, но никогда и никто из исполнителей не сумел передать замысел композитора так, как это сделал Тосканини. И я подумал о словах, которые мы часто произносим, определяющих понятия, природа которых для нас необъяснима. Таким словом было слово „гений“. Таким было слово „очарование“, – и когда я его вспомнил, я вновь увидел перед собой незабываемые глаза…»
– Я забыл, как ее звали, – сказал Артур.
– Мы ее найдем позже, – сказал я, – не стоит из-за этого задерживаться. Идем дальше.
В конце концов, это был единственный выход из положения: писать книгу воображаемого человека, которого никогда не существовало. Все женщины, о которых говорил Ланглуа, были тщательно и подробно описаны. Были описаны города, в которых бывал Ланглуа: Марсель, Вена, Стамбул, Алжир, Нью-Йорк – и каждому из них было отведено несколько страниц.
– Когда я ему это прочту, он меня убьет, – сказал Артур.
Но он ошибся: Ланглуа сказал, что он сам так, конечно, не написал бы, но понимает, что Артур по-своему прав.
– Конечно, это было иначе, – сказал он, – и вы пишете обо всем по-особенному. Но я хотел бы быть таким, каким вы меня описываете.
– Я перед тобой виноват, – сказал я Артуру, когда он мне передал эти слова. – Теперь я вижу, что твой клиент умнее, чем я думал.
– Я это знал всегда, – ответил Артур, – Он человек примитивный и невежественный, но он далеко не глуп.
– Ты это упорно называешь фальсификацией, и теоретически ты совершенно прав. Но представь себе кого-нибудь, кто ничего не знает о Ланглуа и прочтет книгу его воспоминаний. И Ланглуа не будет в живых. Тогда для читателя этой книги он будет таким, каким ты его описал. И вот вопрос: что важнее? То, каким он был на самом деле, или то, каким он возникает со страниц твоей книги? В первом случае это биография человека с уголовным прошлым. Во втором – это романтизм, движения души, созерцание, понимание того, что всякая любовь неповторима. Действительность и фальсификация. Что лучше, Артур?
– Я бы так никогда не написал, – сказал он, – я бы не мог. Но для тебя это стилизация, нечто вроде упражнения и тебе все равно, соответствует ли это действительности или нет.
– Ты все время повторяешь это слово, – сказал я. – Но ты мне можешь сказать, что такое действительность? Или, вернее, какое отношение она имеет к искусству, в частности к литературе? Представь себе, что ты писал бы книгу своих собственных воспоминаний. Была ли бы она простым воспроизведением того, что было, перечислением фактов в хронологическом порядке – и больше ничем? Если бы это было так, она не имела бы никакой ценности.
– Но надо писать о том, что было.
– Конечно – о том, что было. Но как? Ты описываешь, например, посещение Лувра. Что ты написал бы?
– Не знаю. Я, может быть, начал бы с упоминания о двух портретах: Людовик Четырнадцатый – Риго и Франциск Первый – Тициана. Конечно, в какой-то степени моя собственная жизнь и то, что я собой представляю, определяет мое отношение ко всему и мою оценку того, что я вижу: манерная глупость Людовика Четырнадцатого, с этой откинутой мантией, обнажающей его ногу, обтянутую чулком, – и фигура Франциска Первого: сила, ум, отвага и несомненное благородство. Я стою, смотрю, сравниваю два портрета, XVI и XVII столетия. Я думаю о Генрихе Восьмом, о Леонардо да Винчи, о Тридцатилетней войне и Валленштейне, о Вестфальском мире, о словах Людовика Четырнадцатого – помнишь, в конце его жизни, когда он был стар, несчастен и унижен – «Бог, кажется, забыл обо всем, что я для Него сделал», об отмене Нантского эдикта и о многом другом.
– Очень хорошо. Но скажи, пожалуйста, где здесь то, что ты называешь действительностью или изложением фактов, которые происходили в твоей жизни?
– Это и есть действительность. Я описываю свое впечатление от двух портретов, находящихся в Лувре. Оно определяется многими вещами – историческими соображениями, разницей между Людовиком Четырнадцатым и Франциском Первым, мыслями об искусстве Тициана и его современников, – я не могу об этом не думать. И то, что я об этом думаю, это часть меня самого, такого, какой я есть.
– Таким образом, твое впечатление, отражающее действительность, то есть посещение Лувра, скажем, неделю тому назад, это впечатление уходит от современности в XVI и XVII столетия и заключает в себе несколько страниц истории и истории искусства, относящихся к тому времени, когда эти портреты были написаны. С этой оговоркой я твою действительность принимаю.
– Ты понимаешь, – сказал Артур, – это переходы от одного видения к другому, это смена чувств, ощущений и воспоминаний – и что еще?
– И медленный путь к смерти, Артур. Посмотри на лицо Ланглуа – более неопровержимого доказательства этого быть не может. Ты никогда не говорил с ним все-таки о другой стороне его жизни, о той, которую он обходит молчанием?
– Я ему несколько раз пытался напомнить об этом. Он неизменно отвечает, что это лишено интереса и об этом не стоит говорить.
– Ну да. Не было ни опасности, ни уголовного прошлого, ни преступлений, ни сведения счетов. Были только закаты солнца, любовь и глаза Антуанетты. Такой он хочет видеть свою жизнь – вопреки фактам и тому, что было. Таким он хотел бы, наверное, предстать на Страшном Суде – если он в него верит. Дай ему эту возможность, эту иллюзию, Артур, что тебе стоит? Тебе его не жаль?
– Ты знаешь, – сказал Артур, – мне иногда становится жутко, когда я смотрю на его желтое лицо и встречаю взгляд его мертвых глаз.
– Хорошо, – сказал я, – устроим ему такие похороны, которые ему нужны.
Через несколько дней после того, как была закончена очередная глава воспоминаний Ланглуа, Андрей пригласил нас обоих, Артура и меня, в ресторан на обед.
– За тобой заедет Артур, – сказал он мне по телефону, – я вас жду в час дня.
– Где?
– Артур знает, – сказал Андрей и повесил трубку. Артур явился в половине первого и сказал, что мы едем… Он посмотрел в свою записную книжку, где был отмечен соответствующий адрес. Я пожал плечами: это был один из самых дорогих ресторанов Парижа.
– Зачем ему это нужно? – сказал я.
– Я его понимаю, – ответил Артур, – ему это приятно. А ты этого не одобряешь? Почему?
– Нет, ничего, – сказал я, – но на меня эти вещи давно не производят впечатления. Но я понимаю, Андрею хочется пригласить нас именно туда, он еще не привык к своему новому положению.
– А когда он привыкнет, что, по-твоему, будет?
– Будет то, что возможности, которые теперь ему кажутся заманчивыми, потеряют свою прелесть, потому что станут легко достижимы и обыденны.
– Мне кажется, что ему еще долго предстоит испытывать от этого удовольствие, может быть всегда.
Мы приехали за пять минут до назначенного времени. В огромных витринах ресторана лежали омары, лангусты, рыбы на льду, окруженные водорослями, и это было немного похоже на аквариум, из которого вылили воду. Андрей уже ждал нас. Мы ели сначала устрицы, потом рыбный суп, затем жареную рыбу, действительно прекрасно приготовленную, и пили белое вино. Когда подали кофе, Андрей начал рассказывать о сицилийских харчевнях, в частности о той, где он чаще всего бывал и где все жарилось перед ним на углях. Он произнес целую речь о том, что еда в жизни человека играет очень важную роль и что по тому, как люди питаются, можно судить об их культурном уровне. Он напомнил нам, как ели римляне и как обедали французские короли.
– Ты это называешь культурой, – сказал я, – ты не думаешь, что это чаще всего только обжорство? Мне кажется, что для определения культуры есть другие критерии.
– Он не говорит, что культура заключается в этом, – сказал Артур, на которого всегда действовало белое вино, – но это один из ее признаков. Почему ты всегда споришь и ни с кем не соглашаешься?
– Я тебе могу это объяснить, – сказал Андрей. – Это потому, что он живет не так, как нужно.
– Ты теперь знаешь, как нужно жить? – сказал я.
– Я знаю одно, – ответил он. – То, чего тебе не хватает, это движение. Ты сидишь почти безвыходно в твоей квартире, в четырех стенах, погруженный в книги, и я хотел бы тебя спросить: когда, собственно, ты живешь? Или когда ты собираешься жить? Что тебя интересует? Что занимает твое внимание? Тот или иной оборот чужой мысли, тот или иной стилистический прием, то или иное понимание мира, изложенное давно умершим автором? Где в этом настоящая жизнь? Почему ты сам себя осудил на это одиночное заключение? Ты раньше не был таким, мы все это помним. У тебя были увлечения. Ты занимался спортом. Что от всего этого осталось? У тебя нет стремления к чему-либо, нет женщины, которую ты любишь, есть только это твое упрямое созерцание. Подожди, когда тебе будет восемьдесят лет, тогда у тебя будет время на это. А сейчас… То существование, которое ты ведешь, подходило бы для очень пожилого, больного и усталого человека. Но ты, слава Богу, не стар и совершенно здоров – и откуда у тебя могла бы быть такая непонятная усталость? Что могло произойти? Почему ты не испытываешь ни бурной радости, ни бурных огорчений, как Мервиль, почему ты не холоден и не горяч? Что, в конце концов, с тобой случилось? Почему ты не живешь, а смотришь, как живут другие? Ты находишь, что это нормально?
– Вот Артур только что сказал, что я всегда спорю и никогда ни с кем не соглашаюсь, – сказал я. – Я хочу ему доказать, что это не так. В частности, теперь я совершенно согласен с тем, что ты сказал. Моя жизнь действительно не такая, какой она должна была бы быть. Отчего это так получилось, я не знаю. И я не уверен, что такой она будет всегда.
– Хорошо, будем надеяться на лучшее будущее, – сказал Андрей. – Перейдем к другому. Чтобы отпраздновать мое пребывание в Париже, я предлагаю вам встретиться сегодня вечером в кабаре Эвелины. Я хочу позвонить Мервилю, но если он туда приведет свою красавицу, это все испортит.
– Да, да, только без нее, – сказал Артур. Мервиль обещал приехать один, и мы условились быть в кабаре в одиннадцать часов.
– Только Эвелина и мы, как в доброе старое время, – сказал Андрей. – С шампанским и тостами!
Переодеваясь вечером, чтобы ехать в кабаре, я думал о том, что последний раз, когда мы были там все вместе, кроме Артура, это происходило почти год тому назад. Я вспомнил, как Мервиль говорил с Лу, вспомнил круглоголового пианиста и мое возвращение домой в предрассветные часы зимней ночи. С того времени многое изменилось и в жизни Мервиля и Лу, и в жизни Андрея, и в жизни Эвелины – теперь от Котика и метампсихоза не оставалось ничего, кроме позднего сожаления, – и только мое собственное существование продолжало быть таким же, каким оно было раньше, тем, что Андрей несколько часов тому назад назвал упрямым созерцанием. Это было верно, но только отчасти. Была еще двойственность, от которой я не мог избавиться, теоретическая возможность жить иначе и отсутствие стремлений к какому бы то ни было виду напряженной деятельности, не стоившей, как мне казалось, тех усилий, которые для этого потребовались бы. Но и это состояние – вне моей литературной работы, – похожее на длительный душевный обморок, не было, как я думал, моим окончательным уделом, и я знал с недавнего времени, что все это могло измениться.
Было уже около одиннадцати часов. Я вышел из дому, остановил проезжавшее такси и дал шоферу адрес «Fleur de Nuit».
Войдя в кабаре, я сразу увидел столик, за которым сидели Эвелина, Мервиль, Андрей и Артур. Оставалось одно свободное место, для меня. Эвелина поднялась, когда я подошел, обняла мою шею своей теплой обнаженной рукой и поцеловала меня в щеку. Я встретил взгляд ее синих смеющихся глаз, и мне вдруг показались вздорными те мысли, которые только что были у меня. Мервиль крепко пожал мне руку, и я сея на свое место. На эстраде певец в русской вышитой рубахе, с гитарой в руках пел глубоким баритоном:
и его гитаре вторил под сурдинку оркестр. Сверкало шампанское в бокалах, бесшумно двигались лакеи, над столиками возвышались смокинги мужчин и обнаженные плечи женщин. Все было так же, как год тому назад. Казалось, что сюда, в это пространство, зал кабаре, не доходили и не могли дойти никакие отзвуки внешнего мира. Их не было, или они были так далеко, что об этом не стоило думать, и кроме того – какая сила в мире могла изменить человеческую природу? Голос Андрея прервал мои размышления. Держа в руке бокал, он сказал:
– Я предложил вам собраться здесь сегодня, чтобы отпраздновать еще раз наш союз. Мы все так давно и хорошо знаем друг друга, мы так тесно связаны, что против нас бессильны обстоятельства, время и расстояние. Каждый из нас знает, что он не одинок и что бы с ним ни случилось, есть товарищи, на которых он во всем и всегда может рассчитывать. Это настолько очевидно, что об этом, может быть, не стоило бы говорить. Но я должен признаться, что мне приятно напомнить об этом, потому что я вам, дорогие мои друзья, обязан больше, чем другие. Вы никогда не отказывали мне в поддержке, и если бы не вы, я был бы – до последнего времени – в тысячу раз несчастнее. Я хочу прежде всего поблагодарить Эвелину за ее гостеприимство и сказать ей еще раз, что мы все ее любим. Ты об этом не забыла, Эвелина?
– Нет, это одна из немногих вещей, о которых я помню всегда, – сказала она.
– Теперь ты должен произнести застольную речь, – сказал Мервиль, обращаясь ко мне. Его поддержал Артур. Мне не хотелось говорить, но я чувствовал, что отказаться от этого было нельзя. Русский певец – откуда он у тебя, Эвелина? – спросил я. – Ты знаешь, я всегда питала слабость ко всему русскому, – сказала она. – Первый раз об этом слышу, – заметил Мервиль – начал старинный романс:
– Вы только что слышали то, что говорил Андрей, – сказал я. – Но самое парадоксальное это то, что идиллическая картина, которую он нарисовал, действительно отражает то, что есть. Я неоднократно спрашивал себя: что, собственно, объединило нас много лет тому назад и чем мы связаны? – и никакого логического ответа на этот вопрос я не нашел. Но я никогда не жалел об этом. Как известно, главные враги логики в нашем союзе – это Эвелина и Мервиль, главным ее защитником считаюсь я. И я пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть сейчас их торжество и мое поражение. Но торжество без злорадства и поражение без горечи. Я знаю, что некоторые из нас могли быть далеко отсюда, их могло отделять огромное расстояние, но, в сущности говоря, оно измерялось бы только одним билетом на аэроплан. Один билет – и все возвращалось бы на свои места. Сколько раз мы все убеждались, что у нас есть дом и каждый из нас может туда вернуться, куда бы ни заносила его судьба. У каждого из нас своя собственная жизнь, и каждый был по-своему счастлив или несчастлив. Надо ли повторять ту тривиальную истину, что жизнь есть непрекращающееся движение, что все меняется и что мы меняемся вместе со всем остальным? И если мы вспомним, что было несколько лет тому назад и какими мы были тогда, и сравним это с тем, что есть сейчас, мы увидим, что мы стали другими – богаче или беднее, старше или моложе, несмотря на неумолимую, хотя не всегда непогрешимую хронологию. Но одно в этом движении, которого ничто не может остановить, остается, я бы сказал, блистательно неизменным, – это наш союз. И мы все отдаем ему часть того лучшего, что в нас есть. Я мог бы многое сказать о каждом из нас, и каждый из нас мог бы это сделать так же, как я. Но в этом теоретическом сведении счетов не было бы ни осуждения, ни недоверия, ни сомнения в самых важных вещах. И после этого все осталось бы так же, как было раньше и как будет, я думаю, всегда, что бы с нами ни случилось.
После того как я кончил говорить, Мервиль сделал жест, требуя внимания, и сказал, обращаясь ко мне:
– Мы должны тебя поблагодарить за то, что ты сейчас произвел свое собственное разоблачение. Куда делся твой скептицизм и куда делись твои сомнения во всем? Я никогда не верил до конца тому, что твоя постоянная критика всего соответствует твоей природе и твоим чувствам. Но сегодня мы присутствуем при твоем чистосердечном сознании – как во время суда или следствия. И мы, как судьи, тебя оправдываем. Все со мной согласны?
– Я его давно простила, – сказала Эвелина.
В кабаре все было как всегда – те же или похожие на те же лица, тот же своеобразный отбор посетителей, все эти сомнительные субъекты и их сомнительные спутницы, эта смесь претенциозности и дурного вкуса, эти люди, считавшие себя причастными к искусству, о котором они не имели представления, и другие, те, которые появлялись, когда начинались сумерки, и исчезали, когда наступал рассвет. Я посмотрел вокруг себя и тотчас увидел желтое лицо Ланглуа и его мертвые глаза. В тот вечер в кабаре Эвелины был еще южноамериканский дипломат в сопровождении кинематографической артистки, на которой играло переливами платье из какой-то удивительной искрящейся материи, был академик, автор нескольких романов, отличавшихся одновременно сложностью и незначительностью, был драматург, в пьесах которого главное место занимали социальные проблемы, был знаменитый дамский портной с густо напудренным лицом и длинными волосами, не хватало только бывшего фальшивомонетчика, но и он появился через некоторое время. Сквозь табачный дым и полутьму с освещенной эстрады шли музыкальные волны цыганского оркестра, голоса певиц и певцов и слова романсов на разных языках – французском, итальянском, испанском, английском; в небольшом квадрате, стиснутом столиками, посередине кабаре время от времени появлялось несколько танцующих пар, затем танец кончался, и внимание вновь переносилось на эстраду, откуда молодой человек в белом костюме пел высоким тенором о том, как хороша его возлюбленная. Эвелина встала со своего места, подошла ко мне, наклонилась и спросила:
– О чем ты думаешь?
Я посмотрел в ее лицо, и мне опять показалось, что я его никогда не видел таким и никогда не знал, что оно может стать таким. С эстрады теперь звучал плачущий и долгий звук скрипки, на которой играл широкоплечий мужчина во фраке, с нахмуренным лицом. – О чем я думаю, Эвелина? Как ты хочешь, чтобы я сказал это в двух словах? – Попробуй, – сказала она, улыбнувшись. – Я думаю о том, как то, что окружает нас здесь, в твоем кабаре, – как все это вздорно, отвратительно и печально. Я думаю еще о том, сколько вещей непоправимо и не стоило бы жить, если бы не было наряду с этим настоящих человеческих чувств, – того, что нам было дано или что нам было обещано, того, о чем написаны самые лучшие стихи, самые лучшие книги и самые лучшие симфонии.
Ее лицо приблизилось к моему, я встретил ее взгляд, и в эту секунду я понял и почувствовал неизбежность того, что не могло не произойти. Она спросила:
– Что с тобой сегодня, мой дорогой? Уж не влюблен ли ты?
– Не знаю, – сказал я. – Я об этом подумаю.
Мы вышли из кабаре в пятом часу утра, и Мервиль довез меня в своем автомобиле до дому.
– Хорошо, что мы встретились, – сказал он, – все-таки было очень приятно.
– Да, погружение в коллективный сентиментализм, – сказал я. – Но я с тобой согласен: это было приятно. И в этом есть известная назидательность.
Я заснул на рассвете, и мне снилась Эвелина. Мы шли с ней по улице незнакомого города, направляясь к вокзалу, находившемуся на берегу моря. Дул сильный и теплый ветер. – Возьми меня под руку, – сказала она, – я боюсь улететь. – Она произнесла эти слова на языке, которого я не знал, но я понял то, что она сказала. – На каком языке ты говоришь, Эвелина? – Ветер отнес ее слова в сторону, и я видел только движение ее губ. Она повернула ко мне свое лицо и сказала:
– Ты понимаешь все, что я говорю, почему ты скрывал от меня, что ты знаешь мой язык?
– Нет, я его не знаю.
– Но ты отвечаешь мне, как это могло бы быть, если бы ты его не знал?
Я хотел ей что-то сказать, но вдруг увидел, что ее больше не было рядом со мной, и я ускорил шаг, чтобы ее догнать. Ее не было видно. Начинались сумерки, и я подумал, что нахожусь в незнакомом мне городе чужой страны, не понимая, как и зачем я туда попал и что я буду делать без Эвелины, которая, как мне казалось, с абсурдной убедительностью должна была знать то, чего не знал я. И вдруг впереди я увидел ее силуэт. Я крикнул: – Эвелина! – Но она не обернулась. Я шел за ней по морскому берегу, увязая в глубоком и мягком песке. Больше не было ни города, ни улицы, ни вокзала, только свист ветра в прибрежных пальмах и шум волн, набегавших одна на другую. Я повернул голову в сторону моря и тогда опять увидел Эвелину. Она лежала на спине на воде, заложив руки за голову, поднимаясь и опускаясь на каждой волне, я видел ее темные волосы, лицо с неподвижной улыбкой и ее голое тело. Я разделся, вошел в море, которое мне показалось теплым, как вода в ванне, и поплыл, направляясь к Эвелине. Она вдруг исчезла, потом вынырнула рядом со мной, и ее рука обняла мою шею. – У тебя влажная рука, Эвелина, – сказал я, – но она такая же теплая, как всегда. – Это потому, что температура моей кожи зависит не от воды, а от воспоминания, – сказала она. – Воспоминания? – повторил я. – Воспоминания о чем, Эвелина?
Я проснулся, испытывая непонятное волнение. В комнате было темно и тихо, и через секунду я услышал тиканье часов, стоявших на ночном столике. Я посмотрел на их светящиеся стрелки и увидел, что было семь часов утра. Я снова заснул, и когда проснулся второй раз, был первый час дня. За окном шел снег. Я вспомнил ночь в кабаре, мое возвращение домой и нелепый сон, который мне снился. И тогда с необыкновенной ясностью, которая характерна для времени, которое следует за пробуждением, я понял то, что до сих пор казалось мне смутным и неверным. Это был мой медленный и постепенный переход в тот мир, где не было стройной последовательности слов, выражающих мысли, и вместо них начиналось нечто, похожее на смену душевных пейзажей без контуров и рисунка, в которые иногда вливался теплый свет летнего дня или проникало сознание длительного ожидания. И все это последнее время Эвелина точно приближалась ко мне из далекого прошлого, пересекая свою собственную жизнь, и, как во сне или игре воображения, то, что оставалось за ней, уходило в небытие и переставало существовать. В начале этого воображаемого движения ее очертания казались мне смутными, но потом я видел их все более и более отчетливо, и это было похоже на медленное ее воплощение. И я вспомнил, что когда она пришла ко мне после моего возвращения в Париж, я сказал ей именно об этом – ты недовоплощена, Эвелина.
Когда все это началось? Как это произошло? Что этому предшествовало? Блаженное погружение в пустоту на юге, море и солнце, Мервиль и Лу, возвращение в Париж, к тому месту на стене, где висел раньше портрет Сабины, к этой внешне спокойной, но внутренне судорожной жизни, от которой по вечерам я чувствовал смертельную усталость? Сознание того, что мне угрожает опасность навсегда потерять тот эмоциональный мир, который имел такое значение для моего друга, Мервиля, и который постепенно уходил от меня, оставляя за собой сожаление и печаль? Что могло его заменить? Беспристрастные суждения или ирония, о которой мне как-то сказал Жорж, что для нее нет места там, где человеческое чувство достигает наибольшей силы и чистоты? – Вспомни, – сказал он, – что ее не может быть ни в религии, ни в поэзии, ни в трагедии, ни в лирике, ни в стремлении к лучшему, что мы знаем. – Эта истина общеизвестна, – сказал я. – Но ты часто склонен ее забывать, – ответил он. – Твоя ирония – это защитный рефлекс, – сказала мне Эвелина.
Я еще раз подумал о том, что представляла собой жизнь Эвелины до последнего времени. Во всех обстоятельствах она оставалась верна себе. Она никогда никого не обманывала, не думала о собственной выгоде и не колебалась – ни когда ее охватывало бурное чувство, ни когда оно ослабевало и она уходила от своего возлюбленного, не давая ему несбыточных обещаний и не оставляя ему никаких иллюзий. Это иногда казалось жестоким, но, в сущности, в этом было ее спасение, в этом отказе жертвовать своей свободой. И казалось, что эти ее неизбежные уходы от тех, с кем она была близка, не вызывали у нее – до последнего времени – ни сожаления, ни печали и не оставляли на ней никакого следа. Ей было теперь тридцать шесть лет, и она казалась такой же, какой была в начале нашего знакомства, когда ей было двадцать, – та же юная гибкость движений, то же как будто неутомимое тело, то же лицо, на котором никогда не было выражения усталости.
Такой мы знали Эвелину. Такой она казалась всем, кто с ней встречался. Но у меня было впечатление, что этой Эвелины больше не существовало, как не существовало больше ничего из того, что столько лет определяло стремительное и неудержимое движение ее жизни. Из всего, что было, возникала другая Эвелина – с нетронутой нежностью в ее глазах и в ее голосе, которую она пронесла нерастраченной через столько испытаний, столько неубедительных слов о любви, столько бесплодных объятий. И я думал, что она была похожа на прекрасно исполненный портрет, поверх которого какой-то праздный маляр изобразил женщину, не имеющую ничего общего с оригиналом. И только работа неизвестного реставратора восстановила то, что было написано на картине раньше, – человеческое лицо с нежными глазами, в которых был отблеск внутреннего света.
В течение нескольких недель я продолжал работать с Артуром над его книгой. Мы старались придать некоторую убедительность ее содержанию. Эпизоды из жизни Ланглуа по-прежнему перемежались рассуждениями Артура об искусстве, о несостоятельности тех или иных взглядов на музыку, живопись или литературу – Вагнер, Беллини, Лотреамон. Автор воспоминаний оказывался любителем Дебюсси, невысоко ставил Мориака и предпочитал Тинторетто Веронезу. Все это было совершенно неправдоподобно для тех, кто знал биографию Ланглуа. Но для других, тех, кто не имел о нем представления, это было совсем иначе. Со страниц книги, которую писал Артур, возникал ценитель искусства, посетитель музеев и библиотек и неутомимый искатель душевного совершенства, воплощенного в образе женщины, которую он встречал и которая становилась на некоторое время его спутницей. Неважно было то, что ни он, ни она не имели и не могли иметь никакого представления о том, что описывал Артур. И по мере того как Артур углублялся в свою работу, воображаемый герой его книги начинал жить своей собственной жизнью, и становилось ясно, что в известных условиях он должен был действовать определенным образом и изменить это было нельзя, не нарушая внутренней логики повествования.
Артур до этого никогда не занимался литературой. Он, правда, говорил нам иногда, что если бы у него хватило времени и воли, он написал бы книгу и в ней попытался бы изложить то, что ему казалось самым главным и самым интересным в жизни. Но это всегда оставалось в области пожеланий. И вот теперь у него была возможность, конечно неполная, частично осуществить свой давний замысел. И если бы те рассуждения об искусстве, которые он вставлял в свою книгу, следовали без перерывов одно за другим, то это было бы похоже на своего рода трактат об эстетике. То, что Артур больше всего любил в искусстве, это было то, что он называл «титанической силой экспрессии» – Микеланджело, Тициан, Бетховен, Шекспир, Толстой. Он ценил также мастерство и совершенство исполнения, но это все-таки казалось ему второстепенным. У него попадались такие фразы: «Я подумал, что эта неудержимая сила движения чем-то напоминает тяжелый и стремительный бег центавра», «Казалось, что какой-то рассеянный гигант набросал эти огромные каменные глыбы гор, которые я видел перед собой», «В медленном течении могучей реки было то, что я назвал бы движущимся величием», «В идее многобожия, если ее рассматривать не как религию, которую можно было бы сравнить с монотеистическими концепциями, а как своего рода многообразное проявление мощи, в конце концов, нет ничего неприемлемого».
Потом он спохватывался, вспоминал о Ланглуа, и тогда в книге появлялись такие строки:
«Я прожил долгую жизнь, видел восходы и закаты солнца, слышал смех тех, кто чувствовал себя счастливым, и слышал стоны умирающих, видел, как менялась судьба многих людей, наблюдал движение времени и ослабление того бурного восприятия жизни, которое характерно для юности и которое постепенно угасает, когда человек приближается к старости, – словом, я прошел через тот опыт, который Рильке считал необходимым, чтобы написать несколько строк, которые могут быть названы подлинной поэзией. И я пришел к тому выводу, что единственное, ради чего стоит жить, это движение наших чувств, по сравнению с которым все рассуждения о смысле существования и поиски так называемой философской истины кажутся бледными и неубедительными. И за один взгляд моей возлюбленной я готов отдать любое построение человеческого разума и любую философскую теорию».
Произошло то, чего меньше всего можно было ожидать: Артур увлекся своей работой и она перестала быть для него тяжелой обязанностью. Я ему сказал:
– Теперь ты можешь обойтись без меня, у тебя все будет идти по инерции.
– Я надеюсь, – сказал он. – И знаешь что? Следующую книгу я напишу для себя. И тогда твой литературный опыт пригодится мне еще больше, чем сейчас.
– Не строй себе иллюзий, – сказал я. – Ничей литературный опыт тебе не нужен. Никто не может тебя научить тому, как надо писать, потому что никто этого не знает.
– Ты хочешь сказать, что ты тоже не знаешь, как надо писать?
– Я тебе говорю, этого никто не знает. Я знаю, как не надо писать, – в этом я тебе могу помочь. Но если ты меня спросишь, например, как я напишу роман, идея которого у меня есть, я тебе не могу на это ответить. Я могу тебе сказать, как я это себе представляю. Но в какой степени это мое представление будет соответствовать выполнению, я не знаю. Я знаю только одно: если мне удастся выразить одну десятую того, что я хочу, это можно будет считать удачей.
– Я себе это представлял иначе, – сказал Артур. – Есть, в конце концов, мастерство, искусство построения, развитие действия, уменье найти нужные слова, – то, чему нас учит литературный опыт.
– Я не верю ни в так называемое литературное искусство, ни в литературный опыт, я верю только в талант. И это относится ко всем видам искусства. Вспомни портреты Рубенса или Дюрера – ты считаешь, что этому можно научиться?
– Но это не таланты, это гении. А если у меня нет гения, это значит, что я не должен заниматься ни литературой, ни живописью?
– Вовсе нет. Никто не видит мир так, как его видишь ты, потому что ничьи глаза не похожи на твои, ничье восприятие не похоже на твое, ничье чувство не может быть таким, как то, которое ты испытываешь. Поэтому твой личный опыт неповторим и незаменим. И если тебе удастся рассказать о нем, забыв о всякой литературе и произведениях других писателей, так, чтобы это были твои собственные слова и чтобы твой рассказ был свободен от чужих влияний, то твоя книга оправдана.
Я много раз говорил с Артуром, внимательно следил за его работой и убеждался в том, что этот случайный литературный заказ начинал играть в его жизни значительную роль. Впервые за все время Артур стал понимать, что в его несчастном и нелепом существовании было еще что-то, о чем он до сих пор думал только урывками и изредка, – какое-то гармоническое представление об искусстве и проникновение в то, что вдохновляло художников, поэтов и композиторов, о которых он писал. И то расстояние, которое было между его представлением о том, каким он был, и тем, каким он хотел бы быть, это расстояние теперь начинало сокращаться. И в этом был главный смысл его теперешней литературной работы.
В одном из разговоров со мной Мервиль сказал, что у Лу бывают иногда припадки сомнения и что, хотя все, казалось бы, обстоит совершенно благополучно, остается еще что-то, как он выразился, этап, который нужно пройти.
– Как ты хочешь, чтобы все мгновенно изменилось? – сказал я. – Это долгий и медленный процесс, мой милый, вряд ли это может быть иначе.
– То, в чем мне до сих пор не удалось ее убедить, – сказал он, – это в необходимости забыть о своем прошлом. Тем более что, в конце концов, ты понимаешь, никаких преступлений она не совершала и ей не в чем себя упрекать, я знаю всю ее жизнь. Но она несколько раз говорила мне слова, в ответ на которые я только пожимал плечами: «Может быть, я не имела права связывать свою жизнь с твоей, и дай Бог, чтобы я в этом не ошиблась». Тебе не кажется, что это просто нелепо?
– Нет, – сказал я. – Я думаю, что, может быть, это не так просто и не так нелепо, как тебе кажется.
Значительно позже, когда я вспоминал о том периоде времени, началом которого можно было считать открытие кабаре Эвелины, я думал, что стремительное движение событий, которого потом мы все стали невольными участниками, казалось особенно неожиданным после того, как все предшествовавшее им развивалось с неизменной медлительностью. Она была во всем – спокойная жизнь Мервиля и Лу в Париже, после ее исчезновения, возвращения и поездки в Америку и Мексику; медленно шли, один за другим, дни в Сицилии, где был Андрей, и его путешествие во Францию не нарушило ни его душевного спокойствия, обретенного после стольких лет судорожного ожидания и несбывшихся надежд, ни безмятежного существования, которое он вел теперь. Так же медленно писалась книга Артура, и, казалось, ушло в прошлое то время, когда он не знал, что будет с ним завтра. В жизни Эвелины после ее расставания с Котиком началось то постепенное ее перевоплощение, которому я был свидетелем, и не было больше ни вздорных проектов, ни увлечений, ни того, что было раньше, – бурных перемен, отъездов и возвращений. Она реже стала бывать в своем кабаре и много времени проводила дома, погруженная в размышления о том, над чем она прежде никогда не задумывалась. И только в моей жизни все, казалось, продолжало быть как раньше, без изменения ее замедленного, как всегда, ритма, – то же одиночество, та же неподвижность, о которой столько раз говорил мне Мервиль.
Эвелина приходила ко мне в разные часы – то утром, то днем, то вечером, потом исчезала на некоторое время, но неизменно возвращалась и спрашивала:
– Ты меня не забыл?
– Ты же знаешь, что это невозможно.
– Мне недавно попалась одна книга, – сказала она как-то. – Я открыла ее, чтобы погадать, то есть прочесть первую же фразу, которую ты увидишь, первые ее слова. Ты знаешь, что это было?
– Что? – спросил я.
– «Медлительная сладость ожидания», – сказала она. – Я никогда раньше не знала этого ощущения. И я подумала об одной вещи, которая тебе, может быть, покажется странной. Когда я прихожу к тебе и мы с тобой разговариваем, у меня такое впечатление, что рядом с тобой появляется зеркало, в котором я вижу себя. Не зеркало, конечно, как стекло, а что-то другое, и в нем мое отражение.
– И ты возникаешь в нем такой, какой ты никогда не видела себя до сих пор?
– Как хорошо, что ты перестал быть неправдоподобным, – сказала она. – Мне теперь так легко с тобой – после того, как ты отказался от твоего постоянного грима, в который я никогда не верила.
– Всему свое время, Эвелина, – сказал я. – «Время бросать камни и время собирать камни». Ты это помнишь? «Аз, Екклезиаст, был царем над Израилем, во Иерусалиме». Ты говорила о моем гриме. Может быть, это объясняется тем, что я перегружен цитатами и воспоминаниями о чужих чувствах – и они так часто мешали мне жить моей собственной жизнью.
– Это, в конце концов, не так плохо, – сказала она, – ты сберег твою душевную силу. И потом, ты все-таки жил воображаемой жизнью в твоих книгах, это то, чего нет у большинства людей.
– У меня свой взгляд на это, – сказал я. – В том, что это действительно стоило делать, я никогда не был уверен. А вот то, что потеряно и о чем следует пожалеть, это стихи Жоржа.
– Какая страшная смерть! – сказала она. – Что теперь от всего этого осталось? От этого поэтического вдохновения, от усилий, которые должен был делать Жорж, чтобы жить, преодолевая то презрение к нему, которым он всегда был окружен. Что? Могила на кладбище Перигё?
– До которой издалека доходят лучи солнца Сицилии, – сказал я. – В этом смысле гибель Жоржа не была напрасной.
– Я бы не хотела купить свое благополучие такой ценой.
– Неужели ты говоришь об Андрее? Она пожала плечами.
– Тут ты ошибаешься, – сказал я. – Андрей был глубоко несчастен, и у него были все основания не любить Жоржа. Но он никогда не сделал бы ничего, чтобы повредить своему брату. Он даже не был его врагом. А то, что из-за смерти Жоржа его жизнь так изменилась, это, в конце концов, случайность. Но, конечно, при желании в этом можно усмотреть, если хочешь, торжество жестокой справедливости.
– Мне кажется, что Андрею больше подходит роль жертвы.
– Я тоже был склонен так думать, – сказал я. – Но и это не так. Сейчас он другой человек, его нельзя узнать. И вот ответь мне на вопрос: какой Андрей подлинный? Тот, каким он был раньше, или тот, каким он стал теперь?
– Я об этом не думала.
– Напрасно, потому что именно это самое главное.
– Ты понимаешь, я так привыкла к тому, что его всегда надо жалеть, что у меня сейчас, когда я об этом думаю, какое-то странное чувство, которое мне трудно объяснить.
– Мне кажется, я понимаю. У тебя такое впечатление, что у тебя отняли это сожаление. Ты сжилась с этим представлением – Андрей бедный, несчастный, неуверенный в себе. Теперь это привычное представление о нем, – ты его теряешь.
– Может быть, – сказала она рассеянно, думая, как мне показалось, о другом. И потом без перехода, другим тоном она сказала:
– Ты знаешь, я так рада тому, что ты изменил твое отношение ко мне.
– Я его не изменил, оно всегда было таким же, как сейчас. Это ты изменилась, Эвелина.
– А ты? – сказала она.
– Я все такой же, мне кажется.
– Нет, – сказала она с твердостью и уверенностью, которая меня удивила. – Нет, милый мой. Я тебе уже сказала, что теперь ты разгримировался.
«Мне, вероятно, недолго осталось жить. Каждое утро, когда я с усилием поднимаюсь с постели, я думаю, что, может быть, именно этот день будет последним в моей жизни. Доктор мне объяснял, как функционирует мое сердце, и прибавил, что непосредственной опасности нет. Он не мог этого не сказать, – это был его профессиональный долг, – но вряд ли он сам был уверен, что ему удалось меня в этом убедить. Никаких иллюзий у меня нет, и он, вероятно, это знает.
Но когда я спрашиваю себя, что заставило меня писать эту книгу воспоминаний, я неизменно нахожу один и тот же ответ. Моя жизнь ничем не замечательна. Я ничем не отличаюсь от огромной массы людей, которые живут так, как это им диктуют внешние обстоятельства, среда, которой они окружены или из которой они вышли, воспитание, которое они получили, бытовые условия, та или иная система морали, которая им кажется правильной. И те, кто живет, нарушая законы общепринятой этики, делают это далеко не всегда потому, что они хуже других, а нередко оттого, что их жизнь сложилась иначе, чем у большинства их современников. И можно себе представить, что при некотором изменении в начале существования биография уголовного преступника могла бы стать историей жизни политического деятеля, отца семейства и уважаемого гражданина своей страны. Но я отвлекаюсь от главной темы. Я хочу вернуться к ответу на вопрос о том, что побудило меня писать эту книгу. Быть может, некоторым читателям этот ответ покажется неожиданным, но для меня он ясен.
Это, в сущности, – своеобразная жажда бессмертия. Казалось бы, откуда? Почему? Но жажда бессмертия так же необъяснима, как необъяснима жизнь и необъяснима смерть. Через некоторое время я перестану существовать, и не все ли мне равно, казалось бы, что произойдет через пятьдесят или сто лет после этого? Ни о ком из моих сверстников никто не будет помнить, а обо мне останется книга, которую я написал. Она будет своего рода открытой могилой, напоминанием о том, что я существовал. Вопрос – нужно ли это или нет, не имеет, я думаю, значения. Но я умру, зная, что мне в какой-то степени удалось победить смерть. Моя книга – это борьба против власти забвения, на которое я обречен. И если через много лет после того, как меня не станет, на земле найдется хоть один человек, который прочтет эти строки, то это будет значить, что я недаром прожил свою трудную и печальную жизнь».
Так Артур кончил свою книгу воспоминаний Ланглуа. Когда он прочел мне эти строки, я сказал:
– Теперь ему действительно остается только умереть.
– Я надеюсь, ты это говоришь риторически?
– Конечно. Потому что я готов пожелать ему долгой жизни, и, в конце концов, он заслужил нашу признательность, дав тебе этот заказ.
– Представь себе, последние главы я писал почти с увлечением.
– У тебя всегда было литературное призвание.
– Ты прекрасно знаешь, что это не так.
– Нет, нет, было, только не вполне понятое. Бели бы его у тебя не было, ты не мог бы написать эту книгу.
– Не забывай, что ты мне очень помог.
– Милый мой Артур, – сказал я, – думал ли ты когда-нибудь о том, что помочь можно только человеку, у которого есть какие-то данные для выполнения той или иной задачи? Представь себе, что у тебя нет никаких литературных способностей. Ничья помощь не могла бы спасти положение. Теперь мы будем ждать твою вторую книгу, на этот раз твою собственную. Что ты хотел бы написать?
– Не знаю. Мне кажется, что мне нужен некоторый разгон. Например, для начала я бы взялся за монографию Ватто.
– Ватто тебе как-то не подходит, я думаю, – сказал я, – это не Тициан и не Рубенс.
– Именно поэтому, – сказал он, – потому что это труднее. Потом я бы подумал об историческом сюжете. А после этого я бы написал роман.
– О чем?
– Я это еще не совсем ясно вижу, – сказал Артур. – Ну, представь себе простого рабочего, в руки которого попадает учебник истории. Он его прочитывает. Ему хочется знать больше, чем там написано. И вот он ходит в библиотеку, изучает разные исторические труды, и через несколько лет его знания позволяют ему защитить диссертацию в университете. Затем он все глубже и глубже, как ему кажется, проникает в суть вещей, и в конце концов, проделав огромную работу, он приходит к тому убеждению, что нет ни исторических законов, ни бесспорных истин, которые могли бы быть открыты в результате длительного изучения, что ничего нельзя предвидеть, ни в чем нельзя быть уверенным, что история ничему не учит и ничему не может научить и что он потратил годы на совершенно бесплодное занятие.
– Мне кажется, что из этого трудно сделать роман.
– Почему?
– Роман – это движение чувств, говоря в самых общих выражениях. А здесь его нет. Есть только одна мысль, не очень новая, как ты знаешь, и лишенная эмоциональной окраски, без которой роман может показаться неубедительным.
– Ты же мне недавно сказал, что ты не знаешь, каким должно быть литературное произведение.
– Совершенно верно. Но если ты помнишь, я говорил еще о том, что я знаю, – так мне кажется, – каким оно не должно быть.
– До романа, во всяком случае, еще далеко, – сказал Артур. – Но когда я за него возьмусь, мы выберем с тобой сюжет, хорошо?
– Сюжет найти сравнительно нетрудно, – сказал я. – Трудно из этого сделать настоящую книгу.
– И ты думаешь, что это может мне удаться?
– Я в этом почти уверен, – сказал я. – И мы тебе поможем.
– Я знаю, – сказал Артур. – Что я делал бы без вас?
Никто из нас, ни Эвелина, ни Артур, ни я, не могли забыть того декабрьского вечера, когда после мучительного и долгого ожидания в клинике хирург в белом халате вышел к нам и сказал, что теперь Мервиль вне опасности. Этому предшествовала сложная операция и трагическая неизвестность ее исхода. Мы знали, что жизнь или смерть Мервиля зависели от того, как будет действовать этот высокий, коротко остриженный человек в белом, с особенными пальцами, на которые я невольно обратил внимание, – необыкновенно чистыми, длинными и толстыми, – и выражением непоколебимого спокойствия на лице с крупными и правильными чертами. После того как он вошел в операционную, я смотрел на матовое стекло ее двери с чувством непрекращающегося смертельного томления и только через несколько минут ощутил боль в кисти оттого, что Эвелина сжимала ее своей рукой, на которой были кольца, вдавившиеся в мою кожу. Артур сидел не двигаясь, и лицо его было совершенно белым. Лу, с расширенными горячими глазами и покрасневшим лицом, кусая себе губы, все время ходила взад и вперед своей быстрой и гибкой походкой. Ни к кому не обращаясь, она несколько раз повторила по-английски – он не может умереть, он не может умереть, – и на третий раз непривычно хриплый голос Эвелины ответил:
– Конечно, нет.
И когда доктор, выйдя из операционной, сказал, что Мервиль спасен, Лу разрыдалась, и я испытал чувство бурного счастья. Артур поднялся со своего места и сказал:
– Я был в этом уверен с самого начала, у меня была интуиция.
– По твоему виду этого нельзя было сказать, – заметил я.
– Нет, понимаешь, внутренне… Есть же все-таки на земле справедливость.
У Эвелины блестели глаза, и улыбка не сходила с ее лица.
– Самое главное, самое главное, – говорила она, – остальное – это второстепенно.
И когда мы направились к выходу, Лу, которая первый раз видела Эвелину и Артура, сказала им:
– Вы не знаете, как я вам благодарна.
Она осталась в клинике. Мы вышли на улицу, шел холодный дождь. Я взял такси, мы отвезли домой Артура, и, когда он попрощался с нами и мы остались вдвоем с Эвелиной, она мне сказала:
– Я буду ночевать у тебя, хорошо? Это будет проще.
– Конечно, – ответил я.
– Как все это произошло? Что случилось?
– Я не мог расспрашивать Лу, ты понимаешь, – сказал я. – Поэтому я почти ничего об этом не знаю. Все это будет известно позже.
Я проснулся утром, услышав голос Эвелины, говорившей по телефону. Я вышел в халате в столовую, – Эвелина уже была одета и на столе стоял кофе.
– Я звонила в клинику, – сказала она. – Он провел спокойную ночь и еще спит. Сердце у него работает нормально, и никакой опасности, как мне сказали, больше нет.
Теперь, после того как все это было кончено, после того как я проспал глубоким сном несколько часов, все мне казалось менее ясным и отчетливым, чем накануне, во время ожидания исхода операции. У меня больше не было ощущения тревоги, которое я испытывал тогда, и не было беспокойства, но я как-то не мог отдать себе отчета во всем, и мне трудно было себе представить, что несколько часов тому назад каждую минуту могло случиться, что Мервиля не стало бы. И только после двух чашек очень крепкого кофе я начал наконец приходить в себя.
– Иди бриться и принимать ванну, на тебя страшно смотреть, – сказала Эвелина. – Я надеюсь, что часа в три нам разрешат увидеть Мервиля.
Но в тот день нас к нему не пустили. Нас принял доктор, который его оперировал, он сказал, что Мервиль слишком слаб и что о визитах к нему раньше чем через два-три дня не может быть речи.
– Пуля прошла несколько ниже сердца, – сказал он, – рана была тяжелая, и он потерял много крови. Все осложнилось тем, что у него раздроблено ребро и надо было извлечь все обломки кости. То, что ему нужно теперь, это неподвижное состояние и длительный отдых. Но выйдет он отсюда совершенно здоровым человеком.
Лу все время оставалась в клинике, где ей дали комнату, она не отходила от Мервиля. Я увидел его на четвертый день после операции. Его голова высоко лежала на подушке, у него было осунувшееся лицо, но глаза его были ясны и спокойны. Когда я подошел к его кровати, он улыбнулся; слабым движением руки, сжатой в кулак, – я знал, что это движение причиняло ему боль, – дотронулся до моего бока и сказал:
– Ты видишь, старик, мы все-таки живы.
– Когда ты будешь себя чувствовать лучше, мы с тобой поговорим, – сказал я. – Теперь тебе надо отдыхать и не двигаться.
– Я только это и делаю, – сказал он. – И должен тебе признаться, что в этом даже есть известная приятность. И ты не можешь себе представить, как я рад, что Лу больше не угрожает опасность.
Мы были в клинике вчетвером – Эвелина, Артур, Андрей, прилетевший из Сицилии немедленно после того, как он получил телеграмму от Артура, и я. Мы вышли все вместе и пошли в ресторан обедать.
– Как все это произошло? – спросил Андрей. Ему ответил Артур.
– Никто из нас еще всего не знает, – сказал он. – Никто из нас не говорил об этом ни с Мервилем, ни с этой женщиной – Артур упорно называл Лу «этой женщиной». – Я читал только газетные отчеты, что в них верно, что нет, трудно судить.
– Ну, хорошо, что было в газетах? – спросил Андрей. Артур рассказал ему, что в течение нескольких дней за домом Мервиля следил высокий человек с мрачным лицом. Когда Мервиль как-то вышел на улицу – было около пяти часов дня, – этот человек позвонил у входной двери. Ему отворила горничная. Не спрашивая ее ни о чем, он вошел в гостиную. Лу сидела в кресле. Она не шевельнулась, увидя его, и неподвижным взглядом смотрела на его руку, в которой он держал револьвер.
– Вот мы и встретились, Лу – сказал он. – Теперь одевайся и идем.
Он говорил по-английски, и горничная, стоявшая тут же, не понимала его слов.
– Ты знаешь, что я никуда с тобой не пойду, – сказала Лу, и горничная потом говорила, что она не узнала ее голоса. – Это был голос, которого я никогда до этого не слышала, – сказала она.
И в эту минуту в комнату из боковой двери вошел Мервиль.
Он увидел человека с револьвером, Лу, сидящую в кресле, и двинулся к тому месту, где стоял этот человек.
– Останови его, – сказал этот человек Лу, – скажи ему, чтобы он не двигался.
– Меня никто не может остановить, – сказал Мервиль и сделал шаг вперед. В ту же секунду раздался выстрел, и Мервиль тяжело рухнул на пол. Но сквозь смертельное полузабытье он услышал еще два выстрела, один за другим, и потерял сознание.
Стреляла Лу. Как это выяснилось позже, между подушками кресла был втиснут ее револьвер и, не сходя с места, она выпустила две пули в этого человека. Обе пули попали ему в живот, и каждая из них была смертельной. Лу бросилась к Мервилю, сказав горничной, чтобы она вызвала доктора. Она подняла без видимого усилия тяжелое тело Мервиля и положила его на диван, зажимая рукой его рану. В это время до нее донесся хриплый шепот человека, в которого она стреляла и который лежал в нескольких шагах от нее, на полу, в луже крови:
– Лу, помоги мне.
Она даже не обернулась. Когда приехал доктор, он нашел тяжелораненого Мервиля и умиравшего человека с мрачным лицом.
– Вот приблизительно что пишут газеты, – сказал Артур. – Человек, которого эта женщина убила, оказался американским гангстером, который, по-видимому, знал ее в Америке.
Читая газетные отчеты, о которых говорил Артур, я составил себе определенное представление о том, что произошло. Все было делом нескольких секунд. Если бы Мервиль остановился, он, вероятно, не был бы ранен. Но ни Лу, ни этот американец с итальянской фамилией – Канелли – не допускали мысли о том, что безоружного Мервиля не остановит направленное на него дуло револьвера. Если бы Мервиль не сделал шаг вперед, Канелли не испугался бы – потому что только человек, потерявший голову, мог стрелять не в ногу или в плечо, а в грудь Мервиля. Зато оба выстрела Лу были сделаны с той же беспощадной точностью и быстротой, с какой она несколько лет тому назад стреляла в цирке. И я вспомнил слова моего американского собеседника на Ривьере:
– Лу очень опасная женщина. Мервиль – ваш друг, скажите ему об этом.
И то, что Лу сказала Мервилю:
– Может быть, я не имела права связать мою жизнь с твоей, и дай Бог, чтобы я в этом не ошиблась.
Это было сказано недаром. Лу знала то, что не знали ни Мервиль, ни я, – это приближение опасности, которую она была готова встретить – и устранить навсегда.
Мы говорили об этом в ресторане, и Андрей сказал:
– Ее даже нельзя назвать опасной женщиной. Разве можно сказать, что постоянная угроза смерти – это опасность? Это смерть, а не опасность.
– Я всегда это чувствовал, – сказал Артур, – с самого начала.
– Вы оба ничего не понимаете, – сказала Эвелина. – Она опасна для тех, кто угрожает ее жизни или жизни человека, которого она любит. Но ради этого человека она, я думаю, пойдет на все, и я нахожу, что это замечательно.
– Ты говоришь так, как будто ты хорошо ее знаешь, – сказал Андрей. – Ты ее видела два раза в жизни. Как ты можешь о ней судить и почему ты так думаешь?
– Потому что я женщина, Андрей, – сказала Эвелина, – и потому что я знаю, что такое настоящее чувство.
С каждым днем силы Мервиля восстанавливались, и через две недели после операции он хотел уже вернуться домой. Но доктор находил, что это было бы преждевременно, и, уступая его настояниям и просьбе Лу, Мервиль остался в клинике еще на некоторое время.
Я бывал у него каждый день, иногда с Эвелиной, иногда один, и при этом неизменно присутствовала Лу. От прежней ее холодности не осталось следа, я неоднократно слышал ее смех и никогда больше не замечал у нее того неподвижного взгляда, который раньше производил на меня такое тягостное впечатление. В ней не было, как и прежде, никакой экспансивности, но не чувствовалось больше напряжения, которое было тогда, когда я встречался с ней на Ривьере. Она принимала участие в общем разговоре, и я как-то поймал ее чуть насмешливый взгляд, которым она смотрела на Артура, когда он стоял спиной к ней. Заметив, что я это увидел, она улыбнулась мне и слегка пожала плечами. Я не представлял себе, что еще некоторое время тому назад могло бы произойти нечто подобное.
Наконец наступил день, когда Мервиль уехал из клиники и вернулся домой. На следующее утро после этого я позвонил ему по телефону, и он мне сказал:
– Нам надо с тобой поговорить. Без этого у меня такое ощущение, что мне чего-то не хватает. Ты, по-видимому, осужден на роль нашего постоянного собеседника.
Мы условились встретиться через два дня. Был дождливый февральский вечер, когда он явился ко мне. У него был вид совершенно выздоровевшего человека, но мне показалось, что его движения были несколько медленнее, чем всегда. Я ему это сказал.
– Я так привык к неподвижности за это время, – сказал он, – что это как будто продолжается по инерции. Но я думаю, что скоро все будет так же, как было раньше.
– Теперь расскажи мне, как все произошло.
Он стал рассказывать – и тогда я убедился в том, что – как я это и предполагал с самого начала – все это не было простой случайностью и что вряд ли Канелли предпринял бы путешествие из Нью-Йорка в Париж, если бы у него не было для этого никаких побуждений, кроме надежды на успех очередного шантажа. До этого он никогда не покидал Соединенных Штатов. Почему он вдруг отправился за океан, в страну, о которой не имел представления и языка которой не понимал?
Канелли хорошо знал Лу. Несколько лет тому назад в течение некоторого времени она была его любовницей. Это продолжалось очень недолго, и она ушла от него после бурного объяснения. Он пытался удержать ее угрозами, хотя знал, что она их не испугается. Но он никогда не мог примириться с тем, что она его бросила. Он всегда был неподалеку от тех мест, где была Лу, и все эти годы – как она это знала – он следил за ней. Он не делал попыток приблизиться к ней, он ее боялся, но от мысли о ней отказаться не мог. На что он мог, казалось бы, надеяться? Если бы ему задали этот вопрос, он, вероятно, не сумел бы на него ответить. Но в его жизни его тяготение к Лу было сильнее всего остального. Она это знала, и знала так же хорошо, что если она не избавится тем или иным образом от Канелли, у нее никогда не будет ни безопасности, ни спокойствия. И когда она решила покинуть Америку и превратиться в Маргариту Сильвестр, она надеялась, что никто не найдет ее во Франции – ни американская полиция, ни Канелли.
Но совершенной уверенности в этом у нее все-таки быть не могло. И после своей поездки с Мервилем в Нью-Йорк она была убеждена, что Канелли узнает о ее пребывании там. Это именно так и случилось.
– Удивительно все-таки, что он решил приехать в Париж, – сказал я. – Он должен был помнить, что Лу не похожа на беззащитную жертву.
– Он это, конечно, помнил, он знал, что рискует жизнью, – сказал Мервиль. – Лу его увидела через окно вскоре после того, как он появился, и была готова ко всему. Мне она ничего об этом не сказала. Она говорила потом, что если бы я не вошел в гостиную, все было бы кончено раньше, чем Канелли успел бы что-либо понять или сделать. По ее словам, так или иначе, перешагнув мой порог, он подписал свой смертный приговор. И я не сомневаюсь, что это так и было бы.
– Тут не нужно сослагательного наклонения, – сказал я.
– Но ты знаешь, что самое главное? – Что?
– Ты понимаешь, – сказал Мервиль, – когда выяснилось, что я вне опасности, что мне не угрожает ни смерть, ни инвалидность, Лу стала неузнаваема. Я никогда ее такой не видел. Она шутит, смеется, она даже иногда напевает. Этого раньше у нее не бывало, она все время жила как будто в тени какой-то трагедии – не знаю, не умею это сказать. Я очень рад этому изменению. Но мне кажется, что это не только оттого, что я выздоровел. Тут есть что-то другое.
– Ну, прежде всего избавление от опасности.
– Несомненно. Но ты понимаешь, то, что ее душило, что мешало ей жить полной жизнью, это ее прежние чувства и воспоминания и запас неистраченной силы, той самой, которая позволила ей пройти через все испытания и не погибнуть. И бурная ненависть ко всему, что исковеркало ее жизнь, ненависть, которая требовала выхода. И когда она убила Канелли, вместе с ним она как будто убила свое прошлое – и теперь она свободна. Я не знаю, сумел ли я это сказать так, как нужно.
– Не забывай еще одного – она убила человека, который стрелял в тебя. Кстати, на что ты рассчитывал, когда шел на направленный на тебя револьвер? Почему ты не остановился?
– Теперь я знаю, что это была ошибка, – сказал он. – Но в ту минуту я об этом не подумал, я хотел отвлечь внимание Канелли от Лу.
– Я хотел тебя спросить еще об одном. Когда ты был с Лу в Америке, что тебе удалось выяснить?
– Это не очень сложно, – сказал Мервиль. И он рассказал мне, как он убедил Лу в необходимости лететь в Нью-Йорк, узнать, чем все это кончилось, и доказать свою непричастность к убийству Миллера. В Нью-Йорке Мервиль обратился к известному адвокату, который обещал ему навести справки обо всем. На следующий день он его вызвал к себе и сообщил ему, что никакого дела Лу Дэвидсон больше не существует, потому что убийца Боба Миллера был арестован и подписал свое признание. Это была темная история, связанная с торговлей наркотиками. Ближайший друг Миллера, на которого пало подозрение полиции, тот самый, который сказал, что Миллера убила Лу, был вскоре освобожден, – против него не было никаких улик. У того, кто действительно был убийцей, оказалось неопровержимое как будто алиби: он находился в этот день в Балтиморе, что подтвердили свидетели. Но его погубила одна незначительная подробность: в день убийства он провел в Нью-Йорке несколько часов с девушкой, которую он встретил на улице и которой раньше никогда не знал. Когда он был в ее комнате, он потерял там ключ от своей нью-йоркской квартиры, – ключ этот она потом отнесла в полицию. Вернувшись из Балтиморы в Нью-Йорк, он заказал себе второй ключ у слесаря. Так как за ним следили, то это тотчас же выяснилось – и остальное было просто. Канелли не имел отношения ни к Бобу Миллеру, ни к его сообщникам или друзьям. Но когда Лу появилась в Нью-Йорке, он, конечно, об этом узнал.
– Что было дальше, ты знаешь, – сказал Мервиль, – я хочу сказать эпилог.
На следующий день, вспоминая об этом разговоре, я подумал о том странном ощущении, которое я испытывал и в абсурдности которого я отдавал себе отчет, – будто мне удалось довести до успешного конца чрезвычайно трудное дело и теперь у меня больше не было сознания своей воображаемой ответственности за то, что происходит или может произойти. Только тогда я понял, с каким постоянным напряжением я следил со стороны, в течение целого года, за всем, что касалось Мервиля и его судьбы и в чем главную роль играла Лу. Я был искренно рад за Мервиля, и на этот раз, в отличие от предыдущих, я был убежден, что он был действительно по-настоящему счастлив.
Потом передо мной возникла – напечатанная в газете – фотография Канелли, о котором до его появления в Париже никто из нас, кроме Лу, не имел представления. Я думал о том, как сложилась его жизнь и каким он стал оттого, что его жизнь сложилась именно так. В ней было все, что обычно фигурирует во многих биографиях людей этого типа, – грабежи, жестокие побои, которым он подвергался и которым он подвергал других, психология преследуемого и полное отсутствие отвлеченных понятий. Кроме того, его на каждом шагу могла ждать смерть. Она была неизбежна или почти неизбежна, это был вопрос времени, и было чрезвычайно маловероятно, что он умрет от старости в своей постели. Но ему могли предстоять еще годы жизни. То, что предрешило его участь, это было его непреодолимое тяготение к Лу, которое было сильнее сознания того, что всякая попытка приближения к ней грозила ему опасностью. На первый взгляд казалось, что Канелли сам по себе не представлял особого интереса ни для кого, кроме случайного автора заметки о нем в уголовной хронике газеты. Но по странной случайности судьбы он был совершенно необходим Лу и не менее нужен Мервилю. Тот мир, который теперь возникал для них обоих, – возникновению этого мира должна была предшествовать, его началом должна была быть смерть Канелли, как счастью Андрея должно было предшествовать убийство Жоржа. Если бы Жорж был жив, Андрей продолжал бы вести печальное существование и быть таким, каким мы всегда его знали. Если бы Лу не убила Канелли, ни она, ни Мервиль не могли бы быть счастливы. То напряжение, в котором она жила столько лет, не могло не привести к взрыву. Этого повелительно требовала почти безличная ненависть, которая накопилась в ней, и, может быть, недаром ее жизнь началась с убийства и не могла не привести к убийству: минус на минус дает плюс. Как это ни казалось парадоксально, то лучшее, что было в ней, ее любовь к Мервилю и неудержимое движение ее души, это лучшее могло проявить себя в полной мере только после того, как она перешагнула через труп Канелли, после того, как была утолена ее слепая и бессознательная жажда убийства. Кто мог бы ее за это осудить?
Я думал о событиях, которые произошли за это время, – они начались декабрьской ночью, когда открылось кабаре Эвелины, и кончились через год, декабрьским днем, когда был ранен Мервиль и убит Канелли. Но это была условная хронология, которая ничего не объясняла. Этим событиям предшествовала долгая жизнь каждого из тех, кто в них участвовал или был их свидетелем, жизнь, которую нельзя было ни изменить, ни повернуть вспять. И каждая из этих жизней была, в сущности, попыткой найти известное душевное равновесие, ответ на немой вопрос, который всегда стоял перед нами, – ответ, которого Мервиль искал в своих иллюзиях, Эвелина в бурном эмоциональном движении, Артур в игре и тяготении к разным формам силы, Андрей в постоянной мечте о богатстве и я – в бесплодном созерцании. Все это было гораздо сложнее, чем могло казаться, и во всем этом была тревожная хрупкость. Каждый день какая-то часть каждого из нас отмирала, оставляя след только в нашей памяти. Но вместо того, что отмирало, возникало нечто другое, воспоминания смешивались с надеждами, и мы теряли и вновь находили себя в этих незаметных и бесконечных превращениях. Мы знали твердо только одно – то, о чем я когда-то говорил с Артуром: это был, во всех условиях и при всех обстоятельствах, путь к смерти. Мы создавали искусственные соединения во времени, как мы создавали понятия о прошлом, значение которого для нас все время менялось, о будущем, которого мы не знали, о настоящем, смысл которого от нас ускользал.
Иногда мне начинало казаться, что судьба каждого из нас была предрешена, но и в этом не могло быть уверенности. Поль Клеман, осужденный за убийство Жоржа, убийство, которого он не совершал, был бедным и малограмотным человеком, но его постоянная жажда стяжательства в других условиях могла бы привести к тому, что он стал бы миллионером и вместо дешевого красного вина пил бы виски и фигурировал бы в светской хронике газет. Почему нельзя было бы себе представить нищую Анжелику, продававшую букет измятых фиалок у выхода из ночного кабаре, в собственном особняке, возле Булонского леса, в литературном салоне? Все могло быть – и для этого было достаточно одного сдвига, потерявшегося в далеком прошлом, который мог совершенно изменить любую человеческую жизнь, – сдвига во времени или в обстоятельствах, в мгновенном и непостижимом соединении тех или других условий, – того, о чем писал Артур в заключительных строках воспоминаний Ланглуа.
Андрей пришел ко мне попрощаться, – он уезжал в Сицилию. Он явился утром, и я обратил внимание на его задумчивый вид.
– В какие размышления ты погружен? – спросил я.
– Прежде всего о Мервиле, – сказал он. – Какое счастье, что он остался жив! Его поведение меня не удивило, но кто из нас действовал бы как он?
– И этого человека ты хотел испугать той опасностью, которая ему будет угрожать, если он не расстанется с Лу.
– Теперь опасности, может быть, больше нет. Если не говорить о возможности того, что через некоторое время Мервиль опять поймет, что и это была ошибка.
– Я думаю, что на этот раз это не ошибка. Всему есть предел, Андрюша, и мне кажется, что Мервиль дошел до этого предела. Все рано или поздно кончается – и эмоциональные блуждания тоже. Мервиль никогда не был Дон Жуаном.
– Он скорее похож на Дон Кихота. Вот ты только что сказал, что все кончается. Ты видел сегодняшнюю газету?
И он показал мне третью страницу утреннейгазеты. Мне сразу бросился в глаза заголовок: «Поль Клеман, осужденный на двадцать лет тюремного заключения за убийство его бывшего хозяина, повесился в своей камере».
– Бедняга! – сказал я.
– Тебе его действительно жаль?
– Все-таки жаль, – сказал я. – Ты подумай, Андрей: какая убогая жизнь, какая душевная нищета, и как это, в конце концов, печально. Я только недавно вспоминал о нем и думал, что, измени те условия, в которых он жил, перенеси его в другую среду – и он мог бы стать банкиром или ростовщиком, кто знает? Судьба к нему отнеслась жестоко. И он расплачивался за убийство, в котором не был виновен.
– Мы с тобой об этом говорили, – сказал Андрей, – я бы его посадил в тюрьму без всякого обвинения в убийстве, за избиение маленьких детей. Этого простить нельзя.
– Тут я с тобой согласен. Но что ты хочешь? У меня смутное сознание какой-то вины за то, что произошло. Да, я знаю, что это трудно обосновать, но я не могу от этого отделаться. Это вроде того позднего сожаления и раскаяния, которое я испытываю, когда думаю о Жорже.
– Никто из нас ничего дурного ему никогда не сделал.
– Да, конечно. Но сказать, что он встречал с нашей стороны дружеское расположение и понимание, тоже нельзя – и смерть сделала это непоправимым, А теперь… Мы даже не знаем, кто его убил. Может быть, впрочем, это когда-нибудь все-таки выяснится.
– Не думаю, – сказал Андрей. – Это одно из распространенных заблуждений, что убийцу всегда находят. Далеко не всегда. Сколько остается нераскрытых преступлений?
– Я знаю. В конце концов, достаточно, чтобы о связи или знакомстве убитого с убийцей не было известно, это первое. Второе – отсутствие прямой заинтересованности преступника в убийстве – деньги или, скажем, наследство. В этих условиях и если не было свидетелей, убийцу теоретически найти невозможно.
– Я думаю, что в данном случае это приблизительно так и есть, – сказал Андрей. – Жорж иногда отлучался на несколько дней. Где и как он проводил это время, с кем встречался, неизвестно. Я даже не уверен в том, что его убийца принадлежит к уголовному миру. Против этого говорит то, что не было пропажи денег. Остается предположить, что, судя по всему, это была какая-то дикая месть за то, о чем мы ничего не знаем, со стороны человека, о котором мы не имеем представления. Заключение – причина убийства не выяснена и убийца не найден. Я должен тебе признаться, что мне надо сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, что все это как-то меня касается. Мне кажется, что это бесконечно далеко. Но то, что я так к этому отношусь, ты находишь, может быть, предосудительным?
– Нет, – сказал я. – Ты знаешь, Андрей, я думаю, что природа дала каждому из нас ограниченное число чувств и вне этого предела мы реагируем на то, что происходит, значительно слабее, чем этого было бы можно ожидать. Не потому, что мы хороши или плохи, а оттого, что у нас на это нет душевной силы. Ты прилетел первым аэропланом из Сицилии, когда узнал, что Мервиль ранен, и я не сомневаюсь, что для него ты сделал бы все что мог и ничего не пожалел бы. Но это Мервиль. А что тебе Клеман, и – в конце концов – что тебе Жорж, хотя он был твой брат?
– Да, и как это ни странно, на тебя все это произвело бблыпее впечатление, чем на меня.
– Может быть, потому, что у меня иногда бывает пагубная склонность к мрачным размышлениям и обобщениям. И когда я думаю о некоторых вещах, это лишний раз напоминает мне, насколько все иногда может быть трагично и непоправимо. И надо бы подальше уехать от всего этого, например в Сицилию. В этом смысле ты прав. Я к тебе как-нибудь приеду. Хорошо?
– В любое время, – сказал Андрей. Он крепко пожал мне руку – раньше его рукопожатие никогда не было таким, мне всегда казалось, что у него слабые пальцы, – и Запел.
В тот день, когда Андрей был у меня перед отъездом в Сицилию, мне нужно было поехать в Латинский квартал, в один из книжных магазинов. Я давно не был в этом районе Парижа, и так как мне было некуда спешить, я начал медленно прогуливаться по этим улицам, которые так хорошо знал. Я проходил мимо гостиниц, в которых снимал комнаты, когда был студентом, мимо антикварных магазинов, которые оставались такими же, какими были много лет тому назад, точно в них остановилось время, застывшее в формах старинной мебели, на отполированной поверхности столов с изогнутыми ножками, на тусклой бронзе канделябров, мимо ресторанов, где мы обедали с Мервилем, Артуром и Андреем. Я прошел мимо дома, в котором жила Сабина и у выхода из которого я ждал ее столько раз. Эвелина жила тогда в этом же районе, на улице, проходившей вдоль Люксембургского сада. Все это было, казалось, бесконечно давно. Я вспомнил наши бурные споры о литературе и возмущение Мервиля, когда я как-то сказал, что стихи Верлена иногда напоминают мне дребезжащую музыку механического пианино: как ты можешь это говорить? возмутительно! позорно! – летние предрассветные часы, когда мы возвращались домой с Монпарнаса, Эвелина, Мервиль и я; Эвелина шла между нами, положив руки на наши плечи, и время от времени мы поднимали ее и несли некоторое расстояние, и мне показалось, что я опять слышу ее тогдашний смех. Я вспомнил ночи, которые мы просиживали в кафе, пиво и луковый суп, печальное лицо Андрея и тот вечер, когда Артур пришел в смокинге и коричневых брюках, потому что все остальное он проиграл в карты, попав в компанию каких-то мелкотравчатых шулеров. – Как хорошо, что у тебя нет состояния, – сказал ему Жорж. – Почему? – Потому что ты бы его проиграл. – Это неважно, – сказал Артур. – Пойми, что сумма, сама по себе, не имеет значения, будь это миллион или десять франков. Самое главное – это ощущение, это вторжение в неизвестность, это шаг в будущее, вот что такое игра. Ты переворачиваешь карту, поставив на нее все, что у тебя есть, и вот на этом куске картона возникает изображение, символический знак, полный таинственного смысла – триумф или поражение, богатство или бедность. Ты хочешь меня убедить арифметикой, но вдохновение игрока ее не знает. – И поэтому на тебе смокинг и коричневые штаны, – насмешливо сказал Жорж. – Какое это имеет значение? – ответил Артур, пожав своими узкими плечами. – Костюм мы тебе все-таки купим, – сказал Мервиль, – потому что в таком виде, как сейчас, ты компрометируешь Эвелину.
В тот вечер мы долго гуляли с Мервилем по улицам Латинского квартала. Он заговорил об Артуре.
– Как все это нелепо и глупо, эта его упорная страсть к игре!
– Нелепо – может быть. Глупо – этого нельзя сказать, это понятие сюда не подходит. Это страсть. Мы с тобой ее понять не можем, потому что она нам чужда.
– Когда я попадаю в казино, где играют в рулетку, – сказал Мервиль, – это наводит на меня смертельную скуку.
– Я тоже не понимаю соблазна азартной игры. Но не надо, мне кажется, заблуждаться: может быть, мы не понимаем этого не потому, что мы умнее Артура, ум здесь ни при чем, а оттого, что мы душевно беднее его. Но Жорж прав: если бы у Артура было состояние, он бы его проиграл.
– Да, и с точки зрения Жоржа это была бы катастрофа. Но Артур об этом не жалел бы.
– Но через какие волнения он бы прошел! Одно это может заполнить человеческую жизнь.
– Не мою, – сказал Мервиль.
– Тебе это не нужно, у тебя есть другое, твой лирический мир.
– А у тебя?
Мы не заметили, как дошли до бульвара Араго. Сквозь густую листву его деревьев проходил свет уличных фонарей, становясь бледно-зеленым, и в вечернем воздухе это напоминало лес, освещенный луной.
– У меня? – сказал я. – Я вспоминаю стихотворение моего друга, поэта, в котором он говорит о трех страстях – женщины, карты, вино. Что есть еще, что влечет к себе человека? Стремление к власти и политика? Я этому чужд. Слава или просто известность? Это тоже многого не стоит. Религиозное призвание – Франциск Ассизский, блаженный Августин, святой Юлиан? Мимо этого нельзя пройти равнодушно, но кому дано повторить со всей силой убеждения эти слова – «сестра моя смерть» – или проникнуться до конца тем, что сказано в трактате о благодати? Или поверить в непогрешимую мудрость, скажем, католической церкви и ее предписаний?
– Но отрицать величие христианства ты не можешь. – Нет, конечно. Но в его истории непогрешим был только Христос. И когда я слушаю самую убедительную проповедь священника, у меня неизменно возникает одна и та же мысль: я могу судить обо всем с таким же правом, как он. Это мысль крамольная, и с точки зрения церкви я плохой христианин. Значит, не религия. Что остается? Стремление к богатству и поклонение деньгам, как у Жоржа? У меня этого нет, мне это так же непонятно, как страсть к азартной игре.
– Ты видишь, – сказал Мервиль, – судьба не оставляет нам возможности выбора. И тебе и мне суждено пребывание в лирическом мире. С той разницей, что ты хочешь его понять и анализировать, а я принадлежу только одному чувству, тому, которое я испытываю.
Когда я проснулся на следующее утро, был уже одиннадцатый час. Выпив чашку черного кофе, я подошел к телефону, так как мне казалось, что мне надо кому-то позвонить, что я обещал это сделать. И только через несколько секунд я понял, что никому я не давал этого обещания и никому не должен звонить. И, не думая ни о чем, я набрал номер Эвелины.
– Алло? – сказала она с вопросительной интонацией.
– Я очень давно тебя не видел, – сказал я.
– Как странно, – ответила она, – я думала об этом же. И я хотела предложить тебе одну вещь.
– Я тебя слушаю.
– Пригласи меня сегодня вечером ужинать.
– Прекрасно, – сказал я, – куда? В котором часу?
– Ты помнишь итальянский ресторан на маленькой улице возле площади Сан-Сюльпис? Я буду там к восьми часам вечера.
– Хорошо, буду тебя ждать.
Когда я подъехал к ресторану, о котором говорила Эвелина, было без десяти восемь. Был ясный и холодный вечер. Ожидая ту минуту, когда я ее увижу, я ощущал давно забытое физическое и душевное томление. Я видел перед собой ее лицо, ее синие, то далекие, то приближающиеся глаза, ее голое тело, такое, каким оно было в моем недавнем сне, – и я вспомнил ее слова: «медлительная сладость ожидания». И уже в тот вечер, когда мы все были в ее кабаре и она спросила меня, о чем я думаю, по звуку ее голоса, по выражению ее лица, по улыбке, раздвигавшей ее влажные губы, я знал, что ничто не может остановить это движение или предотвратить то, что не могло не произойти. Но в этом томлении было еще одно – ощущение, что это именно то, что должно быть, и что я не могу ошибиться, как не может ошибиться она, и это создавало впечатление какой-то горячей прозрачности. Я знал, что ни ей, ни мне не нужны были ни слова, ни объяснения, потому что в том мире, который неудержимо приближался к нам, они теряли свое значение и вместо них возникало движение чувств, вздрагивавших, как флаги на ветру. И все, что было до сих пор, эти годы бесплодного созерцания и неподвижности, печаль, которую я испытывал, ощущение усталости, которое я так хорошо знал, сознание, что нет вещей, которых стоило бы добиваться, все это было обманчиво и неверно, это было длительное ожидание возврата в тот мир, в котором возникала Эвелина – такая, какой она никогда не была до последнего времени и какой она была создана.
Мне было жарко и хотелось пить – так, точно это были летние сумерки моего сна об Эвелине, а не холодный вечер парижской зимы. Я стоял у входа в ресторан, расстегнув пальто, когда подъехало такси, из которого вышла Эвелина. Она протянула мне свою руку в кольцах, и, не давая себе отчета в том, что я делаю, я обнял ее за талию.
– Ты с ума сошел, – сказала она непривычно медленным голосом, повернув ко мне лицо со смеющимися глазами. – Тебя не узнать, мой милый. Что с тобой? Неужели ты вдруг забыл то, о чем ты всегда говоришь, – что все трагично и непоправимо?
– К счастью, не все и не всегда.
Ее глаза на секунду потемнели, и я почувствовал сквозь ее шубку движение ее тела под моей рукой. Потом она засмеялась и сказала:
– Но мы все-таки поужинаем? Я должна тебе признаться, что я голодна.
Когда мы сели за стол, я налил вино в бокалы и сказал:
– За что мы будем пить, Эвелина?
– За мое воплощение, – сказала она.
Я смотрел, не отрываясь, на ее блестящие глаза и изменившееся лицо.
– Ты знаешь, что я думаю, Эвелина?
– Что?
– Что чувства иногда опережают события.
– В одной из твоих прошлых жизней ты был женщиной. Потому что эта мысль скорее характерна для женщины, чем для мужчины.
– Мне кажется, что в какие-то минуты, минуты счастливой и полной близости, мы теряем себя в блаженном растворении и больше не остается этого разделения между нами, ты понимаешь? Может быть, не совсем до конца, но почти?
– Но если бы не было этого разделения, то не могло бы быть того блаженного растворения, о котором ты говоришь.
– Ты знаешь, – сказал я, – когда я приехал сюда и тебя еще не было, я впервые за последние годы почувствовал, что как будто кто-то снял тяжесть с моих плеч и что я опять такой, каким я был раньше. И этим я обязан тебе, твоему воплощению, за которое мы пьем, твоей последней метаморфозе.
– Я хотела бы тебе сказать так много, что у меня на это не хватило бы целого вечера. Но я не могу говорить. Может быть, потом, хорошо?
Мы вышли из ресторана. Узкая улица была тускло освещена.
– Ты помнишь, Эвелина… – сказал я.
– Я ничего не помню, – ответила она. – Я ничего не помню, но я все знаю.
Я остановил такси, и, когда я сел рядом с Эвелиной, я увидел на ее глазах слезы.
– Ты огорчена? – спросил я.
– Нет, – ответила она, – я счастлива.
Позже, глубокой ночью, лежа рядом со мной, охватив мою шею рукой и глядя в мои глаза, она сказала:
– Ты знаешь, что я продала свое кабаре?
– Хорошо сделала, – сказал я. – Когда?
– Все было кончено вчера, я не хотела это откладывать, я знала, что я увижу тебя сегодня вечером и что это будет началом моей жизни. Я знала, что это не могло быть иначе. Ты ни о чем не жалеешь?
– Я жалею о том, что это не произошло раньше, – сказал я.
– Раньше? – сказала она. – Раньше, мой дорогой, нас не было, ни тебя, ни меня, – таких, какие мы теперь.
– Я хотел тебя спросить еще об одном, – сказал я. – Ты помнишь, через несколько дней после того, как оперировали Мервиля, когда мы сначала были в клинике, а потом пошли обедать в ресторан – ты, Андрей, Артур и я, ты говорила о Лу. Андрей тебя спросил, почему ты так уверена в правильности твоего суждения о ней, и ты ему ответила: потому, что я женщина, и потому, что я знаю, что такое настоящее чувство. Но вся твоя жизнь вплоть до этого дня доказывала, что ты не могла знать настоящего чувства. Почему ты это сказала?
– Сегодня вечером ты сам ответил на этот вопрос, – сказала она. – Потому что чувства иногда опережают события и потому что тогда я уже знала то, что ты знаешь теперь.
Когда Эвелина заснула, я долго смотрел на ее лицо с закрытыми глазами. Оно стало другим, и на нем было, как мне показалось, выражение почти торжественного спокойствия. Я смотрел на него, и теперь я понимал то, что не доходило до меня раньше: что я ждал этого вечера и этой ночи все последние годы моей жизни. Все мои воспоминания, все события этих месяцев – убийство Жоржа, превращение, которое произошло с Андреем, роман Мервиля и трагическая его развязка, выстрелы Лу и труп Канелли, самоубийство Клемана, книга Артура, «Fleur de Nuit» и Анжелика – все это сейчас бледнело и растворялось, и из всего этого, пройдя сквозь эти жизни разных людей и их судьбы и остановившись наконец в своем бурном движении, передо мной возникла Эвелина в ее последнем воплощении, которого я ждал столько лет.
Она проснулась, открыла глаза и, встретив мой взгляд, сказала:
– Почему ты так пристально смотришь на меня? О чем ты думаешь?
– О том, что я когда-нибудь напишу о тебе книгу, – сказал я.
Выступления на радио «Свобода»*
Русская поэзия на французском языке*
Антология под редакцией Эльзы Триоле. В ней представлены на двух языках – русском и французском – 94 поэта, от Ломоносова до Ахмадулиной. Выход этой книги был приурочен к приезду в Париж девяти советских поэтов. Вечер советских поэтов происходил в огромном «Mutualite». Эльза Триоле, маленькая старушка с мертвым лицом и потухшими глазами, произнесла по-французски с русским акцентом, от которого она не избавилась за сорок лет пребывания во Франции, вступительное слово, посвященное главным образом соображениям о трудности перевода русских стихов на французский. Потом Сурков по-русски обратился к аудитории и к Эльзе Триоле с умиленными восклицаниями, как профессиональный актер во время своего бенефиса. Потом началось чтение. Французские артисты читали русские стихи в переводе, а затем присутствующие поэты читали их по-русски. Луи Арагон, писатель и муж Эльзы Триоле, прочел отрывки из своего перевода «Евгения Онегина».
Все это носило, к сожалению, скорее политический, чем чисто литературный характер. Да… И три тысячи человек, собравшихся в зале «Mutualite», конечно, не состояли исключительно из знатоков и ценителей поэзии.
Это была скорее, как говорится, прогрессивно настроенная аудитория.
Строго говоря, почти все прочитанные стихотворения были среднего качества. Несколько выше этого уровня были стихи Вознесенского. Но это тоже все-таки нечто вроде запоздалого футуризма. Стихи Твардовского к чистой поэзии имеют отдаленное отношение по их тематике, но они прекрасно сделаны, так сказать, технически.
Самое лучшее стихотворение прочла Ахмадулина. К сожалению, читает она очень скверно. Ее чтение похоже скорее на жалобный крик, содержанием стихов совершенно не оправданный.
Но и другие поэты, за исключением опять-таки Твардовского, читали плохо. Это нечто среднее между так называемым актерским чтением и чтением ритмическим, то есть поэтическим. Когда-то Тургенев говорил Флоберу о Пушкине, и Флобер попросил его перевести ему что-нибудь. Тургенев перевел одно из лучших стихотворений Пушкина «Я вас любил». И Флобер сказал: «Но это плоско – то, что он пишет». Тургенев был прекрасным переводчиком, это несомненно. Пушкин – великий поэт, и это тоже не вызывает никаких сомнений. Но дело в том, что передать на французском языке русский поэтический гений, надо полагать, невозможно или, во всяком случае, необыкновенно трудно. Как можно по-французски передать это движение русских гласных, которых нет во французском языке, эти смещения ударений, которые есть в английском и немецком языках, но которых нет по-французски, где ударение всегда на последнем слоге? И это только чисто фонетическая сторона.
Что же можно сказать о непереводимых глагольных формах, о последовательности времен, подчиняющихся во французском языке железным и неизменным правилам, о падежах, которых нет по-французски? И чтение переводов, составляющих содержание антологии, всё это только подтверждает. Не хочу быть голословным. Привожу одну строфу из «Незнакомки» Блока по-русски и по-французски:
А вот как это звучит по-французски:
Правда, перевод плохой. И неточный. Но дело даже не в этом, а в очевидной невозможности перевести Блока на французский язык. Таких примеров можно привести сколько угодно. Из них состоит вся книга. Почему, например, в антологии помещен Федор Глинка, поэт ничем не замечательный и которого знают, по обязанности, только литературоведы? Почему Рылееву уделено больше места, чем Тютчеву? Рылеев был декабристом, человеком большой душевной чистоты, и трагически погиб. Все это верно. Но поэтом он был плохим. Если бы в антологии не было, скажем, Суркова и Исаковского, то от этого она тоже ничего не потеряла бы. В книге помещена обстоятельная статья Эльзы Триоле о трудности переводов русских стихов на французский язык. Если бы вся антология была составлена для того, чтобы подтвердить неопровержимым образом эту истину, то тогда, надо сказать, издание это следовало бы считать блестящей удачей. Но если издательство Seghers ставило своей целью дать французскому читателю представление о русской поэзии, то тогда нужно констатировать, что эта попытка кончилась неудачей. Иначе это быть не могло. Конечно, то, что Сурков или Соснора переведены плохо, – это не беда. Но когда речь идет о Пушкине, о Тютчеве, о Блоке, то, если допустить, что это русское поэтическое волшебство можно передать по-французски, их стихи должен был бы переводить прекрасный французский поэт, знающий вдобавок в совершенстве русский язык. В числе переводчиков антологии под редакцией Эльзы Триоле такого поэта нет.
Из выступления на торжественном собрании по случаю 85-летия Б. К. Зайцева*
– Я принадлежу к числу тех, кто начал писать уже за пределами родины, кто сформировался здесь, кто учился и слушал лекции на чужом языке. В этом есть и положительная, и отрицательная сторона. Отрицательная – это опасность невольного и вынужденного удаления от русской языковой стихии и от русской литературы. И вы, Борис Константинович, сыграли для нас, для людей моего поколения, благотворную и спасительную роль. Все ваше литературное творчество – неподдельно русское… Все ваше творчество было для нас живым напоминанием о том, чего нам не следует забывать, возвращением нас к русской литературе, в историю которой давно вошло ваше имя. И этого не может изменить никакое пребывание в изгнании…
– Вы – наш старший современник, свидетель трагических событий, участниками которых были и мы. Вы, Борис Константинович, продолжали жить в вашем собственном мире, в котором было то, чего нам так не хватало, чего нам не было дано судьбой – понимания, созерцательного понимания вечных истин и веры в мудрость Того, в чьих руках судьбы человечества… Все это нашло отражение в вашем творчестве… Ваша литературная судьба была для нас уроком, которого мы никогда не забудем и за который мы вам будем всегда благодарны…
– Я хотел бы отметить еще одну вещь, характерную для вашего творчества и для вашей жизни. Я не представляю себе обстоятельств, при которых вы могли бы не оказаться за границей, обстоятельств, при которых вы могли бы пойти на сделку со своей собственной совестью, на компромиссы в том, что касается ваших убеждений и вашего мировоззрения. Вы знали, что в эмиграции вас ждет трудная и необеспеченная жизнь… Ведь не могло быть ничего более несправедливого, чем то, что человек с вашим именем и вашими литературными заслугами должен был жить здесь, в Париже, без твердой уверенности в завтрашнем дне, без той обеспеченности, на которую вы имели право. Обо всем этом вы знали заранее, и вы безо всякого колебания и сомнения пошли на это многолетнее литературное подвижничество. Это тоже урок нам, и это тоже никогда не будет забыто… Вам, Борис Константинович, удалось прожить долгую жизнь, не заслужив ни одного упрека, не поступившись ни одним своим принципом, с неизменной благожелательностью относясь ко всем. И за это вам тоже наша благодарность…
Андреа Каффи*
С Андреа Каффи, по-русски – Андреем Ивановичем Каффи, я познакомился в Париже в тридцатых годах у одного русского писателя, долго жившего в свое время в Италии. Он пригласил меня ужинать и сказал, что другим его гостем будет один очень милый итальянец. Когда я пришел вечером, я увидел высокого человека с длинными волосами, был ему представлен и фамилии его не разобрал. Продолжая свой разговор с хозяином дома, этот человек сказал:
– Мне как-то недавно нужно было перевести на русский язык несколько страниц Бёме, и я пришел к заключению, что текст Бёме лучше получается не на современном русском языке, а на том, каким писал, например, протопоп Аввакум. Со стороны это может показаться манерничанием или стилизацией, но, уверяю вас, это звучит гораздо более естественно.
– А где же итальянец? – спросил я жену хозяина.
– Это он и есть, – сказала она. Тогда я обратился к нему:
– Простите, пожалуйста, вы действительно итальянец?
– Да.
– Извините меня за настойчивость, ваш родной язык итальянский?
– У меня, собственно, два родных языка, – сказал он, – итальянский и французский. Мой отец – итальянец, моя мать – француженка.
– Но вы, вероятно, кончили университет в России?
– Нет, университет я кончил в Гайдельберге.
– Но ваше знание русского языка?
– Объясняется тем, что я учился в Реформаторском училище в Петербурге, где долго жили мои родители.
– Так что ваша специальность – это европейские языки?
– Как вам сказать, нет, моя специальность это история – Эллада, Византия, греческий язык, латынь.
– Сюда не входят ни Бёме, ни протопоп Аввакум, – сказал я, улыбаясь.
– Ну да, но Бёме и Аввакум – это вроде таблицы умножения.
Я впоследствии ближе познакомился с Каффи. Он был человеком редкого душевного очарования. Я никогда не мог понять, откуда он знал столько вещей. Память его отличалась необыкновенной силой и гибкостью. Но когда он успел все это изучить и запомнить? Он мог сказать, не задумываясь, какая разница между утверждениями Тартульяна в его первых трудах и позднейших произведениях; цитировать трактаты блаженного Августина; отметить, что в «Евгении Онегине» упоминается теория физиократов; он помнил содержание страсбургской клятвы, и его познания в биологии или зоологии были не менее удивительны, чем то, что он знал о живописи, литературе, истории и философии. Он знал греческий язык так же, как русский, латынь, как немецкий, французский или итальянский. Самым неожиданным, однако, мне казалось то, что этот удивительный человек занимался политикой и редактировал еженедельную газету, выходившую в Париже на итальянском языке.
Он был эмигрантом, и это слово было приложимо к нему в большей мере, чем к кому бы то ни было другому – он был непримиримым противником Муссолини, которому, как он говорил, готов простить его дурной вкус, но не мог простить фашизма.
Но он был эмигрантом и из России, по сравнению с тогдашним режимом которой итальянский фашизм казался чем-то идиллическим.
Каффи ненавидел некоторые идеи и концепции, но к людям относился скорее снисходительно. Мы как-то проходили с ним по Латинскому кварталу На стенах была расклеена пространная декларация только что сформированного правительства, написанная очень напыщенным языком и состоявшая из общих мест и невыполнимых обещаний – справедливое распределение доходов, понижение налогов, экономическое оздоровление. Декларация была подписана премьер-министром, который по профессии был историком.
– Я его знал, – сказал Каффи. – Он вполне нормальный человек, и, конечно, в своих лекциях не позволил бы себе и одной из тех глупостей, из которых составлена его декларация. Но что вы хотите, он не может в данном случае действовать иначе, – где вы видели умно составленную правительственную декларацию?
Мы были как-то с Андреем Ивановичем на литературном вечере, где один из наших общих знакомых – русский поэт и писатель – читал отрывок из своего исторического романа, действие которого происходило во втором веке Рождества Христова. Римские герои в тогах и котурнах действовали в этом романе величественно и торжественно. В одном из отрывков описывалось сожжение императора на костре, и, по словам автора, было слышно, как шипело в огне расплавленное золото его короны. В другом отрывке – римский сенатор смотрел на танец обнаженной вакханки и думал о том, как мерно вращается кровь в ее прекрасном теле.
Каффи только покачал головой.
– Температура плавления золота выше тысячи градусов, как вы знаете, – сказал он. – Римский сенатор не мог думать о кровообращении, так как римляне, как вы знаете, считали, что кровь неподвижна, и кровообращение, как вы знаете, было открыто Харвеем в семнадцатом веке.
В известном смысле Каффи несколько напоминал мне одного из тех героев фантастического романа, которые пересекают столетия, как другие люди проходят через годы.
– В конце концов, мадам Рекамье поняла, что такое настоящая любовь, только тогда, когда встретила Шатобриана, – сказал ему как-то один из его собеседников.
– Да, если хотите, – ответил Каффи, – но не забывайте, что в те времена Шатобриан был гораздо более склонен к размышлениям о вечности, чем к той эмоциональной энергии, которая прославила Казанову или герцога Лозанна.
Все эти люди, их биографии, их письма, высказывания, книги – об этом Каффи говорил, как их современник; всю свою жизнь он точно шел по бесконечной галерее исторических портретов. Он чувствовал бы себя – казалось мне – совершенно свободно и естественно в Риме императора Клавдия, в Афинах, в Византии, во Флоренции пятнадцатого или шестнадцатого столетия, в России семнадцатого века, во Франции герцога Сен-Симона, в Англии – Елизаветы и Бэкона.
Единственная эпоха истории человечества, где он был как-то роскошно неуместен, это было то время, в которое он действительно жил, те годы, когда мы его знали.
Он занимал маленькую комнатку в одной из гостиниц Латинского квартала, перегруженную книгами на всех языках. Я всегда заставал его за чтением.
– Что это вы читаете, Андрей Иванович?
Это мог быть современный роман на любом языке, или философский трактат по-латыни, или, наконец, любимые его книги – Геродот.
Во время войны и оккупации, все эти четыре бесконечных года я Андрея Ивановича не видел и не знал, где он. Но когда война кончилась, он вновь появился в Париже, где я его встретил в Латинском квартале.
Он был все таким же, как раньше: казалось, что время бессильно перед ним – он никогда не был ни стар, ни молод. Но война для него не прошла бесследно. Я узнал, что он принимал участие в Движении Сопротивления, в районе Тулузы, где он тогда жил. Сам он никогда не говорил об этом. В нем появилось нечто новое, чего не было до этих лет: враждебное презрение к тем, кто испытывал прогитлеровские или просоветские симпатии. Но это даже не носило характера чисто политического порицания. Это было именно презрением, обычно Каффи чуждым, но в конце концов понятным со стороны человека, не допускавшего в известной области никаких компромиссов. В свое время, после революции, Каффи представлял Италию в Москве. Но когда к власти пришел Муссолини, Каффи немедленно отказался от своего поста и уехал в Париж, где потом много лет вел трудную и бедственную жизнь политического эмигранта.
Я однажды сказал ему, что не понимаю, как такой человек, как он, может заниматься политикой. Это было еще в тридцатых годах.
– Почему Вы находите это удивительным?
– Мне кажется, для того, чтобы иметь очень определенные политические убеждения и быть уверенным в их превосходстве над другими, нужно чаще всего то, что французы называют храбростью невежества. Но вы историк, вы знаете лучше других недолговечность и несоответственность так называемых политических и экономических доктрин и теорий. Вы знаете, кроме того, что политика – это удел людей, которым трудно выдвинуться в других областях, так как у них для этого нет данных – опять-таки, конечно, не всегда, но часто. И наконец, по своей природе политика – это низшая сфера человеческой деятельности. Вот почему мне кажется странным, что она Вас занимает.
– Можно политику понимать по-разному, – сказал Каффи. – Я лично склонен думать, что правильное понимание политики как необходимости защищать тех, кто сам не может или лишен возможности защищаться. Но оставим эту тему. Над чем Вы теперь работаете?
В последние годы своей жизни Каффи, однако, меньше уделял внимания политике, чем раньше; он больше занимался литературой, давая критические отзывы о книгах в одном из парижских издательств. Читал он с необыкновенной быстротой и все сразу запоминал. Это давало ему возможность проделывать огромную работу в сравнительно короткое время. И когда я думаю о Каффи, он возникает передо мной всегда в одной и той же обстановке: комната гостиницы в Латинском квартале и Андрей Иванович, окруженный книгами.
Я узнал о его смерти за границей, в Германии. И в тот день мне казалось, что человечество стало беднее и эта утрата непоправима.
О нашей работе № 2*
Ведущий. У микрофона – Георгий Черкасов…
Черкасов. Уважаемые товарищи, в нашей программе, которая называется «Перед занавесом», мы передавали в течение последних недель воспоминания Ивана Алексеевича Бунина о его современниках – Алексее Толстом, Горьком и других писателях и поэтах.
Сочинения Бунина, как известно, издаются в Советском Союзе, но со значительными сокращениями и вырезками. Но его «Воспоминания» по-прежнему остаются под запретом. Именно поэтому мы хотели ознакомить с ними советских слушателей. Я лично знал Бунина – и помню его высказывания, которые нередко отличались резкостью и казались спорными. Такое впечатление создается у тех, кто читал его «Воспоминания». Но надо сказать, что в действительности и, как говорится, в глубине души, Бунин гораздо мягче относился к тем, о ком он писал. У него был необыкновенный изобразительный дар – и он иногда им увлекался, и получалось, что его описания оказывались слишком карикатурными, и тот или иной его современник был представлен чуть ли не как последний глупец. Надо сказать, что к проявлениям человеческой глупости Бунин действительно относился нетерпимо. Но, во всяком случае, было это написано талантливо и с тем литературным мастерством, которое у Бунина так ценил Горький и равного которому в русской литературе последних десятилетий просто не было. Кроме того, Бунин не любил легенд, которые, например, создавались вокруг Алексея Толстого или Маяковского, – и разрушал их беспощадно.
На следующей неделе в программе «Перед занавесом» будет еще одна передача, посвященная воспоминаниям Бунина. После этого в новой серии передач будет книга Георгия Викторовича Адамовича, которая называется «Комментарии». Об этой книге и ее авторе мне хотелось бы сказать несколько слов.
Георгий Адамович – поэт и литературный критик. Как поэт, он современник Гумилева, Мандельштама, Георгия Иванова, Блока, Ахматовой, которых он близко и хорошо знал. Всю свою зарубежную жизнь он провел в Париже, где и живет в настоящее время. Он один из лучших знатоков русской поэзии и литературы и человек европейской культуры – в том смысле, в каком к европейской культуре принадлежали все лучшие русские писатели девятнадцатого и начала двадцатого века. Его книгу «Комментарии» следует признать одной из замечательных книг в этом виде литературного искусства, том, которое определяется французским словом «essai». Это не критика в буквальном смысле слова и не литературное исследование, и это совершенно непохоже на так называемые литературоведческие труды, которых так много выходит в Советском Союзе и за границей и читая которые невольно вспоминаешь жестокие слова Толстого: «Критики, это глупые, которые пишут об умных». «Комментарии» Адамовича – это рассуждения о судьбе религии, о Достоевском и Толстом, о вечных темах, о русской и европейской литературе. Что следует подчеркнуть, это то, что Адамович, будучи человеком блестящей культуры, непогрешимого литературного вкуса и той свободы взглядов и идей, проявления которой в условиях советской цензуры оказались бы невозможными, – Адамович пишет обо всем, что его интересует, так, как это может позволить себе только человек с острым аналитическим умом и редкой в наше время литературной эрудицией, не стесненной никакими ограничениями и канонами. Как известно, история русской литературы – как она преподается в Советском Союзе и как она преподавалась в царское время – грешит грубыми ошибками – Гоголь – основатель натуралистической школы, Белинский – великий критик, и так далее – вплоть до злополучного социалистического реализма. История русской литературы в представлении Адамовича – это нечто совершенно другое, и я думаю, что по сравнению с тем, что пишется о литературе в Советском Союзе, – она открывает новые горизонты – говорю это, не боясь впасть в преувеличение.
Федор Степун*
Пять лет тому назад, 23 февраля 1965 года в городе Мюнхене в возрасте восьмидесяти одного года умер Федор Августович Степун – известный немецкий профессор, за несколько лет до того оставивший кафедру мюнхенского университета. Этот немецкий профессор был русским философом, эссеистом, критиком и писателем – подобно тому, как английский профессор сэр Поль Виноградов был русским историком, и итальянский профессор Венчеслас Иванов был знаменитым в свое время русским поэтом. И как Вячеслав Иванов, Федор Августович Степун был одним из последних представителей так называемого серебряного века русской культуры, то есть первых двух десятилетий двадцатого столетия. Он учился в Москве и в Гейдельберге, был артиллерийским офицером русской армии во время первой мировой войны, политическим деятелем февральской революции, заведовал одним из московских театров – и эта его деятельность в России продолжалась до 1922 года, когда советское правительство выслало его за границу. Он поселился в Германии – и с тех пор та миссия, которую он взял на себя – знакомить Запад с историей и достижениями русской культуры, не прекращалась до его смерти.
В этой его деятельности был, конечно, вынужденный перерыв: во время войны Гитлера ему было запрещено преподавание и он был лишен кафедры. Иначе быть не могло – о какой культуре, вдобавок русской, могла идти речь при Гитлере? Но после войны деятельность Степуна возобновилась.
Федор Августович Степун был автором многих книг, из которых следует особенно отметить его воспоминания «Бывшее и несбывшееся», сборник статей о Достоевском и Толстом, книгу о русском символизме, литературные очерки «Встречи» – о наиболее выдающихся русских писателях последнего времени, то есть опять-таки того же серебряного века.
Такова – в нескольких словах – биография этого удивительного человека. Но как всегда, простое перечисление главных фактов его жизни и этапов его неутомимой деятельности не может дать сколько-нибудь полного представления о человеке, и о Степуне меньше, чем о ком-либо другом. О Степуне, авторе таких-то книг, русском философе и эссеисте можно, конечно, судить по его литературным трудам. Но Степун, как человек и как явление, это другая тема, не менее интересная и, несомненно, более колоритная. Прежде всего у Федора Августовича Степуна был исключительный ораторский и актерский дар. Никто никогда не скучал ни на его лекциях, ни на его докладах. Все, что он говорил, всегда было интересно, и его безошибочная ораторская интуиция всегда подсказывала ему именно то, что нужно было сказать, и именно так, как нужно было сказать. Даже тогда, когда он допускал в своей речи своеобразную игру слов, даже это было приемлемо.
– Русские эсдеки, – сказал он как-то в одном из своих выступлений, – не видели действительности такой, какой она была. Можно было подумать, что у них не было глаз. Вместо глаз у них были точки зрения.
Но такие ораторские эффекты он позволял себе сравнительно редко. Он отличался прекрасной памятью – и так как он лично знал большинство сколько-нибудь выдающихся своих современников, то его рассказы о них, если бы они были записаны на пленку, – могли бы быть непревзойденным образцом особого искусства – искусства устных мемуаров. Алексей Толстой, Бунин, Белый, Вячеслав Иванов, Горький – все они возникали в его передаче с необыкновенной выпуклостью и ясностью.
Он как-то заметил, что лучшие рассказчики, которых он знал, это Бунин, Горький и Алексей Толстой, которые по его словам, рассказывали лучше, чем писали. Себя в этот список он не включал – и напрасно: он мог бы с честью в нем фигурировать.
То, о чем он всегда говорил с неизменным увлечением, это история русской философии – от Чаадаева до Бердяева, Шестова, Франка, Булгакова. Он мог часами говорить о славянофилах и западниках и даже так называемую религиозную философию – мало подходящую для беседы в гостиной – он умудрялся делать увлекательной. В его изложении все расцветало и приобретало особый интерес, – начиная от высказываний Хомякова и кончая рассказом о том, как Алексей Толстой в Париже одевался, чтобы ехать ужинать в хороший ресторан, хлопал себя по карманам, чтобы убедиться, не забыл ли бумажника, и – как красочно, по обыкновению, выразился Степун – перебирал ногами, как жеребец, которого выводят из конюшни.
Степун жил в Мюнхене – как он жил бы, вероятно, в Рязани или в Тамбове: совершал ежедневные прогулки и два раза в неделю ездил верхом. Верховая езда была его страстью – и когда один из его собеседников сказал ему, что он считает его главным призванием философию, Степун ответил:
– Да, если хотите, но с большими оговорками, прежде всего бытовыми: вы можете себе представить профессионального, так сказать, философа – Бердяева, Шестова, Франка – верхом на лошади? Нелепо. А я?
Но, конечно, на кабинетного ученого он был мало похож. Он любил хорошо и со вкусом жить, был всегда одет с несколько старомодной, но несомненной элегантностью, любил принимать у себя гостей, был чрезвычайно общителен. В своих суждениях о людях отличался неизменной благожелательностью, всегда стесняясь своего несомненного морального превосходства над многими из них. Он всем интересовался, все читал, очень много знал, следил за событиями и в сложной современной жизни чувствовал себя, казалось бы, как рыба в воде. Но вместе с тем, трудно было отделаться от впечатления, что судьба ошиблась, заставив его родиться в конце девятнадцатого столетия. Он скорее подходил к XVI или XVII веку – по широте его интересов и познаний, по тому, что жизнь он воспринимал более полно, чем громадное большинство его современников. Академическая сухая мудрость была ему чужда: он был прежде всего сангвиником.
У него было своеобразное представление об аристократии и о плебейском начале в человеческой природе. Как-то, показывая одному из своих знакомых групповой фотоснимок Центрального комитета, он сказал с восторгом:
– Какая законченность типов! Ведь это как иллюстрация к «Мертвым душам», – дворовые люди. Какая прелесть!
И потом прибавил:
– Не поймите меня превратно: к социальному происхождению это отношения не имеет. Самый настоящий аристократ, которого я знал, это был крестьянский поэт, который ходил в лаптях: более светского и изысканного человека я не видел.
Трудно в нескольких словах набросать портрет Федора Августовича Степуна. Ему нужно было бы посвятить обстоятельную монографию – и это, вероятно, когда-нибудь будет сделано. О чем он никогда не говорил, это о смерти, хотя в своих философских размышлениях он не мог не уделять особого внимания этому неотвратимому вопросу. Но ничто, казалось, не могло быть более чуждо ему, чем те соображения, которые вдохновили создание «Смерти Ивана Ильича» – это была, может быть, одна из тех причин, которые объясняли то, что он недолюбливал Толстого, отдавая, конечно, должное его неповторимому литературному гению. Но эти два слова – Степун и смерть – их как-то нельзя поставить рядом, в этом было что-то неестественное и невозможное. В этом смысле судьба была по отношению к нему милостива, избавив его от болезни и страданий: в зимнюю ночь он вернулся домой из города на такси, расплатился с шофером, вышел из автомобиля, – упал и умер. И в этом мгновенном переходе в другой мир, человека, который прожил такую богатую и полную жизнь, была какая-то непостижимая и естественная справедливость, – если можно говорить о справедливости, когда речь идет о смерти.
Пропаганда и литература*
Некоторое время тому назад мне пришлось говорить с одним иностранным журналистом, который очень жалел о том, что не знает русского языка. Во-первых, потому, что никакой перевод, как бы хорош он ни был, не может передать всего, что есть в оригинале и, конечно, «Война и мир», «Мертвые души» и «Братья Карамазовы» по-французски или по-английски – это все-таки не то, что по-русски. Во-вторых, потому, что он хотел бы иметь возможность читать советскую печать и книги, выходящие в СССР.
– Вторая возможность мне кажется менее соблазнительной, – сказал я.
Мой собеседник был европейски образованным человеком, знал несколько языков, знал историю литературы и философию. Кроме того, у него были довольно значительные познания в области истории. Но вот ему не хватало, по его словам, русского языка. Ему, в частности, хотелось иметь более или менее правильное представление о советской литературе, и он попросил меня изложить ему самые общие соображения по этому вопросу.
– Видите ли, – сказал я, – это не так просто и не так легко, как может показаться на первый взгляд. Если подходить к этому с точки зрения хронологии, то советская литература – это Солженицын и Кочетов, Пастернак, Ахматова, Мандельштам – и Демьян Бедный, Лебедев-Кумач и Михалков. Все они относятся к одному и тому же периоду времени. Лучше заранее наметить предел этих соображений: есть значительное число писателей и поэтов, работа которых определяется такими понятиями, как строительство коммунизма и социалистический реализм, – и есть редкие исключения из этого правила, которые чаще всего или погибли, или гибнут теперь в результате жестоких репрессий и травли. Об исключениях можно говорить в порядке противопоставления их большинству, хотя должен сказать, что именно эти исключения это и есть русская литература. Остальное – литература советская. Теперь разрешите вас спросить: какую цель, по-вашему, ставит писатель, когда он пишет, скажем, свой очередной роман?
– Вы хотите сказать – настоящий писатель, а не автор модных книг или романов, построенных на коммерческих соображениях и спросе литературного рынка?
– Я хочу сказать: настоящий писатель.
– Практической цели, так сказать, непосредственной – никакой. Более отдаленная цель, бескорыстная, если хотите – рассказать читателю нечто, что заставит его задуматься и, может быть, обогатит его понимание мира и жизни тем душевным и психологическим опытом, который составляет основу и смысл написанной книги.
– Вот видите, – сказал я, – если бы вы захотели сказать это в советской печати, вас бы обвинили во всех смертных грехах и буржуазном искажении понятия «литература». Литература, с советско-партийной точки зрения, должна быть прежде всего партийной, то есть пропагандной.
– Да, я понимаю. Но политическая пропаганда – это задача автора передовых статей в газете, а не литератора.
– Я с вами совершенно согласен. Но разрешите поделиться с вами одним личным воспоминанием. Я встретил как-то молодого человека, студента литературного факультета в Москве. Он мне сказал, как он себе представляет роман, который бы он написал. Есть колхоз, в котором работает вредитель и враг советской власти. И вот однажды ему попадается текст речи Сталина на таком-то съезде партии. Он его читает – и после этого понимает свое заблуждение, начинает работать с энтузиазмом и становится ударником. И когда я ему сказал, что это все не имеет никакого отношения к литературе, он был искренно огорчен.
– Это звучит как анекдот.
– Да, но это именно так.
– Я читал как-то, – сказал мой собеседник, – роман Островского «Как закалялась сталь», мне его очень рекомендовали. Но не говоря о том, что думает и что хочет сказать автор, это написано совершенно по-детски, настолько наивно и неумело, что читатель только пожимает плечами. Но мне сказали, что этот роман получил в России очень высокую оценку. Как это возможно?
– Там совершенно другие критерии для оценки литературных произведений – критерии обязательные и партийные. К литературе как таковой это опять-таки отношения не имеет. Не забывайте, что указания даются сверху, и я помню, что не кто иной, как Хрущев, выступая на съезде писателей, сказал, что он считает прекрасной темой для романа тот факт, что в текущем году урожай картофеля превысил столько-то миллионов пудов. Вот о чем следовало, по мнению Хрущева, писать роман. И действительно – сколько в Советском Союзе было напечатано так называемых производственных романов или романов о колхозах. Цель их простая: показать на примере положительных героев, что надо действовать, как они; с энтузиазмом перевыполнять нормы и повышать продукцию. Прибавьте к этому цитаты из постановлений Центрального Комитета, ссылку на такую-то речь очередного секретаря партии и упоминание о заветах Ленина, – вот вам роман и готов. Конечно, не вся советская литература такова, но очень значительная ее часть. Другое – это произведения, тема которых – вторая мировая война. Но и там – вполне определенная цель: книга должна доказывать, что война была выиграна благодаря мудрому руководству партии и мужеству советских воинов, защищавших свою родину и советский режим. В том случае, если автор отступает от этих канонов, он подвергается жестокой критике и роман его обречен.
– То, что вы говорите, и то, как вы это представляете, похоже на карикатуру. Как подобные вещи могут происходить в стране Гоголя и Толстого?
– Я с вами согласен, что это кажется невероятным, но это, к сожалению, именно так. Почему это произошло, это другой вопрос. Цензура всегда существовала в России. Режим Николая I никак нельзя назвать либеральным – достаточно вспомнить участь декабристов. Но все-таки во времена Николая I писали Пушкин, Гоголь, Лермонтов, начинал писать Толстой. Дело в том, что в те времена никакому министру не пришла бы в голову мысль, что он может давать литературные указания, скажем, Тютчеву, Достоевскому или Чехову. Цензура была запретительной. А в советское время партийное руководство объясняет литераторам, что и как они должны писать. «Литература должна быть партийной». Если этот принцип применяется, то в переводе на обычный язык это значит, что литература перестает существовать. Что касается войны, то достаточно вспомнить историческое прошлое, 1812 год. Ни один самый рьяный сторонник монархии никогда не писал, что русские войска воевали против Наполеоновской армии, чтобы защищать крепостное право. А необходимость утверждать, что во время второй мировой войны русские войска защищали будто бы советский режим, это то же самое, что сказать, что в 1812 году защищалось крепостное право.
– Если придавать значение так называемым урокам истории, то следует сказать, что войска страны, подвергшейся нападению, защищаются независимо от того или иного политического режима.
– Вернемся к вопросу о партийности и пропаганде в литературе. Пропаганда, как известно, особенно коммунистическая, состоит из повторения политических лубков, всегда, конечно, крайне примитивных. Литература – это нечто прямо противоположное примитивизму. Представьте себе ученого-математика, который не имеет права не только оперировать логарифмами или терминами анализа, но и вообще выйти за пределы четырех правил арифметики и таблицы умножения. В таком положении находится советский писатель. Если бы завтра в Советском Союзе появился Пруст или Кафка, ни одна книга его не могла бы быть напечатана. Кстати, о Прусте и Кафке. Несколько лет тому назад на международной конференции писателей в Ленинграде кто-то из иностранных гостей спросил председательствующего на собрании Федина, почему в Советском Союзе не переводят и не издают Пруста, Джойса и Кафку. Федин ответил, что не издают потому, что это писатели буржуазного разложения. Тогда кто-то, – кажется Силоне, если мне не изменяет память, – спросил Федина, читал ли он этих авторов. Федин простодупгао ответил, что нет, не читал. Справедливость требует отметить, что с тех пор несколько рассказов Кафки были переведены на русский язык и напечатаны в советских журналах.
– Все это чрезвычайно печально, – сказал мой собеседник. – Но когда употребляют это выражение «советская литература» – теперь мне начинает казаться, что тут речь идет о каком-то недоразумении.
– Недоразумении или фальсификации. Во всяком случае, советская литература ни в какой степени не отражает национального гения русского народа – как это было в XIX веке и вплоть до тридцатых годов нашего столетия. Советская литература отражает культуру – или, вернее, отсутствие культуры и взгляды советской партийной диктатуры. Если вы это примете во внимание, то убожество и несостоятельность этой литературы становятся совершенно естественными. Заметьте, что речь идет не обо всей литературе, а о ее поверхности. Чем могла бы быть русская литература, об этом мы можем судить по книгам, запрещенным в Советском Союзе и проникшим за границу, прежде всего по романам Солженицына. Но над Солженицыным – целая армия малограмотных партийных фанатиков и цензоров. Что вы хотите, если министр культуры Фурцева в ответ на вопрос одного из иностранных журналистов – почему не печатают Солженицына, – ответила: пусть пишет хорошие книги, мы будем их печатать. Конечно, Фурцева это не мадам де Сталь, от нее многого требовать нельзя, но все-таки…
– А что вы думаете о подпольной литературе?
– Если не говорить о таких авторах, как Солженицын или умерший десять лет тому назад Пастернак, то подпольные произведения советских авторов – это литература протеста против существующего строя. Она носит ярко выраженный политический характер, и это вполне понятно. И это, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет радикальных изменений. Когда в стране существует свобода печати, никому в голову не придет мысль писать роман, где доказывается, что писатель должен иметь право говорить то, что он хочет, а не то, что ему предписывают. Но если писатель стеснен во всем, если ему не разрешают выразить ни одной мысли, не одобренной партийными инстанциями, то желание протеста в нем сильнее всего и его подпольные произведения – это обвинительный акт против диктатуры.
– Как, по-вашему, можно себе представить будущее советской литературы?
– Советской или русской?
– Русской, конечно.
– Мне кажется, что эта литература станет русской тогда, когда она перестанет быть советской, то есть пропагандной и партийной. И это – мое личное убеждение – когда она вернется в то западное русло, из которого ее насильственно вырвал режим невежественных фанатиков – как бы они ни назывались: Сталин, Хрущев или Брежнев.
Оценка творчества и испытание временем*
Одного знаменитого писателя во Франции как-то спросили, что он думает о недавно вышедшем романе такого-то автора, романе, который имел большой успех. Считает ли он, что это действительно замечательное произведение? Он ответил:
– Мы будем это знать через пятьдесят лет.
Это звучит как парадокс, но в этом есть значительная доля истины. Сколько литературных произведений было написано, скажем, за последние сто пятьдесят лет? Тысячи и тысячи. Сколько было забыто? сколько книг и авторов, о которых никто не помнит? И сколько книг и авторов осталось в литературе? В начале прошлого столетия говорили: Пушкин и Марлинский. В девяностых годах говорили: Чехов и Потапенко. Кто теперь, кроме историков литературы, знает Марлинского или Потапенко? Известно, что во времена Пушкина были такие поэты, как граф Хвостов или Неведомский, но большинство читателей знает о том, что они существовали, только по эпиграммам Пушкина, только потому, что он написал:
Примеров ухода в небытие огромного большинства писателей и их произведений можно привести сколько угодно – во всех странах. Есть авторы, работавшие всю жизнь, можно сказать, не покладая рук, оставившие огромное количество книг, неутомимые графоманы – и через несколько лет никто не помнил ни одного их произведения. Такими были, например, Боборыкин, Немирович-Данченко, Эренбург – но Эренбурга, совсем недавно умершего, еще не успели забыть, это, вероятно, вопрос недалекого будущего.
Здесь есть – в этом вопросе о том, кто останется в литературе, а кто будет забыт, то есть, в конечном счете, вопросе о подлинной литературной ценности тех или иных произведений или окончательного суждения об их авторах, – здесь есть что-то чрезвычайно трудно определимое. Почему, собственно, одни книги остаются, а другие забываются? Если не говорить о гениях мировой литературы – Данте, Кальдерой, Сервантес, Шекспир, Толстой, – а о писателях, в одинаковой степени достойных внимания, то почему история литературы оказывает предпочтение тому, а не другому? Известно выражение: «незаслуженно забытый». Дело не в оценке читателя, дело в беспощадном суждении времени. Справедливо оно или нет, об этом в некоторых случаях можно спорить. Но одно несомненно: это суждение безвозвратное.
Каким должно быть литературное произведение, чтобы выдержать испытание временем? Ответить на этот вопрос очень трудно. Прежде всего, оно не должно быть похоже на другие. В нем должна быть выражена неповторимая индивидуальность автора. О том, что оно должно быть на высоком уровне мастерства, говорить не приходится, это ясно само собой. Но, может быть, самое главное – это то, что события и человеческие чувства, описанные в нем, отличаются такой глубиной проникновения и понимания, которая захватывает читателя, независимо от того, к какой эпохе это относится и какой национальности герои. Переживания Анны Карениной были понятны в девятнадцатом веке, как они понятны сейчас – и понятны людям всякой национальности и любой социальной категории. И то, что речь идет о русской аристократке, совершенно несущественно: Анна Каренина прежде всего женщина, и всякая женщина себя в ней узнает. Она не такая, но она могла бы быть такой, и у нее могла бы быть судьба Анны Карениной. Легче определить, чем объясняется то, что «Войне и миру» не страшно никакое испытание временем. «Война и мир» – это даже не литература и не чтение, потому что с первых страниц книги читатель вступает в мир, созданный Толстым, и для этого ему не нужно никакого усилия воображения. И даже в переводе на иностранные языки «Война и мир» остается непревзойденным романом. В 1960 году, в день пятидесятилетия со смерти Толстого, в Сорбонне было устроено чествование его памяти. Оба французских писателя, выступавшие там, Андрэ Моруа и Жан Геенно, русским языком не владели, но, я думаю, и среди русских нашлось бы не так много людей, которые знали бы творчество Толстого, как его знали они. «Мы никогда не сумеем выразить всю нашу благодарность Толстому, – сказал Жан Геенно, – за то, что его гений позволил нам узнать целый мир, который он создал, которого не существовало бы без него и без которого мы были бы бесконечно беднее, чем теперь».
Дон Кихот – карикатурный испанский рыцарь шестнадцатого века, и что, казалось бы, может быть дальше от нас, чем Испания того времени, вздорные романы о злых волшебниках и тех, кто против них сражается, – романы, вдохновившие Дон Кихота? И вместе с тем каждый современный читатель находит в Дон Кихоте больше, чем в сотнях романов, напечатанных в последние годы. Ясно, что дело не в эпохе; Сервантес увидел в человеческой природе то, чего не сумели увидеть тысячи и тысячи других писателей всех стран и национальностей.
Все это вещи очевидные, но в советской перспективе они искажены. Вместе с тем, надо иметь мужество отказаться от иллюзий: в истории литературы и в памяти писателей не останется следа от огромного большинства современных советских авторов. Это не предсказание, это констатирование неизбежности. Случайно вспоминается несколько имен: Анна Караваева, Галина Николаева, – кстати, один мой знакомый был убежден, что это одна и та же писательница, изменившая псевдоним, – Ефим Зозуля, Крептюков – все это писатели почти современные. Но какой советский читатель их знает сегодня? Правда, нельзя сказать, что они незаслуженно забыты, особых литературных достоинств в их книгах не было.
Можно утверждать, не рискуя ошибиться: ни национальность писателя, ни страна и эпоха, в которой происходит действие, ни политические взгляды автора, изложение которых в литературе чаще всего неуместно и ненужно, – все это не имеет никакого значения для окончательной литературной оценки. Герцен был революционером, Достоевский был монархистом, но каждый из них в истории русской литературы занимает определенное место. Бальзак был консерватором. Флобер тоже – он в частности, резко отрицательно относился к Парижской коммуне, – но без них историю французской литературы представить себе нельзя. Трудно себе вообразить что-либо более сумбурное и более неприемлемое, чем некоторые части «Выбранных мест из переписки с друзьями», по поводу которых Белинский написал Гоголю негодующее письмо, не поняв, что нелепое содержание этих мест свидетельствовало не столько о реакционных взглядах Гоголя, сколько о его душевной и психической неуравновешенности. Но даже если допустить, что в «Выбранных местах из переписки с друзьями» действительно изложены взгляды Гоголя, то в оценке его литературного гения это ничего не меняет: Гоголь остался автором «Мертвых душ» и «Ревизора».
В Советском Союзе, – как это неоднократно отмечалось всеми, у кого есть представление о советской литературе, – существует несколько наиболее важных критериев: способствует ли роман – по мнению партийной критики – строительству коммунизма, написан ли он с соблюдением принципов социалистического реализма, соответствует ли он партийной линии. Но не надо себе строить иллюзий: каждое из этих качеств обеспечивает не литературную ценность, а литературную несостоятельность романа, его небытие. И его автора ждет в недалеком будущем та же судьба, что постигла Анну Караваеву и Галину Николаеву.
Позволю себе отступление от чисто литературной темы. Зимой 1619/20 года Декарт находился в Ульме, где – ночью, на постоялом дворе – в его воображении впервые возникло представление о его философском трактате «Рассуждения о методе». Упоминая об этом, он пишет, что в то время происходила война, которая еще не кончилась.
Больше об этой войне не сказано ничего. Вместе с тем, это был второй год Тридцатилетней войны, которая потрясла всю Европу и кончилась Вестфальским миром в 1648 году. Если говорить о только некоторых ее последствиях, то достаточно упомянуть о том, что например, девяносто процентов населения Богемии было уничтожено. Но для Декарта идея «Рассуждений о методе» была гораздо важнее, чем Европейская война и историческая роль Густава-Адольфа или Валленштейна. Можно ли считать этот подход к вещам справедливым и правильным – это другой вопрос. Но Тридцатилетняя война осталась в учебниках истории, а «Рассуждения о методе» – один из самых значительных философских трактатов, давно выдержавший испытание временем.
Поэт Ходасевич в одном из своих стихотворений, говоря о поэзии и современности, писал, что долг поэта в этом смысле определяется так:
И можно при этом вспомнить, с каким презрением Пушкин писал о победителе 1812 года Александре I:
Возвращаясь к вопросу о ценности литературных произведений и об испытании временем, следует подчеркнуть несколько бесспорных выводов. Прежде всего: эта ценность ни в какой мере и никогда не определяется ни национальностью автора, ни так называемым отражением действительности, ни тем более политическими тенденциями. Затем – эпоха, когда происходит действие, тоже не имеет никакого значения, – если это не исторический роман, о чем следует говорить особо. Взгляды автора, его принадлежность к той или иной социальной категории не играют никакой роли. Граф Лев Толстой – аристократ, Чехов – разночинец, дед которого был крепостным.
В более поздние времена Бунин гордился своим дворянством – гордился, кстати говоря, по-моему, напрасно, прежде всего потому, что его личной заслуги в этом не было, Горький был мещанин – и ни тому, ни другому происхождение не помешало стать крупным писателем и ни в том, ни в другом случае не могло предопределить ни их таланта, ни ценности их произведений.
Именно Толстой, мне кажется, точнее всего и короче всего сказал, какими качествами отличается талантливый писатель: умение видеть то, чего не видят другие, ясность изложения, искренность и правильное, то есть нравственное отношение автора к предмету. Это сказано в статье о Мопассане, написанной в 1898 году, то есть семьдесят два года тому назад. И когда перечитываешь эти строки, то кажется, что они были написаны вчера и что эти слова относятся к творчеству нашего современника, Солженицына. Для литературного бессмертия, может быть, для победы над временем к этим качествам следует прибавить еще одно: гений автора, произведение которого, как это сказал Пушкин,
Трудно сказать, кому из современных авторов в мировой литературе предстоит эта участь. Легче сказать, кому она не предстоит – и в этот список следует включить прежде всего тех писателей, которых больше всего ценит партийная критика в Советском Союзе и для которых ход времени – это неумолимое приближение к забвению и литературной смерти.
<О негласной иерархии в общественной жизни и тенденциозности в литературе>*
Ведущий: Переходим к программе «Дневник писателя». У микрофона наш сотрудник Георгий Черкасов.
Черкасов: В многочисленных видах человеческой деятельности существует нечто, вроде негласной иерархии, которая не определяется никакими законами, но которая все-таки несомненна. В этой иерархии могут происходить и известные перемещения. И пример одного из них нам дает литература.
В Европе несколько веков тому назад занятие литературой считалось недостойным высших классов общества. Но с течением времени это изменилось. И положение обязательно стало другим. В конце концов это понятно. Если взять историю страны и ее культуры за определенный период времени, то становится очевидно, что ее нельзя представить как хронологическую смену министров или президентов. Историю культуры все равно какой – испанской, английской, русской, французской – создают философы, художники, писатели, поэты, но не политические деятели. В истории Испании Сервантес и Кальдерой гораздо важней, чем Филипп II или Альфонс XIII. В истории Англии Шекспир и Шелли важнее, чем Питт и Гладстон. В истории Франции герцог Сен-Симон и Бальзак важнее, чем Людовик XIV и Наполеон III. В истории России Пушкин и Толстой важнее, чем Николай I и Александр III. Это ни в какой степени не значит, что следует приуменьшать значения того или иного политического деятеля, Гарибальди или Костюшко. Но политика находится в другом плане. И в этом смысле ее нельзя сравнить с искусством или философией.
Политическая деятельность ограничена определенными императивами. Искусство, во всяком случае при сколько-нибудь либеральном режиме, не ограничено ничем, кроме творческого замысла художника, писателя или поэта. Кроме того, искусство не знает деления на классы и социальные категории и стоит выше партийных или государственных норм. Искусство и, конечно, наука. Только Ломоносов мог сказать Екатерине II, угрожавшей ему, за строптивый нрав, отставить его от Академии: «Не меня, матушка, отставить от Академии, а Академию от меня».
Конечно, всегда были и всегда будут, наверное, такие посвящения на книгах: «Его Императорскому Величеству, государю-императору такому-то сей труд всеподданнейше посвящаю». Всегда были и будут оды в честь такого-то или такого-то диктатора или монарха. Всегда будут Булгарины, отмеченные клеймом пушкинских эпиграмм.
Есть вещи, которые кажутся непростительными у крупных поэтов. Никто не заставлял Державина писать оду в честь Екатерины II:
Никто не заставлял Тютчева писать о декабристах:
И, конечно, всегда будут такие авторы, как Марьетта Шагинян, которая начала с того, что писала стихи:
а кончила книжкой в честь Берия и тем, что всю ночь читала Ленина.
Все это неизбежно. Но в одних случаях – Державин, Тютчев – это срывы крупных поэтов. В иных – Булгарин или Марьетта Шагинян, не говоря о множестве других авторов, – это дно литературы, и об этом говорить не стоит.
Определить при помощи точной формулы, что такое настоящая литература и в чем ее смысл, конечно, трудно.
Но, читая ту или иную книгу, всегда можно сказать: вот это настоящая литература, а это подражание, подделка или вообще произведение, которое не имеет ценности. Можно, пожалуй, сказать, что литературное произведение – это нечто вроде идеального сплава или безошибочно найденного химического соединения. Достаточно ввести в этот состав один элемент, который ему органически чужд, и произведение теряет свою гармоничность и распадается. Это, в частности, происходит тогда, когда в роман, например, вводятся чуждые ему по природе тенденции, политические или религиозные. Есть, конечно, исключения из этого правила. Можно описать жизнь святого и сделать из этого литературный шедевр. Например, легенда о Юлиане Милостивом Флобера, кстати говоря, с предельным совершенством переведенная на русский язык Тургеневым. Житие протопопа Аввакума насквозь пропитано религией, и это не мешает ему быть непревзойденным образцом литературного искусства. Вернее, свидетельством о несравненном таланте его автора. Но у Достоевского, например, Федор Павлович Карамазов, развратник, шут и негодяй, изображен гораздо убедительнее, чем почти святой старец Зосима. Но это, конечно, подробность.
Есть разные степени литературного искусства. В самом низу находится то, что в свое время было принято называть «бульварными романами». Они отличались тем, что в них все положительные герои были представлены так, что ни у одного из них не было никаких недостатков, а отрицательные были лишены раз навсегда каких-либо достоинств. В результате этого ни те, ни другие не были похожи на живых людей. Кстати говоря, это перешло впоследствии во многие романы советских писателей, где положительные герои – коммунисты, а отрицательные – империалисты или их наемники.
Есть литература среднего уровня, где все, казалось бы, сделано так, как нужно. Но чего-то как будто бы не хватает. Это именно те книги, которые не выдерживают испытание времени. Просто потому, что их авторы недостаточно талантливы. И есть, наконец, настоящая литература, ее вершины: Гоголь, Лермонтов, Пушкин, Толстой, Чехов.
Ни один из настоящих крупных писателей не стал бы писать романа, целью которого было бы доказать, что необходимо исповедовать ту или иную религию или защищать тот или иной политический режим. Это было бы переходом из высшего плана в низший. Речи о религии или религиозные трактаты – это дело проповедников, а не писателей. Защита тех или иных политических принципов – дело политиков или служащих государственного аппарата.
Существуют, однако, писатели и поэты, творчество которых насквозь проникнуто религиозными тенденциями, причем вполне определенными – католическими. Такими были во Франции поэт Клодель и писатель Мориак, недавно умерший в преклонном возрасте. Клодель был очень известен и как поэт, и как драматург. Мориак получил Нобелевскую премию по литературе. Есть еще известный английский писатель Грэм Грин, тоже писатель католический. И вот, несмотря на известность этих авторов и их несомненный литературный талант – самый талантливый из них Грэм Грин – большинство их произведений не на уровне их таланта. Как бы прекрасно ни была написана книга, если в конце романа юный преступник, войдя в церковь, вдруг понимает свои заблуждения и переходит от порока к добродетели, это звучит совершенно неубедительно. И читатель этому просто не верит. Свести все многообразие мира к замкнутой системе принципов католической церкви – задача чаще всего непосильная.
Можно написать книгу, главным содержанием которой будут религиозные откровения, но это уже не литература, а проповедь или поучение. Герой романа может быть страстно верующим человеком и действовать в строгом соответствии с религиозными принципами, но тогда он должен быть святым. Писатель или поэт может быть глубоко религиозен, но то, что он пишет, не должно быть похоже на проповедь. И когда это становится желанием убедить читателя в том, что мыслить и верить следует именно так, и только так, это перестает быть литературой. Конечно, правил дли этого никаких нет. Как нет и не может быть какого-то руководства дли литературы, в котором было бы сказано, что это, дескать, можно, а вот этого нельзя. Но есть какие-то внутренние законы, нарушение которых приводит к отрицательным результатам. Не потому, что это запрещено, а оттого, что восприятие читателя определяется в свою очередь некоторыми критериями, отступать от которых нельзя, не рискуя это восприятие ослабить.
В еще большей степени то, что можно сказать о проникновении религиозно-проповеднических идей в литературу, относится к политическим тенденциям. Роман, в который введены такие тенденции, почти всегда принимает наивно-назидательную форму. Кроме того, он построен на предположении, что читатель сам не способен разобраться в том, о чем идет речь. И это ему надо пространно объяснять и иллюстрировать литературными примерами. Если при этом принять во внимание то, что авторы такого рода произведений нередко не отличаются ни особым талантом, ни особой культурой, то рассчитывать на ценность подобного произведения не приходится. Стоит отметить, что, например, в исторической драме Пушкина «Борис Годунов» никакой политической тенденции нет. Нет ее и в «Капитанской дочке», где не говорится о том, что Пугачев – враг своей родины и ее режима, и поэтому должен быть безвозвратно осужден.
Нет политических тенденций ни у одного из великих русских писателей XIX века. Ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у их младших современников, как, например, Чехова. У каждого из них, однако, были свои политические взгляды. Но в их литературу они не проникали. Они выражены у Достоевского, но не в «Преступлении и наказании», не в «Братьях Карамазовых», а в «Дневнике писателя», где речь идет о Достоевском-публицисте. И надо сказать, что Достоевского «Дневника писателя» и Достоевского, автора «Братьев Карамазовых», сравнивать не приходится. Это же можно сказать и о сравнении между «Мертвыми душами» и «Выбранными местами из переписки с друзьями», с той разницей, что, как это уже приходилось отмечать, «Выбранные места» скорее свидетельствуют о душевном и психическом недуге Гоголя, чем о его политических взглядах.
Есть особый вид литературы, однако, к которому эти общие рассуждения о недопустимости политической пропаганды в этой области искусства как будто кажутся неприменимыми. Это прежде всего сатира. Как у Салтыкова-Щедрина или в наше время в романах Орвелла или Гексли или, наконец, Замятина. Но это не вершины литературного искусства. Особняком в этом ряду стоит Свифт. Но Свифт и его трагический литературный облик, так же как его не менее трагическая личная судьба, все это не укладывается в узкие рамки этого определения – сатира. И это могло бы быть темой для особой беседы.
Есть, конечно, еще гражданская поэзия. О ней можно сказать то же, что и о прозе. Подлинная поэзия чаще всего бывает лишена политических тенденций. Лирика, то есть главное содержание поэзии, и политика явно несовместимы. Следует еще раз подчеркнуть, что введение в литературу религиозных или политических мотивов нельзя рассматривать, скажем, как нарушения литературной этики или нечто, что должно быть всегда категорически осуждено. Авторы, которые так поступают, чаще всего руководствуются соображениями положительной морали, если, конечно, они свободны и не выполняют партийных указаний, как это* происходит в Советском Союзе. Но вводя в литературу религиозные или политические цели, они переходят из одного плана в другой, и от этого литература перестает быть литературой в подлинном смысле слова. И в подобном случае писателя не спасает даже такой незаурядный талант, как талант Грэма Грина. Что же говорить о тех, чьи способности в литературе следует признать чрезвычайно скромными.
Об Алданове*
Несколько лет тому назад, точнее в 1967 году, исполнилось десять лет со дня смерти Марка Александровича Алданова, одного из видных эмигрантских писателей. Какое место он займет в истории русской литературы, сейчас судить еще трудно. Одно можно сказать с уверенностью: как автор исторических романов – одно из первых. Надо ли напоминать слова Ключевского: «Русские авторы исторических романов обыкновенно плохо знают историю. Исключение составляет граф Салиас: он ее совсем не знает». Плохо знал ее Алексей Толстой; Алданов рассказывал, как Толстой, живший в том же доме, что и он, в Париже, однажды поздно вечером, взъерошенный, явился к нему и сказал: «Марк, скажи, пожалуйста, Марат был до революции или позже? Я пишу сейчас пьесу об этом времени, такая, брат, путаница…»
– Алексей Толстой, – говорил Алданов, – был одним из самых очаровательных людей, каких я знал. Но его невежественность достигала анекдотических размеров. Он не только не читал книг, у него не было даже терпения прочесть газету.
Алданов читал очень много, на нескольких языках – по-русски, по-французски, по-немецки, по-английски, – и когда я однажды спросил его, как он может столько вещей знать и помнить, он ответил с извиняющейся улыбкой:
– В этом нет никакой моей заслуги. Я помню все, что я когда-либо слышал или читал.
Но в то же время у него не было недостатка, который обычно характерен для людей, обладающих такой феноменальной памятью. Недостаток этот, вполне понятный и почти неизбежный, заключается в том, что когда такие люди должны высказать какое-либо суждение, им приходится производить отбор среди всего, что они знают о данном предмете. Отсюда – их некоторая медлительность и нерешительность во мнениях. У Алданова ее не было, и создавалось впечатление, что все его знания были расположены в удивительном и стройном порядке – политика Гладстона и переписка Грозного с Курбским, середина Тридцатилетней войны и труды Аристотеля, Андроник Комнин и стихи Алена Шартье. В отличие от тех авторов исторических романов, о которых говорил Ключевский, Алданов прекрасно знал историю. В его исторических романах ошибок нет – да и как они могли бы туда попасть при его знаниях и его памяти? Алданов был одним из наиболее читаемых авторов в эмиграции. Литературная критика к нему, однако, относилась, скорее, сдержанно. Он пользовался всеобщим и совершенно заслуженным уважением, но восторженных отзывов его книги никогда не вызывали. Мне кажется, что для этого было несколько причин. Одна из них та, что в его книгах нет эмоционального движения, нет у него также резкой литературной индивидуальности, чего-то личного и неповторимого, что отличало бы его от всех других писателей. Он писал правильным русским языком, который, однако, подходил бы скорее к историческому исследованию, чем к роману. Характерно, что Алданов очень не любил Достоевского и находил, что в его книгах все фальшиво, преувеличено и неверно. Что его еще коробило у Достоевского – это, что его герои все время, как он говорил, каждому встречному и поперечному открывают свою душу. Надо было лично знать Алданова, чтобы понять это его отталкивание от Достоевского: не было человека более сдержанного и, пожалуй, более скрытного, чем Алданов. Душу свою он никогда никому не открывал, но его психология, его личные взгляды выражены в его книгах, и надо сказать, что эти взгляды довольно безотрадные. Пессимизма в нем было больше, чем в любом из его современников.
Была в нем еще одна особенность: его ум был больше, чем его литературный дар. Этот критический его ум был сильнее его вдохновения, – если предположить, что вдохновение у него было: это слово к Алданову как-то не подходило. Трудно было бы представить себе Алданова, который писал бы с той слепой жаждой творчества, которая характерна для многих крупных писателей, и с убеждением, что он знает то, чего не знает никто другой. Этой жажде, этому убеждению всегда мешало его критическое отношение ко всему, в том числе и собственному творчеству. Он писал и как будто все время оглядывался: не преувеличил ли я, не сказал ли чего-нибудь липшего? Отсюда некоторая безличность его стиля, в котором нет так называемых литературных эффектов, которых он тщательно избегал.
У Алданова не было тех крупных недостатков, которые, по мнению Толстого, необходимы для того, чтобы стать писателем. У него не было ни разрушительных страстей, ни неудержимых увлечений – и над всем у него преобладал неизменно критический и насмешливый ум. Но у него было чувство истории, и в его воображении буквально толпились исторические призраки – Павел I, Марат, Дантон; но по образованию Алданов был не филологом и не историком, а химиком: он кончил парижский университет незадолго до начала первой мировой войны. По складу ума он был европейцем, славянской разбросанности у него не было. Он во всем любил порядок – и в этом было нечто противоречивое, потому что ни в порядок, ни в пользу порядка он не верил. Надо сказать, что он вообще ни во что не верил; этого чувства он был лишен. Он отличался исключительной подчеркнутой вежливостью и избегал категорических возражений своим собеседникам. Но когда при нем говорили о законах истории или неопровержимости той или иной политической теории, он иронически улыбался одними глазами. Ему ничего не стоило бы доказать, что все это неверно, но он этого не делал: зачем огорчать людей? зачем разбивать их иллюзии? Он очень особенно относился к литературной критике: по его мнению, отзыв о любой книге должен быть положительным, независимо от того, хороша книга или плоха.
– Ну вот, вы напишете, что такой-то – никуда не годный писатель и что книга его лишена каких бы то ни было достоинств. Конечно, это верно и мы все это знаем – но зачем это писать? Автору вы причините душевную боль, и он будет считать вас своим врагом. А ценность его книги от вашего суждения не изменится, она всегда останется ничтожной, стоит ли это подчеркивать?
Сам Алданов о всех писателях отзывался с неизменной благожелательностью, кроме, пожалуй, Достоевского – и то потому, что покойнику огорчения не страшны: если бы Достоевский был жив, он бы и его хвалил. В ценность литературы он так же мало верил, как во все остальное: единственный писатель, перед которым он преклонялся, был Лев Толстой. Вся его отрицательная философия, – если так можно сказать, – его вежливо-презрительное отношение ко всему – будь это наука, политика, историософия, литература, – все это переставало существовать, как только речь заходила о Толстом. Вместе с тем нельзя было бы себе представить двух более разных людей – по психологии, миросозерцанию, чувству жизни, которое носило такой стихийный характер у Толстого и которое едва теплилось у Алданова.
Если перейти к обычному сопоставлению – Алданов как писатель и Алданов как человек, – то тут возникает явное и непреодолимое противоречие – то, что можно назвать загадкой Алданова. Алданов как писатель – здесь все ясно: серия исторических романов – «Девятое Термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров», романы из эмигрантской жизни – «Ключ», «Пещера» и так далее. Наконец одна из последних его книг, нечто вроде философского трактата, «Ульмская ночь». Об этой книге следовало бы сказать особо: она была написана тогда, когда Алданов был уже болен. Поэтому в ней есть места, которых в прежнее время у Алданова не могло бы быть – цитаты из Канта и рядом с ними отрывки из речей Керенского, так что со стороны может показаться – и читателю трудно отделаться от этого впечатления, – что Алданов придает одинаковое значение словам Канта и речам Керенского. «Ульмская ночь» – это философия случая, то есть отрицание ценности всякой философии, но без того, чтобы автор выходил за рамки тех самых философских систем, которые эта книга как будто бы отрицает. Есть в этой странной, нехарактерной для Алданова непоследовательности и в некоторых случаях явной нелепости что-то чрезвычайно тревожное. Эта книга вышла в 1953 году, за четыре года до его смерти, но в ней уже сказывается его недуг. В последние годы своей жизни Алданов как писатель резко изменился, хотя, казалось, не отдавал себе в этом отчета и продолжал писать, как он это делал всю свою жизнь, при всех обстоятельствах.
Как я уже говорил, Алданов отличался тем, что никаких иллюзий у него не было и он действительно ни во что не верил. Он был слишком умен и слишком образован, чтобы принять целиком ту или иную политическую доктрину. Но и в области более сложных понятий он оставался скептиком. То, во что он верил меньше всего, это были так называемые «законы истории» – он знал лучше, чем кто бы то ни было, что этих «законов» не существует. Что касается искусства, и в частности литературы, он считал, что за всю историю человечества было написано не больше пятидесяти книг, которые заслуживают внимания. Но потребность в литературной работе у него всегда была. Его многочисленные герои в своих высказываниях чаще всего говорили то, что думал их автор. Он, таким образом, избавлялся на время от груза своих безотрадных размышлений. Вероятно, именно это побуждало его писать. Но той жизненной силы, которая характерна для многих писателей – восторга или возмущения, литературного энтузиазма или протеста, – у него не было. Было понятно, что он предпочитал именно исторические романы – те, где происходят события, которых нельзя изменить, где герои действуют вполне определенным образом и развязка уже дана и заранее известна. Это избавляет автора от необходимости создавать эмоциональное и психологическое движение романа и значительно облегчает его задачу, но чрезвычайно ограничивает его свободу творчества. Это соображение Алданова, однако, не стесняло. Его интересовала не столько судьба отдельных людей, сколько движение исторических событий. Но если он и делал из этого свои выводы, то они никогда не заключались в том, что все происходило так, как должно было происходить в силу тех или иных исторических законов, существование которых он отрицал. Тот или иной оборот событий объяснялся чаще всего случайностью или ошибкой в расчете.
Так же мало Алданов верил в прогресс или возможность нравственного совершенствования человека. Не верил он и в спасительную силу религии.
Все это не могло не казаться парадоксальным. Он не придавал ценности литературе – и всю жизнь занимался литературной работой. Он не верил ни в суждение истории, ни в то, что история имеет вполне определенный смысл и чему-то нас учит – и писал исторические романы. Он не верил в обязательность и значение этических принципов – и никогда не совершил ни одного поступка, который можно было бы поставить ему в вину и был сам человеком безупречной нравственности. И, несомненно, будущему биографу Алданова предстоит трудная задача: объяснить эти непримиримые, казалось бы, противоречия в его жизни и в его литературе и представить нам его облик – как писателя и человека.
О Б. К. Зайцеве*
Старейшему русскому писателю – Борису Константиновичу Зайцеву – девяносто лет. Кто еще в истории русской литературы достигал этого возраста? Борис Константинович Зайцев – современник Бунина, Леонида Андреева, Горького, Алексея Толстого, Андрея Белого – никого из них давно нет в живых. Чем бы ни объяснять это удивительное долголетие, его следует приветствовать. Борис Константинович Зайцев – наша живая связь не только с началом этого столетия, но и с концом XIX. Когда умер Толстой, в 1910 году, Зайцеву было двадцать девять лет.
В краткой литературной энциклопедии Зайцеву отведено тридцать пять строк, и надо сказать, что заметка о нем написана довольно объективно и даже не без некоторой благожелательности. Сказано только, что для Зайцева характерно мистическое восприятие жизни, внеклассовый христианский гуманизм. Что имел в виду автор заметки в энциклопедии, давая эту характеристику Зайцева, сказать трудно: «мистическое восприятие жизни и внеклассовый христианский гуманизм» – все это просто ничего не значит. Вероятнее всего, автор заметки имел в виду то, что Зайцев – человек глубоко верующий.
Жизнь Зайцева совпадает по времени с крупными историческими событиями, которых он был свидетелем и современником: русско-японская война, волнения в России, за ней последовавшие, первая мировая война, Февральская революция, Октябрьская революция, эмиграция, и наконец, вторая мировая война, которую он провел в оккупированном Париже, в нетопленой квартире, кутаясь в пальто и шарф, аккуратно переставляя флажки на карте военных действий и с нетерпением ожидая победы союзников. Но ничто, никакое событие, не могло внести смятение в его душу, ничто не могло заставить Зайцева потерять свое неизменное благожелательное спокойствие, – так, как будто бы все это его лично не касалось. И в какой-то мере это так и было. Конечно, не мистическое восприятие жизни, а гармоническая христианская концепция мира, которая существовала до нас и будет существовать после нас, тот отрезок времени, который дан человеку для жизни на земле и для того, чтобы понять несколько вечных истин – и, в частности, то, что пути Господни неисповедимы, до перехода туда, где «несть ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». В том, что касается этого христианского постижения мира, у Зайцева никогда не было сомнений. И может быть, эта, его невозмутимая и непоколебимая, вера – одна из причин его долголетия.
В числе книг, которые написал Зайцев, есть три, в которых изложены жизнеописания русских писателей, – и очень характерен их выбор: Жуковский, Тургенев и Чехов. Зайцев перебирает в памяти стихи Жуковского, которые для него даже не звучат архаически:
Или:
Он пишет о рассказе Тургенева «Живые мощи», о рассказе Чехова, действительно прекрасном, «Архиерей» – и в творчестве этих авторов он точно находит подтверждение своим собственным мыслям, своему собственному взгляду на мир.
Но и другие произведения, – его романы, его автобиографические книги, объединенные общим заглавием «Путешествие Глеба», – все это написано точно вне времени. Есть в его книгах удивительная неподвижность: страницы идут за страницами, почти ничего не происходит и стоит незыблемо Божий мир, – такой, каким его создал Господь и в котором все подвластно воле Божией.
Есть у Бориса Константиновича Зайцева рассказ об одном из северных русских святых. Жил мужик крутого нрава, бил жену – и вдруг ему было небесное видение, и понял он, что неправедно живет, и с той поры дурных поступков не совершал. А через некоторое время было второе видение, и велел ему Господь Бог плыть на лодке по озеру к далекому острову и там спасаться, построив себе обитель. А чтобы найти путь к острову, Бог послал ему ласточку, которая летела над лодкой, указывая дорогу, – и с тех пор так и осталась на озере эта струя – след лодки святого. Этот рассказ Зайцева, один из самых для него характерных, – это как бы зеркало, в котором отражается его творчество.
В короткой заметке нельзя, конечно, дать сколько-нибудь обстоятельное изложение литературной биографии и работы Бориса Константиновича Зайцева. Но в истории русской литературы этих лет будет сказано, что жизненный и творческий путь Зайцева был значительно более долгим, чем путь его современников, и что бурные события, которые пересекли его жизнь, не изменили ни его постоянной благожелательности, ни его христианского мировоззрения, отразившихся в его книгах.
О Ремизове*
Есть писатели, произведения которых никогда не доходят до так называемых широких читательских кругов, несмотря на то, что они этого, казалось бы, заслуживают и по таланту, и по оригинальности. К числу именно таких писателей относился один из самых удивительных русских прозаиков последних десятилетий Алексей Михайлович Ремизов.
Он прожил много лет – до конца своих дней в Париже, и все, кто имел какое-либо отношение к литературе, знали его хорошо. Работал он неутомимо: много книг его было напечатано, но еще больше не напечатано. Характерно, что ни рассказов, ни романов в собственном смысле слова он не писал, вернее, его короткие произведения нельзя было назвать рассказами, а длинные – романами. Писал он тоже не так, как другие: построение его фраз отличалось от обычного литературного языка. Нельзя было себе представить Ремизова, который написал бы, скажем: «Иван Петрович вышел из дому и направился к Акулине Васильевне, которая его пригласила на ужин». Ремизов написал бы примерно так:
«А там, глядишь, сумерки, вроде как сверху небо темнеет, а Ивану Петровичу и горя мало; улица за улицей, на углу мордастая прачка, – ничего, пронесло, – и вдруг – подворотня и Церковь будто недалеко. Ивану Петровичу сперва и невдомек, только потом спохватился: у Акулины Васильевны-то нынче на столе чего только может быть и нету. И вспомнил Иван Петрович – зван-то он ведь был, да еще и особенно – приглашаю вас – уж она и скажет – приглашаю. Ничего не поделаешь, как ни крути, а не отступиться».
Ремизов почему-то считал, что это и есть настоящий русский язык, которым, однако, русская литература, в частности XIX века, не пользовалась. Больше всего Ремизов в истории русской литературы ценил протопопа Аввакума, который, по его мнению, действительно писал так, как следовало. Ремизов считал себя его продолжателем, что, кстати говоря, не соответствовало истине: между тем, как писал протопоп Аввакум, и стилем Ремизова не было ничего общего. Но стихию русского языка Ремизов знал прекрасно и, в частности, был лучшим чтецом, которого мне приходилось слышать. Никто так не читал Гоголя, Лескова или Тургенева, как Ремизов. Прекрасно читал Бунин, очень хорошо читал Набоков, но с Ремизовым никого сравнить было нельзя. Даже рассказ Тургенева «Живые мощи», в котором чувствуется какая-то неуловимая фальшь, – Тургеневу, вообще говоря, мало свойственная, кроме как в его стихотворениях в прозе, – Ремизов читал так, что эта фальшь исчезала. Он был знатоком русской литературы, но его всегда тянуло к русскому языку XVI–XVII столетий. Логическое построение фраз, как то: последовательность прилагательных и существительных, предложения, в которых подлежащее и сказуемое стояли на своих местах, – все это казалось ему чем-то искусственным. В одном из своих разговоров он как-то сказал:
– Это все Аристотель виноват. Вольно же было ему логику изобретать. А логики в человеческой жизни чаще всего нет, и в речи тоже. Вот почитайте некоторые речи депутатов парламента. Там все есть: и высокопарность, и подлый стиль, и вранье, и густейшая глупость – словом, на все вкусы. Но логики нет.
Я помню, как Ремизов рассказывал о своих занятиях философией:
– Был я, знаете, в последнем классе среднего учебного заведения, и попалась мне книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Дай, думаю, прочту. Взялся читать – ничего не понимаю. Как будто по-русски написано, вернее переведено, а не понять, в чем дело. Так и бросил книгу. Прошло года два, я, уже студентом, опять взял то же самое: не понять. В чем тут, думаю, дело? Еще год прошел. Я снова за Шопенгауэра, но только на этот раз начал с предисловия. А в предисловии. Шопенгауэр говорит, – я, говорит, полагаю, что мой читатель хорошо знаком с трудами Иммануила Канта и уж, конечно, прекрасно знает эллинскую философию. Эллинскую философию и Канта! Батюшки мои! Сел я тогда за греков, начиная от Гераклита. Ничего, одолел. Потом дальше, дошел до Канта, прочел. Затем опять взял читать «Мир как воля и представление» – и ахнул: ну совершенно все как на ладони.
Ремизов рассказывал:
– Вот, как говорится: чужая душа потемки. Приходил ко мне такой солидный, знаете, мужчина, посмотришь на него, ну просто европеец, по фамилии Кац. Хотел издавать сочинения Розанова, Василия Васильевича. И все меня расспрашивал, – сколько будет набор стоить, И почем с листа и каким шрифтом печатать, ну, буквально все. Все расспросил, выяснил и прямо лицом просветлел. И ушел.
Последовала долгая пауза. Затем Ремизов сказал:
– А потом пансион открыл.
В числе постоянных гостей Ремизова были писатель Унковский и поэт Кобяков. Оба они были людьми чрезвычайно наивными – чтобы не сказать больше, – и Ремизов проделывал с ними довольно жестокие шутки. Унковский был по образованию врачом и некоторое время провел в Африке, где лечил негров. У Ремизова он так и назывался – африканский доктор. И вот в отдел хроники русской газеты, выходящей в Париже, «Последние новости» Ремизов послал такую заметку, которая была напечатана:
«В ближайшем будущем в Париже, на средства известного благотворителя и миллионера Ротшильда, открывается новая водолечебница. Заведовать больницей приглашен доктор Унковский, а административная часть поручается Д. Кобякову».
Это звучало настолько наивно, что никто этого всерьез не мог, конечно, принять. Никто – кроме Унковского и Кобякова, которые отправились в редакцию газеты, чтобы узнать, какое жалованье им назначено.
Кобяков как-то пришел к Ремизову и сказал, что намерен выпустить книгу стихов.
– Под каким заглавием? – спросил Ремизов.
Не помню, какое это было заглавие, что-то вроде «Ожерелья».
– Что вы, что вы? – сказал Ремизов. – Побойтесь вы Бога. Теперь так книги больше никто не называет.
– А как же назвать?
– А назовите – это теперь так полагается, – именем какого-нибудь политического деятеля: например, Вишняк.
– А если он обидится?
– Это надо с умом делать, – сказал Ремизов. – Не Вишняк, а Вешняк, будто бы производное от слова «весна».
И Кобяков назвал свою книгу стихов «Вешняк».
Ремизов был учредителем общества со странным названием: ОБЕЗВОЛПАЛ. Это значило Обезьянья вольная палата, и в нее он записывал всех писателей и поэтов, которых знал, и выдавал им особые удостоверения. В числе этих людей были, насколько я помню, Андрей Белый, Максим Горький и другие известные люди.
Кабинет Ремизова был увешан чертиками, обезьянами, маленькими чудовищами, у каждого из которых было свое имя. Из дому Ремизов почти не выходил, уличного движения боялся и соприкосновения с внешним миром избегал. В том, что он писал, нередко фигурировала нечистая сила, бесноватые, ведьмы, лешие – все это было, в сущности, постоянной забавой Ремизова, странной игрой, в которой он прожил всю жизнь.
Эту игру он создавал сам. Он никогда не воспринимал действительность такой, какой она была, он ее изменял и переделывал так, что самые простые вещи приобретали у него фантастический характер.
Он должен был переезжать в Париже с одной квартиры на другую. Сам он этого не мог бы сделать, это было слишком трудно и сложно, всем занимались его друзья – у него всегда были друзья, которые о нем заботились. И вот он представил себе, что этот переезд сопряжен с огромными трудностями, которых не было, – и что ему надо преодолеть множество препятствий, которых тоже не было, – и прежде всего непримиримую враждебность консьержки, совершенно воображаемую. В его представлении между ним и консьержкой шла неравная борьба. Консьержка была чуть ли не олицетворением государственной власти, и эта власть пользовалась своей силой, чтобы угнетать его, русского писателя, затерянного в чужой стране. Он боялся проходить мимо помещения, в котором она жила.
– Знаете, – говорил он, – иду по лестнице, и такое ощущение, будто она меня за ноги хватает. И вот, можете себе представить, пришло спасение, нежданно-негаданно. Посетил меня Марк Александрович Алданов. Он над всеми консьержками вроде как генерал. И он ведь на ихнем языке все как есть до конца знает, до последнего вздоха. Консьержки его, как огня, боятся, ну прямо перед ним трепещут. И когда он пришел, я думаю, – ну, слава Богу. Теперь я спасен. Дай ему Бог здоровья, Марку Александровичу, в его генеральском звании.
Все это, конечно, было вымыслом. Никакая консьержка Ремизова не преследовала и не могла преследовать. Он ее, конечно, не боялся. Это было то же самое, что производство Алданова в генералы над консьержками. Но если бы все это было представлено так, как это было в действительности – без этой воображаемой борьбы и без чудесного визита генерала Алданова, то что осталось бы от ремизовской фантастики?
Он делал подарки – давал, например, какому-нибудь из гостей куриное перо и говорил при этом:
– Вот, Сидор Васильевич, это особенное перо, из Алжира, от одного из лучших алжирских петухов. Прямо из Африки, мне недавно только привезли. Петух этот принадлежал, между прочим, чрезвычайно высокопоставленному лицу.
Ремизов был маленький сгорбленный худой человек, с темным цветом лица, в очках с толстыми, многослойными стеклами. Его жена Серафима Павловна, была высокая, очень полная женщина, белая и румяная. Называли они друг друга на «вы» и по имени-отчеству. Как-то к Ремизову пришел молодой писатель, кавказец по происхождению, но выросший и воспитавшийся в России и которого родной язык был русский. Ремизов с ним разговаривал, сбоку и с опаской на него поглядывая, и время от времени делал успокоительные жесты Серафиме Павловне. Гость не мог всего этого не заметить и спросил Ремизова, в чем дело.
– Ну, уж я вам лучше начистоту… все скажу, легче на сердце станет. Вы на нас не сердитесь. Понимаете, Серафима Павловна… ее ведь тоже понять нужно. Она на ваш счет, знаете, сомневается и робеет – боится спросить, – вдруг, не дай Бог, чего-либо выяснится.
– В чем сомневается Серафима Павловна?
– Я вам, так и быть, скажу. Серафима Павловна… так будет лучше, сразу все узнаем… Вот в чем дело… сказать-то нелегко, не всякий решится. Ну, да будь что будет. Серафима Павловна хотела бы знать: вы крещеный или нет?
– Помилуйте, Алексей Михайлович, крещен в городе Петербурге.
– Ну, вот видите, ну, слава Богу. Я-то, признаться, так и думал, только не смел сказать. Серафима Павловна, я же вам говорил и раньше, – ну, какой он мусульманин? Он православный, по глазам видно. У мусульман глаз другой, вроде темный, а тут все ясно. Ну, спасибо, дорогой, вот уж утешили. И Серафима Павловна вздохнет свободно, я знаю, как она теперь счастлива.
Все это тоже была ремизовская игра. Ремизов прекрасно знал, что его гость православный, знал его несложную биографию, и никаких сомнений ни у него, ни у Серафимы Павловны никогда не было.
От литературных суждений о своих современниках Ремизов обычно воздерживался – его вообще тянуло в далекую старину, его любимые XVI и XVII столетия. К политике он был совершенно равнодушен, и то, что, например, в эмиграции определялось выражением «трагедия России», то, на что так бурно реагировал Бунин и о чем с беспощадным осуждением говорил Алданов, это его, в сущности, мало трогало. Две вечные темы литературы – «любовь и смерть» в его собственном творчестве роли не играли. Жизнь, та, которую он видел вокруг себя, его интересовала постольку, поскольку из этого можно было сделать часть его собственного преображения, – как говорили его поклонники, – или искажения, – как говорили люди, относившиеся к нему критически. Эта игра некоторых забавляла, некоторых раздражала, точно так же, как тот причудливый язык, на котором он писал. Если перевести то, что он пишет, на обыкновенный русский язык, сказал о нем один из его современников, то от его книг почти ничего не останется. Но особенность Ремизова именно в том и заключалась что его творчество было непереводимо. Оно было таким же странным и таким же неправдоподобным, как все остальное в его жизни, и в простом, нормальном мире ему не было места, он органически туда не входил. Это создало невольное отчуждение и непонятность – в которых он прожил свою долгую жизнь и с которыми он ушел из нее.
По поводу Сартра*
ВЕДУЩИЙ: В сегодняшней программе «Дневник писателя» наш сотрудник Георгий Черкасов говорит о судьбе Жана-Поля Сартра, известного французского прозаика. Одно время его имя ставили всегда рядом с именем Альбера Камю – хотя нельзя было себе представить более разных людей: Альбера Камю называли «рыцарем без страха и упрека». Никому в голову не могло бы прийти применить это определение к Сартру, который был идеально далек от всего, что напоминало о понятиях, определяющих слово «рыцарь». Сартра, как писателя, всегда привлекала к себе отрицательная сторона жизни. Нет ничего более нелепого, конечно, чем изображать действительность неизменно в розовом свете, как это делают авторы романов, в которых порок наказан, а добродетель торжествует. Но не менее нелепо изображать все только в черном цвете, – именно то, к чему склонен Сартр. В этом смысле характерны его положительные отзывы о злополучном маркизе де Саде (который у нормальных людей не вызывает ничего, кроме непреодолимого отвращения) или о таком современном авторе, как Жан Женэ, бывшем кол-лаборанте и воре. Облик самого Сартра тоже особенного восторга или уважения не вызывает. Вот что говорит по этому поводу автор сегодняшней передачи «Дневник писателя».
Недавно в одной из французских газет в связи с очередным политическим скандалом была помещена фотография Сартра: маленький старый человек, косой, с расстегнутым воротом и обиженным лицом. Обида понятна: французские власти не принимают Сартра всерьез. Ален Жейсмар, ярый поклонник Мао Цзэдуна, враг государственного строя Франции, буржуазии, собственников предприятий, капитализма вообще и так далее, уже давно сидит в тюрьме. В тюрьму попали еще некоторые, так называемые левые молодые люди, организаторы демонстраций с битьем витрин и поджиганием автомашин, как редакторы журналов, которые призывают к ликвидации существующего порядка всеми средствами. А Сартра, принимающего участие во всем этом, никто не арестовывает, не судит и не сажает в тюрьму – как же тут не обижаться?
Конечно, поведение французского писателя носит явно патологический характер. Побуждения, которые заставляют Сартра так действовать, нетрудно объяснить: это стремление обратить на себя внимание. Лет двадцать тому назад Сартр был одним из самых читаемых авторов Франции и главой так называемых экзистенциалистов. Но по мере того, как проходило время, слава Сартра тускнела, имя его для новых поколений уже не значило то, что раньше, и Сартра при жизни стали забывать. Поэтому он делает все, чтобы о себе напомнить, и со стороны это производит жалкое впечатление, потому что, как бы ни относиться к Сартру, следует признать, что он умный человек и талантливый писатель. Но ни ум, ни талант его не спасают.
В Париже иногда французская компартия устраивает демонстрации протеста против американской внешней политики, и в частности войны во Вьетнаме. Соединенным Штатам предлагается немедленно увести все войска из Вьетнама, признать то-то, не признать того-то и так далее. Идут люди по улице, направляясь к американскому посольству, окруженному отрядами полиции, и выкрикивают: «Руки прочь от Вьетнама!», «Мы не допустим…», «Мы не позволим…». Средние парижане пожимают плечами. Всем ясно, что демонстрация нелепа, что выкрики эти ничего не изменят и что Никсон, возможно, даже не будет знать о том, что в Париже была очередная коммунистическая демонстрация. Кстати говоря, во время чехословацких событий никаких антисоветских демонстраций не было. Но дело не в этом. Когда так действует французская компартия, которую никак нельзя назвать умственной элитой Франции, удивляться этому не приходится, что с нее требовать? Но когда Сартр устраивает трибунал, чтобы судить американцев за их поведение во Вьетнаме, то есть вещь столь же бесцельную, как коммунистическая демонстрация в Париже, то это производит тягостное и жалкое впечатление. Сартр – это все-таки не Жорж Маршэ и не Жак Дюкло.
Когда мы читаем в советских газетах высказывания того или иного писателя о мудрой политике партии и правительства под руководством очередного секретаря партии, удивляться этому не приходится, – при существующем порядке вещей это иначе быть не может. Но когда такие же заявления делаются за границей, в свободных демократических странах, мы поневоле ставим себе вопрос: какими соображениями они вызваны? Соображения эти могут быть разными: слепая вера в непогрешимость КПСС, лишающая верующих возможности аналитического подхода к этому вопросу, личный интерес корыстного порядка, карьеризм в местном масштабе, априорное одобрение всего, что направлено против так называемого капитализма, наконец, убеждение в превосходстве коммунизма над всеми другими теориями. Когда речь идет о Сартре, то ни одно из этих соображений применено быть не может. Прежде всего, Сартр вряд ли верит в мудрость какого бы то ни было правительства, и в частности коммунистического. Ни личный интерес, ни соображения карьеры тоже роли играть не могут, точно так же, как убеждение в превосходстве коммунизма: Сартр лучше, чем кто-то другой, знает цену политическим теориям, претендующим на универсальность и философское значение. Что же остается? Все то же патологическое желание непременно обратить на себя внимание: в Париже живет писатель и философ Сартр, пожалуйста, не забывайте о нем. Не забывайте Сартра! Не забывайте о Сартре! Это простодушное и непреодолимое желание самоутверждения настолько сильно, что рациональные доводы тут перестают играть роль, а философские тем более. Все это настолько примитивно, что со стороны становится неловко. В конце концов, может быть, недалеки от истины те, кто сравнивает Сартра с Геростратом, который сжег храм Дианы в Эфесе, чтобы прославиться и быть уверенным, что его имя не будет забыто. Конечно, доводить эту аналогию до конца несколько рискованно, и нельзя быть уверенным в том, что Сартр не поколебался бы поджечь собор Парижской Богоматери. Но то, что его обуревает патологическое желание непременно о себе напоминать и что он боится кануть в Лету, как говорили в прежнее время, – подобно очередному лауреату Гонкуровской премии, это несомненно.
В пятидесятых годах Сартр был властителем умов в Париже. Потом как-то незаметно он перестал им быть, и его стали забывать. Рассчитывать на то, что экзистенциалистские теории будут всегда привлекать к себе очень многих, в частности молодежь, – рассчитывать на это было трудно. Это требует известных познаний в области философии, известной культуры, это все-таки не упрощенные идеи коммунизма. Что оставалось? Литература? Но и сартровская литература слишком сложна для массового читателя.
Здесь следует, впрочем, сказать, мне кажется, несколько слов о том, что Андре Жид, в свое время определил непереводимым выражением litterature engagee. В самом приблизительном и далеко не точном переводе это значит литература определенной политической направленности. Имеется в виду, конечно, направленность главным образом коммунистическая. Несчастье здесь заключается в том, что литературное произведение, отвечающее требованиям этой направленности, не может быть и не должно быть слишком сложным или углубляющимся в психологический анализ. Писателю известного литературного уровня эта задача – упрощения, мягко говоря, – часто не под силу. Кроме того, не следует забывать, что это происходит на Западе, в условиях свободы печати, где читатель сам выбирает то, что он будет читать. При этих обстоятельствах количество читателей коммунистических авторов всегда одно и то же, как число избирателей, голосующих за коммунистическую партию на выборах, – к тому же речь идет об одной и той же категории людей. Их, собственно, ни в чем убеждать и не нужно: когда человек твердо верит, что Советский Союз демократическое государство, что Брежнев – один из выдающихся современных мыслителей и теоретиков марксизма и что культура процветает в первой социалистической стране мира, в частности, благодаря усилиям Фурцевой, – то зачем еще такому человеку лишний роман Эренбурга, или Сидорова, или Дюпона? Наивность советских руководителей в их представлениях о Западе просто анекдотична. Когда Косыгина спросили в Париже во время его пресс-конференции, почему в Москве из всех французских газет продается только «L'Humanite», он ответил: потому, что она нравится советским читателям; если бы другие газеты им нравились, то они тоже продавались бы в газетных киосках Советского Союза. Вместе с тем Косыгин знал, что он говорит не с азербайджанскими колхозниками, а с журналистами международной печати, которые в вопросах международной политики разбираются уж наверное лучше советских министров. Когда Фурцеву в том же Париже спросили, почему Солженицына не издают в России, она не нашла ничего другого, кроме такого ответа: пусть пишет хорошие книги, мы будем их печатать. Все-таки Ленин был далек от реальности, когда мечтал о том, чтобы каждая кухарка могла управлять государством.
Свобода – свобода высказывания, выбора, свобода печати – это самая страшная угроза для советских руководителей и беспощадный враг для их сторонников на Западе. Потому что в условиях свободы нельзя уклониться от ответа на некоторые вопросы, а уклонение от ответа влечет за собой прекращение доверия со стороны читателя или слушателя. «Мы осуждаем американский империализм». Очень хорошо. А что сказать о советском империализме и Чехословакии? И так далее. Не будь свободы высказывания, как в Советском Союзе, эти вопросы не могли бы быть поставлены. И вот авторы, идеологическая направленность которых заставляет их неизменно осуждать все, что делают Соединенные Штаты, и неизменно восторгаться всем, что делает Советский Союз, попадают в трудное положение.
Это вообще одно из парадоксальных явлений нашего времени – коммунизм в западных странах – все равно какой, идеологический, литературный, политический. Французская компартия, например, много лет повторяла, что капитализм ведет к обнищанию пролетариата, хотя жизненный уровень рабочих неизменно повышался. Только в последнее время руководители партии все-таки поняли, что это звучит уж слишком неубедительно, и «обнищание пролетариата» исчезло из арсенала коммунистической печати. А главное, это неизбежный примитивизм всей системы коммунистических понятий и коммунистических доводов – и действительно, как можно ожидать диалектической изощренности от Вальдека Роше или Жака Дюкло?
Парадоксальна также литературная биография Сартра. Лучшее, что он написал, это его короткие рассказы, в частности рассказ «Стена». Его трилогия «Пути свободы» гораздо менее удачна и по построению, где он часто пользуется «монтажом», который так любил Дос Пассос, и по содержанию. Его философский труд «Бытие и небытие» доступен сравнительно узкому кругу читателей. Остаются его пьесы – чаще всего удачные – и его статьи. Но это уже не литература, а театр публициста.
Если бы он продолжал писать так, как он это начинал до войны, он мог бы стать одним из выдающихся современных писателей и действительно по заслугам получить Нобелевскую премию, которая была ему присуждена – с недостаточными основаниями – и от которой он отказался. Но литературная биография Сартра была искажена и исковеркана его болезненной любовью к рекламе и боязнью, что его забудут. И, странным образом, то, что он делает, прибегая ко всем средствам, чтобы напомнить о себе, отнюдь не способствует его славе. Над Сартром смеются, – а это очень тревожный признак. И есть основания предполагать, что его литературная участь – это скорое забвение, несмотря на его несомненный ум и талант.
Достоевский и Пруст*
В нашей сегодняшней программе «Дневник писателя» говорится о двух авторах – Достоевском и Прусте. Ничего общего между ними нет. Есть только одно: оба они входят с полным правом в историю мировой литературы, Достоевский в XIX, Пруст в XX столетии. Оба они переросли рамки национальной литературы: Достоевский – русской, Пруст – французской, хотя нельзя себе представить Достоевского вне России и Пруста вне Франции. Но каждый великий писатель отличается тем, что его произведения принадлежат, если так можно сказать, всему человечеству. Достоевского читают во Франции, как Пруста читали бы в России, если бы его книги переводились и издавались на русском языке. Сейчас это не делается, но это, конечно, носит временный характер – рано или поздно весь Пруст будет переведен к изданию по-русски.
Несколько имен все время повторяются в этом году в связи с таким-то количеством лет со дня рождения или со дня смерти того или иного писателя или поэта. Я беру два имени – Достоевский, Пруст. Трудно себе представить более разных писателей с более разной судьбой. Замечательно, однако, то, что можно быть поклонником Достоевского и Пруста одновременно, и в этом нет никакого противоречия.
Если во Франции были писатели, которых можно назвать предшественниками Пруста, то в России у Достоевского предшественников не было. Сам Достоевский, правда, сказал: «Все мы вышли из „Шинели“ Гоголя» – но с этим трудно согласиться: «Шинель» – жестокий, как всегда у Гоголя, рассказ о несчастном маленьком чиновнике, рассказ, написанный гениально, но в котором нет ничего, что было бы характерно для якобы вышедшего из «Шинели» Достоевского. Нет, таких писателей, я хочу сказать, писателей такого строя, как Достоевский, в России не было ни до него, ни после него. Это, собственно, можно сказать почти о каждом крупном писателе, но о Достоевском больше, чем о ком-либо другом.
Есть, конечно, это вечное сопоставление в русской литературе – Толстой и Достоевский. Сопоставление неправильное – как можно их сравнивать? Про Толстого когда-то сказал его страстный почитатель, французский критик Шарль дю Бос: «Если бы жизнь могла писать, она писала бы как Толстой». Это ни в коем случае неприменимо к Достоевскому, у которого все выстрадано, вымучено, все не так, как бывает в действительности, и нужен весь гений Достоевского, чтобы мы могли поверить в существование того мира, который он описывает, мира, в котором Раскольников говорит Сонечке: «Не тебе кланяюсь, страданию человеческому кланяюсь». Что может быть фальшивее, чем Настасья Филипповна? Что может быть неправдоподобнее, чем поездка к старцу Зосиме и кривлянье старого шута Федора Павловича Карамазова, римлянина времен упадка?
Есть, конечно, в том, что написал Достоевский, одна книга, которая стоит особняком и где этого нет: это «Записки из Мертвого дома». Если бы Достоевский не написал ничего, кроме этой книги, место в истории русской литературы ему было бы обеспечено.
В известной части русской интеллигенции Достоевского принято считать пророком – утверждение крайне спорное. Правда, в «Бесах» психология так называемых революционеров описана необыкновенно, и несомненно, Достоевский увидел и понял в них то, чего не увидели и не поняли другие. Но если говорить об его пророчествах об исторической судьбе России, то трудно найти пример суждения, которое было бы в такой степени ошибочным. Достоевский, как известно, был убежден, что безбожная, мещанская и демократическая Европа в неизбежном столкновении с глубоко христианской монархической Россией обречена на поражение. История доказала, однако, что «православная Русь», на которую возлагалось столько надежд, существовала только в воображении русских единомышленников Достоевского, в том числе умнейшего человека и замечательного поэта Тютчева. И исторического испытания Россия не выдержала – та Россия, которую представлял себе Достоевский. Вернее даже, этой России вообще не оказалось, России – оплота православия и монархии. Российская монархия рухнула без того, чтобы кто-либо попытался ее спасти, православие ничему и никому не помогло. Бели говорить о христианстве, то оно сохранилось именно на якобы безбожном Западе, а не в России. И неизбежного столкновения между Западом и Россией тоже не было, было две войны, и каждый раз в одну из союзных коалиций входила Россия, – монархическая в 1914–1918 годах, советская во второй мировой войне.
Но за эти ошибки в исторических прогнозах трудно кого бы то ни было упрекать. Значение Достоевского совсем не в этом, а в его литературном наследстве, в том, что он создал мир, которого до него не знал никто. И почитатели Достоевского должны были бы настаивать именно на этом прежде всего, забыв об исторических пророчествах и «Дневнике писателя», который недостоин автора «Бесов» и «Братьев Карамазовых».
Второе имя, которое все время повторяется в эти дни, это Марсель Пруст, родившийся в 1871 году, сто лет тому назад. Марсель Пруст – самый значительный писатель нашего века; Толстой, правда, умер в 1910 году, но он, в общем, скорее писатель все-таки XIX века.
В противоположность Достоевскому, у Пруста в истории французской литературы были предшественники. Первый из них – герцог Сен-Симон с его несравненным искусством психологического портрета. Но герцог Сен-Симон не был беллетристом и писал только свои воспоминания. Писатели – предшественники Пруста – это Бенжамэн Констан и Фромантэн, с романами «Адольф» и «Доминик». Они пытались делать то, что впоследствии делал Пруст, но у них не было его таланта, и поэтому, быть может, когда говорят о Прусте, то о них забывают. Конечно, ни «Адольфа», ни «Доминик» нельзя сравнивать с эпопеей Пруста «В поисках потерянного времени». О ней в Большой Советской Энциклопедии сказано так: «Печать пассивности, меланхолии лежит на этом произведении, свидетельствующем о разложении буржуазной литературы». Неискушенный читатель может подумать, что вот была, дескать, буржуазная литература, находилась в расцвете, а потом, когда появился Марсель Пруст, стала разлагаться. Буржуазная литература всегда существовала и существует, и это всегда литература третьего сорта, разлагаться ей не нужно, так как она по своей природе, в смысле искусства – мертвечина. Но к этой буржуазной литературе Пруст не имеет отношения, так же как к ней не имеет отношения Толстой. Что же касается литературного искусства, то во всей мировой литературе есть мало имен, которые можно поставить рядом с именем Пруста.
В чем замечательность и гениальность Пруста?
Не в том, что он новатор – да и новатором его можно назвать с натяжкой. В том, что он увидел мир так, как его не видит никто другой. В глубине его психологического анализа, в его понимании, в его переходах из одной жизни в другую – так как каждый из нас ведет несколько жизней – каждый, кроме самых примитивных людей. Его описания событий – вроде того, что происходило с теткой Октавией, которой одни говорили – мадам Октав, вы принимаете слишком много лекарств, вы отравляете ваш организм, дайте ему самому возможность бороться против болезни; а другие говорили – мадам Октав, вы принимаете слишком мало лекарств, вы не помогаете вашему организму бороться против болезни. После этого идут страницы и страницы, на которых ни слова не говорится о тетке. И потом наконец – снова о ней:
«После смерти тетки Октавии, – так как она в конце концов умерла, доказав этим, что были одинаково правы как те, кто говорил, что она принимала слишком мало лекарств, так и те, кто говорил, что она принимала их слишком много».
Все, что пишет Пруст, всегда умно. Кроме того, он отличается еще и тем, чего так не хватает многим авторам нашего времени, – культурой.
Большая Советская Энциклопедия пишет, что Пруст, «опуская все общественно значимые события, сосредоточивает внимание на субъективных ощущениях персонажей – представителей французского буржуазно-аристократического общества начала XX века». Это в значительной степени верно – но что в этом плохого? Князь Андрей, граф Ростов, Безухов в «Войне и мире» Толстого – разве это не представители русской аристократии, так же как Анна Каренина? Это не мешает тому, что «Война и мир» и «Анна Каренина» занимают значительное место в истории мировой литературы. В этом смысле примеров можно привести много – и в конце концов, Гамлет, принц датский, – это тоже не слесарь передового завода и не колхозник, которого, скажем, описала Галина Николаева в связи с общественно значимыми событиями в сельском хозяйстве Советского Союза. И вот, несмотря на то что Гамлет – представитель датской аристократии, погруженный в субъективные переживания, Гамлет Шекспира – это шедевр мировой литературы, а колхозники Галины Николаевой никакого отношения к литературе вообще не имеют. Дело совсем не в том, кого именно описывает автор – аристократа или крестьянина. И тот и другой имеют совершенно одинаковое право на литературное существование. Вопрос только в том, как они описаны и какой интерес они представляют для читателя. Что касается их субъективных переживаний, то именно таким образом выясняется и индивидуальность тех, кто описан, и их отношение к миру.
С точки зрения так называемого социалистического реализма – вся мировая литература не представляет собой никакой ценности, – ни Гомер, ни Сервантес, ни Шекспир, ни Толстой. Зато писатель Василий Сидоров, скажем, выпустил роман, где жизнерадостные колхозники и передовые рабочие, перевыполняя нормы навстречу такому-то съезду партии, создают подлинную социалистическую действительность и вдохновляют на труд миллионы советских читателей. Да, и вот все-таки роман Василия Сидорова – это никому не нужная макулатура, а Шекспир и Толстой – это гении, без которых мировая литература была бы несравненно беднее. Ну, а отсутствие в ней представителей социалистического реализма замечено не будет. И вот в порядке этих соображений следует отметить, что, несмотря на отрицательный отзыв Большой Советской Энциклопедии, Марсель Пруст – писатель мирового значения, и его литературный гений и несравненное литературное мастерство таковы, что в Союзе советских писателей они никому и не снились. Непризнание гения ставит в тягостное положение не его, а того, кто его не признает. Отзывы можно давать какие угодно – но дела это не меняет. Я часто вспоминаю анекдотические слова какого-то советского критика, который сравнивал поэта Уткина с Пушкиным и писал, что если в смысле поэтического дара Пушкин не уступает Уткину, то в смысле политической сознательности Уткина надо поставить на первое место. Возможно, возможно. Однако Уткина, который, кажется, умер во время войны, уже сейчас никто не помнит, а вот Пушкина не забыли. То же самое – это нетрудно предсказать – произойдет и здесь, то есть с Прустом: никто не будет помнить о социалистическом реализме и его авторах, а Пруста и роман «В поисках потерянного времени» будут знать и помнить все. Фразы, где глаголы стоят в будущем времени, когда речь идет о литературных суждениях, – эти фразы – вещь опасная. Но в некоторых случаях риска нет, и, говоря о том, что Пруста не забудут, мы не рискуем ошибиться.
Поль Валери*
ВЕДУЩИЙ: Переходим к программе «В мире книг». Сегодня мы расскажем о французском писателе и поэте Поле Валери. У микрофона автор передачи Георгий Черкасов.
ЧЕРКАСОВ: Я недавно вспомнил, что в 1871 году родился один из самых оригинальных французских писателей последнего времени Поль Валери. Он умер в 1945 году, окруженный всеми почестями, какие только возможны. Несомненно, Валери был человеком замечательным и замечательным писателем. Вместе с тем, если перевести его произведения на русский язык, я думаю, что они не имели бы успеха. Справедливость требует отметить, впрочем, что во Франции Валери тоже никогда не был и не мог быть очень читаемым автором, для этого он слишком сложен и слишком труден. Характеризовать его метод чрезвычайно трудно. Можно только сказать, что Валери начинается там, где начинается метафизика.
Нельзя себе представить менее конкретного автора. Он весь как бы на полях книги, в стороне от сюжетов. Когда он пишет, например, о методе Леонардо да Винчи, то читатель напрасно стал бы искать в этом труде анализ творчества великого художника. Нет, это соображения о том, что думал, может быть, Леонардо да Винчи о той или иной проблеме творчества. Это не мешает тому, что все это представлено блестяще, и все чрезвычайно интересно. Но средний читатель мог бы с полным правом спросить: при чем здесь Леонардо да Винчи?
Я не знаю ни одного перевода Валери на русский язык. Но я хотел бы привести, как пример его стиля, тот период, который он посвящает в своем этюде о Леонардо да Винчи, – тот период, который он посвящает своим соображениям о построении. Вот он: «Тот, кто никогда не понимал, даже в воображении, цель дела, которое он может бросить, и столь незаконченного построения, когда другие думают, что оно только начинается; тот, кто не знал восторга, пылающего в течение хотя бы минуты, яда зарождения идеи, сомнения, холодности внутренних соображений и этой борьбы мыслей, из которых самая сильная и самая универсальная должна одержать победу, даже над привычкой или над новшеством; тот, кто не увидел на белой странице образа, не тронутого реальностью и сожалением о тех знаках, которые не будут на нем начертаны, кто не видел в прозрачном воздухе здания, которого нет, тот, кого никогда не мучило головокружение оттого, что он удаляется от цели, беспокойство о средствах ее достигнуть, расчет, медленность и отчаяние постепенных фазисов построения, рассуждения о будущем, в которых есть то, чего в будущем не будет – такой человек, каковы бы ни были его познания и богатства его воображения, такой человек не знает, что значит строить.» Этот период взят из «Метода Леонардо да Винчи».
Для того чтобы сделать его доступным среднему читателю, нужно было бы проделать огромную работу по переводу его на язык конкретных понятий. Валери был выше этого. Он никогда об этом не думал. Его склонность переводить все в область метафизики была такова, что простейшие вещи под его пером превращались в сложные и, надо сказать, не всегда убедительные метафоры. Кроме того, это была область, в которой не существовало вполне определенных понятий, были только проекции понятий, где никакое утверждение не могло быть ни доказано, ни опровергнуто. Валери, по-видимому, склонен считать, что это единственный достойный настоящего писателя способ выражения.
В статье о творчестве Пруста он пишет: «Некоторые находят, что его трудно читать. На это я отвечаю, что в наше время трудные авторы нужнее всего, они оказывают услугу Монтеню, Декарту, Боссюэ, некоторым другим, которых стоит прочесть. Все эти великие писатели говорят абстрактным языком. Они рассуждают. Они углубляют. Они выражают в одной фразе всю идею законченной мысли. Они не боятся читателя. Они не думают ни о тех усилиях, которые делают они, ни о тех, которые делает этот читатель. Еще немного времени, и мы перестанем их понимать». Это очень эффектно, как все у Валери написано. Но против утверждений Валери в данном случае не трудно возражать. Во-первых, Монтень для чтения не труден. Декарт отличался прозрачностью своего удивительного стиля. И, наконец, Боссюэ был красноречив в лучшем смысле слова, но никогда не был ни труден, ни непонятен.
Им всем Валери приписывает особенности Пруста, которых у него тоже не было. Но, вопреки распространенному заблуждению, Пруста читать не трудно. Скажем больше. Все эти авторы обладали в высокой степени даром литературного слова. И для чтения они не трудны. Есть во французской литературе последнего времени писатели или поэты, которых действительно трудно читать. Как, например, поэт Сен-Жон Перс; проще говоря Алекси Леже, лауреат Нобелевской премии по литературе. Его читать трудно, это верно. Его надо расшифровывать. Но когда эта работа сделана, читатель убеждается в том, что тратить времени на это не стоило.
Трудно читать малоизвестного автора – графа Лотреамона, которого воскресил из небытия Андре Бретон и которого звали Изидор Дюкас. Его книга «Les Chants de МаЫогог» тоже действительно трудна, но трудна в том смысле, в каком бывает трудно читать стенографическую запись бреда. Изидор Дюкас писал именно так, что ввело в заблуждение некоторых его современников – он умер в 1870 году, – не многих, впрочем, и некоторых других, поверивших Андре Бретону.
Поль Валери принадлежит к числу авторов, которых трудно читать, это бесспорно. Но это происходит оттого, что все его рассуждения, нередко блестящие, переведены в ту метафизическую сферу, которая далеко не всем доступна. В частности, его длинный период о строительстве, перевод которого я приводил в начале этой беседы, если его передать языком обьпсновенных понятий, жестоко при этом его сократив, значил бы следующее: «Тот, у кого никогда не возникало сомнений по поводу его работы, ее значения и смысла, тот не имеет представления о том, что такое построение». Конечно, такое упрощение и такое сокращение похоже на насильственную смерть, но смысл того, о чем писал Валери, остался бы – хотя бы в форме памятника на литературной могиле.
Но, конечно, Валери не приходилось приносить таких жертв. У него было достаточное количество читателей, которых не пугали никакие трудности стиля. А широко читаемым автором, повторяю, он не был и не мог быть. Представить его, скажем, теперь в сегодняшней советской литературе в русском переводе невозможно. Переход от примитивного социалистического реализма к Полю Валери кажется совершенно неправдоподобным.
Не будем, однако, обвинять Валери во всех смертных грехах. В частности в том, что для него литература начинала существовать только после определенной границы. То, что было просто, его не интересовало. Это далеко не так. И лучшим доказательством этого служат слова, которые он написал в одной из своих книг. Там он говорит, что в истории мировой культуры было три чуда: Эллада, Возрождение и XIX век русской литературы. Должен признаться, что меня это удивило. Не оттого, что Валери мог бы этого не думать, а потому что это высказывание предполагало такое знакомство с русской литературой, которого мы были не вправе требовать от французского мыслителя. Ведь у Валери в одной из его книг, которая случайно оказалась у меня под рукой, – вариации на одну мысль, что мне вдруг напомнило Пастернака – «Темы и вариации».
Вариации Валери – это по поводу знаменитой фразы Паскаля: «Меня пугает это вечное молчание бесконечных пространств». И вот Валери возражает: «Молчания бесконечных пространств нет, есть постоянная симфония неба. И недаром Бог говорит Иову: „Утренние звезды распускались в торжественном пении“. Во всяком представлении, где все мрак и тишина, есть искажение действительности. Небо не молчит, оно поет. Молчание неба – это мрачность самого Паскаля, это его рок, это его видение мира. Во всем этом нет ничего, что можно было бы, действительно, доказать».
Молчит ли небо, как утверждает Паскаль, или поет, как говорит Валери? Вопрос, совершенно опять-таки недоказуемо, в другом: кто прав? Тот, кто слышит метафизическую симфонию, или тот, кто ее не слышит? Или еще иначе. Должны ли мы ее слышать или нет? Для Валери ответ на этот вопрос ясен: да, должны. Это симфония мира, в котором мы живем. Это смысл религии. Это наша защита против той мрачной безличности, которую мы создаем сами, как безутешный Паскаль.
Паскаль, в свою очередь, повторяет: «Вечное молчание бесконечных пространств». Спора, собственно, нет. Есть два разных мироощущения. Оба одинаково законные, но ни одно из которых не может рассматриваться как очевидная истина. Валери дает этому объяснения. То, что нашел Паскаль, было найдено, потому что он ничего не искал. Он никогда не верил в то, что эти искания могли бы к чему-либо привести. Вечное молчание, его отклик он нашел в самом себе. В действительности его нет, не было.
Вот то, что Валери называет вариациями. Они могли бы продолжаться неопределенное время и не привести ни к какому результату. Но именно в этой области, там, где нет ни фактов, ни доказательств, Валери чувствует себя лучше всего.
Валери – это всегда уход в метафизику, будь это рассуждения о «Методе» Леонардо да Винчи, или анализ того или иного философского положения по поводу той или иной проблемы. Чисто внешний аспект вещей – аспект, так сказать, конкретный, редко привлекает внимание Валери. Материальный мир приобретает интерес тогда, когда он освобождается от своей внешней оболочки и когда мы можем судить о нем как о разрешенной или не разрешенной проблеме.
Мне иногда кажется, что ответ на поставленный вопрос не так важен. Важен подход к вопросу. Мы обязаны эллинской культуре одной из самых удивительных и гармонических наук – геометрией. Все наши научные достижения оттуда. И возникает вопрос. Хорошо или плохо то, что геометрия получает все большее распространение? Хорошо ли то, что все большие и большие массы народа приобщаются к культуре? На этот вопрос Валери ответа не дает. Но предвидеть его не трудно. Распространение культуры как таковой не так важно. Важно качество тех, кому эта культура передается. Важно появление второго Эвклида и второго Пифагора. И тут можно было бы сказать, следуя логике Валери, что эллинская культура осталась непревзойденной, потому что со времени ее появления в мире не было таких гениев, как те, кто ее создал. Вот те несколько слов, которые мне хотелось сказать о Валери.
Я думаю, и современники, и те, кто пришел после него, должны быть благодарны этому неутомимому человеку за то, что он сделал. И в частности за то, что, отбросив анализ очевидных и конкретных вещей, он познакомил нас с миром того метафизического смысла, который в значительной степени определяет движение культуры.
Максим Горький*
В литературной энциклопедии Горькому посвящен очень пространный очерк, где он, в частности, назван отцом советской литературы и ее социалистического реализма. Вообще говоря, если вообразить себе человека, который ничего не знал бы о Горьком и мог бы судить о нем только на основании очерка в литературной энциклопедии, то надо сказать, что о Горьком у него получилось бы совершенно превратное представление. Горький был изображен как борец против капитализма, как пролетарский писатель, сторонник раскрепощения… и так далее и так далее. Только-только что не сказано то, что говорится обычно в некрологических статьях после смерти такого-то партийного работника: «пламенный борец за дело революции, верный ученик Ленина».
Горький, конечно, такой статьи не заслужил. О его жизни – особенно в последние годы – можно спорить, можно не соглашаться со многими его высказываниями. Но отрицать то, что он был чрезвычайно талантливым писателем, умным и безупречно порядочным человеком, этого отрицать нельзя.
То, что он был якобы начинателем злополучного социалистического реализма, это тоже, мягко говоря, не соответствует действительности: он был Максим Горький и писал так, как писал только он. То, что у него были подражатели, это известно. Но литературной школы он не создал и никогда себе этой цели не ставил, не страдал он также манией величия и считал, например, «Мать» плохим произведением.
Для него характерно то, что он всю жизнь учился писать. Трудно, мне кажется, найти другого писателя, у которого была бы такая разница в качестве между его ранними и поздними произведениями. «Буревестник», «Сокол» и другие его ранние вещи написаны как будто совсем не тем, кто впоследствии стал автором таких книг, как «Детство», «В людях», «Мои университеты», «Заметки из дневника» и последние рассказы. Характерно, что Горький написал о Толстом, пожалуй, лучшее, что было о нем вообще написано.
И хотя Горький прожил последние годы своей жизни в Советском Союзе, и хотя официально признан пролетарским писателем, он, в сущности, принадлежит весь к дореволюционному периоду и непосредственно связан с девятнадцатым веком. Никто не может упрекнуть Горького в отступлении от традиций русской литературы. Горькому, вероятно, не могла бы прийти в голову мысль о возможности переделывать свои произведения в соответствии с партийными указаниями, как это делали многие советские писатели. В отличие от Алексея Толстого, который презирал советскую партийную элиту, хотя и приспосабливал то, что он писал, к ее требованиям, Горький старался ее понять. Но к нему требований не предъявляли, зная, что он их бы не принял.
Его согласие с советской властью представляется, однако, чрезвычайно странным. Купить Горького было нельзя. Почестью и славой соблазнить было тоже нельзя, личной выгоды он никогда не искал. Не было у него и не могло быть того подобострастного раболепия к власти, которое характерно для многих советских писателей. Что же заставило его «принять» советский режим? На этот вопрос ответить трудно. Единственное предположение, которое кажется в какой-то мере правдоподобным, это его политическая наивность. Он был, казалось бы, достаточно умен, чтобы понимать происходящее.
Беседы за круглым столом
О русской зарубежной литературе*
ВЕДУЩИЙ: В наших беседах за круглым столом здесь, в Париже, мы до сих пор говорили о советской литературе, о советских писателях и поэтах. На этот раз я предлагаю поговорить о русской литературе за рубежом.
Как всем известно, одним из последствий того, что в Советском Союзе называют «Октябрем», было, кроме всего прочего, разделение в среде русской интеллигенции, вследствие чего значительная часть ее оказалась за границей. Центрами этой эмиграции были сначала Берлин и Прага, а затем Париж, где русские писатели, художники, поэты продолжали свою работу в течение многих лет. Так вот о произведениях этих писателей, об их значении мы сегодня и будем говорить.
В нашей беседе принимают участие поэт и литературный критик Георгий Викторович Адамович, писатель (искусствовед и критик) Владимир Васильевич Вейдле и наш парижский корреспондент Георгий Иванович Черкасов. Ведет беседу Виктор Шиманский.
Владимир Васильевич, может быть, вы начнете?
ВЕЙДЛЕ: Хорошо. Я думаю, что эмигрантская литература это как-никак очень большое и очень значительное явление. И когда в будущем станут писать историю русской литературы первой половины двадцатого века, то, конечно, нельзя будет не упомянуть писателей, оказавшихся в эмиграции: иначе история эта будет крайне однобокой. Точно так же, конечно, нельзя было бы ее писать, основываясь только на литературе эмиграции; но совершенно в той же мере нельзя ее писать и основываясь только на русской литературе Советского Союза.
Писатели эти уехали по разным причинам. Некоторые были просто высланы, как известно, в 1922 году; среди них были очень выдающиеся. Уехали они также не совсем в одинаковое время: некоторые в самом начале революции, другие через несколько лет. Главным центром литературной эмиграции не сразу оказался Париж. Сперва это были Берлин и Прага. Но очень скоро (с середины двадцатых годов) центром этим, действительно, стал Париж, хотя некоторые писатели, – отнюдь не сплошь незначительные, – жили и в других местах: в Америке, в Германии, в Чехословакии. Но это не так важно. Важно то, что эти русские писатели, которые попали таким образом за границу, оказались, конечно, в совершенно других условиях, чем у себя на родине. С одной стороны, эти условия можно оценивать положительно в том смысле, что они были свободны писать что им вздумается. С другой стороны, условия эти были, конечно, не те, в каких они жили раньше, в каких живут писатели у себя на родине.
Надо сказать, что ведь эмигрантские литературы, – не только наша русская двадцатого века, но и прежние, – играли отнюдь не малую роль; было же время, когда Польши как государства вообще не существовало, и вся литература Польши, и как раз величайшей ее эпохи, возникла в эмиграции вне Польши. Так что удивляться тому, что эмигрантская литература может в себе заключать очень значительных писателей и очень значительные произведения, совершенно не приходится. Это, так сказать, в порядке вещей.
Затем существует мнение не только в Советском Союзе, но и в самой эмиграции, – кое-кто его и здесь высказывал, – что писатель, оторванный от своей родины, не может писать так, как он писал бы, если бы не был от нее оторван… Это мнение ошибочно или, во всяком случае, не ко всем приложимо. Я думаю, что правы те писатели, которые остались в России, чувствуя, что писать так, как им хочется и нужно, – даже если всего написанного не удастся им напечатать, – они могут только в России, как, скажем, Ахматова или Пастернак. Но совершенно правы и те, которые уехали, потому что они знали, что ничего они в России не напишут и просто погибнут. Бунин, например.
Точно так же ошибочно было бы думать, что писатели, – те, которые писали и были известны уже раньше в России, – в эмиграции почему-то должны были писать непременно хуже, чем прежде. Это совершенно не верно, потому что тот же Бунин написал лучшие свои произведения, самые зрелые, самые значительные, именно в эмиграции. И вообще наиболее значительный период в творчестве Бунина начался во время первой мировой войны, когда вышел «Господин из Сан-Франциско» (1916 год), следовательно, совершенно естественно, что полное созревание бунинского таланта произошло именно за границей. Но, конечно, с другой стороны было бы неправильно говорить, что во всех случаях это одинаково. Парадоксально, что писатель, который так связан с русской жизнью, с русской обстановкой и с русскими людьми, с русским прошлым, с русской манерой чувствовать жизнь, как Бунин, однако, лучшее написал за границей; а вот у Мережковского, который со всем этим не был так тесно связан, получилось наоборот: все лучшее свое он написал до революции, а то, что написано им в эмиграции, по удельному весу, мне кажется, не может сравниться с тем, что написано им в свое время в России.
Затем были авторы, – Зайцев, например, или Шмелёв, или Замятин, – которые просто продолжали то, что они начали в России, и нет никакой особой разницы между тем, что они писали там и в эмиграции. Таковы среди поэтов Ходасевич или Цветаева, которая тоже прожила много лет в эмиграции; и хотя ей здесь трудно жилось, хотя переносила она эмигрантские условия гораздо хуже, чем многие другие, все-таки она здесь жила и писала, продолжала свой путь, начатый еще в России. Так и Ходасевич его здесь закончил, но совершенно в той линии, которая началась еще прежде в России. И, конечно, нельзя недооценивать той особой силы памяти, которой наделен бывает нередко писатель: Бунин, например, мог тридцать лет жить памятью той России, в которой он прожил предыдущие сорок лет, и этого было ему совершенно достаточно, чтобы иметь материал для творчества.
Но все это я сказал только о писателях старшего поколения, которые были известны уже в России и здесь продолжали писать. Есть ведь, однако, и целый ряд писателей, которые начали писать за границей. Из них, вероятно, среди прозаиков, самый значительный Набоков, который первоначально писал под псевдонимом «Сирин». Это писатель, который, насколько мне известно, ни строчки (кроме, может быть, стихов) в России не написал: был слишком молод. Во всяком случае, прозу свою он начал писать только за границей, и, конечно, очень печально, что в современной России совершенно не знают его произведений, особенно тех, что написаны по-русски, потому что потом, как известно, он перешел на английский язык, который прекрасно знал смолоду. Но его русские произведения, даже с точки зрения, скажем, европейской литературы вообще, гораздо интереснее английских, потому что они оригинальнее, своеобразнее, новее в сфере русского языка и по отношению к русской традиции, чем по отношению к западной.
Не стану перечислять других авторов, но, во всяком случае, это поколение, которое или начало писать, хотя и давно, но уже за границей, или немногое успело написать раньше в России, заслуживает всяческого внимания. Теперь и оно почти вымерло, остались только очень немногие из него, но это дела не меняет.
Что же касается старшего поколения, то я забыл упомянуть одного из выдающихся русских писателей двадцатого века – Ремизова, который тоже ведь умер в Париже и написал очень многое за границей.
ВЕДУЩИЙ: Так что, если можно суммировать только одну идею из того, что говорил Владимир Васильевич, т. е. одну сторону, то это вопрос, который, кажется, интересует очень многих, а именно: может ли писатель продолжать свою писательскую деятельность в отрыве от своей страны? Георгий Викторович, как вы на это смотрите? Согласны ли вы с Владимиром Васильевичем?
АДАМОВИЧ: Здесь было в немногих словах затронуто столько вопросов, что не знаешь, с чего и начать. Мне хотелось бы коснуться эмигрантской литературы как исторического явления. Но прежде всего хочу ответить на вопрос, который вы только что поставили. Мне кажется, что нельзя обобщать – один может, другой не может, потому что каждый человек отличается от другого и нет одного закона для всех.
ВЕДУЩИЙ: Я этот вопрос задал потому, что существует, как вам известно, такая общая теория в Советском Союзе, что вот, мол, все те, которые не имеют связи с народом, хорошо писать не могут.
АДАМОВИЧ: Да, связь с народом. Один сохраняет связь с народом, прожив полжизни и даже всю жизнь вне своей земли, а другой теряет эту связь, оставшись на родине. Каждый отдельный случай объясняется по-своему.
Владимир Васильевич коснулся целого ряда вопросов, которые и мне хотелось бы затронуть. Мне кажется, что главное в эмигрантской литературе – это, что в то время, как советская литература не была (особенно в сталинские времена) на уровне прошлой русской литературы, в эмигрантской литературе было (может быть, невыполнимое, может быть, непосильное) желание остаться на уровне литературы, которая составляет русскую славу и русское лучшее достояние.
Я думаю, что эмигрантская литература есть явление, которое когда-нибудь, через пятьдесят лет (нельзя в этом сомневаться, зная Россию, Россия не могла в этом смысле измениться) вызовет гораздо больше интереса, внимания, чем она вызывает теперь. Это явление прежде всего трагическое. Я не знаю, может быть, это слишком громкое слово. Но ведь всякая эмиграция, всякая эмигрантская литература наталкивается на убыль внимания. Об этом с удивлением писал Томас Манн, когда сравнительно ненадолго он оказался эмигрантом. Манн утверждал, что в эмиграции он сразу почувствовал убыль внимания к себе по сравнению с тем временем, когда он представлял свою страну. Я думаю, что русские старшие писатели (теперь из них не осталось здесь почти никого, за исключением Бориса Зайцева, который составил себе имя еще в России) здесь натолкнулись на то же самое, на отсутствие интереса и внимания к себе – того внимания, каким они пользовались в России.
Зато возник (особенно в первые 10–15 лет) острый интерес иностранцев к советской литературе, потому что за ней реально, фактически была страна, хотя эта литература, может быть, и была слабее того, что писалось здесь русскими писателями-эмигрантами.
Было еще одно явление, к которому, мне кажется, тоже нужно применить эпитет «трагический». Это, пожалуй, обидно для эмиграции, но это вопрос общечеловеческий. Оказалось, – или, точнее, выяснилось, – что литература сама по себе представляет собой для среднего человека, для средней молодежи гораздо меньше ценности, чем обыкновенно думают люди. Я поясню сейчас свою мысль. Очень часто и Бунину, и тому же Мережковскому, о котором упомянул Владимир Васильевич, приходилось наталкиваться со стороны своей же русской молодежи (не писательской молодежи, а молодежи, которая к литературе не имела отношения) на полное отсутствие какого-либо уважения. Для такого молодого человека французский знаменитый писатель, скажем, Франсуа Мориак – это лицо, достойное уважения, потому что он имеет высокий общественный ранг. Он представляет собой то же самое, что, например, министр, он все может, за ним издательства, связи, деньги. Он представляет собой какую-то фигуру, которой надо и хочется подражать, которую следует уважать. За Буниным и Мережковским здесь не было ничего, и они увидели, что сами по себе они здесь не представляют собой в глазах среднего молодого человека той ценности, которую имели, когда за ними тоже были и деньги, и влияние, и издательства.
Я не касаюсь эмигрантской литературной молодежи, хотя это тоже вопрос, о котором стоило бы поговорить. Эмигрантская литературная молодежь, та, которая начала жить сознательной жизнью приблизительно с революции, оказалась за рубежами России большей частью ведь случайно. Было беженство, было случайное разделение. Многие оказались эмигрантами, а могли бы остаться в России. Потом все обострилось. Но молодежь, о которой Ходасевич очень верно сказал, что она «совершала подвиг», эта молодежь ничего не зарабатывала, знала, что никакого внимания, никакого уважения, никакого интереса к тому, что она делает, не вызовет. Со стороны старших писателей, к сожалению, было к ней довольно много равнодушия. Но молодые упорно продолжали писать стихи, рассказы, иногда удачные, иногда замечательные, иногда ничего не стоящие: могло ли быть иначе? И это представляло собой действительно какой-то подвиг, служение русской литературе. Я думаю, когда-нибудь будет признано, что здесь было все-таки создано, сказано, написано много такого, что достойно имени России.
ВЕДУЩИЙ: Георгий Иванович…
ЧЕРКАСОВ: Я хотел коснуться нескольких вопросов, и прежде всего вопроса, о котором уже говорили, может ли писатель, оторванный от родины, продолжать заниматься литературным творчеством? Я просто хотел бы напомнить пример Гоголя, у которого из двадцати лет его литературной деятельности восемнадцать лет прошло за границей, и хотя он, собственно, не был так оторван от родины, он не был эмигрантом, – но все равно, например, «Мертвые души» он писал в Риме. Но дело не в этом, а в том еще, как мне кажется, что у эмиграции, у эмигрантской литературы, у представителей молодого поколения, тех, кого я знал приблизительно, на их плечи легла, может быть, помимо их желания, какая-то задача, которая не могла быть выполнена в России, потому что в России, после Октябрьской революции и после первых, сравнительно либеральных лет советского режима, когда начались преследования и почти что литературный террор, произошел разрыв культурной традиции, которая была; и вот эта культурная традиция могла быть поддержана только за границей, только в условиях эмигрантской литературы, несмотря на все самые неблагоприятные обстоятельства, которыми это сопровождалось. И вот эти самые молодые писатели, о которых упоминал и Владимир Васильевич, и Георгий Викторович, они, конечно, были поставлены в очень трудные материальные условия, и никакой корысти у них быть не могло. Они писали не для того, для чего обычно пишут писатели у себя на родине, т. е. чтобы получить какую-то известность, пользоваться материальной обеспеченностью и т. д. – ничего этого у них не было и не могло быть, но они просто продолжали то, что они делали бы, ежели бы остались в России.
И кроме того, если брать в общем произведения эмигрантской литературы, произведения тех писателей, которые сформировались уже в эмиграции, то прозаиков среди них почти не было, кроме Набокова и еще одного писателя, которого очень мало знают и которого я лично очень ценю, – это Фельзена, человека большой литературной сосредоточенности и несомненной значительности. К сожалению, его знают мало, и я мало вижу его книг, их очень трудно сейчас найти, но, во всяком случае, Фельзен – явление довольно замечательное. Были также поэты, и некоторые были очень неплохими. И вот то, чем отличался уровень произведений эмигрантской литературы от того, что писалось в Советском Союзе, начиная с тридцатых годов, это то, что все здесь было действительно на уровне европейской литературы; здешнее было, в этом смысле, гораздо выше. В эмигрантской литературе не было тех отрицательных особенностей, которыми отличалась советская литература того времени не потому, что они были ей свойственны, а потому, что этого требовали цензурные условия, партийные директивы и так далее, и так далее. Здесь всего этого не было, была полная свобода; и я думаю поэтому, что будущий историк литературы, анализируя эти годы, найдет в них немало поучительного для истории русской литературы.
ВЕДУЩИЙ: Владимир Васильевич…
ВЕЙДЛЕ: Я готов подписаться под всем, что здесь говорили и Георгий Викторович, и Георгий Иванович. Конечно, Георгий Викторович совершенно прав, тут нет никакого общего критерия, да я и сам это сказал: для одного – так, для другого – иначе; для одного, может быть, невозможно писать вне России, а для другого вполне возможно. И, конечно, связь с народом, это вещь, которую можно толковать очень по-разному: ведь народ, это не одно поколение, это длинная цепь поколений, и легко можно себе представить писателя в эмиграции, который с прошлым своего народа гораздо лучше связан, чем писатель, который после переворота остался в своей стране, оторванный от ее прошлого, связанный только с ее настоящим. Но ведь народ это не что-то, что живет только сегодня; так что уже по одному этому…
Но теперь я хотел бы сказать несколько слов об отрицательной стороне тех условий, в которых оказалась эмигрантская литература. Конечно, это совсем не похоже было на те условия, которые существовали и еще существуют в Советском Союзе; неприятности этого положения были другого рода. Здесь была склонность к некоторой снисходительности, к попустительству (в критике) на основании печальной русской пословицы «На безрыбье и рак рыба». Если у нас, мол, мало настоящих рыб, ну хорошо, тогда в крайнем случае… И это, к сожалению, немножко мешало твердому определению того, что ценно, того, что менее ценно и того, что совсем не ценно.
Однако для будущего это большого значения не будет иметь, потому что все равно это будущее отсеет то, что менее ценно, и, вероятно, сохранит более ценное, если верить, что это будущее отвечает нашим надеждам, что ведь тоже еще неизвестно. Но с точки зрения моральной я согласен с тем, что сказали Георгий Викторович и Георгий Иванович: «по человечеству» и бездарности, которые занимались литературой в условиях эмиграции, заслуживают уважения. Да ведь наверняка никто и не знает, в какой мере он талантлив, в какой мере он умен… Все они, действительно, бескорыстно чему-то служили. И затем, в каждой литературе, – быть иначе не может, – должны быть писатели не только очень хорошие, но и похуже. И, к сожалению, в эмиграции было слишком мало и очень хороших, и похуже. Всех было слишком мало для продолжения и обновления русской традиции, потому что русская литература – литература огромной страны, которая, конечно, вся в этой литературе не участвует, но все-таки этот русский литературный слой покоится на этом огромном подножии.
А тут оказалось, что его больше нет. Кроме того, существовало некоторое недоверие со стороны старших писателей по отношению к младшим. У старших писателей были установленные репутации, с которыми считались редакторы журналов, которые иногда сами в литературе не так уж хорошо разбирались. А новые писатели никаких определенных, заранее готовых рекомендаций не имели, и редактору надо было самому разобраться: какой чего стоил. Но надо сказать, что тем не менее, когда теперь вспомнишь (а это теперь почти все уже прошлое), то все-таки видишь, что и младшим поколением многое было сделано и отдельные книги были отличные, как, например, «Роман с кокаином», не правда ли? Как звали его автора?
АДАМОВИЧ: Агеев.
ВЕЙДЛЕ: Агеев, да. Это была очень талантливая книга. Потом этот автор как-то заглох. АДАМОВИЧ: Он умер.
ВЕЙДЛЕ: Но не сразу после этой книги. И многое другое можно было бы вспомнить. Были поэты: вы сами, Георгий Викторович, Георгий Иванов, Николай Оцуп. Среди многих более молодых, «парижских», я бы выделил Поплавского, Штейгера и Одарченко. Неизвестно, насколько им удалось бы свое дарование до конца проявить, завершить: они ведь все умерли нестарыми, а Поплавский покончил с собой в возрасте еще совсем молодом. Но во всяком случае это были талантливые люди.
И точно так же, хоть всех и не перечислишь, надо среди прозаиков назвать Гайто Газданова, а также Юрия Фельзена (по-настоящему его звали Николай Бернардович Фрейденштайн). Он погиб в гитлеровском концлагере. Был он, несомненно, человек одаренный, высокой культуры и тонкого ума…
Затем не упомянули мы еще писателя в эмиграции самого популярного из всех, но в России оставшегося неизвестным – это Марк Александрович Алданов, который, впрочем, еще в России выпустил две книги, но не относящиеся к лучшим его произведениям, а романы свои стал писать уже в эмиграции, где они имели большой успех. Они имели бы, несомненно, еще больший успех в Советском Союзе, если бы их там теперь перепечатали. Не думаю, чтобы он принадлежал к писателям самого первого разряда, но это был, во-первых, превосходный журналист, а затем и очень одаренный историк. Его исторические романы, – относятся ли они к недавнему времени или к более далекому, – в них как раз историческая часть всего лучше и сделана и обличает в нем талант настоящего историка, то есть уменье себе представить и наглядно изобразить людей и события определенной эпохи, например, в «Девятом Термидоре» – определенного момента французской революции; или в романе «Истоки», где описано убийство Александра II и вся подготовка этого убийства. Нет в русской литературе более толкового, беспристрастного и живого описания этого весьма знаменательного события.
ВЕДУЩИЙ: Владимир Васильевич, вы говорили только что о том, что в эмиграции слишком часто считалось, что «на безрыбье и рак рыба». Но все-таки они существовали, эти «рыбы»?
ВЕЙДЛЕ: Несомненно.
ВЕДУЩИЙ:…да, и кроме того, несмотря на то, что не было тут России и всего, что с этим связано, все-таки здесь в Париже выходили газеты и журналы, издавались книги, устраивались литературные вечера; и вот эта эмигрантская жизнь, которая еще не так давно, перед войной, была очень активной и интересной, эта эмигрантская жизнь, мне кажется, все же создавала те условия, в которых русские писатели могли писать. Вы говорили также о польской литературе. Видите, польская литература тоже здесь в Париже сто с лишним лет тому назад развивалась, но, насколько мне известно, тогда было совсем не так, и я в этом усматриваю большой интерес; тогда у поляков было несколько больших «рыб», Словацкий, Мицкевич, Норвид и кое-кто еще, но не было того, что русская эмиграция создала в Париже после революции. И как вы думаете, есть ли вообще какой-либо исторический прецедент вот того, что у нас случилось – такого массового исхода интеллигенции в какую-то одну страну, и продолжения там ее традиций, как сказал только что Георгий Викторович, тех традиций, которые существовали в русской литературе. По-моему, это совершенно новое явление, которого никогда еще не было. Может быть, я ошибаюсь?
АДАМОВИЧ: Позвольте два слова. Прежде всего я хочу сказать, что мне жаль, что мы можем лишь мимоходом коснуться отдельных имен, например Поплавского, которого упомянул Владимир Васильевич. Если бы я стал говорить о Поплавском, мне нужно было бы сказать очень многое. Это был один из двух-трех самых одаренных людей, которых я в своей жизни вообще встречал. Это был человек исключительно, необыкновенно талантливый. Покончил ли он с собой, это не совсем известно, но погиб он в ранней молодости. Фельзен, о котором упомянул Георгий Иванович, сам о себе сказал: «У меня нет таланта, у меня есть призвание». Очень верно, очень метко сказано. Но я не хочу касаться отдельных имен, даже Алданова, книги которого когда-нибудь будут в России расходиться, вероятно, миллионными тиражами. Мне кажется… тут я в первый раз позволю себе не согласиться, как говорится, с предыдущими ораторами. Тут упоминали, что Гоголь писал за границей и писал там «Мертвые души», а такой-то писатель из польской эмиграции тоже жил за границей… У меня когда-то было довольно много споров с Ходасевичем, и в один из споров именно на эту тему Ходасевич сослался не на Гоголя и не на Словацкого, а на Данте. Но ведь это совсем же не то! Гоголь знал, что он может вернуться в Россию и найдет ту же жизнь, которую он оставил. Данте мог вернуться в любой итальянский город, из которого его выгнали или выслали, и нашел бы то, к чему привык. Русская эмиграция стояла перед потонувшим миром: та Россия, тот мир, который она знала, который она помнила, исчез, и было впереди что-то незнакомое, устрашающее, несущее с собой что-то такое, чего она не могла предвидеть. Из-за этого здешнее смятение могло бы оказаться гораздо глубже, чем у Гоголя, у Словацкого и даже у Данте. Здесь было совсем не то, здесь мы недоумевали: что происходит, что произошло в России? Это была тема всех разговоров, единая тема эмигрантской литературы. За такой фабулой отдельных рассказов Бунина или другого писателя стояло одно это желание, чтобы в России настала такая жизнь, которая для нас казалась бы не то что человечески приемлемой по нашим прежним социальным условиям, но достойной русского народа и русского имени. Из-за этого здесь была такая острота чувств, надежд, опасений, которой в другой эмиграции, я думаю, никогда не было. Это был первый случай, когда целый ряд писателей оказался перед тем, что исчезло. Ни у Гоголя, ни у Словацкого этого никогда не было!
ВЕДУЩИЙ: Значит, вы согласны с тем, что я сказал, что это был действительно случай без всякого прецедента?
АДАМОВИЧ: Без всякого прецедента. Это был единственный исторический опыт, и оттого, я уверен, что через 50 лет или через 200 лет в России будет к этому интерес, внимание и доверие, потому что не могут же будущие русские поколения не понять и не почувствовать, как была эмиграция оклеветана советскими журналистами и писателями, которые уверяли, что тут только думают о том, чтобы вернуть прежние привилегии, имения, банковские счета, особняки и не знаю что еще… Конечно, были случаи, когда было и это. Но в целом в эмигрантской литературе не было ни злобы, ни мести, ни желания что-либо из прежнего вернуть. Было желание как-то сговориться с теми русскими явлениями, которые в России происходят, с которыми какой-то сговор, мир, взаимное понимание, взаимное доверие возможно. Только это оживляло ту часть эмигрантской литературы, которая была достойна, – как я говорил, – русского прошлого.
Я не закрываю себе глаза, что были и рассказы о том, какие были вкусные пирожки у Филиппова и как было хорошо приехать из театра, когда какая-нибудь Маша или Дуня открывала дверь и ставила самовар… Были, были, конечно, воспоминания о том, как прежде хорошо жилось! Но на уровне того, что можно вспомнить лучшего в русской эмигрантской литературе, было только сознание единственного исторического опыта и желание оказаться достойными того, что со всеми нами произошло. Произошло ведь это, вероятно, единственный раз с тех пор, как история существует. И нельзя этого забывать, нельзя этого упускать из виду…
ВЕДУЩИЙ: Георгий Иванович…
ЧЕРКАСОВ: Я хотел напомнить одну фактическую подробность, которая заключается в следующем: если говорить о поколении тех писателей, которые сформировались в эмиграции, то чаще всего сюжеты их произведений не имели отношения к русскому быту прежнего времени хотя бы по той простой причине, что эти люди не знали так прошлое России, как его знал Бунин, как его знали другие писатели старшего поколения. И поэтому это была литература, если хотите, в чистом виде, это никогда не было бытовой литературой; у того же Набокова трудно найти какие бы то ни было упоминания о прежнем русском быте или сожаления о том, чего там не было или что было. У других писателей то же самое. Это было просто другое поколение, которое писало на русском языке, думало по-русски, и это был русский образ мышления, русский литературный язык, но то, о чем они писали, это было, собственно говоря, вне России, это не имело…
ВЕДУЩИЙ: Но связь, связь была все-таки, конечно!..
ЧЕРКАСОВ: Связь с Россией была. Была душевная, была моральная, была стилистическая, была языковая, какая угодно…
АДАМОВИЧ: У Набокова она бывает…
ЧЕРКАСОВ:…У Набокова меньше, чем у других; но вообще-то говоря, это уже меньше всего было похоже на русскую бытовую литературу и не могло быть на нее похоже.
ВЕДУЩИЙ: Владимир Васильевич…
ВЕЙДЛЕ: С тем, что говорил Георгий Викторович, я в общем согласен. Совсем такого положения никогда и не было, это правда. Хотя все-таки, когда была польская эмиграция, то ведь Польша, собственно, не существовала; так что в этом смысле было положение еще более радикальное…
АДАМОВИЧ: Но не было изменения социального.
ВЕДУЩИЙ: Не было такого количества прежде всего интеллигенции за границей; была тогда в Париже и во Франции какая-то часть польской армии и среди нее была какая-то часть интеллигенции, была группа писателей, но у них не было того, что было после первой мировой войны в Париже среди русских, начиная с 1925-го, скажем, года. Этого не было.
АДАМОВИЧ: Да, это было политическое расхождение, но не было социального расхождения. Социального переворота не было.
ВЕДУЩИЙ: Не было никакого, потому что Польша была тогда занята иностранным государством, но не было пропасти.
АДАМОВИЧ: Ну, конечно не было пропасти, не было потому, что…
ВЕЙДЛЕ: Да. Но все-таки надо сказать, что и французская, например, эмиграция эпохи Французской революции сыграла большую роль в дальнейшей истории французской литературы. И многие дальнейшие французские направления, романтико-националистические, например, зародились в эмиграции; Шатобриан, заметьте, был ведь эмигрант. Только эта эмиграция продолжалась гораздо более короткое время, и это уже, конечно, очень существенно. Она продолжалась каких-нибудь пятнадцать – двадцать лет, а Шатобриан даже и еще намного меньше пробыл за границей. Так что наше положение и в самом деле очень особенное. И верно также, – это очень важно, – что у большинства русских писателей здесь в их произведениях совершенно не сказывается того лубочного отношения к дому, желания вернуть себе какие-то блага, которых у них, впрочем, часто и вовсе не бывало и раньше…
АДАМОВИЧ: Конечно, не было…
ВЕЙДЛЕ: Не было. И это надо сказать, надо подтвердить. В этом «патент на благородство» русской эмиграции.
ВЕДУЩИЙ: Георгий Иванович…
ЧЕРКАСОВ: Я хотел еще сказать одну вещь. Очень характерно, что, если говорить об эмигрантской литературе, то в ней, в том поколении, которое здесь сформировалось, было гораздо больше поэтов, чем прозаиков, и были поэты действительно выдающиеся.
ВЕДУЩИЙ: Может быть, это была случайность?
ЧЕРКАСОВ: Нет, это потому, что поэзия – это литература в более чистом виде, чем проза, и которая не требует какой-то бытовой базы; поэтому поэтов было больше и они были выше по уровню, мне кажется; не все, но некоторые. А с прозой, конечно, дело обстояло более печально.
ВЕЙДЛЕ: Но все-таки, если мы теперь возьмем хотя бы одни «Современные записки» (которые издавались, заметьте, людьми, собственно, далекими от литературы) и просмотрим все эти сорок, или сколько там томов «Записок», и сравним их со всеми журналами, которые издавались в Советском Союзе за это время, то эти «Современные записки» будут во много раз содержательнее, интереснее и выше по общему умственному и литературному уровню, чем все советские журналы, вместе взятые; а это все-таки кое-что значит, не правда ли?
И если мы возьмем в них не только повести и рассказы, не только то, что называют беллетристикой, но также и статьи, и все вообще, то там, конечно, окажутся некоторые вещи не очень высокого качества, как всегда и всюду. Но все-таки в целом…
ВЕДУЩИЙ: Георгий Викторович…
АДАМОВИЧ: Я хочу сказать, что «Современные записки» не только по сравнению с советскими журналами были выше, я думаю, что «Современные записки» выдержали бы сравнение с любым прежним русским дореволюционным журналом. Может быть, один номер был лучше, другой хуже, но в целом все было на уровне прежних русских журналов, так же, как газета, которую в течение двадцати лет редактировал Милюков: его «Последние новости» были на уровне прежних «Русских ведомостей», «Речи» или подобных им газет.
ВЕЙДЛЕ: Совершенно верно. И на их уровне, и на уровне западных хороших газет.
АДАМОВИЧ: Конечно, об этом нам самим, эмигрантам, как-то трудно говорить, потому что выходит «гречневая каша сама себя хвалит». Но мне кажется, что надо признать (я не говорю, что мы должны это признать, потому что я думаю, что это будет признано именно через двадцать, пятьдесят или сто лет), что эмиграция была необходима, потому что сорок или пятьдесят лет Россия, настоящая Россия, молчала, а здесь что-то было сказано. В связи с этим я хочу коснуться еще одного вопроса, которого мельком коснулся Владимир Васильевич, по поводу Ахматовой и Пастернака.
При всем моем преклонении перед чудесным дарованием Анны Ахматовой, есть у нее что-то такое в ее литературной позе, что меня почти коробит. Это, когда она писала (писала об этом в самом начале революции, писала и в последние годы), что осталась со своим народом «в несчастье», как сказано в ее «Реквиеме». Да, она осталась со своим народом и имеет право этим гордиться. Но она должна была бы признать (мне очень жаль, что, когда она была в Париже, об этом как-то у меня с ней не вышло разговора), она должна была бы признать, что, если другие поэты и другие писатели уехали из России, то не для того, чтобы спасать свою шкуру и свои текущие счета, а для того, чтобы иметь возможность говорить что-то такое, чего в России сказать было нельзя. Я уверен, что это будет когда-нибудь признано. Но теперь, когда берешь какой-нибудь советский словарь, то стыдно видеть пропуск имен, которые нельзя пропускать. Это, кстати, относится не только к эмигрантским именам: в Большой Советской энциклопедии нет, например, имени Константина Леонтьева – одного из замечательных русских писателей; о Василии Васильевиче Розанове – несколько пренебрежительных строк; о Данилевском – авторе замечательной книги «Россия и Европа», которую Достоевский оценил как «капитальный труд», – две строчки лишь о том, что он спорил с Дарвином; а об эмигрантах и говорить нечего… Вот это стыдно читать, стыдно за Россию, что Россия до этого дошла… Ведь вовсе не обязательно соглашаться с Константином Леонтьевым, который был, конечно, крайний реакционер. Но надо указать, что это был крайний реакционер, и надо объяснить, что было у этого человека в душе и в сознании. А замалчивание или клевета, которая обращена ко всему, что несогласно с советским мировоззрением, это что-то недостойное! И уже по одному этому эмиграция была необходима. Я уверен, что через пятьдесят или сто лет это будет полностью в России признано, потому что мы все-таки знаем Россию и не можем насчет этого обмануться.
ВЕДУЩИЙ: Владимир Васильевич…
ВЕЙДЛЕ: Да, и я уверен. Знаете, это ведь очевидно, что вот теперешнее более молодое поколение в Советском Союзе за последние, скажем, десять – двенадцать лет, оно ведь стремится, собственно, сознательно или бессознательно, воссоединиться с тем, что было непосредственно до революции, Ему это сделать всего легче через эмигрантскую литературу, которой оно, конечно, не знает, которая ему почти полностью остается недоступной. Ведь даже вот Бунина теперь там издают, но все-таки со значительными пропусками. Как только Бунин что-нибудь такое сказал, чему нельзя аплодировать по советским понятиям, так это пропускается. Какое ребячество – или варварство! Это нам кажется до такой степени дико, что мы даже не находим слов для квалификации такого рода приемов и такого рода отношения к литературе.
ВЕДУЩИЙ: Георгий Иванович…
ЧЕРКАСОВ: Если говорить об эмигрантской литературе и не то что сравнивать ее с советской, а как-то сопоставлять, то то, что бросится прежде всего в глаза (это чисто техническая вещь) – это литературный уровень, разный очень там и здесь. Советская литература до самого последнего времени носила какой-то провинциальный характер, и с точки зрения так называемого литературного стиля и совершенства она была на очень невысоком уровне, в то время как эмигрантская литература все-таки старалась каким-то образом держаться на уровне европейском, на таком, за который, скажем, как у какой-нибудь Анны Караваевой или я не знаю у кого-нибудь из них – не приходилось краснеть. А в советской литературе из-за этого перерыва в культурной традиции произошло какое-то очень резкое понижение уровня, и я должен сказать совершенно откровенно, что вот когда читаешь произведения советской литературы сталинского периода, то просто становится как-то неловко, и нельзя поверить тому, чтобы в России, то есть стране, которая дала Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, может быть такой вот общий уровень литературы, какой оказался там. В эмигрантской литературе, как бы она ни была плоха и как бы она ни была незначительна, этого все-таки не было.
ВЕДУЩИЙ: Да, но мы все знаем, почему это произошло.
ЧЕРКАСОВ: Да, да, писатели в этом не виноваты.
АДАМОВИЧ: Да, поколение, которое выросло при Сталине, было оглушено, подавлено, оно, по-видимому, ни к чему вообще не проявляло интереса; сейчас, несомненно, этот интерес пробудился и растет. Кстати, у меня лет десять тому назад в Англии по поводу Константина Леонтьева, которого я только что назвал, был разговор с советскими студентами. Приехала делегация советских студентов, и мне пришлось с ними говорить. И один из них сказал, что такого монументального труда, как советская Большая энциклопедия, никогда в России не было. Я ответил, что Брокхауз и Ефрон был гораздо лучше, хотя теперь, может быть, эта когда-то знаменитая энциклопедия во многом и устарела. Он удивился: как, Брокхауз лучше?
Я сказал:
– Да, вот в вашей БСЭ нет, например, имени Константина Леонтьева… Вы знаете имя Константина Леонтьева?
– Да. Это, кажется, был черносотенец. Я сказал:
– Да, совершенно верно, это был черносотенец – крайний реакционер. Но скажите, у вас есть биография Льва Толстого, трехтомная, Бирюкова?
– Ну, конечно, – классический труд!
– Так вот там вы можете прочесть, что Толстой в самый разгар своих религиозных недоумений ездил к Константину Леонтьеву и потом записал: «Долго и хорошо беседовали»… У вас Леонтьев в БСЭ есть, насколько помню – какой-то дантист; есть Леонтьев инженер. А ведь все-таки вы можете заинтересоваться: кто же это тот Леонтьев, с которым четыре часа Лев Толстой в монастыре (Леонтьев был тогда монахом) «долго и хорошо беседовал»?
Студент развел руками и сказал:
– У нас с вами на это разные взгляды…
Но я почувствовал, что юноша был смущен: как же так – Большая советская энциклопедия и пропустила такого крупного человека? Ведь совершенно же не обязательно считать, что все должны разделять взгляды Константина Леонтьева. Он был действительно крайний реакционер. Но вместе с тем это было замечательное духовное явление, и русская культура имеет достаточно силы, чтобы выдержать любые противоречия…
ВЕДУЩИЙ: Что ж, пора нам налгу беседу кончать… Говорили мы долго, но всего, что следовало бы сказать, конечно, сказать не успели. Ничто нам, однако, не мешает вернуться к этой теме в другой раз.
Литературная критика в России и СССР*
ЧЕРКАСОВ: Начинаем нашу вторую беседу за круглым столом в Париже. В беседе принимают участие наши постоянные сотрудники: известный искусствовед и писатель, Владимир Васильевич Вейдле, поэт и литературный критик Георгий Викторович Адамович и профессор русской литературы в Парижском университете Никита Алексеевич Струве. Ведет передачу Георгий Черкасов.
Я хотел бы в нескольких словах резюмировать тему нашей сегодняшней беседы: советская литература, лишенная непосредственного контакта с Западом и далекая от традиции классической литературы XIX века, литературы Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, приобрела, я бы сказал, наивно-дидактический провинциальный характер, не говоря о других ее особенностях, объясняющихся очень часто просто партийными указаниями. Я имею в виду, конечно, не всех советских писателей, но огромное их большинство.
Что еще характерно для нашего времени – это отсутствие настоящей литературной критики в Советском Союзе. Но говоря о критике, мы должны констатировать, что в этой области в России всегда дело обстояло неблагополучно, что на первый взгляд может показаться парадоксальным. Почему в стране, давшей миру целую плеяду гениев, – и тут мы не рискуем впасть в преувеличение, – в XIX веке не было критики достаточно высокого уровня. И что представляла собой наша критика, начиная с Белинского.
Вот по поводу этого вопроса я хотел бы услышать мнение наших собеседников. Владимир Васильевич, я был бы чрезвычайно благодарен, если бы вы согласились начать эту беседу.
ВЕЙДЛЕ: Я охотно скажу несколько слов. Конечно, об этом думали все, кто пишет по-русски, – это верно, что у нас не было очень уж замечательной критики и до Октября. Хотя все-таки отдельные критические писания, статьи были, существовали, – на довольно высоком уровне.
Тут нет ничего уж очень необыкновенного: критика вообще поздно рождается в литературах. А наша новая литература – она вообще молода.
Державин был поэт, по-моему, общеевропейский, на общеевропейском уровне очень больших поэтов, но в его время литературной критики было маловато, или она была очень еще наивна. Но и в эпоху, скажем, греческой трагедии – критика греческая еще не существовала. Так что нет ничего удивительного, что у нас были очень, очень большие писатели и поэты, а современники их были критиками, ну, скажем, второстепенными. Лучший русский критик, на мой взгляд, даже и до сих пор – это Пушкин. Но Пушкин профессиональной критикой почти не занимался. Теперь вот собрали отдельные его писания, и потом в его письмах есть литературные отзывы и так далее. Они показывают, что оценки его были очень большой тонкости.
Но затем была и другая, конечно, причина – господство определенной идеологии начиная с 1860-х годов. Шестидесятническая идеология, она и ныне царит и поддерживается усердно властью. И сейчас – у нас в стране.
А идеология, – впрочем, все равно какая, – шестидесятническая или, скажем, какая-нибудь прямо обратная, – одинаково вредна для критики, потому что критика не может себя чувствовать свободно во власти идеологии. Даже и в том случае, если эта идеология и не поддерживается государством. Это опасно, если сам критик попал во власть какой-то определенной идеологии, – скажем, под влиянием обстановки, которая существует в его стране, или в его литературной среде.
Но на этот предмет следует сказать несколько пояснительных слов: к сожалению, в наше время идеологией называется всякое мировоззрение. Это в высшей степени печальное заблуждение или неразличение. И оно, к сожалению, существует на Западе теперь так же, как оно существует в Советском Союзе уже пятьдесят лет. Идеология и мировоззрение – это совершенно разные вещи.
Вот, подумайте, ну, скажем, у Пушкина, у Толстого или у Гете мировоззрение, конечно, было. Но идеологии у них никакой не было. Дело в том, что мировоззрение имеет более расплывчатые границы и более движущийся состав, так сказать. Оно меняется с годами, оно не имеет резких очертаний, оно – свободно. А идеология фиксирована заранее. Это, как я уже раз ее определил, система мыслей, которых никто больше не мыслит. И эдакая система мыслей, конечно, парализует всякую критику.
Ну, этим я пока ограничусь, хотя есть еще очень много сторон, с которых можно к этой теме подойти.
ЧЕРКАСОВ: Георгий Викторович…
АДАМОВИЧ: Я думал, что Владимир Васильевич Вейдле начнет с Белинского, он начал с Пушкина. Я совершенно согласен, что Пушкина нельзя ни с кем сравнивать просто потому, что он был необычайно умный человек, и в критике его это чувствуется, это весьма заметно.
Но некоторые суждения Пушкина, при всем его уме, все-таки более чем странны – его суждения о «Федре» Расина… И еще кое-что, что мне всегда интересно и как-то загадочно – его отношение к Тютчеву. Он, правда, в 36-м году в своем журнале напечатал огромный цикл стихов Тютчева: стихи совершенно гениальные. Но, казалось бы, Пушкин должен был на эти гениальные стихи как-то отозваться…
Недавно в парижской русской газете было сказано, что ничего неизвестно о том, что Пушкин думал о Тютчеве. Это не совсем верно. Есть один отзыв, который передан, кажется, Вяземским по-французски. Есть и другие, так сказать, заметки Пушкина, если не о Тютчеве, то о русской поэзии вообще, где он Тютчева, казалось, должен был бы – назвать. Но он его не называет…
Но я хочу сказать несколько слов о Белинском, не сравнивая его, конечно, с Пушкиным.
Белинский великий русский критик – это считается аксиомой.
А теперь в советской России, в Советском Союзе есть другая аксиома – он великий философ.
Как же Белинский мог быть философом, если он, не зная немецкого языка, судил о Гегеле по… с чужих слов. Что у Белинского действительно много исторических заслуг и что это был очень одаренный человек, об этом не приходится спорить. Что у него много ошибок в сужденьях, это естественно – нет критика, у которого не было бы ошибок в сужденьях.
Вот есть, по-моему, замечательный французский критик Сент-Бёв, которого теперь во Франции не любят; с легкой руки Пруста. Замечательный критик, по-моему, и замечательный писатель, который… не заметил Бодлера и уверял, что Жорж Занд гораздо выше Бальзака.
Так что, если есть ошибки у Белинского, в этом нельзя его упрекать. У него есть исторические заслуги: он всех предыдущих писателей как бы расставил по принадлежащим им местам, и эти места за ними и сохранились.
Но когда говорят «великий критик», это все-таки можно только с большими оговорками сказать. Мне почему-то помнится еще в детстве прочитанное стихотворение в честь Пушкина (не помню имени поэта), где есть такая строчка: «Великий критик наш Белинский / Талант признал в нем исполинский…»
Как будто Пушкину нужно было признание Белинского. Это, кстати, напоминает то, что есть в одном советском учебнике, изданном лет тридцать пять тому назад, я помню фразу почти дословно: «Товарищ Сталин причислил Пушкина к числу выдающихся русских людей».
Белинский был критик, конечно, даровитый и талантливый. Но в том, что потом русская критика была не тем, чем она должна была бы быть, он очень виноват.
Но, может быть, профессор Струве скажет теперь несколько слов, и потом еще раз – Владимир Васильевич. А потом и я скажу, почему, на мой взгляд, не было настоящих критиков среди учеников Белинского.
ЧЕРКАСОВ: Никита Алексеевич?
СТРУВЕ: Я был бы не прочь реабилитировать русскую критику прошлого. Конечно, как Владимир Васильевич отметил, это явление вторичное и во времени, поэтому понятно, что в державинскую эпоху и даже в пушкинское время (мы знаем, как Пушкин сетовал на это, как он страдал от отсутствия критики), действительно, критики почти не было. Но – уже мы упомянули Пушкина.
В послепушкинский период появляются замечательные критики, которых Белинский… слава Белинского как-то забила. Вообще, надо было бы выяснить, откуда идет эта слава. Она ведь предшествовала навязыванию Белинского советской идеологией и советской партийной критикой.
Все-таки – несомненно крупным критиком был Гоголь. Но и его замолчали, потому что его замечательные критические заметки о русской поэзии, о Державине, о Пушкине как-то потонули в том хоре негодования, которое вызвала его «Переписка с друзьями».
Ну, а дальше – нельзя не упомянуть Аполлона Григорьева, Константина Леонтьева – его замечательного анализа стиля Толстого. И затем – Волынского. Я это так, очень быстро… Но я вижу, что вы не согласны…
АДАМОВИЧ: Нет, я не согласен, оттого, что он писал чудовищно плохо по-русски…
СТРУВЕ: Это верно, но все-таки он понял Лескова, которого в то время… Все-таки цель критики в том, чтобы именно выявлять таланты, обращать на них внимание, как-то их объяснять.
А в новейшее время, я считаю, что замечательными критиками были поэты-акмеисты: Гумилев, который сказал окончательные слова об Анненском… «Катехизис современной чувствительности». Такие формы остаются надолго… Ахматова – о Пушкине (но это, скорее, история литературы), или Мандельштам. Так что я хочу реабилитировать русскую критику, – она существовала.
ЧЕРКАСОВ: Да, это попытка реабилитации русской критики. Но, собственно говоря, она в этом не нуждается в тех случаях, которые вы привели.
А я хотел бы вот что сказать: я не так давно получил из Австралии известие о том, что выходит книга одного, по-видимому, такого, как говорят теперь, «литературоведа», который развивает ту идею, что как таковая критика в России не существовала. Но, если нужно, скажем, найти какие-то критические материалы, то их можно найти в высказываниях самих писателей: то есть – то самое, что вы и говорили.
Но что о Гоголе, как о критике, забыли, это неудивительно. Просто потому, что он очень мало писал – собственно критических трудов у него чрезвычайно <немного>, и они носят какой-то случайный характер.
Я хотел бы напомнить, что, по-моему, существует какое-то несомненное чрезвычайно печальное сходство между критикой шестидесятых годов, о которой говорил Владимир Васильевич, – Добролюбов, Чернышевский и так далее – и теперешней советской критикой. Я очень хотел бы, чтобы Владимир Васильевич развил эту идею.
ВЕЙДЛЕ: Нынешняя советская критика, в огромном большинстве, – на уровне даже не Писарева или Чернышевского, а Варфоломея Зайцева. Был такой автор шестидесятых годов. Это совершенный Варфоломей Зайцев «редививус» – вновь появившийся на свет.
Но это было не всегда так. Даже и после Октября. Все-таки в среде так называемых формалистов, да и не только в узкой их группе… Ну, например, Лежнев был очень талантливый критик – его книга о Пушкине превосходна, принадлежит к лучшим книгам, которые были когда-либо о Пушкине (о прозе Пушкина) написаны. Вообще, начатки были. Но они удушаются, к сожалению. Да, и не могут не удушаться – требуется такой конформизм, такое согласие с официальной идеологией, что чуть вы от нее отступите – нельзя!
Собственно, критик «профессиональный», который пишет критические отзывы, это вовсе не всегда лучший критик. Лучшую критику писатели и поэты обыкновенно дают. Или философы еще иногда. Но все-таки это необходимое, нужное и очень большую роль играющее дело – критика. Собственно, порядочный критик о вещах совершенно незначительных, которые не имеют никакого литературного интереса, – вообще отказывается писать. Что же он о них напишет? – Нечего. Но если бы в Советском Союзе какой-нибудь критик стал отказываться писать о таких вещах, то ему вообще не о чем было бы писать. Потому что власть поощряет именно такого рода вещи.
Теперь бывают и исключения. Но если критик напишет об этом исключении и похвалит это исключение – ему достанется самому. Потому что эти исключения или исключаются разными способами вплоть до концентрационного лагеря, или же надо непременно обрушиться на этих людей, непохожих на других, и их всячески бранить.
ЧЕРКАСОВ: А вот я как-то вспоминал те книги, – по истории литературы, допустим, – которые нам приходилось читать: скажем, Пыпин или Овсянико-Куликовский. По-моему, тоска смертная, и никакого отношения это не имело ни к истории литературы, ни к критике. Но, может быть, я и ошибаюсь, Георгий Викторович?..
АДАМОВИЧ: Профессор Струве и Владимир Васильевич Вейдле, в сущности, называли не критиков, а писателей, которые писали иногда критические статьи: Пушкин, Гоголь и другие. Гоголю, мне кажется, надо в критическую его заслугу вечную поставить то, что он написал о прозе Лермонтова, чего никто у нас так не написал до сих пор, прочитав все, что написано Пушкиным. Это все-таки показывает его необычайное чутье к богатству и свежести. Он написал: «благоуханная проза Лермонтова».
Но я хочу вернуться к критикам школы Белинского и попытаться дать объяснение, – не знаю, примут его или нет, – почему они оказались критиками слабыми.
Дело в том, что у нас в шестидесятых годах, с конца пятидесятых и дальше до… в сущности, до революции влияние имели критики противоправительственные, так сказать, левых взглядов. И гораздо большее, чем критики правых взглядов, среди которых был, например, Николай Николаевич Страхов – талантливый, тонкий человек. Так вот, влияние имели критики другого лагеря, политически другого лагеря. Они хотели, в сущности, писать статьи политические. Но даже при Александре II была цензура настолько зоркая и строгая, что политическую статью нельзя было написать, и они писали литературные статьи, пользуясь литературой, чтобы провести свои политические взгляды. Самым ярким, может быть, примером этого может служить знаменитая статья Добролюбова «Что такое обломовщина?». Это чисто политическая статья. Я вовсе не хочу сказать, что Добролюбов был лишен литературного чутья, как и, тем более, Белинский. У Добролюбова, например, в статье «Когда же придет настоящий день?» о «Накануне» Тургенева есть прекрасные страницы чисто литературной оценки и какого-то чутья к тому, что написано Тургеневым. Но «Что такое обломовщина?» политическая статья. И это – школа Чернышевского. От Добролюбова до Скабичевского, в сущности, пользовались литературой как эзоповым языком для того, чтобы выражать свои мысли, к литературе не имевшие прямого отношения.
Я думаю, что из этой группы самым даровитым человеком был Писарев. Но, к сожалению, он рано умер. Успел только поиздеваться над Пушкиным – и умер. Ему было 29 с чем-то лет, не могу сейчас вспомнить, – но некоторые его замечания и даже его чувство русского языка, несравнимы с Добролюбовым или с Чернышевским.
Два слова еще. Вот Никита Алексеевич Струве сказал о Константине Леонтьеве – это был человек крайне правых взглядов и оттого имевший при жизни гораздо меньшее влияние. Действительно, его статья о Толстом – замечательна: «Анализ, стиль и веяния», – кажется, так она называется. Но тот же Леонтьев со своим острым умом, своим острым эстетическим чутьем писал, – и тут я цитирую, если не ошибаюсь, дословно: «Поверхностное и сентиментальное сочинительство господина Достоевского… уродливые романы господина Достоевского». Значит, он ничего не понял в Достоевском. И даже вот у таких даровитых людей с таким чутьем, какое было у Леонтьева, оказывались такие промахи.
Мне кажется, если мы говорили о писателях, которые писали некоторые замечательные критические статьи, – то надо упомянуть Владимира Соловьева, который написал замечательную статью о Тютчеве. После того, как Некрасов – тоже человек необычайного ума и чутья, казалось бы – причислил Тютчева к второстепенным русским поэтам; после молчанья (все-таки многозначительного молчанья) Пушкина, он впервые поставил Тютчева на принадлежащее ему место.
ЧЕРКАСОВ: Я попрошу прощенья, я хотел бы напомнить Георгию Викторовичу: вот вы упомянули два имени – Добролюбов и Скабичевский – и вы сказали об известном литературном чутье Добролюбова. Но я мог бы сказать, что это было у него не всегда: я прекрасно помню его статью о «Преступлении и наказании»…
АДАМОВИЧ: Простите, можно вас перебить? В статье о «Накануне» есть страница о том эпизоде у Тургенева, – действительно замечательном, – где умирающий Инсаров с Еленой слушают новую оперу «Травиата». И эта страница у Добролюбова замечательна.
ЧЕРКАСОВ: Да, может быть. Но мне вспомнилась его статья о «Преступлении и наказании», в которой буквально сказано следующее: что эта книга была бы вредна, ежели бы у автора был какой-нибудь артистический дар: но, так как совершенно очевидно, что у автора никакого таланта нет, то это, в конце концов, не так и важно. Согласитесь, что такая ошибка – все же очень серьезная вещь. Это не хуже Скабичевского, который о Чехове написал, что Чехов умрет в пьяном виде под забором.
АДАМОВИЧ: А я не помню, какой критик написал о «Войне и мире»: «бездарно – все, начиная с названия». Я не помню, к сожалению, имени.
ЧЕРКАСОВ: Никита Алексеевич…
СТРУВЕ: Вообще критика очень плохо стареет. Вот мы сравниваем русскую и французскую критику, – много ли можете вы назвать имен великих французских критиков, которых приятно до сих пор читать. Вы назвали Сент-Бёва, которого французы сами не очень-то и читают… я так шарю немножко в своей памяти и тоже не нахожу.
ЧЕРКАСОВ: Вы помните, как Толстой очень жестоко сказал, – это мне как-то Георгий Викторович напомнил, что критики – это глупые, которые пишут об умных. Это, конечно, очень жестко, но какая-то часть истины в этом есть. Потому что все-таки критика чрезвычайно редко бывает на уровне тех, о ком она пишет.
СТРУВЕ: Понятно, потому что она – как бы снизу вверх…
АДАМОВИЧ: Можно? – простите, я перебиваю, – одно слово ответить Никите Алексеевичу: вы совершенно правы, что французских критиков тоже, может быть, трудно вспомнить. Но вот вы говорите о Сент-Бёве… Ну, вот еще Буало, на которого теперь всех собак вешают… Но за одну строчку Буало в его, конечно, довольно все-таки ограниченном по замыслу «Арт поэтик» ему, по-моему, можно все простить:
«Le vers se sent toujours des basses du coeur», то есть по-русски: «В стихе всегда чувствуется человеческая низость», или «человеческое малодушие». Это замечательно сказано, это замечательная мысль.
СТРУВЕ: Ну, таких мыслей мы найдем у русских критиков множество, даже у Мандельштама один стих «Фета жирный карандаш» это целое…
АДАМОВИЧ: Да, но между Мандельштамом и Буало – триста лет…
ЧЕРКАСОВ: Да, но Буало… например, его «Поэтическое искусство»… все-таки теперь, когда это перечитываешь, становится как-то неловко.
ВЕЙДЛЕ: Нет, Art poetique Буало соответствует совершенно определенно литературе его времени, и в ней оно очень многое поясняет и так далее. Это замечательное произведение, но оно недействительно, конечно, в своих идеях для литературы не его века, – ни для более ранней, ни для более поздней – это особое дело.
Кроме того, говоря о критике – надо различать… Под критикой можно понимать совершенно разные вещи: одно дело – оценка, другое дело – истолкование. Можно дать очень интересное истолкование при невразумительной оценке. Или при произвольной оценке. И, заметьте, не все те критики, или вообще люди, дающие отзыв о произведении (будь они профессионалы или нет) не все те, что хвалят произведение, дают наиболее интересную его интерпретацию. Вовсе нет. Очень часто как раз враги какого-то произведения написали о нем очень проницательные вещи – их следует только очистить от отрицательного пафоса. Так что критика, конечно, стала совершенно необходима для всякой литературы вот уже три последние века, а в наше время – особенно.
И сами писатели тоже должны быть, по сути, критиками – критическое суждение о литературном деле, о том, каким оно может или должно быть – это совершенно необходимая вещь. И когда это критическое суждение искажается со стороны навязыванием готовой идеологии, тогда гибнет не только критика, но и вся литература вместе с критикой…
ЧЕРКАСОВ: Георгий Викторович, я хотел бы спросить ваше мнение вот по какому поводу: Никита Алексеевич говорил о писателях, которые, в отличие от профессиональных критиков, давали критические отзывы очень высокого качества. И я хотел бы напомнить о том, что был такой писатель Мережковский. Как писатель – спорная величина. Но как критик он, по-моему, был очень неплох?
АДАМОВИЧ: Андрей Белый написал в какой-то своей статье, что больше всего он ждет от огромного критического дара Мережковского. Это, может быть, преувеличено – «огромный критический дар», но надо сказать, что книга Мережковского «Толстой и Достоевский» имела очень большое значение, хотя эта книга… Как всегда у Мережковского, – в сущности, мысли у него всегда было мало. Так там одна мысль: тайновидец духа, тайновидец плоти. Первый – Достоевский, второй – Толстой. Но Мережковский первым поставил эти два имени рядом. И с тех пор это сделалось истиной. Вопреки Константину Леонтьеву, который писал об «уродливых романах» господина Достоевского. Мережковский, надо сказать, не любил Толстого. Может быть, это было немножко толчком к тому, что он все время настаивал на том, что Толстой, кроме плоти, ничего не видит. Это, кстати, до конца жизни приводило в ярость Бунина. Но все-таки его заслуга в том, что он эти имена навсегда поставил рядом.
СТРУВЕ: Я очень рад, что вы упомянули Мережковского. Потому что как раз Мережковский редкий пример писателя – устаревшего, а критика, наоборот, – до сих пор очень ценного. Я недавно перечитывал первую статью 92-го года «О причинах упадка русской литературы». Она носит пророческий характер. По-моему, критика должна быть пророческой. То есть она должна как-то выявлять то, что еще не ясно.
ВЕЙДЛЕ: Нет, несомненно, Мережковский был очень одаренным критиком. И те его книги, которые будут читать в будущем при нормальном развитии этого будущего, будут прежде всего – его критические книги. Он первым по-настоящему оценил Толстого и Достоевского в их весе, так сказать. И это большая его заслуга. Конечно, он любил Достоевского гораздо больше Толстого, но это нисколько не помешало ему оценить Толстого в том смысле, что вес его одинаков с весом Достоевского. Вот чего Леонтьев, например, сделать еще не умел, не мог: ему Толстой был по душе, а Достоевский не по душе, поэтому он отстранил его жестом, который очень умным назвать нельзя. А самая ранняя книга Мережковского «Вечные спутники», где говорится об иностранных писателях, это просто дата (за исключением, конечно, заметок Пушкина об иностранной литературе) в развитии русской литературной культуры.
Так что его ранние произведения, в том числе, я сказал бы, и «Гоголь и черт» (несмотря на все, может быть, немножко смешные преувеличения или риторические манеры) или то, что он писал о Лермонтове – это все, по-моему, заслуживает всяческого внимания. И было бы очень хорошо, если бы теперь в Советском Союзе некоторые люди помоложе достали где-нибудь эти книги и попробовали бы их прочесть по-своему.
ЧЕРКАСОВ: А в общем, подводя самые приблизительные итоги нашей беседе, мы приходим к тому выводу, что, в сущности, русская критика не была никогда на достаточной высоте. А то, о чем стоит упомянуть, было написано главным образом писателями. Но я хотел бы обратить ваше внимание еще на одно: по сравнению с тем, что мы все-таки знаем о русской критике XIX века, что представляет собой советская критика? Вот теперешняя советская литературная критика. Я думаю, Никита Алексеевич это может сказать.
СТРУВЕ: Нет, я как раз не могу сказать. Но зародыши настоящей критики мы все видели, стоит назвать Синявского. Когда ему пришлось писать вступительную статью к однотомнику Пастернака, он ее вынужден был переписывать три или четыре раза, прежде чем она прошла через цензуру. Так что зародыши критики, в лице Синявского (теперь сидящего в лагере) или в лице Лакшина, например, имеются. Просто нет условия, просто нет никакой свободы критики. Но я уверен, как мне говорила в беседе Ахматова, что и поэты будут, и критики будут, и, вообще, – все будет. Нужно только, чтоб была свобода.
ВЕЙДЛЕ: Тут я хотел сделать еще маленькое замечание: что, вот, необходимость этой критики или каждый раз новой оценки, относится и к прошлому литературы, а не только к настоящему. Сейчас критику подменяют тем, что называют «литературоведением». Вот и меня тоже представляют, как «искусствоведа». А мне это совершенно не нравится. Я бы хотел, скорее, быть критиком, чем искусствоведом. Что это такое «ведать»? Ведать о том, что были такие-то и такие-то художники? Такие-то и такие-то писатели?
ЧЕРКАСОВ: Я думаю, что это слово…
ВЕЙДЛЕ: Не только слово. Я думаю, в самом искусствоведении самое главное – это элемент критики. Но интересно, что в Советском Союзе как раз этот элемент – критика – исключен. Да, вы можете критиковать рукописи, источники, вы можете текстологией заниматься, но вы не можете уже сказать, что такое-то стихотворение Пушкина много лучше, чем другое стихотворение того же Пушкина, потому что все стихи Пушкина прекрасны и это наш «родной классик»!
ЧЕРКАСОВ: Георгий Викторович, вы хотели что-то сказать?
АДАМОВИЧ: Два слова только. По поводу того, что когда традиция Белинского, Чернышевского, Добролюбова стала вырождаться – через Михайловского (который был все-таки человек, конечно, даровитый) до Скабичевского (который, нисколько не был даровитым), – когда она стала заменяться критикой, так сказать, «модернистической», – скажем, Айхенвальдом (когда-то популярным), то это было нисколько не лучше Скабичевского. Это был Скабичевский навыворот. И вше кажется, что толчком к появлению русского формализма, который имеет сейчас столько откликов на Западе, было именно это сознание бедности той критики, которая господствовала в журналах, и поиски какого-то нового пути, нового метода, нового отношения к литературе, иначе трудно объяснить это возникновение формализма.
ЧЕРКАСОВ: Но формализм, тот, который мы знаем, он, по-моему, сейчас уже многим кажется устаревшим, вы не думаете, Никита Алексеевич?
СТРУВЕ: Он устарел, может быть, как идеология. Потому что немножко и формализм превратился в идеологию – то есть в навязчивую теорию. Идеология отличается от мировоззрения в том, что она исключает другие подходы. Тогда как мировоззрение остается открытым к другим подходам. И вше кажется, что формализм просто немножко сам себе перечеркнул тем, что довел до некоторого абсурда свои собственные положения.
ВЕЙДЛЕ: Георгий Иванович ошибается насчет судьбы русского формализма на Западе – он сейчас еще в величайшей славе находится… и не только в Америке, но и во Франции, а сейчас и в Италии. Да, это сейчас страшно влиятельно – стараются перещеголять формалистический метод еще более формалистическим, который сводится к известным статистическим приемам и так далее. Так что, вот так.
Я теперь не буду высказываться по существу о формализме. Я думаю, что у него есть очень большие заслуги. В частности, у наших журналистов. И, например, Эйхенбаум был, кроме всего, очень хороший критик: его книжечка об Ахматовой, например, очень хороша. А в его книге «Мелодика стиха» дается, собственно, впервые в русской критике настоящая оценка Фета. При всей односторонности этого поэта, ему дается оценка так, как это следовало бы сделать лет за сорок или пятьдесят до этой статьи.
СТРУВЕ: …и Жирмунский был великолепным критиком в первых своих произведениях – его статья об Александре Блоке замечательна…
ЧЕРКАСОВ: Во всяком случае, надо полагать, что когда обстоятельства изменятся – политические обстоятельства, то произойдет то, о чем говорила Ахматова, – будут поэты и будут критики. Будем на это надеяться.
АДАМОВИЧ: Верую. Господи, помоги моему неверию!
Проза, не опубликованная при жизни*
Мечтатели*
И сын египетской земли
Корсар в отставке, Морали.
Пушкин
В воспоминаниях одного французского писателя я прочел рассказ о том, как один его товарищ, – им обоим было по восемь лет, приблизительно, – уговаривал его уехать на пароходе путешествовать. Он носил с собой карту обоих полушарий, изучал проливы, заливы, моря, острова и океаны; потом он нарисовал небольшое парусное судно с двумя каютами – одна впереди, другая сзади.
– Здесь буду жить я, – сказал он, указывая на переднюю каюту, а во второй каюте – ты.
– А почему я сзади, а ты впереди?
Он пожал плечами и ответил:
– Потому что я капитан.
Этот ответ был единственной причиной, заставившей автора отказаться от поездки. Потом в тексте воспоминаний происходит точно бы некоторая остановка – в живой речи это как бы пауза. И потом автор прибавляет:
– Он никогда потом, ни разу за всю свою жизнь не был на море. Но в возрасте двадцати пяти лет, в Тулузе, он был директором галантерейного магазина, который назывался «Фрегат».
И кажется, все люди, по крайней мере, все, кого я знал, в героическом возрасте были больше или меньше – мечтателями и путешественниками. Я знаю, что для многих моих товарищей даже теперь экзотические названия звучат, как давно знакомая и неизменно прекрасная музыка. Сколько маршрутов по земному шару мы знали в те времена, когда нам было девять или десять лет! Бенгальский залив, Баб-Эль-Мандеб, Корейское море, Красное море, Суэцкий канал, Дарданеллы, Босфор, Красное море, Огненная Земля – и пышные, также неподдельно иностранные названия городов: Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Сингапур, Мельбурн. И настоящими путешественниками мы были только тогда. «Наши путники расположились под сенью громадного баобаба и вкусно поужинали мясом только что поджаренной пекари».
Потом на пароходе – в Черном или Мраморном или Эгейском море, проезжая мимо прекраснейших берегов – на настоящем пароходе по настоящему морю – мы с волнением искали глазами те пейзажи, которые так хорошо знали, не выезжая из родительского дома. Их не оказалось: все было не таким и совсем настоящим: стаи диких уток над широкими волнами Дуная и стаи чаек над Босфором и фосфорно сверкающие спины дельфинов в Черном море. Я смотрел на это с равнодушным любопытством: разве ты, бывший гимназист, русский гимназист в приготовительном, первом и втором классе, – разве ты не был многократно и корсаром, и пиратом, и конквистадором, и разве мы не знали всех коварных подводных течений и рифов на громадном водном пространстве – приблизительно от Нью-Йорка до Мельбурна?
Я думаю, как человек обычно кончает свои воображаемые странствия, примерно на двадцать пятом году своей жизни: он знает уже в этом возрасте, что ему нужно знать, куда ехать, что думать и что читать: и потом он меняется лишь постольку, поскольку стареет, но все, что ему было дано совершить – в этой юдоли, как говорил мой законоучитель – он уже совершил; и в сущности, лишь небольшой натяжкой будет сказать, что этот человек больше не существует.
Но есть неутомимые люди: некоторые – очень редкие – философы, некоторые – очень редкие – писатели, несколько мореплавателей, художников и авиаторов; и еще странники и мечтатели, которыми могут быть, кажется, только смелые и, пожалуй, только русские. Никогда не забуду одного разговора, который происходил между нами – нас было человек пять, мы были на фронте – о том, кто кем хотел бы быть. Одному казалось чрезвычайно завидной должность вице-губернатора, почему-то именно вице-губернатора, а не губернатора просто; другой стремился жить в Америке; мне все рисовалась роль, насколько она положительна, доктора Моро – зоолога и экспериментатора; четвертый хотел, по-моему, открыть магазин в Житомире. Пятый, Алеша, молчал:
– А ты бы, Алеша, кем хотел быть?
Алеша внимательно на нас посмотрел и сказал:
– Это что – вице-губернатор или меховой магазин. А я вот хотел быть собакой.
Глаза у него сделались задумчивыми, и он прибавил:
– Вы только подумайте: бежишь, куда хочешь, когда хочешь, ни о чем не думаешь, не воюешь, не читаешь – ничего. А главное – бегаешь, куда хочешь.
Алеша был знаменит тем, что все продавал: в самых глухих местах наших странствий он находил покупателей то на мешок муки, то на кавалерийские штаны, то еще на что-нибудь – и продавать было его страстью. Я спросил как-то:
– Что бы ты сделал, если <бы> захватил в плен неприятельский поезд – со спальными вагонами и множеством всякого добра?
– Продал бы.
– Ну, хорошо. А если бы ты получил имение? Понимаешь – густой сад, пруд, в пруду караси, повар тебе каждый день подает дичь и блины; дом старинный, удобный, большая библиотека и гимнастический зал.
Алеша не сразу ответил, нечто вроде сожаления промелькнуло в его глазах, он вздрогнул, представив себе, по-видимому, все это великолепие, и все-таки:
– Продал бы.
– Но если бы ты получил в наследство, помимо этого имения, еще бы и большой капитал, так что в деньгах ты бы совершенно не нуждался?
– Все равно продал бы. А деньги бы обменял на иностранную валюту и уехал за границу.
Он и уехал за границу – только без валюты – так же, как и все мы. Я не знаю, что с ним теперь; он был, кажется, на Корсике, в Бразилии, еще где-то; лет семь тому назад я видел его в Париже – он был одет, как американский турист, все куда-то торопился, боялся опоздать на поезд, идущий в Страсбург, у него были какие-то дела и, попрощавшись со мной в зале Восточного вокзала, исчез так бесследно, точно растворился в воздухе, и, как нарочно, через секунду из-за угла вышла большая лохматая собака и побежала в том же направлении, что и Алеша. Я посмотрел ей вслед и невольно рассмеялся: было что-то необыкновенно знакомое в ее семенящей походке, так что я чуть было не подумал: а не сбылась ли с Алешей мечта тех времен, 19-го года, в России?
Мне было лет тринадцать, я читал «Критику чистого разума» и был вне себя от бешенства и огорчения: книга была написана русским языком, большинство слов было мне известно; так, где слова кончались, стояли «ять» и твердые знаки, и две точки над «е» в слове «емкость», – словом все было, казалось бы, совершенно так же, как во всех остальных книгах – с той разницей, что в «Критике чистого разума», я совершенно ничего не мог понять – как если бы все эти фразы были написаны по-португальски. Я пере¬ читывал их по много раз: иногда мне начинало казаться, что я понимаю, но со следующей же фразы недоразумение выяснялось в невыгодную для меня сторону – и я отложил Канта и стал читать более понятные философские книги.
В результате я стал думать, что все окружающие меня люди заняты пустячными и ничтожными делами, не знают ни условности нашего восприятия, ни недостоверности зрительных и слуховых впечатлений, ни существования категорических императивов, которые в популярном изложении оказались совсем не такими страшными, – и что мне с ними, в сущности, почти не о чем говорить.
И вот в это время я познакомился с Женей, гимназисткой седьмого класса; я попал на полулегальное собрание – хотя дело происходило летом 17-го года и никакой нелегальности не было нужно – и услышал, как она, задыхаясь от волнения, говорила о коммунистической революции и необходимости социального переворота, с неизбежными цитатами: «великая социалистическая революция придет с востока» и «религия – это опиум для народа». После этого у меня был частный разговор с Женей, я непочтительно отозвался о Марксе, сказав, что он – только компилятор Женя вспыхнула, спросила меня, что я читаю, и, услышав мой ответ, презрительно пожала плечами:
– Бели бы вы были немного старше, я бы сказала, что это преступно; ну, а в вашем возрасте это просто глупость.
Самой Жене было шестнадцать лет.
– В такое время, когда вы должны принимать активное участие… и т. д. – преступно заниматься философией.
– Можно еще бросать бомбы, – сказал я.
– Это во всяком случае лучше и честнее.
Но я начал защищать индивидуализм: Женя привела несколько греческих терминов, заговорила о социальной структуре и потом вдруг прервала себя, обратившись к своей подруге, которая шла рядом с нами – все это было ранней летней ночью, в парке, была луна на очень чистом, темно-синем небе и легкий <…> ветер:
– А какая прекрасная ночь! Хорошо все-таки, правда?
И мы сразу забыли о философии и социальной структуре, и остались только деревья и темные листья, и теплый легкий воздух.
– Хорошо бы так, – и я по голосу узнал в ней мечтательницу, потому что у мечтателей особенные голоса, – жить, ты понимаешь, и приносить всем-всем пользу, особенно бедным; и сделать так, чтобы все было хорошо. И даже чтобы погода была всегда хорошая.
Поздней осенью она уехала в Москву: мы все ее проводили, я даже принес ей цветы – потому что после тогдашней ночи я перестал к ней испытывать какую бы то ни было политическую неприязнь; она не была коммунисткой, она была только мечтательницей, и это было в тысячу раз бесполезнее и лучше.
Потом в течение некоторого времени мы ничего о ней не знали – и только однажды, вечером, зимой, я пришел к ее подруге и застал ее плачущей. В ответ на мой вопрос она показала мне газету, где имя и фамилия Жени были напечатаны крупными буквами и сказано, что она погибла при взрыве бомбы, брошенной в ее дом – «чьей-то преступной рукой».
Ход лучей*
Впервые я заметил это во время партии в бридж. У Симона на руках были следующие карты: валет червей, десятка треф, шестерка пик и семерка бубен. У меня, кроме туза бубен, необходимого для моего расчета, был еще король пик. Но тут необходимо некоторое пояснение.
Я надеюсь, что все помнят то неправдоподобное скрещение лучей, которое изображено на рисунке, представляющем отражение какого-либо предмета в обыкновенном человеческом глазу. (Наверху в это время играла музыка: судя по явно какофоническим звукам, которые все стремились и никак не могли слиться даже в самую глупую мелодию, и не переставали звучать, как шум, это был Вагнер, гениальный идиотизм которого известен далеко (за пределами Германии). У меня на руках был пиковый король. Но я продолжаю: итак, мы видим какой-либо предмет обычно вверх ногами; и лишь привычное усилие воображения позволяет нам восстанавливать его подлинную вертикальность, располагая верх предмета наверху и низ – внизу, это принято считать естественным.
Приняв во внимание эти элементарные предпосылки, я собирался объявить три трефы, как вдруг все смешалось в моих глазах. Валентина не успела ничего сделать: она была на руках у Пьера, в то время как мой король пик, теряя свой первоначальный вид и тонко колеблясь на поверхности моря, явно уходил из-под моего контроля. Короче, партия расстроилась. Валентина объявила, что я болен, и наверху вместо Вагнера стали играть Сен-Санса. Но этим еще не кончилось: и, когда Валентина своим бешеным голосом начала требовать у меня объяснений, а я, как это сделал бы всякий нормальный человек на моем месте, сослался на переместившийся глаз короля пик, она заявила, что я просто притворщик. Но это не играет роли. Важно то, что, как мне удалось выяснить впоследствии, взгляд короля пик не был чем-то принадлежащим исключительно ему, королю: это был тот самый глаз, который раздвоился на куски картона, – в данную минуту – но которого постоянное вмешательство в мою жизнь мне теперь представляется несомненным. Я упомянул о партии бриджа лишь потому, что эта небольшая комбинация с королем пик и его внезапно ожившими глазами впервые объяснила мне весь тот ряд фактов, который неискушенному глазу может показаться просто сцеплением несчастных обстоятельств, но закономерность которого лично мне совершенно ясна, как это показывает случай с королем пик.
Затем возникает второе объяснение, еще быть может, более настоятельное, чем первое, именно обвинение в том, что я стрелял на людной улице из револьвера и мог причинить множество бед. И здесь все положения, выдвигаемые против меня, сами собой перестают существовать с той минуты, когда на сцене появляется только один неопровержимый довод.
Восстановим события. Я ехал на автомобиле по авеню Елисейских полей к площади Согласия. До сих пор разногласий нет, и этот факт можно считать бесспорным. Валентина сидела рядом со мной. У нее на руках были следующие карты: король пик, валет треф. Да, впрочем, перечисление ее карт здесь не играет существенной роли. На углу одной из поперечных улиц я посмотрел в роковое зеркало автомобиля, отражающее идущие сзади меня машины, и в эту самую секунду мотор начал давать перебои.
И вот что я увидел: в зеркале, во всю свою гигантскую ширину, медленно покачиваясь на торцах, плыл в воздухе, в нескольких сантиметрах от меня, громадный черный глаз – тот самый, который некоторое время принадлежал королю пик и затем Валентине. У меня не было никаких колебаний, и я убежден, что всякий человек на моем месте поступил так же, как я. Я вынул револьвер и выстрелил в глаз, который после этого разлетелся на мелкие куски. Сейчас, вспоминая это, я отдаю себе полный отчет во всех своих поступках и полагаю, что надо было быть сумасшедшим, чтобы добровольно упустить такую возможность. Через пять минут я был арестован, но вскоре выпущен.
Что касается женитьбы на Валентине, то я до сих пор считаю это своим личным делом, объяснение которого следовало искать в причинах физиологического притяжения, сопровождавшегося параллельным ослаблением аналитических способностей моего рассудка. Теперь же я вижу, что это была душевная ошибка. Я очень ясно представляю себе Валентину: черные вьющиеся волосы, очень красные губы – под правой грудью продолговатая родинка, маленький шрам на животе – результат операции аппендицита; почти полное отсутствие растительности на теле, длинные ноги – вещь редкая у француженок, и высокие колени – вещь редкая вообще. Таков ее внешний облик. Но и здесь – ход лучей в моем глазу обманул меня. Это был незримый ход лучей во внутреннем глазу. Я хочу сказать, что душевная сущность Валентины была далека от совершенства. Я мог бы привести множество случаев, когда по ее вине я оставался без трех и даже без четырех.
Но вернемся к состоянию моих финансовых дел в этот период жизни. Я обратил внимание на то, что обогащение путем труда есть явление исключительное; и, не будучи в состоянии полагаться на него, я прибегнул к другому способу, более верному. Людям непосвященным это трудно объяснить. Вкратце суть дела сводится к тому, что необходимо завести знакомства с людьми, ведущими крупные дела; и, войдя в их доверие, действовать в дальнейшем так, точно имеешь дело не с рассуждающими людьми, а с безвольными и безмозглыми автоматами. Мне, например, не стоило особенного труда убедить Дюрана, что постройка курортных вилл на окраине одного мало заселенного города есть выгоднейшее предприятие – хотя местность была малярийная, безлюдная и никем не посещаемая ввиду близости болот, сырого климата и отсутствия реки и моря. Я заработал на этом около двух миллионов комиссионных денег – и, конечно, ни одна постройка не могла быть доведена до конца. Мы заключили соглашение в баре: оркестр играл Штрауса. Штраус прекрасный композитор.
По понедельникам я мечтал – вечером от десяти до половины двенадцатого – по стенным часам, купленным мною на аукционе по необычайно дешевой цене. Я закрывал глаза, и вот небольшая гостиная превращалась в моем представлении в гигантский зал; из-под его потолка струился молочно-белый электрический свет, посредине зала в громадном и светлом бассейне плыли золотые рыбы невиданных размеров и необычайной красоты; маленькие тропические растения, приобретенные по случаю моей женой, становились высокими пальмами с тяжело раскачивающимися вершинами, воздух делался прозрачным и теплым, как на берегу тропического моря, и ничто уже не удерживало мою фантазию. Мой автомобиль французской марки и средних размеров – обыкновенный четырехместный автомобиль все удлинялся, удлинялся, ширился и увеличивался – и превращался в роскошную машину с серебряно хрустящим звуком мотора.
Затем я обычно уезжал из Парижа и возвращался в свою квартиру только к половине двенадцатого, час, когда я должен был ложиться спать. Я привожу все эти соображения исключительно для того, чтобы указать, насколько все могло бы быть благополучно, если бы нелепый физический закон о ходе лучей в человеческом глазу и последовавшие за ними неизбежные события не привели бы меня к печальной необходимости принять ряд радикальных мер для прекращения этого порядка вещей.
Со времени этой злополучной партии бриджа, когда у меня впервые произошло открытое столкновение с королем пик, исход которого казался нерешенным, постоянное вмешательство черного глаза в мою жизнь перевернуло все вверх дном. Помимо ежедневных ссор с Валентиной, помимо испорченных обедов и бесследно исчезнувшей возможности настроиться на фантастический лад по понедельникам, – что я считал грубым вмешательством в мою личную жизнь – распространение отрицательных эффектов этого плана дошло до нарушения моих финансовых проектов.
Не желая быть голословным, привожу следующий факт. Была заключена сделка с одним крупным финансистом, имени которого я предпочитаю не называть. Он накануне подписал крупные денежные обязательства: не знаю, во всяком случае мне не удалось выяснить, где в ту минуту находилась Валентина, но так или иначе ход лучей нарушен не был. Вернувшись домой, я показал вечернюю газету Валентине, где на первой странице был напечатан портрет этого финансиста, совершенно пьяного, но во весь рост, хотя несколько наискось. Валентина внимательно посмотрела на него сначала левым, потом правым глазом. Опасаясь ее побуждений, я показал ей над столом указательный и средний палец правой руки, что предохраняет по наивному итальянскому поверию от дурного глаза. Но смутная тревога не оставляла меня.
На следующее утро, оттолкнувшись от Валентины, которая спала, этими же пальцами, я вышел купить газету. И не успело еще мрачное предчувствие окончательно охватить меня, как в газете, на совершенно белом, по-видимому не пропущенном цензурой листе появились русские буквы громадных размеров.
Я нарочно останавливаюсь на этом последнем, чтобы подчеркнуть всю странность происходящего: каким образом, во французской газете появились русские буквы?
Угловой агент полиции, носящий номер четыре триллиона одиннадцать, может подтвердить факт моего обращения к нему за соответствующими объяснениями. Он, однако, так же, как и я, не мог разобраться в этом происшествии. Кроме того, своеобразное притупление зрительного нерва, характерное вообще для полицейских, не позволило ему с достоверностью установить наличие перемены карт. Я же прочел, не веря своим глазам, русское сообщение о том, что финансист, подробную биографию которого я излагаю в другом месте, именно в книге этюдов плафонной <?> игры, – что этот финансист умер вчера ночью от апоплексического удара, и административные власти монпарнасского кладбища – так как в молодости финансист писал стихи – наложили арест на все его текущие счета и домовые обязательства. Таким образом, безошибочно рассчитанная мною комбинация, которую я накануне объявил Валентине, оказалась нарушенной настолько, что возможность ее удачного исхода была сведена с превосходной степенью достоверности к нулю, являющемуся понятием нейтрального порядка.
Для такого аналитического ума, как мой, приученного долгими годами практики к строго логическому мышлению и не отклоняющемуся в сторону, выводы из всего этого ряда событий были совершенно ясны, как ряд цифр, скажем, геометрической прогрессии или расположенных последовательно членов бинома. Не пренебрегая, однако, психологическими факторами, я вернулся домой. Валентина ничего не подозревала. Помня о моих супружеских обязательствах к ней и имея уже вполне готовую формулу, я, однако, решил сделать еще одну последнюю проверку, подставив на место данных соображений иные, почти, в сущности, произвольные величины. Я думаю, что выражаюсь достаточно ясно: другими словами, я устроил в тот же вечер партию бриджа. Имея на руках пики от дамы, десятки и вниз, черви от валета, четыре трефы от десятки, и бубновую десятку, я естественно объявил одну пику. На первый взгляд такая игра может показаться парадоксальной; в другом месте, именно в этюдах плафонной <?> игры я объясняю эту кажущуюся ошибку.
Ренэ, брат Валентины, объявил две черви. У Валентины на руках было несколько треф, несколько бубен, три червы. Вместо того чтобы поддержать меня, она пасовала. Я несколько откинулся назад, чтобы обдумать положение – и в эту секунду на руках Валентины увидел короля пик, улыбавшегося непостижимой нечеловеческой улыбкой.
Ошибки быть не могло: и если до этой минуты у меня еще возникали некоторые сомнения, то теперь все стало ясно: и связь Валентины с королем пик представилась мне со всей своей омерзительной неестественностью. Я выстрелил.
Студент в черном, говоривший на дурном французском языке с сильным овернским акцентом, имел со мной конфиденциальный разговор: он оказался все же умнее, чем я думал, и мы нашли совместное решение о том, что мне необходимо подробно описать все это, для чего мне отвели отдельную, комнату в удобном доме, где-то за Парижем. Вечером меня обливают водой, чтобы восстановить правильное функционирование психических факторов. Сегодня я кончаю изложение этого ряда выводов и только потом приступлю к многотомной работе, которую назову «Числа и карты» и в которой те, кто до сих пор сомневался в правильности моих выводов, найдут сколько угодно блистательных опровержений этой ошибки.
Наследство*
Сидор Спиридонович Вернер был преимущественно журналистом; хотя не всегда и не исключительно, но в значительной степени и главное, по призванию. Ничего не доставляло ему большего удовольствия, чем столик кафе на Монпарнасе, где он усаживался, легкий шум голосов вокруг, и строки своей статьи, которые он выводил аккуратным почерком:
«Кровавые поработители нашей Родины, продавшиеся еврейскому капиталу…»
Сидор Спиридонович был совершенно бескорыстен: ни разу в жизни он не видел ни одного коммуниста. В эпоху гражданской войны в России он считал, что не имеет права жертвовать своей жизнью, идя на фронт, ибо он незаменим в тылу, как пропагандист. О степени его незаменимости, впрочем, мнения разделялись. Но Сидор Спиридонович был в ней так же убежден, как в своем призвании журналиста – и ничто не могло ее поколебать. С этими двумя убеждениями он провел всю войну в пропагандных поездах, безнадежно путавшихся на далеких тыловых вокзалах, застревающих в железнодорожных пробках и опаздывавших на боевые участки: со стен вагона на него смотрела темнолицая женщина с младенцем на руках, засиженная мухами, и несколько штыков и затылков молодцеватых солдат, под которыми была подпись:
«Не забывайте тех, за чьими спинами вы пьете кофе».
Кроме этих двух плакатов, ничего другого не было. Сидор Спиридонович не уставал, однако, смотреть на них с чувством неугасимого энтузиазма и писал статьи-корреспонденции с фронта:
«Мы объезжаем позиции. Пушки грозно стоят хоботами к неприятелю».
Потом Сидору Спиридоновичу объяснили, что такое хобот пушки. Он отвечал, что в лихорадочном возбуждении, набрасывая строки, написанные огнем и кровью, не мог думать о мелочах. Впрочем, это было единственной служебной неприятностью Сидора Спиридоновича. В остальном его читатели и сотрудники были еще менее сильны, чем он, и, в конце концов, Сидор Спиридонович стал почти знаменитостью. В коричневом френче и высоких сапогах он расхаживал по перронам далеких станций и говорил о необходимости бороться до конца.
– Я пожертвовал всем, – говорил Сидор Спиридонович. – Но верните меня к истокам восемнадцатого года: и с той же неугасимой верой я начну борьбу сначала.
Однако возвращения к истокам, по крайней мере в том смысле, в каком это понимал Сидор Спиридонович, не произошло, и вскоре френч Сидора Спиридоновича красовался уже над Черным морем, по которому уплывали в совершенную неизвестность оба плаката, несколько брошюр, два сомнительных вольноопределяющихся, один рекордный в смысле количества романов беллетрист и еще «последовавшая в изгнание», как она говорила, за Сидором Спиридоновичем, побежденная его огненным красноречием Вероника Константинопуло, бывшая совершенно неотразимой и роковой женщиной довоенной эпохи. За границей стало несколько скучнее, хотя энтузиазм Сидора Спиридоновича безнаказанно перенес и этот удар, который его враги наивно считали смертельным. Несчастье заключалось в том, что неугасимая надежда борьбы с еврейским капиталом вспыхивала лишь изредка и быстро потухала: выходило два-три номера газеты с громовыми статьями, отчетом о казачьем съезде и очередной вечеринке бывших участников какого-то такого похода, о котором никто ничего не помнил, и даже сами участники нередко путали его с другим. После этого вмешивались два обстоятельства, совершенно непреодолимые – иногда одновременно, иногда отдельно: отсутствие денег и отсутствие материала.
Типография, относившаяся с холодным равнодушием к политическому значению газеты, требовала уплаты: и в том случае, если неожиданно деньги находились, выяснялось, что верстать, кроме телеграфных сообщений, решительно нечего. Тогда на первой странице в пол-листа помещали портрет генерала Кутепова, всегда с этой целью хранившийся в типографском резерве, а оба «подвала» заполняли военными мемуарами. В результате тираж газеты сводился к печальным двузначным цифрам, и все затухало. Сидор Спиридонович говорил, язвительно улыбаясь:
– Да, клеветническая кампания и травля продажной прессы и на этот раз оказалась на высоте. Она победила нашу газету. Но нас, – в комнате обыкновенно находилась Вероника Константинопуло, – но нас они никогда не победят.
И Сидор Спиридонович продолжал бороться с клеветниками, с еврейским капиталом, с мировым масонством и с множеством других воображаемых вещей. Годы, однако, все шли. Сидору Спиридоновичу давно перевалило за сорок, давно уже пошаливало сердце и ломило поясницу, появилась одышка, сильно поредели волосы; уже не одну и не две надгробные речи успел произнести Сидор Спиридонович, все призывая «теснее сплотиться над этой могилой», и все больше становилось могил и меньше тех, кто должен был сплачиваться – и вот, в один прекрасный майский вечер, задумавшись, впервые, быть может, за всю свою жизнь, Сидор Спиридонович вдруг понял с безнадежной ясностью, что сроки наступают, что все ерунда и грусть и что надо себе приготовить отступление, пока не поздно. Но что делать?
И все получилось, как в романе. Тем же вечером получилось письмо в длинном конверте, а в письме было написано: мадам де Федорчук просит Сидора Спиридоновича пожаловать к ней завтра утром по очень важному.
Мадам де Федорчук жила в хорошей квартире, недалеко от площади Альма. Сидор Спиридонович позвонил и крякнул, дверь открыла горничная и попросила Сидора Спиридоновича подождать. Минут через пять в гостиную с поскрипывающей мебелью вошла сама madame, как две капли воды похожая на одну покойную губернаторшу, которую случайно знал Сидор Спиридонович. Она, всхлипывая, подала руку и сказала:
– Мой выбор пал на вас. И заплакала.
– Так почему вы плачете? – спросил Сидор Спиридонович.
– Это не потому, что вы думаете. Я плачу потому, что меня оставил муж.
– Что вы говорите? И давно?
– Скоро шесть лет.
– Шесть лет! – Сидор Спиридонович был крайне удивлен. Впрочем – сказал он себе, с тревогой ощущая склонность к философии, – если положительные чувства могут длиться всю жизнь, то почему же отрицательные не могут длиться шесть лет?
– Да, но дело не в этом, – сказала неутешная женщина. – Я получила недавно наследство – кусок земли на юге Франции. Я решила пожертвовать его самому бескорыстному человеку, которого я лично знаю. Я помню ваши статьи еще по Жмеринке. Мой выбор пал на вас.
Она опять заплакала. Сидор Спиридонович рассыпался в комплиментах, поцеловал руку и вышел, сопровождаемый всхлипываньем и сморканьем.
Путешествие в поезде показалось Сидору Спиридоновичу очаровательным и удобным. Так мягко щелкали рельсы, так плавно и быстро катился вагон, так свеж был июньский воздух, что Сидор Спиридонович почувствовал, как он молодеет.
– Да-с, – говорил он себе, – теперь и мы отдохнем. Часть участка продам за несколько тысяч, выстрою небольшой дом, и вечерами из окна буду смотреть на вечно шумящее море.
Сидор Спиридонович вспомнил, что где-то, еще будучи учеником городского училища, он читал что-то такое о море какого-то иностранного писателя, но которого и что – никак не мог вспомнить. В конце концов, это было неважно.
К месту назначения он приехал днем, было тепло и солнечно. Расспросив дорогу, он пошел широкими шагами вперед и скоро дошел до огороженного участка, спускавшегося к морю. Не было видно ни души. Он осмотрелся вокруг. Воздух был как-то особенно горяч, слегка пахло почему-то серой, и в середине огороженного места стлался желтовато-серый дым.
– Что за черт? – сказал себе Сидор Спиридонович.
Он, однако, приблизился к холму, откуда шел дым. Земля вдруг стала припекать ему ноги сквозь толстые подошвы. Не понимая в чем дело, он решил зайти в ближайшее кафе, узнать у старожилов, в чем дело.
И, налив ему стакан лимонада, хозяйка объяснила, что на этом участке находится вулкан, который принадлежит какому-то иностранцу. Вулкан, по словам хозяйки, был небольшой, но исправный, с регулярными извержениями, с лавой, кратером и всем, чем полагается. Ввиду того, что там находился вулкан, никто, конечно, не мог жить на этом участке: уничтожение же вулкана хозяин считал трудноосуществимым. Сидор Спиридонович поблагодарил ее и ушел.
Денег на обратный билет у него не было. Он пошел еще раз посмотреть на свое наследство. Далеко и ровно перед ним лежало море, плещущие его волны подкатывались и с шипом падали на горячий берег его земли; небо густо синело на западе, <…> хрустально и призрачно удаляясь. Сидор Спиридонович сел на большой камень, нагретый солнцем. Посередине его владений кипел и дымился его собственный вулкан, острый запах его уносился ветром, и тяжелый удушливый дым медленно пролетал над головой Сидора Спиридоновича.
Все стало вспоминаться Сидору Спиридоновичу – Жмеринка, и коричневый френч, и Верочка Константинопуло и «кровавые поработители России», и то, что нет денег на обратный проезд в Париж, и фраза, которую он, наконец, увидел, как в раскрытой книге:
«Море было далекое и прекрасное, похожее на синюю бархатную скатерть сказочного волшебника. С террасы дома, сквозь густую зелень ветвей Альберт часами следил за его изменчивой поверхностью».
Сидор Спиридонович наклонился вниз, написал указательным пальцем на песке: «как печально» – и повернулся, чтобы в последний раз посмотреть на свой вулкан, но слезы мешали ему видеть.
Жертва правосудия*
К изложению этого случая меня побуждает человеколюбие и желание предостеречь слишком доверчивых людей, которых могла бы тронуть история невинно пострадавшего коммерсанта; и это не в беллетристическом смысле, а точная передача фактов, обманчивая внешность которых заставила меня очень ошибиться и сделала то, что теперь мои воспоминания об этом невольно принимают несколько минорный характер.
Факты начались с того, что, когда я выходил однажды из одного русского учреждения, где был по делу, ко мне подошел маленький человек, рыжеватый, чрезвычайно небритый и одетый в очень потрепанный пиджак светло-лилового цвета и необыкновенно странного покроя, – он весь был набок, – до невозможности узенькие серые штаны и гигантские черные туфли, верх которых отделялся от подошвы при каждом шаге. Этот человек приблизился ко мне и спросил вежливым голосом:
– Простите, пожалуйста, не можете ли вы сказать, который час?
– Без четверти четыре.
– Благодарю вас.
Он задумался и потом сказал, точно спохватившись:
– Извините мою настойчивость: нет ли у вас папиросы?
Я дал ему папиросу; он закурил и посмотрел на меня выжидательно. Потом он заметил:
– Вы идете в сторону метро? Я вас немного провожу.
И он пошел рядом со мной. Надо было хоть что-нибудь ему сказать – и я спросил, по делу ли он пришел в это учреждение или просто так.
– По делу, – небрежно ответил он. – Видите ли, З., – он назвал фамилию известного человека, – близкий друг моего отца, и я хотел обратиться к нему с пустячной просьбой. У меня вышла очень неприятная история: я стал жертвой правосудия.
– Каким же образом?
– Я ведь только что из тюрьмы.
Теперь мне кажется, что действительно, при взгляде на этого человека мысль о тюрьме непременно должна была возникнуть – в том или ином виде; и если бы он не сказал, что вышел из тюрьмы, то можно было бы предсказать, что рано или поздно он в нее попадет. Но тогда я об этом не подумал.
– Как же вы туда попали?
– Из-за доверия к людям, – сказал он с горечью. – Исключительно из-за доверия к людям. Посудите сами: у меня было коммерческое предприятие, свободный капитал в триста тысяч франков, автомобиль, роскошная квартира и так далее. Хорошо. Мне одна дама дала вещи на комиссию: соболью шубу и бриллианты, всего на два миллиона франков. Я уезжаю в Лондон, оставляю все Сашке Петухову, моему другу: честнейший малый. Он передает это одному подозрительному субъекту. И куда же бы вы думали уезжает этот субъект?
– Черт его знает, трудно сказать.
– В Грецию, дорогой мой! В Грецию!
– Почему же именно поездка в Грецию кажется вам замечательной? Не все ли равно – Греция, Италия, Бельгия?
– Сразу видно вашу неопытность. Греция не выдает уголовных преступников.
– Ну да, она не хочет понижать цифру народонаселения. Но что же было дальше?
– Я, значит, в Лондоне, живу у своей любовницы; роскошная женщина, я бы вам показал ее карточку, но у меня нет ее с собой. Да. И вот, приходят ко мне на дом. – Вы такой-то? – Я такой-то. Арестовывают, отправляют по этапу в Париж, снимают с меня все, дают эти лохмотья, – он показал на свой пиджак, – и сажают в Сантэ. Знаете тюрьму Сантэ?
– Как не знать.
– Ну, вот. И, конечно, суд. Защищала меня одна русская – благороднейшая особа, служит у них адвокатом. Благодаря ей мне дали четыре месяца тюрьмы – а то бы сел на год. На все мои деньги наложили арест.
– Да, положение трудное.
– Но я, – продолжал он, – не забывайте, тоже не идиот. У меня на всякий случай в Люксембургском банке лежало пятьдесят тысяч франков и сейчас лежит. Только вы никому об этом не говорите, пожалуйста.
– Вы уж не беспокойтесь.
– Но получить на свое имя я не могу ни копейки: все денежные переводы на мое имя немедленно задерживаются. Вот я и шел к 3., чтобы попросить его выписать для меня тысяч пять. Я бы как-нибудь обернулся и уехал бы из Франции. Мне и в префектуре сказали, что это самое лучшее – и для Франции и для меня. Но куда же я так поеду – и на какие деньги? Я уже двое суток ничего не ел и не спал, а не то что уезжать. И в кармане ни одного сантима.
– Постойте, – сказал я. – Ведь вы были коммерсантом, у вас есть знакомые, тот же ваш благороднейший Сашка Петухов хотя бы. Обратитесь к кому-нибудь, вам помогут.
– Еще бы не помочь. Сашке я сколько раз давал и по пять и по десять тысяч. Проиграется, приходит ко мне: Ваня, говорит, если и ты мне не поможешь, застрелюсь к чертовой матери.
Он разгорячился.
– Это вы – Ваня?
– Я. Меня зовут Иван Александрович. Фамилия – Покровский.
– Хорошая фамилия.
– Фамилия хорошая, русская по крайней мере. Да, так вы удивляетесь, почему я к ним не обращусь? Батенька мой, – сказал он с убеждением, – в таком виде?
– Вы протелефонируйте.
– А деньги на телефон?
– Ну, хорошо, – сказал я. – Очень обидно, что вы двое суток не ели и не спали. Я, к сожалению, ничего сделать для вас не могу: денег у меня нет. Но вот что: я вам, пожалуй, дам костюм и ботинки – вы примете более приличный вид и тогда сможете обратиться к этому вашему Сашке.
– Боже мой, – ответил он, – как мне вас благодарить? Вы понимаете, что когда я получу деньги, мы с вами поквитаемся, вы не раскаетесь.
– Нет, спасибо, я заработать специально не рассчитывал, – сказал я, – а то бы, наверное, нашел какое-нибудь другое дело. Но я сейчас занят, приходите ко мне вечером, я вам дам костюм, и все как-нибудь устроится. Приходите в девять часов вечера на станцию метро.
Я подумал о том, что если он явится в гостиницу, где я живу, то хозяйка его просто не пустит.
– Вот вам два франка на путешествие. До свидания. – Я уж вашего благородства не забуду, будьте покойны, – сказал он с чувством. – Всего, всего вам хорошего.
В тот же день я пошел к моему товарищу Р. и рассказал ему о встрече с жертвой правосудия.
– Ты понимаешь, – говорил я, – у меня нет денег, я ничего предпринять не могу. Но, может быть, у тебя дела обстоят лучше? Ему надо помочь.
– А он не жулик? – спросил Р.
– Ну, что ты, не думаю.
– А я думаю, что он жулик.
– Да ведь ты его даже не видел.
– Ну, хорошо, – сказал Р., – у меня есть свободных двести франков.
Через три дня Р. предстояло платить больше тысячи франков за квартиру, и так как кроме двухсот франков у него ничего не было, а эта сумма не могла даже частично решить квартирную проблему, то он считал двести франков свободными.
В девять часов вечера мы пришли к месту свидания, Иван Александрович Покровский уже ждал нас, расхаживая под часами.
Он горячился, пожимал нам руки и без умолку говорил, чрезвычайно часто повторяя:
– Боже мой, вы не можете себе представить… Боже мой, – так что Р. наконец стал уговаривать его не волноваться.
Когда мы пошли по направлению к гостинице, где я жил, Иван Александрович заметил:
– Просто спину жжет, кажется, что все на меня смотрят. Я ведь никогда этой эмигрантской бедности не знал, а теперь хожу в таких лохмотьях. Вы не можете себе представить…
Мы привели его ко мне. Р. посоветовал Ивану Александровичу прежде всего вымыться и побриться. Покровский снял свой почерневший воротничок и стал умываться как женщина, одной рукой.
– Нет, вы уж умойтесь основательнее, – настаивал Р.
– Да я чистенький.
– Ничего, вреда вам не будет.
Тогда Иван Александрович разделся. На нем оказалось два жилета разных цветов, но одинаковой плотности, и фуфайка. Я этому удивился: стояли жаркие июльские дни. Мылся Иван Александрович очень нерешительно, брился он вовсе странно, почти не глядя в зеркало. Наконец он облачился в костюм, который я ему дал, надел белье, носки, рубашку. Галстук, который я ему предложил, не пришелся ему по вкусу, он попросил другой. Затем он зашнуровал туфли, вставил в карман пиджака платок – и вышел из гостиницы неузнаваемым. Костюм мой был ему как раз; Иван Александрович был такого же роста, как я.
– Теперь, – сказал Р., – вы можете протелефонировать вашему Сашке Петухову.
– Да уж будьте уверены, – ответил Иван Александрович бодрым тоном. Однако по телефону он разговаривал просительным голосом. – Ну, да, Саша, – говорил он, – ну, конечно, да, Саша, Саша!
Затем мы отправились на place de la Bourse, чтобы отправить телеграмму в Люксембургский банк; было уже довольно поздно. Когда мы сели в автобус, Иван Александрович заметил:
– Не привык я, знаете, ездить на автобусе.
Я только впоследствии оценил верность этого замечания.
– Автомобиль был марки «Амилькар», между прочим, – добавил он.
Телеграмму он составил по-русски, так как французского не знал, несмотря на свое светское, по его словам, воспитание и лондонскую любовницу; это, впрочем, меня не удивило; громадное большинство русских в Париже получило именно светское воспитание, и я знал одного украинца, который рассказывал с сильным малороссийским акцентом, что у него в Конотопе был повар-француз и ящики шампанского, – что не мешало конотопскому магнату знать по-французски одно местоимение и четыре глагола в неопределенном наклонении.
Мы перевели телеграмму Ивана Александровича. Вот что там было написано:
Люксембургский Национальный Банк Агентство «К». Просьба выслать по телеграфу сумму в пять тысяч франков, списав ее с моего текущего счета 3541. Покровский.
Дальше сообщался адрес Р. Деньги, по расчетам Ивана Александровича, должны были прибыть завтра утром или, в крайнем случае, после обеда.
С place de la Bourse мы повезли Ивана Алексадровича на Монпарнас – кормить. Он все просил нас не заходить в большое кафе, так как там слишком дорого. Но Р. настоял, и мы пришли в «Куполь». Иван Александрович все ежился и озирался; но, впрочем, подошел к какому-то человеку в сером костюме, пожал ему руку и быстро ушел. Никогда не забуду с каким изумлением субъект в сером посмотрел ему вслед.
– Чего вы боитесь? – спросил Р.
– Да, знаете, увидит кто-нибудь в таком виде…
– Это вы по инерции говорите; вид у вас теперь приличный.
– Да нет, знаете… Вот возьму костюм у своего портного…
Он съел мало – один сандвич, в который он положил невероятное количество горчицы.
– Надо его устроить ночевать, – думал вслух Р.
Было решено положить Ивана Александровича в комнате горничной при квартире Р.; комната эта существовала, а горничной не было.
– Ну и засну же я, – говорил Покровский. – Двое суток не спал. Зато завтра, друзья мои, получим деньги и зальемся в ресторан. Русский я все-таки человек, люблю погулять.
– А все-таки он жулик, – сказал Р. уже после того, как Иван Александрович уснул сном праведника и Р. вышел провожать меня. – Но врет он очень складно: даже марку автомобиля не забыл. Я, думаю, что к тебе он подошел из-за костюма; будь ты повыше ростом, он бы с тобой и не заговорил. Плакал твой костюм.
– Плакали твои денежки, – сказал я. – Но не надо отчаиваться. Завтра ты получишь перевод.
– Все возможно, – сказал Р. – Но уверенности у меня нет.
Утром следующего дня Иван Александрович пришел ко мне, сказал, что выспался недурно, взял денег на папиросы, обещая прийти к Р. в шесть часов вечера за деньгами, – и удалился, направляясь к Opera.
Больше я его не видел. Через три дня Р. получил ответ на свою телеграмму – лаконический, но очень точный:
– Такого агентства не существует.
А еще через неделю я нашел в своем отельном ящичке открытку, подписанную Покровским.
«Дорогой друг, – писал он, – я с ужасом и волнением себя спрашиваю: что вы должны обо мне подумать? Эту небольшую историю я урегулирую через несколько дней. До скорой встречи. Уважающий вас Иван Александрович Покровский».
– Неприятно все-таки, – сказал я Р., – что я заставил Ивана Александровича так волноваться. Видишь: «с ужасом и волнением себя спрашиваю…» Зачем я своим поведением расстроил этого человека?
Потом Р. ходил повсюду, рассказывая, как я попался – отдал костюм профессиональному жулику, хотя он, Р., сразу же мне сказал, что Иван Александрович – жулик. О том, что этому Ивану Александровичу он отправлял телеграмму в Люксембургский банк, кормил его и дал ему денег, – Р. умалчивал. Что мне оставалось делать? Я рассказывал, в свою очередь, что Р. истратил крупную сумму на Ивана Александровича, а я, после долгого колебания, дал ему старый пиджак.
<Письмо неизвестному>*
Милый друг, прошло уже много времени со дня твоего отъезда из Парижа, море замкнулось за кормой парохода, как за сынами Израиля, уходившими от войск фараона – и такая аллегория тем более естественна, что ты уехал, как мне это давно сказали, в Палестину; и все же проходя по Монпарнасу, я все смотрю – нет ли тебя за столиком Наполи или у Доминика, где тебе подавал – ты помнишь? – всегда один и тот же гарсон с грозной трехдневной щетиной на физиономии и неуместно нетрезвый. Кстати, он теперь носит довольно густые усы, я видел его случайно несколько дней тому назад.
Имя твое окружено ореолом, вокруг тебя уже начинают слагаться легенды, кто-то недавно рассказывал, как ты исчез однажды из его квартиры – и в комнате, где ты был, остался только легкий, волшебно клубившийся дымок. Журнал, который ты основал много лет тому назад, все еще продолжает выходить, как это ни удивительно; но с тех пор, как ты там однажды не заплатил гонорары, я больше в нем не сотрудничаю.
Я еще продолжаю иногда бывать в том громадном желтом доме недалеко от Монпарнаса, где ты некогда жил: в твоей квартире изредка виден свет над столом в той самой комнате, где на обоях многократно повторен нравоучительный рисунок, изображавший неблагоразумных отца и сына, вдвоем ехавших на осле; осел не выдержал этого и «слег», как пишут в рассказах, – и затем отец и сын, вместо того, чтобы на нем ехать, были принуждены нести его на себе. Но квартира теперь кажется мне обидно пустой: летом, из открытого окна, слышится телефонный звонок и чей-то скучный голос говорит:
– Да, я допускаю временную задержку с выплатой ипотек. Что? Почему допускаю? Я не знаю, почему я допускаю. Потому что все допускают, и я допускаю. Как же вы хотите, чтобы я не допускал? Что? Ах, вы не допускаете? Ну, и не допускайте, если на здоровье. Но что значит допускать? Это же чисто условно.
И глагол «допускать» уже теряет свое первоначальное значение – как всякое слово, которое повторяется много раз – и начинает потихоньку фыркать и прыскать – вроде того, как когда комнату обрызгивают из пульверизатора.
Кстати, где теперь твой замечательный аппарат для сушки волос – ты помнишь, такой черный квадратный ящик с вращающейся щеткой, который так тревожно шумел, так дорого стоил и был так идеально бесполезен, как никакой другой предмет на свете, если не считать некоторые сборники стихов, написанные твоими протеже.
Черная капля*
Очень далеко отсюда, там, где кончаются все страны и где нет ничего, кроме синего воздуха и солнечного света, между небом и землей, на гигантском воздушном острове жил самый молодой и самый счастливый бог. Его поселил сюда старый бог, его отец, любивший его больше, чем всех его братьев и сестер. Он поднял руку – и вдалеке возник в воздухе этот сияющий остров, на котором должен был жить его любимый сын. И старый бог сказал ему:
– Я хочу, чтобы ты жил там один и не знал бы того, что знают твои старшие братья и сестры. Я давно заметил, что знание делает бога грустным. Посмотри на своих старших братьев; ты нередко увидишь, как они хмурятся, это значит, что они огорчены. Это происходит потому, что я позволил им смотреть на скучные и печальные вещи, и как только они их увидели, они узнали, что такое сожаление, сострадание и грусть. Я хочу, чтобы ты не знал этого. Поэтому ты будешь жить отдельно от всех, и я буду приходить к тебе каждую неделю, а ты мне расскажешь всякий раз, как ты проводил свое время. Иди.
Молодой бог сделал шаг – и к ним бесшумно и волшебно подплыл его остров – и тотчас двинулся назад, и было слышно, как журчит воздух у его невидимых краев. Он долго скользил в синем пространстве, пересекая задумчивые белые облака и воздушные пропасти, освещенные солнцем, проплывая совсем близко от звезд и стремясь все дальше и дальше. Потом он стал двигаться медленнее и, наконец, нельзя было уже знать, идет ли он еще или уже остановился и это только воздушные реки медленно и бесшумно протекают мимо него.
И молодой бог стал жить один на этом острове. Там были большие деревья и озера, и луга с высокой и мягкой травой, там было множество птиц с разноцветными перьями, в озерах плавали рыбы, сверкавшие радужно, в лесу рядом с деревьями росли громадные цветы, в воздухе пролетали бабочки, на деревьях были фрукты, в траве были ягоды, в дуплах был мед, вода в озерах белая прозрачная. И была на этом острове еще одна отдельная страна, которая отличалась тем, что воздух в ней был особенно нежен и недвижим, и вода в ней была непохожей на все другие воды – это была страна теперь счастливого бога, куда он любил приходить по вечерам, когда все темнело и на деревьях зажигались божьи огни светляков.
И вот прошла неделя, и бог поднял глаза и увидел своего отца.
– Ну, – сказал старый бог, – что ты делал это время?
– Я смотрел вокруг, – ответил молодой бог, – и я думаю, что никогда не захочу ничего другого. Здесь все так хорошо и прекрасно, что ничего лучшего я не могу себе представить.
Прошли еще недели, и месяцы, и годы, и ничего не изменилось; и старый бог был счастлив так же, как его сын. Но однажды молодой бог задумался.
– Отец говорил мне, – думал он, – что мои братья и сестры стали грустными потому, что знают скучные и печальные вещи. Но разве нельзя сделать так, чтобы вещи были иными? Вот я создам существо, в котором будет жизнь и радость, которое будет чистым и прозрачным, как воздух, – и которому будут чужды раз навсегда печаль и скука – и ни в ком никогда оно не вызовет этих чувств.
И он взял воду, и цветы, и траву, и воздух, и смешал это, и под его рукою это стало волшебно меняться: уже стало видно нежное лицо с большими глазами, грудь, руки и ноги, розовые и белые – были только два цвета – розовый и белый. Вдруг в воздухе высоко-высоко над островом стремительно пролетела чья-то громадная тень; и черная, невиданного цвета капля вдруг упала вниз на тело, лежавшее в руках молодого бога. Она расплылась треугольным волнующимся пятном на том самом месте бело-розового тела, где сходились ноги – и осталась там. Молодой бог провел рукой по телу: пятно побледнело, но все же осталось, и когда бог отнял руку, он увидел, что оно стало еще чернее и определеннее, чем раньше. Потом он увидел, что такие же, только меньшие пятна появились под руками. В ту же секунду страшно зашумел воздух, и бог увидел своего отца:
– Что ты сделал? – спросил старый бог, лицо его было нахмурено и печально.
– Я создал существо, в котором не будет ни грусти, ни скуки, которое чисто и прозрачно, как вода в твоих озерах.
Но старый бог отрицательно покачал головой.
– Нет, мой сын, – сказал он. – Ты ошибся. Ты видишь это черное на розовом и белом?
– Да.
– Это место для страсти, печали и боли. Если бы его не было, эта созданная тобой женщина никогда бы не узнала их. Теперь же ее судьба определена заранее.
Он поднял руку – и тело поднялось и стало медленно падать вниз на землю.
– Смотри, – сказал бог, – ты будешь видеть теперь всю ее жизнь.
И молодой бог нагнулся и увидел скудную зелень на темной земле (Vallee Chevreuse под Парижем), и множество людей, и гремящие города с высокими домами, и наконец ту, чье тело только что опустилось вниз.
Была ночь и сад, и затихшие деревья, и еще чьи-то глаза рядом с глазами женщины, и это было несколько раз. Бог смотрел на лицо созданной им женщины: оно оставалось таким же прекрасным и прозрачным, каким он его создал, и только в глазах была нежность и печаль.
И опять прошли годы; и в то время, как остальные люди менялись, становясь из хороших дурными, из тонких толстыми, из добрых злыми, из веселых грустными – она оставалась такой же, какой была в первый день своего существования. Бог видел человека, чьи глаза были погружены в глаза этой женщины, чье тело было так соединено с розовым и белым божественным телом, что нельзя было видеть, где начинается одно и кончается другое, и бог знал, что в жизни этого человека до самой последней минуты, до этого взгляда созданной им женщины – не было никогда и тени счастья – и вдруг оно стало существовать, как небесные озера его острова. Тогда он позвал своего отца и сказал:
– Отец, на этот раз ты ошибся.
– Нет, – сказал бог, – ты видишь белое и розовое, но ты не видишь черного. Там сейчас боль, потом будет печаль: и без этого все было бы невозможно. И он наклонился вниз – потом сказал: – Да, но все-таки я тоже ошибся. Я забыл, что в начале человеческой любви были радость и счастье; я давно не видел этой любви, после них все равно придет сожаление – или у той, которая любит, или у того, который любит, но будет о них жалеть – и это уже так много; ты видишь, как там струится воздух твоей страны, твоего раннего детства, где есть радость и огорчение, но нет ни корысти, ни расчета, ни ожидания награды; и за первую чистоту этих чувств – может быть, стоит пожертвовать печалью, которая все равно неизбежна, потому что день, когда появились люди, был днем земной смерти твоей матери.
А на земле была ночь и тихий ветер, качалась горячая от дневного зноя черная ночная трава, потемневшее небо проходило над городами, и горячая воздушная река, где текли и поминутно соединялись белые и розовые и черные струи и сверкающие капли нездешних озер – эта река тормозила в том месте, которое находилось под небесным озером, где жил самый молодой и самый счастливый бог.
Знакомство Маргариты*
Знакомство Маргариты с m-r Smith состоялось в большом монпарнасском кафе в четыре часа зимнего утра. Когда Маргарита вновь увидела его широкую фигуру в плотно застегнутом широком пальто – он вошел в кафе и сел за столик, в глубине, – она отослала своего спутника, молодого студента-медика темного происхождения типа мелкого альфонса и выпрашивателя денег у женщин – в том числе и у Маргариты – под тем предлогом, что должна писать письма, затем пересела вглубь кафе и, нахмурив на секунду брови при мысли о том, что уход медика стоил ей лишних десять франков, которые тот не забыл попросить, уходя, верно рассчитав, что в данном случае ему не откажут, Маргарита стала писать длинное письмо воображаемому корреспонденту, изредка обводя кафе рассеянным взглядом, точно ищущим точное выражение, и неизменно останавливая громадные, подведенные глаза на лице господина Смита, который казался погруженным в раздумчивость и не замечал ее. Потом он посмотрел в ее сторону. Маргарита была настолько хороша, что он вздохнул, поднялся со своего места и подошел к ней, попросил разрешения сесть с ней рядом. Улыбнувшись быстрой и искусственно-радостной улыбкой, которую она видела на лице знаменитой кинематографической актрисы во многих фильмах – Маргарита разрешила.
– Вы пишете письмо, – вздыхая, сказал Смит, – я боюсь злоупотребить вашим временем.
Она взяла листки бумаги, медленно порвала их своими длинными, вздрагивающими пальцами – лицо Смита стало вдруг серьезно и задумчиво – и сказала, глядя на него особенно смеющимися глазами, в выражении которых нельзя было ошибиться:
– Voyons, m-r, я считаю вас plus fin que ca[14]. Я думаю, что вы знаете так же, как и я, что это только маленькая комедия. Разве вы не заметили, что уже четыре дня мы бываем одновременно в этом кафе? И кстати, кто эта женщина, с которой вы приходили?
– Подруга детства, – небрежно сказал Смит, – очаровательное дитя; менее очаровательное, чем вы, конечно, но очень милое в своем роде.
– Ваша любовница?
– Вы любите сильные выражения? Это нехорошо, – сказал Смит.
Потом он вынул портсигар и рассеянно протянул его Маргарите: взгляд его снова стал задумчивым; он, казалось, не замечал ничего окружающего.
– Можно узнать вашу профессию? – спросила Маргарита.
– Я торгую наркотиками, – сказал Смит. И тотчас, спохватившись, засмеялся, чтобы придать своему ответу явно шуточный характер.
В течение долгих лет, чуть ли не каждый час ему приходилось быть начеку: не сказать ничего, что могло бы его скомпрометировать, не выдать случайно товарища и не дать никому понять, что он, m-r Смит или m-r Dubois или m-r Smirnoff или m-r Muller <…> – смертельно устал от этого долголетнего напряжения; и что ему хотелось, как-нибудь – в дождливый осенний вечер, сесть в мягкое кресло и, глядя в чьи-то умные и понимающие все с полуслова глаза, – рассказать обо всем.
– И вы знаете… – сказал бы Смит, и тот, другой, ответил бы:
– Да, знаю: множество городов и убийственно одинаковые гостиницы и одинаково сумасшедшие глаза кокаинистов – и прохладный тяжелый револьвер в заднем кармане брюк.
Но Смит только раз поддался этому желанию и рассказал о своей жизни той женщине с усталыми глазами и удивительным телом, про которую знал много нехороших вещей. И только рассказав все и замолчав, он вдруг почувствовал, что беззащитен – как во сне, когда руки и ноги становятся как будто ватными, когда нужно бежать.
– Я могу еще убить вас, – неуверенно сказал Смит. Она успела пожать обнаженными плечами, вдруг поплывшими в сумрачном свете комнаты, но уже открылась дверь и мужской голос с резким фламандским акцентом сказал:
– Bien fait, madame.[15]
И потом было шесть долгих месяцев бельгийской тюрьмы. Но самое странное, Смит никогда не чувствовал ненависти к этой женщине. В день своего отъезда он получил от нее громадный букет цветов – с карточкой, на которой были написаны насмешливые и нежные слова – роит l'amour et la confiance[16].
Он вспомнил об этом, взглянув на Маргариту, – и стал говорить о других вещах. Он узнал, что Маргарита нигде не служит, что ей девятнадцать лет, что она ненавидит своих родителей, что она интересуется литературой и музыкой.
– Comme tout le monde[17], – рассеянно подумал Смит.
Потом они оказались в гостинице – и через полчаса изумленный Смит говорил:
– Но это невероятно. Кто тебя научил? Тебе действительно только девятнадцать лет?
Она, не отвечая, целовала его мохнатую грудь. Под утро она ушла, спросив адрес Смита и обещая написать. Через три дня пришло ее письмо, начинавшееся словами «mon amour»[18] и содержащее в себе целый арсенал тех убийственных, типичных выражений, которые Маргарита почерпнула из книг. Смит морщился, читая письмо, и, явившись на свидание, сказал Маргарите:
– Mon enfant[19], твое письмо написано очень нежно, <…>. Но кто научил тебя такому дурному стилю?
– Дурному? Почему? – обиженно спросила Маргарита.
И Смиту терпеливо пришлось объяснять ей разницу между дурным и хорошим стилем, приводя множество сравнительных цитат из разных авторов.
– Откуда ты все это знаешь?
– Я кончил университет в Берлине, – сказал Смит.
– Я думала, что ты француз.
– Нет, я голландец, – сказал Смит, задумавшись немного.
– У тебя такой вид, точно ты сам не знаешь, какой ты национальности.
– Да, я иногда путаю, – смеясь, ответил Смит.
Это было днем. Они совершили длительную прогулку по городу, побывав в Jardin d'Acclimatation[20], где Смит, увлекшись, принялся рассказывать Маргарите о том, как живут всевозможные дикие звери на свободе. Когда он сказал, что медведю надоедает зимняя спячка – Маргарита насмешливо и задумчиво заметила:
– Какой ты умный! А почему ты думаешь, что она ему надоедает?
– А? Мне так кажется, – захохотав, сказал Смит. А вечером, с побледневшим и сумасшедшим лицом, он сидел в зале Плейель рядом с Маргаритой и слушал Крейслера, дававшего единственный концерт в Париже. Мягкая рука Маргариты лежала на его пальцах.
– Кажется, это все, грубо говоря, мужчина и женщина, – думал Смит, – что же нужно еще? Да, кажется, все.
– Ты заметила, Маргарита, – сказал Смит, – что для гениального музыканта нет плохих вещей, он из всего делает чудо?
– Я не люблю скрипки, – ответила Маргарита.
Бистро*
Бывают в Париже иногда особенно светлые осенние дни, когда вдруг воздух становится чист, как если бы это было в поле или в лесу. И тогда и фасады домов, и фонарные столбы, и вывески, и балконы приобретают необыкновенную отчетливость и выразительность. Именно в такие дни становится видно то, как по мере удаления от центра Париж начинает меняться, вырождаться, тускнеть и, в сущности, перестает быть Парижем: уменьшаются и вытягиваются дома, мутнеют окна, на железных, заржавленных балюстрадах балконов повисает белье, становится больше стен и меньше стекол, темнеют и трескаются двери домов, – и вот, наконец, начинают тянуться глухие закопченные стены, окружающие фабрики. Меняется все: люди, их одежда, выражение их глаз, меняется то, как они живут, и то, о чем они думают. Таков, в частности, тот путь, который ведет от центральных улиц и площадей Парижа к предместью Сен-Дени.
В одной из гостиниц Сен-Дени жил французский рабочий, которого звали Франсуа Россиньоль. У него была маленькая комната с сырой и глубокой кроватью, небольшим тазиком и кувшином для умывания, стоявшим на хромом столе; на идущих пузырями обоях были отпечатаны огромные красные цветы, на стене висело огромное зеркало, неверно отражавшее лицо. Из окна был вид: стена, соседняя крыша, за ней опять стена и больше ничего.
Прямо против гостиницы, на другой стороне улицы, было угловое бистро, над которым светло-желтыми буквами по коричневому фону шла короткая надпись: «У Марселя», – потому что хозяина действительно звали Марсель. Все свое свободное время Россиньоль проводил в этом бистро.
Ему было на вид тридцать пять, тридцать шесть лет, у него были маленькие печальные глаза, ничем не замечательное лицо, он был мрачный и робкий человек. Работал он на автомобильном заводе, на сверлильном станке американской системы. Высоко над машинами стеклянными уступами шел закрашенный синей краской потолок, не пропускавший солнечных лучей. В мутном воздухе горели желтые электрические лампы, скрипел и выл зажатый в тиски металл, который сверлили сверла и оттачивали резцы токарных станков, обливала, охлаждая его, белая жидкость, беспрерывно струившаяся из медных трубок над станками. Вились и накручивались друг на друга горячие стальные стружки, вертелись с ровным кожаным шумом приводные ремни машин. Франсуа становился у машины в половине восьмого утра, работал до двенадцати, потом шел в заводскую столовую обедать, возвращался к половине второго и работал до шести часов вечера. В шесть часов он уходил с завода и, вероятно, возвращался бы домой, если бы у него был дом. Но дома у него не было. Вместо дома было бистро. В комнату с красными цветами на обоях он приходил только тогда, когда ложился спать. Все остальное время он проводил у Марселя. Утром, до того, как идти на завод, он пересекал улицу, входил в бистро и, приблизившись к высокой цинковой стойке, заказывал стакан красного вина. Потом он выпивал второй стакан, платил и уходил. Вернувшись с завода, он ужинал у того же Марселя, жена которого подавала ему суп, какое-нибудь мясное блюдо и бутылку вина. Кончив ужинать, он долго сидел за столом, глядя прямо перед собой своими маленькими печальными глазами.
За соседними столиками играли в карты, рассказывали анекдоты, говорили о рыбной ловле или о скачках. Все знали друг друга давно, все обо всех было известно, и казалось, что все и всегда было именно так, как теперь: матовые белые шары ламп под потолком, цинковая линия стойки, как борт остановившегося корабля, ровные ряды бутылок с вином, коньяком, ромом за спиной Марселя – тех самых бутылок, содержимое которых занимало большое место в его своеобразной философии.
Наконец в десятом часу вечера, иногда несколько позже он выходил из бистро, пересекал улицу, поднимался в свою комнату и ложился спать. Так шла его жизнь с той чудовищной простотой, которая кажется непостижимой и которая характерна для миллионов и миллионов человеческих существований.
Единственное, что, казалось бы, не соответствовало законченному и, на первый взгляд, безошибочному представлению о трагической бедности этой жизни, это было никогда не меняющееся выражение печали в глазах Франсуа. И так как это выражение всегда было одинаковым, то это создавало впечатление, что Франсуа был, вероятно, несчастлив и что он, вероятно, хотел бы жить иначе. Но как? И в чем он хотел бы изменить свою жизнь? Чего ему больше всего не хватало и о чем неизменно напоминали его глаза? И к чему, собственно, относилась эта последняя немая его печаль?
Он был чрезвычайно несловоохотлив и почти ничего о себе не рассказывал. В отличие от большинства своих товарищей, таких же простых людей, как он сам, он был равнодушен к деньгам, и никаких сбережений у него не было, как это выяснилось после его смерти. История его жизни была очень несложной: родители его были крестьянами центрального района Франции и жили в деревне, недалеко от города Шатору. Однажды ночью их ферма загорелась, и в пожаре, охватившем все со страшной быстротой, его родители погибли оба – и отец, и мать. Он был их единственным сыном. Ему было тогда шестнадцать лет, и он ушел в город. Сначала он жил в одном из восточных пригородов Парижа, а через несколько лет перешел на другой завод и переехал в Сен-Дени. Никаких других значительных событий в его жизни не было. Он никогда никому не писал и никогда не получал ни от кого писем. Газету он покупал каждый день, но просматривал ее в несколько минут, и ничего в ней не останавливало его внимания. Никогда никто не видел в его руках журнала или книги. Он бывал иногда в кинематографе, но это случалось довольно редко. А вот без красного вина его нельзя было себе представить. С вином он начинал свой день и вином кончал его. Как это ни странно, однако он не был похож на типичного алкоголика. Вино и печаль в выражении глаз – вот к чему на первый взгляд сводилась человеческая сущность Франсуа.
Он обычно не принимал участия в разговорах, которые Марсель любил вести с всегдашними посетителями бистро, такими же рабочими, как Франсуа. Разговоры эти почти всегда были об одном и том же, и Франсуа слушал их с тем же ледяным безразличием, с каким он слушал рассуждения о погоде. Марсель высказывал философские рассуждения, чрезвычайно несложные; их сущность сводилась к тому, что в жизни есть два источника наслаждения – любовь и вино. Марсель так же, как и Франсуа, никогда не читал книг и дошел до этой совершенно отвлеченной для него философии собственным умом. Это было тем более удивительно, что в той суровой и тяжелой жизни, которую он вел, не могло быть места ни тому, ни другому источнику наслаждений: пить он не мог, потому что если бы он пил, то его бистро пришло бы в упадок. На любовь у него тоже не оставалось времени, так как он начинал свою работу в пять часов утра и кончал ее поздно вечером.
И так все шло годами, с утомительным и печальным однообразием: бистро, вино, работа, вино, бистро – до того дня, когда в жизни Франсуа появилась Мари, работница того же завода, на котором служил Франсуа. Ей было двадцать пять лет, она была маленькая, полноватая и ничем не замечательная, как и сам Франсуа. Они познакомились в кинематографе, и через неделю она переехала к нему в гостиницу. В течение того времени, что она жила вместе с ним, Франсуа был неузнаваем. Он начал разговаривать и смеяться. Вдруг выяснилось то, чего никто никогда не подозревал, – что он знает толк в лошадях и в рыбной ловле, что он в молодости участвовал в велосипедных гонках и что специалисты в свое время предсказывали ему большое спортивное будущее, что в полку он считался одним из лучших стрелков. Он ходил с Мари в кинематограф каждые два-три дня, рассказывал о фильмах, которые он видел, и даже высказал однажды какое-то почти легкомысленное суждение о женщинах вообще.
Но вино он пил по-прежнему. И однажды, прислонившись животом к стойке и положив руку на плечо Мари, – был летний вечер с небольшим дождем, с каплями воды, сверкающими в свете уличных фонарей, – Франсуа сказал Марселю:
– Ты возвращаешься домой, и ты знаешь, что тебя кто-то ждет. И тогда ты начинаешь что-то понимать. А?
– Да, да, – сказал Марсель. – Только вот что понимать? Тут могут быть разные вещи.
За исключением своей философии источников наслаждения Марсель никогда не говорил ничего, что могло бы вызвать спор. Всякое разногласие с клиентом могло только принести вред его коммерции. Почти все, что говорил Марсель, каждый посетитель мог истолковать так, как находил для себя наилучшим. Когда речь шла о дождливой погоде, Марсель говорил:
– Да, конечно, дождь. Но тут, с этим парижским климатом, ничего нельзя сказать заранее. Если завтра будет жарко, я не удивлюсь.
Если бывал знойный день, Марсель говорил:
– Да, жарко. Но это еще ничего не значит. Посмотрим, что будет к вечеру.
Потом Мари уехала на неделю к родственникам в деревню, как она сказала. Она должна была вернуться в субботу, и к ее возвращению Франсуа первый и последний раз в жизни купил цветы и небольшую вазу для цветов и поставил их на столе в своей комнате. Но когда он вернулся с работы и, даже не заходя к Марселю, прямо поднялся к себе в комнату, комната была пуста. Мари не было. В вазе стояли цветы. Рядом с вазой была записка. В записке было написано: «Я люблю другого человека и ухожу к нему. Не ищи меня. Прости меня. Мари».
Франсуа спустился вниз и просидел молча весь вечер в бистро. Работать на следующий день он не пошел. Днем он вышел из бистро, и Марсель с изумлением увидел, что Франсуа остановил проезжавшее такси и уехал по направлению к Парижу. Через полтора часа он вернулся – опять на такси и поднялся в свою комнату. Потом около девяти часов вечера в гостинице против бистро коротко хлопнул револьверный выстрел. Через минуту после этого на пороге гостиницы показался Франсуа. По правой щеке его текла кровь. Он постоял секунду, затем, почти падая, пересек улицу, вошел в бистро, добрался до стойки, и Марсель увидел перед собой его страшное, окровавленное и неузнаваемое лицо. Цепляясь скрюченньми пальцами за край стойки, Франсуа сказал: – Стакан красного.
Это были последние слова, которые он произнес. Потому что в ту же секунду он рухнул на пол. Голова его была насквозь пробита пулей, казалось невероятно, что он не умер у себя в комнате, сразу же после выстрела.
Но в течение нескольких судорожных минут, отделявших выстрел от той секунды, когда он упал мертвым, что-то оказалось сильнее смерти.
Это было бистро, дорога к которому пересекала всю его жизнь – дорога, которую ему еще оставалось пройти сквозь предсмертную муть в последний раз.
<Ольга>*
Когда я вспоминаю об Ольге, мне всегда кажется, что я знал ее всю мою жизнь, бесконечно давно; я видел ее, как картину, которая бы всегда висела в моей комнате и которая, кроме того, сопровождала бы меня во всех моих воображаемых и настоящих путешествиях. И вместе с тем, несмотря на это длительное знакомство, которое началось с пятнадцатилетнего возраста, с тех времен, когда она была тоненькой девочкой с сердитыми черными глазами, в ней навсегда осталась какая-то неуловимость, которая иногда даже раздражала меня. Ее нельзя было знать, как знаешь других людей или женщин; в ней было нечто скользкое и уклончивое, и время от времени в ней появлялась такая явная и чужая отдаленность, совершенно необъяснимая на первый взгляд, точно это было существо с другой планеты. Я никогда не мог найти объяснение этому – и она сама не знала, почему это так происходило, в этом была ее личная особенность, не зависевшая ни от ее воли, ни от ее чувств. В этом бывало иногда нечто почти мучительное и, во всяком случае, чрезвычайно странное, и к этому нельзя было привыкнуть, к этому постоянному впечатлению, что я встретил ее точно в поезде или на пароходе, провел с ней некоторое время, успел понять и почувствовать ее непередаваемое очарование, которое мне хотелось бы непременно удержать, и вот – вокзал далекого города или белая пристань чужого моря – и ее силуэт легко и быстро исчезает с моих глаз; она идет своей стремительной походкой, неся в руке маленький чемоданчик, и через минуту ее опять нет, как не было несколько часов тому назад. Она действительно всю жизнь уезжала по каким-то чрезвычайно важным причинам, о которых не говорила, я думаю, оттого, что их не было, а была одна ненасытная жажда постоянного, и, в сущности, бесцельного движения, в котором она чувствовала необходимость. От этого впечатления повторяющихся и совершенно неизбежных отъездов я не мог избавиться, когда думал о ней, – хотя оно не вполне соответствовало действительности, она иногда годами жила в одном и том же городе, в одной и той же стране, но именно чувство отъезда было для нее наиболее характерно. И когда я пытался в вечерней тишине за моим письменным столом, разложить ее жизнь на произвольные короткие отрезки почти так, как я действовал бы, разрешая какую-то определенную проблему, я неизменно констатировал, что всякий раз каждый сколько-нибудь постоянный, сколько-нибудь неподвижный период ее жизни – в определенной квартире, в определенном городе – казался всегда временным и случайным и с абсолютной неизбежностью ему предшествовал и за ним следовал – отъезд. И среди нескольких людей, которые любили ее больше всего в жизни, – я знал их почти всех, – не было ни одного, который не чувствовал бы, что в ее горячей и нежной близости есть ощущение постоянной тревожности, постоянной боязни мгновенного и ничем не объяснимого исчезновения. Некоторые из них не отдавали себе в этом отчета и не очень хорошо это понимали, но чувствовали это все. Как-то, говоря с ней зимним и туманным днем в парижском кафе, я сказал ей:
– Ты знаешь, это как холодное течение в море. Ну, вот, летом ты плывешь в теплой воде – и вдруг попадаешь в совершенно ледяную струю, это приблизительно так, мне трудно найти другое сравнение.
Она ничего не ответила; и только по тому, как дернулись ее губы, я понял, что мои слова ей были неприятны. Она очень хорошо, лучше, чем другие, знала эту свою печальную особенность и не любила, когда я говорил об этом. Однажды я, после длинного разговора с ней – она все время уклонялась от ответа на прямые вопросы, которые я ей делал – мне самому со стороны было ясно, что они становятся несносны, но я не мог заставить себя остановиться, – сказал ей:
– Почему ты мне не отвечаешь? Ты считаешь, что я не прав – или ты боишься?
Она быстро подняла на меня свои черные и по-прежнему сердитые глаза и ответила очень спокойным голосом, идеально не соответствующим выражению ее лица:
– Нет, я просто считаю, что на этом лучше не настаивать. Зачем?
И как почти всякий раз, когда я разговаривал с ней о таких вещах, у меня было впечатление, очень похожее на то, что меня мучит жажда, что я нахожусь возле источника – и почему-то его вода для меня недосягаема; это походило на мучительный и непреодолимый сон.
Я знал, однако, всю ее жизнь, все ее, в сущности, немногочисленные романы. Она рассказывала мне о каждом из них обычно много времени спустя, после того, как он давно кончился. Все они отличались одними и теми же особенностями, из которых первая была неизменно характерна для одной стороны и вторая – для другой. Эти особенности заключались в том, что каждый раз герой оставался со своей печальной влюбленностью в Ольгу, влюбленностью, которая потом не покидала его уже никогда, точно это была хроническая и неизлечимая болезнь, нечто вроде душевного увечья, и возможность возобновления этой любви существовала каждую минуту и зависела только от желания Ольги; и, с другой стороны, в том, что для Ольги каждый конец романа был так же безвозвратен, как ее очередной отъезд. В этом была та же почти логическая последовательность, четко приложимая к Ольге, которая во многих случаях точно характеризовала ее жизнь – и которая все-таки ничего не объясняла. И оттого, что мне никак не удавалось, в течение долгих лет близкого и тесного знакомства с Ольгой представить себе, с хотя бы приблизительной верностью, то, что можно было бы назвать ее душевным портретом – как иногда не удается поймать в круглое стекло покачивающегося в руке бинокля какую-то точку на горизонте – и в стекле медленно тянутся, плывут разноцветные далекие пятна, а цель все так же ускользает от глаз, – от сознания этой невозможности, которой у меня не было по отношению к другим людям, мной иногда овладевало непреодолимое раздражение, в сущности бескорыстное и почти безличное. Я помню, как встретил ее однажды после того, как три года не видел ее, неожиданно, душным вечером ранней, едва начинавшейся осени, в Ницце, на Promenade des Anglais[21]; она была в белом платье, резко отличавшемся своим цветом от ее загорелых ног, в белой широкополой шляпе, и шла под руку с высоким загорелым человеком, в глазах которого стояла беззащитная нежность. Он смотрел в ее лицо, не отрываясь, повернув к ней голову, не видя ничего перед собой и не замечая ни розового узенького облака на темневшем небе, ни молодой луны, ни моря, меняющего цвет.
Я смотрел на него с невольным и неудержимым сожалением, которое происходило оттого, что я знал другие вещи, которых он не знал; а вместе с тем, для него они были еще важнее, чем для меня. Я видел по всему – по тому, что это было у нее не в первый раз, и потому, что я очень хорошо знал Ольгу, что такое выражение ласковости на ее лице бывало у нее либо в первые, либо в последние дни ее романа, – у меня были все основания думать, что это были именно последние дни. Я знал, что в одно прекрасное утро, совсем на днях, может быть завтра, может быть через неделю, она уедет одна, и он останется здесь в Ницце, как неподвижный предмет, как дом, из которого выехали, и не будет знать, где она; а через несколько дней получит короткую открытку из другой страны; там будет несколько небрежно-ласковых строк – и больше никогда ни при каких условиях не повторится то, что предшествовало этому отъезду и в чем не было ничего, что могло бы его объяснить. Мне было досадно, что в силу непонятного смещения чувств – я не знаю, как назвать это иначе, – каждый раз, когда это происходило, я испытывал в ослабленной степени то, что испытывали те, кого Ольга действительно оставляла. Я все ждал, когда же наконец кому-нибудь удастся то, что не удалось мне; может быть, это <было> желание какой-то своеобразной мести, к которому я, однако, не считал себя способным, может быть – особенное отражение давнишней и, казалось бы, забытой обиды.
Ольга всегда отличала меня от других – и это объяснялось не только давней дружбой, с самых ранних лет, но еще и тем, что меня с ней соединяло одинаковое понимание многих вещей; только я с этим пониманием всегда боролся, она же не делала ничего, чтобы ему противостоять. Я знал всегда, в каждую минуту моей жизни, что все, происходящее сейчас, как бы оно ни было прекрасно и замечательно, характерно только для данного времени и в нем нет ничего, что бы позволяло предполагать возможность его длительного продолжения. Я знал, что люди, окружающие меня и которых я любил, через некоторое время станут мне чуждыми и далекими и на их месте будут другие, которые потом так же исчезнут, как их предшественники, и от них не останется ничего, кроме сожаления и неверных, искаженных временем воспоминаний. Думая об этом, я всегда испытывал непреодолимую печаль и старался жить так, как если бы я действительно не знал о неизбежности этого их скорого исчезновения. Но это было сильнее всего; и в сущности, я не имел никакого права упрекать Ольгу за тот самый недостаток, который в одинаковой степени был свойственен мне. Я только никогда не мог с ним примириться; мне казалось, что эта постоянная последовательность умирающих чувств есть нечто вроде тяжелого и мучительного душевного недомогания. Ольга знала все эти вещи так же хорошо, как и я, она только полагала, что если это так, то с этим не следует бороться, и в ее отношении к этому было что-то такое похожее на отношение к вечному движению времени года: весна, лето, осень, зима; что же можно иметь против этого неудержимого закона природы?
В моей жизни, однако, было несколько представлений, несколько образов, явившихся в результате целого сложного и многолетнего движения, – внушенных моей фантазией еще тогда, когда я был мальчиком, владевших моим воображением позже и со временем превратившихся в нечто совершенно неизменное, в нечто вроде вторичного ощущения самого себя. Это были иногда полулегендарные исторические лица, иногда воображаемый мир нигде не существовавших бронзовых пейзажей, которых мне представлялось тусклое и неизменное великолепие, иногда, наконец, – и это было самое тягостное – чье-то лицо, которое я много раз видел в тяжелом сне и никогда не мог различить как следует за долгие годы, но которое я сразу и безошибочно отличал от других лиц, или столь же непонятно откуда раздававшийся голос, от первого звука которого я всегда вздрагивал и приходил в себя, точно после мгновенного кошмара. И в этой новой действительности, которая окружала меня, среди тех простых и несложных вещей, из которых состояла моя внешняя жизнь, я не находил ничего, что в какой-либо степени соответствовало бы этому воображаемому миру – более неизменные, однако, чем самые непреложные вещи. И только в одном случае я испытывал нечто, похожее на то волнение, которое всегда вызывало очередное появление этого прозрачного мира с невольным и, в сущности, печальным спутником, но отказаться от которого я бы не мог без того, чтобы это не вызвало мгновенного душевного обеднения. Это было появление Ольги. Мне казалось, вопреки неопровержимой очевидности и последовательности самых непреложных фактов, что я знал ее образ именно таким, каким он представлялся теперь, всегда, с первой сознательной минуты моего существования, и что я буду его знать до тех пор, пока это познание не перестанет существовать. И я начинал иногда думать, что все, что мне не удалось по отношению к ней и что должно было носить такую прозаически-великолепную и живую форму, было неважно и несущественно; она была единственной реальностью, единственным чудесным воплощением абстрактности в моем далеком и призрачном воображении. Ее неправдоподобное соответствие с тем, чему не было, казалось, места в нормальной жизни, было одной из причин моего постоянного тяготения к ней. Я никогда не мог до конца привыкнуть к мысли о том, что она так же живет, так же физиологически существует, как все остальные; я ловил себя на том детском и наивном сравнении, что представить себе у Ольги ревматизм, например, так же нелепо, как представить воспаление легких или насморк у русалки; кстати, она действительно отличалась несокрушимым здоровьем и никогда, сколько я помню, не болела.
Но все эти представления возникали передо мной только тогда, когда было исчерпано более непосредственное обсуждение других вещей, тех самых, из которых состояла история ее жизни и которые состояли из последовательности совершенно реальных событий. Когда я познакомился с ней, ей было четырнадцать лет, она играла в теннис и ездила верхом, и помню, как однажды, когда ее сбросила чего-то испугавшаяся лошадь, она сидела на земле, потирая ушибленный бок, и плакала от стыда и огорчения. Я встретил ее опять через год, – она читала стихи, носила длинные платья и стала почти совсем похожа на взрослую; и только в ее лице с явно уже проступавшей женственностью были прежние большие глаза сердитой девочки; это их выражение, впрочем, она сохранила на всю жизнь, хотя, по мере того как шло время, оно все реже и реже появлялось у нее. Потом прошло долгих пять лет, был июль месяц парижского лета; я случайно попал, бродя один по городу, на длиннейшую и шумную ярмарку в Нейи – и вдруг увидел в резком белом свете газового фонаря Ольгу. Ее сопровождал плотный человек в сером костюме и светло-желтых перчатках. Я подошел совсем близко, она не смотрела в мою сторону. Потом я негромко сказал:
– Оля!
И только тогда она быстро повернула голову и увидела меня. Она познакомила меня с человеком в желтых перчатках: он оказался ее мужем. Он говорил негромкими отрывистыми фразами, было впечатление, что он отдает, почему-то конфиденциальным голосом, команды незримым подчиненным; впрочем, он был чрезвычайно любезен и обходителен и сказал, что завидует молодежи, у нее есть юношеский романтизм, на который он, к сожалению, не способен. Ему было лет тридцать, в те времена он был архитектором. Мне пришлось присутствовать потом и при его самом счастливом периоде жизни, в первые два года после его свадьбы с Ольгой, и при самом несчастном, который начался после отъезда, когда этот приличнейший, прекрасно владевший собой и спокойно-уверенный в себе человек вдруг раскис с неправдоподобной быстротой и сделался тем более жалок, чем более до сих пор он был далек от этого. В период недолгого его счастья он был всегда доволен, благодушно расположен ко всему на свете, а однажды, когда я как-то заглянул в коридор его квартиры и он не заметил меня, я видел, как он прошел некоторое расстояние, подпрыгивая, щелкая в воздухе пальцами, как испанская танцовщица кастаньетами, и напевая какой-то скачущий мотив. Он был очень дельный человек, прекрасно разбирался в сравнительно сложных вопросах, всегда знал, чего он хочет, и добивался этого легко, благодаря своему уму и спокойной уверенности в себе. Но по отношению к Ольге он был совершенно беззащитен, – как, впрочем, и другие, то есть еще три человека, игравшие в ее жизни если не всецело значительную, то, во всяком случае, серьезную и длительную роль; у нее никогда не было кратковременных и случайных увлечений. Этот первый муж, архитектор – его звали Александр Борисович, фамилия его, совершенно ему не подходившая, была Блинов – никогда, до самого последнего дня, до кануна ее отъезда, не задумался о том, что ему предстоит в дальнейшем, никакие сомнения не приходили ему в голову, и он был так же уверен в Ольге, как во всем, что он делал. Знакомство с Ольгой позволило мне несколько раз оказаться в редко выпадающей в жизни роли человека, который знает будущее, и это было чрезвычайно тягостное знание. Когда, за три дня до того утра, в которое счастливая жизнь Александра Борисовича должна была безвозвратно кончиться для него, и я это хорошо знал, так как мне Ольга давно сказала, что одиннадцатого числа она покидает своего мужа и уезжает – она даже сказала мне, куда именно, – когда в тот вечер Александр Борисович говорил о своих проектах на лето, Ольга посмотрела на меня ласковыми и смеющимися глазами и заметила Александру Борисовичу, что он фантазер, мне стало чрезвычайно не по себе. У меня было впечатление, что я нахожусь у постели больного, которому осталось жить несколько часов и который, не зная этого, рассказывает о том, что он будет делать через год.
Она уехала одиннадцатого числа, как сказала, и уже четырнадцатого Александр Борисович был неузнаваем; я никогда бы не мог подумать, что этот человек способен быть в такой степени растерянным и несчастным. Он пришел ко мне в одиннадцатом часу вечера, и меня поразило и то, что он явился ко мне в такой поздний час, и еще – что он был небрит и как-то особенно неаккуратен. Он мне сказал, что явился с сумасшедшей надеждой, – он так и сказал «сумасшедшей», что, может быть, я знаю, где Ольга, почему она уехала и что вообще случилось. Я ответил, что ничего не знаю. Он взял шляпу, потом положил ее, прошел несколько раз по комнате и сказал:
– Знаете, я себе места не нахожу. Особенно вот потому… – Он тяжело вращал головой, часто дышал и не находил слов.
– Знаете, в тот вечер, когда вы были у нас, помните, еще был такой странный разговор, сначала о сибирской железной дороге, потом почему-то о Дебюсси, вы помните?
– Помню, – сказал я, стараясь не смотреть на него.
Разговор был действительно об этом, но он пропустил соединительное звено, объединившее этот странный на первый взгляд переход: речь шла о климате Франции, о дождях, о деревьях – и от этого, естественно, перешла на Jardin sous la Pluie[22].
Я очень хорошо помню и этот вечер и этот разговор. Я пришел туда задолго до того, как явился Александр Борисович, и мы были вдвоем с Ольгой; я рассказывал ей смешные вещи, потом мы танцевали под музыку ее граммофона, потом сидели рядом на диване и разговаривали о путешествиях и романах Стивенсона, о тропических морях – так, точно мы оба помолодели на семь или восемь лет; и если бы в эти часы кто-нибудь сказал ей или мне, что есть такие вещи, как любовь, неудачи, расставания, нам бы это показалось дико и к нам это не могло относиться. В этот вечер она гораздо больше была похожа на пятнадцатилетнюю гимназистку, чем на замужнюю женщину; и целый мир, составленный, главным образом, из множества умных и печальных книг, в которых рассказывалась трагическая судьба разных людей, из картин, музыкальных пронзительных фраз, из всего того, что так занимало мое внимание всегда, как бы закрылся от нас прозрачным экраном и на несколько часов перестал существовать. В этот день все казалось легко и доступно: уехать, пробежать какое-то расстояние, проплыть его, играть в футбол, качаться на пароходной койке или в гамаке; и этот факт, что рядом со всем этим существовал Александр Борисович, неспособный, по его собственным словам, к юношескому романтизму и любивший с сознанием своего достоинства жену, не имел и не мог иметь тогда никакого значения; он был неуместен и нелеп, и это было настолько очевидно, что, когда он пришел, разговор оборвался на несколько минут, так как с ним следовало говорить иначе и о другом; он не понял бы того, что предшествовало его приходу.
– Теперь ты понимаешь, почему я уезжаю? – сказала Ольга, когда он вышел на минуту.
– Это я понимаю, – сказал я, – но зачем же ты выходила за него замуж?
И ее ответ поразил даже меня, хотя я привык со стороны Ольги к любой, казалось бы, неожиданности:
– Я думала, что, может быть, полюблю его.
– Это как если бы ты купила билет на лотерею и наняла бы сразу роскошную квартиру, надеясь на то, что, может быть, выиграешь.
– Да, я знаю, это была ошибка, – быстро сказала она, и в это время вошел Александр Борисович.
Но этот ответ был для нее характерен: она больше всего в жизни любила пробовать. – Я попробую съехать с этой горы на лыжах, может быть, не разобьюсь. – Я попробую взять этот барьер, может быть удастся. – Я попробую перепрыгнуть через канаву, она не очень широкая. И один раз из трех ее постигала неудача: либо она ломала лыжу и катилась с горы, раздирая себе платье, лицо и руки о замерзший снег, либо падала с лошади, либо сваливалась в канаву. Но два раза из трех все-таки удавались. Так и теперь ее вдруг соблазнила мысль о том, что она может быть замужней женщиной и ей будут говорить «madame» – хотя «madame» ей говорили только люди, лично знавшие ее или осведомленные о ее замужестве, остальные называли «mademoiselle» и – все будет так хорошо, чинно, прилично, хотя и чуть скучновато. И так как ее представление о муже было, в сущности, усилием ее воображения и должно было заключать какое-то противопоставление всему, что было до сих пор, то было очевидно, что следовало выходить замуж не за какого-нибудь товарища, такого же молодого и сумасшедшего человека, как она, а за солидность и противоположность этому, именно за солидность и противоположность; а то, что Александр Борисович их воплощал в себе, было только подробностью. Самое странное было то, что Александр Борисович никогда не задумывался над этим и никогда этого не понял. Ему все казалось, что отъезд Ольги – это результат какого-то недоразумения: достаточно его выяснить, как оно перестанет существовать.
Он пришел еще раз через несколько дней, обмякший и похудевший, и упрашивал меня пойти с ним в ресторан обедать; у него был такой жалкий вид, что мне ничего не оставалось, как согласиться. Он почти не ел, но много пил, потом плакал, положив голову на стол и запачкав себе лицо горчицей, и я отвез его домой в такси; он не мог даже выйти из автомобиля, и мне пришлось выносить его, что было довольно трудно, так как он был плотным и тяжелым мужчиной.
Ольга в эти дни была в Стокгольме, совершенно одна, и, как она рассказывала мне впоследствии, у нее было впечатление, что все предшествовавшее этому случилось давно-давно, несколько лет тому назад. Оттуда же она написала Александру Борисовичу всего несколько слов, ласковых и безжалостных, – это было вообще характерное для нее соединение. Он тотчас же поехал туда и узнал, что ее там нет; он прожил в этом чужом городе несколько дней и приехал опять в Париж с таким видом, точно вернулся со своих собственных похорон.
И именно в этот период времени, в месяцы, предшествовавшие ее отъезду, я не мог бы понять человека, влюбленного в Ольгу. Мне казалось, что любить ее как женщину совершенно нелепо и беспредметно. Она была неплоха и нехороша собой в то время, в ней не было ничего притягательного; ее можно было любить, как любят товарища или сестру, и всякое другое отношение казалось мне почти непонятным, вернее, понятным только теоретически. Ее первый брак совершенно не изменил ее.
В очень редкие минуты мне иногда казалось, что в ее глазах на короткое время появлялось особенное выражение, в котором было что-то по-женски тягостное, но что сейчас же проходило, как зайчик от зеркальца, которым она любила забавляться в солнечные дни. Как женщина она еще не начинала существовать. У нее было слишком мускулистое тело, слишком твердые руки и сильные пальцы, и рукопожатие ее было совершенно мужским. Все это мне казалось бесспорным и несомненным – и только один раз, за несколько дней до отъезда, я вдруг сразу понял, насколько мое представление было ошибочно и скольких вещей я не понимал – так же, впрочем, как не понимала тогда их она сама. Это было в тот раз, когда, случайно придя к ней вечером, я увидел ее – она ехала с мужем на званый обед – в длинном вечернем платье, в трагическом черном платье, сразу напомнившем мне то, в котором появляется Кармен в последнем акте, и именно с этой минуты все то, что было так далеко от нее и что составляло особенную соблазнительность моих ночных представлений о необходимой женской прелести, это шекспировское театральное великолепие, – вдруг сосредоточилось на ее изменившейся фигуре, на иначе увиденном ее лице, на новом выражении блестевших тогда глаз, и именно в эту минуту я понял, почему я так ее любил и чего я не понимал до сих пор. Но на этот раз было слишком поздно; она уехала через три дня.
Через месяц я написал ей письмо, в котором рассказывал о том, что я так поздно понял, – она ответила мне тотчас же; ее письмо было написано характерным ее стилем, короткими фразами, разделенными только резкими точками: «Я знала это давно. Я жалела, что ты молчал. Я удивлялась. Иногда мне казалось, что я ошибаюсь. Ты видишь, как все глупо. Виноваты мы оба. Ты больше меня. Может быть, когда-нибудь это будет так, как тебе хотелось бы. Но быть в этом абсолютно уверенным по-моему нельзя».
Я знал, что быть в этом уверенным нельзя. Я тогда вообще узнал множество вещей, я не представлял себе, как я мог их не видеть раньше, и это позднее и бесплодное сожаление несколько лет не оставляло меня. С привычной быстротой мое воображение восстановило то, что до сих пор делало это таким, каким ему следовало бы быть, а не таким, каким оно было на самом деле, и в этом мгновенно созданном романе я нашел наконец все, что я любил, и тогда же, впервые, это соединение абстрактного великолепия с непосредственным чувственным движением показалось мне самым поразительным из всего, что я знал до сих пор, и идеально воплощенным в Ольге. Но об этом я тогда ей не писал, мне это было неприятно, как лишнее напоминание о чудовищном и нелепом промахе.
Через некоторое время встретив Александра Борисовича, я узнал, что Ольга попросила у него развод и написала ему, что собирается выходить замуж.
– За кого, вы не знаете?
– Это некий Борисов, он, кажется, писатель или журналист. Я лично его не знаю. Вы когда-нибудь слышали о нем?
– Да, – сказал я, – ничего особенного о нем не рассказывали. Судя по тому, что говорили мне, это довольно милый и, кажется, интересный человек. Я не стал говорить с Александром Борисовичем на эту тему не потому, что имел бы какие-либо основания не высказывать свое мнение, а оттого, что это было бы потерей времени: Борисов принадлежал к числу людей, совершенно чуждых Александру Борисовичу. Я лично его не знал, видел один или два раза, случайно; это был широкоплечий и крепкий человек с очень мягкими и умными глазами – такое у меня было впечатление. Но я хорошо знал и помнил все, что он написал. И в оценке его вещей я не мог – так же, как никто другой, – ошибиться: он был исключительно и своеобразно талантлив, в этом не существовало никакого сомнения. В тех романах и рассказах, которые он написал, был изображен его собственный, ни на что не похожий мир, который, казалось, был создан им без всякого усилия, так, точно он всегда существовал и все его знали, но не сумели ни рассмотреть как следует, ни как следует рассказать о нем. Борисову все это давалось как будто бы без всякого труда. Самый язык его, размашисто свободный и небрежный, но каждую секунду подчиняющийся и точному ритму, отличался, при более внимательном анализе, безошибочной верностью определений, какой-то, на первый взгляд слепой и случайной, их удачностью. Я особенно запомнил один его рассказ – я читал его два раза вслух, когда мы были вдвоем с Ольгой – в котором, собственно, не было никакого содержания – там было около двенадцати страниц описания летнего вечера в Финляндии; но, закрывая глаза, я ясно видел все, о чем там говорилось, от темнеющей воды озера до последнего листка на дереве; все это было полно летних и вечерних звуков, летних и вечерних перебивающих друг друга запахов земли, леса, воды и легкого над ней тумана и ощущения слабеющей, точно прозрачно увядающей жары – одним словом, ни фотографии, ни картины, ни подробности, ни даже, наконец, пребывание там не могли заменить этого несравненного и небрежно-счастливого описания. Он также писал обо всем другом – и его искусство не изменяло ему никогда, это было нечто по-своему похожее на абсолютный слух, не знающий никакой погрешности. Он был молод, ему не было тридцати лет, – но я редко читал такие описания старых людей, какие были у него; и все, о чем он писал – ученые, кучера, светские женщины, прачки, деревья и животные, все это отличалось такой убедительностью изображения, которая не могла не быть заразительной. И я думаю, что каждый читатель, так же, как я, находил в его литературе те самые вещи, которые он – или я – так давно и хорошо поняли, которые мы так давно и хорошо знали, но вот, в силу какой-то случайности, нам никогда не удавалось их выразить. Он написал целую книгу, автобиографическую, как я узнал впоследствии, в которой рассказывал о своих многочисленных приключениях; он был солдатом разных армий, плавал матросом на английском коммерческом судне, работал на рыбных промыслах в Турции и на шахтах в Болгарии и непостижимым образом в течение сравнительно недолгого времени прожил столько, что этого хватило бы на несколько человеческих существований. Он был несколько раз ранен при разных обстоятельствах, тонул в Босфоре, был засыпан обвалом шахты и сидел сутки, скорчившись и не будучи в состоянии сделать ни одного движения, постепенно задыхаясь от скудеющего воздуха своей случайной могилы, пока его, наконец, не откопали.
Потом он стал профессиональным футболистом и считался некоторое время одним из лучших голкиперов на Балканах, затем попал в Прагу, кончил там университет и начал свою литературную карьеру в Берлине несколько лет спустя, где он писал статьи по политическим вопросам в русских и немецких газетах. Там же он выпустил свою первую книгу, за которой последовала вторая, совершенно на нее непохожая; это был лирическо-абстрактный роман, про который какой-то несправедливый критик написал, что это свидание Рильке и Эдгара По. До этого его сравнивали с Джеком Лондоном. В самом же деле он был непохож ни на Рильке, ни на Эдгара По, ни на Лондона, и самый факт того, что его упрекали в литературной зависимости от таких абсолютно отличных друг от друга авторов, доказывал с несомненностью всякому сколько-нибудь разбирающемуся в этих вопросах человеку, что Борисов был резко оригинален и своеобразен во всем, что он писал.
Ольга познакомилась с ним на пароходе, который шел из Стокгольма в Штеттин, и он сразу же произвел на нее очень сильное впечатление. В тот день был страшный шторм – и когда Ольга пришла завтракать, выяснилось, что, кроме нее, в зале находился только один седой человек сурового вида, читавший газету и оказавшийся англичанином, капитаном дальнего плавания, несколько месяцев тому назад вышедшим в отставку. Все остальные пассажиры не были в состоянии покинуть свои каюты, и Ольга приготовилась к мысли о том, что ей придется завтракать в одиночестве, как вдруг в этом раскачивающемся и неверном ресторанном пространстве появился еще один человек. Он был прилично одет, только что выбрит и вошел туда так, точно это был зал провинциального ресторана, в глубине какой-то мирной и безмятежной страны. Он прошел своей быстрой походкой к одному из столиков, сел, аккуратно положив салфетку на колени, и начал спокойно ждать. Все это было сделано с такой небрежной уверенностью в движениях, что даже старый англичанин искоса и, как показалось Ольге, с недоверием, точно во всем этом было какое-то жульничество или подвох, посмотрел на этого человека. Ольга не могла прийти в себя от изумления и зависти. Человек этот вынул из кармана небольшую книжку, начал ее читать и поминутно смеялся, не обращая никакого внимания ни на капитана, ни на Ольгу, с которыми, впрочем, он поздоровался, как только вошел. Ольга наклонилась вниз и увидела заглавие книги: <аскеза> Вудхауза.
После завтрака он обернулся вокруг, очень широко улыбнулся, сказал по-английски низким голосом с русским акцентом:
– Мы могли бы быть многочисленнее, вы не думаете?
Бывший капитан сказал – yes – и снова развернул газету. Но Ольга ответила более любезно, и через четверть часа разговаривала с ним так, точно они были знакомы много лет. Он сказал:
– А я подумал: какая храбрая барышня, прямо из авантюрного романа. И как же вы качки не боитесь?
– А вы?
– Я, знаете, бывший профессионал, – сказал он извиняющимся голосом, – я был матросом, это другое дело.
– А теперь вы не матрос? Что вы делаете?
Он вдруг вынул из кармана черепаховые очки, надел их, сморщил лицо, сразу постарел на десять лет и заговорил скрипучим голосом:
– Политическое положение современной Европы напоминает состояние больного, который, не подозревая всей серьезности своей болезни, продолжает рассуждать о второстепенных вещах, не имеющих никакого отношения к действительно кардинальным проблемам.
Потом засмеялся, снял очки и объяснил:
– Я журналист.
Когда Ольга спросила, действительно ли политика очень его интересует, он ответил, что он к ней совершенно равнодушен, но что быть политическим журналистом самое нетрудное ремесло.
– А у вас есть другое призвание?
Он поднял на нее свои глаза и вдруг почувствовал к этой девушке, с которой он только что познакомился и о которой решительно ничего не знал, прилив необыкновенного и необъяснимого доверия. Он не знал, стоит ли с ней серьезно разговаривать и достаточно ли она умна, чтобы понять его, но он ощутил неожиданную необходимость быть с ней откровенным. Пароход продолжало качать, и он, и она, сидя на своих стульях, то поднимались, то опускались в этом колеблющемся пространстве.
– Да, – сказал он. – Вот, понимаете, в каждой человеческой жизни и в тех существованиях, свидетелем которых каждому человеку приходится бывать, есть множество замечательных вещей, иногда страшных, иногда необыкновенно важных. И вот, это самое интересное, по-моему, и на что способна только одна форма человеческой деятельности, именно искусство – это остановить эти вещи и удержать навсегда это стремительное и неповторимое великолепие. Ничего, что я так торжественно выражаюсь? Об этом трудно говорить иначе.
– Нет, нет, продолжайте, – сказала Ольга.
– В каждом человеческом существовании, если вам удается анализировать его до конца, есть тысячи потрясающих вещей. Вы понимаете, – сказал он, опять устремляя на нее свои светлые глаза, – это как музыка, а люди, которые работают в искусстве, как композиторы. Вы слышите шум и не различаете в нем сложного хода титанической симфонии, потому что ваше ухо воспринимает только такое-то число колебаний. Другой человек, в силу какой-то слуховой аномалии, отдаленно различает в этом шуме то, что создает потом пасторальную, скажем, симфонию, потому что он Бетховен. И он переводит ее на язык нашего музыкального восприятия. Вот что такое искусство.
Он остановился и улыбнулся необыкновенно широкой и доверчивой улыбкой, которая вдруг, в эту короткую секунду, сделала его неожиданно и страшно похожим на слепого – и тогда же Ольга подумала, что в этом человеке, помимо его внешнего очарования, есть, по-видимому, другие и, может быть, совсем не такие уютные вещи; или даже если их нет, то есть непостижимое и нестираемое их знание.
– В жизни почтового чиновника может быть заключен огромный поэтический смысл, в любви какого-нибудь еврейского коммерсанта – удивительная лирическая глубина и так далее, без конца. Это только нужно поймать. Помните этот замечательный рассказ, как к одному французскому писателю пришел молодой человек и сказал, что он чувствует в себе незаурядные литературные способности, у него прекрасный слог и все данные, чтобы быть писателем, только он не может найти сюжет. Тот ответил, что сюжет он ему дает: m-r Dupont полюбил m-me Durand. – И больше ничего? – Больше ничего. – Но что же об этом можно написать? – Alors, mon cher ami[23], – сказал тот, – если вы не способны сделать из этого роман, вы никогда не станете писателем. Это звучит смешно, но это так. И вот, мне кажется, что у меня есть дар этого второго зрения или второго слуха, как хотите. Может быть, это ошибка, но тяготение к этому у меня было всю жизнь, и вот именно это и есть мое призвание.
– А вы написали уже что-нибудь?
Он нахмурился, пожал плечами и сказал, что писал много, но все довольно неудачно. Она спросила, как его фамилия, он ответил. Тогда она вдруг схватила его за руку и сказала:
– Так это вы написали рассказ о вечере в Финляндии?
– Я. Вы читали и запомнили. Это очень для меня лестно.
– Я не только запомнила, – сказала Ольга, – я была поражена. Мне казалось, что я сама написала этот рассказ, так как никто, кроме меня, не мог бы все это понять, почувствовать и изобразить, и мне было обидно, что почему-то это подписано чужой фамилией и кто-то другой знает эти вещи так же, как и я.
– Хорошо, – сказал он, улыбаясь, – я уверен теперь, что есть много другого, о чем у нас с вами одинаковые представления. Например, путешествие. Помните, например, пароход?
И хотя этот вопрос был совершенно бессмысленным, потому что разговор происходил на пароходе, где они находились сейчас, он показался Ольге естественным и интересным. С этой минуты – если бы она сохранила возможность видеть и слышать веши со стороны – она бы заметила, что и разговор с Борисовым потерял обычный разговорный смысл, и все, что говорилось, имело только случайное и поверхностное значение. Главным было то, что ее мозг перестал в этом участвовать и обычное движение мысли изменилось тяжелым и перебивающимся движением всего множества ее чувств. То же самое происходило с Борисовым; и поэтому они, не замечая времени, сидели вдвоем и разговаривали, пока, наконец, не зажгли лампы и бурный день сменился несколько менее бурным вечером. И тогда же стало совершенно ясно, хотя ни он, ни она об этом не говорили и не уславливались, – что дальнейшее путешествие они должны продолжить вместе. Ольга рассказывала мне потом обо всем этом, со всеми подробностями, в числе их были такие, которых я не хотел бы знать и при упоминании о них я корчился, как на огне. Она рассказала, что очнулась только через неделю в своей комнате, в маленькой гостинице Штеттина и тогда, поговорив с Борисовым, решила, что потребует развода и выйдет за него замуж.
Этот роман ее продолжался четыре года. В нем, по ее словам, все было прекрасно, и я не мог не верить ей хотя бы потому, что до последнего времени она не умела мне ответить на самые простые вопросы и объяснить, что, собственно, было прекрасного.
– Что именно?
Она задумалась – мы сидели с ней в ресторане, после обеда, она ела мандарин, который оставила на секунду, собираясь мне ответить, – и потом сказала:
– Видишь ли, все было слишком хорошо, всего было слишком много. Слишком много счастья, слишком много понимания, слишком много любви – ну так, как если все время дышишь только озоном, понимаешь?
Думая об этой ее фразе, я старался найти в ней другое, более понятное объяснение всего этого. Я полагал, что у Ольги и никогда не было такой жадности к счастью, которая характерна для большинства людей, и еще, что ей была необходима постоянная тень, стоящая за ее спиной; и ее постоянная и почти болезненная уверенность – та самая, которую я так хорошо знал по своему личному опыту, – что все это вот-вот кончится и заменится пустотой и печалью, эта ее непоколебимая уверенность, вне которой она не представляла своего существования, вдруг потеряла под собой всякую почву. Это было почти что исчезновением какой-то чрезвычайно важной вещи, какой-то части ощущения самой себя. Продолжая логически эту мысль, можно было логически прийти к тому, что если бы это продолжалось, Ольга стала бы совершенно другой женщиной и перестала существовать, то есть быть такой, какой была до сих пор. И несмотря на то, что будущее, которое ожидало ее и которое заключало в себе огромные творческие возможности, было во всех смыслах лучше ее прошлого, она не была в состоянии отказаться от себя.
А вместе с тем, восстанавливая, насколько я мог, по ее рассказам и по рассказам Борисова, с которым я познакомился позже, всю историю их брака, я не мог найти, и это совпадало со словами Ольги, ничего даже отдаленно отрицательного. Они очень подходили друг другу, оба любили одинаковые вещи, оба одинаково относились к тысяче мелочей, которые иногда отравляли существование людей, одинаково относились к деньгам, даже любимые их книги были одни и те же, и это было тем более удивительное совпадение, что Борисов был писателем и его суждения, как в этом легко было убедиться после короткого разговора с ним, носили, конечно, явный отпечаток профессионализма. Но только в этом и сказывалась его принадлежность к литературе, в остальном он был чужд обычных писательских недостатков, и в частности какой бы то ни было литературной зависти. Он не был графоманом, не считал себя гением, не презирал своих коллег и так и жил – размашисто и свободно, путешествуя из страны в страну, и составлял свои политические репортажи, подписанные псевдонимом, они, в частности, были написаны совершенно иначе, чем его литературные произведения, в них он не позволял себе никакой словесной роскоши и ни одной мысли, которая не была бы доступна среднему депутату, и потому его журнальные статьи, по сравнению с его рассказами и романами, казались исключительно примитивными и убогими. Но это был совершенно правильный метод; и в то время, как его литературные вещи встречали всегда, в общем, сдержанную оценку, несмотря на явные их исключительные достоинства, его репутация как журналиста никогда никем не оспаривалась. Когда я однажды сказал ему об этом, он пожал плечами и ответил, что иначе, по его мнению, писать журнальные статьи нельзя.
Меня в нем всегда удивляло – не потому, что это было необыкновенно, а оттого, что это было неожиданно приятно, – соединение его ума и наблюдательности, его способности быстрых и точных определений с несомненной и почти беззащитной наивностью. Он очень хорошо знал теоретически, что относиться к людям с чрезмерным доверием нельзя, и его ум предостерегал его от ошибок в этом смысле. Но это было именно теоретическое знание, результат логики и рассуждения – и каждый раз, когда от этого можно было отказаться, он был до удивительности широк и доверчив. Он, в частности, слепо и во всем верил Ольге, которая его действительно никогда не обманывала; но он считал ее неспособной поступить так, как она должна была поступать с ним; он не представлял себе этой возможности. Он полагал, что с этой минуты, когда произошло их окончательное сближение, все, что предшествовало этому, перестало существовать.
– В этом и была ваша ошибка, – сказал я ему во время одного из тех откровенных разговоров, которые бывали у меня с ним время от времени и которые неизменно вращались вокруг одного и того же вопроса, интересовавшего почти в равной степени его и меня. Я рассказал ему, в свою очередь, что я думал об Ольге, и попытался передать то сложное и непоправимо-соблазнительное представление о ней, которое было у меня. Уход Ольги подействовал на него так же, как на его предшественника, и тут ему не мог помочь ни его душевный опыт, ни его ум, ни его понимание, ни его литературный дар.
– Напишите об этом книгу, – сказал я однажды. Он быстро повернул голову и ответил:
– Вы должны очень хорошо знать, что писать о своей собственной любви сколько-нибудь убедительно можно только в двух случаях: или после того, как прошло много лет, или тогда, когда вы счастливы.
Мне было нечего ответить ему.
– Что она? Где она? – спрашивал он.
Я ответил, что она должна скоро приехать в Париж, – она действительно собиралась вернуться из Канн, где жила некоторое время.
– Я уезжаю завтра, – сказал мне Борисов – это было вечером в воскресенье, – скажите ей, что если когда-нибудь она передумает…
Она вернулась действительно через несколько дней, очень загоревшая и изменившаяся. За три дня до ее приезда я получил от нее открытку, в которой она сообщала о числе своего приезда и о часе поезда. Я собирался ехать на вокзал, но накануне встретил Александра Борисовича, совершенно сияющего; он показал мне открытку Ольги, которую в носил в бумажнике, точно такую же, с тем те самым видом. Он сказал, что будет встречать ее на вокзале.
– Кланяйтесь ей от меня.
– Да-да, – сказал он, широко улыбаясь, – она будет рада, она вас очень любит.
И вечером следующего дня, когда я только что переоделся, чтобы идти обедать, – был девятый час, – раздался звонок, и когда я отворил дверь, я увидел Ольгу в синей широкополой шляпе, в синем костюме; белый воротник резко оттенял ее загорелую шею. У нее были чуть-чуть опущенные ресницы, она ощущала как-то неловкость, но на безмятежном ее лице с накрашенными губами, темной кожей и блестящими глазами стояло выражение счастливого спокойствия. Но так мне показалось только на первый взгляд; всмотревшись внимательно, я заметил непривычный и особенный блеск ее глаз, точно такой же, какой был тогда, когда я увидел ее в бальном платье. И на этот раз, как несколько лет тому назад, я испытал то же чувство сладостного стеснения; это было таким точным, неправдоподобно точным повторением этого ощущения, и мне показалось, что вдруг, упруго качнувшись в стремительном движении, время вернулось на четыре года назад. Но на этот раз я знал все, что не знал и не понимал тогда. Помню, что почему-то у меня промелькнула в голове фраза, эпиграф, который внезапно прозвучал – tel j'mais autrefois, tel je suis encore[24]. Ольга знала все это так же хорошо, как я, и я видел, что она знала это, и она знала, что я видел. И потому все, что я говорил ей, – о том, как я рад ее приезду и в какой степени неожидан ее приход, и замечание о том, что она отправила мне и Александру Борисовичу одинаковые открытки одинакового содержания, – все это было лишено смысла. Потом я подошел ближе к ней; на меня, вплотную приблизившись к моему лицу, смотрели ее блестящие и далекие глаза. Мне было трудно дышать, у меня почти кружилась голова, и это продолжалось до той секунды, пока я не поцеловал ее в первый раз, и она ответила мне таким жестоким и долгим поцелуем, в значении которого совершенно невозможно было ошибиться и к которому я не считал ее способной. Этот первый ее поцелуй, душный и неповторимый, это прикосновение ее твердо-упругих губ, вызвало во мне такой прилив мыслей и чувств, в которых я отдал себе отчет только позже; в ту минуту я просто задыхался от него, почти не понимая, в чем дело. Я понял это потом: это было замечательное по соединению блаженства и печали ощущение, потому что я подумал, почти не сознавая этого, что так она целовала других до меня и что этому поцелую предшествовало многое другое, чего могло бы не быть, чего не должно было бы быть и о чем я не мог не жалеть.
Мы ужинали с ней на Монпарнасе, в четвертом часу утра. Это был один из тех дней в моей жизни, когда я был по-настоящему счастлив; и с того времени, что я себя помнил, таких дней было за всю мою жизнь три или четыре. Мне казалось, что вокруг меня все время гремит волшебно беззвучная и торжественная симфония, в которой двигаются, как в кинематографическом сне, человеческие призраки; я видел их мельком и случайно, так как все мое невольное внимание было обращено только на нее. В ту ночь мне казалось особенно очевидным, что она была похожа на один из тех блистательных женских призраков, которые давно жили в моем воображении, но которые до сих пор были лишены неподвижной и живой прелести, отличавшей Ольгу. Этому моему представлению способствовало еще и то, что благодаря своему удивительному здоровью, Ольга никогда не казалась усталой и лицо ее сейчас, в четвертом часу утра, было так же свежо, как вечером, когда она ко мне пришла, хотя после этого прошло много времени и она не закрыла глаз ни на минуту; она вообще никогда в самые патетические минуты своей жизни не закрывала глаза.
Она поселилась со мной в моей маленькой квартире, и тогда началось то, что Ольга потом называла нашим путешествием, – и в этом ее выражении была какая-то обидная правильность. Несмотря на то, что мы жили вместе и я видел ее много часов в день – и тогда, когда она принимала ванну, и когда она спала, и когда она читала или пила чай, словом, все время и во всех обстоятельствах – меня никогда не покидало пронзительное чувство того, что все это может кончиться в любую минуту; и когда я проснусь однажды утром, ее больше не будет. Со временем я привык к этому чувству, как люди привыкают к постоянной головной боли или к постоянному звону в ушах, с той разницей, что в этом ощущении была печаль, которая – в те минуты, когда она почему-либо обострялась, – окрашивала все окружающее в особенные тона, так, точно вокруг нее звучала, не переставая, бесконечно разнообразная, но неизменно минорная мелодия. Ко всему этому прибавилось еще одно обстоятельство, чисто внешнее, но усиливающее впечатление декоративной неправдоподобности всего, что происходило, – это были цветы, которые она очень любила и которые наполняли всю квартиру и запах их смешивался с запахом английских папирос, которые она курила. Я не курил английских папирос, и до появления Ольги у меня никогда не было цветов в квартире. И я помню, что на третий или четвертый день ее приезда, когда мы сидели поздним вечером на диване, – она была в пижаме, волосы ее были подвязаны шарфом и оттого, что они были подняты наверх, это придавало ее лицу несвойственное ему нежное выражение, подчеркнутое чистой линией всего ее профиля, который я видел перед собой, – в середине случайного разговора об особенностях эпохи королевы Виктории я вдруг спросил ее без всякой связи с предыдущим и без всякого перехода:
– Ты будешь мне писать?
Она повернула ко мне свое нежное в эту минуту лицо с далекими и понимающими глазами и кивнула головой.
– Ты не можешь измениться?
– Не надо говорить об этом, – сказала она. – Возьми меня на руки.
Я поднял ее и ощутил на своих руках твердые мускулы ее ног и ее спину, и это ощущение сразу заставило меня забыть о том, что я говорил ей секунду тому назад.
Это было, в общем, печальное счастье; оно смутно напоминало мне те далекие детские ощущения, которые я испытывал тогда, когда какое-нибудь театральное или цирковое представление близилось к концу и я знал, что через несколько минут нужно будет уезжать домой, посмотрев в последний раз на темный опустившийся занавес или на тихо шипящие фонари над опустевшей ареной.
– Ты виноват в этом сам, – говорила она мне. – Это потому, что ты полон печали и огорчения, несмотря на твою гимнастику и твои смешные анекдоты, которые ты рассказываешь. Но ты с бессознательной жадностью ждешь всю жизнь катастрофы или несчастья, потому что тогда все эти твои чувства расцветают… – и она задумалась и сказала: – Знаешь, с такой особенной траурной роскошью, как на похоронах по первому разряду.
– Может быть, – сказал я. – Но, во всяком случае, ты тоже создаешь нечто похожее либо на пир во время чумы, либо на какую-то непонятную – и замечательную – оргию, непосредственно предшествующую этим самым похоронам.
Она слушала меня с тем безмятежным выражением лица, которое было для нее так характерно и которое почти никогда не покидало ее. Те душевные движения, которые в ней происходили, являлись как будто только медлительным и ослабленным ответом на внешние бурные события, как умирающая волна у далекого берега.
– Ты не будешь стареть, – сказал я ей однажды, – у тебя не будет морщин, и если я встречу тебя через тридцать лет, тебя <будут> принимать в лучшем случае за мою дочь.
И все же за то время, в течение которого я жил вместе с ней, в ней происходило какое-то чрезвычайно медлительное, но несомненное изменение, которого я не мог не заметить. Мне было бы трудно сказать, в чем оно выражалось внешне – разве что по утрам она дольше лежала в кровати – в то время как раньше соскакивала с нее, едва проснувшись. Изменение это я, как мне казалось, слышал в интонациях его голоса, это было, пожалуй, единственное, что я мог заметить. Вернее было бы сказать, что я его не замечал, а чувствовал. Я думаю, что трудность этих наблюдений объяснялась еще и тем, что Ольга, сама зная об этом, не хотела себе признаться в том, что это изменение с ней происходит. И нежелание самой себе сознаться в этом происходило, я думаю, оттого, что это изменение не касалось ни ее отношения ко мне, ни даже именно данного периода ее жизни, а было чем-то гораздо более длительным и глубоким.
Я настолько привык к мысли о том, что Ольгу мне никогда не удастся удержать, это казалось мне настолько очевидным и я так часто себе это представлял, что иногда, возвращаясь домой поздно вечером и заставая ее в кресле за книгой, <испытывал> какое-то странное чувство, очень отдаленно напоминающее удивление. Но все-таки, придя однажды раньше, чем обычно, и застав ее за разбором своих платьев перед открытым чемоданом, я испытал раньше, чем я мог подумать о том, что это значит, острое и холодное ощущение тоски. Она подняла на меня глаза и сказала без перехода и объяснений:
– Ты знаешь, что я тебя все-таки люблю.
– Да, только это не такое чувство, как у других.
Я знал, что я могу ее не пустить, запереть ее чемодан, взять у нее деньги, лишить ее возможности уехать. Но все это было бы совершенно бессмысленно. С этой минуты – и на всю жизнь я запомнил белый ковер, на котором стояли ее твердые колени, голову, повязанную шарфом, и легкие волосы над ее затылком, и ее взгляд, когда она мне сказала, что она меня все-таки любит – она перестала присутствовать, и ее уже не было, хотя она прожила еще несколько дней и в них была особенная и пронзительная нежность, которой я не знал до тех пор.
– Ты уезжаешь одна?
– Одна.
– Я не спрашиваю тебя, почему, ты этого, наверное, не знаешь.
И я сказал ей, что мне иногда начинало казаться, что все ее отъезды – это так, точно ее ведет какой-то темный, но непогрешимый инстинкт: так уходят лемминги, так кочуют животные; над всем этим – повелительное томление, нечто вроде страшного и полуфизиологического и полудушевного атавизма.
– Нет, в общем я теоретически знаю, – сказала она. – Понимаешь, есть два образа человека во мне: один настоящий, другой я себе представляю, и вот когда второй во мне начинает увядать, ну, знаешь, как выцветает фотография, – тогда все кончено.
– Это всегда так?
– Нет, – сказала она с усилием. – Ты не изменился. И мы с тобой еще увидимся.
Неделя после отъезда была самой бессмысленной и пустой за всю мою жизнь. За это время я ни разу не был дома. Я ночевал в гостиницах – и все не мог решиться поехать к себе, чтобы переодеться. И только на седьмой день этих блужданий, очутившись ночью на улице и ощущая тупое безразличие ко всему, я пошел домой, отворил дверь, нашел ее открытку, которая начиналась словами «Мой дорогой», и, не читая ее, бросил в корзину; потом лег, не раздеваясь, на диван и проснулся на следующий день с совершенно отчетливым сознанием того, что я не понимаю, зачем существую на свете.
Я ничего не знал ни о том, где она, ни о том, что она делает в течение трех длительных лет. И хотя я никогда не мог примириться по-настоящему с ее отъездом и привыкнуть совершенно к ее отсутствию – это было мне легче, чем когда она жила у меня – я постепенно вернулся к тем своим представлениям о ней, которые были у меня раньше и в которых она по-прежнему являлась далекой и блистательной красавицей, почти идеально абстрактной, какой ее создало мое воображение. В этом была некоторая декоративная и искусственная утешительность; и любое сведение о том, что она действительно делает и где она действительно живет, могло только помешать привычной работе моей фантазии. Борисов, которого я изредка, два или три раза в год, встречал, был с ней, по-видимому, в переписке и знал о ней многое; но всякий раз, когда он заговаривал со мной об этом, я тотчас же переводил речь на другое – и он под конец понял, в чем дело. Через три года я увидел ее однажды на юге, в Ницце, но она не заметила меня; и эти несколько коротких минут ее физического появления отравили мне два месяца моего пребывания на Cote d'Azur[25].
Я никогда не переставал думать о ней, и во всех моих представлениях у меня была над ней бессознательная и непреодолимая власть, и тот факт, что она действительно существовала и прошла такого-то числа в таком-то месте, был досадно не нужен и вносил во все какую-то явную непривлекательность, какую-то грубейшую ошибку. Я заплатил за эти свои представления об Ольге слишком дорого, несколько лет моей жизни ушли на бесплодную, в сущности, душевную и умственную работу, которая не могла не отразиться на всем, что я делал, – и поэтому я с одинаковым раздражением отнесся и к ее открытке, которую так никогда и не прочел, и к ее появлению в Ницце. Я не мог отделаться даже от того, что я с неохотой встречал теперь Борисова, хотя он был прекрасным собеседником и душевная его приятность оставалась прежней.
Прошел еще один год, который потом казался мне самым длительным из всех; и в конце этого года, после долгого периода печального затишья, произошли, наконец, те события, которые изменили все самым трагическим и неожиданным образом.
Они начались с того позднего летнего вечера, когда я после шестимесячного перерыва встретил в одном из монпарнасских кафе Борисова. Мне казалось, непосредственно после этой встречи, что я не сразу узнал его; позже я понял, что это было неверно, и знал, что не мог ошибиться; но вид его настолько изменился к худшему, что я невольно не хотел верить, что это тот человек, которого я хорошо знал. Он похудел до неузнаваемости, костюм его сидел на нем мешком, он постарел на много лет, и меня поразил землистый цвет его лица и его потухшие глаза.
– Что с вами?
Он ответил мне ослабевшим голосом, что только позавчера встал с постели, на которой пролежал очень долго: у него была язва желудка. Он настолько ослабел, что, пройдя несколько сот метров, уже начинал уставать. Даже руки его дрожали, когда он брал чашку с кофе. Несмотря на теплую погоду, он пришел в пальто, и ему явно не было жарко. Когда мы ночью вышли с ним из кафе, то за эти несколько часов погода резко изменилась; шел дождь, дул совсем не по-летнему холодный ветер. Он сел в такси, одно окно которого не закрывалось, – и, в конце концов, может быть именно это обстоятельство было причиной того, что на следующий день он заболел воспалением легких.
Был жаркий, сверкающий день, сменивший дождливую и прохладную ночь, – и в четыре часа дня я отправился к Борисову, чтобы узнать, как он себя чувствует. Он жил возле Ecole militaire[26].
На звонок мне открыла полная пожилая женщина, которая каждые два или три дня приходила убирать его небольшую квартиру. Я вошел и сразу остановился: в воздухе стоял легкий запах духов, названия которых я никогда не знал, но которые я не мог смешать ни с каким другим запахом в мире. Мне стало пусто, холодно и нехорошо и захотелось тотчас же уйти. Я понимал, однако, что это было бы нелепо и неприлично. Я успел еще подумать о том, что я встречаюсь с Ольгой, которую я люблю, и с Борисовым, к которому отношусь с искренним и дружеским расположением, – насколько и то и другое звучало бы сейчас так фальшиво, если бы этими словами нужно было определить мое душевное состояние в эту минуту.
Она была такой же, как всегда, и мне не могла не броситься в глаза резкая разница между ее видом и видом Борисова. Бго исхудавшее широкое тело лежало в кресле, было впечатление, что это нечто чужое для него, что оно вдруг стало для него тяжким грузом. Он был небрит, на шее его был теплый шарф, он кашлял и ежился. Я поцеловал руку Ольги, она протянула мне ее с искренне-радостной, как мне показалось, улыбкой, но глаза ее почти не видели меня, и я понял, что эта улыбка относилась не ко мне. Я спросил Борисова о его здоровье – рука его была горячая и влажная. Он ответил, что ему трудно дышать, что он, наверное, простудился. Посидев десять минут, я поднялся и попрощался с ним. Ольга сказала ему, что вернется через полчаса. Затем она обратилась ко мне:
– Мы выйдем вместе, ты меня проводишь немного?
– Конечно.
Мы дошли с ней молча до ближайшего кафе; она вошла внутрь, я последовал за ней. Я заказал кофе, и тогда начался тот странный разговор, каждое слово которого я запомнил навсегда точно так же, как каждую интонацию; и если бы мне за день до этого сказали, что он вообще возможен, я бы этому не был способен поверить.
– Я не буду тебя упрекать, – сказала Ольга, – что ты не ответил на мою открытку и вообще забыл, что я существую на свете; я понимаю, почему ты это сделал.
– Это лучшее, на что я способен. Зачем ты приехала?
– Борисов мне сказал, что в прошлом году ты был на юге и в Ницце, – сказала она, не отвечая. – Так странно, я тоже была там в это время, и вот мы с тобой не встретились. Я бы уже тогда могла тебе многое рассказать.
– Не сомневаюсь.
Она медленно поднялась и сказала:
– Извини меня, мой милый, я не думала, что мое общество тебе так неприятно. Я не буду тебе надоедать.
Тогда я схватил ее за руку и силой усадил рядом с собой.
– Ты знаешь, что я тебя люблю так же, как всегда, и ты понимаешь, что это все объясняет. Ты знаешь также, что более внимательного слушателя ты не найдешь. Я не всегда владею своими чувствами, прости меня за это. Рассказывай.
И она начала говорить. Она сказала, что уже давно, еще тогда, когда она была со мной, в ней что-то оборвалось, ей стало чего-то не хватать, и она никак не могла понять, чего именно. Все, что происходило потом, после этого медленного начала, было так, точно предметы, ощущения и события потеряли свою окраску и увяли. У нее был еще один роман, но это было так «невкусно», как она выразилась, что бессмысленность этого ей стала очевидна с первых же дней. Она ощущала все время нечто похожее на состояние вялой жажды, как она сказала, никогда не прекращавшейся – знаешь, как постоянная изжога или постоянная боль.
– Другими словами, то движение, в котором ты провела всю жизнь и которое было сильнее любой привязанности и любого чувства, вдруг остановилось?
– Сначала замедлилось, потом остановилось. Но для этого была причина.
Я всегда понимал Ольгу с полуслова. Я слишком хорошо знал ее, и кроме того, ничто в мире не могло вызвать у меня такой мгновенной концентрации всех моих способностей, как ее присутствие. Но на этот раз я понял ее еще лучше, как мне казалось, еще прозрачнее, чем всегда.
– Я боюсь, что бедная причина себя чувствует очень скверно.
Ее лицо изменилось, в ее глазах была усталость, которой я никогда до тех пор в них не наблюдал.
– Ты думаешь, это серьезно?
– Не забывай, что этому предшествовали долгие месяцы изнурительной болезни, ты только посмотри на него.
– Да, я была поражена. Мне показалось, что это отец того человека, которого я знала раньше. Я пойду туда, – сказала она, поднимаясь.
– Подожди, – сказал я. – Скажи мне яснее, подробнее, что именно тебя заставило приехать. Я знаю что, но – как, почему?
И из ее объяснения, очень сжатого и скудного, точно формула какого-то сентиментального уравнения, я составил себе представление о всем том длительном душевном движении, которое предшествовало ему и которое началось еще тогда, когда она жила у меня. Она опять, казалось бы случайно, упомянула о финляндском рассказе Борисова – и я понял это; это был ее мир, настоящий, тот, которого она не должна была никогда покидать и который так идеально воплощался в Борисове. Это была огромная и сложная совокупность именно таких, а не других чувств, именно тех, а не иных ощущений и впечатлений, которые нельзя было выразить ни на одном языке, кроме русского. И несмотря на богатство всех своих иных впечатлений, встреч и путешествий, она уже давно начала чувствовать, что этого ей заменить не может ничто, никто и нигде и что идея путешествия, та, которая владела ею всю жизнь, могла существовать только потому, что существовал этот мир, откуда можно было уехать и куда можно было вернуться и если бы его не было, то путешествие потеряло бы всякий смысл и напоминало бы судорожно-предсмертные движения птицы, которой отрезали голову и которая после этого еще пробегает некоторое расстояние в бесплодном и пустом пространстве.
– Иди, Оля, – сказал я, целуя ей руку. – Помни, что на меня ты можешь рассчитывать во всем и всегда.
Я ушел оттуда, унося с собой тягостное чувство. Только потом, много времени спустя, я вспомнил, что, думая об Ольге, я находил неизменно мстительное удовольствие, когда представлял себе, что в один прекрасный день она потеряет ту волшебную свободу отъездов, которая была для нее характерна. Но в эти дни я совершенно забыл об этом, это было идеально далеко от меня, хотя произошло именно то, о чем я всегда мечтал. И я думал тогда, что чувство, если его рассматривать совершенно объективно, как предмет исследования, и если принять эту произвольную и, в сущности, абсурдную возможность, похоже в какой-то мере, по некоторым своим качествам, на жидкое состояние материи, принимающее форму того сосуда, в который она влита, и меняющееся в зависимости от обстоятельств. Как ни унизительна была для меня эта мысль, я не мог найти иного объяснения некоторым изменениям, совершенно, казалось бы, незаконным. И все, что я видел тогда в первый раз, – сначала усталость в глазах Ольги, потом слезы на ее лице, все то, о чем я ей раньше говорил: ты увидишь, и с тобой это когда-нибудь случится, и ты будешь плакать, как другие, – все это сейчас вызывало у меня только сожаление и любовь, и я был готов сделать все, что было в моих силах, чтобы вернуть вещи к их первоначальному состоянию, то есть к тому самому, от которого я страдал в течение долгого времени.
Но сделать вообще было ничего нельзя. Борисов умер через пять дней от воспаления легких. Я помню внезапно омертвевшие, внезапно показавшиеся мне неподвижными все предметы в его квартире, его письменный стол, его ненужное теперь тело и его мертвую голову на смятой подушке, небритое желтое лицо, подвязанную челюсть и закрытые глаза, потом похороны – черный силуэт Ольги, как бесшумный призрак, проступающий через церковное пение или через мрачно-идиллический кладбищенский пейзаж.
Когда все кончилось, я взял ее под руку, и мы долго с ней шли молча по бесконечно длинной каштановой аллее, – это было похоже на сон; и по мере того, как мы приближались к выходу с кладбища, все то, о чем я думал столько лет, вся та значительная часть моей жизни, которая была посвящена Ольге, постепенно исчезала, точно растворяясь в воздухе, теряя свое абстрактное и театральное великолепие. Но в то же время возникло нечто другое, чего я еще не мог определить, – это было похоже на отдаленный гул, так, точно где-то далеко текла вскрывшаяся ото льда река. Ольга поняла это так же, как и я; и когда я посмотрел на нее, я увидел ее глаза такими, какими никогда их не видел, никогда до этого, и я сразу почувствовал, что то, что было до сих пор, было так же неверно и призрачно, как вся моя прежняя жизнь, как все мое обманчивое воображение.
15.01.42
<Дядя Лёша>*
Теперь конец июля 1942 года, жара, открытое окно во двор все с тем же видом четырех стен классического городского «колодца» передо мной. Но то, что казалось раньше, еще три года тому назад, таким безнадежно незыблемым, все эти стены, окна, потолки, и те человеческие жизни, которые протекали за ними и в которых тоже была какая-то особенная неподвижная последовательность – служба, женитьба, дети, отставка, одни и те же разговоры, всегда одинаковые заботы об одном и том же, все это потеряло свою незыблемость. И если раньше мне нужно было сделать усилие воображения, чтобы представить себе, как все это, в одну короткую секунду, рушится и гибнет, увлекая в своем смертельном падении все заботы, все перспективы, и все, из чего состоит эта бедная жизнь, теперь эта возможность мгновенного и непоправимого землетрясения существует всегда, и будет существовать через час так же, как она существовала час тому назад. И я ловлю себя на мысли о том, что славянский разрушительный гений и то, что я не столько готов к смерти, сколько всегда презираю в глубине души жизнь, но могу, при всем усилии, понять ту жалкую ее ценность, которая так сильна, особенно здесь, в этой несчастной стране, – все то, что с такой ужасной и безвозвратной отчетливостью я пережил больше двадцати лет тому назад, во время войны в России, шестнадцатилетним мальчиком, все, о чем я тщетно пытался забыть за это мирное время, вплоть до сентября 39-го года, – все эти вещи так же сильны во мне, как раньше, в те незабываемые дни двадцатого года, на юге России.
Долгие годы я старался об этом не думать, и вот теперь действительность заставила меня вернуться к этому; и тогда я понял то, в чем до сих пор не хотел себе признаваться, а именно, что в этом неверном существовании с абсолютной неизвестностью о том, что будет завтра, мне легче дышать, чем в мирной обстановке. Это так сильно во мне, что когда я встретил в автобусе одного знакомого, которого не видел с начала войны, и он мне сказал:
– А вы помните довоенное время? Как мало мы его ценили.
Я совершенно искренне ответил ему и повторил бы этот ответ кому угодно: я все-таки, в тысячу раз предпочитаю эти время, дни и месяцы тому, что было раньше. Может быть, это невероятное душевное искажение было просто результатом моего участия в гражданской войне в слишком раннем возрасте; но вернее, что это характерно вообще для всякого или почти всякого русского, потому что те материальные ценности, которые составляют смысл существования почти всей Европы, для нас почти не существуют. И эти ценности вовсе не заключаются, как это принято говорить, в великолепии библиотек и архитектуры, и в картинах Микеланджело или Рембрандта, до которых давно почти никому нет никакого дела, за исключением невежественных коллекционеров типа bon vivants riches[27] или восторженных любителей искусства, составляющих какие-то сотые доли процента на все население Европы. Это ценности иного, несравненно более низменного порядка – хорошая пища, удобная квартира, рента или пенсия, кулинарные тонкости или в общем то, что так наивно формулировал французский солдат, служивший в защитной батарее и неизменно прятавшийся при приближении аэропланов:
– Mon lieutenant, j'ai une femme, deux enfants <…>, je ne veux pas mourir.[28]
И получилась парадоксальная вещь: Франция не захотела защищать то, что действительно защищать не стоило, и именно потому, что она придавала этому слишком большую ценность; нечто вроде знаменитой аллегории о скупце, умирающем голодной смертью на сундуке с золотом. Мы лишены этого представления о ценности; и идея ценности вообще, в славянском сознании приняла настолько иную форму, что сейчас уже нет возможности ошибочного суждения по этому поводу. И тот факт, что слово valeur переводится на русский язык словом «ценность» требовало бы пояснения, в котором было бы сказано, что в это слово вложена совокупность понятий, не имеющих ничего общего с европейским пониманием. Это верно не только по отношению к слову valeur, то же можно сказать о множестве других понятий – но в данном случае, на этом одном различии основана вся неодинаковая судьба громадного государства. Но я думаю сейчас не об этом, а все о том же душевном искажении, в силу которого, я предпочитаю такие времена, которые отличаются зыбкостью и неверностью, когда становится очевидно, что все предшествовавшее им исчезает или осуждено на исчезновение, а то, что придет ему на смену, еще даже не вырисовывается. Есть особенная, непреодолимая соблазнительность в том, что все существующее сейчас, может погибнуть в любую секунду; мне кажется, что это ощущение общечеловеческое, и оно отчасти, быть может, объясняет неизменное возникновение разрушительных и, в сущности, бесполезных войн.
И всякий раз, когда я думаю о войне и о том, что сейчас происходит, я вспоминаю дядю Лёшу, как его все называли, моего старого знакомого, очень удивительного и оригинального человека. Я встретился с ним много лет тому назад, он жил тогда, как и потом, в своем маленьком имении, в сотне верст от Парижа, окруженный постоянным шумом леса, со всех сторон окружавшего его дом. Он был похож на старого, небольшого лешего. Его приезду сюда предшествовала долгая и разнообразная жизнь; и того расхода душевной, умственной и физической энергии, с которым он никогда не считался, <…> хватило бы на несколько человеческих существований. По его собственным словам, пятнадцать полных лет своей жизни он провел в библиотеке. Это и еще его несравненная память обусловили его исключительную энциклопедическую культуру. Но в противоположность большинству людей, обладающих такими огромными познаниями и чье воображение уже в силу именно этой загруженности отличается некоторой вялостью, дядя Лёша никогда не прекращал той гигантской работы, которую можно было бы назвать синтезированием всех его сведений в каждой очередной области. Он всегда что-то записывал, делал выводы, и по всякому вопросу у него было свое собственное мнение, нередко идущее вразрез со всеми другими мнениями, которые он знал и запоминал. А запоминал он вообще все, начиная от цифр и статистики и кончая метафизическими положениями и способами размножения каких-то малоизвестных насекомых. Никогда, однако, ни в прежней России, ни позже, за границей, он не мог сделать карьеры, которая сколько-нибудь соответствовала бы его способностям, уму и знаниям. Причины этого были ясны для всех, кто его знал, так же, я полагаю, как и для него самого, хотя он никогда об этом не говорил. Они заключались в том, что он не соглашался ни в каких обстоятельствах поступиться своими принципами. Одного этого было бы достаточно; кроме того, для людей, наблюдавших сколько-нибудь пристально то, что происходило вокруг них, было очевидно: в громадном большинстве случаев личный успех почти в любой области человеческой деятельности объясняется не способностями и не умом, а чем-то совершенно другим, даром приспособляемости, нередко довольно низменного характера. Дядя Лёша рассказывал мне, что один очень знаменитый государственный деятель, чрезвычайно умный человек, говорил ему:
– Моя карьера началась с того момента, когда я понял, что нужно довести себя до уровня очень среднего и очень невежественного человека, забыть обо всех своих знаниях и своей собственной умственной непохожести на других. До того, как я это понял, меня выгоняли отовсюду, потому что я объяснял, что такие-то вещи нужно делать иначе, что то-то неправильно и т. д. Это в лучшем случае никого не интересовало, к тому же всякое изменение шло в ущерб множеству частных интересов. Я вынужден был от этого отказаться. Только заняв очень высокий пост, я мог что-то такое сделать, да и то это было одной сотой того, что следовало бы предпринять.
– В инженерном искусстве это называется сопротивлением материалов, – говорил дядя Лёша.
Ему было шестьдесят четыре года, когда я с ним познакомился. Он был небольшого роста, узенький, сухой человек со старым лицом. Меня удивили быстрота и точность его движений, его скорая, юношеская походка и полное отсутствие выражения усталости в глазах, характерное для людей его возраста. Позже, когда я приехал к нему в имение, он гулял со мной по двору, подвел меня к невысокому пню, на котором стояла наковальня.
– Вы, кажется, любитель спорта, – сказал он мне, – ну-ка, снимите мне эту наковальню.
Я взял ее за концы, сделав небольшое напряжение мускулов, почувствовав неожиданную и показавшуюся мне огромной тяжесть. Потом, собрав все свои силы, я с величайшим трудом поднял ее, снял с пня и поставил на землю; и показалось, что если бы это продолжалось еще одну секунду, я уронил бы ее себе на ноги.
– Ну, ничего, – сказал дядя Лёша одобрительно. Потом он легко поднял ее с земли и поставил на прежнее место.
– Сколько она весит? – спросил я.
– Сто десять кило, – сказал он. – Что значит старость, все-таки, вот мне уже трудно и поднимать.
Мы вышли с ним в лес, был сентябрь месяц, но зелень на деревьях была еще крепка. В лесу стояла душистая, полная древесных и земляных запахов тишина; на несколько километров вокруг не было ни одного человека. Маленькие белки, тихо зашумев листьями, прыгнули с одной ветки на другую, повиснув в воздухе.
– Почему вы выбрали такую глушь? – спросил я. Был 1930-й год.
– Да все из-за войны, – сказал он.
– Какой войны?
– Той, которая будет.
– Вы полагаете, что это неизбежно?
– Что же здесь полагать или не полагать? Если вы кладете патроны динамита и зажигаете бикфордов шнур, который ведет к нему, то единственная вещь, которой следует ожидать, это взрыв. Тут и полагать ничего не нужно.
Потом мы говорили о другом, но через несколько минут дядя Лёша прервал себя и сказал, продолжая прежние свои мысли, не связанные с тем, что только что говорилось.
– Есть бесчисленное множество факторов, которые делают это неизбежным, мы еще как-нибудь поговорим об этом. Бесчисленное, не видеть этого нельзя.
Он шел по лесу своей быстрой походкой, со стороны казалось, он почти не касается земли. Он знал там каждое дерево, каждый куст, каждую тропинку.
– Смотрите, – сказал он мне, показывая на небольшое пространство, густо поросшее дубовым кустарником, – здесь зимой прошлого года все срубили. Смотрите, как будто все заросло, вот вам сила земли. Нас не останется, ничего, быть может, не останется, а вот это будет всегда. Знаете, я все вспоминаю город Киплинга в «Книге джунглей», где живут Бандерлоги. Может быть, это и есть будущий конец цивилизации, кто знает.
Я редко видел такие леса во Франции. Правда, самому старому дереву было не больше тридцати лет; лес начался тогда, когда в конце прошлого столетия большая фабрика, стоявшая здесь, на отлете, в двух верстах от ближайшей проселочной дороги и в трех верстах от железнодорожной линии, закрылась и была разрушена. С тех пор – до того времени, когда здесь поселился дядя Лёша – тут не было никого. Владельцы этой земли жили в Париже и сюда никогда не приезжали. И вот, вдалеке от дороги, здесь вырос лес, за которым никто не ухаживал, поэтому у него был такой буйный и беспорядочный вид, который так редок во Франции, где все деревья, в сущности, наперечет. Дядя Лёша знал и этот вопрос, он объяснил мне, что в России всякому, кто только делает об этом запрос, немедленно и бесплатно высылались в любых количествах семена любого дерева. Здесь же их нужно было покупать по высокой цене. Но, так или иначе, на этом пространстве всего несколько квадратных километров леса – дышалось особенно легко, и сразу начинало казаться, что Париж и все, связанное с ним, исчезало, растворялось в этом тихом лепете листьев, в этих древесных и живых запахах.
Я испытывал там ощущение, которое мог бы, пожалуй, сравнить с чувством, охватывавшим меня на пароходе, далеко в открытом море, где вода и небо, и больше ничего, и только где-то, в незримой дали медленно плывут, как во сне, города, огни и черные, освещенные фонарями дороги.
Дядя Лёша здесь жил круглый год, в доме, который он построил себе своими руками весь, от фундамента до крыши. Дом, окруженный высокой стеной, оставшейся от фабрики, стоял в самой глубине леса. Рядом с главным зданием было второе, поменьше, все обшитое дубовыми коричневыми досками, где я ночевал, когда приезжал в гости к дяде Лёше, и где для меня воскресала давно забытая упоительность, когда дождь гулко барабанил по крыше над моей головой и в открытое окно, не переставая, вливался этот особенный шум леса под дождем, это влажное и свежее шуршание. Тогда мне начинало казаться, на несколько минут, что все мое прошлое, все эти разные жизни, которые мне пришлось вести, все это долгое и утомительное разнообразие моего существования куда-то пропадало в эту дождливую лесную ночь, и я возвращался в давние российские времена, – гимназическая форма, пятнадцать лет, дачный поселок, и такой же дождь ранней осени и такой же лес из тех же несокрушимых дубов.
Дядя Лёша изредка приезжал в Париж, и тогда неузнаваемо преображался: надевая городской костюм, он казался чистейшим парижанином. Это была еще одна его особенность: как бы он ни был одет, всегда казалось, что именно этот костюм ему больше всего подходит. В лесу он носил бархатные штаны, бесформенную обувь, заплатанную фуфайку и кепку, и, казалось, что его нельзя представить в ином виде, настолько это было естественно. Но когда в городе вечером, выбритый и аккуратно причесанный, он был в смокинге, то трудно бывало отделаться от впечатления, что именно так он и должен был одеваться всю жизнь: у него была огромная замечательная актерская способность <…>, я полагаю, одна из немногих вещей, над которой он никогда не задумывался.
Я приезжал к нему два-три раза в год, на несколько дней. По мере того, как проходило время, он все реже появлялся в Париже. Мне стало казаться, что с возрастом общество людей его все чаще начинало раздражать и утомлять. Однажды, когда я зашел к нему в Париже вечером, он сказал мне с досадой, держа в руке разрезанный номер толстого журнала, в котором был напечатан мой рассказ:
– Читал я, знаете, вашу вещь, потом прочел все остальное. Вот ведь жалость, большинство людей развивается примерно до восемнадцатилетнего возраста, а потом останавливается. И в результате что же? Какой-нибудь пятидесятилетний мужчина, убеленный сединами, и со всякими, скажем, социалистическими взглядами, заслугами, пишет статью, – ну, как гимназист восьмого класса, только о серьезных вещах, в которых, конечно, ничего не понимает. Что это за народ такой? И язык у них какой-то неестественный, не говорят так люди по-русски.
Дядя Лёша меня всегда интересовал больше, чем очень многие другие люди не только потому, что он был умнее и образованнее их. Мне особенно хотелось, и именно по отношению к нему, понять ту основную причину, которая предопределила всю его жизнь, понять в силу чего, из-за какой удивительной и неутолимой жажды беспощадного, в сущности, знания, он пробыл пятнадцать лет в библиотеках и затем все долгие годы читал, записывал, запоминал и делал выводы из множества вещей, которые его непосредственно не касались. Мне кажется, что ему хотелось найти объяснение всему происходящему и определить свое место в мире, это и было то, что он искал всю жизнь. Будучи очень умным человеком, он не мог не знать, что так называемые законы и теории, как бы они ни казались соблазнительны, не могут претендовать на универсальность, и в конечном итоге оказываются несостоятельными; и вот это он всякий раз выяснял с несокрушимым упорством; затем он принимался за что-то другое – с тем, чтобы прийти к такому же результату.
В нем явственнее, чем в других людях, был заметен тот, в сущности, трагический дуализм, который не мог не доставлять ему страданий и заключался в том, что огромная жизненная энергия, данная ему судьбой, энергия созидательная и положительная и в сущности своей чуждая сомнению, соединялась с таким же его благодатным и неутомимым умом, действие которого приводило всегда к отрицательным выводам. Это были как бы две силы, направленные в противоположные стороны, и которых действия стремились к уничижительному и для той, и для другой силы результату. Но обе они были настолько неиссякаемы, что их взаимного кипения хватило на всю долгую его жизнь, полную <…> ощущений, которыми и объяснялись, думаю, его нервные припадки, совершенно, казалось бы, беспричинные, они изредка бывали у него в последние годы его жизни.
В эти именно последние годы он все больше и больше привязывался к лесу, в котором он жил, все меньше любил общество людей, и когда я представлял себе в воображении его мифологически-законный конец, как это было бы в сказке о нем, если бы такая сказка могла быть написана, – мне казалось, он должен был бы в один прекрасный день уйти в лес и больше не вернуться; и через некоторое время я бы мельком увидел его бесшумно проскользнувшую в листве тень, точно похожую на тень настоящего лешего.
Ему было свойственно вообще пантеистическое отношение к природе, и в этом смысле в нем было нечто совершенно несовременное, так что казалось, будто он принадлежал давно прошедшему столетию. Я видел однажды, как он один вышел из леса на поляну, сорвал какой-то цветок, понюхал его и потом побежал вперед особенным образом, на согнутых ногах, держа цветок в вытянутой руке, на уровне глаз. Он был, конечно, убежден, что его никто не видит. В эту минуту он был до удивительности похож на старого фавна; и если бы мне, как и всякому другому, рассказали, что шестидесятилетний человек, знающий десять языков и специалист по множеству научных вопросов, может делать такие вещи, я бы никогда этому не поверил. Но я видел это собственными глазами и тогда же заметил, что дядя Лёша вовсе не был смешон, наоборот, в этом была какая-то особенная и наивная прелесть.
И этот же человек мне говорил:
– Я давно пришел к тому убеждению, что если даже вообще принимать существование добра и зла как каких-то несомненных категорий, то нужно констатировать их временную неразделяемость. Другими словами, эти элементы встречаются в постоянном соединении, иногда больше одного, иногда – другого, но они неразделимы так же, как вот до сих пор, скажем, неразложим кислород. А если это так, то вы понимаете, насколько призрачна и условна всякая положительная мораль.
В дни объявления войны я был на юге, у моря; и когда однажды утром я пошел купаться, я оказался один на огромном пляже. Все дороги были забиты автомобилями, поезда шли непрерывно, один за другим, набитые до невозможности. Всюду было ощущение огромной и неотвратимой катастрофы. Я думаю, что уже тогда, в эти дни судьба Франции была предрешена, и не потому, что не хватало солдат или оружия, а оттого, что для всей страны и для всей армии было характерно одно и то же ощущение, похожее на предсмертное томление, и было ясно, что в этом состоянии страна не может воевать. Оно могло, быть может, замениться каждую минуту свирепой жаждой борьбы, но надежда на это оказалось пустой, как выяснилось потом. Через несколько дней, уже из Парижа, я приехал к дяде Лёше.
– Nous у voila[29], – сказал я ему, поздоровавшись, – вещи полностью сбылись.
Он махнул рукой.
– Война будет долгая, – сказал он, – растягивая букву о. – Также будут говорить, что длительный конфликт экономически неотвратим, как это говорили в четырнадцатом году, и это будет также неправильно. Это все экономисты говорят, <…> они мне напоминают какого-нибудь бухгалтера, который сидит в осажденной крепости, видит падающие вокруг него стены и убиваемых людей и высчитывает стоимость каких-нибудь птичьих перьев или ученических тетрадок. Давно известно, что дважды два только в арифметике четыре, попробуйте им это объяснить.
Мы шли с ним по лесу, было безветренно и тепло.
– Англия, Англия, – сказал он, – вот в чем дело. Они плохие военные, у них нет армии и вообще ничего нет, но они страшные люди, потому что ни перед чем не останавливаются. Они потому и выигрывают все войны наперекор военному искусству и здравому смыслу. Боюсь, что и теперь будет то же самое. У немцев есть порядок, конечно, но слово Ordnung непереводимо ни на какой язык, потому что ни у одного народа не существует такого понятия. Это огромная и сложная система, которая решительно все предусматривает. В этом смысле они безошибочны.
Я слушал то, что он говорил, и смотрел наверх, в небе стояли белые, волнистые облака в мирной и далекой синеве.
– Ошибка заключается в другом, – сказал дядя Лёша. – Такая система <…> была бы идеальна в условиях огромного лабораторного опыта. Но вся жизнь состоит из вещей, которые нельзя предусмотреть, и даже не потому, что мы, скажем, плохо соображаем, а потому, что всегда возникает нечто новое, чего мы не знаем и не можем учесть. Это такая детская истина, что ее неловко повторять. Но так называемые государственные люди обычно невероятно невежественны, до неправдоподобия. Ну, ну, посмотрим, как будет развиваться война.
Со времени тогдашнего моего разговора с дядей Лёшей прошло почти три года. Тот мир, в котором мы находились с ним тогда, давно больше не существует, вот разве облака остались те же, и небесная синева, и лес, который окружает его имение. Никогда не забуду, мне кажется, июнь следующего года и могильный голос маршала Петэна, сообщивший по радио о капитуляции Франции. В этих звуках был какой-то зловещий символизм, и было характерно, что капитуляцию Франции возвещал именно этот голос, тоже идущий с того света и принадлежавший человеку, в котором, конечно, уже не могло оставаться никакой силы, никакого желания борьбы и была только предсмертная, восьмидесятилетняя усталость. Я плохо верил всегда, что люди, стоящие во главе государства, могут претендовать на то, что являются законными представителями своей страны и в какой-то степени воплощают в себе характерные особенности своего народа. Но тогда появление полумертвого маршала во главе Франции показалось мне до ужаса убедительным и действительно точно выражающим то глубокое и, быть может, безвозвратное падение страны и народа, невольным свидетелем которого я оказался.
Последний день*
О тех событиях, которые с такой беспощадной неожиданностью обрушились на город, где я жил в последнее время, я знал, в противоположность всему его населению, задолго до того, как они произошли. К сожалению, я не имел права предупреждать о них кого бы то ни было. К тому же мое собственное положение было в известном смысле еще более безвыходно, чем положение моих беззащитных соседей, хотя и по совершенно другим причинам. Строго говоря, внешне, на первый взгляд все обстояло благополучно; миссии, которые мне были поручены, я выполнил с большим успехом, чем на это рассчитывал, и организация моих соотечественников имела все основания быть довольной моей работой. Я получил об этом сведения накануне последних событий. Но организация не могла знать самого главного: все могло погибнуть в любую минуту, и против этого я был совершенно бессилен.
Я очень хорошо помню всю последовательность тех фактов, которые привели меня этой весенней ночью в тот маленький особняк в северной части города; он давно был куплен мною на имя одного из убитых моих знакомых, и в нем я обычно бывал чрезвычайно редко. Это было на пятый год войны, после которой мир так неузнаваемо изменился. Половина страны была занята нашими войсками: положение наших врагов было совершенно безнадежно, но чем яснее это становилось, тем ожесточеннее делалось их бессмысленное и преступное сопротивление. Я всегда испытывал отвращение к тому массовому убийству, какое представляет собою всякая война, и внутренне протестовал против нее всеми своими силами. Но все-таки, в силу того же иррационального закона, по которому, например, я не мог бы уклониться от вызова на дуэль, хотя всегда считал это преступной глупостью, – по этим же причинам я не мог, будучи гражданином моей страны, не принимать участия в войне. Я не воспользовался никакими личными связями, чтобы работать в дипломатическом ведомстве, хотя у меня были все возможности это устроить. В тот день, когда это стало необходимо, я надел свою лейтенантскую форму и отправился в армию совершенно так же, как это сделали миллионы моих соотечественников: и в течение первых лет моя жизнь, состоявшая из маневров, военных занятий и работ по баллистике, которые мне пришлось выполнить, не имела непосредственного соприкосновения ни с фронтом, ни вообще с какой бы то ни было боевой деятельностью. Если бы все продолжалось так, то мне пришлось бы, я думаю, принять участие лишь в последних событиях на континенте, которое ограничилось бы, таким образом, несколькими месяцами жестоких и открытых боев против агонизирующей вражеской армии.
Все это резко изменилось в один прекрасный день, и несмотря на то, что последствия этого изменения носили для меня совершенно трагический характер, мне становится неловко и смешно всякий раз, когда я думаю об этом. Это чувство неловкости и того, что французы называют ridicule[30], объясняется тем, что все было вызвано двумя причинами, из которых каждая была совершенно ничтожна и незначительна. Первая причина была виски; вторая – безрассудная и вызывающая глупость одной женщины, которую звали Элен и которая полагала, что у нее были причины меня ненавидеть; с этим ее мнением я никогда не мог согласиться.
Я встретил ее на вечере у друзей, во время одного из моих отпусков; и к сожалению, до того, как я ее увидел, я успел выпить так много, что находился в несколько ненормальном состоянии. Она была с одним человеком в штатском, которого я помнил еще по тем временам, когда он был капитаном одной из университетских футбольных команд. Он был очень неплохим голкипером; за исключением этого, я не знал за ним никаких других достоинств. Я хранил некоторые иллюзии по поводу его ума, так как два или три раза за свою жизнь слышал, как он говорил довольно дельные вещи, но это были очень исключительные случаи, объяснявшиеся, быть может, каким-то внезапным вдохновением, потому что в обычное время он отличался необыкновенной болтливостью и всегда нес совершенный вздор. К войне он относился чрезвычайно пренебрежительно, и ему каким-то образом удалось уклониться от всякого в ней участия; и еще до того, как я его встретил в этот памятный вечер, я слышал, что он крупно играл в карты и был усердным посетителем некоторых мест, продолжавших свою полузаконную деятельность даже тогда, когда большинству моих соотечественников это казалось по меньшей мере неуместным.
После нескольких незначительных замечаний по моему адресу, Элен в присутствии этого человека стала смеяться над моей скромностью, как она сказала; причем по тому, как и при каких обстоятельствах она употребила слово «скромность», было ясно, что это значило «трусость». Ее насмешки сводились к тому, что я занимаюсь совершенно безобидными и, как она сказала, никому не угрожающими артиллерийскими этюдами, и это, по ее мнению, было похоже, приблизительно – в смысле полезности в данное время – на изучение фламандской живописи, например.
Потом, обратившись к своему спутнику, она сказала, что я, владея в совершенстве несколькими языками некоторых стран, оккупированных неприятельскими войсками, мог бы, конечно, там принести большую пользу, чем здесь. Я предполагаю, что если бы я перед этим выпил меньше виски, я бы уклонился от какого бы то ни было разговора с Элен по этому поводу – тем более, что она так же плохо разбиралась в вопросах войны, политики и государственной пользы, как в той самой фламандской живописи, о которой так неосторожно упомянула.
Я возразил, что если бы мне пришлось туда попасть, то я думаю, что мог бы работать так же, как всякий другой человек на моем месте, и что я бы, конечно, не уклонился от такого назначения, хотя такая работа мне, в общем, меньше нравится и представляется, быть может, не более полезной, чем мои невинные артиллерийские занятия. Бывший капитан футбольной команды, который был совершенно пьян, хохотал, как сумасшедший. Мы расстались довольно поздно; Элен уехала на своем автомобиле, я попрощался со всеми и пошел пешком к вокзалу, с которого должен был уезжать первым утренним поездом.
Мне оставалось пройти около трехсот метров в абсолютной тьме и безлюдье, когда я почувствовал, что кто-то взял меня за руку, около плеча. Так как я полагал, что никакая опасность мне не угрожает, то я только повернул голову в сторону человека, который так неожиданно задержал меня. Я знал – по прикосновению его пальцев, – что это был человек значительных размеров и известной физической силы; я отметил это машинально, так как ни его размеры, ни его сила не могли для меня представлять никакой угрозы – если не предположить с его стороны какие-либо враждебные намерения, что было очень маловероятно. Когда он заговорил, я с удивлением узнал голос спутника Элен, с которым расстался так недавно. Я никогда потом не мог простить себе того идеально ошибочного мнения, которое у меня было об этом человеке; его звали Эрмит (думаю, теперь я могу произнести его имя). Я полагаю, если бы он знал об этом, он отнесся бы к этому с той же насмешливой снисходительностью, с какой относился решительно ко всему, что о нем говорилось.
Первые же его слова меня поразили. Прежде всего, он говорил голосом совершенно трезвого человека. Затем – тон его был непривычно серьезен; этого я меньше всего ожидал. Это был длинный обстоятельный разговор, имевший немедленные последствия: мне никогда больше после этого не пришлось заниматься баллистикой. Я вернулся на свою батарею только к вечеру и тут же оттуда уехал.
Еще через три недели, в очень холодную и беззвездную ночь, я спустился на парашюте с аэроплана, летевшего на небольшой высоте, и с того времени началась моя работа в этой стране, которую я знал почти так же хорошо, как мою родину. Все прошло благополучно, я был достаточно тренирован в прыжках с парашютом, и опасность неудачного падения была ничтожна. Я помню, как Эрмит пожал мне руку и сказал: «Идите!» И помню, как я падал в темную холодную пропасть.
Бедный Эрмит! Он всегда оказывался всюду, где его присутствие могло быть почему-либо необходимо. Его выносливость соответствовала его энергии; он мог не спать много ночей подряд, мог долго не есть и всюду сохранял свой беспечный вид; кроме того, он был совершенно незаменим. Когда, после одной из неудачных моих экспедиций, я лежал, ежеминутно теряя сознание, и старался не стонать, с двумя пулями в спине, в небольшой и влажной канаве, на краю проселочной дороги, и ждал или смерти, или ареста, – первое лицо, которое я над собой увидел, было лицо Эрмита.
Я до сих пор не понимаю, когда и как он успел узнать все подробности моего отъезда и моей неудачи; но, во всяком случае, именно ему я обязан тем, что через час меня отнесли куда-то на носилках, еще через полчаса оперировали и вообще я остался жив.
К нему судьба была менее снисходительна, чем ко мне; я бы даже сказал, она была незаслуженно жестока, если бы это прилагательное, по отношению к слову «судьба», могло бы иметь какой-нибудь смысл, что мне лично представлялось спорным. И я не мог ему даже пожать руку перед смертью: только через две недели после того, как его не стало, мне рассказал один из моих товарищей, что он видел. Эрмит спускался на парашюте, это было уже под утро, почти светло; и вражеский солдат с ближайшего сторожевого поста выпустил в него целую пулеметную ленту. Этот солдат, между прочим, был убит через два дня выстрелом в затылок.
Я помню, что смерть Эрмита меня поразила больше, чем исход любого решающего сражения, за выигрыш которого мы платили тысячами человеческих жизней; и после этого мне стало казаться, что никакая война не оправдывает таких утрат и никакие государственные и национальные интересы не стоят таких жертв; но я всегда был склонен вносить принципы индивидуальной морали в анализ общих событий, и, несмотря на то, что я знал ошибочность и бессмысленность этого метода, мне никогда не удавалось от него окончательно отказаться.
Начиная свою работу в чужой стране, зная, что мне придется жить все время под фальшивыми именами и много путешествовать, я представлял себе это существование полным ежедневных опасностей. В действительности это оказалось не так, и на основании длительного опыта я пришел к убеждению, что опасность такого рода деятельности, в общем, значительно преувеличивается. Те книги об этом, которые мне приходилось читать, содержали в себе описания явно вымышленных событий, они не могли происходить так, как это излагалось и в общем были так же фальшивы и умышленно далеки от истины, как громадное большинство книг о войне. На самом деле все происходило гораздо проще и легче, чем это обычно кажется неподготовленному человеку. Легкость такого порядка объясняется многими факторами, которые, почти все, поддаются приблизительному учету; и главный из них: большинство людей вообще склонно верить тому, что им рассказывают; кроме того, почти все соблазняются возможностью мгновенного заработка, и, в сущности, этих двух вещей было бы достаточно, чтобы обеспечить возможность сравнительно безопасной работы.
Я не касаюсь сейчас других соображений, столь же убедительных, сколь и неопровержимых, почти полную непогрешимость которых я имел возможность проверить много раз. Одним словом, все шло совершенно благополучно, и, в частности, та неудача, которая едва не стоила мне жизни, произошла всецело по моей вине; при сколько-нибудь менее небрежном отношении к делу с моей стороны, значительная часть риска была бы сведена к ничтожному минимуму, которым свободно можно было пренебрегать. Это был единственный отрицательный опыт за все время моей работы. И помимо всего, мне, конечно, очень помогало то обстоятельство, что никто из обитателей страны, где происходила моя работа, никогда бы не заподозрил во мне иностранца. Я упоминаю об этом потому, что это было результатом не зависящий от меня случайности и ни в коей мере не могло быть поставлено мне в заслугу.
Среди всех людей, с которыми мне приходилось сталкиваться, был только один человек, вызывавший у меня постоянное опасение. После первой же встречи с ним я испытал нечто вроде инстинктивной и почти бессознательной настороженности. Я угадал в нем противника сразу, как только увидел его и услышал его голос; это было похоже на то, как во время любительского чемпионата бокса, я почувствовал опасность, выйдя в полуфинал и оказавшись на ринге против моего противника. Я почувствовал эту опасность почти бессознательно, потому что внешний вид его не давал, казалось бы, никаких особенных оснований для этого; он был легче меня почти на кило, ниже меня ростом и руки его были короче моих. И все-таки ощущение которое я испытал тогда, меня не обмануло – потому что это был самый утомительный и самый мучительный матч в моей жизни, который мне, ценой нечеловеческих усилий, удалось всего только свести вничью.
Такое же ощущение опасности я испытал в тот день, когда в одном из больших кафе города, где я бывал очень часто, меня познакомили с Янсеном. Он говорил, что он норвежец; я лично думаю, он был эльзасцем, хотя категорически я не мог бы это утверждать. Он был приветливым, добродушным и веселым человеком, но я неоднократно замечал его пристальный и свирепый взгляд, от которого мне всякий раз становилось не по себе. Я знал, что он следит за каждым моим шагом и ждет первого удобного случая, чтобы атаковать меня, собрав максимум козырей для того, чтобы это было успешно. Я никогда не сомневался: только своевременное вмешательство Эрмита спасло меня от него в тот день, когда я был так тяжело ранен; мне даже показалось, что в толпе людей на вокзале того маленького городка, откуда я уезжал утром – и где мое присутствие было бы полнейшей неожиданностью для всех, кого я знал, – я заметил знакомую широкую спину в светлосером пиджаке, которого, впрочем, я не видел на Янсене никогда, ни до, ни после этого.
Я знал, что он стоял во главе государственной организации, во всем похожей на ту, в которой состоял я, – только с другой стороны; но неопровержимых доказательств у меня не было. Круг его знакомств был чрезвычайно широк. Попытки его устранения уже стоили жизни многим людям. Эрмит знал его так же хорошо, как и я, но до самого последнего времени нам ничего не удавалось с ним сделать. Незадолго до того, как наступили те события, которые являются предметом этого рассказа, я еще раз убедился в том, в какой степени его осведомленность о моих действиях была велика; ночью, на мосту, который я проходил, я был задержан патрулем – он должен был совершать свой обход ровно на полчаса позднее и его появление здесь в этот час никак не могло объясняться случайностью. Обстоятельства были таковы, что я не мог позволить себя обыскивать ни при каких условиях, не рискуя подвергнуть смертельной опасности людей, жизнь которых зависела от одной моей оплошности. Мне пришлось прибегнуть к револьверу и удалось выбить первым же выстрелом фонарь из руки патрульного офицера; после короткой борьбы я спрыгнул вниз, в холодную воду реки и проплыл около трехсот метров до ближайшего моста, под которым просидел всю ночь рядом с какой-то нищей старухой. На мое счастье, расчет, который я сделал, оказался верен: меня искали в другой стороне, так как патрульный офицер ошибочно предположил, что я не поплыву против течения; и, зная, что он будет думать именно это, я направился в противоположную сторону, хотя плыть против течения, не сбросив с себя ничего, кроме шляпы, мне было очень трудно, и я потратил на это гораздо больше времени, чем это казалось необходимым на первый взгляд. Но это был, в конце концов, сравнительно незначительный инцидент; я никогда не преувеличивал его значения. Я полагаю, что и Янсен слишком хорошо меня знал, чтобы возлагать на ночное приключение особенно преувеличенные надежды; но он не пропускал ни одного случая, даже такого, который представлял собою только риск неудачи. Я имел возможность очень скоро убедиться в том, что его планы по отношению ко мне носили совершенно иной характер.
За исключением чрезвычайно редких случаев моей жизни, мне никогда не приходилось оказываться в положении человека, поступки которого продиктованы каким-нибудь сильным чувством, мгновенно его охватившим. Я никогда не знал ни особенно бурных страстей, ни совершенно непреодолимых ощущений. Эта своеобразная душевная бедность, благодаря которой я нередко оказывался в невыгодном положении по сравнению с людьми, чьи быстрые и сильные эмоции были противоположны моей природной чувственной пассивности, имела, однако, свои положительные стороны; в числе их было отсутствие страха во всех его видах, за исключением страха чисто метафизического. Я помню, что знаменитая фраза Паскаля – c'est le silence kernel des espaces infinis qui m'effrais[31] – была мне всегда необыкновенно понятна. Но вне этого абстрактного представления моя практическая фантазия была слишком бедна, чтобы воссоздать хотя бы воображаемый ужас какого-нибудь положения, в которое я мог бы попасть. Опыт доказал мне, что всякая опасность, даже кажущаяся совершенно очевидной, всегда или почти всегда бывает преувеличена и может быть избегнута или значительно уменьшена, если предположить, что человек, который ей подвергается, сохраняет при всех обстоятельствах элементарную ясность мысли и возможность нормально действовать. Я не знаю, каким образом Янсен догадался об этом моем недостатке.
Я всюду инстинктивно опасался Янсена; но, конечно, если бы мне пришлось столкнуться с ним один на один, я уверен, что первым из нас, кто был бы способен сделать хоть одно неосторожное или необдуманное движение, оказался бы все-таки именно он, а не я. Но в тот момент, когда это неизбежное столкновение, наконец, произошло, ни одному из нас не пришлось воспользоваться никакими своими преимуществами – в силу совершенно неожиданных и непоправимых причин, исключавших как с его, так и с моей стороны какую бы то ни было возможность действия.
Последовательность событий во все эти дни отличалась, как мне казалось тогда, совершенно неудержимым ритмом, который почти не поддавался нормальному контролю. Может быть, этим и объяснялось опоздание в моих поступках, приведшее меня к катастрофическому положению – о нем я говорил в начале этого рассказа, – и по сравнению с ним даже беззащитное положение моих соседей казалось почти завидным.
Все это началось с того, что на улице однажды меня остановила очень бедно одетая женщина, ведшая за руку девочку лет шести, и спросила, не могу ли я ей чем-нибудь помочь; она только что бежала из города, совершенно уничтоженного бомбардировкой. Взглянув на нее, я подумал, что если бы она не была так плохо одета, так грязна и если бы свалявшиеся ее волосы были как следует причесаны, она могла бы быть недурна собой. Ей было, я полагаю, около тридцати лет. Я предложил ей деньги, она поблагодарила меня, взяв их, и спросила, не могу ли я ей дать что-нибудь из теплой одежды, хотя бы шерстяную или вязаную фуфайку, если не для нее, то для девочки. Я вспомнил, что у меня в квартире было много ненужных мне вещей такого рода. Мы отправились с ней туда. Там я оставил девочку в кабинете и прошел в сопровождении этой женщины к шкафу, находившемуся в коридоре, откуда я достал то, что ей было нужно. Это все продолжалось около шести минут. После этого мы вместе вышли на улицу, так как мне нужно было уходить.
Когда я вернулся ночью домой, я сделал открытие, которое сводило на нет всю мою длительную работу и губило с совершенной неизбежностью меня и всех моих сотрудников, их было девятнадцать человек. Это открытие заключалось в том, что подробная шифрованная инструкция, которую я получил ранним утром этого дня – в ней фигурировали все имена моих товарищей и вся программа их действий на ближайшее время, – бесследно пропала из ящика моего письменного стола. Мне стало ясно, как все произошло, – и я тотчас же отправился на розыски этой женщины.
Единственная моя надежда была на то, что до тех пор, пока мне удастся получить мою бумагу обратно, – я должен был найти ее, чего бы мне это ни стоило, – ее не успеют расшифровать. Я знал: в моем распоряжении осталось ровно двое суток. Я не мог не подумать при этом еще раз о бесконечных вариантах и возможностях того условного закона причинности, абсолютная ценность которого мне всегда казалась недостаточно доказанной – в чисто философском смысле. Но на этот раз я думал не об абстрактном его аспекте, а о том, что вся моя деятельность последнего времени была предопределена известным количеством виски и глупостью Элен – как и катастрофа (которой, по всей видимости, эта деятельность должна была кончиться), вызванная случайным сочувствием к бедной женщине и к решившему все – о чем я до сих пор не успел упомянуть – светлому и жалобному взгляду этих детских глаз на лице ее шестилетней спутницы. И именно это предопределило, если бы не случилось чуда, мучительную смерть двадцати человек. Такова была цена, которую я должен был заплатить за то, что на минуту отвлекся от очень важных вещей, чтобы погрузить свой взгляд в заплаканные глаза на нежном лице этой маленькой девочки.
После того, что произошло, мне было ясно, что я бы даром потерял время, если бы искал эту женщину среди людей, пострадавших от войны и нашедших себе временный иллюзорный приют в этом городе. После долгих усилий я вышел, наконец, на ее след; и после полицейского часа я действительно увидел ее. Это было в одном из четырех или пяти кабаре города, открытых ночью. Я сразу ее узнал, несмотря на то, что она была меньше всего похожа на пострадавшую от бомбардировки. Она сидела за столиком одна; она была в черном вечернем платье, на ее шее было прекрасное жемчужное ожерелье. В одном я ошибся: она не была хороша собой, как мне это показалось, когда я ее встретил на улице. Но это было соображение совершенно второстепенного порядка.
Я подошел к ее столику, сел против нее – она испуганно отодвинулась назад – и сказал ей, что если я не получу обратно то, что у меня пропало, в течение ближайших двенадцати часов, она будет убита независимо от того, как вообще развернутся события.
Если бы у меня было время, я бы действовал по отношению к ней осторожнее; но именно времени у меня не оставалось. Вся сложная система моей работы, мои давние и прочные связи с оккупационным командованием, которое понимало, что имеет все основания мне доверять, – все неминуемо должно было рухнуть после того, как будет расшифрована адресованная на мое имя бумага и когда Янсен, собрав неопровержимые улики, будет иметь наконец возможность действовать против меня прямым путем, как против явного врага своей страны и главного агента враждебной армии.
И в эту минуту к нашему столику подошел Янсен, который очень радушно со мной поздоровался и заказал бутылку шампанского. По нескольким словам, по некоторым его интонациям я понял, как мне показалось, что бумага еще не расшифрована. Но это только немного задерживало мою гибель. В данную минуту мне оставалось только уйти. На всякий случай я посмотрел вокруг себя и увидел несколько человек, которых хорошо знал, – они принадлежали к личной охране Янсена; он всегда избегал излишнего риска. Я ждал доклада нескольких моих товарищей, которые в это время должны были работать в квартире Янсена, но, как я и предполагал, бумаги там уже не было. Я имел все основания думать, что она уже передана в главное бюро организации Янсена, охранявшееся целым отрядом войск.
Мне оставалось применить единственное и отчаянное средство – предупредить обо всем, что произошло, мое начальство, от которого зависело ускорить точно рассчитанный ход событий на одни сутки. Я не был уверен в том, что это возможно: это было сопряжено с очень сложными движениями, в которых участвовали сотни тысяч людей. Но я не видел другого выхода – и в три часа ночи отправил одного из моих товарищей с этой миссией, от которой зависело наше спасение и на успех которой я почти не надеялся. Действительно, я очень скоро получил лаконический ответ, не оставлявший никаких сомнений по этому поводу, и в нем напоминалось, что вещи, рассчитанные и подготовленные за много месяцев вперед, не могли быть передвинуты с такой же простотой, как часовая стрелка. Всякая возможность отступления была отрезана и для меня, и для моих товарищей – мы должны были во что бы то ни стало оставаться в городе, так как от нашего присутствия здесь зависело слишком многое в общем ходе событий.
И мы оставались здесь. Проходили долгие часы, но, вопреки моим ожиданиям, мы еще были живы. Я не знал тогда причины этого непонятного замедления, но знаю точно, что это была именно задержка, а никак не изменение нашей судьбы, на которое мы не могли рассчитывать ни при каких обстоятельствах. Причина выяснилась значительно позже: человек, которому была поручена расшифровка бумаги, скоропостижно умер, не начав своей работы, он был отравлен своим поваром, его личным врагом, совершенно посторонним для нас человеком, не подозревавшим о существовании бумаги. Но как только его смерть стала известна, бумага попала в руки Янсена, который сам лично занялся расшифровкой; я знал, что его познания в этой области не уступали познаниям профессионала. Это произошло ночью, а с рассветом должен был начаться наш последний день.
Я был точно осведомлен о планах нашего командования. Линия фронта, медленно продвигавшаяся к этому городу, должна была стремительно измениться таким образом, что, не будучи ни атакован, ни взят, город остался бы в тылу наступающих войск, в центре пространства в сто квадратных километров, в том самом «кругу смерти», на создание которого были посланы многочисленные эскадрильи бомбардировочных аппаратов, приблизительно по одному на десять квадратных метров. Эта атака должна была начаться в шесть часов вечера, именно в последний день. У Янсена, таким образом, оставалась вся ночь и все время до шести часов пополудни, которого было более чем достаточно для безвозвратного решения нашей участи.
Таковы были те соображения, которые занимали меня в эту весеннюю ночь, когда я пришел в небольшой особняк северной окраины города, купленный мной на имя одного из моих убитых знакомых. Я был достаточно хорошо вооружен, чтобы выдержать длительную осаду, если бы дело происходило в прежние, романтические времена. Теперь же я был даже лишен возможности строить хотя бы отдаленные иллюзии по этому поводу, потому что знал так же хорошо, как и те, кому должна быть поручена атака, что одной гранаты будет достаточно, чтобы свести на нет все мои теоретические возможности сопротивления.
Я сидел в кресле, пил кофе и думал о всевозможных вещах, преимущественно о законе причинности и о той чудовищной нелепости всего происходящего, которая не могла вместиться ни в какое необычное воображение. В эти минуты на поверхности огромных пространств двигались миллионы людей разных национальностей, ежеминутно разрывались бомбы и снаряды, и это неудержимое движение не могло быть остановлено никакой силой. Все это было тем более нелепо, что, с любой человеческой точки зрения, это бесчисленное множество смертей в таких-то и таких-то пунктах земного шара не имело ни малейшего смысла и никакой цели. Это было так даже в чисто военном смысле – война все равно была выиграна, и ничто уже не могло изменить ее исхода; и то, что происходило теперь, было только выполнением каких-то адских и беспощадных формальностей истории, совершенно ненужных и преступно бесполезных.
Мне до сих пор представляется непонятной та ускользнувшая от меня ассоциация, в силу которой мне вдруг вспомнились некоторые шекспировские персонажи, и я подумал, что в эту секунду Ромео мог бы задыхаться в потопленной подводной лодке, Отелло – быть сбитым со своим аэропланом и гибнуть в слепом падении, в дыму и огне загоревшегося аппарата. И личная моя судьба мне казалась совершенно незначительной по сравнению с тем, что происходило.
В конце концов, если предположить, что в человеческой жизни допустима какая-то гармоническая последовательность, было ясно: все, что я делал до сих пор, не стоило никакого труда, если оно должно было кончиться так, как это мне казалось неизбежно, и что в таком случае об этом не стоило жалеть. Я был совершенно готов к смерти и тогда впервые подумал, что в этом насильственном и стихийном прекращении жизни должен быть тоже какой-то соблазн, который до сих пор ускользал от меня, наверное потому, что моя фантазия была слишком бедна, чтобы позволить себе роскошь таких представлений.
В городе стояла необыкновенная и казавшаяся мне смертельной – как почти все в ту ночь – тишина. Я знал: ничто не должно было прервать ее – таковы были планы командования. Далеко на улице прозвучали шаги кованых сапог, это шел патруль; может быть, Янсен уже кончил свою работу, и эти люди направлялись ко мне.
И вдруг в эту минуту завыли сирены. Это было настолько неожиданно, что я встал с места, потушил свет и подошел к окну. В небе, освещенном луной, летели эскадрильи наших аэропланов, державшиеся на небольшой высоте. Их число было настолько велико, что их появление здесь не могло быть объяснено ни ошибкой, ни случайностью. И через несколько секунд началась бомбардировка; я не мог уже не верить тому, что произошло то изменение, о котором я тщетно просил мое начальство, и атака началась ровно на семнадцать часов раньше, чем это должно было произойти.
Она продолжалась с незначительными перерывами всю ночь и почти не оставалось пространств, которые бы не были объяты упорным пламенем, не поддающимся тушению. Впрочем, размеры рейда были таковы, что о сколько-нибудь организованных действиях населения не могло быть и речи. Это была ночь с субботы на воскресенье и город был наполовину пуст; кроме того, в силу странного и часто наблюдавшегося парадокса в эту войну, в то время как люди из пострадавших краев стремились сюда, местные жители уже давно начали постепенную эвакуацию. В результате этих сложных факторов в городе оставалась приблизительно треть его населения. Большинство этих людей погибло.
Мимо разбитых окон моего дома, который до сих пор еще не был задет, проходили, в дыму и в тусклом тумане огненной пыли, призрачные и беззвучные силуэты; мне запомнилась фигура седого человека в голубой пижаме, по-видимому совершенно обезумевшего; он шел быстрой походкой – и если бы не его костюм, то по слепой и машинальной уверенности и быстроте его движений можно было подумать, что он идет по важному и спешному делу; он нес перед собой, крепко сжав пальцами, женскую руку с золотым браслетом на запястье. Через минуту мимо меня тяжелым карьером проскакал огромный вороной конь с чудовищно обгоревшей гривой и хвостом, что ему придавало неожиданно голый вид. Недалеко, в середине улицы, где находился мой дом, бурно пылали, окруженные огромными обломками стен, грузовики неприятельской армии; один из них был поднят силой взрыва на уцелевшие чугунные ворота небольшого дома и горел наверху, издали напоминая зажженную спичку.
В течение долгих часов нельзя было выйти из дому. Вместе с тем я знал, что этот город не являлся главной целью бомбардировки и в намерения наших эскадрилей не входило его уничтожение. Но число аэропланов было так велико и количество сброшенных бомб настолько значительно, что все это – и к тому же невольная инерция этих тысяч аппаратов и тысяч тонн взрывчатых веществ – все это само собой представляло такую огромную и стихийную силу, что точный учет необходимых разрушений был просто человечески невозможен.
Я думаю, что для людей с недостаточно крепкими нервами, оставшихся невредимыми после этого дня, он должен был представляться до конца их жизни как непреодолимое видение ада. После того, как кончилась бомбардировка, шум не прекратился, но стал более отрывистым и разнохарактерным. Взрывались время от времени бомбы, снабженные замедлителями; неровно гудело пламя и по мере того, как горячий воздух поднимался наверх, освобождая небольшой слой пространства непосредственно над землей, туда врывался целый ураган холодной атмосферы, кативший по улицам мелкие камни и хлопавший уцелевшими окнами тюрьмы.
Через два часа после конца бомбардировки раздался телефонный звонок. Это могло показаться удивительным в городе, где, конечно, не было уже давно ни электричества, ни воды, ни, тем более, телефона. Но у меня давно были заготовлены – так же, как у моих корреспондентов – аккумуляторы и подземные провода. Мне звонил человек, которого звали условным именем «Дракон»; настоящая его фамилия не имела значения. Он сообщил, что вся работа, которую я поручил ему и его подчиненным, выполнена, что эвакуация почти всего оккупационного гарнизона благодаря этому не удалась и главный штаб его, тот самый, куда Янсен передал вначале мою бумагу, был взорван со всем персоналом через десять минут после начала бомбардировки.
«Дракон» был заблаговременно предупрежден мной об опасности, которая ему угрожала так же, как всем нам, но это не произвело на него особенного впечатления ни тогда, когда я ему это сообщил, ни после.
Он спрашивал у меня дальнейших инструкций для него и его товарищей. Я велел ему передать всем мою благодарность за выполненную работу, сказал, что наша задача кончена и мы все должны встретиться через пять дней, в восемь часов утра, в таком-то месте одного из прибрежных городов нашей родины. Он сказал: «Спасибо, шеф». И повесил трубку.
Может быть, потому, что я не спал в общем около тридцати четырех часов подряд, может быть оттого, что длительное и напряженное ожидание смерти вдруг так внезапно прекратилось, я сразу же после этого телефонного разговора заснул так быстро и так крепко, что это было похоже на мгновенную потерю сознания. Я не успел даже подняться с кресла, в котором сидел, и лечь на диван, что было удобнее и естественнее, чем спать сидя. Я это сделал позже, через несколько часов, в полусне, не отдавая себе, как следует, отчета в том, что происходит; но во всяком случае, когда я проснулся, я лежал на диване, накрытый теплым одеялом; было около девяти часов утра, и сквозь серо-красный туман, висевший над городом, уже давно светило весеннее солнце.
Я привел себя в порядок, умылся, побрился, выпил горячий кофе, остававшийся в моем термосе, съел несколько бутербродов с успевшим зачерстветь хлебом, закурил папиросу и вышел, наконец, из того дома, где тщетно ждал своего конца в течение такого долгого времени.
Я никогда не забуду, мне кажется, того путешествия через мертвый город, и даже не потому, что меня ждала непредвиденная и последняя встреча с тем, кого я не думал уже увидеть, сколько оттого, что весь ад этого разгрома и умирания, весь непреодолимый ужас этого беспощадного разрушения, я видел тогда как будто бы впервые. Это было тем более удивительно, что я очень много раз был свидетелем не менее бурных рейдов нашей авиации, и в сущности то, что я видел сейчас, не очень отличалось от того, что я видел раньше, и на это я смотрел спокойными глазами. По-видимому, это объяснялось каким-то внезапным изменением моего личного состояния, происшедшим именно в последний день.
Может быть, это было потому, что теперь, когда все это кончено, мои чувства вновь обрели ненужную и трагическую свободу, и я впервые отчетливо увидел со стороны, как я иду по нагроможденным обломкам, в серовато-красном тумане, как сквозь чей-то неправдоподобный и длительный кошмар. Мне кажется тогда, что я шагаю через какое-то безмолвное кладбище целого мира или даже множества миров, если считать, что каждое человеческое существование заключает в себе бессознательную сложность чувств, ощущений, надежд и воспоминаний и всех тех промежуточных состояний между этими понятиями, для которых мы еще не знаем слов на нашем языке и совокупность которых, в каждом отдельном случае, тоже представляет собою целый мир, как мир Шекспира или Достоевского, Микеланджело или Бетховена.
Я давно знал за собой эту склонность – тем более странную, что я не обладал ни воображением, ни изобретательными способностями – к бесплодным отвлеченным рассуждениям, имевшим ту непременную особенность, что они всегда были в сущности безотрадны; но никогда она не проявлялась во мне с такой силой, как теперь, когда я проходил по этому городу. Может быть, война уже была кончена в эти часы; больше суток я не знал никаких новостей. Но так или иначе, я думал, что несмотря на те изменения, которые они должны были за собой повлечь, она была совершенно напрасна; и я помню, что мне казалась в эти минуты особенно унизительной для человеческого сознания та, надо полагать, недалекая от истины мысль, что всякая война вообще есть не столкновение между правительствами и не борьба за международные рынки или те или иные государственные и политические концепции, а следствие слепого и непреодолимого биологического закона, похожего в своей животной неумолимости на инстинкт размножения и демографические кривые или инстинкт самосохранения, непонятным образом заключающий в себе инстинкт постоянного и беспощадного уничтожения.
Теперь в городе стояла совершенная тишина. Я понял тогда впервые, что значит выражение «мертвая тишина», которое я читал тысячи раз в разных книгах и которое никогда не производило на меня никакого впечатления. И вот, в этой тишине до меня донесся откуда-то снизу, как мне показалось, чей-то отдаленный и предсмертный хрип. Я остановился и прислушался. Этот звук выходил из огромной дыры в том, что раньше было мостовой. Я подошел вплотную и заглянул вниз. Это была, по-видимому, воронка тяжелой бомбы. По срезанным краям ее торчали исковерканные обрезки водопроводных труб. Внизу, на глубине шести или семи метров, медленно умирал какой-то человек. Рядом с ним лежала неподвижная черная масса, точных очертаний которой я не мог разобрать. Я хотел пройти дальше; но в эту секунду хрип сказал на моем языке: «Помогите!» Тогда я начал спускаться вниз, хватаясь за эти обрывки труб и рискуя сорваться каждую секунду.
Наконец, мои ноги почти коснулись земли, я находился в трех метрах от человека, звавшего на помощь, – и подошел к нему. И то, о чем за секунду до этого я не мог бы подумать, настолько это было невероятно, оказалось именно так: во всю длину своего огромного тела, в изорванном и залитом кровью синем костюме, передо мной лежал Янсен. То, что я принял сверху за бесформенную черную массу, был труп его спутницы: ее голова была совершенно обезображена, но я узнал ее вечернее платье и жемчужное ожерелье на шее.
Одного взгляда на Янсена было достаточно, чтобы понять: ему оставалось жить, быть может, несколько секунд. Он сделал над собой еще одно усилие и попросил воды. Я ничем ему не мог помочь, у меня ее не было.
– У меня нет воды, – сказал я.
Тускневшие глаза его молча смотрели на меня, он продолжал хрипеть.
– Я очень жалею об этом, – сказал я. – Я жалею вообще обо всем, что произошло. Но все-таки то, что вы умираете, а я жив, это случайность, и в конце концов это не имеет значения. Я был так же готов к смерти, как вы.
Но я остановился, увидев, что он уже не слышал моих слов. Он мучительно уходил от меня сейчас, как ушла некоторое время назад эта женщина, труп которой лежал рядом с ним и которая так напрасно рисковала из-за него жизнью в тот день, когда встретила меня.
Не знаю почему, но мне было тяжело при мысли о том, что я не мог ему дать воды, хотя, конечно, никакая вода, никакой океан воды уже не могли его спасти. Он умер через минуту на моих глазах.
Обыскивая его карманы, я с удивлением увидел, что раны, вызвавшие смерть, были от четырех револьверных пуль, попавших ему в грудь и в живот. Его спутница была тоже убита револьверной очередью, разряженной ей в голову на довольно близком расстоянии.
Только через пять дней я узнал, кто стрелял в них и с такой безошибочной и яростной точностью. Это был «Дракон»; он забыл мне, как он сказал, передать это по телефону во время нашего последнего разговора: он увидел Янсена, который проходил по улице вместе со своей спутницей, позвал его и, когда они оба к нему повернулись, убил их обоих из револьвера и видел, как они провалились точно под землю. Он выразился именно так, потому что оттуда, где он стоял, воронка разрыва была не видна; тогда стоял вообще еще густой огненный туман. Он только был уверен в том, что не промахнулся, так как это вообще было для него нехарактерно.
В боковом кармане Янсена я нашел две аккуратно сложенные бумаги; одна из них была густо залита кровью, это была моя инструкция, украденная у меня маленькой девочкой; вторая – ее полная и ясная расшифровка, сделанная рукой Янсена, с размашисто приписанными внизу словами: «допросить и расстрелять».
Я молча еще раз посмотрел на труп этого человека, смерть которого вернула мне так неудержимо ускользавшую от меня мою жизнь, потом перевел глаза на декольтированное вечернее платье этой женщины, открывавшее начало ее навсегда потерявшей свою прелесть груди; оно обтягивало все ее тело очень правильной и чистой формы; я оторвал конец этого черного шелка и закрыл им голову Янсена и лицо этой женщины. Потом я выбрался наверх и ушел.
Мне удалось найти чудом уцелевший автомобиль, на нем я проехал – на север, по направлению к побережью несколько десятков километров; в первой деревне, к которой я подъезжал, звонили, не переставая, колокола, отчаянным, непрерывным звоном; и прохожий, которого я спросил о причине этого звона, посмотрел на меня с изумлением и ответил, что прошлой ночью, в девять часов без десяти минут, радио сообщило, что только что был подписан мир.
17. Х.3.
<Профессор математики>*
Я был как-то осенью в баварском лесу. В нескольких шагах от меня, через тропинку, по которой я шел, перебежала белка, взобралась на ближайшее дерево и начала свой сложный и бесшумный полет по ветвям. Она нередко прыгала на такие тонкие ветви, которые не могли выдержать даже ее незначительного веса, и, почти отталкиваясь от них, перелетала дальше – и я следил глазами за ней до тех пор, пока, взмыв по вертикальной линии вверх, она не скрылась в густых листьях.
Я потом старался вспомнить – о чем я думал в это время? Вероятнее всего, ни о чем. И только несколько позже, пройдя двести или триста метров от того места, где я потерял ее из виду, я подумал, что есть множество воспоминаний, которые так и не доходят до сознания. Где-то, когда-то, в страшнейшей дали времен, я знал нечто, что напомнил мне полет белки, – эту легкость, эту безошибочную точность движений, этот короткий вызов воздушному пространству, вызов, по сравнению с которым движения цирковых акробатов кажутся медленными и тяжелыми. Но, конечно, никакие усилия воображения не могли мне помочь в этой заранее обреченной на неудачу попытке – найти что-то, что я мог бы сказать теми словами, которые я знал, – о том, что моя человеческая память была неспособна мне вернуть. Я думал: насколько люди неловки в своих движениях, – во всяком случае, огромное большинство людей. И вот когда я подумал об этом, именно о неловкости человеческих движений, – я вспомнил одного профессора математики, которого я знал и судьба которого была не совсем обычна.
Я увидел его впервые в Греции, в том русском военном лагере, который представлял из себя остатки армии генерала Врангеля. В строю стоял седой человек в пенсне, в мешковатой зеленой рубашке и синих штанах галифе из той материи, которая называется «царской диагональю». Генерал, который обходил строй, седоусый мужчина с мутными и пьяными глазами, подошел к нему, пожал ему руку и поздоровался с ним.
Я никогда не видел до того, чтобы генерал пожимал руку солдату в строю. Потом я заметил, что к этому человеку все офицеры относились с непонятной почтительностью. Когда я спросил, кто он такой, мне ответили, что это доброволец, профессор математики и, в частности, автор книги «Победный марш». Мне сказали, что он поступил в добровольческую армию, на бронепоезд, чтобы воевать против коммунизма. Но его явная физическая несостоятельность не позволила ему стать ни пулеметчиком, ни артиллеристом. Поэтому на фронт он не ездил, а остался в тылу, где и написал свою книгу.
Я думаю, что этот человек, вероятно, меньше всего боялся фронта и опасности. Но в армии как солдат он был совершенно не нужен. С другой стороны, он не мог оставаться совершенно в стороне от тех исторических событий, ход которых, по его мнению, должен был быть изменен во что бы то ни стало. Поэтому он начал писать свою книгу.
Мне было тогда шестнадцать лет, моим товарищам немногим больше, – и нас поражала, в этом жестоком лагерном быту, беспомощность профессора и его необычная для нас манера говорить, простодушная и подчеркнуто интеллигентская.
Однажды я увидел на его штанах царской диагонали глиняное рыжее пятно с причудливо очерченными краями:
– Что это у вас, Владимир Христианович?
– Я, знаете, недавно как-то поскользнулся и прямо сел на землю. Это было после дождя. Вы, вероятно, заметили, что почва здесь глинистая. И вот, как видите, осталось это пятно.
Я спросил, когда это было, он сказал, что недели две тому назад.
– И вы с тех пор не почистили брюк?
– В этом нет необходимости, – сказал он. – По мере высыхания глина постепенно осыпается. Я не вижу пятна, так как оно сзади, но предполагаю, что уже сейчас оно значительно бледнее, чем вначале. Пройдет еще некоторое время, и оно исчезнет само собой.
Он был очень близорук, меня поражала толщина стекол его пенсне. Когда он снимал пенсне, привычно беспомощное выражение его лица становилось напряженным.
Он и там, в лагере, писал какую-то книгу, не помню под каким названием. Нарядов он не нес никаких. Вначале он не обращал на это внимания, но потом вдруг заметил, что пользуется в этом смысле какой-то особенной привилегией, о которой он никогда никого не просил. Тогда он отправился к командиру батареи и заявил, что он такой же солдат, как и все, и хотел бы, чтобы его посылали в наряд так же, как остальных. Командир батареи пожал плечами и сказал, что просьба его будет исполнена. На следующий день фамилия профессора стояла в списке тех, кто был должен идти в наряд за дровами для полевой кухни.
Это было не так просто. Колючий, вечно зеленый кустарник был давно вырублен вокруг лагеря, и за ним приходилось идти довольно далеко, километров шесть-семь. Дорога шла через холмы, и в довершение всего надо было переходить вброд небольшую реку, через которую, на всем ее протяжении, не было ни одного моста. Топоров у нас не было, приходилось рубить кустарник огромными прямыми палашами. Нарубленные ветки туго стягивались веревкой, и эту вязанку нужно было принести в лагерь. Для этого чтобы поспеть вовремя к чаю, приходилось вставать в четыре часа утра.
И вот профессор отправился за дровами, неся в руке палаш – так, как он нес и слишком тяжелый, и слишком длинный зонтик. Был холодный день поздней осени. Все давно вернулись, давно уже прошел завтрак, а он все не возвращался. Мы уже начали бояться, не заблудился ли он. С Дарданелл дул ветер, пошел легкий дождь, влажно шуршали полотнища палатки.
Он пришел чуть ли не в сумерки, промокший и едва живой от усталости – и принес с собой две небольших ветки с колючими листьями. Мы вышли ему навстречу.
– Что с вами случилось, профессор?
– Вы знаете, – сказал он со своим обычным простодушием, – сначала все шло хорошо, товарищи мне помогли нарубить кустарник и стянуть вязанку веревкой, и она, знаете, показалась мне не особенно тяжелой. Но потом она становилась все тяжелее и тяжелее. Я вспомнил закон Вебера – Фехнера.
Он запнулся на минуту, подумав, вероятно, что вряд ли его собеседники – большинство были простые солдаты – знают закон Вебера – Фехнера, и прибавил:
– Вы помните: раздражение растет как логарифм ощущения. Я стал постепенно выбрасывать ветку за веткой, – и вот видите, это все, что у меня осталось.
Больше его в наряд не посылали. Он так и жил один, все сидя за своим столиком, с карандашом в руке, аккуратно дописывая каждую страницу своей новой книги. Затем через некоторое время его произвели в подпоручики артиллерии, и он утром явился в нашу палатку, звеня огромными шпорами. На его рубашке были пришиты офицерские погоны. Не представляю себе, чем могло быть мотивировано его производство в офицеры – может быть, литературными заслугами. Хотя как будто в суровых и суконных текстах воинского регламента не было никакого упоминания об этой причине производства. Но это производство доставило ему детское удовольствие – и мы были рады за него.
Он дал мне однажды свою книгу и посоветовал ее прочесть, сказав, что вряд ли я ее пойму, как нужно – потому что я очень молод и невежественен, но все-таки она может мне принести некоторую пользу. Я бы дорого дал теперь, чтобы найти ее где-нибудь. Она была очень плохо написана с неизменным и удивительно дурным вкусом. После очередного отхода Добровольческой армии он приводил свое собственное стихотворение <…> «Алуштинские стихи» – о какой-то арфе, на которой было три струны. И вот две струны порвались, но осталась третья, которую он, насколько я помню, «рвал бестрепетной рукой».
Что там было еще? Рассуждение об его боевых товарищах, молодых людях, не знающих, за что они воюют. Он писал о разнице между ним и этими добровольцами, о том, что они не успели усвоить ту культуру, которую он защищает против большевизма.
Какую культуру защищал этот смешной и беспомощный человек? Несколько физических формул и провинциальную мелодекламацию о струнах на арфе? Я думал об этом тогда, когда прочел его книгу, но даже в те времена у меня не хватило жестокости откровенно сказать ему свое мнение.
С тех пор, как перестал существовать этот лагерь на берегах Дарданелл, я больше никогда не видел профессора. Он жил в балканской глуши и писал, кажется, статьи в какой-то тамошней русской газете – мне не пришлось читать ни одной из них. Когда началась война, ему было, вероятно, под шестьдесят. Но он сейчас же поступил в простые солдаты в русский антибольшевистский корпус, организованный национал-социалистическим командованием после того, как гитлеровские войска вошли в Югославию. И мне кто-то рассказал о его героической и страшной смерти: он стоял с винтовкой на посту, артиллерийский снаряд разорвался под его ногами – и от него буквально ничего не осталось.
И я подумал тогда, что трагический героизм этой смерти придавал всей жизни этого человека тот смысл, которого мы, знавшие его так давно, не сумели увидеть раньше. То, что он любил плохие стихи и писал плохие книги, было неважно. То, что в кратковременном и иллюзорном торжестве преступного и плебейского национал-социализма, он увидел начало освобождения России, – было тоже неважно. Есть люди, которые очень хорошо знают, что такое культура и свобода и у которых не хватает мужества отстаивать их против насилия. Их убеждения кончаются там, где возникает угроза их личной безопасности.
Автор книги «Победный марш», смешной и беспомощный человек, плохо понимал смысл событий, современником которых он был. Но жил он все-таки как герой, – и погиб, защищая ту самую культуру, о которой у него было такое превратное и простодушное представление.
<Капитан Семёнов>*
…каков полет голодного коршуна над бесплодной глинистой землей, огромные звезды в летнем небе, необычайно острый и свежий вкус хлеба, которого всегда было так мало, паруса греческих и турецких шхун на море.
И еще иногда я вспоминал о том, что существуют простыни, кровати, ванны, обеды, скатерти, приборы, все, что так далеко ушло в прошлое и что мне казалось тогда недостижимым символом давно и безвозвратно утраченного благополучия.
И вот в Париже я пришел как-то вечером в гости к одной моей знакомой, преподавательнице пения. У нее была квартира в Париже и небольшое имение около Dreux, в лесу, куда она ездила каждую неделю. Она неоднократно звала меня туда, но мне все как-то не удавалось выбраться из города. Когда я пришел в тот вечер, она сказала мне:
– Знаете, у меня только что был мой сосед по имению, милейший человек, которого я пригласила на обед. Но когда я сказала ему, что вот, сейчас должен прийти один мой знакомый писатель и назвала вашу фамилию, он изменился в лице, у него стали трястись руки, я просто испугалась, и он ушел. Вы можете объяснить мне, в чем дело? что случилось?
– Нет, я себе этого не представляю – самым искренним образом.
– Он говорит, что знал вас раньше, когда вы были солдатом белой армии.
– Как его фамилия?
– Семёнов, – сказала она. – Аркадий Афанасьевич Семёнов. Очень милый, очень порядочный человек. Он живет в маленьком домике, недалеко от нашего имения, у него несколько ульев. Он разводит пчел.
И я сразу вспомнил все, что было связано в моей жизни с этим человеком – лагерь, земля, которую я копал по его приказанию, кустарник, который я рубил палашом для полевой кухни – и дымно-кисловатый вкус жидкого супа, который в нем варился. В течение многих лет я никогда не думал о капитане Семёнове. И вот теперь я понял, что от тех далеких и бурных чувств, которые я испытывал тогда, когда мы с ним встретились, не осталось ничего, кроме непонятного сожаления – то ли о том, что прошло столько лет, то ли о том, что, может быть, он не заслуживал той ненависти, которая была так сильна во мне. Но, возвращаясь домой, поздним парижским вечером, я видел перед собой все то, что было тогда, что <…> проступило, неторопливо пересекая все эти годы, оторвавшие меня от тех времен.
Прошло еще несколько недель, был конец апреля, я собрался наконец поехать в имение моей знакомой. После завтрака я вышел в лес. Я шел по тропинке, прослоенной прошлогодними листьями, было солнечно, безветренно и тепло. Издалека навстречу мне шел высокий человек в синей рабочей куртке. И когда я находился от него в нескольких шагах, я узнал капитана Семёнова. Я сразу узнал его, хотя он очень постарел и изменился за это время.
Он тоже узнал меня и остановился. Я сказал:
– Здравствуйте, господин капитан.
У него был растерянный вид, мне показалось, что он ищет и не находит слов. Потом он сказал наконец:
– Меня зовут Аркадий Афанасьевич. Как Ваши имя и отчество?
Мы пошли рядом с ним по дорожке. Он опять заговорил:
– Я хотел бы вам сказать несколько слов. Я знаю, какие чувства вы ко мне питали. Вы хотели меня убить, не правда ли?
– Теперь мне это кажется невероятным.
– Да, да, хотели, я думаю. Я всегда это знал. Но я говорил себе, что я не имею права действовать иначе. Вы знаете, почему я вас держал под шашкой и почему вы всегда были наказаны?
– Откровенно говоря, нет, не знаю.
– Я хорошо знал вашего батюшку, – сказал он, – и когда я первый раз услышал вашу фамилию, я сразу подумал, что вы его сын. И я считал: то, что вы меня будете ненавидеть, – этому я должен потворствовать. Я полагал, что должен сделать все, чтобы вам помочь.
– Вы меня извините, Аркадий Афанасьевич, я продолжаю не понимать.
– Я вам объясню. Я никогда не видел более недисциплинированного мальчишку. Вы знаете, что вам угрожало?
– Нет.
– Расстрел, – сказал он коротко. – Четыре раза вас отдавали под суд – четыре раза я отстоял вас. Я давал вам наряды вне очереди и ставил вас под шашку, потому что знал, что каждый раз я выигрываю время. Чем меньше вы будете свободны, тем больше шансов, что все кончится без этой трагедии, которую я не мог взять на свою душу. Если бы я действовал иначе, я никогда себе этого не простил бы. К этому меня обязывала память о вашем отце, которого я имел честь считать своим другом. И кроме того, мне было искренно жаль вас. Вот объяснение моей жестокости по отношению к вам – и причина вашей понятной ненависти ко мне.
Я шел рядом с ним задумавшись. Потом посмотрел на него и сказал:
– Я искренне вам благодарен. Но почему вы тогда не сказали мне этого?
– Вы не поняли бы этого и не поверили мне. И это лишило бы меня той свободы действий, которой я не хотел терять, потому что я знал, что от этого зависела ваша судьба.
Потом он прибавил:
– Я читаю ваши книги и все, что вы написали. Я следил за этим, я всегда был рад за вас в том смысле, что ваша жизнь пошла нормально. Я не знаток литературы, мне кажется, что некоторые вещи у вас вышли более или менее удачно, а некоторые очень плохо. Но дело не в этом, а в том, что у вас все-таки положительное начало взяло верх над уголовным.
– Уголовным, Аркадий Афанасьевич?
– Конечно, – сказал он. – Эта судьба могла постигнуть все ваше поколение, выросшее в условиях гражданской войны.
Позднее, в течение нескольких лет я неоднократно бывал в имении моих друзей и каждый раз встречал там Аркадия Афанасьевича. Он работал всю неделю на электрической станции под Парижем и приезжал на свою маленькую пасеку только в субботу днем. Вечером в воскресенье он ехал обратно, в Париж. Так он жил много лет.
Иногда он мне казался бледнее обычного. Я спросил его однажды, как его здоровье.
– Ну, что там здоровье, – сказал он. – Мне под шестьдесят, я свою жизнь прожил. Я умру так же, как умер мой отец – у меня остановится сердце, и все будет кончено.
Когда мы с ним говорили об этом, опять был апрель и снова такой же солнечный и безветренный день в лесу. Кричала кукушка, стучал дятел, остро пах нагретый солнцем высокий муравейник. Летом я уехал на юг, забыв оставить друзьям свой адрес, и вернулся в сентябре. Через два дня после этого я узнал, что Аркадий Афанасьевич умер месяц назад. Умер он именно так, как думал: лег вечером спать – а утром его нашли мертвым. И я подумал тогда, что судьба избавила его от долгих предсмертных страданий – и что в том была не случайная и явная справедливость.
Переворот*
Автомобиль президента республики выехал из города в четыре часа дня, в пятницу второго августа. На его пути движение было заранее остановлено, и через несколько минут, нигде не замедляя хода, машина вынеслась на большую дорогу. Перед ней и за ней ехали мотоциклисты в белых касках и белых длинных перчатках. Дорога была совершенно пустынная. Президент ехал в свое имение, расположенное на расстоянии ста двадцати километров от столицы, на опушке леса. Он был один: его жена, сын, невестка и внучка, которой было четыре года, уже больше недели жили в имении, в ожидании его приезда.
Как это нередко с ним случалось во время путешествия, в аэроплане, поезде, на пароходе или в автомобиле, президент думал о том, что обычно при других обстоятельствах не приходило ему в голову. Он думал, что ему шестьдесят четыре года и что, хотя он ничем не болен, надо считать, что жизнь подходит к концу, во всяком случае она ближе к концу, чем к началу. Он думал, что ему осталось быть на своем посту еще два года, до ближайших президентских выборов, и что он давно решил не выдвигать больше свою кандидатуру. Он закрыл на минуту глаза и увидел свой собственный портрет, тот самый, который висел во всех государственных учреждениях, где он был представлен во фраке со звездой и лентой через плечо и казался гораздо моложе, выше ростом и важнее. На самом же деле он был невысокий, лысеющий человек с постоянным выражением спокойной усталости в глазах. Но тот, кто, взглянув на его лицо, подумал бы, что он видит только старого и усталого человека, кто поверил бы этому выражению его глаз, совершил бы явную ошибку: президент все видел, все помнил и все замечал. Когда ему приходилось выслушивать длинный доклад, в котором было много цифр и ссылок на те или иные факты, это выражение усталости и невнимания в глазах не менялось. Но когда доклад был кончен и президент делал по этому поводу свои заключения, люди, недостаточно знавшие его, с удивлением убеждались, что он все понял, все запомнил и увидел все достоинства или недостатки доклада. То, что было еще одной его особенностью, что он никогда не выходил из себя, не терял хладнокровия ни в каких обстоятельствах и сразу отличал важное от второстепенного, это знали все, кому приходилось иметь с ним дело. Но то, чего не знал никто и что президент тщательно скрывал от всех, это постоянное презрение, которое он испытывал по отношению к большинству подчиненных в государственном аппарате, начиная от министров и кончая депутатами парламента. И за всю свою долгую жизнь он знал только несколько человек, которые действительно заслуживали уважения: в их числе было несколько его единомышленников и почти столько же его политических врагов.
Сейчас, сидя в автомобиле, он думал еще о том, что, в сущности, его политическая карьера была результатом целого ряда случайностей: у него никогда не было ни особенного честолюбия, ни стремления к власти. Все получилось как-то само собой и почти против его желания. Он просто был умнее и способнее большинства своих современников, с ним было легче работать, он никогда не принимал нелепых решений, продиктованных принципами той или иной политической теории, и всегда делал именно то, что нужно и что внушалось ему здравым смыслом, а не так называемыми государственными идеями. Его политические противники обвиняли его в том, что у него не было программы и определенных убеждений, необходимых для всякого человека, занимающего сколько-нибудь значительный пост в стране. Несколько лет тому назад, когда он был назначен министром финансов, лидер оппозиции, выступая в парламенте, обвинил его именно в этом. Он ответил:
– У моего предшественника была прекрасно разработанная политическая программа и вполне определенные взгляды на то, как должна идти экономическая эволюция государства. Я не хочу критиковать ни его программу, ни его экономические концепции. Но я констатирую, что положение нашей страны катастрофично, что никогда не было такого количества банкротств и закрывпшхся предприятий, что безработица достигла угрожающих размеров и наш престиж за границей резко понизился. Нам не нужна программа, продиктованная политическими соображениями, или та или иная экономическая доктрина: нам нужны результаты.
В сравнительно короткое время он этих результатов добился, несмотря на глухое сопротивление большинства министров. Его поддержал только тогдашний президент республики, оказавший ему доверие. Он произвел девальвацию валюты и понизил налоги, что вызвало бурное сопротивление остальных членов правительства, считавших, что это подорвет бюджет и приведет государство к банкротству. Но понижение налогов, сопровождавшееся одновременно повышением жалованья рабочим и служащим, вызвало, наоборот, быстрый экономический подъем, и сумма налоговых поступлений значительно превысила самые оптимистические предположения так называемых экспертов. Это продолжалось год. Потом президент республики погиб в аэропланной катастрофе, правительство сменилось, и он перестал быть министром. На следующих президентских выборах он, собственно против желания, согласился, чтобы была выдвинута его кандидатура, и был избран незначительным большинством голосов.
Пребывание на посту президента было для него крайне тяжелым. Он не любил той обязательной пышности, которая его окружала, телохранителей, которые следовали за ним повсюду, отрядов гвардии, выстроенных там, где он появлялся, огромных комнат и зал президентского дворца. Он убедился очень скоро в том, что ни одному из своих министров он не мог доверять, и было просто невозможно предвидеть те ошибки, которые совершали члены его правительства и которые надо было исправлять.
За два года состав правительства менялся несколько раз, но это не улучшило положения. В конце концов он пришел к убеждению, что правительство почти всегда состоит из людей, большинство которых органически неспособно справиться со своими задачами, и что, по-видимому, это незыблемый закон, борьба против которого невозможна. Но несмотря на это убеждение он продолжал действовать так, как этого требовал его долг, не государственный долг, который он считал бессодержательным и крайне расплывчатым понятием, а долг элементарной порядочности, и то доверие, которое ему оказали миллионы его избирателей. Он очень уставал к концу каждого дня. Но эта усталость объяснялась не его работой, как таковой, а непрерывной и неизбежной борьбой против глупости, которой он был окружен со всех сторон. Об этом он не мог говорить ни с кем, он никому не мог сказать, что он думает на самом деле и что никогда не фигурировало в его речах и официальных выступлениях.
Когда посол небольшого балканского государства во время церемонии вручения верительных грамот говорил ему, что дружба их двух стран один из надежных факторов мира в Европе, он не мог ему ответить так, как бы хотел, то есть, что ни его страна, ни это балканское государство никакой роли в международной политике не играют и не могут играть, и мир или война от них совершенно не зависят. Он не мог ему сказать, что если посол это понимает, то этого не следует говорить, а если он этого не понимает, то тем более об этом лучше молчать. И в своем ответе, сглаживая то, что сказал посол, он подчеркивал необходимость культурного и экономического сотрудничества и стремления, в меру сил и возможностей, всячески способствовать взаимопониманию между разными странами. Это тоже были идиллические пожелания, иллюзорность которых была очевидна, но это все-таки было умнее того, что говорил посол.
Потом он подумал о том, что не стоит все время уделять свое внимание этим бесконечным проблемам, в разрешении которых или в попытках их разрешения состояла его деятельность. Теперь он ехал отдыхать. Его ждали дома его жена, сын, молодой инженер, и маленькая внучка, четырехлетняя белокурая девочка с большими синими глазами. Его ждал его кабинет с окном, из которого были видны деревья, и его письменный стол, на котором со времени его последнего приезда лежала книга Макиавелли, которую он перечитывал после многолетнего перерыва. Его ждала, наконец столовая, где к обеду и ужину подавались простые блюда, которые он любил больше всего. Правда, были телефонные звонки из столицы и телеграммы, но это бывало сравнительно редко. Эти августовские недели были единственными в году, когда президент действительно по-настоящему жил и отдыхал и когда он переставал чувствовать ту тяжелую усталость, которая была неизбежна во время его пребывания в президентском дворце, после докладов, совещаний с министрами, приемов, неофициальних обедов.
Автомобиль въехал наконец через отворенные железные ворота в аллею, которая вела к его дому. Навстречу президенту вышла вся его семья, и впереди всех бежала к нему маленькая девочка, которая уже через минуту была у него на руках.
Был шестой час вечера. Небо было все в темных дождевых облаках, и через несколько минут блеснула молния, раздался удар грома и началась летняя гроза. Дождь шумел по листьям деревьев, в комнатах стало темно, и, когда он вошел в свой кабинет, на его столе уже горела лампа со знакомым зеленым абажуром.
Дождь шел весь вечер и часть ночи. Ложась в постель, после позднего ужина, президент слышал его привычный шум за закрытыми ставнями, через створки которых время от времени были видны вспышки молнии. Но когда он проснулся на следующее утро, все было освещено ярким летним солнцем. Здесь, далеко от столицы, в его доме, в лесу все приобретало особенный вкус: утренний кофе, горячий влажный залах земли и леса и тот особенно вкусный воздух, которого не было в городе.
В десять часов утра президент вышел на прогулку в лес. Сделав несколько шагов, он по привычке обернулся и увидел, что на расстоянии пятнадцати-двадцати метров от него шли два его телохранителя, атлетические люди с невыразительными лицами, которых никогда нельзя было застать врасплох и которые стреляли без промаха. Они шли по двум сторонам лесной тропинки, которую выбрал президент для своей прогулки. Он все больше и больше углублялся в лес. Тишина прерывалась только редким криком птиц, в воздухе еще чувствовалась влага после вчерашней грозы. Президент приблизился к небольшой сторожке, построенной в глубине леса, где никто не жил, но где иногда лесники укрывались от непогоды. Перед сторожкой вместо скамейки или стульев стояли два широких пня. На одном из них сидел бедно одетый человек в кепке, с небритым лицом. Когда президент поравнялся со сторожкой, этот человек встал, снял кепку, поклонился и сказал:
– Здравствуйте, господин президент.
Президент не заметил, как рядом с ним оказались тотчас же оба телохранителя.
– Здравствуйте, – ответил он. – Вы хотите обратиться ко мне с какой-нибудь просьбой? Если я могу вам помочь, я с удовольствием это сделаю.
Один из телохранителей быстрыми, привычными движениями обыскал карманы человека в кепке и сказал вполголоса своему коллеге:
– Он не вооружен.
Человек в кепке совершенно спокойно отнесся к тому, что его обыскали, и с выражением легкой насмешки взглянул на телохранителя. Потом он сделал особенный жест рукой, выражавший одобрение, и только после этого, обратись к президенту, сказал:
– У меня действительно к вам просьба, господин президент, но несколько особенного характера, не такая, как вы, вероятно, думаете.
И голос и манера говорить этого человека совершенно не соответствовали его внешнему облику. Президент подумал, что так может говорить только по-настоящему культурный человек, а не бедно одетый лесник. И ему показалось, что он уже где-то слышал этот голос. Но человека этого никогда не видел, в этом он был уверен.
– Моя просьба, – продолжал человек в кепке, – следующая: я буду вам чрезвычайно признателен, если вы мне уделите четверть часа вашего времени для очень важного – так, по крайней мере, мне кажется – разговора.
– Я к вашим услугам, – сказал президент и сел на один из пней перед сторожкой. Затем он обратился к телохранителям и сказал: – Вы свободны, вы можете вернуться сюда через полчаса.
Телохранители бесшумно исчезли. Человек в кепке посмотрел туда, где они только что были, и сказал:
– Господин президент, ваши телохранители недалеко и вашего приказа они не выполнили. Должен сказать, что они поступают правильно. То, что вам не угрожает никакая опасность, они это знают так же хорошо, как вы и я. Но покинуть вас они не имеют права, и это, в конце концов, понятно.
Голос этого человека и то, как он говорил, невольно располагали к себе. Президент почувствовал, не отдавая себе отчета в том, почему именно, какое-то мгновенное облегчение: с этим человеком можно было говорить свободно, хотя он меньше всего был похож на собеседника президента республики.
– Вы знаете, – сказал он, – это постоянное пребывание под охраной меня утомляет. Это одна из тягостных вещей, неизбежных в моей должности. Что делать? Изменить этого нельзя. Я сократил, насколько мог, число людей, которые должны меня охранять, но видите, отменить это невозможно. Да, так что вы мне хотели сказать?
– Я хотел вам сказать, господин президент, что вы должны уйти в отставку.
Президент внимательно посмотрел в глаза человеку в кепке. Это были спокойные глаза, в которых не было ни гнева, ни угрозы, ни сколько-нибудь напряженного выражения. Кроме того, эти слова были сказаны с явным убеждением в голосе, с уверенностью в том, что это именно то, что надо сделать.
Президент не возмутился, остался совершенно спокоен.
– Вы говорите это серьезно?
– Вполне.
– И вы отдаете себе отчет в значении того, что вы сказали?
– Я очень долго это обдумывал, господин президент.
– Прежде чем вам ответить, – сказал президент, – я хотел бы знать, с кем я говорю. Вы, конечно, не тот, кем вы можете показаться. Вы не лесник. Вы решили изменить вашу внешность, но вас выдает ваш голос и ваша манера говорить. Их вы не изменили – вероятно, потому, что не нашли нужным это сделать. Но скажите, пожалуйста, где и когда я мог слышать ваш голос? Мне кажется, что я никогда вас не видел. Но голос ваш я помню.
– Это делает честь вашей памяти, господин президент, – сказал человек в кепке. – Тем более, что мой голос вы могли слышать только один раз в вашей жизни. Это было десять лет тому назад, когда я произносил речь в парламенте. Вас не было тогда в палате депутатов, и я предполагаю, что мою речь вы слышали по радио.
– Вот в чем дело! Теперь я вспомнил, – сказал президент. – Я помню даже вашу речь, вы в ней цитировали слова Токвиля: «Главная цель хорошего правительства должна заключаться в том, чтобы мало-помалу приучить народ обходиться без него».
– Совершенно верно, – сказал человек в кепке, улыбаясь и обнажая белые, правильные зубы.
– Но потом исчезли, – сказал президент.
– Я уехал за границу, – сказал человек в кепке. – Я жил в Америке, в Англии, в Германии, в Швейцарии. В нашу страну я вернулся сравнительно недавно.
– Вы – Роберт Вильямс! – сказал президент. – Теперь я вспомнил. У вас была довольно бурная личная жизнь. Вы англичанин по происхождению. Вы были женаты на кинематографической артистке, потом была история с разводом, кажется, в Калифорнии, затем участие в какой-то авиационной компании. Я все это в свое время читал в газетах. Но политической деятельностью вы не занимались до последнего времени, насколько я знаю.
– Ваши сведения совершенно точны, – сказал человек в кепке. – Все обстояло именно так, как вы говорите. Единственно, что к этому следует добавить, это что моя политическая, вернее, антиполитическая деятельность, вероятно, начнется в ближайшем будущем.
– Насколько я понимаю, она начинается с того, что вы требуете, чтобы я ушел в отставку. Согласитесь, что это очень необычный подход к делу, и другой президент на моем месте мог бы подумать, что он имеет дело с явно ненормальным человеком. Но я этого не думаю. Я не думаю также, что вы представляете какую-либо террористическую организацию. Теперь – объясните мне, пожалуйста, почему я должен уйти в отставку и для чего вам эта отставка нужна?
– Господин президент, – сказал человек в кепке. – Я не буду излагать вам содержание политического трактата, в котором были бы выражены мои взгляды и знакомство с которым могло бы вам дать обстоятельный и исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Я постараюсь все это сказать в нескольких словах.
– Я вас слушаю, – сказал президент. – Господин президент, думали ли вы когда-нибудь о том, что представляет собой государственная система страны, во главе которой вы стоите? Этот вопрос может вам показаться наивным. Но я убежден, что у вас просто не было времени для этого. Вы настолько заняты текущими делами, что ваша работа просто лишает вас возможности думать об этом. Но этому стоит уделить внимание. Я сказал – государственная система, это просто общепринятое выражение. Но если вы дадите себе труд подумать об этом, вы убедитесь в том, что эта государственная система, то есть какая-то структура, внушенная вполне определенной программой или концепцией государства, не существует.
– Есть законы, парламент, разделение власти и то, что называется государственным и административным аппаратом. Все это не пустые слова.
– Совершенно верно. Но это не есть результат осуществления вполне определенной государственной концепции. И вы и ваше правительство в том виде, в каком оно существовало до вас и в каком оно продолжает существовать, – это чисто внешний аспект вещей, это форма, в которую облечена так называемая государственная власть, так же, как ваша конституция есть, в конце концов, перечень пожеланий ваших предшественников. Но как обстоит дело в действительности? Жизнь страны, ее внешняя политика, ее экономическая система, благосостояние или отсутствие благосостояния ее граждан, деятельность суда, распределение наиболее важных и ответственных должностей в государстве – все это не определяется ни конституцией, ни законами, ни теми или иными политическими принципами. Все это определяет правительство.
– Разрешите вам напомнить, что оно именно для этого и существует.
– В этом я не могу с вами согласиться. Правительство теоретически существует для того, чтобы править страной в соответствии с основными законами и демократическими принципами, а не для того, чтобы толковать их так, как оно находит нужным, и тем более не для того, чтобы действовать в нарушение этих законов или принципов.
– Вы говорите об идеальном правительстве. Но идеального правительства нет, и в истории человечества его никогда не было. Бывают правительства более плохие и менее плохие. В этом смысле у меня нет иллюзий.
– Господин президент, вы сказали только что очень важную вещь: вы сказали, что у вас нет иллюзий. Если это так, если у вас действительно нет иллюзий – не думаете ли вы, что в этом случае вы не имеете морального права быть президентом?
– Нет, – сказал президент, – я этого не думаю. Наоборот, по-моему, самые неподходящие для власти люди это именно те, у кого есть иллюзии. Возьмите, например, так называемых революционеров. Если им удается захватить власть, они начинают с провозглашения свободы, в которое многие из них искренне верят. Но через некоторое время с неумолимой неизбежностью это приводит к террору, диктатуре и нищете. Два наиболее известных примера – французская революция 1789 года, октябрьская революция 17-го года в России.
– Нельзя же все-таки сравнивать Робеспьера и Ленина?
– Их историческая судьба была разной. Но и тот и другой ввели в стране террор. У того и у другого были иллюзии – правда, неодинаковые.
– Вы забываете, что оба были фанатиками.
– Именно потому, что у них были иллюзии.
Человек в кепке пожал плечами и сказал:
– Если бы у нас было больше времени, этот разговор можно было бы продолжить. Но это мы сделаем как-нибудь в другой раз, если позволят обстоятельства. То, что я хотел бы вам сейчас сказать, это другое. Я хотел бы вам ответить на ваш вопрос – зачем мне нужна ваша отставка. Ваша отставка нужна мне потому, что вы единственный человек в правительстве, которого нельзя упрекнуть ни в личной заинтересованности, ни в чем-либо другом, в чем можно было бы обвинить человека, занимающего ваш пост и имеющего такую власть, как вы. Вы знаете, однако, что ваше правительство состоит из людей, которые не только не заслуживают доверия или уважения, но каждому из которых место на скамье подсудимых. Ваш министр финансов – взяточник и вор. То же самое можно сказать о премьер-министре. Остальные не лучше, вы это знаете так же хорошо, как и я. Я уже не говорю о том, что среди них нет ни одного человека, который по своим способностям и знаниям подходил бы для того места, которое он занимает. Вы только что говорили, что бывают правительства более плохие и менее плохие. Согласитесь, что ваше правительство относится к первой категории. Вы стоите во главе страны, но при существующей системе вы это положение изменить не можете. Вы можете назначить других министров, но тот человеческий материал, который есть в вашем распоряжении, это родные братья тех, кого вы можете сменить. Полная перемена правительства не приведет ни к каким положительным результатам, все будет продолжаться по-прежнему. Ваша роль останется такой же, как сейчас: в меру возможностей ограничивать злоупотребления доверием избирателей. Вы понимаете, что этого недостаточно. Надо радикально изменить существующую систему и главное – нужно поставить всюду новых людей.
– Другими словами, произвести революцию?
– Нет, господин президент, к революции я отношусь не менее отрицательно, чем вы. Не революцию – перемену. Мы не отменим ни частной собственности, ни демократических принципов, мы не упраздним свободы, и мы чрезвычайно далеки от идеи террора и диктатуры. Но невежественных и нечестных людей мы заменим людьми компетентными и порядочными.
– Где же вы их найдете?
– Они есть, господин президент.
Президент молча и внимательно смотрел на своего собеседника. Несмотря на необычность этого разговора, на невероятное требование отставки, на высказывания, с которыми президент не был согласен, он испытывал по отношению к человеку в кепке явную и несомненную симпатию. Но он был убежден, что его собеседник неправ. Он сказал:
– Вы говорите, что у вас есть порядочные люди, которые могут занять места недостаточно честных и недостаточно компетентных министров. Теоретически я готов это допустить. Но думали ли вы когда-нибудь о том – теперь моя очередь поставить вам вопрос – что порядочность и компетентность не могут рассматриваться как качества, неизменные при всех обстоятельствах? Человек может быть честен и компетентен вообще, но поставьте его в исключительные условия и, в особенности, дайте ему власть – и вы увидите, что этого испытания он не выдержит. Власть меняет людей – и далеко не к лучшему. Это немного похоже на поведение людей в бою. Вы хорошо их знаете, но вы заранее не можете сказать, кто из них окажется достойным вашего доверия и кто, в последний момент, будет вести себя как трус. Вы были на войне?
– Я был добровольцем в британской армии.
– Значит, вы это знаете.
– Несомненно. Но, господин президент, разрешите мне привести один пример того, насколько ваши рассуждения в некоторых случаях могут оказаться неверны. Мы знаем, что вы лично человек компетентный и совершенно порядочный. Об этом свидетельствует вся ваша политическая карьера. Теперь вы президент республики, но ваша порядочность осталась такой же, какой она была всегда. Никакая власть этого не могла изменить.
– Вы думаете, что мне никогда не приходится идти на компромиссы с моей собственной совестью?
– Нет, я не так наивен. Но я знаю, что вы никогда этого не делаете в ваших личных интересах. Вы это делаете в интересах страны – так, как вы их понимаете.
– Дорогой мой Вильямс, – сказал президент, первый раз называя так своего собеседника, – я вам благодарен за этот разговор – я ни с кем никогда не могу так говорить. Но вы мой политический враг, насколько я понимаю. Вы мне поставили требование – уйти в отставку. Я это требование отклоняю. Не потому, что я хочу во что бы то ни стало оставаться президентом республики, видит Бог, что это меня меньше всего соблазняет и я был бы рад остаться здесь, в моем маленьком доме, и никогда не возвращаться в президентский дворец. Если бы я был уверен, что моя отставка и то, что за ней последовало бы, то есть ваш приход к власти, дали бы положительные результаты и привели бы к улучшению того, что есть, я завтра же ушел бы с поста президента. Но я убежден, что это не только не улучшило бы положения, а кончилось бы катастрофой. Поэтому я отказываюсь подать в отставку. И если вы намерены действовать путем вооруженного восстания, то я вас предупреждаю, что это восстание я подавлю. Но я не хотел бы, чтобы вы при этом пострадали. Я думаю – откровенность за откровенность, – вы тоже порядочный и честный человек, и мне вас было бы жаль. Поэтому я вам предлагаю – я значительно старше вас, вы могли бы быть моим сыном, – отказаться от ваших проектов.
И президент поднялся с пня, на котором сидел. Человек в кепке тоже встал и сказал:
– Разрешите вас поблагодарить за то, что вы позволили мне изложить вам мои соображения. Я, признаться, и не рассчитывал на ваше немедленное согласие с тем, что я вам предложил. Я знаю, что, на это мало шансов. Но я бы хотел ответить на ваше последнее предположение о возможности вооруженного восстания. Оно вам не угрожает. Я слишком люблю мою страну для того, чтобы начать нечто вроде гражданской войны, которая неизбежно повлекла бы за собой гибель ни в чем не повинных людей. Я также далек от мысли о террористических актах, так как нахожу, что это в одинаковой степени глупо и преступно. Нет, господин президент, мы будем действовать иначе, и можете быть уверены, что вам лично с нашей стороны не угрожает никакая опасность. Но действовать мы будем. Не против вас, а против государственной власти, которая недостойна того, чтобы ее возглавлял такой человек, как вы. Еще раз спасибо и желаю вам всего хорошего.
– До свиданья, – сказал президент, и в голосе его послышалось сожаление. Он сделал несколько шагов дальше по той тропинке, с которой начал свою прогулку и которая проходила мимо сторожки. Человек в кепке смотрел ему вслед. Через несколько секунд мимо него прошли бесшумно, как тени, два телохранителя президента.
Президент вернулся с прогулки тогда, когда был накрыт стол для обеда. Его повар остался в столице, а здесь, в его имении, готовила кухарка, жительница ближайшей деревни, которая все никак не могла привыкнуть к тому, что хозяин, которого она знала столько лет и которому она рассказывала о своих семейных делах, стал президентом республики. Но то, что она знала твердо, это, что он не изменился. Совершенно так же, как не изменились и вкусы, его любимые блюда остались теми же самыми, и поэтому к обеду она приготовила жареную курицу с ароматными травами. Разговор за столом шея о незначительных делах: сын президента рассказывал о проекте нового аппарата, который должен был, по его словам, совершить революцию в области точной механики, жена президента говорила, что крестьяне жалуются на плохое и дождливое лето.
– Ты не заметила, – сказал президент, – что крестьяне всегда жалуются? Если идут дожди, они жалуются на излишнюю влажность, если нет дождей, на то, что слишком сухо. И в том и в другом случае они правы. Не потому, что это всегда соответствует действительности, а потому, что так нужно говорить. Это как коммерсанты и промышленники, которые всегда говорят, что их дела идут плохо. Если бы они вдруг начали говорить, что все обстоит хорошо, это было бы неестественно…
После обеда президент прошел к себе, сел в кресло и взял книгу Макиавелли. Он начал читать «Il Principe»[32], но через некоторое время отложил книгу и задумался. Этические соображения в трактате Макиавелли, думал он, не играют никакой роли. Нет ни следа осуждении Цезаря Борджиа, который там упоминается, место которому на виселице. Нет, в сущности, отвлеченных рассуждений, все диктуется принципами целесообразности, успеха, выгоды, но нет заботы о народе. Все сведено к практическим понятиям. Философия истории есть только в той мере, в какой можно сказать, что то или иное поведение «государя» способствует процветанию его страны – достигнутому любыми средствами – или обеднению и гибели. Но истории, как таковой, в этом трактате нет. Нет также соображений о возможности сколько-нибудь бескорыстных поступков – на благо подданных. Когда президент в свое время читал книгу Макиавелли первый раз, – это было очень давно, еще в его студенческие годы, – она казалась ему замечательной. Теперь он с удивлением спрашивал себя, чем могло быть вызвано это его тогдашнее впечатление.
Он вспомнил свой разговор с человеком в кепке. Конечно, тот был во многом прав – но этого недостаточно, чтобы править страной, – думал президент. Надо найти какое-то равновесие между положительными и отрицательными вещами, вернее, не равновесие, а сдерживающее начало для вещей отрицательных. Конечно, министры, входящие в его правительство, не отличались ни блестящими умственными качествами, ни безупречной порядочностью. Конечно, у большинства их не было и той компетентности, о которой говорил человек в кепке, и, конечно, было нелепо, что министр иностранных дел не знает ни одного иностранного языка. Президенту вспомнился давний разговор Клемансо с иностранным дипломатом, который пожаловался ему на то, что один из его министров не знал, что такое Нантский эдикт. – Если бы я брал в правительство только людей, знающих, что такое Нантский эдикт, то откуда я взял бы министров? – ответил Клемансо.
Да, конечно, правительство было плохое. Но другое правительство, которое состояло бы из представителей оппозиционных партий, было бы не лучше, если не хуже. Эти люди были в оппозиции потому, что они хотели занять места тех, против кого они вели парламентскую борьбу. Тут Макиавелли оказался бы прав, если бы он пустил в ход свои обычные соображения. Ни об истории, ни о благе страны, ни о народе никто из них не думал. Правда, в своих выступлениях они всегда ссылались именно на благо страны и интересы народа, но кто, кроме самых наивных людей, мог им верить? Если бы у них была половина тех, кто, по их словам, их поддерживает, они давно уже были бы у власти.
– Гармоническое развитие страны, при котором все граждане были бы довольны, при котором торжествовала бы социальная справедливость, при котором было бы перераспределение налогов и богатые платили бы за бедных, при котором все были бы равны перед законом – вот та программа, которую мы осуществим, когда придем к власти.
Президент очень хорошо помнил эту речь лидера демократической партии. Конечно, такая программа была совершенно неосуществима, и лидер демократической партии знал это так же хорошо, как его политические противники. Никогда не было и не могло быть политического режима, при котором все граждане были бы довольны своей судьбой и своим положением. Интересы одних граждан шли вразрез с интересами других, и это даже не было, строго говоря, классовой борьбой: конкуренты в той или иной области были не менее враждебно настроены друг к другу, чем их рабочие и служащие. Перераспределение налогов – первой жертвой которого, кстати говоря, стал бы лидер демократической партии, видный адвокат и очень состоятельный человек – то есть повышение за их счет более обеспеченных слоев населения, привело бы к застою в делах, уменьшению капиталовложений, сокращению спроса на труд и безработице. Конечно, нельзя было не считать возмутительным и несправедливым то, что владелец автомобильного завода за одну ночь, проведенную в игорном доме, мог истратить столько, сколько чернорабочий его фабрики зарабатывал тяжелым трудом за годы и годы работы. Но что можно было сделать? Брат владельца завода, второй собственник этого предприятия, был депутатом парламента – кстати говоря, совершенно приличный и порядочный человек, дядя владельца был сенатором. Конечно, завод можно было бы национализировать, но общее положение от этого не улучшилось бы, а ухудшилось, так как национализированные предприятия всегда дают убыток, а не выгоду.
Конечно, состав парламента оставлял желать лучшего, так же и по тем же причинам, что и состав правительства. Конечно, исход прений в парламенте был предрешен заранее, так как правительство располагало большинством, и парламентская система в данном случае себя не оправдывала. Но какая государственная система себя оправдывает? Любая – при условии, что власть находится в руках порядочных и бескорыстных людей – как об этом говорил человек в кепке. Монархия – если во главе страны стоит умный и либеральный монарх. Даже диктатура теоретически может быть вполне приемлемой формой правления, но для этого нужно, чтобы диктатор был умен, культурен и справедлив. К сожалению, диктаторы такими не бывают. Гитлер был невежественным фанатиком, настолько не разбирающимся в так называемых народных проблемах и особенно в вопросе о соотношении сил, что был убежден, что Германия может выиграть войну против такой коалиции, как США, Англия и Советский Союз. Сталин был еще хуже, еще невежественнее, еще фанатичнее и, кроме того, страдал гипертрофической формой мании преследования. Италия Муссолини – это был мираж, который рассыпался при первых же серьезных затруднениях, когда выяснилось, что итальянцы слишком умны, чтобы придавать значение фашистской идеологии и особенно защищать то, во что они не верили, считая, что это слишком глупо. Президент подумал, что задача «государя» – если пользоваться терминологией Макиавелли, – заключается в том, чтобы по возможности ограничивать то неизбежное зло, которое, в общем, условно можно назвать государственной властью. Строить лучшее будущее – да, конечно, но не иллюзии и не утопии. Человек в кепке, – мысль президента неизменно возвращалась к нему, – во время этого разговора в лесу, не сказал ни одной глупости. – Этим он отличается, – подумал президент, – и от лидеров оппозиции и от министров. То, о чем он говорил, было теоретически возможно и осуществимо. Но только теоретически.
Президент поймал себя на том, что он испытывает по отношению к этому человеку противоречивое чувство – симпатию и одновременно с ней зависть. Как хорошо верить в то, что все можно улучшить, сделать более справедливым – то, во что, по-видимому, верил этот человек, его политический враг. Но если бы он знал все, что знал президент…
В это время в его кабинет вошла четырехлетняя внучка. У этой маленькой девочки были синие глаза и совершенно белые волосы, и президент прозвал ее Blanchette[33], еще когда ей был год. С тех пор все ее так называли. Она вошла в кабинет, взобралась на колени к президенту и сказала:
– Что ты делаешь?
– Ничего, – сказал президент, улыбаясь, – я думаю о том, что когда ты себя хорошо ведешь, то это очень приятно.
– А ты тоже хорошо себя ведешь? – спросила девочка.
– Я стараюсь, – сказал президент.
– И тебе никто ничего не говорит?
– Нет, иногда говорят.
– Ты никого не боишься?
– Боюсь, – сказал президент.
– Кого ты боишься? – Мамы.
– Не надо ее бояться, – сказала Blanchette. – Она хорошая.
– Ну, если ты так говоришь, то я больше не буду ее бояться.
Внучка соскользнула с его колен и убежала. Президент смотрел ей вслед и видел, как она перебирала своими маленькими ножками в белых коротких чулочках и красных туфельках. Добежав до порога, она начала подпрыгивать и потом исчезла. И тогда он подумал, что судьба и здоровье этой маленькой девочки, его внучки, были для него бесконечно важнее, чем любые государственные соображения, исход любой войны, состав и участь его правительства и его президентский пост.
Шла четвертая неделя августа. Лето выдалось сухое и жаркое, но там, где жил президент, жары не было; кругом был густой лес, недалеко протекала река, и в доме было прохладно. Вся страна, как это казалось отсюда, будто бы погрузилась в долгий летний сон. Ничего не происходило, событий не было, была ежедневная хроника повседневных и неизменных происшествий – ограбления, кражи, пожары, но они волновали только тех, кто становился их жертвами, и давали материал для третьей страницы газет. Правительство бездействовало, большинство министров проводило лето далеко от столицы – одни на берегу моря, другие в горах, третьи за границей. В государственных учреждениях все шло в замедленном ритме, особенно важные решения откладывались до конца лета. Газетные репортеры присылали длинные статьи о том, как проводит свой отпуск знаменитая кинематографическая артистка и каковы ее проекты на предстоящий сезон.
Были интервью с некоторыми спортсменами, но особенным успехом пользовалась, как всегда, длинная серия статей неутомимого журналиста, который рассказывал о судьбе бывших знаменитостей. Выяснилось, что прежняя героиня мелодраматических фильмов, красавица с неотразимым взглядом, живет теперь в богадельне, забытая всеми. Описывались ее приемы, ее гастроли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, ее поклонники, женихи и мужья, ее вилла на Ривьере, ее дом в Неаполе, все, от чего остались только сожаления и воспоминания. После этого шла статья о бывшем чемпионе мира среднего веса, владельце скаковой конюшни и нескольких ночных кабаре; судьба была к нему не менее беспощадна, и теперь он был вынужден работать ночным сторожем в гараже и жаловался на недомогания и ревматизм. Этот же журналист описывал свою встречу с одним из самых известных в свое время людей, ценителем особенно изысканных блюд и самых лучших вин: прежде одного его мнения было достаточно, чтобы обеспечить доходы крупного ресторана или, наоборот, повлечь за собой резкое уменьшение его клиентуры. Журналист встретил его утром в кафе, куда тот приходил читать газеты, – и спросил его, какое меню он предпочитает к обеду и что он находит наиболее подходящим для ужина. Журналист писал:
«Передо мной сидел небрежно одетый старик с потухшими глазами. Он посмотрел на меня невыразительным взглядом и сказал:
– Молодой человек, вы не могли бы задать мне более подходящего вопроса?
– Почему вы считаете мой вопрос неподходящим?
– Потому, – сказал он сердито, – что мои почки и моя печень ни к черту не годятся, и если я пообедаю и поужинаю так, как я обедал и ужинал раньше, то это будет моей собственной похоронной трапезой. На следующий день после этого я совершу мое последнее путешествие – на кладбище. Запомните одно, молодой человек: самый замечательный роман Бальзака называется «Шагреневая кожа». Нет ничего опаснее, чем то, о чем все мечтают и что называется исполнением желаний. Ничто не проходит безнаказанно и за все приходится жестоко расплачиваться. Я слишком много и слишком хорошо ел в моей жизни. И вот результат – я старая развалина, неспособная ни к какому физическому усилию. Мои товарищи, с которыми я рос и которым столько же лет, сколько мне, плавают, делают прогулки и ведут нормальный образ жизни. Они едят устрицы и запивают их вином Пуйи или Шабли, они едят мясо, приготовленное по-бургундски, и пьют красное вино. Почему? Потому что они были умеренны в своих желаниях и потому что у них не было тех возможностей, какие были у меня. Как, вы сказали, ваша фамилия? Я еще раз назвал себя.
– А, – сказал старик, – это вы пишете о том, что сталось с бывшими знаменитостями? Я читаю ваши статьи. Большинство этих людей я знал лично. То, что вы о них сообщаете, верно, я хочу сказать, факты, о которых вы говорите. Но вы из этого не делаете соответствующих выводов.
– Мне не нужно их делать. Мне кажется, что факты сами по себе достаточно красноречивы, чтобы не нуждаться в комментариях.
– Нет, – сказал он, – этого недостаточно. Почему судьба этих людей сложилась именно так? В каждом отдельном случае для этого есть вполне определенные причины. И прежде всего та размашистая глупость, которая характеризует тех, о ком вы пишете. Вы писали, например, о знаменитой артистке, которая теперь живет в богадельне. Я был с ней хорошо знаком. Она казалась неотразимой, это верно. Но она отличалась таким душевным убожеством, такой неспособностью понять самую простую отвлеченную мысль, что говорить с ней было не о чем. Кроме того, она никогда не испытала ни одного по-настоящему человеческого чувства, никого никогда не понимала, никому никогда не помогла. Ее разорила неудачная спекуляция, ее обокрали те, кому она доверяла. Она стала жертвой своей собственной глупости и жадности. А когда ее молодость кончилась, но она, казалось бы, могла продолжать свою карьеру, подтвердилось то, что мы знали все: у нее не было никакого сценического дарования и она была неспособна понять роль, которую ей поручали. Неотразимости же больше не оставалось, и это положило конец всей ее карьере. Вот что о ней следовало бы написать. Вы этого не сделали.
– Это было бы слишком жестоко.
– Может быть, – сказал старик. – Но всякое упоминание о ее теперешней жизни – это тоже жестокость. Мне ее было бы жаль. Но, я думаю, она даже не поняла того, что с ней случилось. И уж конечно не поняла, что если бы она была умнее, то все могло бы быть иначе.
– Вам не кажется, что вы склонны слишком мрачно смотреть на вещи?
– Нет, – сказал он. – Я вам приведу примеры людей, которые прославились и разбогатели и которые теперь, на склоне лет, ведут счастливую и спокойную жизнь. Я помню, например, одного человека по фамилии Миллер. Это был лучший форвард в Европе – вы этого не можете знать, это было давно. Его переманивали за большие деньги из одной страны в другую. Он составил себе крупное состояние – и потом ушел на покой. Никто никогда не видел его ни в ночном кабаре, ни на скаковом поле, ни в игорном доме. Никто никогда не видел его пьяным. Знаете, что он теперь делает? Он собственник нескольких доходных домов в Швейцарии и в свободное время, которого у него много, он пишет книги по истории литературы. Несколько лет тому назад, в Англии, он защитил диссертацию 6 Сен-Симоне. Его исключительные физические качества сочетались у него с душевным равновесием, здравым смыслом и незаурядным умом. И вот результат, вы видите.
Этот разговор дал журналисту тему для следующих статей, где обсуждался такой вопрос: в какой степени участь тех или иных людей определяется их волей, их желаниями, их способностями и целью, которую они себе ставят, и в какой степени все это зависит от случайностей, оборота событий, стечения обстоятельств? Теория о том, что все, в конце концов, чаще всего зависит от случайности, находила себе большое количество сторонников. Статьи следовали одна за другой, и только редактор газеты и ее сотрудники знали, что автор отдыхает уже второй месяц на итальянской Ривьере, недалеко от Сан-Ремо, так как все свои статьи он сдал в редакцию еще до своего отъезда. Во всяком случае, статьи пользовались неизменным успехом, и их действительно читали все, начиная от президента республики и кончая низшими служащими многочисленных и разнообразных предприятий.
Тридцать первого августа, накануне своего отъезда в столицу, в четыре часа дня, у себя в кабинете президент республики повернул выключатель небольшого, но очень чувствительного аппарата радио и стал искать станцию, которая должна была передавать концерт, посвященный памяти Леонкавалло. И вдруг он услышал очень ясный мужской голос, который сказал:
– Говорит радиостанция «Голос народа». Слушайте выпуск последних известий.
«Голос народа» – такой радиостанции в стране не существовало. Что это могло бы быть? По содержанию выпуска последних известий судить о политическом направлении станции было нельзя. Все было изложено с предельной отчетливостью и объективностью. После выпуска новостей раздалось несколько тактов музыки – президент тотчас же узнал 9-ю симфонию Бетховена. Затем женский голос сказал:
– Прослушайте теперь наш комментарий: «То, что кажется, и то, что есть».
Раздался низкий мужской голос. Президент сразу же понял, что говорит не спикер, а автор комментария, профессиональный журналист, именно потому, что получилось впечатление, что он не читает заранее приготовленный текст, а говорит по мере того, как ему приходят в голову те или иные мысли. Голос сказал:
– За несколько дней до начала летнего сезона я слышал по радио выступление министра финансов. Если вы разрешите, я напомню вам в нескольких словах содержание его заявлений. В середине текущего года наш запас золота и иностранной валюты достиг своей самой высокой цифры, превышающей два миллиарда долларов. Наш вывоз покрывает наш ввоз на 89 %. Курс нашей валюты – один из самых устойчивых на международной бирже. Согласно расчетам министерства финансов, бюджет данного года будет сведен с очень незначительным дефицитом, который будет, вероятно, покрыт добавочными налоговыми поступлениями. Вот какую идиллическую картину нашего благополучия представил министр финансов. В ней все, казалось бы, хорошо. Но несчастье в том, что все это совершенно не соответствует действительности. Если бы министр финансов был убежден, что положение именно таково, то это значило бы, что его место где угодно, но никак не во главе министерства финансов. Но дело обстоит хуже: министр финансов, конечно, знает, что все, что он сказал, это результат сознательной фальсификации. Он знает лучше, чем кто-либо, что запасы золота и иностранной валюты нам не принадлежат, – это приток в нашу страну иностранного капитала, предназначенного отчасти для строительства предприятий, собственниками которых будут иностранные вкладчики, отчасти для разнообразных кредитных операций. Наш вывоз действительно перекрывает ввоз на 89 %, но это происходит потому, что мы резко сократили наш ввоз, так как у нас недостаточно денег для приобретения заграничных товаров. То, что бюджет будет сведен с дефицитом, особенной роли не играет, это повторяется каждый год. Но что приблизительно 40 % этого бюджета уходит на то, что можно было бы назвать расхищением государственных средств, это тоже несомненно. Что же касается добавочных налоговых поступлений, то надо напомнить, что наши налоги пропорционально самые тяжелые в Европе, и наш экономический маразм в значительной мере объясняется этой налоговой системой, которая соединяет в себе три особенности: несправедливость, глупость и невыгодность. Министр финансов заявил, что наша валюта – одна из самых устойчивых на международной бирже. Это верно – только при одном условии: если эта валюта была заблаговременно переведена в доллары, немецкие марки или швейцарские франки и эти суммы лежат на чьем-то счету в Женеве, Базеле или Цюрихе. В этой области осведомленность нашего министра финансов не может быть подвергнута сомнению.
Я только что сказал, – продолжал голос по радио, – наш экономический маразм. В отличие от заявлений министра финансов, это, к сожалению, соответствует действительности. В этом году 24 % наших промышленных предприятий были вынуждены закрыться. Почему? – это ясно. Машины этих предприятий устарели, им 15–20 лет, поэтому стоимость производства слишком высока и товары стоят так дорого, что их не покупают. Чтобы поставить новые машины, нужно располагать деньгами или кредитом. Ни денег, ни кредитов нет. Предприятия закрываются, сотни и тысячи рабочих остаются на улице. Те, кто может, уезжают работать за границу. Те предприятия, которые еще работают, существуют потому, что мы облагаем высокими налогами иностранные товары, – чего не делают наши соседи. У нас нет достаточного количества квартир, нет нужного числа госпиталей, во многих местах нет даже водопровода. Но у нас есть постоянное узаконенное и незаконное расхищение средств и безмерное раздувание бюджета. Всему этому должен быть положен конец. Правительство, которое находится у власти, многократно доказало две истины: во-первых, что оно неспособно справляться с задачами, которые стоят перед ним, во-вторых, что оно недостойно народного доверия и не заслужило его. Нам нужны способные и порядочные люди. Мне кажется, что с этим требованием трудно не согласиться. И если вы с этим согласны, вывод из этого ясен: это правительство должно уйти в отставку – пока не поздно. Вот, в нескольких словах, те соображения по поводу нашего блестящего, как выразился министр финансов, экономического положения – соображения, которые я хотел вам изложить.
После этого женский голос сказал:
– Слушайте нашу программу завтра в это же время на длине волн…
Затем опять раздались отрывки 9-й симфонии, и аппарат умолк.
Сидя в своем кресле, президент думал о том, что он только что услышал. Человек в кепке начал действовать. Конечно, если бы дела дошли до официальной реакции на эту радиопередачу, было бы сказано, что это попытка оклеветать правительство и представить положение в неправильном и пристрастном освещении. Но президент знал, что автор передачи был прав. Этого не знали многие слушатели, следившие за правительственным радио, которое в свое время назвало выступление министра блестящим. Фраза о валюте, переведенной в швейцарские банки, и замечание о том, что в этой области осведомленность министра финансов не может быть подвергнута сомнению, – все это имело вполне определенный смысл. Но что можно было сделать? Конституция не запрещала существование частных радиостанций. «Голос народа» ничего незаконного не сделал. Единственное, к чему можно было придраться, это была бы нелегальность радиостанции, а не содержание ее передач, даже если они носили явно выраженный антиправительственный характер.
Президент вызвал по телефону министра внутренних дел. Когда тот подошел к аппарату, президент его спросил:
– Что вам известно о радиостанции «Голос народа»?
– Господин президент, разрешите вам перезвонить через десять минут, тотчас же после того, как я наведу справки.
– Другими словами, вы об этом ничего не знаете?
– Господин президент, я только что вернулся из отпуска…
– Хорошо, жду вашего звонка.
Через четверть часа министр внутренних дел позвонил:
– Господин президент, эта радиостанция начала действовать вчера, получив разрешение от моего министерства. Мой помощник говорит, что нет никаких оснований отказывать в подобном разрешении. Цель радиостанции – объективная информация о международном положении и внутренних делах страны. Радиостанция принадлежит анонимному обществу, во главе которого стоит бывший депутат парламента Пальмер. Студия и помещение расположены в столице, на бульваре Свободы.
– Да, я понимаю, – сказал президент. – Я вас должен предупредить, что все это далеко не так невинно, как это вам представляется, по-видимому. Но мы об этом еще поговорим.
На следующий день, после своего возвращения в столицу, президент вызвал к себе министра внутренних дел. Это был толстый, лысый человек, страдающий одышкой, агроном по образованию, бывший в свое время министром земледелия. Затем, при формировании одного из последних правительств, он был назначен министром внутренних дел, и его кандидатуру защищал премьер-министр. Один из его коллег ему заметил:
– Простите, но ваш кандидат – агроном. Вы считаете, что этого достаточно, чтобы занять пост министра внутренних дел? Мне кажется, что министр внутренних дел должен быть специалистом.
– В какой области?
– Во всех – юридической, административной, конституционной, социальной – все это входит в его компетенцию.
– Прекрасно, – сказал премьер-министр. – Я буду, в таком случае, вам чрезвычайно признателен, если вы мне представите кандидатуру человека, обладающего такой компетенцией. Я лично таких людей не встречал.
И министр земледелия стал министром внутренних дел.
Теперь он стоял перед президентом, тяжело дыша. Он сказал:
– Господин президент, в мое распоряжение поступила запись на ленте вчерашней передачи радиостанции «Голос народа». Содержание передачи таково, что мы вынуждены принять экстренные меры – радиостанция должна быть закрыта.
– На каком основании?
– На том основании, что она ведет антиправительственную пропаганду.
– Это право им дает конституция, которая гарантирует гражданам свободу слова.
– Господин президент, во вчерашней передаче резко критиковалась политика министра финансов.
– Это меньше всего может быть предлогом для закрытия станции.
– Но необходимо что-то предпринять.
– До тех пор, пока радиостанция не выдвигает против нас вполне определенных обвинений, за которые ее можно привлечь к судебной ответственности, пока нет явной диффамации, фальсификации фактов и клеветы, – у нас нет оснований запрещать деятельность радиостанции. В том случае, если я найду нужным принять против них какие-либо меры, я вам дам знать. Но я хотел бы вас сразу же поставить в известность о некоторых вещах. У меня есть основания полагать, что руководители радиостанции очень хорошо знают, что они делают, и что действовать они будут вполне легально.
В течение нескольких следующих дней комментатор радиостанции продолжал говорить о разных сторонах деятельности правительства. Он говорил о внешней политике, которая, по его словам, несколько напоминает налоговую систему, в том смысле, что она была невыгодна и несправедлива по отношению к некоторым союзным странам. Он говорил о миллионном строительстве и непомерно высокой стоимости строительных материалов. Он говорил о проекте висячих мостов над столицей, которые должны были разгрузить город и сделать автомобильное движение более легким: на это были ассигнованы крупные суммы, но ни один мост даже не начал строиться.
– Мы вправе спросить управление городом, которое теоретически должно заниматься разрешением этой проблемы, распределением средств и субсидированием строительства: почему ничего не делается? Где деньги, которые были на это ассигнованы, что делает директор управления и за что он получает жалованье? Таких вопросов можно поставить много – и они рано или поздно будут поставлены.
Еще через неделю после этого комментатор «Голоса народа» сказал:
– То или иное потрясение может начинаться в центре. Но иногда оно берет свое начало на далекой периферии. Я бы не хотел, чтобы у наших слушателей создалось впечатление, что мы занимаемся риторикой или стилистическими упражнениями. Дело обстоит иначе. Сегодня вернулся из Турции один из наших сотрудников, который нам сообщил, что ему удалось оттуда уехать только благодаря помощи друзей из американского посольства: в Турции не принимают больше наших денег. На биржах европейских стран это пока что не отразилось и, может быть, не отразится. Но нет дыма без огня.
И еще через три дня после этой передачи курс арга – денежная единица страны называлась арг и стоимость арга была равна стоимости швейцарского франка – понизился на сорок процентов. Центральные банки отказывались обменивать арги на иностранную валюту, ссылаясь на невыясненность положения. Но положение не менялось: курс арга оставался на том же уровне, на сорок процентов ниже, чем обычно. Появились первые сообщения о том, что иностранные фирмы задерживают выполнение заказов. Экспортные общества должны были прервать свою деятельность. Некоторые предприятия значительно сократили свою продукцию и тысячи служащих остались без работы. Уволенные рабочие на многолюдных митингах требовали возобновления контрактов и повышения жалованья. Цены на продукты первой необходимости росли каждый день. У продовольственных магазинов начали образовываться длинные очереди. Руководство коммунистической партии опубликовало заявление, в котором говорилось о том, что страна стала жертвой заговора международного империализма и что рабочие должны защищать свои права с оружием в руках. Начались столкновения полиции с манифестантами. Толпа разбивала витрины магазинов. Забастовали служащие электрической промышленности, и город с наступлением ночи погружался во мрак. Забастовали железные дороги, вокзалы были забиты людьми, которые не могли попасть на поезд. На автомобильных дорогах образовывались гигантские пробки.
Комментатор радиостанции «Голос народа» в своем очередном выступлении сказал:
– Дорогие слушатели, я не буду утомлять ваше внимание описанием того, что происходит в нашей стране, вы это знаете так же хорошо, как и я. Все это объясняется резким понижением нашей валюты на международной бирже. Но министр финансов совсем недавно уверял нас, что никогда еще наши денежные запасы не были так велики, как сейчас. Если это так, то что, казалось бы, может быть проще: бросить на внешний рынок достаточное количество золота и валюты и восстановить положение. Почему же правительство этого не делает?
А положение продолжало ухудшаться. Огромные толпы высыпали на улицу, начались шествия к парламенту, им преграждали путь полицейские отряды, в разных концах города вспыхнули грабежи, появились баррикады, совершенно ненужные, потому что их никто не атаковал и люди обходили их как досадные препятствия. Кто-то отворил ворота парка, окружавшего женский сумасшедший дом, и оттуда хлынула толпа женщин в синих больничных халатах, которая с воем и визгом рассыпалась по окрестным улицам. То тут, то там попадались перевернутые и горящие автомобили. Распространились слухи о том, что к городу подходят вооруженные отряды коммунистической гвардии. Нельзя было понять, что происходит. Во многих местах начались пожары. Над городом стоял густой дым, и глухой шум толпы то прекращался, то нарастал. Движение городского транспорта прекратилось. По улицам, заваленным вывернутыми булыжниками, перевернутыми автомашинами, столами и стульями, выброшенными с террас разбитыми кадками, нельзя было проехать. Единственно, что еще действовало, это была автоматическая телефонная сеть.
С каждым днем положение ухудшалось. Начались забастовки. Остановились железные дороги, и дирекция была вынуждена принять требования рабочих об очень значительном повышении жалованья. Потом забастовал городской транспорт. В столице возникли уличные волнения, угрожающие и бессмысленные, потому что толпы манифестантов не знали, почему это все происходит и чего они требуют. На улицах появились баррикады – никто не знал зачем и против кого. Когда полиция задержала несколько человек, возглавлявших студенческую демонстрацию, то выяснилось, что задержанные не только не имели отношения к университету, но едва умели читать и писать – это были профессиональные воры и грабители. То, что было очевиднее всего, это явная бесцельность и бессмысленность происходившего. Но волнения не прекращались.
В кабинете президента республики было два телефонных аппарата. Один из них был его личный телефон, номер которого знали очень немногие. И вот именно по этому номеру ему позвонили в десять часов вечера, после бурного дня уличных беспорядков. Президент поднял трубку и сказал вопросительным тоном:
– Алло?
– Господин президент, – сказал знакомый голос, – вы разрешите мне напомнить вам о разговоре, который был у нас с вами в лесу некоторое время тому назад? Мы ждем вашего решения.
– А, это вы, – сказал президент. – Я должен констатировать, что вы не сдержали вашего слова, и именно это меня огорчает. Я был о вас лучшего мнения.
– Что вы имеете в виду, господин президент?
– Вы сказали, что вы против революции и против гражданской войны. Но то, что происходит сейчас, – не кажется ли вам, что это похоже на начало гражданской войны?
– Господин президент, – сказал голос, – я также против всего этого, как и вы. Но это не наша вина, и мы готовы сделать все, чтобы это остановить. Мы этого не делаем именно потому, что мы до последней минуты не хотим прибегать к насилию. Если вы уйдете в отставку, распустите парламент и правительство и передадите нам власть, порядок будет восстановлен в несколько часов.
– Может быть, мне придется сделать это, – сказал президент. – Но не сейчас. Не рассчитывайте на это. И помните, что перевороты очень редко дают положительные результаты.
Очередное заседание правительства происходило на следующее утро.
Открывая его, президент сказал:
– Я даю слово министру внутренних дел для доклада о положении в стране.
Толстый, как всегда задыхающейся, министр, вытирая платком лысину, долго говорил о конфликтах в металлургической промышленности, о неустойчивом положении в шахтах, о недостаточности полицейских сил, о демонстрациях крайне левых элементов. Он кончил тем, что сказал: – Правительство должно пересмотреть свою политику.
– Что, собственно говоря, вы имеете в виду? – спросил президент. Он понимал, что министр внутренних дел был совершенно растерян, не имел представления о том, что можно было и что нужно было сделать, и говорил только для того, чтобы что-то сказать.
– Я имею в виду такое изменение правительственной тактики, которое положило бы конец тому, что происходит сейчас.
– Какие меры вы предлагаете конкретно?
– Я предоставляю это на усмотрение Совета министров. Решение этого вопроса должно быть делом всего правительства в целом.
После министра внутренних дел выступил министр финансов. Это был высокий худой человек со скучающим выражением лица. Он был автором нескольких трудов об экономических проблемах современности, и его теория отличалась редкой прямолинейностью. Основой всего должно быть поощрение граждан к тому, чтобы они прежде всего думали о сбережениях. Что касается государства, то средства, которые были ему необходимы, должны были дать налоги. Но это всегда излагалось в значительно более сложной форме. «Колебания процентного коэффициента налоговых отчислений…», «Тенденция к развитию и поощрению мероприятий, ставящих своей целью движение к экспансии, энергично поддерживаемое режимом экономии в наиболее жизненных отраслях промышленности и труда…» «Спрос, вызывающий повышение предложения, ограниченного необходимостью не перейти того предела, за которым возникает опасность или угроза инфляции, и борьба против инфляционных течений, которые…»
– Девальвация, о которой упорно говорят последнее время, могла бы подорвать доверие к нашей валюте со стороны иностранных государств, – говорил министр финансов. – Мы были вынуждены повысить ставки заработной платы в таких размерах, которые еще недавно показались бы невозможными. Но – кто говорит о повышении ставок, говорит о повышении налоговых поступлений. Главное – это доверие и устойчивость нашего положения, которое, несмотря на колебания, продолжает оставаться органически здоровым. Я имею в виду доверие граждан нашей страны к тому, как управляется экономическая жизнь государства, и доверие со стороны заграницы.
Лицо президента сохраняло свое всегдашнее выражение, казалось, что он дремлет с открытыми глазами. Но он следил за речью министра финансов, и его раздражало такое слепое непонимание: о каком доверии граждан могла идти речь в эти смутные дни? И о каком доверии заграницы, где арг котировался на сорок процентов ниже своей номинальной стоимости? И как можно было говорить об органически здоровом положении страны? Он подумал, что человек в кепке был прав, что, в сущности, возражать ему невозможно: правительство действительно состояло из людей, неспособных выполнять те обязанности, которые были на них возложены.
Во время заседания правительства, недалеко от парламента происходил многолюдный митинг, организованный одним из союзов студентов. Лохматый молодой человек, стоя на крыше автомобиля, кричал, что всему этому надо положить конец, что великий мыслитель нашего времени Мао уже давно говорил о необходимости силой оружия свергнуть строй империалистов и реакционеров, и что надо взять приступом парламент. Плотными рядами манифестанты двинулись по направлению к зданию, где происходило заседание правительства. Но им преградили дорогу многочисленные отряды полицейских. Тогда демонстрация повернула обратно. В витрины кафе и магазинов полетели булыжники. Полицейские пустили в ход слезоточивые бомбы. Манифестанты скандировали: Мао! Мао! Другие кричали – долой правительство! Полицейские начали действовать дубинками и арестовали несколько человек. Через два-три часа манифестация кончилась. Но было ясно, что каждую минуту беспорядки могли вспыхнуть в другом месте города. Красивая девушка, с искаженным от бешенства лицом, кричала, обращаясь к полицейским: убийцы! палачи!
Вечером стало известно, что самое крупное предприятие страны – завод, фабриковавший автомобили, грузовики, тракторы и сельскохозяйственные машины, закрыт на неопределенное время. В коммюнике, опубликованном после этого, дирекция завода сообщала, что все иностранные заказы были аннулированы, так как заказчики отказывались платить в твердой валюте, и что завод не располагает средствами для того, чтобы продолжать работу в этих условиях. В небывалых размерах увеличилось количество грабежей и нападений на банки и магазины.
Сидя у себя в кабинете, президент все время получал сообщения о том, что происходит в стране и, главным образом, в столице. Горели подожженные неизвестно кем склады бензина, и это создавало опасность для всех домов этого района города. В густом дыму и копоти, как призраки, двигались пожарные. Время от времени возникала стрельба, потом стихала, и тогда ясно становился слышен гул горящего бензина. И когда второй раз за последние два дня президенту позвонил человек в кепке, президент сказал:
– На этот раз я ждал вашего звонка. Вы знаете, что положение катастрофично. Что вы можете сделать? И что вы предлагаете?
Спокойный голос ответил:
– Господин президент, я должен вам сказать, что я несколько изменил свою точку зрения. Я считаю теперь, что ваша отставка не необходима. Но вы должны передать фактическую власть мне, и я вам ручаюсь, что в самое короткое время мы восстановим порядок.
– Хорошо, – сказал президент. – Приезжайте сюда, я распоряжусь, чтобы вас пропустили.
Через двадцать минут большая синяя машина въехала во двор президентского дворца и из нее вышел человек без шляпы, в черном костюме. Когда президент увидел его, он его сначала не узнал: этот человек был меньше всего похож на его собеседника в кепке. Через полчаса после его приезда на экране телевизора появился спикер, который сказал:
– Внимание! К вам обращается президент республики!
Лицо спикера исчезло, и вместо него появилось лицо президента. Президент сказал:
– Гражданки и граждане! Положение в нашей стране с каждым часом становится все более и более тревожным. Я считаю своей обязанностью сделать все, чтобы остановить тот процесс хаоса, беспорядка и разложения, который принимает такие размеры, что это угрожает жизни и спокойствию многих из вас. В исключительных обстоятельствах необходимы исключительные меры. С этой минуты, когда я обращаюсь к вам, я объявляю роспуск парламента. Правительство выходит в отставку. Когда будет восстановлен порядок, я назначу новые выборы. Я возлагаю всю полноту государственной власти на человека, которому предстоит трудная задача – восстановить всеми средствами нормальное положение в стране. Вся власть будет в его руках, и я оставляю за собой только президентские функции. Вот этот человек, которому с сегодняшнего дня я поручаю то, что для нас важнее всего – спасение нашей страны.
И тогда рядом с президентом появился его собеседник с холодным и спокойным выражением лица. Он сказал:
– Господин президент, благодарю вас за доверие, которое вы мне оказываете – честь, которую я бесконечно ценю. Я хочу сказать только несколько слов. Мы будем действовать, а не говорить. Незначительное и буйное меньшинство ставит под угрозу безопасность и спокойствие страны. Огромное большинство наших граждан воодушевлено самыми положительными чувствами. Мы сделаем все, чтобы оградить право этого большинства на нормальную и честную жизнь, и для того, чтобы достигнуть этого, мы не остановимся ни перед чем, и, поверьте, это не пустые слова.
Выступление президента и его собеседника комментировалось на следующий день во всех газетах. Левая печать возмущалась тем, что в стране вводится режим диктатуры. В передовой статье коммунистической газеты было сказано, что рабочий класс не позволит никому посягать на его права и на его свободу. В террористическом листке, давно запрещенном министерством внутренних дел, но распространявшемся нелегально, было напечатано заявление с огромным количеством восклицательных знаков и красных строк. В нем говорилось, что буржуазия, крупный капитал и все, кто занимают хлебные места в стране, обречены на беспощадное уничтожение. Правые газеты писали, что для разрешения государственного кризиса есть средства, которые правительству дает конституция, и нет надобности прибегать к крайним мерам. В газете прокитайского направления один из сторонников Мао Цзедуна, профессор социологии в университете, писал, что единственный выход из положения это вооруженное восстание и захват власти передовыми элементами рабочего класса. В час дня британский посол, который садился в свой автомобиль, чтобы ехать на завтрак, устроенный представителями печати, был схвачен несколькими вооруженными людьми и увезен в неизвестном направлении. Его шофер был тяжело ранен: он получил удар железной палкой по голове и был отправлен в госпиталь. Через день после этого было сообщено, что британский посол – заложник террористической организации и что он будет освобожден только после того, как будут отпущены из тюрьмы все восемьдесят шесть террористов, арестованных за попытку экспроприации банков, грабежи и поджоги. Кроме этого, террористическая организация требовала уплаты ста тысяч долларов.
В два часа дня в квартире профессора, сторонника Мао Цзедуна, раздался звонок в дверь. Горничная отворила и увидела трех человек в одинаковых синих костюмах. Лица их отличались, как ей показалось, удивительной невыразительностью. Не отвечая на ее вопрос, что им нужно, эти три человека прошли в столовую, где профессор и его жена пили кофе. Профессор с удивлением сказал:
– Кто вы такие и что вам нужно?
– Потрудитесь следовать за нами, – сказал первый из вошедших.
– Какое вы имеете право это требовать? – сказал профессор. – Вы, вероятно, не знаете, с кем имеете дело? Будьте любезны немедленно покинуть мою квартиру, иначе я вызываю полицию.
– Это не арест и не насилие, – сказал тот же человек. – Вы приглашаетесь в здание министерства внутренних дел для короткого разговора, после которого мы вас доставим домой.
– Я вас не знаю и не хочу знать, – сказал профессор, – и я не допущу нарушения моих прав. Я отказываюсь следовать за вами.
– Не заставляйте нас применять средства, которых мы хотели бы избежать, – сказал второй человек в синем костюме. – Ни вашим правам, ни вашей безопасности ничто не угрожает.
– Я уступаю грубой силе, – сказал профессор, – но я протестую и заявляю вам, что это вам даром не пройдет, У меня есть друзья, которые…
– Ваши друзья нас не интересуют, – сказал третий человек. – Но мы даром теряем время. Потрудитесь следовать за нами.
Он взял профессора под руку. Профессор был грузный и высокий мужчина, но ему показалось, что его просто сняли со стула и увели.
У подъезда его дома стоял черный автомобиль. Один из его посетителей сел за руль, двое других на заднее сиденье. Профессор был посажен между ними, и автомобиль тронулся. Через десять минут он остановился у здания министерства внутренних дел. Профессора провели по коридорам и ввели в большой кабинет, где за столом сидел очень хорошо одетый широкоплечий человек – с таким же равнодушным выражением лица, как у тех, что сопровождали профессора.
– Я протестую… – начал профессор.
Человек, сидящий за столом, остановил его движением руки и сказал:
– Ваш протест совершенно беспредметен. Я распорядился доставить вас сюда для того, чтобы поставить вас в известность о некоторых вещах, которые касаются вас лично. У каждого человека есть право рассуждать и думать так, как он хочет, и иметь те убеждения, которые ему кажутся наиболее целесообразными. Даже в том случае, если это может рассматриваться как проявление агрессивной глупости. Распространение этих идей – это его частное дело. Но вопрос этот приобретает другой характер, когда государство вынуждено оплачивать деятельность, явно направленную против его интересов. Вы получаете ваше профессорское жалованье, преподаете социологию в университете и в ваших лекциях доказываете преимущества маоизма перед всеми другими государственными концепциями. Повторяю, это ваше дело. Но правительство этого рода деятельность больше оплачивать не намерено. Поэтому с сегодняшнего дня вы не профессор университета и ваша преподавательская деятельность кончена. Вы увольняетесь без сохранения жалованья и без права на какое бы то ни было возмещение убытков. Вы можете продолжать вашу работу в газете. Но я предупреждаю вас, что каждый раз, когда в ваших статьях будут призыв к бунту и свержению существующего строя, вы будете платить за это крупный штраф. Я хотел бы еще подчеркнуть, что ни ваши права, ни ваша свобода слова ничем не ограничены, кроме, конечно, тех штрафов, о которых я только что говорил.
– Я считаю, – сказал профессор, – что все это абсолютно недопустимо и незаконно. Я не позволю никому так обращаться со мной, я автор нескольких трудов по социологии, мое имя известно за пределами нашей страны, и вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что я могу согласиться на то, что вы говорите.
– Мне совершенно не нужно ваше согласие, и меня не интересует ваше мнение. Ни то, ни другое не имеет никакого значения. Запомните, что с сегодняшнего дня вход в университет вам запрещен и жалованья вы не получите.
Человек, сидящий за столом, нажал кнопку звонка, и в его кабинет вошли те трое, которые привезли профессора в автомобиле.
– Доставьте профессора домой, – сказал человек, сидящий за столом.
И все с той же деловитой бесшумностью люди с невыразительными лицами увели профессора из кабинета.
Несколько позже по радио было передано следующее заявление того человека, которому президент передал полноту власти:
– Террористическая организация похитила сегодня днем иностранного дипломата, аккредитованного в нашей стране, британского посла. Взамен его освобождения террористы требуют выкупа в сумме ста тысяч долларов и освобождения членов их организации, находящихся в тюрьме. Это поведение организации не может рассматриваться как политический акт: это самый презренный вид шантажа, тем более что британский посол – отец семейства, и жертва этого уголовного поступка не только он, но и его семья. Ни о каком удовлетворении требований, выдвинутых похитителями, речи быть не может. Но я предупреждаю их, что если через двадцать четыре часа послу не будет возвращена свобода и он не будет доставлен невредимым в безопасное место, то из находящихся в тюрьме восьмидесяти шести террористов сорок три будут расстреляны. Если через сорок восемь часов посол не будет освобожден, то будут расстреляны остальные сорок три террориста. Кроме того, мы знаем все имена и адреса членов террористической организации. Если ее деятельность не будет прекращена, то их всех постигнет участь их товарищей, находящихся в заключении.
Поздно вечером посол вернулся к себе домой. Он объяснил, что его похитители, занимающие виллу недалеко от города, доставили его к первой стоянке такси, и он приехал домой. Он сказал, что обращались с ним вполне корректно и ничем ему не угрожали. Когда его спросили, где именно находится вилла, в которой он был, он ответил, что этого сказать не может, так как его везли туда с завязанными глазами и отвезли оттуда в таком же виде.
– Я думаю, однако, – сказал посол, – что виллу эту узнал бы, если бы попал туда опять.
По словам посла, его внимание привлекли две вещи: во-первых, портреты Мао Цзедуна, Ленина и Че Гевары, во-вторых – дурной запах его похитителей.
– Я думаю, что в этом смысле они напоминали гуннов или воинов Чингисхана, – сказал посол.
На следующий день после освобождения британского посла президент пригласил к себе «человека в кепке». Когда президент думал о нем, он всегда представлял себе именно человека в кепке, хотя он прекрасно знал его фамилию и знал то, что человек этой кепки никогда не носил, за исключением того единственного случая, когда он заговорил с президентом в лесу. Но для президента он остался «человеком в кепке» – и это приобретало особый смысл, точно определяя моральный облик его собеседника. Человек в кепке – это было символическим обозначением, настолько врезавшимся в память президента, что он не мог от него отказаться. Шел дождь, было сыро, и в президентском кабинете топился камин. Когда Вильямс приехал, президент пригласил его в кабинет. Вильямс сел в кресло и вопросительно взглянул на президента.
– Я пригласил вас сегодня, – сказал президент, – не с тем, чтобы задавать вам вопросы практического порядка. О том, что происходит, я достаточно осведомлен. Скажите, если бы посол не был освобожден, вы действительно расстреляли бы сорок три террориста?
– Конечно, нет, – сказал его собеседник. – Но я сообщил бы, что они расстреляны. Видите ли, с этими террористами, к сожалению, нельзя действовать так, как это полагалось бы при демократической системе. Не потому, что демократическая система плоха, а оттого, что эти примитивные люди понимают только один язык – язык угрозы и силы.
– Можно вас спросить еще об одном? – сказал президент. – Что вас заставило принять решение так действовать, как вы действуете сейчас, я хочу сказать – заняться именно политической деятельностью? Стремление к власти? Ваши политические убеждения? Я спрашиваю вас об этом как человек, который мог бы быть вашим отцом. Ваша биография, казалось бы, совершенно не подготовила вас к политической карьере. Вы человек состоятельный, никак нельзя сказать, что вы обойдены судьбой. Насколько я помню, вы никогда не входили ни в какую партию. Если бы вы сказали, что вами движут побуждения личной выгоды, это было бы неубедительно, и я бы вам не поверил.
– Видите ли, господин президент, – сказал Вильямс, – я действительно мало похож на политического деятеля, и ни одно из тех побуждений, о которых вы говорите, не заставило бы меня делать то, что я делаю сейчас. У меня нет ни стремления к власти, ни очень определенной политической концепции, ни даже желания перестроить общество. Я много раз говорил себе: какое мне дело до того, что происходит? Я могу уехать в Швейцарию, поселиться там, погрузиться в личную жизнь и заняться тем, что меня интересует – историческими исследованиями. У нас только одна жизнь и тратить ее на политическую деятельность нелепо, гораздо лучше жить, как человек, а не как гражданин, который заботится о благе своих соотечественников. Это мне представляется бесспорным. Но, по-видимому, Аристотель был все-таки прав: человек действительно животное общественное. И есть вещи, которые не могут его не возмущать. Например. Когда была война, я, как вы знаете, поступил добровольцем в английскую армию и был летчиком. Почему? Потому что я считал, что национал-социалистическая Германия должна быть побеждена, и для этого надо сделать все. Эта плебейская философия малограмотных преступников во главе с Гитлером не должна была ни в коем случае восторжествовать. Против этого надо было бороться – и я это делал.
– Я это понимаю, – сказал президент. – Но это была война, и надо было сделать выбор: либо примирение с насилием, либо борьба. А теперь?
– Теперь, господин президент, происходит нечто, с чем так же трудно примириться, как в свое время с национал-социализмом. Это носит несколько другой характер, но по природе своей это приблизительно то же самое. Заметьте, что во время революционных потрясений к власти почти всегда приходит незначительное меньшинство. Вспомните октябрьский переворот в России. В условиях демократического голосования большевики никогда не пришли бы к власти. Но эти люди захватывают ее. Против них выступают социалисты и демократы, поражение которых неизбежно, так как они противники насилия и террора. Вот в чем заключается их ошибка. Они пытаются действовать убеждением, дискуссией, ссылкой на то, что их поддерживает большинство, то есть доводами, которые являются неопровержимыми с их точки зрения. Но против них – люди, не останавливающиеся ни перед чем и которым совершенно чужды демократия и этические соображения. Они действуют силой и террором. Вот почему их победа обеспечена. Но достаточно понять эту несложную истину и действовать против них их же методами – и тогда вместо победы этих людей ждет поражение. Есть еще одно – это агрессивная глупость экстремистских движений. Почитайте их журналы и газеты, послушайте их выступления. Это прежде всего отличается идеологическим убожеством и беспомощной глупостью. Если бы это было только разглагольствованием и пропагандой, было бы еще полбеды. Но это приводит к бунту, грабежам, налетам на банки, которые называются экспроприацией, но, в сущности, ничем не отличаются от уголовщины. Или, как это только что было, к похищениям ни в чем неповинных людей и требованиям выкупа. И этому следует положить конец. Это одна сторона вопроса. Другая, не менее важная, это то, что нельзя допускать к власти людей, неспособных ее осуществить и вдобавок нечестных. Людей, которые рассматривают государственный аппарат как свою собственную вотчину, которые назначают на самые лучшие посты своих друзей или родственников и которые, в сущности, занимаются тем, что легальным путем обкрадывают своих соотечественников. Именно из таких людей, как вы знаете, состояло правительство, которое вы заставили уйти в отставку. Вот те соображения, которые побудили меня заняться тем, что вы называете политической деятельностью. Сказать, чтобы к этому у меня было призвание, я никак не могу. Но я не могу побороть ни того отвращения, которое у меня вызывает то, что я вижу, ни того презрения, которого заслуживают все эти люди. Они должны быть отстранены – и когда это будет сделано, уверяю вас, господин президент, я лишней минуты не останусь у власти.
– Вы знаете, – сказал президент, – я много раз слышал то, что французы называют profession de foi[34]. Но я не помню ни одного случая, когда побудительными причинами к политической деятельности были бы такие чувства, как отвращение и презрение. Мне кажется, что вы не до конца высказали то, что вы думаете. Есть что-то другое за этим. И это другое – это, может быть, все-таки то самое желание перестроить общество, которое вы у себя отрицаете.
– Вы знаете, господин президент, мне всегда казалось, что так называемые строители нового мира и нового общества – люди чаще всего фанатически настроенные и неумные. Они убеждены в том, что они знают, каким должен быть мир. Но кто может это знать? Почему люди, стоящие во главе крайних партий и не отличающиеся чаще всего ни особенным умом, ни культурой, ни глубоким пониманием, – почему они всем объясняют, как надо жить, что следует делать и как следует думать, и тех, кто с ними не согласен, они уничтожают или ссылают на далекий север? Заметьте, что среди них есть люди идеально честные и есть герои. Но умных людей среди них очень мало, и это обыкновенно мерзавцы или, в лучшем случае, карьеристы. Если вы меня спросите, каким, по-моему, должно быть общество – я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не знаю. Но я знаю, так мне кажется, каким оно не должно быть.
– Но сделать так, чтобы общество перестало быть таким, каким оно не должно быть, мой милый Вильямс, это и значит стремиться к тому, чтобы его перестроить. И чем, в таком случае, вы отличаетесь от создателей нового порядка вещей, о которых вы так жестоко отзываетесь? Тем, что вы умнее и культурнее их? Это правда. Но это только градация.
– Господин президент, я не могу поверить, что вы лично не хотели бы изменить то, что есть сейчас. Бели бы это было так, вы бы со мной не разговаривали.
– Нет, конечно, перемены я считаю крайне желательными. Единственно, во что я не верю, это в возможность изменить человеческую природу.
– Бели нельзя ее изменить, то можно ограничить ее наиболее отрицательные проявления.
– Что в таком случае остается от свободы?
– Свобода остается в полной силе. Но надо провести границу между политическими убеждениями, политическими манифестациями и уголовными актами. Демонстранты, которые кричат – долой империализм! долой правительство! – это люди, которые воодушевлены определенными идеями. Какова их ценность – другой вопрос, но иметь эти взгляды и бороться против империализма – это их неотъемлемое право. Но когда манифестанты начинают поджигать автомобили или грабить магазины, это уже не политика, это уголовные поступки. Политический терроризм это тоже уголовщина. И вот эту грань никогда не следует забывать. Устраните из экстремистских партий уголовный элемент и наиболее буйных крикунов – и порядок будет восстановлен.
– Именно к этому вы и стремитесь?
– Не только, господин президент, но в значительной степени. Мы невольно склонны пренебрежительно относиться к среднему человеку, так называемому обывателю. Это, я думаю, ошибка. Когда происходит война, то именно этот обыватель идет защищать свою страну, именно этих людей хоронят в общих могилах после боя, именно они расплачиваются за все глупости, которые делает правительство страны, гражданами которой они состоят. Вы скажете, что это всегда было так, и будете правы. Почему сотни тысяч – в прежнее время, а теперь миллионы – вооруженных людей идут против других миллионов вооруженных людей и гибнут? Сколько народа погибло во второй мировой войне – потому что с одной стороны был малограмотный фанатик и сумасшедший, германский диктатор, а с другой – палач и азиат в Москве? Конечно, всякая война это вспышка политического безумия. Но важны его возбудители, их надо обезвредить. Когда мы переходим к мирной жизни – почему мне, среднему обывателю, коммерсанту, бухгалтеру, рабочему, мне мешают спокойно жить и работать? Почему я должен протестовать против империализма или колониализма, почему я должен поддерживать то или иное так называемое революционное движение? Почему разбивают витрины моего магазина или кафе, почему орут под моими окнами и почему, если я имею несчастье оказаться на улице и попасть в манифестацию, мне грозит арест и многочасовое пребывание в комиссариате полиции, не говоря о том, что я могу быть тяжело ранен? Потому что за десятки тысяч километров отсюда в нищей стране, населенной желтыми людьми, есть китаец, которого зовут Мао Цзедун и о котором огромное большинство его европейских сторонников не имеет ни малейшего представления? Потому что в Южной Америке был героический и неукротимый человек по имени Че Гевара, который всех собирался освобождать, забывая, что так называемое революционное освобождение – это переход в худший вид рабства – и которого остановила только смерть? Потому что в Москве неумные и недостаточно образованные люди в длинных речах сами себе рассказывают о том, какие они счастливые и хорошие, умные и благородные, и действуют так, как некоторые персонажи из «Книги джунглей» Киплинга? Какое мне дело до всего этого? Дайте мне возможность нормально жить, воспитывать моих детей, ездить за город в конце недели и благополучно дожить до того часа, когда меня отвезут на черном катафалке недалеко, на окраину города и положат мой гроб в могилу или семейный склеп. Вот что мне, обывателю и честному гражданину, нужно. Я готов, так и быть, оплачивать из своих средств никому не нужных паразитов и бюрократов, министров финансов, налогового инспектора и даже строительство подводных лодок, которые никогда не будут пущены в ход, или содержание армии, которая не может быть ни для кого угрозой, но совершенно так же не может быть защитой моей страны, потому что в том маловероятном случае, если начнется война, нам придется иметь дело с противником, которому потребуется полчаса для того, чтобы от нашего государства не осталось ничего, кроме развалин и обуглившихся трупов. Я согласен, как видите, на многое. Но я хочу спокойно жить – и возможность достигнуть этой цели, то есть дать гражданам моей страны нормальное существование – эта цель представляется мне самой важной. И если для этого надо применить драконовские меры, у меня колебаний не будет. В настоящее время мы подготавливаем к работе несколько отрядов специального назначения. Их цель – положить конец грабежам, независимо от того, кто их совершает – уголовные преступники или люди, которые действуют, как они говорят, по политическим убеждениям. Это наша первая задача. Затем мы возьмемся за чистку среди экстремистских элементов. Потом надо будет привести в порядок наш бюджет и использовать государственные средства не для того, чтобы кормить целую армию паразитов, директоров государственных предприятий, назначенных туда потому, что они друзья или родственники того или иного министра, а для того, чтобы строить дома, дороги, больницы, спортивные стадионы и учебные заведения. Как видите, господин президент, работы предстоит много.
– Я искренне желаю вам успеха, – сказал президент. – Но не забывайте одного: нет ничего легче и соблазнительнее, чем путь к диктатуре.
– Я тоже думаю об этом. Но, в конце концов, может быть такое положение, при котором крайние меры, не стесненные решениями парламента, себя оправдывают. Я думаю, что именно в таком положении страна находится теперь. Во всяком случае, я обещаю вам, господин президент, что я буду неизменно обращаться к вам за советом – в том случае, когда у меня возникнут сомнения в том, как надо действовать.
– Быть воодушевленным стремлением к справедливости, как вы, это, конечно, хорошо, – сказал президент, – и я это всячески приветствую. Но стремление к справедливости само по себе не предохранит вас от возможности ошибок.
– Хорошо, господин президент, – сказал Вильямс, вставая и собираясь уходить. – Я буду вас держать в курсе всех моих проектов и планов.
Через несколько дней после этого разговора директора одного из самых крупных банков столицы вызвали по телефону. Когда телефонистка банка спросила, кто вызывает директора, голос на другом конце линии сказал:
– Не задавайте ненужных вопросов и не теряйте времени. Дайте мне директора.
Она растерялась и переключила телефон на директорскую линию. Тот же голос, обратившись к директору, сказал:
– Мы получили сведения о том, что на ваш банк готовится нападение. Поэтому мы отправляем к вам нашего агента, который будет следить за тем, что происходит. Его фамилия Сико, он будет у вас через полчаса.
– Мне совершенно не нужен ваш агент, которого вдобавок я не знаю, – сказал директор. – У меня есть своя собственная система охраны, и никаких посторонних людей в свое здание я не допущу.
– Вы меня неправильно поняли, – сказал тот же голос. – Мне не нужно ни ваше согласие, ни ваше разрешение. То, что я вам говорю, это распоряжение, а не просьба. Этот человек едет к вам. Выслушивать ваши соображения по этому поводу у меня нет ни времени, не желания.
И телефон был выключен. Через двадцать минут в банк вошел мужчина среднего роста, с бледным лицом и синими глазами и спросил, где кабинет директора.
– Как ваша фамилия? – спросил его служащий, к которому он обратился.
– Не задавайте вопросов, – сказал этот человек совершенно безличным голосом. – Где кабинет директора? Это все.
– Директор принимает только по предварительному соглашению, – сказал служащий.
– Я вас спрашиваю в последний раз, где кабинет директора? – сказал посетитель. – Неужели это так трудно понять? Я вас не спрашиваю, когда он принимает или не принимает. Где его кабинет?
– Я повторяю…
Тогда посетитель оттолкнул служащего и стал подниматься по лестнице на первый этаж. Войдя в коридор, покрытый ковром, он увиден несколько дверей и на средней из них надпись с фамилией директора. Он отворил эту дверь и вошел.
– Кто вы такой и что вам угодно? – спросил директор, увидев его и поднимаясь со своего кресла.
– Моя фамилия Сико, – ответил посетитель. – Покажите мне расположение ваших помещений и потрудитесь сообщить вашим служащим, что все мои распоряжения должны выполняться немедленно.
Директор посмотрел на посетителя и испытал невольный и непобедимый страх. Эти спокойные синие глаза были, как ему показалось, глазами убийцы. И с этой минуты он беспрекословно стал слушаться своего посетителя. Он обошел вместе с ним все помещения, спустился в подвал, где стояли несгораемые шкафы, показал, где сидят служащие. Человек этот внимательно выслушал его, потом выбрал себе место, за спиной одного из кассиров, и распорядился поставить туда кресло, на которое он сел. Там он молча, почти не двигаясь, просидел до закрытия банка.
На следующий день он пришел утром и снова занял свое место. Потом он обратился к кассиру и сказал:
– Если что-нибудь произойдет, я скажу вам, что надо делать, и это нужно будет сделать немедленно. Вы понимаете?
– Понимаю, – ответил кассир.
– Приятно иметь дело с человеком, который сразу понимает, что ему говорят, – сказал посетитель. – Этого нельзя сказать о некоторых ваших сослуживцах, в том числе и о вашем директоре.
– Наш директор очень хороший человек, – сказал кассир.
– Может быть, но соображает он медленно.
Весь день этот человек просидел молча и почти не двигаясь. Из банка он ушел последним.
Директор не мог себе простить, что так легко согласился на то, чтобы ему послали этого человека, которому предстояло защищать банк в том случае, если ему будет угрожать опасность. Но что может сделать один человек против хорошо организованной и вооруженной автоматами банды грабителей, состоящей из трех или четырех человек? Кроме того, откуда может быть известно, что на банк готовится нападение? И кто, в конце концов, с ним говорил таким повелительным тоном, какой он считал для себя оскорбительным? В прежнее время он позвонил бы премьер-министру или министру внутренних дел и выяснил бы все сразу. Но их больше не было. Вместо них у власти была какая-то анонимная, никому неизвестная группа людей, которых никто не выбирал и не назначал. Президент был, по-видимому, их пленником, хотя верховная власть теоретически принадлежала ему.
Он вызвал своего секретаря и сказал ему:
– Пойдите вниз и узнайте, там ли этот человек по фамилии Сико и что он делает. Если он там, пошлите его ко мне, я хочу с ним поговорить.
Секретарь спустился вниз – и сразу увидел Сико, который так же неподвижно и спокойно, как все эти дни, сидел в своем кресле.
– Директор хочет с вами поговорить, – сказал секретарь, – поднимитесь в его кабинет.
– Я не думаю, чтобы он мог мне сказать что-либо важное, – ответил Сико. – Но если ему непременно нужно поговорить со мной, скажите ему, чтобы он спустился ко мне.
– Вы забываете, что он директор, и он отдает распоряжения.
– Своим служащим – да, но не мне.
– Простите, – сказал секретарь, – кто вам дал право так разговаривать?
– Никто, – сказал Сико, – и это неважно. Вы мне надоели. Уходите отсюда и не мешайте мне делать то, что я нахожу нужным. Директору можете передать, что он мне не нужен.
Возмущенный секретарь с красным от волнения лицом вышел из помещения, где сидел Сико. Было уже без четверти четыре, и через пятнадцать минут работа в банке кончалась.
И именно в это время стеклянная входная дверь распахнулась настежь, и в банк вошли три человека в масках. Двое из них держали револьверы, у третьего в руках был автомат. Тот, кто вошел первым, сказал:
– Руки вверх и не двигаться под угрозой смерти. Деньги мы найдем сами.
И тогда кассир услышал голос Сико, который тихо сказал:
– Ложитесь на пол и не двигайтесь.
Кассир буквально упал на пол, и в ту же секунду раздался выстрел, а там, где только что была голова кассира, просвистела пуля, которая вошла в стену. Одновременно с этим раздались один за другим, с необыкновенной быстротой, еще три выстрела. Потом голос Сико сказал кассиру:
– Теперь можете вставать, опасности больше нет. Вызовите по телефону полицию.
Сико направился к выходу. Заграждая путь к двери, на полу лежали трупы трех убитых в черных масках. Сико обошел их и вышел на улицу. Против банка, на другой стороне улицы стояла черная автомашина с заведенным мотором. Сико пересек улицу и подошел вплотную к автомобилю. Человек, сидевший за рулем, быстро взглянул на него и увидел направленное на него дуло револьвера. Не повышая голоса, Сико сказал:
– Повернись ко мне лицом.
И когда человек повернулся, как ему было сказано, Сико вынул левой рукой из его кармана заряженный револьвер.
– Теперь работа кончена, – сказал он. – Тебе повезло, ты остался жив. Твои товарищи уже наверное в аду, в гостях у сатаны. Но зато ты нам все расскажешь. Выходи из машины.
В это время подъехал санитарный автомобиль и полицейская машина. Сико в сопровождении человека, у которого он отобрал револьвер, подошел к вышедшему из автомобиля полицейскому инспектору и сказал:
– Этого субъекта надо пока что доставить в комиссариат – я приду за ним позже. А санитарный автомобиль – это напрасно, лучше бы катафалк.
– Кто был убит?
– Трое в масках, которые хотели ограбить банк.
– Кто их убил? – Я.
– Вы пойдете со мной в комиссариат, – сказал инспектор, – мне нужно ваше подробное показание. У вас есть свидетели?
– Все служащие банка, – сказал Сико. – Но у меня нет времени ехать с вами в комиссариат, я должен сделать доклад о том, что произошло, моему шефу.
Он вынул из кармана синюю карточку в кожаной рамке и показал ее инспектору. Инспектор посмотрел на нее и сказал:
– Простите, я не знал, с кем имею дело. Вы можете дать показания тогда, когда вы найдете это удобным. Мы всегда к вашим услугам.
Через час Сико вошел в комиссариат и сказал:
– Приведите мне этого субъекта, который был шофером банды. Кстати, кто эти люди?
– Вернер, Бут и Кронский, – сказал инспектор. – Все они профессионалы, много раз судившиеся. Грабежи и убийства. Но это только часть банды, Вернер был во главе всей организации.
– Мы сейчас постараемся узнать все подробности, – сказал Сико. И когда привели шофера в наручниках, Сико спросил его:
– Как твоя фамилия и где ты работаешь?
– Я буду отвечать только в присутствии моего адвоката, – сказал шофер. Сико внимательно посмотрел на него и сказал:
– Я вижу, что ты не понимаешь, в каком ты находишься положении. Ты должен ответить на все вопросы, которые тебе будут заданы. Тогда, может быть, у тебя есть еще шанс попасть в тюрьму и провести там несколько дней. Но если ты будешь настаивать на том, чтобы вызвали адвоката, то допрашивать тебя мы будем иначе, чем теперь, и никакого адвоката ты вообще больше никогда не увидишь.
– Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что клиентом адвоката может быть только живой, а не труп. Понятно?
Через некоторое время у полицейского инспектора был в руках список всех членов так называемой организации Вернера со всеми адресами. Их было еще восемь человек, и к вечеру они были все арестованы.
Вечером следующего дня, когда Сико возвращался к себе домой – он жил на окраине города – он увидел двух молодых людей, очень небрежно одетых, которые догнали шедшую перед ними пожилую женщину. Один из них прошел вперед, остановился и подставил ножку женщине, а второй сзади толкнул ее в спину. Она тяжело упала и заплакала.
– Что это такое? Что это такое? – повторяла она. На лице ее были ссадины, лицо было в крови. Молодые люди стояли рядом и смеялись.
Сико подошел к женщине и помог ей встать. Потом он обратился к молодым людям и сказал:
– Идите со мной, я хочу с вами поговорить.
Один из них подошел к Сико вплотную и сказал нецензурную фразу. Сико сделал быстрое движение, и молодой человек тяжело упал на тротуар. Его товарищ повернулся и быстро начал уходить. Голос Сико остановил его:
– Еще один шаг, я стреляю. Молодой человек остановился.
– Иди сюда, – сказал Сико.
Он остановил проезжающее такси, впихнул туда первого молодого человека, потом второго и дал адрес ближайшего комиссариата полиции. Когда они приехали туда, первый молодой человек пришел в себя. Молодые люди стояли рядом, за ними стояли два полицейских. Сико сидел на стуле за столом.
Он сказал:
– Ничего не может быть подлее, чем нападать на старую женщину. За такие вещи надо людей наказывать.
– Тебя никто не просит давать нам уроки морали, – сказал первый молодой человек.
– Во-первых, мне надо говорить «вы», – сказал Сико. – Во-вторых, надо быть вежливым. Это в некоторых случаях вопрос жизни и смерти. Ты понял? Теперь так: вы оба отдохнете здесь и проведете ночь в комиссариате. Завтра утром я с вами поговорю.
Он ушел – и перед уходом провел несколько минут в разговоре с бригадиром полиции.
Когда он пришел на следующее утро, он едва узнал молодых людей. Костюмы их были залиты кровью, распухшие лица покрыты кровоподтеками, и было видно, что каждое движение им доставляет боль. Сико посмотрел на них, и на бледном его лице появилось нечто вроде улыбки.
– Теперь вы можете идти домой, – сказал он. – Я вас задерживать не собираюсь и не собираюсь также давать вам уроки морали. Но я вас предупреждаю об одном: если вы еще раз попадетесь, это будет последний раз. Потому что из комиссариата вас доставят в морг.
И, обратившись к комиссару полиции, он сказал:
– Вы можете выгнать отсюда эту падаль.
Манифестация началась в университетском районе города. Первые отряды полицейских были смяты и отброшены, и манифестанты, число которых все время увеличивалось, двинулись к центру города. Они несли транспаранты, на которых было написано – «Долой империализм!», «Да здравствует Мао Цзедун!», «Богатство страны принадлежит трудящимся!», «Смерть буржуям!»
Голос через громкоговоритель сказал:
– Граждане, мы просим вас провести манифестацию в порядке, ни на кого не нападать и оставить в покое частное имущество. Мы надеемся на ваше благоразумие.
Во всю длину тротуара были выстроены штатские люди, чем-то похожие друг на друга – очень важные, спокойные и знающие свое дело.
– Сволочь! Палачи! – кричала толпа. Посреди улицы горел перевернутый и подожженный автомобиль. Потом в витрину огромного кафе полетели булыжники. Несколько дальше, из разбитых стекол магазинов чьи-то цепкие руки тащили всевозможный товар. Удержать эту толпу, казалось, было нельзя. И тогда люди в штатских костюмах сделали шаг вперед, в их руках оказались автоматы, и они открыли пулеметный огонь по первым рядам толпы. Люди десятками падали на тротуар и оставались лежать неподвижно. Остальные в ужасе бросились бежать кто куда, и буквально через несколько минут улица стала пустой. Люди, лежавшие на тротуарах, были подняты, погружены в санитарные автомобили и увезены. Через десять минут после этого в кабинете президента зазвонил его личный телефон. Голос Вильямса сказал:
– Здравствуйте, господин президент. Вы слышали о массовом убийстве на главной улице столицы?
– То, что мне сообщили, звучит настолько неправдоподобно, что я предпочитаю не высказываться по этому поводу. Я думаю, что действовали против манифестантов ваши люди, и я помню ваши слова о том, что всякая гражданская война влечет за собой гибель невинных людей. Мне сообщили, что был открыт пулеметный огонь и первые ряды манифестантов были срезаны им. Я не могу этому поверить.
– Благодарю вас, господин президент. Ваши слова – лучшая награда, которую я мог бы ожидать. Пулеметный огонь, однако, был действительно открыт и действительно первые ряды манифестантов были им скошены. Но никто из них не был убит, так как стрельба велась деревянными пулями. Мы потом во всем этом разберемся. Но я хотел немедленно поставить вас в известность о том, что произошло.
– Спасибо, – сказал президент.
Между тем, в городском госпитале шла лихорадочная работа: мнимые убитые приводились в чувство. У всех были тяжелые кровоподтеки от деревянных пуль, и все они смотрели вокруг себя мутным взглядом, не понимая, что происходит. Им впрыснули снотворное и в тюремных автомобилях отвезли в центральную городскую тюрьму. Общее число их оказалось меньше, чем думали вначале: их было сто шестьдесят три человека.
На следующий день утром президент республики принял делегацию бывших депутатов парламента, которая пришла жаловаться на то, что произошло.
– Господин президент, – сказал Гейне, бывший во главе делегации. – Вам не кажется чудовищным тот факт, что по мирным манифестантам открывают пулеметный огонь? Как это объяснить? Кто вернет жизнь убитым? Как представители власти после этого могут смотреть в глаза родителям убитых?
– Вы этих убитых видели?
– Да, господин президент. Я видел трупы тех, по ком был открыт пулеметный огонь.
– Вы могли удостовериться, что эти люди действительно убиты?
– Но это было очевидно.
Президент поднялся со своего кресла и сказал: – Когда мне будут представлены доказательства того, что хоть один из этих демонстрантов был действительно убит, – я немедленно прикажу начать следствие по этому делу. Но до сих пор я таких доказательств не имел.
Коммунистические газеты вышли с заголовком на первой странице: «Анонимная группа лиц, захватившая власть в стране, пользуется услугами наемных убийц, открывающих пулеметный огонь по безоружным демонстрантам».
В девять утра перед входом в редакцию остановился черный автомобиль, из которого вышло три человека в синих костюмах – те самые, которые были недавно у профессора социологии. Они вошли в здание и сказали, что хотят видеть редактора.
– По какому делу?
– Он это сразу же узнает, – сказал один из посетителей.
– Редактор занят.
– Скажите ему, что у него есть ровно три минуты, чтобы принять решение. Если через три минуты мы не будем приняты, ответственность за дальнейшее лежит на нем.
Через три минуты люди в синих костюмах вошли в кабинет редактора.
– Кто вы такие и в чем дело? – спросил редактор. – Предупреждаю вас, что у меня нет времени.
– Гораздо больше, чем вы думаете, – сказал один из людей в синем костюме. – Какие у вас были основания для того, чтобы на первой странице газеты печатать сообщения о наемных убийцах?
– Это не ваше дело.
– Прежде всего, господин редактор, я попросил бы вас не забывать об элементарных правилах вежливости, – сказал человек в синем костюме. – Нарушение этого правила вам может обойтись очень дорого. Но вы не ответили на наш вопрос.
– В газете было написано то, что все знают.
– Кто эти наемные убийцы?
– Если вы хотите знать, то я лично с ними незнаком.
– Дело в том, что эти наемные убийцы не существуют. Каждый из тех, кого вы так называете, может вас привлечь к судебной ответственности за диффамацию, и у вас нет никаких шансов выиграть процесс. Мы вашу газету не закрываем. Это первое и последнее предупреждение.
Все трое посетителей поднялись и ушли. Редактор смотрел им вслед. Он был опытным партийным работником, ему приходилось иметь дело и с полицией, и с административными властями. Но таких людей он еще никогда здесь не видел – и он сразу понял, что с ними нельзя так действовать, как он действовал до сих пор. Своему помощнику он сказал, когда тот вошел в кабинет:
– Начинается что-то новое, и надо быть чрезвычайно осторожным, как никогда до сих пор. Эти субъекты, которые только что были у меня, – очень опасный народ. Я не знаю, откуда они появились. Я таких видел много лет тому назад, во время гражданской войны в России. Но мне повезло, потому что те, кто их видел один раз, второй раз обычно их уже не видели.
Главного организатора демонстрации, того, на кого сразу же был направлен пулеметный огонь, следователь начал допрашивать через три дня после событий. Рядом со следователем сидел Вильямс в темно-сером костюме. Организатор был атлетический человек с мрачным лицом, отказавшийся отвечать на вопросы. Следователь сказал:
– Не заставляйте нас терять даром время.
– Мне совершенно безразлично, теряете вы время или нет, – сказал организатор. – Это меня меньше всего интересует. Я не намерен отвечать на ваши вопросы, я не признаю вашей власти, и я буду вести борьбу против вас до тех пор, пока от вас ничего не останется.
– То, что вы говорите, не может быть принято во внимание, это слишком глупо, – сказал следователь. – Я еще раз напоминаю вам, что времени терять не следует – и поверьте, я знаю, что говорю. Какова ваша цель? Цель вашего политического движения?
– Уничтожение существующего режима всеми средствами и культурная революция.
– Как в Китае?
– Да, как в Китае.
Вильямс, который до тех пор молчал, сказал, обратившись к допрашиваемому:
– Я приблизительно так себе это и представлял. Вы где-нибудь учились?
– То, что вы называете культурой и цивилизацией, не имеет никакой ценности, и учить это незачем.
– Что делают ваши родители?
– Это не ваше дело.
– Еще один такой ответ, и вы очень в этом раскаетесь, – сказал следователь. – Вам был задан вопрос: что делают ваши родители?
– Мой отец врач-психиатр. Моя мать ему помогает.
– Что делать с этим дураком? – сказал следователь.
– Вы не имеете права так говорить! – закричал допрашиваемый. – Я вас научу, как нужно разговаривать с людьми!
Рядом с допрашиваемым оказались два человека, по одному с каждой стороны. Он взглянул на них и замолчал. Вильямс сказал следователю:
– Вы помните, мы с вами говорили о пользе некоторых путешествий? Я думаю, что этому субъекту и его единомышленникам надо дать возможность больше ознакомиться с вопросами, которые их интересуют. Я хочу сказать, познакомиться на месте. Но давайте посмотрим, что дадут следующие опросы.
Допрашиваемого увели. Вместо него ввели другого лохматого, взволнованного молодого человека в кожаной куртке и розовых штанах.
– Кто вы такой? – спросил следователь. Молодой человек молчал.
– Я вам задаю вопрос и повторяю его, – сказал следователь, – третий раз я задавать его не буду. Кто вы такой?
Молодой человек молчал. Тогда один из тех, кто его привел, приблизился к нему – и через секунду раздался отчаянный крик. Следователь поморщился и сказал:
– Не орите. Вы понимаете теперь, что в ваших интересах отвечать?
– Да, господин следователь.
– Кто вы такой?
– Я работаю на постройке.
– Почему вы приняли участие в демонстрации?
– Потому что я ненавижу капиталистическое общество.
– Вы где-нибудь учились?
– Да, но мне не давали хода, я был последним учеником, и потом меня выгнали из школы.
– Вы состоите в какой-нибудь политической партии?
– Да, это партия революции и борьбы против капитализма.
– Какие цели вы себе ставите – в непосредственном будущем?
– Террор и уничтожение существующего строя.
– А что потом?
– Потом?
Молодой человек был явно удивлен:
– Потом?
– Ну да, потом, когда все это будет достигнуто, что вы будете делать?
– Этого я не знаю.
– Вы никогда об этом не думали?
– Нет.
Так продолжался допрос – с одними и теми же результатами.
– Когда вы допросили одного – вы допросили сто, – сказал следователь. – Это не политики, это молодые люди, которые верят всему, что им говорят, и которых соблазняет перспектива действия – борьбы и террора. А некоторые – просто уголовные субъекты.
Через несколько дней допрос был закончен. Родители получили разрешение навестить заключенных, и выяснилось, что никто из них не пострадал. Волнение улеглось. А через некоторое время все эти молодые люди исчезли, и никто не знал, куда они делись.
Поздно вечером Сико вошел в один из баров на центральной улице. Там почти никого не было, кроме очень накрашенной женщины, не обратившей на нового клиента никакого внимания, и пожилого, хорошо одетого человека, который сидел в углу на высоком табурете и плакал. Сико обратился к лакею и спросил, в чем дело.
– Не знаю, – сказал лакей. – Этот клиент здесь уже полчаса и все время плачет. Я никогда ничего подобного не видел.
Сико подошел к клиенту и сказал:
– Что случилось? Отчего вы плачете? Может быть, можно чем-либо помочь?
– Нет, – сказал тот, – нет, к сожалению нельзя. Я плачу потому, что до сегодняшнего дня я был порядочным человеком, а сегодня перестал им быть.
– Каким образом?
– Я проиграл деньги, которые мне не принадлежат.
– Где?
– В игорном доме, здесь этажом выше.
– Сколько вы проиграли?
– Десять тысяч.
– Идемте со мной, – сказал Сико, – может быть, это можно устроить.
Они поднялись наверх. Широкоплечий мужчина заградил им дорогу.
– Здесь не проходят.
Он стоял, слегка раздвинув ноги, и испытующе посматривал на Сико.
– Тебя об этом никто не спрашивает, – сказал Сико. – Мы идем к директору.
Лицо мужчины побледнело, он сошел с своего места, и Сико вместе со спутником вошел в кабинет директора. Директор игорного дома был человек южного типа, с чисто выбритым лицом и неподвижными глазами.
– Добрый вечер, – сказал Сико. – Я привел вам моего приятеля. Он сегодня проиграл у вас деньги, которые ему не принадлежат. Это его очень огорчает. Я нашел выход из положения: верните ему эти деньги – десять тысяч – и все будет в порядке.
– Это шантаж или глупость? – спросил директор.
– Ни то, ни другое, – сказал Сико. – Назовем это распоряжением.
В комнату вошли два человека, ставшие рядом с директором.
– Вы здесь не нужны, – сказал Сико, – у нас частный разговор.
Один из вошедших сделал несколько шагов по направлению к Сико. В руках Сико появился револьвер.
– Я никогда не делаю промаха, – сказал Сико. – Я хотел бы, чтобы вы это знали.
Затем, обращаясь к директору, он сказал:
– Скажите вашим служащим, что они нам не нужны.
В это время произошло быстрое движение, и раздался выстрел. Один из служащих директора схватил левой рукой правую, кисть которой была раздроблена.
– Я тебя предупреждал, что я не даю промаха, – сказал Сико. – А теперь вон отсюда!
Помощники директора ушли. Сико посмотрел на директора и сказал:
– Я пытался с тобой разговаривать по-человечески, но из этого ничего не вышло, так как ты уголовная сволочь. Верни немедленно деньги этому человеку, потом мы с тобой поговорим в комиссариате полиции.
– Вы не имеете права так действовать, – сказал директор.
– Кретин, – сказал Сико, – кто спрашивает твое мнение? Плати, и идем.
Директор заплатил деньги спутнику Сико, и они вышли вместе на улицу.
– Кто вы такой? – спросил директор.
– Не задавай вопросов, – сказал Сико. – Вопросы буду задавать я. Сколько раз ты был приговорен к тюрьме?
– Одиннадцать.
– Откуда у тебя были деньги на открытие игорного дома?
– Мне помогли друзья.
– Мне нужен список их имен и их адреса.
– Этого вы не получите.
Сико посмотрел на хозяина игорного дома и улыбнулся. Это была бледная полуулыбка, но хозяин понял ее значение.
– У меня жена и дети, – сказал он.
– Им ничто не угрожает, – сказал Сико. – Ты только должен вести себя так, чтобы заслужить доверие – и больше ничего. Но так как ты не хотел вернуть моему приятелю деньги, то твой дом будет закрыт. Ты займешься чем-нибудь другим – я слышал, что в городе не хватает подметальщиков. После тюрьмы ты об этом подумай.
Сико дошел со своим собеседником до комиссариата, передал его дежурному инспектору и ушел. Он дошел до одной из окраин города и стал за стеной полуразрушенного дома.
Он ждал так, не двигаясь, не сходя с места, около часа. Затем из соседнего дома вышел высокий, широкоплечий человек, который оглянулся по сторонам и пошел быстрой походкой по направлению к городу. Сико, как тень, следовал за ним. Через некоторое время человек с черного хода проник в небольшой особняк. Сико остановился у двери и стал слушать.
– Я вас умоляю, – говорил женский голос, – оставьте меня, у меня ничего нет.
– Вот ты мне дашь то, чего у тебя нет, – сказал мужской голос.
После этого раздался отчаянный крик женщины.
Сико толкнул дверь и вошел. Женщина сидела на стуле, руки у нее были связаны за спиной, грудь была обнажена, и широкоплечий человек прижигал ее левый сосок зажженной папиросой. Услышав шум отворяющейся двери, он вскочил с места. В правой руке Сико был револьвер.
– Развяжи ей руки, – сказал Сико.
– Я делаю то, что нахожу нужным, мне никто не может давать приказов, – сказал человек.
– Я считаю до трех, – сказал Сико.
Руки женщины были тотчас же развязаны.
– Что он требовал от вас? – спросил Сико.
– Деньги, – ответила она. – Он сказал, что знает, что все мои сбережения я храню здесь, и потребовал, чтобы я их ему дала. Он сказал, что я все равно их дам, так как никто не может выдержать некоторых мучений.
– Это верно? – спросил Сико, обращаясь к мужчине, который незаметно приближался к выходной двери. Сико покачал головой и сказал:
– Не старайся уйти. Бели ты постараешься это сделать, то помни, что для тебя отсюда одна дорога – на кладбище. Теперь отвечай.
– Я ничего не намерен отвечать, и вы можете идти к дьяволу.
В левой руке Сико неизвестно откуда оказался витой металлический хлыст. Он сделал такое быстрое движение, что его никто не заметил, и тяжелый кровавый след от хлыста появился на лице человека, который упал и с трудом поднялся.
– Понял? – спросил Сико.
– Я ничего не скажу.
Последовал второй удар – и правый глаз человека закрылся.
– Если ты хочешь через пять минут стать калекой, то это не трудно, ты знаешь, – сказал Сико. – Ты не привык разговаривать с серьезными людьми. Я тебя научу. Надо отвечать на все вопросы. Если ты не будешь это делать, есть два выхода из этого положения: или ты выйдешь отсюда с переломанными конечностями, глухой и слепой на всю жизнь, или твой труп отправят в общую городскую могилу. Теперь ты понимаешь? Во всяком случае, на правый глаз ты уже ослеп. Теперь отвечай. Подожди, я вызову полицию.
Он позвонил по телефону, и через некоторое время приехала полицейская машина. Инспектор вошел в дом, поздоровался с Сико и взглянул на широкоплечего человека.
– А, – сказал он, – мы за этим мерзавцем давно охотимся.
– Теперь он в вашем распоряжении. Он согласен отвечать на все вопросы, можете его допрашивать.
Допрос продолжался несколько часов. Потом, значительно позже, было сообщено, что арестованный был убит при попытке к бегству.
Бруно считался одним из самых богатых и уважаемых граждан страны. У него было несколько предприятий, каждое из которых приносило определенный доход. Были дома и виллы в разных концах страны. Однако все эти предприятия не могли, как казалось многим, приносить такие крупные доходы хозяину. На это Бруно отвечал с улыбкой, что даже самый порядочный коммерсант не может разбогатеть, не становясь жуликом.
Но главный доход приносили Бруно предприятия, которые ему теоретически не принадлежали: игорные и публичные дома. Ни в одном из них он не бывал, никто там не знал его имени, но всё – от кнопки до стула – принадлежало именно ему. Даже полиция этого не знала. Но вот, в последнее время стало происходить нечто странное: один дом был закрыт по административному распоряжению, в нескольких других была конфискована вся выручка, причем нельзя было выяснить, кто это сделал – власти или частные люди. И наконец, последнее, что он узнал, это история с десятью тысячами и плачущим человеком. Бруно не понимал, в чем дело, это казалось уж слишком неправдоподобно. Через своего адвоката он добился свидания в тюрьме с директором дома и сказал ему:
– Теперь расскажи мне, как все произошло. Когда тот рассказал, Бруно схватился за голову.
– Глупее быть не может. Как, ты сказал, зовут человека, который с тобой говорил?
– Он назвал себя Сико.
– Это, конечно, ничего не значит. Он тебе сказал, что не дает промаха?
– Он не только это сказал, он это доказал. Причем он стрелял, не целясь.
– Почему же ты, дурак, не отдал ему десять тысяч?
– Я не могу так раздавать деньги кому угодно.
– Ему ты должен был отдать все, что у тебя было, и еще благодарить его за то, что он согласен это взять. Ты понимаешь, что ты теперь в его власти? Отсюда тебя выпустят, это несложно, я это устрою. Но тебе конец, ты шага не сможешь сделать. Что он тебе сказал еще?
– Что его приятель огорчен, и я хорошо сделаю, если верну ему деньги. Ну, а дальше вы знаете.
– Ты на него смотрел, на этого человека?
– Да.
– Ты понял, что он чем-то отличается от других?
– Да, я понял, но я хотел ему показать…
– А что он тебе потом сказал?
– «Я хотел с тобой говорить как с человеком, а ты просто уголовная сволочь».
– Что он еще спросил?
– Кто мне помог открыть дом.
– Что ты ответил?
– Что он этого не узнает.
– Видишь ли, старик, я опытнее тебя. Дело обстоит так: тебя будут допрашивать, ты скажешь правду и назовешь мое имя. Меня здесь уже не будет. Тебя скоро выпустят – и ты приедешь в Милан, где я тебе найду работу. Но имей в виду: никаких отклонений от истины, это твой единственный шанс на спасение.
Бруно встал и ушел. На следующий день вечером его машина подъезжала к итальянской границе. Ее задержали. Через полчаса другая машина подъехала к тому же месту, и из нее вышел Сико. Он подошел к автомобилю Бруно. Бруно услышал знакомый голос, который сказал:
– Я вас в свое время предупреждал, что наша встреча неизбежна. Нет ничего более неправильного, чем расчет на справедливость возмездия, и так далее. Я в это плохо верю, вы, вероятно, еще меньше. Но есть человеческая память и есть вещи, которые не забываются. Это прекрасно может совпадать со справедливостью, необходимостью возмездия и так далее. Но это совпадение не так важно. Важна встреча. И важен характер человека. Большинство людей из тех, с кем вы имели дело, можно было купить. Других было нетрудно запугать. Но вот, нужно же вам было столкнуться с человеком, которого купить нельзя, а запугать еще труднее. Что случилось с террористами, которых вы ко мне послали?
– Не знаю, – сказал Бруно.
– Но вы все-таки знаете: миссия выполнена не была.
– Потому что, в конце концов, это вы – убийца.
– Это не совсем точно. Когда у вашего собеседника в руках револьвер, который направлен на вас…
– Тем не менее, этот собеседник становится трупом.
– Потому что ваши наемные убийцы это неловкая и неумелая сволочь. Посмотрите на вашего шофера – он думает, что он готов. Но прежде чем он сделает одно движение, он будет убит. Если он этого не знает, это знаете вы.
– Что вы от меня хотите?
<Здесь обрывается неоконченная рукопись романа>
Т. Красавченко. Гайто Газданов: традиция и творческая индивидуальность
Тонкому психологу, блистательному рассказчику Гайто Газданову присущ особый, несколько отчужденный, остраненный (и, видимо, поэтому спасительный для него), ироничный, усталый взгляд на беспощадную реальность – с позиций вечности, в метафизической перспективе: он чувствовал «необыкновенную хрупкость жизни», «ледяное дыхание и постоянное присутствие смерти», но это не охлаждает его прозу, а придает ей особую чувственную выразительность и интенсивность, пронизывает ощущением ценности каждого мига жизни, ее тепла, пониманием того, что «каждая человеческая жизнь содержит в себе, в своей временной и случайной оболочке, какую-то огромную вселенную»[35].
Г. Адамович в 1934 г. назвал Газданова последователем И. Бунина, «единственным его учеником»[36], да и Бунин, как вспоминал тот же Адамович в некрологе о Газданове, высоко оценил стилистическое мастерство писателя, легкий поток языка, неожиданные точные эпитеты. «Вечер у Клэр» действительно поражает читателя прозрачным языком, пластичностью стиля, магией полулирического, полуиронического изображения «странствий души» героя, развитием мотива «темных аллей». Но сам Газданов в интервью за месяц до смерти говорил о том, что мир Бунина чужд ему, ибо принадлежит – по сути и форме – XIX веку, тогда как его, газдановское мироощущение, несмотря на значительные наслоения романтизма и идеализма, мир, отражающий дробный, лишенный цельности духовный опыт человека XX века.
Отказ Газданова от столь, казалось бы, лестной для него ассоциации понятен. Несмотря на явную связь с Буниным, а еще более с Толстым, Чеховым, он ощущал себя «другим» – человеком и писателем «некалендарного», настоящего XX века, определившего его мироощущение, жизненное кредо, эстетику и поэтику. Глубина, ясность его миросозерцания определены ничем не замутненным пониманием ценностей бытия человека, прошедшего ад.
На рубеже 1930-х годов русская эмигрантская критика отзывалась о Газданове и о Сирине (В. Набокове) как о самых талантливых молодых писателях Русского зарубежья (Г. Адамович, В. Ходасевич и др.). По мнению В. Вейдле, одаренностью Газданов превосходил Набокова[37]. М. Осоргин в письме Горькому из Парижа в Сорренто 9 февраля 1930 г. назвал Газданова «первым в зарубежье» и писал, что ждет от него больше, чем от Сирина.
И ныне литературоведы, разрабатывая оппозицию «теплый, лиричный, обаятельный» Газданов и «холодный, головной, надменный» Набоков, нередко мучаются вопросом, как же так получилось, что Газданов незаслуженно оказался в тени, как бы на втором плане? Американский исследователь Л. Диенеш видит в недостаточном признании Газданова некое роковое стечение неблагоприятных исторических обстоятельств: появись его романы «Ночные дороги» и «Полет» не перед самой войной или в ее начале, когда мир был уже в глубоком кошмаре, а «где-нибудь в середине тридцатых», Газданова бы, «конечно, признали подлинным соперником Набокова»[38].
Сопоставление Газданова и Набокова как современников, как представителей литературы русского экзистенциализма, вполне правомерно, но только не в понятиях соперничества: они принадлежат разным культурным мирам, представляют два разных типа художественного сознания.
Набоков уехал из России, будучи вполне сложившимся двадцатилетним молодым человеком, успевшим заявить о себе как поэт в русле русской классической традиции. Он «увез с собой» русскую культуру и, находясь в изгнании, как мог и сколько мог, сохранял ее, развивая ее традиции. Всем своим творчеством, деятельностью, он культивировал «пушкинский миф», став «солистом» в эмигрантской пушкиниане XX века, и претендовал на титул главного, легитимного наследника Пушкина и традиций русской классической прозы в литературе XX столетия.
Шестнадцатилетний Газданов вступил в Добровольческую армию Врангеля, не успев закончить гимназию, а в 1920 г. в семнадцать лет оказался в эмиграции и лишь там закончил Шумен скую русскую гимназию в Болгарии. Почти подростком он получил образование в «университете жизни», на личном опыте понял, что значит культура, и в конце 1920-х годов в Париже не без труда добился права учиться на историко-филологическом факультете Сорбонны, по ночам работая таксистом. Его формирование как личности и писателя (он начал печататься через шесть лет после отъезда из России) происходило и завершилось в эмиграции, где он не истощал, как многие русские писатели-эмигранты, а мучительно нарабатывал «культурный ресурс», создавая из разных источников свой универсум, экспрессивно описанный им в романе «Ночные дороги»:
«В силу какого невероятного стечения обстоятельств мои юношеские блуждания – зима, Россия, огромное красное солнце над снегом, Кавказ, Босфор, Диккенс, Гауптман, Эдгар По, Офелия, Медный Всадник, Леди Гамильтон, трехдюймовая пушка… и, наконец, ужасное месиво человеческих лиц… Шекспир, Великий Инквизитор, смерть князя Андрея, Будапешт и мосты над Дунаем, Вена, Севастополь, Ницца, пожары в Галате, выстрелы, море, города и беззвучно струящееся время… в силу какого невероятного стечения обстоятельств все это множество чужих и великолепных существований, весь этот бесконечный мир, в котором я прожил столько далеких и чудесных жизней, свелся к тому, что я очутился здесь, в Париже, за рулем автомобиля, в безнадежном сплетении улиц, на мостовых враждебного города, среди проституток и пьяниц, мутно возникающих передо мной сквозь легкий и всюду преследующий меня запах тления?»[39]. Перед нами характерное для Газданова смешение явлений разных рядов: круга чтения и жизненных впечатлений, авторов и персонажей, определившее быт и бытие писателя, его философию жизни, мир его прозы.
Мы слышим в творчестве Газданова голоса многих – это и русские, и французские писатели – М. Пруст (о чем так любила писать эмигрантская критика), Ги де Мопассан, Л.-Ф. Селин, Ф. Мориак, РМ. Рильке… Но при этом нужно помнить, что изначально как личность он формировался не собственно русским, а российским культурным пространством, на культурных перекрестках, нужно постичь роль Кавказа как его прародины, глубинный слой культурно-этнических дефиниций. Хотя родился Газданов в Петербурге, по-осетински не говорил, тем не менее осетинский язык знали его родители, основополагающая часть его жизни – детство прошло в осетинской семье, летом он часто гостил во Владикавказе у деда, знаменитого своей удалью (дом его до сих пор сохранился). Генетический код Газданова как личности – осетинский (недаром 29 апреля 1930 г. в письме осетинскому общественному деятелю, писателю, бывшему владикавказскому главе Г. Баеву, жившему в ту пору в Берлине, он назвал себя «чистокровным осетином»). Его творческую индивидуальность во многом определили глубинные интимные национальные коды, генетически усвоенные им у осетинской культуры.
В целом же мы слышим в творчестве Газданова многоголосицу разных культурных кодов, разных культур. Но в результате, – и это главное – мы слышим – его уникальный голос.
Первый же роман Газданова «Вечер у Клэр» (1930) принес ему известность; этот роман, за которым стоит Россия, по своему эпическому дыханию напоминает «Степь» Чехова. Русская эмигрантская критика, реагируя на поэтику «потока сознания», слышала там более всего голос Пруста. Пожалуй, гораздо очевиднее в романе присутствие принципиально важных для эстетики писателя традиций лермонтовского романтизма и толстовски-остраненного взгляда на мир. Но в целом эта вещь уникальна: у Газданова здесь нет непосредственных предшественников, он создал свой мир, выступил как самобытный писатель. Какой русский писатель, после А. Белого, В. Розанова, Ф. Сологуба, мог без иронической ухмылки написать в то время лирическую, романтическую драму юной любви на фоне жестокой жизни, драму погони за призраком любви и, в конце концов, ее крахе?
Примечательно, что 1929 г., когда был завершен роман «Вечер у Клэр», Газданов написал эссе «Миф о Розанове». Прошедший Гражданскую войну, страдающий, как и все молодые писатели – младо-эмигранты танатологическим комплексом, чувствующий присутствие в жизни смерти, как ощущает наркотики собака, натренированная на их поиск, он видит в Розанове человека, который всю жизнь умирал. И создает свой «миф» о нем как о писателе-метафизике, всю жизнь творившем в «предельной ситуации», жившем с постоянным ощущением «порога смерти». Газданов находит у Розанова предельную, невыносимую концентрацию экзистенциального мироощущения, «существование в смерти» тогда, как нужно было жить, и отторгает его, обосновывая необходимость этого отторжения ссылками на Толстого (напоминая уникальную в русской литературе сцену отречения Пьера от умирающего Каратаева в «Войне и мире») и ссылками на освященный Евангелием закон об отречении живого оттого, кто должен умереть: «Петр три раза отрекался от Христа уже в то время, когда для Царя Иудейского был сколочен деревянный крест, на котором Его распяли. И в тот момент, когда это происходило, прав был Петр, а не Иисус, потому что Петр остался жить, а Иисус умер».
Эссе Газданова было написано «против течения» эмигрантского общественно-литературного мнения, в рамках которого как раз сложился своеобразный культ Розанова. Конечно, прежде всего Газданов полемизировал с Мережковским и Гиппиус, которых не любил, а также и с А. Ремизовым, П. Сувчинским, Д. Святополк-Мирским; его эссе – отклик на книги (1927) В. Зеньковского, на переиздание в Берлине первого короба «Опавших листьев», о чем писал Г. П. Федотов в 1930 г. в первом номере младоэмигрантского журнала «Числа»[40]. Эмигрантская апология Розанову побудила Газданова написать эссе, однако он так и не решился опубликовать его (оно увидело свет лишь в 1994 г.). И дело было, конечно, не в его «боязни» перед общественным мнением. Храбрости ему не занимать: его шокирующее эссе «О молодой эмигрантской литературе» (1936) вызвало целую дискуссию и отповедь «старших» эмигрантов; вспомним и его нетрадиционные эссе о Гоголе и Чехове, и его столкновение с «мэтром» Мережковским. Известно знаменитое суждение Г. Адамовича о том, что он всегда держался независимо.
Газданов не стал публиковать «Миф о Розанове», возможно, ощущая зыбкость своей позиции «отречения от умирающих». А скорее всего по другим причинам. Тут вновь возникает оппозиция Газданов – Набоков.
Набоков отзывается о Розанове как о «замечательном писателе, сочетавшем блестки необыкновенного таланта с моментами поразительной наивности»[41]. Делает он это в лекции о Достоевском, рассказывая своим американским студентам о роли Аполлинарии Сусловой в жизни писателя, позднее вышедшей замуж за Розанова. «Я знал Розанова, когда он уже был женат на другой», – замечает Набоков. Вот тут-то и сказались четыре года разницы в возрасте. Формирование Газданова как личности и писателя (он начал печататься через шесть лет после отъезда из России) происходило и завершилось в эмиграции, он в сущности «пропустил» Серебряный век и Розанова, яркого его представителя.
Отношение к Розанову еще раз выявляет принадлежность Набокова и Газданова разным культурным пространствам. Они представляют два разных типа художественного сознания, порожденных российской культурой. Набоков – последний в русской литературе выходец из дворянской усадьбы и «поскребыш» Серебряного века, когда литература дошла до невероятной степени тонкости, можно сказать истонченносги, он оценивает литературу с сугубо эстетических позиций, отсюда его приятие Розанова, и смотрит на человека холодным взглядом энтомолога («Приглашение на казнь», «Камера обскура» и пр.). Газданов, светлая романтическая душа, не искушен играми и перверсиями Серебряного века. У него преобладает этический подход к литературе в духе классической русской традиции или традиций российской разночинной интеллигенции, выходцем из которой он был.
Но вместе с тем все и гораздо сложнее, о чем свидетельствует, в частности, раннее эссе Газданова «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане» (1929), где он объединяет Гоголя, По и Мопассана как писателей, чье искусство «находится вне классически рационального восприятия»: Гоголь снедаем духовным недугом, доведшим его до безумия; «Орля» Мопассана – это по сути записки сумасшедшего и дневник болезни писателя; Эдгар Алан По жил точно в бреду.
Объединяет писателей, по Газданову, и их трагический конец – смерть (а до того жизнь) в полном одиночестве – таковой была, на взгляд писателя, их расплата за особый творческий дар, то есть дар создания «искусства фантастического»; чтобы пройти расстояние, отделяющее его от мира фактической реальности, нужно особое обострение духовного зрения.
Тут явна перекличка с Набоковым: Газданов пишет о фантастическом, лишь несколькими буквами отличающемся от фактического, у Набокова – комическое отделяет от космического всего лишь одна свистящая. Признавая присутствие «за пределами обычной действительности» феноменов иного измерения, Газданов признает невозможность объяснения «ни что такое страх, ни что такое смерть, ни что такое предчувствие».
Пожалуй, еще более явно, чем Набоков, Газданов в характерной для него манере вводит мотив смерти: «фантастическое искусство существует как бы в тени смерти», почти «все герои фантастической литературы и, уж конечно, все ее авторы всегда ощущают рядом с собой чье-то другое существование. Даже тогда, когда они пишут не об этом, они не могут забыть о своих двойниках»[42].
В «Заметках», а именно так можно определить жанр эссе Газданова (вспомним определение Г. Федотовым жанра книги Набокова «Николай Гоголь» – «заметки на полях…»), писателю важна значительность «иррационального начала в искусстве», ощущение «иной реальности»: таковы основные мотивы его рассказов конца 1920-х – начала 1930-х годов.
Газданов, как и Набоков, оспаривает в своем эссе и творчестве правомерность вульгарного представления об искусстве как социальной категории, как составном элементе общественной жизни, а именно так, на его взгляд, понимается его роль в России. «Мне кажется, что искусство становится настоящим тогда, когда ему удается передать ряд эмоциональных колебаний, которые составляют историю человеческой жизни и по богатству которых определяется в каждом отдельном случае большая или меньшая индивидуальность. Область логических выводов, детская игра разума, слепая прямота рассуждения, окаменелость раз навсегда принятых правил – исчезают, как только начинают действовать силы иного, психического порядка – или беспорядка – вещей»[43].
Очевидно, что Газданов в своем толковании Гоголя и природы искусства движется в одном с Набоковым русле, но независимо от него, параллельно ему и даже с некоторым опережением.
В творчестве Набокова и Газданова в 1920-1930-е годы действительно очевидны элементы общности, недаром эмигрантская критика предъявляла им сходные обвинения в «нерусскости», в том, что им нечего сказать, в отсутствии позитивных героев и любви к человеку, в маскировке внутренней пустоты словесным фейерверком. Список негативных отзывов критики можно дополнить и «чрезмерной» склонностью писателей к иррациональному, темам безумия, смерти.
На самом деле это была новая проза (о чем уже много написано в нашем и зарубежном литературоведении), адекватная мировосприятию и экзистенциальному опыту человека XX века. Для обоих писателей мир бесконечно таинствен, непостижим. Оба познали «ужас Арзамаса». У обоих проза насыщена размышлениями об искусстве и литературе, интертекстуальными перекличками в пределах их собственного творчества и в более широком литературном контексте. Оба принадлежат к «молодому поколению» русских литераторов-эмигрантов, лишенному социальной миссии, и оба – представители литературы русского экзистенциализма, одиночки по своему экзистенциальному положению, однако Набоков – индивидуалист и по типу личности, тогда как Газданов по типу личности одиночкой не был. Оба – утописты, каждый – на свой лад.
Черты сходства лишь оттеняют коренное различие этих писателей. Оно проявляется в данном случае в том, что, в отличие от Набокова, Газданов пишет о Гоголе не самом по себе, а объединяет его с Э. По и Мопассаном – его эстетический вектор отличен от Набокова.
Если Набоков одержим «русскими вопросами», памятью о России, о своем русском детстве как о рае и в своих лучших вещах ведет целенаправленный диалог с русской традицией, Газданов не «зациклен» на русской теме. Он задается вопросами, которые диктует ему внутренний опыт человека, рожденного российским культурным пространством, но осознавшего себя как личность и писатель в другом, чужом мире, в мире культурного пограничья, где он остро ощущает свое одиночество. И как писатель он ведет диалог со всем доступным ему пространством культуры. И осознанно или нет основывается на модернистском представлении о традиции как о «единовременном ряде», но толкует его расширительно, чувствуя себя на семи ветрах мировой литературы. Поэтому Гоголь и оказывается у него в одном ряду с Э. По и Мопассаном. Правда, при этом Мопассана он делает «гоголеподобным» и находит у него совсем не то, к чему привык «средний российский читатель», т. е. не реалистические, типа «Милого друга», сочинения о «французских нравах», а совершенно другое: Мопассана, автора «Орля», фантастического повествования о страхе и безумии. А Эдгар По в рассказе «Авантюрист» становится похожим на некий гоголевский персонаж (причем из ранней гоголевской прозы) и к тому же оказывается в Петербурге, где никогда не был.
И хотя корни Газданова в России, а в его творчестве несомненно сильнейшее присутствие русской культуры, возможно, именно он, а не Набоков, и есть «наименее русский из всех русских писателей», что ни в коей мере не умаляет его таланта, значимости того, что он сделал, и свидетельствует лишь о многообразии типов творческой личности, порождаемых российской культурой.
Сбежав от ада тоталитаризма в России, Газданов в эмиграции прошел круги «ночных дорог», ад отчуждения и одиночества, и почувствовал себя человеком – между Сциллой и Харибдой. Именно одинокий человек, волею судьбы попавший в чуждый ему мир – его главная тема, как и тема рока, судьбы. Он задается вопросами экзистанса.
Потому-то он одним из первых в русской эмигрантской литературе (рассказ «Биография» написан в 1928 г.) начал изображать иностранцев – французов, ибо в каком-то смысле ему все равно, кто по национальности его персонажи – ему важны прежде всего глубинные проблемы человеческого бытия – смысла жизни, что такое душа, счастье, поэтому его французы порой так похожи на русских («Нищий», «Пробуждение», «Счастье»). Как заметил писатель-эмигрант Яков Горбов, Газданов склонен к «пересаживанию» русской души во французское тело, его персонажи «заболевают» проклятыми русскими вопросами о смысле жизни своей и других людей[44], но тут следует отметить близость экзистенциальной проблематики русскому складу ума, российской ментальности.
Каковы главные компоненты художественного сознания Газданова? Это порожденная в значительной мере личным опытом писателя экзистенциальная культурфилософия, традиции русской классической и западной литературы, культурно-этнический (осетинский) субстрат, этико-философское воздействие масонства. Как сочетались в его рамках эти, казалось бы, разновекторные явления?
В творчестве Газданова присутствуют многие архетипные черты экзистенциализма: признание одиночества человека в этом мире, алогичности и трагизма его бытия, ориентация на существование и глубоко личностную истину, стоицизм, сопротивление разложению, мраку, небытию.
Можно выявить эстетико-философские связи Газданова с западноевропейскими философами (С. Кьеркегором, Э. Гуссерлем, М. Хайдеггером, Г. Марселем и т. д.), всей классикой философского и эстетико-философского экзистенциализма. Такого рода попытки изучения творчества Газданова, уже предпринимавшиеся, свидетельствуют о том, что он органично вписывается в европейский культурно-философский и литературный контекст.
Газданова (Л. Диенеш и др.) сближают с Альбером Камю, хотя, учитывая хронологию, речь, естественно, идет о типологическом сходстве: к началу 1940-х годов, когда Камю появился на авансцене, Газданов – уже зрелый писатель, автор романов «Вечер у Клэр», «История одного путешествия» (1934–1935)t «Ночные дороги» (1939–1940), многих рассказов, в которых в значительной мере нашла выражение его философия жизни.
Существенную, еще не оцененную по достоинству роль в его формировании сыграли русские философы (книги НА Бердяева были в его библиотеке. Л. Шестов с 1921 г. читал лекции по философии на историко-филологическом факультете в Париже, где с конца 1920-х годов учился Газданов). Пожалуй, можно сказать, что для Газданова органично единство философии и жизни, жизни и эти ко-эстетической установки, рассматривавшееся русскими философами начала века (Л. Шестов, В. В. Розанов, хотя эту линию философской прозы представляют также С. Кьеркегор, М. Унамуно) как идеал бытия человека. Творчество Газданова (и это не редкость в российской литературе) подвергалось жестоким испытаниям жизни, оно имело не только и не столько литературные, теоретико-философские источники, оно было выстрадано жизнью. И. Бабель в разговоре с Ю. Анненковым в Париже очень точно заметил: «…героический Гайто Газданов»[45].
Газданов производит впечатление последовательного экзистенциалиста практически во всем своем творчестве. Повествователей в его имеющих автобиографическую основу романах «Вечер у Клэр» и «Ночные дороги» можно рассматривать как типично «экзистенциальных героев», постигающих и преподающих читателю науку выживания. Его персонажи – странники, они совершают – с остановками – свои, чреватые непредсказуемыми поворотами и метаморфозами души, реальные и метафорические путешествия и полеты к конечному пункту назначения – смерти. По Газданову, сущность человека часто не видна окружающим и не всегда ясна ему самому, нужна экстремальная ситуация, чтобы обнажить скрытое (роман «Пробуждение», рассказы «Судьба Саломеи», «Панихида», «Ошибка», «Нищий», «Письма Иванова», «Счастье» и др.). Его персонажи (Артур в «Истории одного путешествия», повествователь в «Призраке Александра Вольфа» и др.) попадают в предельные ситуации и смело берут на себя то, что в литературе XIX века было бы воспринято как грех, а именно тяжкий груз убийства, для них грехом не являющийся. Понятие «греха» исчезает из этого мира, ибо нет веры как религиозного феномена, хотя христианские нравственные императивы сохраняются: любовь к ближнему, идеал человеческого братства – верность дружбе, неприятие животно-плотского, бездуховного начала, корысти.
В известной мере Газданов наметил свою этико-эстетическую матрицу уже в одном из первых рассказов – «Биография», – не замеченном ни эмигрантской, ни более поздней критикой. Там рутину повседневного существования французской проститутки, вызывающего у читателя отвращение своим безвоздушием, беспросветностью и физическим распадом, «взрывает» предельная ситуация – неожиданная смертельная болезнь. И вдруг в этом телесном, темном, «глухом», существе, всеми (кроме хозяйки гостиницы) покинутом, съедаемом чахоткой, мучающемся от боли и страха смерти, в этой жуткой тьме человеческого существования происходит что-то, вроде вспышки света:
«И однажды, когда к ней пришла хозяйка, она прохрипела:
– Вы знаете, мадам, я понимаю, что такое душа… Душа, это такая маленькая вещь, которая не болит, но страдает…»
Несмотря на весь антураж нейтрального, натуралистического повествования, едва ли не в духе Золя, а еще более в духе литературы экзистенциализма, этот рассказ без прикрас, о жизни унылой, грубой, с сутенером, кровавыми плевками, возможно, и был написан ради этих слов, а в авторе его явно ощущается наследник Достоевского. Через много лет этот ранний рассказ эхом отзовется в более зрелом рассказе «Панихида» (1960) – о том, как жизнь унижает человека, он и сам унижает себя, но никому не закрыта дверь к блаженству, душа и дух, порой, казалось бы, превращенные существованием в почти ничто, а на самом деле лишь загнанные вглубь, способны воспарить даже у самых падших.
Таким образом, если в западном экзистенциализме человек загнан в угол, обречен на одиночество, бессилен и ему, в сущности, приходит конец, а уж во французском «новом романе» от человека остались лишь одни «всхлипы», Газданов, несмотря на все внешние признаки писателя-экзистенциалиста, в сущности, движется против траектории западного экзистенциализма и остается в рамках гуманистической традиции, пытаясь найти для человека выход, спасение, проскользнуть между Сциллой и Харибдой.
Начиная с «Истории одного путешествия», романа, воспроизводящего картину идеальной жизни русского человека в эмиграции и воплощающего стремление писателя гармонизировать мир изображением романтизированных, почти идеальных образов мужчин и женщин, в творчестве Газданова явно намечается и далее все более усиливается утопическое начало. Каковы его источники?
Тут могут быть разные мнения. Т. С. Элиот справедливо заметил, что «человек не может вынести слишком много реальности». Обращение к идеальному, утопии коренится в самой природе человека, не выдерживающего жестокости жизни и жаждущего идеала.
Для Газданова идея братства, утопический вектор мировосприятия органичны. Тут сыграли свою роль изначальные этнические истоки его мировосприятия. И в данном случае неважно, любил он или не любил, допустим, классика осетинской литературы – романтика Косту Хетагурова, но если сравнить их творчество, несмотря на все различия, – там одни те же этико-психологические стереотипы, определенные осетинской культурой. Обоим присущ феномен рыцарства, входящий в культурное подсознательное. В жизни и творчестве Газданова мы наблюдаем универсализацию понятий кланового братства и рыцарской корпорации, основанных на принципах взаимопомощи, благородства. И это этническое начало придает творчеству Газданова особый колорит, особую тональность, пряность.
Другой важный источник утопизма Газданова – этико-философское кредо масонства (как известно, Газданов был масоном в течение тридцати девяти лет своей шестидесятивосьмилетней жизни, т. е. большую ее часть.
Что привлекло его в масонстве, этой тайной квазирелигиозной организации с универсалистскими целями и мистико-просветительской ориентацией? Не питающий иллюзий по поводу признанных социально-политических форм жизни, наученный горьким опытом сначала войны против «русской утопии», а потом не менее горьким опытом французской демократии, показавшей ему «дно жизни», Газданов, одиночка по своему экзистенциальному положению, но не по типу личности, хотел найти выход из одиночества в нетрадиционных формах братского объединения, вне и вразрез с существующими партиями, группировками. После того, что произошло в России, у него возникла идиосинкразия на революции, политические партии, группировки – общественные формы спасения. Своеобразие его экзистенциального положения и в том, что он принадлежал к «незамеченному» (термин В. Варшавского), или, по его определению, «несвоевременному» поколению, лишенному социальной миссии. Масонство привлекло его верой в необходимость и возможность личного совершенствования человека, противопоставляемого глобальным общественным утопиям. В отличие от более или менее «политизированных» русских масонских лож («Свободная Россия», «Юпитер»), ложи Газданова – «Северная звезда» и «Северные братья» – были мистико-просветительскими. А. И. Серков приводит перечень докладов, прочитанных членами ложи «Северные братья» на 150 ее заседаниях – с 9 октября 1933 г. по 24 апреля 1939 г.; это интересные для Газданова, судя по его творчеству и складу художественного сознания, темы: связь символов и ритуалов, символы в математике, «внутренний храм», халдейская религия, терпимость и примирительная роль масонского Братства, соборность в масонстве, национализм и масонство, счастье и понятие «благородный человек» и т. д. Сам Газданов выступил с докладами: «О юбилеях и безвременности масонства» (2.3.1936), «Об „опустошенной душе“» (6.4.1936)[46].
Со временем органичные для писателя и созвучные масонству утопические мотивы в творчестве Газданова все более усиливались. Это прежде всего вера в возможность духовного и нравственного возрождения человека, построения Храма в душе. Очевидно, что общественным утопиям он противопоставлял утопию личную. Он перенес утопическое начало, идеал из сферы социальной мысли – в литературу, в свой художественный мир, что определило сюжеты, типы персонажей, их эволюцию во многих романах, их счастливые концовки, позволило ему ввести идеальных персонажей, типа Николая и Артура в «Истории одного путешествия», Анри в «Пробуждении», Рожэ в «Пилиграмах». В рассказах утопическое начало встречается реже, хотя, например, рассказ «Нищий», при всей реальности его клошарского антуража, по сути, по сюжету – рассказ утопический и толстовский, это личная утопия – освобождение человека от оков суетно-ложного.
Эволюцию Газданова можно определить сначала как зигзагообразное, потом как плавное движение от изображения сущего – экзистенциального бытия человека в «Вечере у Клэр», «Ночных дорогах», «Призраке Александра Вольфа», «Возвращении Будды» (т. е. в его лучших произведениях) – к должному, к идеалу, утопии в «Истории одного путешествия», и особенно в романах о чуде, чудесном – «Пробуждении», «Пилигримах», в «Эвелине и ее друзьях» – в известном смысле идиллическом романе о сохраняющейся на протяжении всей жизни – с университетских лет – дружбе (трансформированная идея братства и вариация идеала лицейской дружбы).
Эта эволюция, в сущности, свидетельствует о постепенно нарастающей творческой и, вероятно, душевной драме Газданова: идет процесс постепенного истощения его творческого ресурса; Л. Диенеш справедливо отмечает явные симптомы творческого кризиса в 1950-е и особенно к концу 1960-х годов. И главное тут не в том, что Газданов стал писать меньше и стремился переиздавать довоенные произведения, как полагает американский литературовед, а в том, что постепенно в его прозе слабеет художественное начало. В романе «Переворот» он выводит на первый план «идейный фасад», игра образов исчезла, точнее поблекла, как негатив. Возможно, тут сыграла свою роль и идеологическая природа его эволюции, в процессе которой он на свой лад «дублирует» эволюцию русской литературы к советской, к романтике и утопии соцреализма, но только код его утопии – не коммунистический, не соцреалистический, а масонский. Возможно, сказалась работа на радио «Свобода», наконец обеспечившая его материально, но, как и любая журналистская деятельность, требовавшая много времени, сил; она истощала его творческий энергетический запас.
Газданов пророчески описал собственную ситуацию еще в 1936 г. в эссе о своем друге и ровеснике – Борисе Поплавском: в последние годы тот писал иначе, чем раньше, «как-то менее уверенно: он чувствовал, как глохнет вокруг него воздух…У него в жизни не было ничего, кроме искусства и холодного невысказываемого понимания того, что это никому не нужно. Но вне искусства он не мог жить. И когда оно стало окончательно бессмысленно и невозможно, он умер».
А в 1960 г. Газданов пишет эссе «О Гоголе», где очевидно изменение его эстетических и жизненных приоритетов: Гоголь перестал быть для него живым источником. Переоценка Гоголя – явное свидетельство пересмотра писателем и своих ценностей, «смены вех».
Он начинает эссе с цитаты (по памяти) из заметки Л. Толстого «О Гоголе» (1909): «Гоголь был человеком с большим талантом, но с узким и темным умом» (у Толстого: «Гоголь – огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум»). Тут важно то, что, во-первых, Газданов начинает эссе о Гоголе с толстовской цитаты; к 1960 г. его главный «ориентир» – Л. Толстой. Во-вторых, замечая, что Толстой своим суждением ставит «диагноз» или выносит «приговор» Гоголю, он неточен. На самом деле это делает он сам, своей, видимо, невольной поправкой: довольно мягкое толстовское определение «небольшой, несмелый, робкий ум» он заменяет на «узкий и темный ум». На раскрытии трагического смысла этого «уравнения» о «таланте и уме» Газданов и строит эссе.
Как и в раннем эссе, скорее всего невольно солидаризируясь с Набоковым (едва ли он читал его «Николая Гоголя», вышедшего в 1944 г. в США на английском языке), Газданов пишет о необходимости отказаться от тех ложных и наивных представлений о Гоголе как писателе – реалисте, изображавшем быт и действительность в России первой половины XIX столетия, от взгляда на него как родоначальника натуралистической школы. Газданов по-прежнему ценит его литературный гений, его несравненный изобразительный дар, словесное великолепие и неудержимый, безошибочный ритм повествования, которого нет ни у кого из русских классиков; даже «Повести Белкина» и «Капитанская дочка» по сравнению с «Мертвыми душами» кажутся Газданову «ученическими сочинениями» в сравнении с прозой Гоголя. Первый том «Мертвых душ» он считает одним из самых замечательных произведений в мировой литературе.
Однако то, что раньше привлекало и вдохновляло – мир Гоголя, созданный его невероятным воображением, теперь кажется Газданову чудовищным, страшным, а творчество Гоголя каким-то бредом, юмор его ранних повестей тревожным, «видный миру смех сквозь незримые, невидимые ему слезы» странным, похожим на начало безумия.
С эстетических позиций Газданов переходит на этические. Теперь он не находит ни одной подлинно человечной черты – ни у героев, ни у самого Гоголя, демонстрирующего, по его мнению, ледяное презрение к людям. Газданов объясняет невозможность создания второй части «Мертвых душ» тем, что область положительных эмоций для Гоголя «наглухо закрыта». Он находит у Гоголя крайнюю форму мании величия, достигшую апогея в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и в литературной форме проскальзывающую в первой части «Мертвых душ» – в шестой главе, в знаменитом лирическом отступлении о Руси: «Русь, чего же ты хочешь от меня? Что глядишь ты так, и все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?». Это напоминает Газданову о Поприщине, говорившем: «В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я». Газданову кажется, что рукой Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» «водят» его герои: Манилов, Хлестаков и Поприщин.
И сам Гоголь видится Газданову не похожим на других людей: все в нем странно и необъяснимо – жуткая личная жизнь: ни жены, ни детей, ни дома, ни привязанности, ни любви, ни даже России, из которой его постоянно тянуло в чужие земли; безнадежное одиночество, бедность, смертельный религиозный бред. И, конечно, страшный, нечеловеческий мир, который создало его чудовищное воображение, похожий на видение того раскаленного ада, в котором сгорел сам писатель, «оставивший нам <…> неразрешимую загадку его кратковременного пребывания на земле, и его смерти – столь же непостижимой, как его жизнь».
В этом позднем эссе, казалось бы воздавая должное таланту Гоголя, Газданов на самом деле отчуждается от него, жестко высказываясь о нем как о сумасшедшем, подобном своим персонажам. Это позднее эссе не противоречит раннему, оно – его логическое продолжение, но в нем перевешивает то, что Набоков называл «здравым смыслом». Газданов не просто отрекается от таинственного пугающего гоголевского мира, он отторгает его от себя. В рассказе «Третья жизнь» (1932) – о «другом измерении», ощущаемом автором, Газданов пишет: «Это не было ни обмороком, ни сном, ни секундным забвением; это было как бы бесконечной душевной пропастью, подобной той, которая, наверное, предшествует смерти… Очнувшись, я увидел, что продолжаю идти по тротуару, но все, что окружало меня, и все свои ощущения и мысли я почувствовал с такой необычайной свежестью, с такой ледяной ясностью, с какой должен их видеть человек, внезапно исцелившийся от долгого сумасшествия». Эти слова могли бы послужить эпиграфом к эссе «О Гоголе»: тут лаконично определена эволюция самого Газданова – от метафизики в ранней прозе, от «ирреальной», «фантастической» трагической традиции к «рациональному» позднему творчеству.
Толстой любит своих персонажей, так же любит их и Газданов. Гоголя он теперь жалеет, но чуждается его, как здоровый порой инстинктивно отстраняется от больного, а живой – от умирающего. Ясно, что в 1960 г. Газданов, в течение своей жизни, особенно первых двух ее третей, познавший много страшного, не раз смотревший смерти в лицо, устал и больше не хочет «ужаса», он отрекается от Гоголя, потому что хочет жить.
И однако же в передаче на радио «Свобода» 8/9 января 1971 г., т. е. менее чем за год до смерти, Газданов, говоря в своей рубрике «Дневник писателя» о разных степенях литературного искусства (бульварная литература, литература среднего уровня, настоящая литература), называет «вершины настоящей литературы» в такой последовательности: «Гоголь, Лермонтов, Пушкин, Толстой, Чехов». И эта последовательность имеет глубокий смысл: Гоголь остается для него первым среди равных.
НА Бердяев еще в 1916 г. в работе «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» писал об экстатической утопии творчества. Литература, творчество в XX веке для многих литераторов, особенно эмигрантов, писавших почти в вакууме (на Западе они никому не нужны, в России запрещены), – стали второй, спасительной реальностью. Поэзия заменяет религию. Для Газданова творчество – спасательный круг, поднимавший его со дна жизни на ее поверхность, из мрака ночного Парижа к свету дневной жизни. Ссылки на культуру прошлого в его прозе (частые упоминания художников эпохи Возрождения – Джотто, Тициана, Веронезе, эпиграфы и цитаты, зашифрованные и явные, – из Пушкина, Блока, Бодлера, Рильке, например, «Ты жить обязан по-другому») – не просто проявление эрудиции, а компонент мировоззрения писателя, верящего в связь времен, в реальность и силу искусства. Традиция туг уже не просто компонент метода, она проецируется на реальность. Цель Газданова – не только выжить, но выстоять, противопоставить «низу» человеческой жизни, пропасти падения, воронке, затягивающей человека на дно, – мир культуры, «верха бытия».
Он не писал философских эссе, не создал свою философскую систему, но это и не входило в его задачи, он выполнил миссию писателя – особо, уникально, эстетически неповторимо выразил то, что ощущали многие в его время и что было рождено самой действительностью – жестоким опытом российской революции, Гражданской войны, эмиграции. В основе этого мироощущения – философия жизни как выживания и сопротивления. И творчество в его иерархии ценностей – высшая форма сопротивления и жизни, что придает ему особый накал.
И когда, как показал роман «Переворот» – некой абстрагированностью повествования, поэтикой, философией, перекликающийся с рассказом «Последний день», – его творчество «стало невозможно», он умер, хотя непосредственной причиной смерти был рак легких. Но болезнь и смерть, как правило, одолевают человека тогда, когда иссякают источники его жизни, слабеют его духовные опоры.
В эссе «О Поплавском» Газданов пишет о поэте в этом мире, обо «всех тех несвоевременных людях», которые создают «бесполезные стихи и романы и не умеют ни заниматься коммерцией, ни устраивать собственные дела; ассоциации созерцателей и фантазеров, которым почти не остается места на земле. Мы ведем неравную войну, в которой не можем не проиграть – и вопрос только в том, кто раньше из нас погибнет…».
Жизнь человека полна тайн, и одна из них – час смерти. Эта тема всю жизнь занимала писателя. Человеческая природа и жизнь, по Газданову, непознаваемы и непредсказуемы: столь неожиданны и невероятны метаморфозы жизни, повороты судьбы, столь велика роль случая. Лишь после смерти возможно понять смысл жизни конкретного человека. Реальность бытия – поток, непостигаемый статичными определениями.
НА Струве, директор православного издательства «ИМКА-Пресс», редактор журнала «Вестник русского христианского движения», автор книги «Православие и культура»[47], передавая мне в Париже 28 мая 1999 г. для публикации письмо Газданова к нему, с легкой иронией заметил, что в общем-то Газданов – писатель без метафизики, и сослался на аналогичное мнение друга своей семьи, В. Вейдле. Вероятно, он имел в виду то, что Газданов не был традиционно верующим. Далекий от Церкви, он тем не менее был убежден: «Только полный идиот может не верить в Бога».
Порой он кажется агностиком, не верящим в конечные ответы, но верящим в то, что поиск их имеет смысл. В его творчестве нет пустоты, отчаяния. Его привлекал буддизм, который он назвал «соблазнительной, искусительной религией» (возможно, под влиянием своего друга-буддиста – поэта А. Гингера), но буддистом он не стал. В целом же ему свойственно именно метафизическое уникальное (довольно редкое в современной русской и западной прозе) ощущение присутствия в жизни вечности, знаменуемой смертью, чувство бесконечной тайны бытия, метафизически-созерцательное восприятие жизни.
Газданова обвиняли в жесткости, холодности по отношению к падшим. Действительно, «Ночные дороги» – книга беспощадная, но нельзя забывать, что она написана «не со стороны», а одним из тех, кто сам познал жизнь дна, и эта реальность безнадежья не находит у него отклика, если не считать, конечно, такие рассказы, как «Нищий», где отказ от буржуазно-благообразного существования ведет человека к освобождению от оков условных форм жизни и к познанию и приятию своего «я».
Возможно, лучшие произведения Газданова, определяющие его статус классика и принадлежность к кругу выдающихся писателей XX века, – романы «Вечер у Клэр», «Ночные дороги», «Призрак Александра Вольфа» и замечательные рассказы (среди них – «Панихида», «Счастье», «Письма Иванова»).
В «Ночных дорогах» писатель, отрицавший романтическую эстетику «поэзии падения», создал монументальную картину современного чистилища и ада, мертвого мира, места мучений человека. «Призрак Александра Вольфа» – психологический полудетектив, история любви и глубинный мистический роман о прерванном роке, затрагивающий глубинные слои архаики и, в сущности, до сих пор не прочитанный критикой. Газданов, как свидетельствуют архивные находки, напряженно размышлял над финалом романа, написал четыре его варианта (Вольф сходит с ума; Вольф кончает жизнь самоубийством; Вольф даже не помнит о роковом ранении на Гражданской войне; герой, вновь встретив Вольфа, на этот раз убивает его) и выбрал, по сути, единственно возможный – последний. О чем этот роман? О жестоком законе неизбежности судьбы? О «грехе» и муке незавершенной смерти? О живом мертвеце, излучающем смерть? О масонской идее необратимого во времени поступка? О связи Эроса и Танатоса, испокон веков изображаемой литературой (вспомним Шекспира или Достоевского) и столь характерной для прозы Газданова в дальнейшем?
Конечно, «классический канон» Газданова может быть дополнен, скорректирован. Кто-то потребует включения в него последнего завершенного писателем, «радостного» романа – «Эвелина и ее друзья», ознаменовавшего собою «возвращение к дням молодости» с позиций «возраста мудрости» или романа «Полет», с его, по определению Л. Диенеша, «моцартианским сочетанием легкости и трагедии»[48].
Тут принципиально важно иное: Газданов мечтал создать прозу, которая была бы одновременно высоким искусством и захватывающим чтением, прозу, которая вызвала бы интерес у широкого читателя. В романах «Призрак Александра Вольфа» и «Возвращение Будды» он сочетал элементы триллера, детектива с психологизмом и философскими медитациями, характерными для его довоенных романов, но его «горючая смесь» сработала не так, как он надеялся, успех был относительным. Эта инерция «относительного успеха», пожалуй, сохраняется и ныне.
Однако суть в том, что Газданов верил не в теории и системы, а, как заметил его друг Марк Слоним, в то, что все наши предпочтения, страсти возникают не по диктату логики, а из эмоциональных глубин, элементарных движений души и инстинктов – они-то и решающи для нас[49]. Проза его, гениальная по проникновенной, светло-печальной, завораживающей интонации, обладает особой энергетикой, и очевидно, что по природе своего дарования он – писатель именно для широкого читателя в лучшем смысле этого понятия. И ныне, в начале нового века, остро ощущая «беззвучно струящееся время», поверим в то, что оно работает на этого замечательного писателя.
Комментарии
В четвертом томе представлены последние романы Газданова, вышедшие при его жизни; выступления на радио «Свобода» в течение одиннадцати лет с 1960 г. (некоторые из них публикуются вообще впервые или впервые в России) и проза, не опубликованная при жизни писателя, – рассказы и фрагменты из Архива Газданова, хранящегося в Гарвардском университете – часть их печатается впервые.
Комментаторы тома: романы – Л. Сыроватко, С. Никоненко, Л. Диенеш, Т. Красавченко; выступления на радио «Свобода» – Л. Диенеш; основной комментарий – С. Никоненко; «Андреа Каффи», «Максим Горький», <О негласной иерархии в общественной жизни и тенденциозности в литературе>, «Поль Валери», «О русской зарубежной литературе» – Т. Красавченко; проза, не опубликованная при жизни, – Т. Красавченко.
Пробуждение*
Впервые – Новый журнал. 1965. № 78–81; 1966. № 82.
Впервые в России – в кн. Газданов Г. Призрак Александра Вольфа: Романы / Сост., вступ. ст., подгот. текста Ст. Никоненко. М.: Худож. лит., 1990.
Архив Газданова. Тетрадь 17.
Над романом «Пробуждение» Газданов начал работать в 1950-х гг., в рукописи – дата окончания романа: «25 июля 1964 г., Венеция».
По неизвестным причинам в «Новом журнале» (№ 82) была пропущена глава, условно ее можно назвать «Франсуа на ужине у Пьера и Анны» (ее начало: «Как-то вечером Анна сказала Пьеру…»). В настоящем издании глава печатается по рукописи. Кроме того, учтена правка Газданова, которую он внес в журнальные оттиски, сохранившиеся в его архиве.
«Пробуждение», второй роман Газданова, целиком основанный на французском материале, – своеобразная современная интерпретация мифа о Пигмалионе и Галатее.
В период работы над романом писатель много раз посещал психиатрическую больницу – беседовал с больными, подобными его героине Мари, консультировался с медиками, изучал специальную литературу.
Вильгельм Оранский (1533–1584) – граф Нассауский, штатгальтер (хранитель) Голландии, Зеландии и Утрехта, видный деятель нидерландской буржуазной революции XVI в.
Пьер Форэ… – Роман Газданова называется так же, как одна из самых известных оркестровых пьес «французского Шуберта», Габриеля Форе (1845–1926), однофамильца главного героя ромна. «Пробуждение» Форе современники называли «элегией любви и просветления». Творческий принцип композитора – «искусство – прекрасная иллюзия, благодаря которой каждый может грезить о том, что выходит за рамки реальности» – определил его тяготение к эстетике романтиков и символистов; он создал циклы романсов на стихи Ш. Готье, В. Гюго, Ш. Бодлера, П. Верлена.
…о принце Уэльском… – Принц Уэльский – с 1301 г., когда Уэльс был передан Эдуардом I его сыну, будущему Эдуарду II, – титул наследника престола в Англии. Отец Пьера Форэ «говорил с жаром», скорее всего, о будущем Георге VT (правил с 1936 по 1952 г.).
…обеды на Кэд'Орсэ. – На Кэд'Орсэ находится Министерство иностранных дел Франции.
…что происходит в Ливии… – Во французских колониях (Чад, Камерун, Фр. Конго, Габон и др.) администрация и воинские части отказались признать поражение Франции и примкнули к созданному Шарлем де Голлем движению «Свободная Франция». С июля 1942 г. французские войска колоний стали участвовать в боях, которые вели английские войска с итало-немецкими в Ливии. Наиболее ожесточенной была битва за средиземноморский порт Тобрук (занят войсками союзников в декабре 1942 г.).
Ты хочешь знать имя? Амбруаз Парэ, Пастер. – Амбруаз Паре (1509 или 1510–1590) – выдающийся хирург эпохи Возрождения, вместо малоэффективных и жестоких методов лечения ран прижиганием раскаленным железом, заливанием кипящими отварами впервые применил мазевые повязки, создал ортопедические аппараты для «возвращения подвижности увечным».
Луи Пастер (1822–1895) – основоположник микробиологии; разработал метод профилактической вакцинации против куриной холеры (1879), сибирской язвы (1881), бешенства (1885). В 1888 г. создал и возглавил институт микробиологии в Париже.
…это была статья в журнале, автор которой, известный социолог… – Статья, излагаемая в романе «Пробуждение», по своим идеям близка статье Раскольникова в «Преступлении и наказании»; как и у Достоевского, она полемична по отношению к основной линии сюжета – творческому акту Пьера Форэ. Персонажи романа – социолог (автор статьи), философ (отец Анны Дюмон), богослов (ее духовник), психиатр, консультирующий Франсуа, – с которыми Пьер не имеет контактов, по сути, являются его оппонентами.
…общественных животных, если пользоваться терминологией Аристотеля. – Воззрения Аристотеля на общество и на идеальное государство изложены в трактате «Политика», где он дает человеку определение «общественного животного», естественная сущность которого – жизнь в государстве. Среди «общественных существ» одни с самого рождения предопределены к господству, другие – к подчинению. Однако, в отличие от автора статьи, именно в «среднем классе» Аристотель видел опору государства. См. коммент. к роману «Ночные дороги». Т. 2, с. 705.
Софокл (ок. 496–406 до н. э.) – драматург античности, еще при жизни признанный классиком.
История человечества – это история преступлений и подвигов, это Библия, это Аттила, это Иоанн Грозный, Наполеон… – В Ветхом Завете многочисленным войнам уделено значительное место; впервые о войне, вооружении и воинах упоминается в Книге Бытия (14, 14–15). Уже в Библии представлены все типы войны – захватническая, освободительная, гражданская.
Аттила – см. коммент. к роману «Ночные дороги» (т. 1, с. 704), а также «Эвелина и ее друзья», с. 686
Иоанн (Иван IV Васильевич) Грозный (1530–1584) – первый русский царь (с 1547), покорил Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства, при нем началось присоединение Сибири. Укрепление и расширение государства сопровождались массовыми репрессиями и закрепощением крестьян.
Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – французский император в 1804–1814 гг. и в марте-июне 1815 г., благодаря победоносным войнам поставивший в зависимость от Франции большинство стран Западной и Центральной Европы. Поражение в войне против России в 1812 г. привело к падению власти Наполеона.
…фламандская школа, Возрождение, семнадцатый век французской живописи. – Для фламандской школы – направления в живописи XVI–XVII вв. характерно сочетание пышности, декоративности, цветовых эффектов барокко с грубовато-реалистической, «раблезианской», карнавальной народной традицией. Крупнейшие мастера – П. П. Рубенс, А. Ван Дейк, Я. Йордане, Ф. Снейдерс, Д. Тенирс.
Семнадцатый век французской живописи – время ее расцвета, связанного с государственной политикой, направленной на развитие искусства, которое было предметом особой заботы Людовика XIV. Основные жанры этого времени – народный портрет, «галантные празднества», аллегорические «триумфы», фривольные «безделки» на сюжеты античной мифологии.
…стрелы, вонзающиеся в святого Себастьяна… – Наиболее значительное произведение на этот сюжет из собрания Лувра – «Святой Себастьян» (1481) итальянского живописца Андреа Мантеньи (1431–1506).
С. 81. …преподаватель немецкого языка, старый и бедный эльзасец… который неизменно жмурился, как кот, читая нараспев стихи Шиллера, Клейста, Гете… – Вкусы преподавателя немецкого языка, как и пристрастия учителя истории (см. ниже), достаточно консервативны: его привлекают выразители «немецкого духа», авторы трагедий на исторические сюжеты, создатели сильных характеров, «еврипидовских» страстей, героев, жертвующих собой ради высоких идеалов патриотического долга.
Генрих фон Клейст (1777–1811) – немецкий поэт, драматург, новеллист. Честолюбивый, одержимый то желанием воинской славы, то мечтой «сорвать венок с чела Гете», сомневающийся в себе, но главный герой его произведений – сильная цельная личность, побеждающая внешних врагов и свои слабости: «Пантесилея» (1808), «Кетхен из Гейльбронна» (1810), «Битва Арминия» (1821, посм.) и др.
…преподаватель истории, невысокий пожилой корейканец …ненавидевший Людовика Четырнадцатого – «это невежественное животное» – и питавший слабость к Генриху Четвертому за Нантский эдикт… – См. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 689.
…«никто не писал лучше, чем Луиза Лабэ, если говорить о поэзии, никто не писал лучше герцога Сен-Симона, если речь идет о прозе». – Литературное наследие французской поэтессы Луизы Лабэ (1522–1565 или 1566) невелико (3 элегии, 24 сонета и прозаический диалог), но признано одним из высших достижений французской ренессансной поэзии.
Герцог Сен-Симон. – См. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 687.
…был согласен с Марксом, которого не признавал во всем остальном, вплоть до выбора темы его университетской диссертации… – Тема докторской диссертации Карла Маркса (1818–1883), защищенной в Йенском университете в 1841 г., – «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». Изучая греческих философов, Маркс увлекся Эпикуром, атеистом, освобождавшим людей от страха перед богами и утверждавшим возможность свободного воздействия на этот мир.
…это мог быть Шопенгауэр или Бергсон, если речь шла о философии, Пруст или Фромантен, если вопрос касался литературы, Пуанкаре, если это была математика. – Перечисление пристрастий отца Анны Дюмон расширяет число «оппонентов» Пьера Форэ. Некоторые идеи Шопенгауэра, Бергсона, Пуанкаре, Фромантена, Пруста ассоциативно связаны с основными положениями статьи «известного социолога», о которой идет речь в начале романа.
Артур Шопенгауэр (1788–1860), философ и блестящий эссеист, «основой мироздания» считал волю – органическую «волю к жизни» природы, эгоцентрическую волю человека. «Избранные» преодолевают рожденное столкновением множества индивидуальных воль через страдание достижением нирваны, подавлением своего «воления» или творческим прорывом – занятиями искусством, позволяющим творцу созерцать «неистовство воли» извне, со стороны, и тем самым «умиротворять» его. И для Бергсона, и для Шопенгауэра естественно разделение общества на враждующие группы, вступающие в конфликты (по Бергсону, война – неизбежный «закон природы»), в которых косность, посредственность стремится подавить творческое начало.
Анри Бергсон (см. также коммент. к роману «История одного путешествия». Т. 1, с. 822) в работе «Два источника морали и религии» (1932) противопоставляет «закрытое общество» со свойственными ему «статичными» моралью и религией «открытому обществу» с «динамичными» моралью и религией, состоящему из избранных личностей, «великих моральных героев», двигателей эволюции человечества. Первое общество – тупик, замкнутый круг, торжество «средних людей», второе – восходящая линия, «прорыв».
Марсель Пруст (1871–1922) был поклонником философии Бергсона; ее положения (теория «длительности» и др.) оказали влияние на литературу «потока сознания».
Эжен Фромантен (1820–1876) – французский живописец, писатель, историк искусства, автор путевых очерков «Лето в Сахаре» (1854), «Год в Сахеле»(1858) – об обычаях и нравах североафриканских народов; во многом автобиографического романа «Доминик» (1862) – о судьбе писателя, и книги «Старые мастера» (1876) – о голландских и фламандских художниках XV–XVII вв.
Жюль-Анри Пуанкаре (1854–1912) – французский математик, физик, в философии основатель конвенционализма (от лат. conventio – соглашение), согласно которому основа научных теорий – произвольные конвенции между учеными; каждый волен строить свою систему научных взглядов, главное – это их непротиворечивость; системы, которая могла бы быть законом, не существует: аксиомы геометрий Евклида, Лобачевского и Римана в равной мере соответствуют реальному пространству и не более чем удобные конвенции.
…когда небо скрылось, свившись, как свиток… – Цитируется Откровение Иоанна Богослова: «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (6,14).
…свои собственные слова… он вкладывал в уста Спасителя, невольно искажая Его божественный облик и забывая, что Спаситель не мог сказать этих слов: «Ялюблю тебя за то, что ты ненавидишь учение николаитов, которое и Я ненавижу». – Неточная цитата из Откровения Иоанна Богослова: «И Ангелу Пергамской церкви напиши:…у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу» (2, 15). В эссе «Миф о Розанове» Газданов пишет о том, как поразили его, тогда двенадцатилетнего мальчика, эти слова из Апокалипсиса (см. Т. 1, с. 730). Страстность Откровения была на заре христианства причиной внутрицерковных споров о его каноничности. В современном богословии соответствующее место толкуется как пример ненависти к греху, но не к грешнику: Господь ненавидит учение николаитов, а не исповедующих его.
Николаиты – еретики первых времен христианской церкви, получившие название от Николая, одного из семи диаконов, о которых говорится в книге Деяний апостолов. Противодействуя иудейству, отрицали силу ограничительных постановлений собора апостольского относительно пищи, прелюбодеяния; иногда эту ересь называют «плотской ересью».
Христианство… это не только мягкий свет Гефсиманского сада, сумерки, спускающиеся на Голгофу… Это не только Тициан, не только Сикстинская капелла и Микеланджело… – Духовник Анны Дюмон отделяет «романтическое», «земное», привлекающее Анну, от «подлинного» христианства.
Гефсиманский сад – оливковая роща у ручья Кедрон, где Христос провел последние часы перед тем, как его взяли под стражу.
Сумерки – затмение Солнца в часы смерти Христа, о котором упоминают Лука и Марк.
Голгофа – лобное место, невысокая гора недалеко от городских стен Иерусалима.
Тициан (1476/1477 или 1489/1490-1576) – глава венецианской школы Высокого и Позднего Возрождения, автор картин на сюжеты Нового Завета; сохранившиеся посвящены, в основном, событиям Страстной недели: «Несение креста» (конец 1510-х), «Се человек» (ок. 1543), несколько вариантов «Положения во гроб», «Оплакивание Христа» (1573–1576) и др.
Сикстинская капелла расписана Микеланджело (потолок и боковые люнеты – сюжетами Ветхого Завета: Книга Бытия, Пророки; алтарная стена – фреска «Страшный Суд»).
Боссюэ. – См. коммент. к роману «Призрак Александра Вольфа». Т. 3, с. 31.
…Шекспир, Толстой, Сервантес, Достоевский во французском переводе, Платон, Овидий, Плутарх, монографии о Рембрандте, Ван Тоге, Боттичелли, Руссо… – Автор наделяет «среднего француза» Пьера Форэ некоторыми из собственных культурных предпочтений, особо оговаривая, что произведения иноязычных классиков он читал во французском переводе; предполагается, что античные произведения Пьер Форэ читал в оригинале, на греческом и латыни, ибо почти закончил лицей с обязательной классической программой.
Платон (см. коммент. к роману «Ночные дороги». Т. 2, с. 701), Овидий, Плутарх – триада античных классиков, включает философа, поэта и историка. Главное произведение Публия Овидия Назона (43 до н. э. – 17 или 18 н. э.) – мифологический эпос «Метаморфозы» – «непрерывная песнь», в которой изложено 246 мифов, связанных общим мотивом превращения людей в животных, растения, камни, источники, звезды, «от начала вселенной до наступивших времен». Плутарх (45 – ок. 127), создатель «Сравнительных жизнеописаний» – канона великих людей, по словам С. С. Аверинцева, осуществил «счастливый брак биографического жанра и моральной философии».
В картинах Рембрандта (1606–1669), голландского живописца, глубина психологической характеристики сочетается с исключительными эффектами светотени.
Голландский художник Винсент Ван Тог (1853–1890) также, но в по-иному и в иное время использовал выразительность контрастов света и тени, экспрессию рисунка, крупные мазки в портретах, натюрмортах.
Сандро Боттичелли (1445–1510) – живописец эпохи Возрождения. Участвовал в росписи Сикстинской капеллы в Риме (1481).
Теодор Руссо (1812–1866) – глава барбизонской школы (с 1830-х гг. он и его последователи работали в деревне Барбизон, к юго-востоку от Парижа), считал любой пейзаж достойным кисти художника, а «обыкновенную природу – неисчерпаемым материалом для искусства».
Мистраль – сильный и холодный северо-западный ветер на юге Франции.
Что такое раздвоение личности? И где граница между ее клиническим значением и творческой силой воображения, той самой, которая заставила Флобера сказать эти слова… «Мадам Бовари – это я!»? – История о Флобере, который испытывал муки отравленного мышьяком, когда писал последние страницы «Мадам Бовари», – «хрестоматийный» пример «вживания» автора в состояние героя.
…надо забыть о Торквемаде… – Томас Торквемада (ок. 1420–1498) – великий инквизитор Испании (с 1480-х гг.), известный своей жестокостью; изгнал из Испании евреев (1492), утвердил более 8000 смертных приговоров.
Это мне напоминает спор блаженного Августина с Пелагием о благодати… – Августин Аврелий, блаженный (354–430) – христианский теолог и философ, признанный в православии блаженным, а в католичестве – святым и учителем церкви; сыграл видную роль в разработке и утверждении католической догматики, в частности учения о Божественном предопределении, благодати и загробном воздаянии. Родился в семье язычника и христианки; прошел путь от процветающего ритора, противника христианства, до епископа Гиппонского (395), одного из Отцов Церкви. Основные сочинения «О Ц>аде Божьем» и «Исповедь» (история превращения язычника в христианина, ритора – в теолога). В споре с монахом Пелагием (360 – после 418) Августин отстаивал идею необходимости Божественной благодати, которая выводит человека из состояния греховности и тем самым спасает; Пелагий же делал акцент на свободе воли и нравственно-аскетических усилиях самого человека, отрицая наследственную силу первородного греха. Пелагианство осуждено как ересь на Третьем Вселенском соборе (431).
– Она просила хлеба, и ей дали камень… – Аллюзия на слова Христа из Нагорной проповеди: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» (Мф. 7, 9); заставляет вспомнить предшествующие им: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7,7–8), – созвучные эпиграфу романа и в сюжете имеющие отношение как к Анне Дюмон, так и к самому Пьеру Форэ.
Эвелина и ее друзья*
Впервые – Новый журнал. 1968. № 92; 1969. № 94–97; 1970. № 98-101; 1971. № 102,104–105.
Впервые в России – Газданов Г Призрак Александра Вольфа: Романы / Сост., вступ. ст., подгот. текста Ст. Никоненко. М.: Худож. лит., 1990.
Архив Газданова. Тетрадь 18,19. Сохранились рукописи ранних вариантов, один из них, озаглавленный «Главное и неглавное», датирован августом 1951 г., другой – «Эвелина» – октябрем 1952 г. Окончательный вариант завершен, видимо, во второй половине 1960-х гг.
Этот роман – последнее законченное произведение писателя. К работе над ним Газданов приступил в начале 1950-х гг.
Как установил Л. Диенеш, сопоставляя опубликованный текст с рукописью, последовательность фрагментов при публикации в журнале нарушена, и первый опубликованный фрагмент должен находиться между четвертым и пятым (Dienes L. Russian Literature in Exile: The Life and Work of Gajto Gazdanov. Munchen, 1982. P. 146–147).
Прототипом одного из персонажей романа – Жоржа послужил, по всей вероятности, поэт, прозаик, мемуарист Георгий Владимирович Иванов (1894–1958).
…несколько аккордов знакомого романса Шумана. – Роберт Шуман (1810–1856) – немецкий композитор-романтик, для его романсов характерны мечтательность, порывистость, тяготение к фантастическому в сочетании с психологизмом.
…прозвучал целый отрывок из «Венгерской рапсодии». – Венгерские рапсодии – фортепианный цикл из 19 произведений Ференца Листа (1811–1886). Страстная, волнующая, порой мятежная музыка, полная «чувственной грусти», созвучна состоянию Мервиля.
…тебе это счастье может дать… никогда не существовавшая и нигде не существующая, скажем, леди Лигейя. – Леди Лигейя – героиня новеллы Э. По «Лигейя», умершая возлюбленная, «потерянная любовь», забирающая жизнь у реальной женщины – леди Ровены Тревенион из Тремейна, чтобы на краткий миг превратить ее в себя для загробного свидания с любимым.
…в Евангелии сказано, что без воли Господа ни один волос не упадет с головы человека? – Неточная цитата. В Евангелиях высказывания подобного рода неоднократны (Мф. 5, 36; Лк. 12, 7; 21, 18 и др.) имеют двойной смысл и зависят от адресата. В обращении к ученикам Христос акцентирует их избранность: «…и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет…» (Лк. 21, 17–18); в Нагорной проповеди, адресуемой «собравшемуся народу», акцент сделан на неспособности человека предугадать свою судьбу: «А Я говорю вам: не клянись вовсе… ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным…» (Мф. 5, 34, 36). В данном контексте вероятнее использование цитаты во втором смысле.
Классический силлогизм – трехчленная формула, состоящая из двух посылок и заключения. Пример силлогизма: 1. Быть невоздержанным плохо. 2. Умеренность – свойство, противоположное невоздержанности. 3. Быть умеренным хорошо (Аристотель. Риторика. 23, 9-11).
Метампсихоз – переселение души из одного тела в другое. Учение о метампсихозе развито в восточных религиях, философии пифагорейцев и Платона (диалоги «Федон», «Федр» и др.).
…возник лоб Сократа с этой необыкновенной вертикальной морщиной, и ты услышал бы блистательную речь о том, что так как мы неспособны представить себе вечность, то боги дали нам ее верное отражение в понятии о времени?
– Яне буду тебе отвечать на цитату из Платона…
Лоб Сократа. – Сократ (469–399 до н. э.) часто сравнивал свою «безобразную» внешность (голый и широкий «складчатый» лоб, курносый нос, толстые вывернутые губы) со шкатулкой-статуэткой Силена, в которую кладут драгоценности. Дальнейшее высказывание о вечности и времени – отрывок из позднего сократовского диалога Платона «Тимей», где речь идет о демиурге и его творческих «моделях» – первообразах существующих вещей: «он (Отец. – Коммент.) замыслил сотворить некое движущееся подобие вечности: устрояя небо, он вместе с ним творит для вечности, пребывающей в едином, вечный же образ, движущийся от числа к числу, который мы назвали временем» (перев. С. С. Аверинцева).
Для Газданова линия «Сократ – Платон – Паскаль – По – Бодлер», «линия бездны», противоположна «линии основания» (Аристотель – Фома Аквинский – Декарт). Обе линии разомкнуты во времени и пространстве.
…об авторе «Улисса»… – «Улисс» (1922), роман ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941), построен на приеме «потока сознания», смещении временных пластов, «разложении» традиционного синтаксиса и новом, причудливом синтезе языковых элементов, на регистрации тончайших нюансов и мимолетных состояний душевной жизни и отражает отчужденность, замкнутость индивидуального бытия в себе. В стремлении восстановить утраченную целостность мироощущения автор обращается к универсальным мифологическим архетипам; его центральный образ – «мифический скиталец».
…о стихах Китса, которого он понимал лучше, чем Мервиль, знавший английский язык в совершенстве. – Джон Ките (17951821) – английский поэт-романтик, тонкий лирик, трудный для перевода из-за сложной системы поэтических ассоциаций.
Виктор Гюго тоже был скуп. – Скупость Виктора Гюго, гиперболизированная его литературными врагами, – предмет многих анекдотов второй половины XIX в.
…проводил свои досуги в чтении Кокто и Валери… – Жан Кокто (1889–1963) – поэт, драматург, эссеист, художник, теоретик театра, режиссер; в 1920-е гг. участник движения дадаистов и футуристов. Поль Валери. – См. коммент к эссе «О Поплавском» (т. 1, с. 866), а также к радиовыступлению «Поль Валери», с. 711. Кокто и Валери имели репутацию людей той же сексуальной ориентации, что и Артур.
…мог снова заняться комментариями поэзии Клоделя…. – Поль Клодель (1868–1955) – французский поэт, ориентированный на культурную традицию, отсюда в его поэзии обилие имен, скрытых и явных цитат, аллюзий, реминисценций из Библии, античных трагедий, Шекспира, испанского барокко, романов Достоевского, житий святых, восточных религиозных течений. Считал, что в основе подлинного символизма – христианство (учение о Слове Божием и его воплощениях в телесных вещах). Основные поэтические сборники – «Календарь святых», 1925; «Светлые лики», 1945 и др. Комментирование Клоделя требует понимания сущности мистического озарения.
…пространными рассуждениями о «Коридоне» Андрея Жида… – «Коридон» (1924) – апология гомосексуализма в форме диалогов, над которой Жид начал работать в 1918 г. Опубликовав «Коридона», Жид навлек на себя обвинения в гомосексуализме, его стали избегать даже близкие друзья; репутация его возродилась лишь к концу 1920-х гг., когда общество стало относиться к гомосексуализму терпимее.
…прекрасная копия рембрандтовского воина в каске. – Имеется в виду «Портрет мужчины в шлеме» (1650) с присущим позднему творчеству Рембрандта приемом – световой блик (мотивированный здесь отражением света факела от поверхности стального шлема) выхватывает из тьмы лицо портретируемого и превращает его в смысловой и цветовой центр картины.
Si le del et la mer sont noirs comme de Vencre… – Строки из VIII стихотворения цикла Бодлера «Путешествие» (в русских переводах – «Плавание») 1859 г.; цикл – своеобразный эпилог к «Цветам зла». Основной мотив его – образ корабля, идущего в Икарию (в русских переводах – Эльдорадо), утопическую, страну всеобщего благоденствия. В переводе М. Цветаевой это стихотворение звучит так:
…она предпочитала Ван Тога Тогену… как никто другой, поняла гений Донателло… она не может оторваться от книг Паскаля. – Французский художник Поль Гоген (1848–1903) и голландский живописец Винсент Ван Тог (см. о нем коммент. на с. 679) искали «совсем другой образ жизни», чем тот, который ведут «цивилизованные люди» (из письма Ван Гога к брату Тео), но шли к этой цели различными путями. Гоген нашел себя в экзотическом мире на Таити. Ван Гог пытался обрести «настоящую жизнь», в которой нет «ничего более художественного, чем любить людей», в Провансе и на родине, в Голландии. В 1888 г., в течение двух месяцев, художники работали в Арле вместе; Гоген пытался воздействовать на творческую манеру Ван Гога, но потерпел неудачу: их отношения закончились тяжелой сценой, спровоцировавшей у Ван Гога приступ душевной болезни.
Донателло (1386–1466) – флорентийский скульптор, возродивший традицию монументальной скульптуры античности и положивший конец отношению к скульптуре как к «служанке архитектуры». Его шедевр – конная статуя Гаттамслаты в Падуе (1447–1453).
Блез Паскаль. – См. коммент. к роману «Ночные дороги». Т. 2, с. 708.
…она не способна отличить Рильке от Жеральди, Рембрандта от Мейсонье и Донателло от Ландовского. – Поль Жеральди (наст. имя Поль Лефевр-Жеральди, 1885–1983) – французский писатель, известен афоризмами типа: «Сердце и ум имеют лишь совещательный голос, решающий остается за телом», «Женщина сама выбирает мужчину, который выбирает ее» и т. д.
Эрнест Месонье (1815–1891) – французский живописец, один из самых модных салонных художников XIX в. Тщательно выписывал детали в своих жанровых и исторических картинах, в которых преобладали «рембрандтовские» тона – оттенки красного и черного.
Поль Максимилиан Ландовски (1875–1961) – французский скульптор академического направления, сочетавший неоклассические мотивы и формы с зарождающейся в начале XX в. традицией сложных пространственно-изобразительных комплексов. Известна его колоссальная статуя (1925–1931) благословляющего Христа на горе Корковаду (Рио-де-Жанейро,).
…лучше быть Дон-Кихотом, чем Гамлетом. – Дон-Кихот в культурной традиции России противопоставлен Гамлету как деятельное, активное утверждение идеала противостоит бездействию, порожденному постоянным самоанализом.
…если бы судьба более милостиво отнеслась к Марату, если бы он не был дурно пахнущим и покрытым прыщами человеком… он не мстил бы своим современникам… и мог бы умереть от несварения желудка или просто от старости, без ножа Шарлотты Кордэ в груди… – Жан-Поль Марат (1743–1793) – видный деятель крайне левого крыла якобинской партии, один из «триумвиров революции» 1789–1793 гг. Издавал газету «Друг народа», где разоблачал политических противников (главным образом – жирондистов, деятелей либеральной партии Конвента) и призывал к тотальному революционному террору, направленному как против аристократов и их семей («врагов революции»), так и против недавних соратников, «изменивших» ей. Страдал от кожной экземы, для облегчения зуда принимал горячие ванны; он даже работал и вел прием посетителей в ванне, где и был убит жирондисткой Шарлоттой Корде (о ней см. коммент. к рассказу «Общество восьмерки пик». Т. 1, с. 845).
Буйабес (фр. bouillabaisse) – провансальское блюдо из разных сортов рыбы с чесноком, томатами, оливковым маслом, шафраном и другими пряностями – часто все это тушится в белом вине.
…созерцание этого мира давало ему представление о той идее совершенства, возникновение которой в человеческом сознании Декарт считал неопровержимым доказательством существования Бога. – Рене Декарт считал единственной непосредственной достоверностью самосознание («я мыслю, следовательно, существую»), и некоторые идеи, врожденными для «я», прежде всего «представление о наиболее совершенном сущем» – Боге: оно не может быть получено из опыта, так как «в причине не может быть меньше, чем в следствии» и сам по себе человек не может даже вообразить существо, совершеннее себя (Размышление о началах философии, 1644). См. коммент. к роману «Ночные дороги». Т. 2, с. 706.
…и потом в Нью-Йорке, на улицах Баури… – Этот фрагмент почти дословно повторяет фрагмент рассказа Газданова «Из блокнота». См. т. 3, с. 548–565.
…Иисус Навин останавливал солнце, пророк Даниил стоял, окруженный львами, горела и не сгорала неопалимая купина, апостол Павел писал свои послания, и на Царских Вратах нашей церкви… горели слова: «Приидите ко Мне ecu труждающиеся и обремененные и Аз упокою Вы». – «Монтаж» эпизодов Ветхого и Нового Заветов, объединенных темой общения человека и Бога через чудо веры или Откровение.
Иисус Навин – вождь народа израильского после смерти Моисея, полководец. Во время битвы с пятью Аморрейскими царями «воззвал к Господу… и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим» (Нав. 10,12–13).
Пророк Даниил, осужденный Дарием по доносу, был брошен в ров со львами, но «Бог… послал Ангела Своего и заградил пасть львам» (Дан. 6,22).
Неопалимая купина – явление огненного тернового куста, горящего и не сгорающего, «из среды» которого воззвал Бог к Моисею (Исх. 3,2–3).
Апостол Павел писал свои послания. – Павлу (8?–65), обладавшему литературным талантом, принадлежат 14 посланий в каноническом составе Библии. Ни один из апостолов не оставил такого обширного наследия. Все послания написаны между 52–64 гг., адресованы как церквам, так и отдельным лицам; стиль Павла ярко индивидуален, доходит до страстности.
Царские Врата – главный вход в алтарь. Украшаются иконами Благовещения Пресвятой Богородицы и четырех евангелистов; над вратами помещается образ таинства причащения (Тайная Вечеря). Если иконостас состоит из нескольких рядов (обычно – не менее трех), то непосредственно над Царскими Вратами, в Деисусном чине, находится икона Спасителя (чаще всего – Спас Вседержитель, Спас на Престоле или Спас в Силах). Текст – «Приидите ко Мне вси труж-дающиеся и обремененные…» – указывает на то, что в данном случае надвратной иконой был Спас Вседержитель – поясное изображение Иисуса Христа с Евангелием (знаком принесенного им в мир учения) в левой руке и с поднятой в жесте благословения мира правой рукой.
листок бумаги, на котором Эйнштейн впервые записал свои формулы… через срок лет… сотни тысяч людей с желтой кожей погибли от взрыва атомной бомбы… – Имеется в виду теория относительности Альберта Эйнштейна (1879–1955), сформулированная им в 1905 г. и давшая импульс квантовой теории, послужившей основой для создания атомной бомбы. В августе 1945 г. в результате взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки погибли сотни тысяч японцев.
…толстые тома Финнея о Византии. – Имеется в виду шотландский историк Джордж Финли (George Finlay; 1799–1875) и его капитальный труд «История Греции от римского завоевания до современности» (1877), куда вошла и «История византийской империи».
Они поставлены как эпиграф к одному из самых замечательных романов нашей литературы. Господь говорит: «Мне отмщение и Аз воздам». – «Мне отмщение и Аз воздам» (Втор. 32, 35) – эпиграф к «Анне Карениной» (1873–1877) Л. Н. Толстого.
«Блаженны плачущие, яко тии утешатся»… «Блаженны нищие духом, яко тих есть Царство Небесное»… – Вторая и первая из Заповедей Блаженства (Нагорная проповедь, Мф. 5,9-12).
…для торжества христианства дьявол необходим, тот самый дьявол, который искушал Спасителя. «Отойди от Меня, Сатана!» – О трех искушениях Христа от Сатаны свидетельствуют евангелисты Матфей (4, 1-11) и Лука (4, 1-13). Весь этот диалог в романе напоминает поэму о Великом Инквизиторе Достоевского; апологетом отсутствующего Христа (в поэме не произносящего ни слова) у Достоевского выступает повествователь.
Когда Аттила со своими войсками подошел к Риму и Рим был лишен возможности защищаться, то из ворот города, направляясь к палатке Аттилы, вышел босой старик, папа Лев Первый. Он разговаривал с Аттилой несколько часов и потом вернулся в Рим. И Аттила отдал своим войскам приказ отступать… – Аттила (ум. 453), «Бич Божий» – вождь гуннов (434–453), создавший империю, подчинив гуннскому союзу племен территории от Волги до Рейна. В 451 г., во время похода в Галлию разбит римлянином Аэцием. После его смерти империя распалась.
Лев Первый Великий (ум. 461) – Папа Римский (440–461), автор 96 произведений и около 120 посланий, свидетельствующих о высоком уровне образованности и владении приемами ораторского искусства. В 451 г. в Халкидоне прочитано его послание, осуждавшее монофизитов (признающих только Божественную природу Христа), оно легло в основу положения Символа Веры о двуединой сущности Богочеловека. В нем же утверждалось верховенство Папы Римского, ибо именно св. Петру, основателю Римской церкви, Христос, «оставил ключи от Царства Своего». В 452 г. посольство римских граждан, в котором принимал участие Лев Первый, уговорило Аттилу отказаться от намерения сжечь и разграбить город. В каноническом житии Льва Великого Аттила объясняет свое решение тем, что видел «двух светлых мужей», держащих над его головой обнаженные мечи, готовые опуститься в случае отказа. Повествователь и его собеседник представляют две точки зрения: общепринятую, по которой Аттила – варвар (над его колыбелью мать, по преданию, произносит слова: «Если хочешь прославить свое имя, разрушай все, что другие построили, и уничтожай всех, кого победишь»), и «интеллектуальную», – свидетельство того, что ко двору Аттилы, созданному по подобию римского, приглашали философов и ученых (например, известного врача Евдоксия); гуннам свойственны преклонение перед образованностью и роскошью, искусность в ремеслах.
– Это, я думаю, фраза апокрифическая. – Апокрифы – признанные церковью неканоническими и изъятые из церковного употребления книги. Делятся на «согласные» (не вошедшие в Священное Писание, но учтенные Священным Преданием, авторитетные, например «Житие Богоматери»), «ложные» (собств.: ap6kryphos (греч.) – «отреченные», запрещенные) и «сомнительные». В широком смысле – это любой сюжет, подлинность которого сомнительна.
…попытки проникновения в тот исчезнувший мир, где возникало непостижимое вдохновение Тинторетто или Карпаччио. – Карпаччио Витторе (ок. 1455/1456-1526) и Тинторетто (собств.: Робусти) Якопо (1518–1594) – представители венецианской школы живописи, о которых П. П. Муратов (1881–1950), в «Образах Италии» пишет: «Только Карпаччио и Тинторетто до сих пор дома, в Венеции. И даже самое представление о Венеции нераздельно связано с воспоминанием о зеленоватых, точно видимых сквозь морскую воду, картинах первого и потемневших, но все еще пламенно живописных картинах второго». Концепция Муратова – создание целостного образа культуры на основе непосредственных впечатлений, погружения в атмосферу того или иного города, эпохи, – несомненно, близка взглядам на историю искусства Мервиля.
…она помнила наизусть стихи Китса или Леопарди и те обстоятельства, в которых писал свои картины Джотто или Беллини. – Ките – см. коммент. к с. 183.
Джакомо Леопарди (1798–1837) – итальянский поэт и эссеист. В его лирике (сб. «Песни», 1831) и трактатах («Моральные сочинения», 1827) строится философия «мирового зла и страдания»: смерть – единственная реальная истина, цель бытия; все остальное – слава, наслаждение, «умствование», счастье – иллюзии. С Китсом Леопарди роднит как сущность принципов творчества – ориентация на классическую традицию (у Китса – на древнегреческое искусство и революционный классицизм времен Французской революции, у Леопарди – на античных авторов, Данте, Петрарку), использование поэтического лексикона, тропов минувших эпох и стилей, тонкая игра ассоциаций, а также общность судеб: неизлечимая болезнь рано свела в могилу обоих.
Джотто ди Бондонс. – См. коммент. к роману «Пилигримы». Т. 3, с. 715.
Беллини – семья венецианских живописцев. Самый яркий ее представитель – Джованни Беллини (ок. 1430–1516). На аллегорической картине «Души чистилища» (известной и под названием «Озерная Мадонна») изображен «пейзаж смерти», сходный с «пейзажами смерти» в произведениях Э. По («Сказка извилистых гор») и самого Газданова («Вечер у Клэр», «Призрак Александра Вольфа» и др.), – неподвижная река (Лета), скалистые горы охристого цвета, песчаные обваливающиеся откосы.
…беспощадные слова Сен-Симона о Людовике XIV… – Сен-Симон Луи де Рувруа (1675–1755) – герцог, автор знаменитых «Полных и доподлинных воспоминаний… о веке Людовика XIV и Регентстве» (публ. 1788–1789). Его сравнивали с Бальзаком и Прустом как писателя, оставившего психологический портрет эпохи.
«Жизель» (1841) – балет на музыку французского композитора Адольфа Адана (1803–1856).
Тициан. – См. коммент к роману «Пробуждение», с. 678.
Рубенс Петер Пауль. – См. коммент. к рассказу «Воспоминание». Т. 2, с. 720.
Предельным выражением совершенства казался ему «Le spectre de la Rose»… – «Видение Розы» – одноактный балет М. М. Фокина (18801942) на музыку немецкого композитора Карла Вебера (1786–1826) (хореографическая картинка по сюжету Теофиля Готье). Впервые поставлен в 1911 г. (Русские сезоны в Париже). Наиболее известные исполнители – Вацлав Нижинский и Серж Лифарь.
…страницы, посвященные искусству Жоржа де Ла Тур. – Картины французского художника Жоржа де Латура (1593 – после 1649) делятся на «дневные» (жанровые) и «ночные» (сцены Священного Писания или Священного Предания). Непременный атрибут «ночных» – источник света (факел, свеча или светильник) с ровным, высоким и неколебимым пламенем – символ души героя. Искусственное освещение, создавая резкие световые контрасты, четко и вместе с тем мягко выявляет форму, обтекает объемы. Цвет (в излюбленной гамме художника – красные, желтые, коричневые тона с переходом в синевато-розовые и лиловые) дается широкими плоскостями; композиции присущ четкий ритм горизонталей и вертикалей. Эти особенности подчеркивают суровую сосредоточенность персонажей, создают эффект «важного молчания». В своем творчестве художник предстает оригинальным философом, любому бытовому сюжету он придает значительность и одухотворенность. Ирония включения в мемуары Ланглуа страниц о Латуре состоит в том, что до 1915 г., когда немецкий искусствовед Г. Фосс атрибутировал две картины этого мастера, его имя практически не было известно; интерес к нему у искусствоведов возник лишь после 1926 г., когда было найдено третье произведение художника. В настоящее время известно более 30 полотен Латура.
Голос спикера сказал: «Вы прослушали „La dance macabre“ Сен-Санса в исполнении оркестра Парижской оперы под управлением Артура Тосканини». – Спикер – см. коммент. к рассказу «Освобождение». Т. 2, с. 718.
«La dance тасаЬге» («Пляска смерти») – симфоническая поэма (1874) Камиля Сен-Санса.
Артуро Тосканини. – В 1898–1903 гг. Тосканини возглавлял театр «Ла Скала». Во время режима Муссолини эмигрировал в США, где с 1928 г. был главным дирижером «Метрополитен-опера».
…начал бы с упоминания о двух портретах: Людовик Четырнадцатый – Риго и Франциск Первый – Тициана… манерная глупость Людовика Четырнадцатого, с этой откинутой мантией, обнажающей его ногу, обтянутую чулком, – и фигура Франциска Первого: сила, ум, отвага и несомненное благородство. Я стою, смотрю, сравниваю два портрета, XVI и XVII столетия. Я думаю о Генрихе Восьмом, о Леонардо да Винчи, о Тридцатилетней войне и Валленштейне, о Вестфальском мире, о словах Людовика Четырнадцатого… в конце его жизни, когда он был стар, несчастен и унижен… об отмене Нантского эдикта и о многом другом. – Гиацинт (Иасент) Риго (1659–1743) – любимый портретист двора Людовика XIV, создатель парадных портретов в стиле эстетики барокко. «Портрет Людовика XIV» (1701), на котором шестидесятилетний король предстает галантным кавалером, не лишенным привлекательности, человеком с неоднозначным характером и одновременно – живым воплощением идеи монархии, – образец сочетания художественной правды образа с успешным выполнением «социального заказа». Достижению этого «двойного эффекта» способствует поза портретируемого – сначала взгляд зрителя привлекает выставленная вперед нога, а затем, скользя по каскаду складок мантии, поднимается к лицу модели, из-за чего король кажется исполином, взирающим на зрителя сверху вниз; прихотливые складки необычно освещенных драпировок над головой Людовика XIV дополняют это впечатление. В то же время такая поза напоминает фигуру танца, что подчеркивается далеко отставленной в сторону рукой с тростью, и придает модели изящество и куртуазность.
Работа Тициана (1530-е гг.) выполнена в присущей этому художнику строгой манере: ни аксессуары, ни колорит, ни композиция не отвлекают от лица портретируемого. В течение многих сеансов живописец добивался сходства с оригиналом не столько в чертах лица, сколько в психологической доминанте характера; по этой причине современники часто называли его полотна «портретами души».
Франциск Первый (1494–1547) – французский король, его относительно стабильное правление (1515–1547) было затишьем перед междоусобными религиозными войнами. Он покровительствовал искусству и наукам: при нем основан Коллеж де Франс, при его дворе провел последние годы жизни и умер (в замке Амбуаз) Леонардо да Винчи.
Далее перечислены события, сделавшие возможным, по мнению повествователя, сдвиг в эстетическом сознании, наглядно представленный двумя портретами. Это – эпоха религиозных войн, открывающаяся (в панораме Газданова) «Актом о супрематии» (1534) Генриха Восьмого Тюдора (1491–1547), правившего Англией с 1509 г. и утвердившего протестантизм (англиканскую церковь во главе с монархом) как государственную религию Британии.
Тридцатилетняя война (1618–1648), начавшись как внутригерманская усобица, переросла в общеевропейскую войну между двумя лагерями: габсбургским блоком (католические князья, поддержанные папой римским и Польшей) и антигабсбургской коалицией (протестантские князья в союзе с Францией, Швецией, Данией, поддержанные Голландией, Англией, Россией). Имперским главнокомандующим в этой войне был с 1625 г. Альбрехт Валленштейн (1583–1634), одержавший ряд побед над войсками протестантов и завоевавший почти весь север Германии, но разбитый армией шведского короля Густава II Адольфа при Лютцене (1632). Тридцатилетняя война закончилась 24 октября 1648 г. Вестфальским миром, ослабившим Германию; Франция получила часть Эльзаса.
Нантский эдикт (13 апреля 1598 г.), законодательный акт Генриха IV, положивший конец гугенотским войнам во Франции, признал господствующей религией католицизм, но гугеноты получали свободу отправления культа, политические права и привилегии, в их числе около двухсот замков и крепостей во владение. Привилегии отменил Ришелье (1629), положение о веротерпимости – Людовик XIV (1685). Этого «короля-солнце», умиравшего, по воспоминаниям мемуаристов XVII в., от гангрены, покинули придворные, переместившиеся в приемную будущего регента – Филиппа Орлеанского.
…почему ты не холоден и не горяч? – Апокалипсис (3, 15–16): «…знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».
…Вагнер, Беллини, Лотреамон. – Рихард Вагнер (1813–1883) – немецкий композитор и дирижер, реформатор оперы; под влиянием современной ему философии (Фейербах, анархисты, Шопенгауэр, Ницше) создал музыкальную драму, основанную на синтезе музыки, слова, сценического действия. Почти все оперы зрелого Вагнера основаны на переосмыслении мифов – рейнских сказаний, артуровского цикла, легенд о корабле-призраке: тетралогия «Кольцо нибелунга» (1854–1874), «Летучий Голландец» (1841), «Лоэнгрин» (1848), «Тристан и Изольда» (1859), «Парсифаль» (1882).
Винченцо Беллини (1801–1835) – итальянский композитор-романтик, способствовал развитию искусству «бельканто»; его оперы – «Сомнамбула», «Норма» (обе – 1831), «Пуритане» (1835) и др. – замечательны вокальной мелодикой и мягким лиризмом.
Лотреамон – литературный псевдоним Изидора Дюкаса (18461870), автора книг «Песни Мальдорора» (1868–1869) и «Стихотворения» (1870), в XIX в. практически неизвестных. В 1920-е гг., после переиздания, «провозвестника литературы завтрашнего дня» (А. Жид. Предисловие к изданию «Песен Мальдорора» 1925 г.) широко обсуждаются; сюрреалисты объявляют его своим предшественником.
…оказывался любителем Дебюсси, невысоко ставил Мориака и предпочитал Тинторетто Веронезу. – Клод Дебюсси (18621918) – композитор, дирижер, пианист, музыкальный критик, родоначальник импрессионизма в музыке; сочетал поэтичность, яркую звуковую изобразительность, изящество стиля с затуманенностью, изощренностью, размытостью образов. Свойственная ему тенденция к деформации лада в музыке аналогична экспериментам Верлена в поэзии.
Мориак Франсуа (1885–1970) – французский писатель, католик; член Французской академии (с 1933), лауреат Нобелевской премии (1952).
…предпочитал Тинторетто Веронезу. – Творчество Паоло Веронезе (1528–1588) и Якопо Тинторетто (1518–1594), двух современников, – завершающий аккорд венецианской живописи эпохи Возрождения и начало эстетики барокко. По существу, эти художники противоположны друг другу: Веронезе свойственно обостренное чувство прекрасного, его произведения светлы и красочны, любой аксессуар – пышные одежды, сверкающие драгоценные камни, изысканные драпировки, гармоничные архитектурные ансамбли – становится для художника предметом любования. Творения Веронезе, нередко называли «пирами», а его самого – «живописцем триумфов». Тинторетто, в противоположность «солнечному счастливцу» Веронезе воплотил в своих шедеврах представление о человеке как игрушке рока, неведомых сил. Ломая перспективу, он создает иллюзию молниеносного «сокращения» пространства, стремительного движения. Фигуры людей изломаны, показаны в необычном ракурсе, освещены ирреальным фантастическим свечением. Его мир трагичен, противоречив и – грандиозен.
…я прошел через тот опыт, который Рильке считал необходимым, чтобы написать несколько строк, которые могут быть названы подлинной поэзией. – В романе P.M. Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» повествователь замечает: «…надо всю жизнь собирать смысл и сладость… и тогда, быть может, разрешишься под конец десятью строками удачными… стихи – это опыт» (пер. Е. Суриц).
– Ватто тебе как-то не подходит… – Антуан Ватто (1684–1721) – французский художник, мастер «галантных празднеств». Светские развлечения – прогулки, концерты изображены им с оттенком лирической грусти, скрытой неудовлетворенности, меланхолической хрупкости. На его картинах часты фигуры «постороннего», «наблюдателя», отвернувшегося или отошедшего от веселящихся дам и кавалеров, одинокого мечтателя. Его блестящий «праздник жизни» полон намеков (живописных «цитат», аллегорий) на страсти и страдания.
…стихи Верлена иногда напоминают мне дребезжащую музыку механического пианино… – Поль Верлен (1844–1896) – французский поэт, передающий ощущение мира как зыбкой, колеблющейся стихии. Вплетая в стихи речевые неправильности – просторечия, архаизмы, жаргон, провинциализмы, расчленяя классическую ритмику и строфику (александрийский стих) неожиданными паузами и переносами, Верлен создает иллюзию разговорной спонтанности, исповедальности; стих внезапно переходит в прозу, прокладывая дорогу верлибру. См. также коммент. к роману «Пилигримы». Т. 2, с. 715.
Религиозное призвание – Франциск Ассизский, блаженный Августин, святой Юлиан? – Франциск Ассизский. – См. коммент. к рассказу «Дракон». Т. 1, с. 849.
Августин. – См. коммент. к роману «Пробуждение», с. 679.
Святой Юлиан – здесь герой «Легенды о святом Юлиане Странноприимце» (1876) Г. Флобера – по мотивам притчи о человеке, который лег в постель к прокаженному, чтоб искупить смертный грех. В переводе И. С. Тургенева опубликована в журнале «Вестник Европы» (СПб., 1877. № 4. С. 603–628) как «Католическая легенда о Юлиане Милостивом». Имеется в виду католический святой Юлиан Странноприимник, чей день отмечается 29 января, дата канонизации неизвестна.
…кому дано повторить со всей силой убеждения эти слова – «сестра моя смерть»… – слова из молитвы-песнопения Франциска Ассизского.
Выступления на радио «Свобода»*
С 1953 г. до самой смерти в 1971 г. Газданов (под псевдонимом Георгий Черкасов) работал на американской радиостанции «Свобода», большей частью в Мюнхене, но довольно долго и в Париже как корреспондент. За это время он написал сравнительно немного, хотя последние годы его жизни отличаются явным подъемом: 18 из 30 передач датированы 1970-м или 1971-м гг. В 1975 г. мне удалось обнаружить в каталогах радио в Мюнхене лишь 30 литературных передач (в большинстве случаев довольно коротких), хотя их было несомненно больше. (Кроме них, в каталоге числилось примерно 50 названий коротких передач на социально-политические темы. Насколько мне известно, они не сохранились.) В домашнем архиве писателя в Париже нашлось еще несколько рукописей и машинописей, относящихся к работе на радио.
В 1964 г. Газданов создал серию передач под названием «О книгах и авторах». К сожалению, о ее истории мало что известно и мало что сохранилось от нее. Другая серия, в которой Газданов не раз участвовал, вместе с Г. Адамовичем, В. Вейдле, Н. Струве и др., называлась «Беседы за круглым столом». Самая же удачная серия, которую Газданов предложил руководству радио, по всей вероятности, в конце 1960-х гг., – цикл «Дневник писателя» – более десяти передач. В архиве радиостанции сохранилась на русском и на английском языках машинописная заметка о проекте Газданова.
«Аудитория: Состав слушателей: советская интеллигенция, студенты литературного факультета, писатели, журналисты. Содержание программ – концепция: следует подчеркнуть, что интерес к литературе и вопросам, которые с ней связаны, в Советском Союзе гораздо больше, чем на Западе, и что в Советском Союзе читают больше, чем в любой другой стране. Поэтому все, что говорится о литературе из-за границы – и, следовательно, резко отличается от советских взглядов на литературу, – приобретает для слушателей особый интерес: главные темы передач – моральная ответственность писателя за то, что он пишет. Процесс литературного творчества. Подход к литературе вообще. Темы и сюжеты литературных произведений. То, чем должна быть литература и чем она не должна быть. Одна из главных задач – показать, во что превратилась русская литература за время Советской власти и почему это произошло.
Приблизительный перечень нескольких передач.
1. Пропаганда и литература.
2. Литература и журнализм.
3. Оценка творчества и испытание временем.
4. Тенденциозность литературных произведений: Graham Greene, Francois Mauriac.
5. Начало русской прозы: Гоголь.
6. Пессимизм и оптимизм: Чехов.
7. Литературные портреты: Горький.
8. Литературные портреты: Алданов.
9. „Связь с народом“.
10. О Добролюбове.
11. Претворение действительности.
12. Исторический роман».
Насколько известно, Газданов не подготовил передачи № 5–7, 10 и 12, хотя сохранился черновик статьи о Горьком. Возможно, Газданов намеревался написать новые статьи о Гоголе и Чехове или сделать № 5 и 6 на основе уже напечатанных ранее статей о Гоголе и Чехове. Но, видимо, из-за болезни в 1970–1971 гг., он просто воспользовался своими ранними статьями и прочел их по этой программе.
Здесь представлены работы Газданова из разных циклов, которые он вел на радио «Свобода». Вполне закономерно, они имеют политическую тенденциозность, объяснимую главной задачей радио «Свобода»: противопоставить советской идеологии – западную. Тем не менее в ряде передач Газданову удалось избежать политизированности, и он выступает как увлекательный рассказчик, корректный мемуарист и чуткий критик, тонко выражающий свое не всегда положительное мнение.
Один из характерных примеров – передача «О Ремизове». Молодой кавказский писатель – по всей вероятности, это сам Газданов. Чрезвычайно интересны как газдановская «демонстрация» ремизовского стиля, так и его замечания насчет ремизовской игры в жизни и в искусстве. (В интервью Газданова французскому профессору и коллекционеру Рене Герра в начале ноября 1971 г., всего за месяц до своей смерти, он говорит, что у Ремизова «не совсем удачный сказ», и все «искусственно, это не Аввакум».)
В передаче «Достоевский и Пруст» автор сравнивает русского и французского классиков (не в пользу первого!) и, что характерно для него, уделяет большое внимание критике (даже пародии) примитивных идей о литературе. Размышления «По поводу Сартра» написаны в том же духе, но прекрасно иллюстрируют основную газдановскую идею (часто встречающуюся в его романах и рассказах) о том, что психологический облик писателя (да и любого человека) создает и определяет его мировосприятие и даже мировоззрение, выраженное в его художественных произведениях (или поступках), и оно, это мировоззрение, точно соответствует его душевным склонностям и потребностям, а не наоборот.
«Пропаганда и литература» – типичная для Газданова-публициста передача (сохранилось несколько подобных заметок), соединяющая его политические и эстетические взгляды. «Советская литература» для него была партийной пропагандой.
Активно участвуя в литературной жизни Русского зарубежья с самого начала писательской карьеры, т. е. с конца 1920-х гг., Газданов имел возможность знать многих. Если знакомство не состоялось или не стало дружбой, чаще всего это объяснялось тем, что Газданов, подобно Набокову, был человеком «твердых убеждений» и очень требовательным в отношении нравственных и эстетических ценностей. Эта его требовательность более всего явна в критических очерках, написанных после Второй мировой войны, главным образом для радио «Свобода». Или же ненаписанных…
О ком Газданов решил не писать, о чем он не пишет, когда он рассказывает о каком-либо писателе, это так же важно и показательно, как то, что он пишет. Известно, что он был невысокого мнения о некоторых «маститых» (с его точки зрения) писателях эмиграции – например, о Мережковском или Бальмонте (не говоря уж о советских). Менее известно то, что он не очень высоко ценил почти всю литературу, созданную «старшим поколением» первой эмиграции, и считал ее старомодной, традиционной, повторяющей существующие формы и темы, большинство которых, по его мнению, в сущности, просто продолжали стиль и тематику русской литературы не то ХГХ, не то Серебряного века.
Он сохранил внешне вежливое отношение (и даже относился с искренним уважением) к таким тогда еще живым классикам (а иногда и коллегам по радио), как Бунин, Б. Зайцев, Ремизов, Алданов, Осоргин, Адамович, но писал о них или мало, или совсем ничего, или «не то»; он старательно избегал откровенного выражения своего истинного мнения: эти писатели по разным причинам не являются для него писателями ни первого ранга, ни настоящего большого таланта. Бунин – большой талант, но нового голоса у него нет. Алданов – замечательный историк, но не стилист. Осоргин прекрасный человек, но не большой писатель. Ремизов – интересный чудак, но «не Аввакум», и по сути фальшив. Зайцев – чистая душа, но в его писаниях нет никакого нового «претворения действительности» страшного «нечистого» XX века. О многих – Г. Иванове, М. Цветаевой, В. Ходасевиче, 3. Гиппиус – Газданов вообще не писал. Даже к творчеству своих ровесников, принадлежавших, как и он сам, к «незамеченному поколению», он обращался редко, выделяя Набокова и Поплавского как единственно по-настоящему и по-новому даровитых писателей. Многие ему казались, и остались до конца жизни, как он любил выражаться, «графоманами». Других (например, В. Брюсова) он терпеть не мог и откровенно возмущался тем, что их вообще считают писателями.
В передаче об Алданове в 1971 г., за несколько месяцев до своей смерти, Газданов с некоторой иронией цитирует суждение Алданова о том, что не стоит писать отрицательную рецензию ни о ком, ведь это только обижает автора и никакой пользы от этого не будет и ничего это не изменит. Немолодой Газданов менее резок, чем в молодости, и столь же вежлив, как всегда, но пишет так, что внимательному читателю (или слушателю радиопередач) сразу становится ясно отношение автора к «герою».
В некрологе о Степуне почти ничего не сказано о философии, зато дан замечательный живой портрет. Окончание очерка можно было бы прямо вставить в любой газдановский роман или рассказ: по стилю и содержанию оно полностью подходит. Темы смерти и справедливости, так же как ритм и словарь последнего абзаца – это типичный Газданов.
Заметка к девяностолетию Б. К. Зайцева больше говорит о писателе Зайцеве тем, чего в ней нет: ни одного слова о писательском таланте или мастерстве, о языке или стиле! Газданов перечисляет произведения Зайцева и даже пересказывает один рассказ (что делает довольно редко), но ни слова о том, хорошо или плохо это написано. Он подчеркивает возраст Зайцева, его девяностолетие, чем тонко внушает: Зайцев – писатель другой эпохи, он не современный автор. Этому содействуют и наблюдения о том, что Зайцеву было двадцать девять лет, когда умер Толстой, что Зайцев «вне времени», что «в его книгах удивительная неподвижность», что по вкусу он близок Жуковскому (архаичность которого Зайцев даже как будто не чувствует!..), Тургеневу, Чехову. Все это не случайные замечания: по сути, Газданов говорит о том, что миросозерцание Зайцева не современное, он не выражает свою эпоху, двадцатый век, не отзывается на нее, а просто повторяет христианские истины.
Интересно и парадоксально сравнение его с Алдановым, который в описании Газданова во всем противоположен Зайцеву. Алданов ни во что не верил: ни в прогресс, ни в религию, ни в историю, ни в искусство, ни в людей, ни в какие бы то ни было нравственные ценности, но, несмотря на этот полный пессимизм, он был человеком «безупречной нравственности», он упорно работал и писал всю свою жизнь. Эта «загадка Алданова» применима и к Зайцеву: зачем человек пишет всю свою жизнь, если он верит, что все, что надо сказать, уже сказано (в Библии), если он находит мир сотворенным Божьей волей именно таким, каким он должен быть, и изменять его не надо и нельзя. При чтении текста передачи «Оценка творчества и испытание временем» становится еще более ясным, что ссылка на Жуковского, это не комплимент Зайцеву. Хотя Газданов признает подлинность таланта Жуковского, но все-таки ставит его во второй ряд русской литературы; это ясно из его замечания после цитаты из Пушкина: в этих двух строчках Пушкина «больше подлинной поэзии, чем во всем, что написал Жуковский».
В передаче «Оценка творчества и испытание временем» очень типичен для Газданова выбор цитаты из Ходасевича о том, что долг поэта «победителей не славить… побежденных не жалеть». Или мысль о том, что Тридцатилетняя война имела небольшое значение в истории человечества по сравнению с тем, что произошло в голове Декарта в одну ульмскую ночь, когда родились основные положения трактата «Рассуждение о методе». Или такая фундаментальная идея, часто встречающаяся в творчестве Газданова: «надо иметь мужество отказаться от иллюзий» (в связи с этим имеется в виду, что большинство современных писателей, советских или эмигрантских, будет неизбежно и «заслуженно» забыто). У Газданова встречаются и весьма спорные мысли. В «Оценке творчества и испытании временем» он пишет о беспощадности и безвозвратности «приговора времени» в отношении «незаслуженно забытых» писателей. Но мы знаем, и Газданов не мог этого не знать, что бывают случаи «возврата незаслуженно забытых», каждая эпоха открывает прошлое заново, выбирает новых фаворитов.
Вместе с тем передача эта интересна как краткое, сжатое изложение некоторых основных эстетических взглядов Газданова. Относясь к «литературоведению» с иронией, он, как писатель, прекрасно понимал вопросы и проблемы «ремесла», а как человек высокой нравственности и духовности – и неэстстические задачи искусства. Он очень любил Толстого, в отличие от Достоевского, и неоднократно цитировал его в связи с размышлениями о качествах талантливого писателя и настоящего искусства. Можно считать его эстетическим кредо перефразированную цитату: «Умение видеть то, чего не видят другие»: оригинальность, новый, свой, образ видения; «ясность изложения» – стиль, язык, форма, выражающая содержание и точно соответствующая ему; «искренность» – отсутствие любой фальши, нечистых и неуместных (коммерческих или политических) намерений, неизбежно и неизменно извращающих искусство; «правильное, то есть нравственное отношение автора к предмету» – возможно, самое важное, но наиболее трудно определимое качество, дающее писателю «глубину проникновения и понимания» своего предмета, придающее его произведению духовную серьезность и универсальность, что и позволяет выдержать испытание временем.
Л. Диенеш
Русская поэзия на французском языке*
Передача 1965 г. Существует в магнитофонной записи. Печатается впервые. Подготовка текста и публикация С. Никоненко.
…Антология под редакцией Эльзы Триоле. – Имеется в виду издание: La poesie russe. Ed. bilingue. Anthologie rdunie et pubi, sous la dir. de Elsa Triolet. [Paris] Seghers, 1965.
Эльза Триоле (1896–1970) – французская писательница; родилась в России. Сестра Лили Брик, жена Луи Арагона. Переводила русскую поэзию на французский язык.
Ахмадулина Белла (наст. имя Изабелла Ахатовна; р. 1937) – поэтесса, обращаясь к которой другой поэт этого же поколения Андрей Вознесенский (р. 1933), писал: «Нас много, Нас, может быть, четверо» (Вознесенский А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 136), прокламируя новое содружество поэтов (Е. Евтушенко, Р. Рождественский), заявивших о себе в начале 1960-х гг. Их объединяли антасталинизм, неприятие всех видов ксенофобии, антисемитизм, нелюбовь к «самодовольной норме», артистизм, любовь к свободному стихи, к нестандартным рифмам.
Сурков Алексей Александрович (1899–1983) – поэт, автор знаменитой песни «Бьется в тесной печурке огонь…» («В землянке») и др. В послевоенные годы именовал себя «солдатом революции», в которую вступил в 1925 г. Лауреат Сталинской премий (1946, 1951). В 1953–1959 гг. – Первый секретарь правления Союза писателей, в 1956–1966 гг. – кандидат в члены ЦК КПСС. Вероятно, он и был руководителем группы поэтов, приехавших в 1965 г. в Париж.
Луи Арагон (1897–1982) – французский поэт, прозаик, общественный деятель. Начинал как сюрреалист, в 1920-е гг. примыкал к дадаистам. С 1927 г. – член Французской Коммунистической партии. Лауреат Международной Ленинской премии (1957).
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) – поэт, автор поэм «Страна Муравия» – о коллективизации, «„Василий Теркин“. Книга про бойца» (1942–1945), «За далью даль» (1953–1960). В поэме «Теркин на том свете» (1963) дана несколько карикатурная картина политической системы СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС (19611966), лауреат Сталинских, позднее Государственных премий (1941, 1946, 1947, 1971) и Ленинский премии (1961). Был редактором журнала «Новый мир» в 1950–1954 и в 1958–1970 гг. Во время второго редакторства журнал стал литературным форумом интеллектуальной элиты страны и центром «нравственной оппозиции» власти.
…Федор Николаевич Глинка (1786–1880) – русский поэт и прозаик. Многие его стихи («Тройка», «Узник» и др.) положены на музыку.
Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) – поэт-декабрист, член Северного общества, один из руководителей восстания 14 декабря 1825 г. (был казнен), автор исторических баллад «Думы», поэм «Войнаровский», «Наливайко», характерных для русского романтизма.
Исаковский Михаил Васильевич (1900–1973) – советский поэт, писавший, в основном, о деревне. Некоторые его стихи («Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Снова замерло все до рассвета» и др.) стали народными песнями. Лауреат Сталинских премий (1943. 1949) и др.
Соснора Виктор Александрович (р. 1936) – поэт и прозаик, основывающийся на эстетическом опыте русского авангарда (прежде всего В. Хлебникова); разработал оригинальную художественную систему, сочетающую чувство трагизма бытия со свободой самовыражения, эмоциональность с тонким ощущением гармонии, языковой эксперимент, трансформацию системы языка с семантической сложностью, уникальной в русской поэзии 1960-1990-х г. К 1965 г. он – автор цикла стихов «За изюмским бугром» (1959), книги «Январский ливень» (1962), «Триптих» (1965). В 1960-е гг. его воспринимали в одном ряду с Б. Ахмадулиной, А. Вознесенским, Е. Евтушенко, но у него была иная творческая установка, успех у публики его мало волновал. Его называли «эстетическим диссидентом».
Из выступления на торжественном собрании по случаю 85-летия Б. К. Зайцева*
Впервые – Беседы о русской зарубежной литературе. Париж, 1967. С. 24–25. В России печатается впервые – по этому изданию. Публикация Т. Красавченко.
Юбилей Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) отмечался в 1966 г.
Андреа Каффи*
Печатается впервые. Подготовка текста и публикация Т. Красавченко. Передача вышла в эфир 14/15 сентября 1966 г. в серии «О книгах и авторах». Архив Газданова. Ед. хр. 20.
Андреа (Андрей Иванович) Каффи (1893–1955) – итальянский общественный и государственный деятель; масон.
…С Андреа Каффи… я познакомился в Париже в тридцатых годах у одного русского писателя, долго жившего в свое время в Италии. – Имеется в виду М. А. Осоргин.
…перевести на русский язык несколько страниц Бёме… – Бёме Якоб – немецкий философ-пантеист, натурфилософ, мистик. Писал ярко, образно, метафорично. См. о нем коммент. к роману «Вечер у Клэр». Т. 1, с. 813.
…русском языке… каким писал протопоп Аввакум. – Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682) – глава и идеолог русского раскола, писатель, автор знаменитой автобиографии «Житие протопопа Аввакума» (1672–1675). См. коммент. к роману «Вечер у Клэр». Т. 1, с. 808.
…спросил я жену хозяина. – Имеется в виду Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина (1906–1996), третья жена Осоргина; она долгое время возглавляла Тургеневскую библиотеку в Париже, стала известным библиографом.
…какая разница между утверждениями Тартульяна в его первых трудах и позднейших произведениях… – Возможно, имеется в виду то, что Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 – после 200), видный представитель латиноязычной патристики, в ранних трудах придерживался традиционных христианских взглядов, в поздних, когда он стал последователем Монтана, видимо, в связи со своей схизматичностью, расколом он становится более ригористичным (в отношении к образу жизни, постам, браку).
…трактаты блаженного Августина… – См. коммент. к роману «Пробуждение», с. 679.
…в «Евгении Онегине» упоминается теория физиократов… – Имеется в виду гл. Г, VII романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», где герой «…умел судить о том, / Как государство богатеет, / И чем живет, и почему / Не нужно золота ему, / Когда простой продукт имеет». В последних двух строчках изложена основная идея теории физиократов – направления в классической политической экономии, возникшего во Франции в середине XVIII в. – Ф. Кенэ, А. Тюрго, В. Мирабо и др., они утверждали, что «чистый (или простой) продукт» создается только сельскохозяйственным трудом.
…помнил содержание страсбургской клятвы… – Страсбургская клятва (или присяга) – торжественная клятва, которую дали в присутствии войск 14 февраля 842 г. близ города Страсбурга внуки Карла Великого – Людовик Немецкий (будущий король Германии) и Карл Лысый (будущий король Франции). Людовик на французском языке, а Карл на немецком поклялись соблюдать взаимные интересы и действовать сообща.
…он был непримиримым противником Муссолини… – Бенито Муссолини (1883–1945) – фашистский диктатор Италии в 19221943 гг. В апреле 1945 г. взят в плен партизанами и казнен по приговору военного трибунала Комитета национального освобождения.
…на стенах была расклеена пространная декларация только что сформированного правительства… подписана премьер-министром, который по профессии был историком. – Имеется в виду декларация сформированного в 1936 г. правительства Народного фронта, до 1938 г. его возглавлял лидер и теоретик Французской социалистической партии Леон Блюм (1872–1950), по образованию историк.
…один из наших общих знакомых – русский поэт и писатель – читал отрывок из своего исторического романа… – Речь идет об А. П. Ладинском и его романе «XV легион» (1937).
…кровообращение… было открыто Харвеем… – Уильям Харвей (Гарвей) (см. о нем коммент. рассказу «Из блокнота». Т. 3, с. 721). Описал большой и малый круг кровообращения (1628). Но еще ранее идею о существовании малого круга кровообращения и его физиологическом смысле высказал Мигель Сервет (1509 или 1511–1553), испанский мыслитель и врач.
…мадам Рекамье поняла, что такое настоящая любовь только тогда, когда встретила Шатобриана… – Жюли Рекамье (1777–1849) – жена парижского банкира; в ее модном салоне собирались писатели, ученые, политические деятели, художники, музыканты.
Виконт Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) – французский писатель-романтик, автор мемуаров «Замогильные записки» (1848–1850).
…в Риме императора Клавдия… – Римский император (10 до н. э. – 54 н. э.) из династии Юлиев – Клавдиев, правил с 41 г., заложил основы имперской бюрократии, улучшил финансовое положение Рима.
…во Франции герцога Сен-Симона, в Англии – Елизаветы и Бэкона. – О герцоге Сен-Симоне см. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 687.
Елизавета I Тюдор (1533–1603) – английская королева, ее период правления (1558–1603) известен как Золотой век английской литературы и культуры.
Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский философ Возрождения, выступал против подчинения искусства «правилам», считая его главной целью изображение природы, а главной целью науки – власть над природой,
О нашей работе № 2*
Впервые – Возвращение Гайто Газданова / Сост. М. А. Васильевой. М.: Русский путь, 2000. С. 300–302. Публ. А. И. Серкова. Печатается по этому изданию.
Архив Г. В. Адамовича (Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 754. К. 5. Ед. хр. 7), приложение к автографу письма Газданова Г. Адамовичу, публикуемому в пятом томе. Три страницы, напечатанные на ротапринте, содержат запись комментария Газданова (под псевдонимом Георгий Черкасов) к серии передач, в которых читались «Воспоминания» (1950) И. А. Бунина, и к планируемой серии передач – чтений книги Г. В. Адамовича «Комментарии» (1967). Судя по пометам, запись датируется 18–20 октября 1967 г.
Федор Степун*
Передача от 24/25 февраля 1970 г. Архив Газданова. Ед. хр. 27. Печатается впервые. Публикация Л. Диенеша и Т. Красавченко.
Федор Августович Степун (1884–1965) – философ, публицист, прозаик, литературный и театральный критик, общественный деятель и мемуарист. Участник Первой мировой войны. В 1922 г. выслан из Советской России. Писал на русском и немецком языках. Профессор в Дрездене, после войны – в Мюнхенском университете, на специально для него учрежденной кафедре истории русской культуры.
…английский профессор сэр Поль Виноградов был русским историком, и итальянский профессор Венчеслас Иванов был знаменитым в свое время русским поэтом. – Имеются в виду Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925), историк и правовед, с 1903 г. профессор Оксфордского университета (в 1917 г. ему был пожалован титул лорда), и Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949), русский поэт, драматург, филолог, теоретик символизма, историк; в 1924 г. уехал в Италию и преподавал в различных университетах, в Ватикане.
…следует особенно отметить его воспоминания «Бывшее и несбывшееся», сборник статей о Достоевском и Толстом, книгу о русском символизме, литературные очерки «Встречи»… – «Бывшее и несбывшееся» (Нью-Йорк, 1956. Т. 1–2) – одна из самых известных книг Степуна, в которой воспоминания автора сочетаются с осмыслением путей России в XX в.; «Dostojewskij und Tolstoj», Mtinchen, 1961; «Mystische keltschau / Funf Gestalten der mssischen Symbolismus», Mtlnchen, 1964 – о Вл. Соловьеве, H. Бердяеве, Вяч. Иванове, А. Белом и А. Блоке; «Встречи» (Мюнхен, 1962) – сборник статей разных лет о писателях-современниках, с которым автору довелось встречаться (Л. Толстой, И. Бунин, Б. Зайцев, А. Белый и др.).
…история русской философии – от Чаадаева до Бердяева, Шестова, Франка, Булгакова. – Петр Яковлевич Чаадаев (17941856) – мыслитель и публицист, автор знаменитых «прозападных» «Философических писем» (1829–1831).
Николай Александрович Бердяев (1874–1948) – философ, экзистенциалист, с 1922 – в эмиграции.
Лев Шестов (наст. имя Лев Исаакович Шварцман, 18661938) – философ-экзистенциалист и писатель, с 1895 г. – жил в основном за границей.
Семен Людвигович Франк (1877–1950) – русский религиозный философ; с 1922 г. – в эмиграции; жил в Германии, Франции, Великобритании.
Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) – богослов, философ, экономист; священник (с 1928); с декабря 1922 г. – в эмиграции.
…начиная от высказываний Хомякова… – Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) – богослов, писатель, философ, поэт, публицист; один из основоположников славянофильства.
…соображения, которые вдохновили создание «Смерти Ивана Ильича»… – Повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» написана в апреле 1884 – марте 1886 гг. Основные мотивы повести: повседневная жизнь делает человека рабом условностей, опустошает душу, но на пороге смерти он понимает: главное – не материальные блага и карьера, а духовное бытие.
Пропаганда и литература*
Передача из серии «Дневник писателя» от 27/28 ноября 1970 г. Печатается впервые. Публикация Л. Диенеша. Архив Газданова. Ед. хр. 58.
…роман Островского «Как закалялась сталь»… это написано совершенно по-детски, настолько наивно и неумело, что читатель только пожимает плечами. – Роман Николая Алексеевича Островского (1904–1936) (полн. отд. изд. 1935) – не столько литературное, сколько общественное явление; при всей своей литературной неопытности автор создал в романе образ «героя своего времени» – Павла Корчагина, верившего в возможность утопии, готового пожертвовать личными интересами и даже жизнью ради лучшего будущего.
…Цензура всегда существовала в России. – Цензура, т. е. надзор государства над печатью, возникла в Европе в XV в., в России – в начале XVTH в.; после Февральской революции 1917 г. упразднена. С 1922 г. осуществлялась Главлитом. С 1990 г. по закону «О печати и других средствах массовой информации» в СССР, а затем в России цензура отменена.
…«Литература должна быть партийной». – Принцип партийности литературы разработан В. И. Лениным во время революции 1905 г. «Литература должна стать партийной, – писал он в статье „Партийная организация и партийная литература“ (легальная большевистская газета „Новаяжизнь“. № 12. 13 нояб. 1905 г.). – В противовес буржуазным правам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, „барскому анархизму“ и погоне за наживой, – социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы» (Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 100).
…кто-то из иностранных гостей спросил председательствующего на собрании Федина, почему в Советском Союзе не переводят и не издают Пруста, Джойса и Кафку… – кажется Силоне, если мне не изменяет память, – спросил Федина, читал ли он этих авторов. Федин простодушно ответил, что нет, не читал. Справедливость требует отметить, что с тех пор несколько рассказов Кафки были переведены на русский язык и напечатаны в советских журналах. – В русском переводе в 1934–1938 гг. вышли четыре тома из цикла романов М. Пруста «В поисках утраченного времени», в 1927 г. – сборник рассказов «Дублинцы» Джеймса Джойса, в 1935-1936-м в журнале «Интернациональная литература» печатались главы из его романа «Улисс». Рассказы Кафки опубликованы в журнале «Иностранная литература» в 1964 г., № 1; а в 1965 г. в Москве издана его книга «Роман. Новеллы. Притчи».
Конечно, Фурцева это не мадам де Сталь, от нее многого требовать нельзя… – Екатерина Алексеевна Фурцева (1910–1974), министр культуры СССР в 1960–1974 гг.
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) – французская писательница, автор романов и эстетических работ; оказала влияние на французских романтиков.
Оценка творчества и испытание временем*
Передача из цикла «Дневник писателя», № 126, вышла в эфир 18/19 декабря 1970 г. Печатается впервые. Подготовка текста и публикация Л. Диенеша.
…В начале прошлого столетия говорили: Пушкин и Марлинский. – Имеется в виду Александр Александрович Бестужев (псевдоним Марлинскищ 1797–1837), приговоренный к 20 годам каторги, с 1829 г. служил рядовым в армии на Кавказе; погиб в бою. Его произведения при жизни пользовались огромной популярностью. Затем на полтора столетия он был забыт, лишь в конце XX в. вышло несколько сборников его произведений.
Потапенко. – См. коммент. к эссе «О Чехове». Т. 3, с. 726.
…во времена Пушкина были такие поэты, как граф Хвостов… – Дмитрий Иванович Хвостов (1757–1835) – писатель, переводчик; в 1828–1834 гг. издал «Полное собрание стихотворений» в 7 томах; эпигон классицизма, объект пародий и эпиграмм современников, в том числе Пушкина.
…по эпиграммам Пушкина, только потому, что он написал: Неведомский – поэт, не ведомый никем… – Газданов ошибается, это написал не Пушкин, а Петр Иванович Колошин, также учившийся в Царскосельском лицее.
…Такими были, например, Боборыкин, Немирович-Данченко, Эренбург… – См. о них коммент. к рецензии «Илья Эренбург. Виза времени». Т. 1, с. 867.
…Оба французских писателя… Андре Моруа и Жан Геенно… – Андре Моруа (наст. имя Эмиль Эрзог; 1885–1967) – автор романизированных биографий писателей и политических деятелей.
Геенно Марсель Жан (1890–1978) – писатель, литературовед, член Французской академии (с 1962).
…вспоминается несколько имен: Анна Караваева, Галина Николаева… Ефим Зозуля, Крептюков… – Анна Александровна Караваева (1893–1979) – прозаик, драматург, автор, изданий: Собр. соч. в 5 т. М., 1957–1958; Избр. произв. в 2 т. М., 1988. В настоящее время почти забыта.
Галина Николаева. – См. коммент. к первому масонскому докладу Т. 3, с. 731.
Ефим Давидович Зозуля. – См. коммент. к «Заметкам читателя И». Т. 1,с. 873.
Даниил Александрович Крептюков (1888–1957) – советский писатель, среди его сочинений – повесть «Мамзер» (1928) – о Гражданской войне; роман «Времена» (1928) – из жизни украинского народа эпохи реакции после 1905 г.; очерки «Пионеры в степи» и «Степные всходы» – о колхозах степной части Крыма и др.
…Раз: победителей не славить. – Из стихотворения В. Ходасевича «Сквозь облака фабричной гари…» (4 окт. 1922 г., Берлин, 11 февр. 1923, Sarow).
…Правитель слабый и лукавый… – Речь идет об Александре Г. См. «Евгений Онегин». Гл. X, I. У Пушкина: «Властитель слабый и лукавый».
…Пройдет веков завистливую даль. – Из стихотворения А. С. Пушкина «К портрету Жуковского» (1818).
<О негласной иерархии в общественной жизни и тенденциозности в литературе>*
В библиографии, составленной Л. Диенешем (Dienes L. Bibliographic des oeuvres de Gaito Gazdanov. P.: Institut d'Etudes Slaves, 1982. P. 60), в списке радиовыступлений Г. Черкасова указано название «Тенденциозность в литературе: Грэм Грин, Франсуа Мориак» [Серия «Дневник писателя»]. 8/9 янв. 1971. Возможно, это одна и та же передача, но полной уверенности, пока не опубликованы тексты радиовыступлений Газданова из архивов радио «Свобода», нет.
Звукозапись выступления хранится в личном архиве Ольги Абациевой-де Нарп. Впервые выступление напечатано в сб.: «Гайто Газданов и „незамеченное поколение“: Писатель на пересечении традиций и культур» / Отв. ред. Т. Красавченко. Сост. Т. Красавченко, М. Васильева, Ф. Хадонова. М.: ИНИОН РАН. Б-ка-фонд «Русское зарубежье», 2005. С. 235–241. Подгот. текста и публ. Т. Красавченко. Печатается по этому изданию.
Питт и Гладстон. – В истории Англии было два Уильяма Питта и оба видные государственные деятели: Старший (1708–1778), премьер-министр Великобритании (1766–1768), и его сын, Питт-Младший, премьер-министр в 1783–1801, 1804–1806 гг. В данном контексте типологического противопоставления писателей и политиков не важно, кого из них имеет в виду Газданов, хотя скорее всего более популярного Питта-Младшего, лидера «новых тори» (консерваторов).
Уильям Юарт Гладстон (1809–1898) – четырежды премьер-министр Великобритании (1868–1874, 1880–1885. 1886, 1892–1894), лидер Либеральной партии с 1868 г.
…герцог Сен-Симон – см. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 687.
Джузеппе Гарибальди (1807–1882) – один из вождей революционно-демократического крыла Рисорджименто – движения против иноземных захватчиков, за объединение Италии.
Тадеуш Костюшко (1746–1817) – руководитель Польского восстания 1794 г., как и Гарибальди, национальный герой.
Академия. – Российская академия наук, до 1917 г. именуемая Петербургской академией наук, основана в 1724 г. как высшее научное учреждение страны.
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) – журналист, писатель, издатель (совместно с Н. И. Гречем) газеты «Северная пчела» (1825–1859), журнала «Сын отечества» (1825–1839), «прославился» политическими доносами на литераторов. Широко известны две эпиграммы Пушкина: «Не то беда, что ты поляк…», где Булгарин назван «Видок Фиглярин» (опубл. 1830), и «Не то беда, Авдей Флюгарин» (опубл. 1831).
…оду в честь Екатерины II… – «Ода к Фелице» (1782) Г. Р. Державина, за которую поэт был обласкан и награжден императрицей; назначен губернатором олонецким (с 1784), тамбовским (1785–1788), кабинет-секретарем (1791–1793), сенатором.
Народ, чуждась вероломства, /Забудет ваши имена. – Газданов, возможно, по памяти или неизвестному нам изданию, цитирует стихотворение Ф. И. Тютчева «14-ое декабря 1825» (Вас развратило самовластье…), впервые опубликованное в журнале «Русский архив» (М., 1881. Вып. 2. С. 340), где напечатано: «Народ, чуждаясь вероломства, / Поносит ваши имена…», что соответствует хранящемуся в РГАЛИ автографу поэта (505/6, л. 1).
В эту ночь от Каспия до Нила… – Стихи Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888–1982) «Кто б ни был – заходи, прохожий» из сборника «Orientalia» (1913; переизд. семь раз). Заметив, что Шагинян «всю ночь читала Ленина», Газданов иронизирует над тем, что она известна прежде всего как автор «ленинианы» – с середины 1930-х гг. она работала над тетралогией «Семья Ульяновых» (1970; Ленинская премия, 1972). Она была также Лауреатом Сталинской премии (1951), Героем Социалистического Труда (1976).
«Легенда о св. Юлиане Милостивом» (1875–1876) Г. Флобера – см. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 691.
Поля Клоделя (1868–1955), автора мистико-этических драм, члена Французской академии (с 1946), именовали даже «новым Шекспиром».
Франсуа Мориак. – См. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 690.
Грэм Грин (1904–1991) – английский писатель, принял католичество в 1926 г., автор, по его собственному определению, «развлекательных» – детектавно-приключенческих – и «серьезных» романов, тем не менее близких друг другу этико-философской, религиозной и политической проблематикой, а также использованием приемов детектива.
…в романах Орвелла или Гексли или, наконец, Замятина. – Газданов упоминает в одном ряду писателей, авторов антиутопий – англичан Джорджа Оруэлла (наст. имя Эрик Блэр, 1903–1950), автора романа «1984» (1949), и Олдоса Хаксли (в дореволюционной транскрипции – Гексли, 1894–1963), автора романа «Прекрасный новый мир» (1932), а также Евгения Ивановича Замятина (1884–1937), автора романа «Мы» (1921), в 1924 г. опубликованного (на английском) за рубежом, в СССР – в 1988 г.
…Свифт и его трагический литературный облик… и не менее трагическая личная судьба… – Газданов имеет в виду, вероятно, болезнь, которой английский писатель-сатирик Джонатан Свифт (1667–1745) страдал на протяжении большей части своей жизни, симптомы сумасшествия проявившиеся в последние годы, а также загадочную, запутанную, драматическую ситуацию любовного треугольника, в которой оказался Свифт. Долгая история взаимоотношений Джонатана Свифта с Эстер Джонсон (известной как Стелла; она была на 14 лет младше него, познакомились они, когда ей было 7–8 лет) привела в 1716 г. к тайному браку. Возможно из-за его отношений с давно влюбленной в него Эстер Ванномри, по слухам умершей в 1723 г. под впечатлением его разрыва с нею, в 1728 г. умерла и Стелла, самый близкий ему человек, что усугубило здоровье Свифта. Что касается литературной судьбы, то почти все произведения Свифта напечатаны при его жизни анонимно, за «Путешествия Гулливера» (1726) он получил всего 200 фунтов. В XVIII–XIX вв. его произведения считались слишком «грубыми», «ядовитыми», он получил признание лишь в XX в.
Об Алданове*
Печатается впервые. Подготовка текста и публикация Л. Диенеша. Передача из серии «Дневник писателя», № 140,10 февраля 1971 г. Архив Газданова. Ед. хр. 48. Текст радиопередачи отличается от текста статьи «Загадка Газданова» (Русская мысль. 1967.15 апр.)
…Алданов рассказывал, как Толстой, живший в том же доме, что и он, в Париже… – Алексей Толстой жил в Париже с июня 1919 г. по октябрь 1921 г., Алданов – с весны 1919 г. по декабрь 1940 г.
…политика Гладстона и переписка Грозного с Курбским, середина Тридцатилетней войны и труды Аристотеля, Андроник Комнин и стихи Алена Шартъе. – Правительство Гладстона инициировало подавление национально-освободительного движения в Ирландии, в 1882 г. – захват Египта. О Гладстоне см. коммент. к предыдущему радиовыступлению, с. 704.
Андрей Михайлович Курбский (1528–1583) – князь, боярин, писатель. Опасаясь опалы со стороны Ивана Грозного за близость к казненным боярам, в 1564 г бежал в Литву; участвовал в войне против России. Автор трех посланий к Ивану Грозному, в которых стремился объяснить свою позицию.
Андроник I Комнин (1123–1185) – византийский император с 1183. Проводил политику террора по отношению к аристократии. Свергнут знатью Константинополя при поддержке народа и казнен.
Ален Шартъе (1385–1433) – французский поэт и прозаик, секретарь короля Карла VII.
…серия исторических романов – «Девятое Термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров», романы из эмигрантской жизни – «Ключ», «Пещера» и так далее. Наконец одна из последних его книг, нечто вроде философского трактата, «Ульмская ночь». – Газданов перечисляет названия романов из тетралогии Алданова «Мыслитель» в хронологической последовательности их содержания; изданы же они были в следующем порядке: «Святая Елена, маленький остров» (1921), «Девятое термидора» (1921–1922), «Чертов мост» (1924–1925), «Заговор» (1926–1927). «Ключ» (1928–1929) и «Пещера» (1932–1934) – первый и заключительный романы трилогии (третий роман – «Бегство» вышел в 1930–1931 гг.), в которой отражены предреволюционные события и события революции и Гражданской войны. «Ульмская ночь. Философия случая» (1953) – сборник философских диалогов, в которых автор излагает свою философию истории.
О Б. К. Зайцеве*
Печатается впервые. Подготовка текста и публикация Л. Диенеша. Передача из серии «Обзор культурной жизни» (Ко 443/А), текст написан 29 января 1971 г., в эфир передача вышла 14–15 февраля 1971 г.
…Старейшему русскому писателю – Борису Константиновичу Зайцеву – девяносто лет. – Зайцеву исполнилось 90 лет 10 февраля 1971 г. Он родился 29 января (по ст. ст.) 1881 г.
…В краткой литературной энциклопедии Зайцеву отведено тридцать пять строк… – Статья о Б. К. Зайцеве напечатана в 2-м томе КЛЭ (М., 1964. С. 978).
…В числе книг, которые написал Зайцев, есть три, в которых изложены жизнеописания русских писателей… – Зайцев создал беллетризованные биографии наиболее близких ему писателей: «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), «Чехов» (1954).
…Земли жилец безвыходный… – В. А. Жуковский. «На кончину ее величества королевы Виртембергской» (январь 1819 г.).
…И зримо ей в минуту стало… – В. А. Жуковский. «Песня» («Минувших дней очарованье…»).
…его автобиографические книги, объединенные общим заглавием «Путешествие Глеба»… – Автобиографическая тетралогия Зайцева «Путешествие Глеба» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950), «Древо жизни» (1953).
Есть у Бориса Константиновича Зайцева рассказ об одном из северных русских святых. – «Сердце Авраамия» (1927). Герой рассказа – преподобный Авраамий Чухломский (Галицкий), ученик и постриженик Сергея Радонежского, создатель нескольких монастырей. Скончался в 1375 г.
О Ремизове*
Впервые – Дружба народов, 1996. № 10. С. 173–176 / Подгот. текста и публ. Л. Диенеша. Печатается по этому изданию.
Беседа из цикла «Дневник писателя», порядковый номер 147. Рукопись датирована 10 февраля 1971 г., передана по радио «Свобода» 4/5 июня 1971 г.
Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957) – самобытный русский писатель, автор многочисленных повестей, рассказов, сказов и сказаний, написанных своеобразным языком, с нарушением стилистических канонов. С 1921 г. – в эмиграции.
…Больше всего Ремизов… ценил протопопа Аввакума… – см. коммент. к роману «Вечер к Клэр». Т. 1, с. 808.
…Это все Аристотель виноват. Вольно же было ему логику изобретать. – Аристотель разработал формальную логику, господствовавшую в науке вплоть до XVII в. и сохранившуюся до сих пор. См. коммент. к роману «Ночные дороги». Т. 2, с. 705.
…попалась мне книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление». – О Шопенгауере см. коммент. к роману «Пробуждение», с. 676.
…Хотел издавать сочинения Розанова, Василия Васильевича – Ремизов дружил с Розановым и в память о нем написал полумемуарную книгу «Кукха» (1923).
В числе постоянных гостей Ремизова были писатель Унковский и поэт Кобяков. – Владимир Николаевич Унковский (18881964) – врач, журналист, писатель, эмигрант с 1920 г.
Дмитрий Юрьевич Кобяков (1893–1977) – поэт, сатирик; в эмиграции с 1920 г.
…назовите… именем какого-нибудь политического деятеля: например Вишняк. – Марк Вениаминович Вишняк (1883–1975) – политический и общественный деятель, член Учредительного собрания, редактор, публицист, с 1919 г. – в эмиграции; один из редакторов самого престижного журнала русской эмиграции «Современные записки». Д. Кобяков в 1926 г. выпустил сборник стихов «Вешняк».
Его жена Серафима Павловна… – Серафима Павловна Ремизова-Довгелло (1875–1943) – жена Ремизова с 1903 г., палеограф; в 1924–1939 гг. преподавала славяно-русскую палеографию в Школе восточных языков при Сорбонне.
К политике он был совершенно равнодушен… Две вечные темы литературы – «любовь и смерть» в его собственном творчестве роли не играли. – Газданов здесь не совсем справедлив. Свое отношение к революции, к Гражданской войне Ремизов выразил вдохновенно и эпически сильно в своем многоплановом произведении «Взвихренная Русь» (1918–1927); что касается темы «любви и смерти», то это одна из основных тем романа «В розовом блеске».
По поводу Сартра*
Впервые опубликована Л. Диенешем в «Дружбе народов». 1996. № 10, С. 176–179. Печатается по этому изданию. Беседа из цикла «Дневник писателя», порядковый номер 157. Передана по радио «Свобода» 10/11 сентября 1971 г. По всей вероятности, текст ведущего составлен самим Газдановым.
Жан-Поль Сартр (1905–1980) – французский писатель, публицист, философ, основатель «атеистического экзистенциализма»; пытался дополнить марксизм экзистенциальной антропологией («Критика диалектического разума», 1960). Участник Сопротивления. Основное философское сочинение «Бытие и ничто» (1943). По Сартру, свобода человека неотчуждаема и неистребима. В последние годы жизни увлекался левоэкстремистской идеологией. Основные темы его художественных произведений: одиночество, поиск абсолютной свободы, абсурдность бытия. В отличие от Газданова, некоторые авторитетные современники высоко ценили его творчество: «Сартр выразил отчаяние послевоенного поколения. Это отчаяние – не выдумка писателя, он оправдал его и художественно воплотил» (Мориак Ф. Не покоряться ночи. М., 1986. С. 163).
Альбера Камю… – См. коммент. к первому масонскому докладу. Т. 3, с. 731.
…маркиз де Сад Альфонс-Франсуа (1740–1814) – французский писатель и философ. В одном из наиболее известных его произведений «Философия в будуаре» – немало глубоких суждений о личности и обществе, о революции и классах, об этике и эстетике. В его романах «Жюстина, или Несчастья добродетели» (1791); «Новая Жюстина» (1797) и др. много описаний сексуальных извращений, поэтизируется жестокость – отсюда понятие «садизм»; часто запрещались цензурой, а автор попадал в тюрьму за нарушение норм нравственности.
Жан Женэ (Жене; 1910–1986) – французский писатель; воспитанник дома призрения, стал вором и много раз сидел в тюрьме, где и начал писать. Первые произведения «Богоматерь цветов» (1942) и «Чудо розы» (1946) правдиво воспроизводят «мир особых законов». Многие его пьесы и книги вызывали скандал; в основу своей этики он положил культ зла. Ж, Кокто и Ж.-П. Сартр видели в нем жертву и обвинителя лживой буржуазной морали.
…Ален Жейсмар – французский физик, один из вдохновителей «Красного Мая» (1968 г.), участник маоистского Союза коммунистической молодежи, а после его запрещения в июне 1968 г. – движения «Пролетарской левой», соратник Сержа Жюли, с которым в 1969 г. они написали книгу «К гражданской войне», ее основной тезис – путь к новому обществу по Маркузе. См. в этом томе вступление и комментарий к разделу «Проза, не опубликованная при жизни» о романе «Переворот».
…Идут люди по улице, направляясь к американскому посольству… и выкрикивают: «Руки прочь от Вьетнама!..»… Никсон, возможно, даже не будет знать о том, что в Париже была очередная коммунистическая демонстрация. – Речь идет о демонстрации против войны во Вьетнаме (1964–1973) – вооруженном конфликте между войсками Южного Вьетнама (при поддержке США) и повстанцами (Вьетконг), которых поддерживали власти Северного Вьетнама, Китая и СССР.
Ричард Никсон – президент США в 1969–1974 гг.
Кстати говоря, во время чехословацких событий никаких антисоветских демонстраций не было. – Газданов имеет в виду введение войск стран Варшавского Договора (прежде всего советских) в Чехословакию в августе 1968 г.
Жорж Маршэ (Марше; 1920–1997) – генеральный секретарь компартии Франции (с 1972 г.); депутат Национального собрания Франции (с 1973 г.).
Жак Дюкло (1896–1975) – деятель международного и французского рабочего движения, долгие годы секретарь ЦК Французской компартии, затем, с 1959 г. – член Сената.
…он боится кануть в Лету… подобно очередному лауреату Гонкуровской премии… – По завещанию писателя Эдмона Гонкура (1822–1896) его состояние перешло в фонд ежегодной литературной премии, одной из наиболее престижных наград во Франции. С 1903 г. она присуждается десятью видными литераторами – Академией Гонкуров. Газданов имеет в виду то, что произведения, награждаемые этой премией, порой не обладают высокими достоинствами, и имена лауреатов вскоре забываются.
Андре Жид (1869–1951) – французский писатель; лауреат Нобелевской премии (1947). Наиболее крупные произведения: романы «Имморалист» (1902), «Подземелья Ватикана» (1914), «Фальшивомонетчики» (1925); после посещения СССР в середине 1930-х гг. отрицательно высказался о советском строе, после чего на долгие годы его книги были изъяты из библиотек Советского Союза, а новые произведения не переводились. В течение долгих лет вел «Дневник», имеющий литературное значение.
Фурцева Екатерина Алексеевна. – См. коммент. к радиопередаче «Пропаганда и литература», с. 702.
Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) – советский государственный и партийный деятель, в 1964–1980 гг. – председатель Совета Министров СССР.
Вальдек Роше (1905–1983) – деятель международного рабочего движения, генеральный секретарь компартии Франции в 1964–1972 гг.
Лучшее, что он написал, это его короткие рассказы, в частности рассказ «Стена». Его трилогия «Пути свободы» гораздо менее удачна и по построению, где он часто пользуется «монтажом», который так любил Дос-Пассос, и по содержанию. – Рассказ «Стена» (вошел в одноименный сборник рассказов 1939 г.) – притча о судьбе и предательстве; трилогия «Пути к свободе» (1945–1949) – история человека, стремящегося обрести свободу, замкнувшись в скорлупе своей независимости.
Джон Дос Пассос (1896–1970) – американский романист, который в трилогии «США» (1930–1936) впервые использовал технику литературного монтажа, сочетал в романе элементы газетной хроники, документов, дневников, новелл и др., стремясь дать синхронный срез времени.
Нобелевскую премию… от которой он отказался. – Сартру присудили Нобелевскую премию за автобиографическую повесть «Слова» (1964). Свой отказ писатель объяснил так: «…не хочу принимать никаких наград ни от восточных, ни от западных высших культурных инстанций. Несмотря на то, что все мои симпатии на стороне социализма, я в равной степени не смог бы принять, например, Ленинскую премию, если бы кто-нибудь вдруг предложил мне ее» {Сартр Ж.-П. Тошнота. М., 1994. С. 493).
Достоевский и Пруст*
Впервые – Дружба народов. 1996. № 10. С. 181–183 / Публ. Л. Диенеша. Печатается по этому изданию. Беседа из цикла «Дневник писателя», порядковый номер 160, передана по радио «Свобода» 8/9 октября 1971 г. Вступительные слова ведущего, очевидно, принадлежат Газданову.
…Пруста читали бы в России, если бы его книги переводились и издавались на русском языке. – См. коммент. к радиопередаче «Пропаганда и литература», с. 702.
Я беру два имени – Достоевский, Пруст. – В 1971 г. отмечалось 150 лет со дня рождения Достоевского (1821–1881) и сто лет со дня рождения Пруста (1871–1922).
Шарль дю Бос (1882–1939) – французский эссеист; психоаналитик. У Л. Толстого его привлекала, помимо прочего, моральная позиция, евангельская мораль; в числе его любимых героев – князь Андрей и Левин.
…герцог Сен-Симон. – См. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 687.
Бенжамэн (Бенжамен) Констан (1767–1830) – французский писатель, публицист; прославился романом «Адольф» – историей «сына века», признанного образцом романтического героя.
Фромантэн (Фромантен). – См. коммент к роману «Пробуждение», с. 677.
…«Печать пассивности, меланхолии лежит на этом произведении…» – Газданов цитирует БСЭ, 2-е изд. Т. 35, 1955. С. 199.
…в конце концов, Гамлет, принц датский, – это… не слесарь передового завода и не колхозник, которого, скажем, описала Галина Николаева… – Газданов имеет в виду роман «Жатва» (1950) Г. Николаевой (см. коммент. к первому масонскому докладу, т. 3, с. 685), получивший Сталинскую (Государственную) премию.
…вспоминаю… слова какого-то советского критика, который сравнивал поэта Уткина с Пушкиным… – Иосиф Павлович Уткин (1903–1944) – поэт, в 1920 г. ушел добровольцем в Красную Армию; в 1926 г. опубликовал высоко оцененную многими критиками и поэтами стихотворную «Повесть о рыжем Мотеле…». Принадлежал к «комсомольским поэтам». Лирическая поэзия Уткина в предвоенные годы была очень популярна у молодежи. Во время войны работал в армейской печати; в 1944 г. погиб в авиакатастрофе.
Поль Валери*
Впервые выступление напечатано в сб.: «Гайто Газданов и „незамеченное поколение“: Писатель на пересечении традиций и культур». М.: ИНИОН РАН, Б-ка-фонд «Русское зарубежье», 2005 / Публ. Т. Красавченко. Печатается по оригиналу. Заново сверено Т. Красавченко. Звукозапись радиовыступления [Серия «В мире книг»]. 15/16 ноября 1971. Из личного архива О. Абациевой-де Нарп.
Поль Валери (1871–1945) – французский поэт, создатель так называемой интеллектуальной поэзии. В юности примыкал к кружку Малларме, но отверг иррационалистическую линию, идущую от По и Бодлера. В его поэзии разум – контролирующее начало, подчиняющее себе эмоции. Рассудочность стихов сочетается с виртуозностью (добивался «математической точности» образов, подбирая в каждом случае «единственно верное» слово – некоторые его произведения насчитывают более 100 редакций). Член Французской академии, т. е. «академик от литературы», что крайне почетно во Франции.
Когда он пишет… о методе Леонардо да Винчи… – Имеется в виду «Введение в метод Леонардо да Винчи» (1895) П. Валери.
Мишель Монтень (1533–1592), автор знаменитых «Опытов» (1580–1588), и Рене Декарт (1596–1650) – «ключевые» французские мыслители.
Жак Бенинь Боссюэ – французский писатель-теолог, рассматривавший ход истории как осуществление воли Провидения, автор «Рассуждения о всеобщей истории»(1681) и др. См. также коммент. к роману «Призрак Александра Вольфа». Т. 3, с. 700.
Сен-Жон Перс (наст. имя Алекси Леже; 1887–1975) – французский поэт, автор поэмы «Анабасис» (1924) – об исходе из западного мира, разлагающегося, наподобие империи Нерона и «восхождении» (анабасис) к утопической «вневременной» Центральной Азии. Один из вдохновителей Движения Сопротивления, стихи его циклов «Изгнание» (1942), «Ветры» (1946) содержат абстрактные политические идеи, книжную лексику, масштабность образов, гражданственность, эхо французской рационалистической традиции и народной вольности способствовали тому, что он стал одним из французским национальных поэтов. Лауреат Нобелевской премии 1960 г.
Изидор Дюкас. – Газданов упоминает его «Песни Мальдорора» (1868–1869, опубл. полностью 1890), в которых романтическая поэтичность, меткие сатирические зарисовки переплетаются с иррациональными кошмарами, гротескным воспроизведением алогического мышления душевнобольного. См. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 690.
Андре Бретон (1896–1966) – французский поэт и писатель, теоретик и один из основоположников сюрреализма.
Вариации. – Валери издал пять сборников эссе и афоризмов «Varietes» (в 1924, 1929, 1936, 1937, 1944), т. е. «Разное». Газданов переводит их как «Вариации».
«Темы и вариации» – книга стихов Б. Л. Пастернака (Берлин, «Меня пугает это вечное молчание бесконечных пространств». – Это поразившее Газданова высказывание французского математика, физика, философа Б. Паскаля из «Мыслей о религии и о некоторых других вопросах» (первое – неполн. изд. 1670, научное – 1951; фрагмент 206) повторяет преподаватель литературы в автобиографическом рассказе писателя «На острове» (1932), почти документальном описании учебы в Шуменской русской гимназии в Болгарии (1922–1923), а рассказчик, т. е. сам писатель, характеризует ее как «ужасную по своему трагизму, почти нечеловеческому» (Т. 2, с. 330). То же изречение Паскаля в урезанном виде («вечное безмолвие бесконечных пространств») цитирует и комментирует один из персонажей романа «Ночные дороги» (журн. вариант – 1939–1940, отд. изд. 1952) – философ-бомж Платон (Т. 2, с. 193).
«Утренние звезды распускались…» – Книга Иова. 38,4–7.
Максим Горький*
Печатается впервые. Подготовка текста и публикация Т. Красавченко. Архив Газданова. Ед. хр. 36. Фрагмент выступления по радио, очевидно, неиспользованный.
О русской зарубежной литературе*
Впервые – Беседы о русской литературе. Париж, 1967. С. 3–20. Печатается по этому изданию. Передача из цикла «Беседы за круглым столом», вышла в эфир приблизительно в 1966–1967 гг. Газданов выступает здесь под своим обычным псевдонимом – Георгий Иванович Черкасов. Ведет беседу сотрудник радио «Свобода» Виктор Шиманский.
В России – впервые. Публикация Т. Красавченко.
Некоторые были просто высланы, как известно, в 1922 году… – В сентябре 1922 г. из Советской России было выслано более двухсот видных ученых, философов и писателей, подозреваемых советской властью в нелояльности – среди них Н. Бердяев, М. Осоргин, С. Франк, И. Ильин.
…когда вышел «Господин из Сан-Франциско» (191бгод)… – Небольшая неточность: «Господин из Сан-Франциско» И. А. Бунина напечатан впервые в сборнике «Слово». М., 1915.
Замятин Е.И. – прозаик, драматург, публицист, критик, мемуарист. В эмиграции – с конца 1931 г. За рубежом написал лишь несколько рассказов, киносценариев (по произведениям других авторов) и продолжил роман, так и не оконченный, – «Бич Божий». См. о нем коммент. на с. 705.
Манн Томас (1875–1955) – немецкий прозаик, критик, публшгист. Лауреат Нобелевской премии (1929). С 1933 г. находился в эмиграции.
Франсуа Мориак. – См. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 690.
…писателя… которого я лично очень ценю, – это Фельзена… – См. коммент. к «Литературным признаниям». Т. 1, с. 866.
…отдельные книги были отличные… например, «Роман с кокаином»… – роман Марка Лазаревича Леви (1898–1973), опубликованный в Париже в 1936 г. под псевдонимом М. Агеев. Кроме этого романа, он напечатал лишь один рассказ «Паршивый народ». Леви жил за границей с 1925 по 1942 г. С 1942 г. – в Ереване, преподавал в университете немецкий язык. Его авторство «Романа с кокаином» документально установлено лишь в начале 1990-х гг.
Он умер. – Ко времени этой беседы Леви был еще жив, но Газданов этого не знал: в то время было неизвестно, кто автор романа.
Были поэты… Георгий Иванов, Николай Оиуп. – Георгий Иванов. – См. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 680.
Николай Авдеевич Оцуп (1894–1958) – поэт, критик, мемуарист. В эмиграции с 1922 г.
…я бы выделил Поплавского, Штейгера и Одарченко. – См. эссе Газданова «О Поплавском». Т. 1, с. 740–745. Анатолий Сергеевич Штейгер (1907–1944) – поэт; в эмиграции – с 1919 г.; происходил из старинного швейцарского рода; в начале Второй мировой войны переехал из Парижа в Швейцарию. Его поэзию высоко ценили М. Цветаева, Г. Адамович, В. Ходасевич, Ю. Иваск и др.
Одарченко Юрий Павлович (1903–1960) – поэт, прозаик. С начала 1920-х гг. жил в Париже.
…Марк Александрович Алданов, который…еще в России выпустил две книги… – «Толстой и Роллан» (Пг., 1915, т. 1) и «Армагеддон» (Пг., 1918).
…тогда у поляков было несколько больших «рыб», Словацкий, Мицкевич, Норвид… – Юлиуш Словацкий (1809–1849) – польский поэт-романтик, с 1831 г. живший в эмиграции, в основном в Париже.
Циприан Камиль Норвид (1821–1883) – польский поэт, художник, скульптор. Большинство его произведений опубликовано посмертно.
…возьмем хотя бы… «Современные записки»… – «Современные записки» (Париж, 1920 – ноябрь 1940, № 1-70) – самый влиятельный журнал русской эмиграции первой волны. Выходил непериодически: от пяти до двух номеров в год, но в основном ежеквартально.
…газета, которую в течение двадцати лет редактировал Милюков: его «Последние новости»… – Павел Николаевич Милюков (18591943) – общественно-политический деятель, историк, социолог, публицист, мемуарист; член ЦК партии кадетов. Эмигрант с 1918 г. В 1921 г. поселился в Париже, с этого времени – по 1940 г. редактировал газету «Последние новости» (вышло 7015 номеров), в ней публиковались крупнейшие литераторы и политические деятели эмиграции.
…в Большой Советской энциклопедии нет, например, имени Константина Леонтьева… – Во втором издании энциклопедии, которое, видимо, имеет в виду Газданов, нет отдельной статьи о К. Н. Леонтьеве (1831–1891), писателе, публицисте, литературном критике, позднем славянофиле, проповедовавшем «византизм» (церковность, монархизм, сословная иерархия и т. п.) и союз России со странами Востока как охранительное средство от революционных потрясений, но в т. 29, на с. 439 он упоминается как «славист, московский цензор, автор бульварных романов» (статья «Неославянофилы»).
…Данилевском… две строчки лишь о том, что он спорил с Дарвином… – Николаю Яковлевичу Данилевскому (1822–1885) в БСЭ, второе издание, посвящено восемь строк в персональной статье (т. 13, С. 336) и еще несколько строк в статье «Неославянофилы», где указано его основное сочинение «Россия и Европа» (1869).
Он удивился: как, Брокхауз лучше? – Комплекты энциклопедии Брокгауза и Ефрона всегда стояли в открытом доступе, скажем, в Библиотеке им. В. И. Ленина, в Исторической библиотеке, в библиотеке им. А. М. Горького МГУ и т. д. Дело было, видимо, в том, что за границу, в Западную Европу, вплоть до 1985 г., а уж в 1956–1957 гг. тем более, могли поехать лишь очень проверенные спецорганами люди, обычно комсомольские и партийные активисты, далекие от дореволюционных энциклопедий.
Литературная критика в России и СССР*
Публикуется впервые. Публикация Л. Диенеша. Беседа вышла в эфир 30–31 июля 1970 г.
…некоторые суждения Пушкина… более чем странны – его суждения о «Федре» Расина… – Вероятно, Адамович имеет в виду фрагмент пушкинского «Опровержения на критики», опубликованный в «Литературной газете» в 1830 г., где дается «разбор Расиновой Фсдры», являющийся пародией на статью Надеждина о «Графе Нулине» и «Бале».
…замечательный французский критик Сент-Бёв, которого теперь во Франции не любят; с легкой руки Пруста. – Шарль-Опостен Сент-Бёв (1804–1869) – французский критик, один из создателей биографического метода в литературоведении. М. Пруст написал несколько статей, направленных против метода Сент-Бёва, большую работу «Против Сент-Бёва».
…затем – Волынского. – Аким Львович Волынский (наст. имя Хаим Лейбович Флексер; 1861–1926) – критик, литературовед, историк и теоретик искусства.
…на уровне… Варфоломея Зайцева… – Варфоломей Александрович Зайцев (1842–1882) – публицист и критик, близкий к народничеству; выступал с вульгарно-социологических позиций, считал, что искусство ничего не добавляет к знаниям.
…Лежнев был очень талантливый критик… – его книга о Пушкине превосходна. – И. Лёжнев (псевд., наст. имя и фам. Исай Григорьевич Альтшулер; 1891–1955) – литературовед, критик, автор книги «Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования» (М., 1966).
…вспоминал те книги… которые нам приходилось читать: скажем, Пыпин или Овсянико-Куликовский.. – Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) – литературовед, академик Петербургской АН (1898), автор более 1500 трудов, написанных в духе культурно-исторической школы, о русской литературе XVIII и XIX вв., о жизни и творчестве В. Г. Белинского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова, о фольклоре, о зарубежной литературе.
Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский (1853–1920) – литературовед, лингвист, критик, публицист; почетный член Петербургской АН (1907); автор трудов о классиках русской литературы XDC в., работ по психологии творчества и т. д.
Гоголю… надо в критическую его заслугу поставить то, что он написал о прозе Лермонтова… – В XXXI главе «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1846) о Лермонтове сказано: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой» (Гоголь Н.В. ПСС. М., 1952. Т. 8. С. 402).
…От Добролюбова до Скабичевского… пользовались литературой как эзоповым языком… – О Скабичевском см. коммент. к эссе «О Чехове». Т. 3, с. 726.
…Писарев… Успел только поиздеваться над Пушкиным – и умер. – Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868) прямолинейно, парадоксально развенчал «устарелого кумира» – А. С. Пушкина (и по отношению к нему В. Белинского), нигилистически отрицая его значении для современности («Пушкин и Белинский», 1865). В статье «Роман кисейной барышни» (1865) он в характерной для него манере последовательно путем искусной подмены плана поэтического, условного – планом бытовым снижает образ Татьяны Лариной – посредством пересказа ее письма к Онегину, где смешаны стили – высокий, поэтический и низкий, разговорных просторечий.
…надо упомянуть Владимира Соловьева… – Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) – религиозный философ, прозаик, поэт, критик.
…вот еще Буало… – Никола Буало (1636–1711) – французский поэт, теоретик классицизма.
…зародыши… критики, в лице Синявского (теперь сидящего в лагере) или в лице Лакшина… – Андрей Донатович Синявский (1925–1997) – прозаик, литературовед, критик. В сентябре 1965 г. арестован за публикацию (под псевдонимом Абрам Терц) на Западе фантастико-сатирических произведений и осужден. В заключении находился до июля 1971 г.
Владимир Яковлевич Лакшин (1930–1994) – литературный критик, один из ведущих сотрудников журнала «Новый мир», в котором за время его работы было опубликовано много ярких произведений современных писателей.
…традиция Белинского… стала вырождаться – через Михайловского… – Николай Константинович Михайловский (1842–1904) – социолог, публицист, литературный критик; народник. Сторонник «субъективного метода» в социологии. Во многих его работах анализ литературных явлений загонялся в заранее сконструированные социологические схемы.
…когда она стала заменяться критикой, так сказать, «модер-нистической», – скажем, Айхенвальдом… – Юлий Исаевич Айхенвальд (1872–1928) – литературный критик, переводчик; с 1922 г. – в эмиграции. Основной труд – «Силуэты русских писателей» (СПб., 1906–1910. Т. 1–3), его метод – «принципиальный импрессионизм».
С. 463. …Эйхенбаум был… очень хороший критик: его книжечка об Ахматовой…оченьхороша… – Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) – один из создателей «формального метода» в отечественном литературоведении. Книга «Анна Ахматова. Опыт анализа» вышла в 1923 г., а упоминаемая «Мелодика русского лирического стиха» – в 1922 г.
…Жирмунский был великолепным критиком в первых своих произведениях – его статья о Блоке замечательна… – Виктор Максимович Жирмунский (1891–1971) – филолог, литературовед, академик АН СССР (1966). Здесь упомянута его работа «Поэзия Александра Блока» (1921).
Проза, не опубликованная при жизни*
Опубликованные в этом разделе художественные тексты существенно дополняют сложившееся у читателя впечатление о творчестве Газданова, они раскрывают векторы, эволюцию его эстетических исканий, тайники его творческого сознания и представляют интерес для тех, кто хочет познать творчество писателя в его цельности – в разных его измерениях, в том числе эксперимента и неудачи.
Они поражают жанровым разнообразием – от сатирического, фельетонно-анекдотного рассказа («Наследство»), от притчи («Черная капля») до попытки политического романа («Переворот»), от традиционного для Газданова психологического рассказа (<Ольга>), мастерского литературного портрета (<Дядя Лёша>) до экзистенциально-философской прозы («Последний день»).
Векторы эстетических поисков Газданова в 1930-е гг., намеченные в эссе «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане» (1929), наиболее явны в рассказе «Ход лучей» (1930), где развивается изначально присутствующая в творчестве Газданова тема безумия человека, «не выдерживающего слишком много реальности». Она возникла еще в «Повести о трех неудачах» (1927) – в записках Ильи Аристархова, несвоевременного и несовременного русского человека, умершего в сумасшедшем доме в Шарантоне, во Франции. В «Ходе лучей» особенно очевидна «чувствительность» Газданова к новым веяниям в западной культуре. В рассказе явно воздействие эстетики и поэтики сюрреализма с его ориентацией на выражение сферы бессознательного: галлюцинации, бреда, бесконтрольной мысли.
Но не менее очевиден и более глубокий литературно-философский контекст: рассказ возник на «перекрестке» традиций – Гоголя с его «Записками сумасшедшего» и шире – темой безумия Мопассана с его вариантом записок сумасшедшего – рассказом «Орля» (1886) (недаром эпиграф из него предваряет рассказ Газданова «Водяная тюрьма», 1930) и столь характерного для русской классической литературы использования мотива карт, карточной игры, привлекавшего многих русских литераторов – от «Пиковой дамы» Пушкина до «Короля, дамы и валета» Сирина-Набокова. Игра в бридж, ставшая необычайно популярной в Европе с 1910-х гг., – своеобразная повествовательная призма рассказа, в котором смешиваются разные планы – личных и деловых отношений и мир карт, иррационального случая, игры, выявляющий в данном случае иррациональность человеческого сознания, выявляющий грань разума-безумия.
В данном случае азартная карточная игра – модель «социального мира и универсума»[50], язык, на который персонаж переводит явления внешнего мира. При этом он традиционен в своем восприятии карточной символики: его главный «враг», король пик, по «Киевской ворожее», гаданию популярному в России в XIX в., – суровый, несговорчивый человек, недоброжелатель, а «пиковая дама означает тайную недоброжелательность», как свидетельствует эпиграф из «Новейшей гадательной книги» к «Пиковой даме» Пушкина. В сознании персонажа вертится и идея обогащения, связанная с картами и аферой (традиция, идущая от той же пушкинской «Пиковой дамы» и гоголевского Чичикова).
«Черная капля» (начало 1930-х гг.) свидетельствует о тяготении писателя к жанру притчи, характерному для экзистенциализма. При явно феноменологическом подходе к изображению мира, т. е. конкретности, детальности его описания, чувственному восприятию его, свойственному прозе писателя в целом, Газданов вновь склонен к метафизике: он дает свое, трогательное, не лишенное наивности, изложение мифа не столько о сотворении человека, сколько об утрате им рая; Бог задумал человека как существо счастливое, но даже Бог не всемогущ, «черная капля» на прекрасном белом женском теле неотвратимо обрекает людей на страдание.
Во фрагменте «Знакомство Маргариты» (начало 1930-х гг.), примечательном как начало очень газдановского романа или рассказа, на нескольких страницах заявлено многое. Герой – некто Смит – типично экзистенциалистский персонаж: человек почти анонимный (имя его равноценно русскому «Иванов», т. е. фактически кто угодно, да к тому же подлинность его подвергается сомнению), одинокий, беспочвенный, аутсайдер, скрытый маргинал, оказывающийся в предельно-испытательных ситуациях уже в силу своей внезаконной деятельности. Образы Смита и Маргариты, авантюрной сексуальной красавицы, перекликаются с образами – Горна и Магды из романа В. Набокова «Камера обскура» (1933), написанного в те же годы.
Публикуемый фрагмент открывает читателю, знающему творчество Газданова и его этико-эстетические матрицы, возможность продолжения этой истории, домысливания ее. Вполне вероятно, учитывая способность персонажей Газданова к преображению, «пробуждению», «перевороту», Смит с его душевной тонкостью, вкусом, а под его воздействием и Маргарита могли бы пережить духовное преображение, подобно другим персонажам позднего, «послевоенного» Газданова (см. романы «Пилигримы», 1953; «Пробуждение», 1965–1966; «Эвелина и ее друзья», 1969–1971). Но в 1930-е гг. такое начало осталось без продолжения: вероятно, писатель еще не знал, что делать с «падшими героями».
Особый интерес представляют несколько обнаруженных в Архиве Газданова рассказов и фрагментов первой половины 1940-х гг. В этот период писатель, находившийся в оккупированной Франции и участвовавший в Движении Сопротивления, остается верен себе: он остраненно изображает это страшное время в рассказе «Последний день» и вместе с тем в эти тяжелые дни обращается к своей постоянной теме – природе любви и счастья в рассказе <Ольга>. К нему примыкает рассказ «Бистро» (цату его создания определить пока не удалось) – о молчаливом персонаже с говорящей фамилией (Россиньоль по-французски – «соловей»), поначалу кажущейся странной для такого «чрезвычайно несловоохотливого» персонажа. Однако любовь преображает его, делает адекватным его сути, «замыслу». Смерть в обоих рассказах – следствие обрыва любви, исчезновения счастья. История Ольги, странной, ускользающей женщины, охваченной «тягой к разрывам», перекликается и с рассказом «Ошибка» (1938): обеих героинь, обаятельных и эгоистичных, одно и то же необратимое событие – смерть – заставляет осознать потерю любви в лице единственно любимого человека. Возможно, именно в годы войны, т. е. господства смерти, писатель особо остро ощутил природу воздуха жизни как любви.
В рассказе «Последний день» (1943), несколько затянутом эксперименте в духе Кафки, творчество которого обрело международную известность именно в годы Второй мировой войны, Газданов «примеряет», обыгрывает на свой лад его дух и стилистику, экспрессионистские приемы изображения войны (образ обгоревшего коня и т. д.). Мрачный абстрагированный город в рассказе – своеобразная кафкианская проекция и вариация темы «чужого города далекой и чужой страны» (заключительные слова романа «Ночные дороги»). Вместе с тем повествователь размышлениями о собственной эмоциональной недостаточности, об отсутствии страха, а также манерой точно, детально, без прикрас фиксировать свои состояния и поступки напоминает Мерсо, героя знаменитой повести Камю «Посторонний», вышедшей в свет в оккупированном Париже летом 1942 г. Вполне вероятно, что Газданов, остававшийся в Париже, прочел се, как и философское эссе Камю «Миф о Сизифе», опубликованное в декабре 1942 г.
В рассказе четко намечен мотив противостояния в этом мире одних сил другим, то есть конкретный исторический конфликт осмысливается здесь в философско-экзистенциалистском ключе.
Рассказчик – одновременно и участвует в событиях и наблюдает их со стороны: толстовским остраненным взглядом – с высоты птичьего полета. В конце рассказа герой констатирует: когда все было кончено, «мои чувства обрели ненужную и трагическую свободу», т. е. возникает мотив тщеты человеческого существования, хотя, как показывает логика рассказа и жизни персонажа, участие в жизни, выполнение своего долга – изначальная экзистенциальная обязанность человека.
В основе рассказа – признание тайны, непознаваемости жизни, роли случая в ней и в то же время ощущение скрытых в ней закономерностей; в сущности, мы наблюдаем в рассказе поединок рассказчика с неким противником, соперником, некую шахматную партию жизни, столкновение воль и психологий двух сильных людей, противников по воле случая, и в конечном счете необъяснимую (вмешательство посторонних или потусторонних сил) победу рассказчика, уже готового к смерти и столь характерно для газдановского героя, в традиции русской классики, размышляющего об условном законе причинности и случайности, предопределяющих судьбу и смерть человека.
Роман «Переворот» написан Газдановым под впечатлением событий «молодежной революции» на Западе в конце 60-х гг. XX в. Хотя действие происходит в некой необозначенной (тем самым как бы в любой западноевропейской) стране, но именно близкую Газданову Францию можно рассматривать как «архетипную страну» случившегося. Именно в 1960-е гг. она, сделав колоссальный рывок в экономическом развитии, стала «обществом потребления», в котором крайне обострился конфликт «отцов и детей». На нормы и идеалы этого общества – конформизм, ханжеский морализм, материальный успех и комфорт – молодежь реагировала эпатажным неприятием, бунтом разных видов – от ухода из дома, мини-юбок, увлечения наркотиками, вандализма до политических выступлений.
К молодежному движению примыкали и другие социальные группы. Идеологию левоэкстремистского движения 1960-х гг. во многом определили концепции немецко-американского философа и культуролога Герберта Маркузе (1898–1979). Он ввел понятие «одномерного человека», порождаемого тотальной системой, лишенной всех прежних нравственных ценностей, ориентированной на технологический прогресс как главную ценность и находящейся в ситуации, которую Ницше охарактеризовал как «Бог мертв»; «одномерное общество» порождает «одномерного человека», полностью зависимого от государства, которое манипулирует его сознанием через механизм потребностей, прессу, радио, телевидение, рекламу, моду. Убежденный в том, что протест – свойство природы человека, Маркузе был сторонником «тотальной революции». В бесконечном протесте он, радикально пересматривая Маркса, видел разгадку природы и назначения человека, источник радости и полноты его бытия. Он полагал, что в новых условиях революционная инициатива переходит от рабочего класса, интегрированного в социальное целое, к радикальным слоям студенчества и гуманитарной интеллигенции, а также к «аутсайдерам» (преследуемым национальным меньшинствам, к безработным и люмпенам).
Смещенное представление о социальных закономерностях подталкивало демократически настроенную интеллигенцию к лево-радикализму, питаемому троцкизмом, маркузеанством, маоизмом. Йолагая, что национально-освободительные движения в странах «третьего мира» могут преподать уроки обуржуазившемуся Западу, леворадикалы мифологизировано воспринимали партизанское движение в Латинской Америке, революцию на Кубе. Че Гевара (см. коммент. к с. 732) стал их кумиром.
Истоки их интереса к «внеевропейскому» опыту следует искать не только в политике, но и в философии, осознавшей кризис общеевропейских духовных ценностей. В 1960-е гг. выходят десятки книг, сотни статей о Китае. Опыт китайской «культурной революции» кажется левым радикалам универсальным. Эту точку зрения наиболее энергично пропагандировала французская группа «Тель Кель», возникшая поначалу как объединение левых литераторов, а затем превратившаяся в левацко-маоистскую группировку, подчинившую политическим проблемам все остальные. Она продемонстрировала поразительную способность интеллектуальной элиты доводить левацкие увлечения до крайности. Движение «левых» в 1960-е гг., «студенческая революция» – последний всплеск «левого утопизма», исчерпавший себя в 1973–1974 гг.
«Мятежные 60-е» завершились в 1968 г. – «майским взрывом» – «студенческой революцией» в Париже и других университетских городах Франции, перекинувшейся и в соседние страны. Студенты выставили требования политического характера. В парижском Латинском квартале и других местах появились баррикады, которые силам порядка пришлось брать штурмом. Таким образом обнажился острый государственный кризис.
Вполне возможно, что Газданов, любивший «игру» с историческими прототипами (как, например, в рассказе «Вечерний спутник», 1939, где обыграно некоторое сходство персонажа с Жоржем Клемансо, премьер-министром Франции в 1906–1909, 1917–1920), создавая в «Перевороте» образ президента, думал о генерале де Голле, президенте Франции (1958–1969) (герое, лидере французского Сопротивления во время Второй мировой войны), вернувшем Франции статус великой европейской страны, что было особенно существенно для нее (и крайне существенно для Газданова, судя по рассказу <Дядя Лёша>) после «позорного падения» во время войны.
Очевидно, что события 1960-х гг. произвели шоковое впечатление на писателя, уже однажды, в начале XX в. наблюдавшего «переворот» и его трагические последствия. В романе ощущается отчаяние человека, вновь, уже во второй половине века, свидетеля бессилия государства – полиции, администрации, неспособных остановить «бунт, бессмысленный и беспощадный». Газданов изобразил «утопию по Маркузе» как развал, хаос, выявив «механизм» ее реализации: от «подстрекательской» деятельности левых интеллектуалов до использования «революции» криминальными элементами, что он особенно акцентирует в своем романе.
Каким видится ему выход из этой тяжелой ситуации? У писателя будто срабатывает «генетическая память». Как «спаситель» появляется «человек в кепке»; «кепка» здесь – атрибут демократической принадлежности; кроме того, в российском фольклоре «человек в кепке» – это Владимир Ильич Ленин, почти во всей его «иконографии», особенно при встречах с народом, изображаемый в кепке. Более двадцати раз в романе герой назван не по имени (Роберт Вильямс), а именно «человеком в кепке», как бы провоцируя читателя на ассоциацию с «великим заговорщиком», перевернувшим Россию.
Его программа наведения порядка в стране: «…невежественных и нечестных людей мы заменим людьми компетентными и порядочными…» – перекликается с последовательными и постоянными «рассуждениями» В. И. Ленина в его сочинениях о роли сначала партийных, потом советских кадров в революции и создании нового государства; невольно вспоминается и знаменитое высказывание И. В. Сталина в мае 1935 г. на выпуске академии Красной армии – «кадры решают все».
О существовании в сознании писателя связи между организацией Роберта Вильямса, его «кадрами» и «кадрами большевиков» прямо свидетельствует высказывание редактора коммунистической газеты: «Эти субъекты, которые только что были у меня – очень опасный народ… Я таких видел много лет назад в России. Но мне повезло, потому что те, кто их видел один раз, второй раз обычно их уже не видели…», видимо, имеются в виду чекисты, то есть сотрудники карательного органа – Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией (1917–1922), позднее преобразованной в ГПУ (Государственное политическое управление) – «железные люди», скорые на расправу «во имя революции».
Организация Вильямса, делающего (вместе с писателем) ставку на порядочных, честных людей (еще одна трогательная, наивная и отчаянная разновидность утопии) – антипод левому экстремизму, попытка противостояния ему с помощью нелегитимных «порядочных» спецслужб, в данном случае представляющих как будто бы единственно эффективные разумные силы. Судя по всему, у писателя не было иллюзий по поводу этой «утопии справа», тем не менее именно она оказалась в его романе единственно способной противостоять «утопии слева».
Однако роман, посмертно опубликованный в «Новом журнале», не был закончен, концовке же Газданов придавал особое значение – вспомним четыре варианта окончания романа «Призрак Александра Вольфа»; в «Перевороте» автор вольно или невольно ушел от окончательного ответа, оставив финал романа открытым.
Таким образом, начав с утопического мотива в записках Аристархова («Повесть о трех неудачах»), мечтавшего написать голубиную книгу, повествование о прошлом и будущем, способное привести к наступлению счастливого благоденствия, «рая на земле» (хотя писатель изначально признал нереальность утопии, приписав ее идею сумасшедшему), Газданов, в соответствии со складом своего творческого сознания, вновь и вновь возвращался к утопии («Пилигримы», «Превращение»), и, в конце концов, утопия, или антиутопия с открытым концом завершает его творчество.
Т. Красавченко
Мечтатели*
Печатается впервые. Подготовка текста и публикация Т. Красавченко. Архив Газданова. Тетрадь 3. Предположительно Париж, начало 1930-х гг.
Воспоминания о юности в рассказе, судя по всему, автобиографичны. С грустью и иронией звучит пушкинский эпиграф из «Отрывков из путешествия Онегина»: о «…корсаре в отставке, Морали», или мавре Али (Маше АИ) – одесском знакомом А. С. Пушкина, родом из Египта, о котором говорили, что когда-то он пиратствовал и тем нажил состояние.
«…расположились под сенью громадного баобаба и вкусно поужинали мясом только что поджаренной пекари». – Это явный плод фантазии мечтателя: баобаб – дерево, растущее в саваннах Африки, а пекари – свинья (семейство нежвачных парнокопытных), обитающая в лесах Южной и Центральной Америки.
…мне все рисовалась роль, насколько она положительна, доктора Моро – зоолога и экспериментатора… – Речь идет о персонаже фантастического романа Г. Уэллса «Остров доктора Моро» (1896). См. коммент. к роману «Ночные дороги». Т. 2, с. 699. Утопический замысел ученого – очеловечить «животных» – превратился в антиутопию. Г. Уэллс не раз привлекал внимание Газданова (см. «Историю одного путешествия», 1934; «Ночные дороги», 1939–1940 и др.)
«Критика чистого разума». – См. коммент. к рассказу «Общество восьмерки пик». Т. 1, с. 845.
…«великая социалистическая революция придет с востока» и «религия – это опиум для народа». – Точный источник первой цитаты установить не удалось; по одной из версий, эту мысль высказывали лидеры ГГ Интернационала – К. Каутский, А. Бебель, Р. Люксембург. Вторая цитата – часть знаменитого высказывания К. Маркса в Введении «К критике гегелевской философии права» (1844): «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. М., 1955. С. 415).
Ход лучей*
Впервые – Литературоведческий журнал. М.: ИНИОН. 2009. № 24. С. 236–242 / Подг. текста и публ. Т. Красавченко. Печатается по рукописи. Сверено Т. Красавченко. Архив Газданова. Тетрадь 2 (Париж, начало 1930-х гг.). Точная дата не указана.
Вагнер Рихард. – Сочинения Вагнера повышенно экспрессивны и будоражат героя рассказа. См. о нем коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 690.
Камиль Сен-Санс (1835–1921) – французский композитор, его сочинения мелодичны, поэтичны и действуют на героя рассказа умиротворяюще.
…оркестр играл Штрауса. Штраус прекрасный композитор. – Имеется в виду Штраус Иоганн (сын) (1825–1899) – австрийский композитор, знаменитый мастер танцевальной музыки, прежде всего романтичных, необычайно благозвучных венских вальсов. Герой рассказа, подобно многим другим персонажам Газданова, ощущает себя живущим в мире звуков и чутко-болезненно, адекватно своему душевному состоянию, реагирует на музыкальный фон, соответственно комментируя его.
Наследство*
Печатается впервые. Подготовка текста и публикация Т. Красавченко. Архив Газданова. Тетрадь 2 (Париж, начало 1930-х гг.). Точная дата не указана.
Кутепов Александр Павлович (1882–1930?) – один из организаторов Белого движения в период Гражданской войны в России, генерал от инфантерии (1920), мемуарист. В ноябре 1920 г. из Крыма эмигрировал в Турцию (Галлиполи). С 1924 г. – в Париже. С конца апреля 1928 г. – председатель Русского общевоинского союза (РОВС), объединявшего русские эмигрантские и военно-морские организации и союзы во всех странах в 1924–1940 гг. В конце января 1930 г. похищен из Франции агентами иностранного отдела ОГПУ (Объединенного государственного политического управления), через Марсель нелегально вывезен из Франции, точные обстоятельства смерти не известны. Одна из версий – убит в пути близ Новороссийска.
…недалеко от площади Альма. – Площадь в центре Парижа, выходящая на берег (правый) Сены.
Жертва правосудия*
Впервые – Дарьял. 1994. № 4. С. 48–53 / Публ. В. Дегоева. Печатается по этому изданию. Архив Газданова. Тетрадь 1 (Париж, 1929–1930?).
<Письмо неизвестному>*
Печатается впервые. Подготовка текста и публикация Т. Красавченко. Архив Газданова. Тетрадь 2 (Париж, начало 1930-х гг.).
Кому именно из литераторов адресован этот набросок письма, установить не удалось. Письмо отличается от известных нам дружеских и деловых писем Газданова, написанных просто, любезно, без «затей» и откровений. Судя по его стилистике, вполне вероятно, что это художественный вымысел.
…море замкнулось за кормой парохода, как за сынами Израиля, уходившими от войск фараона… – Сравнение заимствовано из Второй книги Моисея (Исход, 14, 22–29).
…уехал… в Палестину… – В упоминаемый Газдановым период (1920–1947) Палестина (в 1917 г. оккупированная английскими войсками) – мандатная территория Великобритании.
…за столиком Наполи… или у Доминика… – «Наполи» – кафе в Париже на Монпарнасе, в 1930-х гг. – «штаб-квартира» русских молодых поэтов и писателей. «Доминик» – ресторан, расположенный там же. В традиционные дни – четверг и субботу, посидев за чашкой кофе в «Наполи», в десять-одиннадцать вечера они уходили в «Доминик». Приверженцы «Доминика» (основная группа «Чисел», среди них Б. Поплавский, Ю. Фельзен и др.) получили прозвище «доминиканцы». В зависимости от состояния средств они располагались либо за стойкой ресторана, где, кроме напитков, можно было получить и горячее блюдо, или шли в зал, где их размещал «радушный заведующий» «Доминика» – Павел ТУгковский. Н. Н. Берберова вспоминала, что в «Napoli» «в тридцать первом, тридцать втором году собирались иногда до двадцати человек за сдвинутыми столами, и не только „младших“, но и „старших“ (Федотов, Зайцев)» (Берберова Н. Курсив мой. М.: Согласие, 1999. С. 396).
…на обоях многократно повторен нравоучительный рисунок, изображавший неблагоразумных отца и сына, вдвоем ехавших на осле; осел не выдержал… и «слег»… отец и сын… были принуждены нести его на себе. – Вариация «Смешной истории про старика, который нес своего осла», вошедшей (под № 85) в «Книгу фацетий» (изд. 1452, на латинском языке) Поджо Браччолини (1380–1459), состоящей из коротких новелл, чаще всего развернутых анекдотов типа упомянутого.
…допускаю временную задержку с выплатой ипотек… – Ипотека – денежная ссуда, выдаваемая банком под залог недвижимости, остающейся в руках должника, в то время как на заложенное имущество налагается запрет, отмечаемый в так называемых ипотечных книгах.
Черная капля*
Впервые – «Возвращение Гайто Газданова». С. 243–247 / Подг. текста и публ. Т. Красавченко. Печатается по этому изданию. Архив Газданова. Тетрадь 3 (Париж, 1930-е). Точная дата не указана.
Знакомство Маргариты*
Впервые – «Возвращение Гайто Газданова». С. 248–251 / Подг. текста и публ. Т. Красавченко. Печатается по этому изданию. Архив Газданова. Тетрадь 3 (Париж, 1930-е гг.). Точная дата не указана.
Плейелъ – знаменитый концертный зал в Париже.
Крейслер Фриц – композитор, скрипач, живший с 1933 по 1939 гг. в Париже. Очевидно, он произвел глубокое впечатление на Газданова: посещение концерта Крейслера – «знаковое событие», свидетельствующее о перемене в жизни одного из персонажей (писателя Кузнецова), упоминается в романе «Полет», 1939 (Т. 1, с. 322); сцена посещения героем и его девушкой концерта Крейслера в зале Плейель ярко описана и в романе «Возвращение Будды». Т. 3, с. 713).
Бистро*
Впервые – Литературная газета. 1998. 2 дек. № 48 (5724). С. 12 / Публ. МЛ. Васильевой. Печатается по этому изданию. Архив Газданова. Ед. хр. 23. Место и дата не указаны.
Сен-Дени – рабочее предместье Парижа, хорошо знакомое Газданову: приехав в Париж в ноябре 1923 г., он нашел работу только там – по шесть часов в день носил мешки на баржи и с барж, выдержал лишь две недели, затем зимой 1923–1924 гг. мыл паровозы.
<Ольга>*
Впервые – «Возвращение Гайто Газданова». С. 207–238 – под названием «Когда я вспоминаю об Ольге» – по первой строке рукописи / Подг. текста и публ. О. Орловой. Печатается по этому изданию. Архив Газданова. Тетрадь 6. Рассказ датирован 15.01.1942.
…ярмарку в Нейи – ярмарка в городке между Парижем и Реймсом, т. е. к северо-востоку от столицы.
Дебюсси Клод – см. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 690. В рассказе упоминается его музыкальная композиция «Сад под дождем» (Jardin sous la Pluie) из альбома «Images» («Картинки», 1894).
Стивенсон Роберт Луис (1850–1894) – английский писатель, автор приключенческого романа («Остров сокровищ», 1883), исторического романа «Черная стрела» (1888), философско-психологического романа «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» (1886) и др. См. о нем коммент к рассказу «Освобождение». Т. 2, с. 719.
…Штеттин – ныне Щецин, портовый город в Польше в устье р. Одры на выходе в Балтийское море.
…<аскеза> Вудхауза. – В рукописи – неразборчиво. Возможно, речь идет о романе «Сви-и-оу-оу-эй!» (Pig-Hoo-o-o-o-eу, 1927, рус. пер. Н. Трауберг, 1995, 2000) чрезвычайно популярного после Первой мировой войны писателя-юмориста Пелема Гренвилла Вудхауза (1881–1975), родившегося в Англии, с 1909 г. жившего в США и в 1955 г. принявшего американское гражданство. В этом иронико-юмористическом романе говорится об аскезе свиньи графа Эмсворта по кличке Императрица Бландингская, которая по ряду причин 20 июля внезапно отказалась от еды.
…в середине случайного разговора об особенностях эпохи королевы Виктории… – Среди особенностей эпохи английской королевы Виктории (ее правление длилось шестьдесят четыре года – 1837–1901) – расцвет романа (Ч. Диккенс, У. М. Теккерей и др.), поэзии (А. Теннисон, Р. и Э. Браунинги, АЛ. Суинберн и др.), поэзии и живописи в творчестве прерафаэлитов (Д.Г. и Кристина Россетти и др.), табу на обсуждение тем «денег» и «секса».
Лемминги (норв, lemming) – эти грызуны семейства мышеобразных водятся в лесах и тундрах Евразии и Северной Америки. Обычно раз в три-четыре года их массовое размножение сопровождается массовой миграцией в поисках корма, что часто заводит их в море, где они в громадных количествах тонут.
<Дядя Лёша>*
Печатается впервые. Подготовка текста и публикация Т. Красавченко. Архив Газданова. Тетрадь 6. (Париж, 1942?). Рукопись без названия, начинается со слов «Теперь конец июля 1942 года…».
Дядя Лёша. – В тетради 6 в конверт вложена записка «Дядя Лёша=дядя Тоша, как все его называли». Вдова писателя, Фаина Дмитриевна, поясняет, что речь идет о Георгии Сергеевиче Калантарове, муже ее близкой подруги, землячки (род. в Одессе прибл. в 1885 г.), камерной певицы, караимки Анны Самойловны Исакович, урожденной Эль-Тур. Калантаров погиб во время войны, попав под машину – об этом пишет Г. Газданов в некрологе «Памяти Эль-ТУр», опубликованном в парижской газете «Русская мысль» (1954.18 июня. № 668). В Архиве Газданова (ед. хр. 42) хранится его набросок (печатается впервые, публикация Т. Красавченко):
«Анна Самойловна – представительница той русской культуры двадцатого столетия, которая была уничтожена Октябрьской революцией. Подобно многим другим, она вынуждена была покинуть Россию.
Она была всесторонне образованна и говорила с одинаковой свободой и непогрешимостью по-русски, по-немецки, по-французски и по-английски. Более двадцати лет она провела в Париже <…>. Судьба была по отношению к ней слепа и жестока. Семья ее пропала в России. Во время войны, во Франции муж Анны Самойловны погиб под колесами автомобиля.
Несколько лет тому назад Анна Самойловна была приглашена в амстердамскую консерваторию, где эти последние годы была штатной преподавательницей. Она давно была больна диабетом – и умерла по причинам, которые, как это часто бывает, клинически не могли быть точно определены.
Я имею честь знать А<нну> С<амойловну>, близкого друга моей жены, мало лет. Обстоятельства сложились так, что мне не удалось ни увидеть ее перед смертью, ни быть на ее похоронах. Все, что я могу сделать, это написать о ней несколько некрологических строк. Я знаю, что она простила бы меня за то, что, говоря о ней, я не могу коснуться главного, – этого мне не позволяет мое невежество: той области музыкальной культуры, в которой для Анны Самойловны не было ничего, что она не могла не почувствовать».
…я все вспоминаю город Киплинга в «Книге джунглей», где живут Бандерлоги. – Бандерлоги в «Книге Джунглей» (1894) английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) – «народ» обезьян, у них нет вождя, памяти, закона и языка, они пользуются ворованными словами, хвастливы, болтливы, злы и бесстыдны, подслушивают, подглядывают, они-парии. Звери джунглей их презирают и не замечают. А они презирают всех обитателей джунглей, потому что те живут в лесу, а они – в развалинах старого заброшенного индийского города, именуемого в джунглях – Холодные Берлоги, который считают «своим», однако не знают, «как были выстроены здания, и, главное, для чего. Они садились в кружок в зале королевского совета, ловили блох и воображали, что они люди; они…бегали толпами…по всем переходам и коридорам дворца… и кричали: „Бандерлоги самый сильный, самый мудрый, самый умный, самый прекрасный народ в Джунглях“» // Киплинг Р. Книга Джунглей. М., 1993. С. 45.
…пантеистическое отношение к природе… – Пантеизм (от греч. pan – все и Theos – бог) – отождествление Природы и Бога. Природа воспринимается как средоточие мирового разума, она «сливается» с Богом или же он «растворяется» в ней.
…июнь следующего года и могильный голос маршала Петэна, сообщивший по радио о капитуляции Франции. – Газданова глубоко волновали поведение, судьба и роль Франции во Второй мировой войне. Франция готовилась к войне с Гитлером: была создана «линия Мажино» (система укреплений на границе с Германией – от Бельфора до Лонгюйона, ее построили в 1929–1934 гг. и совершенствовали до 1940 г.), планировалось вступление французских войск в Бельгию и Нидерланды для зашиты портов и промышленных районов. 3 сентября 1939 г. Франция объявила войну Германии (после ее вторжения в Польшу), но реальных действий не предприняла. Период с сентября 1939 г. по июнь 1940 г. получил название «странной войны». Франция могла сопротивляться (в ее армии было 95 дивизий, более 2 млн человек, 2,4 тыс. танков, свыше 26 тыс. орудий и минометов, 1735 самолетов, более 150 боевых кораблей, в том числе подводные лодки). 10 мая 1940 г. немецко-фашистские войска, нарушив нейтралитет Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, начали стратегическое наступление. 14 мая капитулировала нидерландская армия, 28 мая – бельгийская, к 4 июня англо-французские войска с потерями эвакуировались в Англию. 5 июня немецкая армия (130 дивизий), сломив сопротивление французских войск (71 дивизия), прорвалась в глубь страны. Французское правительство, возглавляемое маршалом А. Ф. Пстеном (1856–1951), охваченное пораженческими настроениями (потом перешедшими в коллаборационистские), не организовало оборону и 10 июня уехало из Парижа в Бордо. 14 июня без боя был сдан Париж. 22 июня в Компьенс правительство подписало пакт о капитуляции, по ее условиям гитлеровские войска оккупировали две трети Франции. А 24 июня подписан пакт о капитуляции Франции перед Италией. Потери Франции составили 84 тысячи убитых и 1,5 миллиона пленных.
Последний день*
Впервые – «Возвращение Гайто Газданова». С. 251–270 / Публ. Т. Красавченко. Печатается по этому изданию. Архив Газданова. Тетрадь 6. Рассказ датирован 17.Х.1943.
…это вечное безмолвие бесконечных пространств пугает меня. – См. коммент. к радиовыступлению на радио «Свобода» – «Поль Валери», с. 712.
<Профессор математики>*
Публикуется впервые. Подготовка текста и публикация Т. Красавченко. Архив Газданова. Ед. хр. 28. Предположительно: Мюнхен, 1950-е. Рукопись без названия, начинается со слов «Я был как-то осенью в баварском лесу».
Я увидел его впервые в Греции, в том русском военном лагере, который представлял из себя остатки армии генерала Врангеля. – Основная часть уцелевшей армии Врангеля (там был Г. Газданов) в 1920 г. эвакуировалась из Крыма в Турцию и расположилась в военном лагере на Галлиполийском полуострове – тогда французской территории. Французы не были заинтересованы в концентрации русских войск в своих владениях, и часть военных оказалась на Балканах, часть в Греции (на острове Лемнос). Насколько известно, Газданов в Греции не бывал, но у рассказанной им истории – явно автобиографическая основа; он называет Грецией Галлиполи, где провел весь 1921 год; вполне вероятно, что он рассматривает эту территорию как исконно греческие земли (до завоевания турками в 1454 г.), тем более далее в рассказе говорится о ветре, дующем с Дарданелл.
Петр Николаевич Врангель (1878–1928, Брюссель, в октябре 1929 г. перезахоронен в Белграде) – барон, генерал-лейтенант (1918), мемуарист. Один из главных деятелей Белого движения. С апреля 1920 г. преемник А. И. Деникина на посту главкома Вооруженных сил юга России, с мая главком Русской армией, в середине ноября из Крыма эвакуировался в Константинополь. Именно к нему в Добровольческую армию в 1919 г. вступил шестаадцатилетний Газданов, после седьмого класса гимназии.
Палаш (от венг. pallos) – холодное рубящее и колющее оружие с прямым и длинным (ок. 85 см) однолезвийным клинком. Появился в XIV в. В XVIII–XX вв. использовался в русской тяжелой кавалерии.
…закон Вебера – Фехнера… – Эрнст Генрих Вебер (17951878) – немецкий анатом и физиолог, один из основоположников экспериментальной психологии; Густав Теодор Фехнер (1801–1887) – немецкий физик, психолог, основатель психофизики, философ; писатель-сатирик (псевдоним – доктор Мизес). Закон Вебера – Фехнера установил зависимость между ощущениями и раздражителями и способствовал внедрению экспериментально-математических методов в психологию и эстетику.
…он …поступил в простые солдаты в русский антибольшевистский корпус, организованный национал-социалистическим командованием после того, как гитлеровские войска вошли в Югославию. – В Югославии, как известно, было много русских эмигрантов, в том числе военных. После начала Второй мировой войны их первый порыв – защищать Югославию от фашистской оккупации. Однако в апреле 1941 г., когда «гитлеровские войска вошли в Югославию», генерал Скородумов создал в Югославии «Русский охранный корпус». Скородумова быстро сменил врангелевский генерал Штейфон. Он командовал корпусом в течение всей войны и рвался на Восточный фронт, но цели корпуса были ограничены охраной различных объектов от югославских партизан и преследованием последних. (Эти сведения любезно предоставлены историком Ю. С. Цургановым.)
<Капитан Семёнов>*
Публикуется впервые. Подготовка текста и публикация Т. Красавченко. Архив Газданова. Ед. хр. 28. Предположительно: Мюнхен, 1950-е. Рукопись без названия, начинается со слов «Каков полет голодного коршуна…».
…у нее небольшое имение около Dreux… – Дрё – городок к западу от Парижа, недалеко от Шартра.
Переворот*
Впервые – Новый журнал (Нью-Йорк). 1972. Кн. 107. С. 5–35; Кн. 108. С. 24–40; Кн. 109. С. 62–81. Печатается по этому изданию. В России впервые – Русское богатство. 1997. № 1. С. 14–51 / Публ. Т. Павлюковой. Это последний, незаконченный роман Газданова, опубликованный посмертно его вдовой – Фаиной Дмитриевной.
…книга Макиавелли… – Книга итальянского политического мыслителя, историка Никколо Макиавелли (1469–1527) «Государь» («11 Principe», 1513) – о сильной государственной власти, о допустимости любых средств для достижения государственных целей (отсюда термин «макиавеллизм» как определение политики, пренебрегающей нормами морали для достижения своих целей). Президент в романс дает этическую оценку макиавеллизма.
Токвиль Алексис (1805–1859) – французский историк, социолог и политический деятель, лидер консервативной Партии порядка (в 1849 г. – министр иностранных дел), отрицавший необходимость революций, и прежде всего Великой французской революции.
…«Главная цель хорошего правительства должна заключаться в том, чтобы мало-помалу приучить народ обходиться без него». – Перефразированное высказывание из книги Токвиля «О демократии в Америке» (1835).
Цезарь (Чезаре) Борджиа (или Борджа) (ит. Borgia, исп. Borja; ок. 1476–1507) – представитель знатного рода испанского происхождения, игравшего значительную роль в Италии в XV – начале XVI в. Обладал благородной внешностью, необычайной физической силой, даром красноречия, не лишен чувства прекрасного, ценил науку; пользуясь огромным влиянием на своего отца, папу Александра VI, руководил его жестокой политикой. Известен как «герой шпаги и отравленного вина», т. е. беспощадностью в расправе с политическими противниками. На Макиавелли при встрече в 1502 г. произвел впечатление человека хитрого, жестокого, не считающегося с нормами морали, и вместе с тем смелого, решительного, проницательного правителя, стремившегося к объединению Италии. Макиавелли нашел в нем прообраз «Государя».
Клемансо Жорж. – См. коммент. к рассказу «Вечерний спутник». Т. 2, с. 726.
Нантский Эдикт. – См. коммент. к роману «Эвелина и ее друзья», с. 689.
…мясо, приготовленное по-бургундски… – Традиционное французское блюдо: тушеная говядина в красном вине.
…защитил диссертацию о Сен-Симоне. – Скорее всего имеется в виду граф Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760–1825), французский социалист-утопист, считавший движущими силами исторического развития прогресс научных знаний, морали и религии. К истории «утопического социализма» Газданов обращался не раз (см. «Вечеру у Клэр». Т. 1, с. 105, 812).
Итальянская Ривьера – городки Сан-Рсмо, Алассио, Нерви, Портофино, Рапалло и др., расположенные на Лигурийском побережье, в северной части Средиземного моря.
Леонкавалло Руджеро (1857–1919) – итальянский композитор, автор опер «Паяцы» (1892), «Богема» (1897, в России называлась «Жизнь Латинского квартала») и др., один из основоположников близкого натурализму оперного веризма, для которого характерны интерес к быту и переживаниям бедняков, острым драматическим коллизиям, намеренно утрированная эмоциональность.
…завод, фабриковавший автомобили… – В тексте сохранены анахронизмы-кальки с французского, характерные для речи русских эмигрантов, как в данном случае слово «фабриковавший» (от фр. fabriquer – производить, изготовлять).
Мао Цзэдун (1893–1976) – китайский политический и государственный деятель, председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Китая с 1943. Маоизм – крайнее воплощение «левизны» в ее наиболее деспотических формах (например, «культурная революция» в Китае, давшая яркий образец использования «конфликта поколений» и молодежи в политических целях), идеология европейского «левого движения» 1960-х гг.
Гевара (Гевара де ла Серна) Эрнесто (Че) (1928–1967) – латиноамериканский революционер. Родился в Аргентине. С 1956 г. участвовал в Кубинской революции. В 1959–1961 гг. – президент Национального банка Кубы, с 1961 г. – министр национальной промышленности. В 1965 г. покинул Кубу. В 1966–1967 гг. руководил партизанским движением в Боливии, захвачен в плен и убит. Гевара, именуемый обычно Че, что на буэнос-айресовском жаргоне означает «братишка», «приятель», стал символом революции и кумиром левого движения 1960-х гг.
Но, по-видимому, Аристотель был все-таки прав: человек действительно животное общественное. – Аристотель писал в «Никомаховой этике»: «…человек – по природе [существо] общественное» (Книга первая, 1097 № 1); «…действительно, человек – общественное [существо]» (Книга девятая, 1169 № 8) См.: Сочинения в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 63, 259 (Пер. Н. В. Брагинской). Газданов дает «средний» вариант перевода-толкования высказывания Аристотеля, несколько отличающийся как от вышеприведенного, традиционного, так и от более точного перевода: [dzoion] politikon – «животное государственное», или «полисное». Газданов неоднократно апеллировал к Аристотелю (см., например, такое же определение человека в романе «Пробуждение»). Он размышлял о природе человека как существа или животного общественного, благо которого зависит от государства; для Аристотеля учение о благе человека неотделимо от блага государства. Газданов внимательно изучал Аристотеля, считавшего политику важнейшей из практических наук, однако признававшего, что высшее благо дано не политику, а мудрецу-философу, и законы обеспечивают благо государства, когда их применяет мудрец (кн. 10 «Никомаховой этики»).
Выходные данные
Гайто Газданов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Романы
Выступления на радио «Свобода»
Проза, не опубликованная при жизни
Издание осуществлено при финансовой поддержке: Главы Республики Северная Осетия-Алания Таймураза Дзамбековича Мамсурова,
Художественного руководителя-директора, главного дирижера Государственного академического Мариинского театра Валерия Абисаловича Гергиева
Под общей редакцией Т. Н. Красавченко
Статья о творчестве Г. Газданова Т. Н. Красавченко
Составление, подготовка текста Л. Диенеша (США), Т. Н. Красавченко, С. С. Никоненко
Комментарии Л. Диенеша, Т. Н. Красавченко, С. С. Никоненко, Л. В. Сыровапгко
Художник В. М. Мельников
Редакционно-издательский совет: A. М. Смирнова (председатель, директор издательства), Т. Н. Красавченко, С. С. Никоненко, Т. А. Горькова, B. М. Мельников, С. В. Федотов
Корректор Е. И. Коротаева
Верстка – А. Б. Метелкин
Подписано в печать 15.07.09. Формат 84 х 108 1/32.
Печ. л. 23 Тираж 3000 экз. Заказ № 3425
Издательство «Эллис Лак 2000»
123242, Москва, Красная Пресня, д. 6/2, к. 16
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ГУП РМ «Республиканская типография „Красный Октябрь“»
430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а