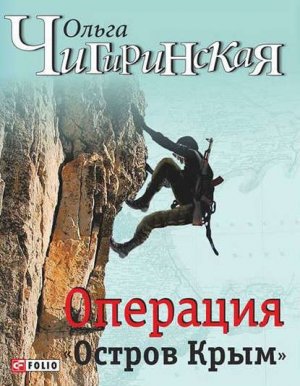
Булат Окуджава Песенка Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни»
- Ваше благородие, госпожа Удача,
- Для кого ты добрая, а к кому – иначе.
- Девять граммов в сердце постой, не лови!
- Не везет мне в смерти – повезет в любви.
- Ваше благородие, госпожа Победа!
- Значит, моя песенка до конца не спета…
- Перестаньте, черти, клясться на крови!
- Не везет мне в смерти – повезет в любви…
Пролог
Это было минувшей весной, и новая весна прошла, и я спешу все записать, пока не стерлись впечатления – они и так день ото дня все тусклее и тусклее, да еще и наслаиваются друг на друга, сбивая очертания и краски.
Есть и другие причины спешить. Я пишу днем, когда муж на работе, а дочка спит, и гудит кондиционер, и в стекло бьется жар из пустыни Негев. Марта спит все меньше и меньше, ей уже почти два месяца, она уже догадалась, что где-то там за вкусными сиськами и теплыми руками есть какие-то люди, и хочет общения, а не просто еды и смены дайперсов. Пока что ей хватает телесного контакта – я упаковываю ее в слинг и увязываю на грудь. Стука машинки она не боится, привыкла к нему еще до рождения: Арт, приходя с работы, начинает тарахтеть. Поэтому я должна успевать за день как можно больше.
Мы рассказываем одну и ту же историю, но по-разному. Он собирает свидетельства о том, чего не видел сам, получает и отсылает сотни писем, скрупулезно выверяет по карте каждое передвижение каждого подразделения чуть ли не до взвода. И я, читая этот опус магна, вижу, как теряется в нем человек, почти в одиночку начавший войну против огромной державы. Мужчина, которого я люблю. Отец моего ребенка.
Мы хотим одного и того же: рассказать миру, что, как и почему заставило нас взяться за оружие. Но он хочет говорить обо всех нас, о пятидесяти тысячах крымских военных. А я хочу говорить о нем, кто-то же должен говорить о нем не так сухо и беспощадно, как он говорит о себе сам.
Лучшими военными мемуарами он считает «Семь столпов мудрости» и при этом страшно боится выглядеть таким же позером, как их автор. В результате все его друзья, знакомые и даже некоторые враги выглядят объемными и цветными, а сам он – как дырка в картине, пустой выгоревший силуэт. Он шутит, что так и должно быть: на фото никогда нет фотографа. Но я-то знаю, что так быть не должно.
Пусть он говорит за всех нас. Я буду говорить за него.
Сначала я думала, что это легко – писать о человеке, которого знаешь и любишь. Просто рассказывай все, как было, начиная с того дня, как он вернулся из Непала и заехал за тобой в полк, чтобы сделать предложение руки и сердца. То есть сначала он позвонил, я была на летном поле, звонок приняла Рахиль Левкович. Она записала, что звонил Арт, – и тут же по своему обыкновению забыла, вспомнила только вечером, подписывая вместе со мной увольнение до завтрашнего полудня: а кстати, тут звонил твой капитан, сказал, что заедет за тобой в шесть, упс, это же через десять минут. Ну, спасибо, Рахиль.
И вот начинаешь так рассказывать – как сразу стоп. Почему из Непала? Что капитан Вооруженных сил Юга России вообще делал в Непале? Почему он туда уехал накануне Воссоединения (тогда это еще называлось вот так, с пафосом и с большой буквы)? И почему, вернувшись, первым делом надумал жениться?
Значит, нужно отматывать время назад и рассказывать, как в декабре 1979 года Остров Крым дружно сошел с ума и запросился в объятия СССР. Тому было много разных причин, и все их Арт излагает в своем великом труде, но главная из них – мы-де не выдержали «искушения Империей». У трех народов, составлявших большинство населения Крыма, прошлое, как ни крути, имперское. Но Османская империя накрылась Первой мировой, Британская – Второй, а Российская перекрасилась в багровые тона и как-то доскрипела до восьмидесятых. И вот мы, идиоты такие, устав болтаться посреди Черного моря как это самое в проруби, утомившись быть этакой недо-Россией, купились на причастность к имперскому величию. С какого-то перепою ли, недотраху ли, но показался нам страшно привлекательным этот неравный брак: как бы мы этот разваливающийся колосс оплодотворяем нашей предприимчивостью, вольнодумством, ну и все такое прочее – а они нам за это чувство принадлежности к чему-то большому и чистому. Вот с какой стороны ни глянь, сделка хуже не бывает, а ведь многим она казалась тогда сделкой века.
Как выразилась потом Рахиль: «Ебанулись на отличненько». Правда, она и сама в те дни носилась с красно-белой ленточкой на груди и рассказывала взахлеб, как поедет первым делом в Одессу-маму, откуда ее бабка с дедом еле ноги унесли, да как пройдется по Дерибасовской… Ну да кто старое помянет. Тем более, в Одессе мы с ней таки побывали, и довольно скоро.
Я на тот момент уже два года как встречалась с Артом, и от него успела набраться скепсиса. Конечно, мне тогда казалось, что он перебарщивает, воображая СССР какой-то уж вовсе Галактической Империей с мумией Дарта Вейдера в мавзолее. Но я делала скидку на то, что он потерял отца в этой стране и имеет право на некоторую предвзятость.
Сама я, конечно, не могла осилить тонны книг, проходивших через его руки, но кое-что все-таки раскрывала и пыталась читать. Книги производили неприятное впечатление. Нет, упаси Бог, не о Гинзбург речь и не о Шаламове, я вообще не люблю исторический хоррор. Речь о тех, кто пишет о жизни самой обыкновенной, о быте нормальных людей. Вроде бы. Потому что все эти книги в какой-то момент преподносили неприятный сюрприз: вот только что герои жили нормальной жизнью и вели себя как нормальные люди, и вдруг бац! – пошел Кафка самый настоящий. А дорогой мой капитан плечами жмет: нет, они вот так вот и живут, да, чистая правда, Тэмми. И я берусь уже за другую книгу, о которой точно знаю, что это фантастика – там молодые ученые занимаются магией, это все довольно комично описано, но я вижу, что мера кафкианства там ровно та же, что у Трифонова или в рассказе о том, как затопили деревню, – это же просто триллер Кингу на зависть, а Арт уверял, что повесть чуть ли не документальная. В общем, по книгам СССР производил впечатление не то чтобы страшное, а вот какое-то жутенькое, как в сказке Кэрролла, где мир в любой момент может обернуться никто не знает, чем. И мне не нравилось, что вся наша небольшая страна с восторженным визгом бросается в эту нору за белым кроликом.
Но переживать по этому поводу я особенно не переживала. Старалась отнестись философски: сделать-то ничего уже нельзя. И казалось мне, что Арт отнесся к вопросу так же. Он какое-то время ходил как в воду опущенный, но потом с головой ушел в подготовку экспедиции на Южную стену Лхоцзе – дескать, когда еще выберемся. И в апреле даже полетел с Шамилем в Непал, и я даже не возражала, хотя планировала с ним в тур по Нормандии. Ну да ладно, я же знала, как он влюблен в свои Гималаи. Отлучи меня кто-либо от штурвала навсегда, я бы тоже пришла в отчаяние. Но я не думала об этом; я понимала, что из армии всех нас уволят, скорее всего (ничего страшней в голову не приходило), но я надеялась, что уж в гражданскую-то авиацию меня с моим налетом возьмут, а вот Арт в Гималаи уже не выберется. Так что пускай.
Мне бы сообразить, что уж больно легко он привык к мысли об интеграции. Мне бы заметить, что на их альпинистских посиделках почему-то не появляется Таскаев, ездивший с ними во все гималайские походы, но постоянно отирается Володя Козырев, который вообще ни разу не альпинист, а жокей-любитель.
Но я предпочла остаться слепой. Распространенная страусиная тактика. Никому и никогда она не помогала – почему же люди прибегают к ней снова и снова?
Итак, Крым сходил с ума, а капитан Корниловской дивизии горно-егерского полка Артемий Верещагин отправился на три недели в Непал, на разведку Южного склона Лхоцзе.
Я не была с ним там – и много где еще, – но я люблю и знаю его настолько хорошо, что легко могу все себе представить, начиная с того момента, как он сошел по трапу в Аэро-Симфи.
Совершая в Аэро-Симфи привычные действия – паспортный контроль, получение багажа, плата за стоянку, заправка, – Верещагин почувствовал, что отогревается. Не телом – телом он отогрелся еще в Дели, они вылетали душным жарким вечером, и кондиционеры в самолете были сущим спасением, – но нутром от оттаял только сейчас, только тогда, когда ступил из трубы терминала на бетон Аэро-Симфи, услышал русскую речь, достал из кармана и бросил в ненасытный счетчик монетку в пятьдесят рублей, которая так и валялась в этом кармане все три недели с момента вылета из того же Аэро-Симфи.
Предстояла еще до ужаса занудная процедура сдачи документов в финансовый отдел Главштаба, отчет за каждый потраченный в Непале доллар, но – странное дело – ни малейшего раздражения по этому поводу Верещагин не испытывал. То ли апрельское солнышко пригревало так славно, то ли подействовало мартини, то ли девушки в этом году носили особенно короткие юбки – но настроение у Артема вдруг наладилось, и никакой отчет в Главштабе не мог его испортить.
Симферополь, как всегда, был шумен, чист и деловит. Этот вавилончик объединял в себе ялтинскую праздничность и космополитизм, стеклянно-бетонное джанкойское стремление вверх, евпаторийскую легкость на подъем и керченскую напористость, севастопольский романтизм, бахчисарайское сибаритство и прочее, и прочее… Верещагин прожил в этом городе восемь лет, и это были далеко не худшие годы его жизни.
И как-то сегодня все особенно ловко складывалось, что это даже настораживало. И нужного офицера в финотделе удалось отловить быстро, и отчет он принял без лишних придирок, и даже пригласил отобедать в столовую Главштаба и не настаивал, когда получил отказ: он был по уши в делах. Главштаб весь был по уши в делах – готовился к передаче в руки СССР.
Они с Шамилем съели по большой тарелке плова в татарской забегаловке, единственные посетители в зале на восемь столов. А ведь стрелка уже перевалила за полдень и из окрестных офисов должны были потянуться на ланч менеджеры и клерки…
– Мертвый сезон? – спросил Артем у хозяина, самолично обслужившего клиентов.
– Айе, – горестно согласился татарин.
Май восьмидесятого года увидел беспрецедентное явление: отсутствие туристов. Издавна повелось, что еще с середины апреля шведы, норвежцы, датчане сползаются на крымские пляжи – прогреть свои нордические кости на черноморском солнышке. Море, правда, еще холодновато, но как может Черное море показаться холодным тому, кто вырос на берегах Балтийского и Северного морей?
А летом Крым заполнялся европейской молодежью и рабочим классом. Более зажиточный и привилегированный народ ехал во всякие Ниццы. Но и эти «сливки» стягивались в Крым к «бархатному сезону» на ежегодный кинофестиваль и «Антика-Ралли».
Теперь, после того, как грядущее присоединение Крыма стало делом решенным, сюда никого нельзя было заманить и калачом.
Крым умирал незаметно для себя, как чахоточная барышня на швейцарском курорте. Она еще ни о чем не знает и резвится на утренних пикниках и вечерних балах – а опытному врачу уже все ясно.
Наверняка где-то в пожарном темпе продавались за копейки гигантские пакеты крымских нефтяных, промышленных и прочих компаний, где-то шустрые коммерческие агенты уже искали новых поставщиков, новые рынки сбыта, новых партнеров… Европа жгла мосты, обрубала концы – чисто и стремительно. Гуськом потянулись из Крыма работники торговых и промышленных представительств. Рядовому крымцу, если он не был занят в туристическом, финансовом или аграрном секторе, эти изменения были не видны. По-прежнему сияли витрины, ломились полки магазинов, выходили газеты, работали театры и синематограф, парки увеселений и бардаки, многие заводы и фабрики. Редкие сообщения масс-медиа о неизбежном грядущем экономическом кризисе тонули в бравых заметках сторонников интеграции.
Впрочем, даже тех крымцев, что непосредственно пострадали от экономического спада, отнюдь не захлестнуло отчаяние. Тревожно-радостное ожидание, которым Крым был наполнен с Рождества, перевесило все остальные эмоции. Все жили как на вокзале: и не удобно, и тяжело с вещами, и стоять приходится, но это ничего – вот сейчас придет поезд, и все поедем, и все сразу наладится, станет хорошо и понятно. Как минимум – понятно…
Конечно, крымцев никто не посвящал в стратегические планы советского командования, но каким-то чутьем жители Острова понимали (а кое-кто уже и знал), что все свершится в один из этих чудесных весенних дней, что оккупация Крыма (газеты предпочитали слово «воссоединение») – вопрос ближайших суток.
В нескольких сотнях километров от того места, где располагался 4-й батальон 1-й горно-егерской бригады, находился другой капитан, из числа точно знавших.
Капитан Советской армии Глеб Асмоловский и вверенная ему вторая рота третьего батальона 229-го парашютно-десантного полка находились в состоянии готовности номер один – то есть они могли прямо сейчас загрузиться в самолеты и лететь выбрасываться. Куда? Об этом пока молчали. Военная тайна. Хотя все точно знали – в Крым.
Солдатские разговоры уже двое суток, с момента подъема по тревоге, крутились вокруг двух вопросов: крымское бухло и крымские девки. Обсуждение этих тем не пресекалось командованием: предвкушение выпивки и девок стимулирует боевой дух. Слухи ходили фантастические: в любой магазин зайдешь – вот так, как отсюда до той дуры с носком наверху, понял? – вот такой длины полки, и на всех полках – бухло! Одной водки – сто пятьдесят сортов! Ну, ладно, сто двадцать. Пива – тыща! И все подходи, бери так! Балда, теперь там все будет на-род-но-е! А народ и армия – едины, понял, га-га-га! И вот так подходят и прямо говорят: давай! Ну, в рот – это ты, положим, загнул… А так – сколько угодно…
Где Толстой, кому под силу создать портрет нового Платона Каратаева, призывника 78–79 годов?
Один из этих Платонов, до чертиков быстрых разумом Невтонов, мать их за ногу да об забор, стоял сейчас навытяжку перед Асмоловским. Лицо его было сугубо уставным, но слегка раскосые глаза метались тараканами при свете: за Глебом прочно закрепилась слава опасного психа. И капитан Асмоловский не спешил с ней расставаться, ибо лучше быть для них опасным психом, чем мягкотелым интеллигентом, которого не боятся, следовательно – не уважают. Этого Асмоловский в свое время хлебнул, спасибо, достаточно.
На траве лежали вещественные доказательства преступления – трехсотпятидесятиграммовая банка тушенки и полкруга колбасы «Одесская», из-за которых рядовой Анисимов избил рядового Остапчука. В данный момент Остапчук находился в медпункте аэродрома, а Анисимов стоял перед Асмоловским навытяжку.
– Кто успел сбежать? – в пятый раз спросил капитан, зная, что правды не услышит. – Кто еще вместе с тобой, крыса, ограбил и избил Остапчука?
– Я-а грабил? – протянул Анисимов, пережимая интонацию невинности с усердием плохого актера. – Он сам у меня консервы украл, хоть у кого спросите! А паек-то один, товарищ капитан, ну и – виноват, погорячился…
– Дмитренко!
Как лист перед травой вырос старший сержант Дмитренко.
– Возьмешь Баева, принесешь мне вещмешки Скокарева, Анисимова, Джафарова и Микитюка. Одна нога здесь, другая там.
С чувством глубокого удовлетворения он поймал в раскосых бледных глазах Анисимова легкий оттенок беспокойства. Фамилии он назвал наугад, но был уверен, что в трех случаях из четырех попал. Не важно, именно ли эти «деды» виновны в инциденте с Остапчуком. Глеб был уверен, что мальчишка-первогодок, сын сельской учительницы, не единственный обобранный. Те, у кого сухого пайка окажется сверх нормы, будут наказаны, потому что кто-то должен быть наказан.
В ожидании Глеб прошелся взад-вперед. В сержантах он был уверен: к перечисленным «дедам» те испытывали отчетливую неприязнь.
Глеб еще с первого года понял, что бороться с «дедовщиной» – бессмысленно, безнадежно и бесполезно. Но все-таки рыпался, вызывая на свою голову насмешки начальства. Постепенно он утратил к рядовым даже то сочувствие, которое каждый порядочный человек испытывает при виде человеческих страданий. Вчерашние «духи» становились «дедами» и вдоволь куражились над «молодыми», которые через год сами станут «дедами» и будут изгаляться над пацанами-первогодками… На седьмом году службы Глебом двигали исключительно принципы, да и у этих двигателей ресурс подходил к концу. Даже сейчас он с отвращением к себе осознавал, что решил наказать Анисимова не за то, что тот избил Остапчука, а за то, что попался и подставил Глеба под выговор накануне броска.
Появились сержанты с зелеными грушами вещмешков. Глядя Анисимову в глаза, капитан развязал его «сидор» и вытряхнул вещи на траву. Выпала банка тушенки, банка перловой каши с мясом, полбуханки хлеба, кольцо сухой колбасы.
– Падла, – сказал Глеб. Зла не хватало. – Так что же у тебя украл Остапчук?
– Да че… – На лице рядового появилось идиотское выражение: – А это, наверное, не мое, товарищ капитан!
И ничего с ним сделать нельзя – понял Глеб. Расстрелять эту скотину – сладкая, но несбыточная мечта. Разве что залепить изо всех сил по морде. Вышибить кровь из маленького курносого носа, навешать фонарей, чтоб эти бледные глазенки спрятались в щель и не выглядывали так нагло… И чтобы в санчасти этот мудак бормотал те самые слова, которые твердил Остапчук: «Споткнулся, упал»…
Свидетели, ч-черт!
Ладно, проявим изобретательность.
Глеб по очереди развязал все мешки, вытряхнул сухой паек. У всех оказалось больше нормы: по две-три банки тушенки, по две «Одесских» и лишь «Каша перловая с мясом» была у каждого в единственном числе: этой безвкусной жирной смесью «деды» побрезговали.
Остапчук оказался не единственным обобранным.
– Вы, все… – бросил Глеб. – Заберите мешки. Стоять здесь, не трогаться с места. Баев, Дмитренко, собрать роту.
Шухер уже поднялся и «деды» наверняка попрятали свой НЗ. Черт с ними. Накажем хотя бы этих четверых. Кому нужна эта педагогическая поэма? Похоже, одному мне. Ладно. Пока она нужна хотя бы одному мне, будем гнуть свою линию.
Излишек сухого пайка он сложил в кучку на траве. Что с ним делать – пока еще четко не знал. Будь он тем же идеалистом, каким был шесть лет назад, – попытался бы вернуть это тем, у кого оно было отобрано. Сейчас он знал, что эта попытка ни к чему не приведет.
По мере того, как строилась рота, решение выкристаллизовывалось. И было это решение таким, что самому Глебу о нем думать не хотелось.
– Рота, смир-на! – скомандовал один из взводных, Антон Васюк.
– Рота, вольно, – разрешил Глеб. – Передний ряд – сесть на землю.
Он хотел, чтобы видели все.
Четверо «дедов» навытяжку стояли перед ним. Он знал, какова будет степень унижения, которому он собирался их подвергнуть. Он знал, что покушается на большее, чем мародерские замашки четверых верзил, которые по воле советских законов попали в армию, хотя место им – в колонии для трудновоспитуемых. Он замахивался на традицию, на неписаный закон, местами ставший значительнее Устава. Ибо «дедовство» Анисимова и его дружков было «заслужено» годом беспрестанных унижений, в этом была даже первобытная справедливость: сначала ты прогибаешься, а потом пануешь над теми, кто прогибается под тобой. Получается, что капитан хотел лишить их «законного» удовольствия, хотя был бессилен избавить от «законных» страданий… Именно поэтому у него была репутация редкого стервеца, и именно поэтому он не собирался с этой репутацией расставаться.
– Мы торчим здесь со вчерашнего вечера, – сказал он. – Сухой паек выдали на одни сутки, всем – одинаковый. Но среди вас нашлись особенно голодные, вот они стоят. Я уж не знаю, у кого они все это отобрали, и спрашивать не буду. Все равно никто не признается, потому что вы все или боитесь, или считаете, что они в своем праве. Пусть так. Но раз вы, мародеры, считаете себя вправе, то вам не в падлу сейчас будет сожрать все, что вы нахапали.
Он увидел, как у Анисимова задрожали губы. А ты что себе думал, голубчик?
Глеб достал из кармана перочинный нож, взял первую банку с перловой кашей, поддел крышку в нескольких местах, потом взялся за нее пальцами и сорвал. Трюк был несложным для опытного скалолаза, но неизменно производил впечатление.
– Жри, – он высыпал кашу в траву перед Анисимовым.
– Так… ложки нет, – пробормотал тот.
– Встал на карачки и жри, как собака, – процедил Глеб ему в лицо.
Точно так же он открыл вторую банку и вывернул ее перед Джафаровым. Сержанты уже поняли, что от них требуется, и открывали банки одну за другой.
– Сожрать все до крошки, – велел Глеб. – Если кого-то вырвет, он уберет сам.
Следующие полчаса были кошмаром. Господи, подумал Асмоловский, когда-то я и в мыслях не мог так унизить человека. Когда-то я был ясноглазым мальчиком, который верил, что можно словами объяснить, как это нехорошо – унижать других, отбирать у них еду, заставлять работать на себя, избивать ради своего развлечения… Когда-то я и представить себе не мог, с чем столкнусь в армии, которую считал самой лучшей в мире…
Скокарев плакал. Джафарова мутило, но он держался. Микитюка вырвало. Анисимов попробовал залупиться – у него было что-то похожее на хребет, – но Глеб заломил ему руку, подсечкой бросил на колени и начал тыкать в кашу лицом.
Строй смотрел молча.
– Я заставлю это сделать каждого, кого поймаю за отбиранием чужих пайков! – отчеканил Глеб, вывозив Анисимова по уши. – Он будет жрать все украденное с земли, как собака или свинья. Может, хоть тогда вы поймете, что крысячить – позор, и отдавать свое по первому требованию – тоже позор. Можете идти. Микитюк, возьми лопатку и прибери свою блевотину. Дмитренко, проследи.
– Воспитательная работа? – Асмоловский не заметил, как подошел комбат майор Лебедь.
– Да.
– А что случилось?
– Все то же самое. Одни грабят, другие молчат.
– А ты, значит, порядок наводишь, – заключил Лебедь. – А ну, пошли, поговорим!
Путь их пролегал от лесной опушки до здания диспетчерской мимо группок солдат, сидящих прямо на земле. Те, что были поближе, вставали и отдавали честь, те, что были подальше, старательно не замечали.
– Ты хоть соображаешь, что делаешь? – тихо спросил комбат.
– Да.
– Ни хрена ты не соображаешь, – отрубил майор. – Вот что ты будешь делать, если Микитюк сейчас пойдет и повесится?
«Станцую…»
– А что я буду делать, если пойдет и повесится Остапчук? – разозлился он. – Похороним и спишем? Отправим домой в цинковом ящике: извините, мама, несчастный случай!?
– Остапчук не повесится, с ним ничего особенного не сделали. – Они встали возле дерева на краю аэродрома, где начиналась лесополоса. – Подумаешь, пару синяков поставили. Со всеми так бывает. Пришел в армию маменькин сынок, уходит мужчина. А ты им психику ломаешь. Ну, залупаются, суки, – отведи тихонько в сторонку, дай разок по ушам.
– Осторожненько, чтобы следов не оставлять, – вставил Глеб. – Как Палишко…
– Да хотя бы как Палишко! Ты же поля не видишь! С Палишкой они знают, как себя вести: ты не зарывайся – тебя трогать не будут. С тобой же – черт-те что. То ты из себя Сухомлинского строил, они на тебе верхом ездили, то ты озверел и в эсэсовца превратился…
– Я? – Глеб на секунду поднял голос, но тут же взял себя в руки. – Я – эсэсовец? Я ни разу за все время службы никого сортир носовым платком мыть не послал. Я никогда не заставлял весь взвод отвечать за проступок одного, чтобы они все ему наломали… Я…
– Жопа бугая… – грубо прервал майор. – Гуманист, блядь… Он, видите ли, не бьет солдата… Он его берет и об колено ломает. Он не больше не меньше – весь армейский порядок хочет порушить, а вместо него построить свой, правильный. Ты понимаешь, что они все до одного тебя ненавидят? Ты понимаешь, за что они тебя ненавидят?
– Да.
– Ну так чего выебываешься?
– Я хочу, чтобы они вели себя как люди.
– И поэтому пусть жрут с земли, как свиньи… – Майор сунул в зубы сигарету, чиркнул спичкой. – Глеб, когда у меня рота освободилась, я мог на нее поставить Палишко… а поставил тебя. Как думаешь, почему?
– Потому что он мудак?
– И это тоже, само собой. Но в основном, Глеб, потому что ты все-таки человек с высшим образованием и, как я думал, с мозгами. Я еще зимой понял, куда нас бросят. И решил, что ты в этом случае на роте будешь лучше, чем Палишко. У тебя контакт с местными выйдет, а это нам важно сейчас. Но на беса мне твой контакт с местными, если ты контакт с солдатами теряешь? Со своими солдатами?
– Я советский офицер, – сатанея, сказал Глеб. – И я знаю один закон: Устав! И они у меня будут выполнять этот Устав, я сказал!
– Тьфу! – Майор загасил плевком окурок, бросил, растер, развернулся и зашагал обратно на аэродром. Глеб достал пачку «Родопи», закурил, в одиночестве и молчании выкурил три сигареты, сжигая адреналин. Потом растер последний окурок о ствол дерева и пошел в диспетчерскую – нечто вроде импровизированного офицерского клуба, где общались десантники и офицеры из персонала аэродрома.
В диспетчерской было тесно. Офицеры сгрудились вокруг радиоприемника, вещавшего новости крымского «Радио-Миг». Мощный приемник аэродрома без труда брал крымскую волну через сеть помех.
– Падение курса акций «Арабат-Ойл-кампэни». За прошедшую неделю акции этой крупнейшей в Крыму промышленной корпорации упали на десять пунктов. Аналитики Симферопольского делового центра опасаются, что это повлечет за собой обвал нескольких корпораций и банков, державших акции «Арабат-Ойл». Новости спорта: Москва усиленно готовится к Олимпиаде. Тем временем число стран-участниц сокращается. О своем бойкоте этой Олимпиады заявили Соединенные Штаты Америки. Это связано с протестом против введения советских войск в Афганистан. Из Непала вернулась разведывательная экспедиция Вооруженных сил Юга России, – сообщила дикторша. – Новая вершина, которую избрали для себя наши альпинисты, – Лхоцзе, один из наиболее сложных гималайских восьмитысячников. Если не возникнет каких-либо препятствий, крымская экспедиция отправится в Гималаи в августе. Подъем на Лхоцзе по Южной стене станет новым словом в практике высотных восхождений. Бокс. В полуфинал ежегодного первенства Крыма вышли Антон Костопуло и Сулейман Зарифуллин…
Глебу как-то неинтересно было, кто вышел в полуфинал первенства Крыма по боксу. Его задела новость о возвращении разведывательной экспедиции. Неужели они думают, что смогут выехать? За каким чертом вы, ребята, вернулись? Все, для вас границы закрыты. Стирайте с карты Гималаи.
Год назад Тамм получил добро на эверестскую экспедицию, Глеб поехал на Памир – проходить отборочные, и когда прошел – был без водки пьян от радости. Эверест, недостижимый и вечный – Господи, если не подняться – то хоть рядом постоять! Очередь им пришлась на 82-й год, поначалу выпало на 81-й, но японцы уговорили поменяться – у них было столетие Токийского университета, хотели отметить. Тамм уступил, и Глеб готов был сгрызть ногти до локтей: еще год ожидания! Он с ума сходил – так что же чувствует тот, для кого Гималаи теперь закрыты навсегда?
Или они все же надеются, что их выпустят? Там идиоты живут? Как-то в руки Глебу попался глянцевый польский журнал, с обложки которого смотрели заросшие и заиндевевшие по самые глаза крымские вояки, только что взявшие Эверест. Пространную статью на польском он не осилил, но запомнил глаза этих людей. Глаза, в которые никто и никогда не плевал с последующей лекцией о божьей росе. Ну что, подумал он с неожиданной злостью, всякая лафа когда-нибудь заканчивается, ребята.
Песня плыла за окнами под аккомпанемент крепких форменных ботинок – вторая рота возвращалась со стрельб. Казалось, именно песня колыхала тяжелые черные шторы, одну из которых унтер Новак время от времени слегка приоткрывал, чтобы выпустить на улицу сигарный дым. Здесь он был единственным курящим.
На стене ровно светился слайд: белый клин на голубом фоне. Гора Лхоцзе, Южная стена.
Обо всем уже поговорили.
– Повторяю еще раз, – закончил свою короткую речь Верещагин, – мы идем на смертельный риск, и кончится наше предприятие неизвестно чем. Я никого не уговариваю, но здесь у нас точка невозвращения.
– Зачем все это повторять? – Прапорщик Даничев вертел на пальце берет и беспечно улыбался. Верещагину захотелось треснуть его по шее, так как повторять следовало именно для таких, как этот, – зеленых пацанов, не знающих цену ни своей жизни, ни чужой.
– Для очистки совести, – мрачно ответил он. – Все, господа. Расходимся. Благодарю за внимание.
Новак встал, точным щелчком выбросил сигару в урну и первым вышел из конференц-зала. Он не сказал ни слова за все время брифинга, но в нем Верещагин был уверен более всего.
В дверном проеме Новак на секунду застыл и откозырял всем присутствующим. Потом развернулся на каблуках и… снова откозырял.
Напротив Новака стоял командир горно-егерской бригады полковник Кронин.
– Вольно, господа, – бросил он, прежде чем все успели вытянуться. – Можете идти. А вас, капитан Верещагин, я попрошу остаться.
Офицеры и унтер-офицеры испарились из конференц-зала.
Заложив руки за спину, полковник прошелся по комнате, пересек луч проектора. Контрфорсы Лхоцзе поползли по складкам мундира, вершина царапнула нарукавный знак.
– А теперь вы мне объясните, что здесь происходило.
– Что именно, ваше высокоблагородие?
– Вот этот… брифинг. Что вы тут обсуждали?
– Результаты разведки, господин полковник. Если вам будет угодно, я могу продемонстрировать все слайды с самого начала и объяснить…
– Tell the sailors about it, Верещагин! Трех четвертей вашей постоянной команды здесь нет, вы их даже не позвали. Но зачем-то позвали Козырева и Новака, которые сроду никуда не ездили, а по скалам лазают только во время марш-бросков.
– Ваше высокоблагородие, with all due respect, я не могу беседовать в таком тоне. Скажите, в чем, собственно, вы меня обвиняете, и тогда я смогу либо защищаться, либо признать свою вину. Мы пока еще в армии Юга России, а не в…
– Вот именно, капитан! – Полковник сел на стол. – Вот именно! Воссоединение начнется со дня на день, а вы все не расстанетесь со своими игрушками. Вам, похоже, нужно постоянно напоминать, что армия создана не для того, чтобы вы совершенствовали свое альпинистское мастерство и, красуясь перед телекамерами, делали провокационные заявления.
– Сэр, я помню, для чего существует армия.
– И для чего же?
– В Уставе сказано, что мы должны отражать или предотвращать вооруженные нападения на Крым, сэр.
– А если вам сейчас же придется отсюда отправиться на гауптвахту, как вы на это посмотрите?
– Я в отпуске, сэр. Еще сутки…
– Ну так и догуливайте свой отпуск! Оденьтесь в цивильное, катитесь на свою квартиру и не показывайте здесь носа, пока отпуск не кончится.
Полковник вздохнул и как-то странно осел на столе, как будто из него вытащили невидимый стержень. Все его пятьдесят семь лет проступили на лице.
– Честно говоря, Арт, мне было бы куда спокойней, если бы вы сидели в своем Непале. Вы – темная лошадка, Арт.
Верещагин, ничего не отвечая, выключил и зачехлил проектор.
– Как вам вообще удалось стать офицером?
– Вы же знаете, – Артем вздохнул. – Отказ в университете, возможность поступления по армейской квоте, армия, война, повышение, Карасу-Базар…
– Я помню, – перебил полковник. – Вы знаете дело. Умеете работать с людьми. Вы быстро соображаете и хорошо держите себя в руках. Но вы плохой офицер, Арт.
– Как скажете, сэр.
– Вот! – Полковник воздел палец. – Хороший офицер возмутился бы. Он бы спросил: что вас не устраивает? А вы себе на уме. Короче, – он перешел на английский, и отчего-то вновь распрямился, разгладился, как будто незримый стержень снова держал его позвоночник. – Послезавтра вы сбриваете свою поганую чегеваровскую бороденку и появляетесь к утренней поверке. Но сегодя и завтра я не должен видеть вас здесь. Увижу – закатаю на гауптвахту в превентивном порядке, а там можете хоть подавать на меня в суд. Все, dismissed!
Верещагин сунул в карман коробку со слайдами, откозырял и вышел. Уже за дверями его нагнал голос полковника:
– И вашего Сандыбекова это тоже касается!
– Значит, встречаемся завтра у тебя? – Козырев ждал его у выхода.
– Как договорились.
– Чего Старик хотел?
– Пустое.
– Володя! – окликнул Козырева подполковник Ставраки. – Что у тебя в следующую субботу?
– Скачу в Карасу-Базаре для Волынского-Басманова. Африка.
– И как она?
– Упрямая старая коза, сэр. Губы – как подметки. Но прыгает неплохо. Рискните десяткой, если хотите. Для стоящих лошадей Басманов нанимает профессионалов.
– А какие шансы у Глагола?
– Фаворитом идет Джабраил, но Глагол себя хорошо показал во Франции. Просто он молодой еще. Попробуйте, должен же он когда-то победить.
– Спасибо, – подполковник сделал пометку в талоне предварительных ставок и «заметил» Верещагина. – С возвращением, Арт. Зайдите, пожалуйста, к Старику, он очень хотел вас видеть.
– Я уже виделся с ним.
– Вы хоть в бар вечером позовете по случаю возвращения?
– Завтра, ваше благородие.
– Ну, завтра так завтра… Ближе к людям надо быть, Верещагин. Проще, проще. Спуститесь со своих вершин. Люди на земле живут.
– Вас понял, сэр.
– Устарело, Верещагин! Теперь отвечают так: «Служу Советскому Союзу!»
– Я присягал на верность Крыму.
– России, Верещагин, России! А Россия – это СССР.
Арт почувствовал оскомину. В присяге действительно было сказано – «России». Точнее, «свободной России».
– Мое мнение по этому вопросу вам известно, Антон Петрович.
– Оно всем известно, Верещагин. Черт, я еще помню, как меня отымели за ваше телеинтервью. Знаете, за что вас не любят, Арт? За то, что вы всегда хотите казаться самым умным. Вот, у всех мнение такое, а у вас не такое… И ладно бы вы при этом помалкивали… Нет, нужно обязательно выступить. Вся армия шагает не в ногу, а капитан Верещагин – в ногу…
Артем не вспомнил ни словом, как Ставраки три года назад поносил «предателей-интеграционистов». Он просто откозырял и сказал:
– Честь имею, сэр.
– Вот таракан, – процедил Козырев, провожая Артема до ворот. – Не мог не прицепиться.
– Да шут с ним. – От Верещагина подобные придирки уже давно отскакивали, как от стенки.
Шамиль ждал капитана на полковой парковке, где хромом и черным лаком сверкал его «Харламов».
– Отчего загрустил, Шэм? – спросил Верещагин. – Лично я намерен этот вечер провести с большой пользой для себя. Или Катин телефон потерял?
Шэм вяло улыбнулся.
– Ждать тяжело, сэр, – пояснил он. – Скорее бы…
Территорию полка «Харламов» и джип-«хайлендер» покинули одновременно. На первой же развилке Шэм, махнув на прощанье рукой, повернул мотоцикл налево, к виноградникам Изумрудного. «Хайлендер» же поехал в нагорный дистрикт Бахчисарая, где снимал небольшую, «однобедренную» (1 bedroom) квартиру капитан Верещагин.
С порога, едва сбросив туфли, Артем кинулся к телефону. Быстрая фиоритура по кнопкам набора, увертюра длинных гудков…
– Полк морской пехоты, дежурный слушает, – татанский акцент грубого помола.
– Сообщение для капитана Берлиани.
– Джаста момент, сэр. Записую…
– Передал капитан Верещагин. В шесть часов сегодня я жду капитана Берлиани в «Синем якоре». Записали?
– Так точно.
– Повторите.
– Капитан Берлиани мессейдж: сегодня в шесть капитан Вэри-ша-гин ждет в «Синим якорь».
– Большое спасибо, дежурный.
Не кладя трубки, он набрал новый номер.
– Второй полк, дежурная, – семитские обертоны.
– Поручика Уточкину, мэм.
– Кто?
– Капитан Верещагин.
– Минутку.
Дурацкая электронная музыка, сопровождающая переключение аппарата.
– Ее нет на месте, сэр. Она на летном поле. Она перезвонит.
– Не надо. Просто передайте ей, что капитан Верещагин заедет за ней в шесть.
– Сейчас запишу. Welcome back, покорители вершин!
– Большое спасибо, леди.
Что теперь? Теперь – последний звонок… Верещагин набрал номер.
– Простите, – сказал по-английски светлый женский голосочек, щедро сдобренный акцентом – на сей раз немецким, – Господина Остерманна нет дома. Пожалуйста, оставьте свое сообщение.
– Это Верещагин, – сказал он автоответчику. – До четверти шестого я дома, с шести до семи – в «Синем якоре», с восьми до десяти – в «Пьеро», потом до утра – в «Севастополь-Шератон». Жду звонка.
«И что теперь? – Он посмотрел на нераспакованный рюкзак. – Нет, сначала обед. Потом – в банк… Дьявол, обещал же быть дома, ждать звонка… Ладно, в банк – по дороге в Севастополь. Пятнадцать минут форы. Спать хочется, смена часовых поясов, туда-сюда… Не дай бог, господин Остерманн, стукнет вам позвонить в «Шератон». Я, конечно, отвечу, но – как там у Зощенко? – в душе затаю некоторую грубость…»
Он выгрузил из бумажного пакета на стол бекон-нарезку, полдюжины яиц, маленький пресный хлебец, пакет чая и итальянский сырный салат в полуфунтовой упаковке. Почти ровно на один обед. Пансионная, сиротская привычка: не делать ни запасов, ни долгов. Наверное, глупая. На каждый чих не наздравствуешься. Слишком много он попытался запихнуть в эти полгода, и что-то наверняка получится скверно, и, как обычно – самое главное.
Обидно.
Капитан встал у окна, выходившего во внутренний дворик доходного дома. Три часа дня. Чудесный солнечный afternoon, почти летняя жара. Очаровательно расхлябанный мальчишка пересекает двор, пиная ботинком пивную банку. Легкий жестяной звон… Старичок на галерее напротив не одобряет, на что мальчишка плевал: в двенадцать лет все анархисты. Мгновение застывает в памяти, как муха в янтаре… Пронзительное и краткое ощущение вечности разрушено молодецким посвистом чайника…
После обеда Артем вымыл посуду и разобрал рюкзак. Покидая квартиру, вынес мусор. Это даже не привычка. Привычка – все-таки вторая натура, а это первая. Ни долгов, ни запасов. Глупость несусветная, но почему-то его всегда бросало в дрожь при мысли о мусоре, воняющем в пустой квартире… Почему-то думать о своем бренном теле, закатанном в снег, было не так страшно, как воображать какой-нибудь сиротливый пакет скисшего йогурта в углу холодильника. Квинтэссенция безысходности. Что за ересь лезет в голову…
Он запер квартиру, спустился в машину, бросил почту на заднее сиденье. Будет время – посмотрит внимательнее. Не будет времени – и ладно.
Маленький джип-«хайлендер», попетляв бахчисарайскими улочками, выкатился на Севастопольский хайвей и затерялся в потоке машин.
«Питер-турбо» Георгия вписался в парковочное место едва ли не впритирку – Берлиани был лихой ездок.
Артем, полировавший джинсами декоративный чугунный кнехт, поднялся ему навстречу.
– Привет! – Он на секунду задохнулся в мощном объятии, тут же отстранился – не любил тесных телесных контактов.
– Ох, я боялся, что ты не успеешь! – Князь отступил на шаг назад, оглядывая друга. – Зачем ты ехал вообще?
– А как я мог не поехать? Проел плешь всему Главштабу, а потом отказался? Да Адамс меня с ботинками сожрал бы. Мы как, будем обсуждать все это на свежем воздухе или пойдем в клуб?
Верещагин не любил офицерские клубы и крайне редко посещал их. Но по принципу прятания листьев в лесу он счел офицерский клуб идеальным местом для дружеской встречи двух офицеров. Их диалог растворился в репликах понтеров и банкометов, соударениях биллиардных шаров, тихих блюзовых аккордах, англо-французской болтовне, перемежаемой беззлобным русским матом, и прочих звуках симфонии «Доблестное белое офицерство на отдыхе».
– Ты виделся с нашими?
– Только что.
– А наш общий знакомый тебе звонил?
– Еще нет. Может, он раздумал?
– Все может быть. Сколько у нас человек?
– Ты, я, Козырев, Шэм, Томилин, Даничев, Хикс, Миллер и Сидорук. Новак останется в батальоне.
– О чем с тобой говорил Старик? – спросил Георгий.
– Уже доложили?
– Хикс беспокоится.
– Ерунда.
– Он может нам испортить музыку?
– Вряд ли.
Георгий вздохнул.
– Арт, ты и в самом деле не сомневаешься ни в чем? Вот так железно во всем уверен?
– А ви думали, рэволюция – это вам лобио кушать?
– А в ухо? – грозно спросил Князь.
Засмеялись.
– Что пить будешь?
– Да ничего, пожалуй.
– Слушай, не позорь горно-егерскую бригаду.
– Я пил. Сегодня утром. В Дубаи.
– Ты утром пил. А уже вечер…
– Я пять часовых поясов пересек. Ни утра, ни вечера уже не разбираю.
– Господин Верещагин! – крикнул бармен.
– Здесь! – Артем прошел к стойке и взял у бармена трубку.
– Это Остерманн, – сказала трубка без малейших признаков акцента. – Я волновался за вас, капитан. Как там Лхоцзе?
– Еще не упала.
– Очень рад. Ну, сколько человек участвует в экспедиции? Добавьте, разумеется, офицера связи – оборудование рассчитано на всех.
– Десять.
– Замечательно. Кстати, ваши вещи так и лежат в камере хранения на автостанции в Бахчи. Вы еще помните номер ячейки?
– Нет, откуда?
– Номер 415, код – Криспин.
– Запомню. Спасибо, господин Остерманн.
– До завтра, – ответила трубка.
Князь ждал в некотором напряжении.
– Наш общий знакомый? – спросил он.
– Да, беспокоился о наших шмотках, что на автостанции в Бахчи. Ячейка номер 415, код – «Криспин».
– Ячейка 415, «Криспин». Bugger all, чувствую себя последним идиотом. Во что мы все ввязываемся?
– Ничего, уже недолго осталось. Жизнь коротка, потерпи.
– Переночуешь у меня?
– Нет, Гия, сегодня я ночую в «Шератоне».
– У тебя дядя-миллионер в Америке умер? – спросил потрясенный Берлиани.
– I’m the man that broke the bank in Monte Carlo! – пропел Артем и добавил: – Я еще и ужинаю в «Пьеро».
– Мальчик мой, женщины, вино и деньги погубят вашу душу. Твоя царица, да? – Князь улыбнулся, показав чуть ли не все тридцать два превосходных зуба.
– Моя царица.
Они расплатились и вышли на набережную. Бриз ворочал трехэтажные облака.
– Ну что, до завтра? – спросил Георгий. Берлиани оттянул пальцем воротничок. – Чимборазо и Котопакси…
– Керос и Наварон, Гия.
Они засмеялись, и вечер улыбнулся им улыбкой их юности.
Когда любопытная Рахиль спросила, что я нашла в своем капитане, я отшутилась, что Арт может подтягиваться на языке.
Он и в самом деле совершенно неброско выглядит и предпочитает держаться в тени. И даже в тот день явился в сером джемпере и припарковался чуть не в полукилометре от ворот базы. Так что после всех приветствий (тоже весьма сдержанных, мы оба не любим целоваться на людях), я не удержалась от небольшого ехидства.
– Ну, что у нас сегодня? Ужин во французском ресторане и ночь в мотеле? Ужин в китайском ресторане и ночь на яхте Князя? Ужин в турецком ресторане и ночь в твоей квартире?
– Ужин, для начала, в «Пьеро». А где ночь – увидишь.
Замечательно. В самый шикарный кафешантан Севастополя места нужно бронировать за месяц. Значит, он так и сделал. И теперь везет меня туда отнюдь не в вечернем платье. А предупредить – никак?
– После ужина в «Пьеро» ночь можно провести только на заднем сиденье твоего «хайлендера». Тебе не кажется, что мы немножко не в том возрасте, чтоб тискаться на заднем сиденье автомобиля?
– С тобой я готов тискаться где угодно.
– Не сомневаюсь. И все-таки, где ты взял деньги на «Пьеро»?
– В тумбочке.
– ???
– Это советский анекдот. «Где ты берешь деньги? – В тумбочке. – А кто их туда кладет? – Моя жена. – А кто ей дает деньги? – Я. – А где ты берешь деньги? – В тумбочке».
Он такой специалист по всему советскому, что ему надо было бы служить в Осведомительном агентстве. Советские книги, фильмы, кассеты советских шансонье – этим забита его квартира в Бахчи. Он постоянно таскал меня на концерты советских певцов, поэтов и стенд-ап комиков, я половины не понимала в их песнях и шутках, а он всегда готов был терпеливо разъяснять, и то, что он мне разъяснял, выходило порой так тошнотворно, что я предпочла бы не понимать и дальше.
И при этом он ненавидел СССР, потому что там не то погиб, не то пропал без вести его отец. Конечно, Верещагин-старший мог просто смыться на родину, оставив крымскую жену соломенной вдовой, но Арт предпочитал думать, что его отец – жертва политических репрессий, и, судя по всему, шансы на это были немалые. Многих советских солдат прибило к нашим берегам, когда Манштейн утюжил танками Украину. Почти всех вернувшихся на родину бросили в лагеря.
Словом, история вышла классическая: ты вглядываешься в бездну, бездна вглядывается в тебя, и вот уже человек одержим предметом своей ненависти, и сама ненависть перерастает в какую-то яростную нежность. От этого мне порой делалось не по себе.
Но анекдот и вправду смешной, во всяком случае, понятный. Я даже посмеялась:
– Ну, а все-таки?
– Я снял все со своего счета.
О-ля-ля! Концы срослись.
Со стороны зимняя депрессия Арта выглядела как режим педантизма и перфекционизма на максимум, армейское начальство было даже довольно. На самом же деле Арт решил, что пора приводить в порядок свои дела, и, возможно, даже был в этом прав. К сожалению, одним из приводимых в порядок дел была я – то есть наша с ним связь, которая не вписывалась в церковные каноны. Лично меня все устраивало, а в церковные каноны я вписываться не собиралась, он же без конца затевал разговоры о браке, я эти разговоры пресекала, мы ссорились, мирились и мотали друг другу нервы, пока начальство не послало его в Гималаи на разведку Южного склона Лхоцзе. Нравилась начальству мысль, что русские первыми покорят эту непроходимую стену, знай наших. И будущая оккупация начальство не смущала – наоборот, полковник Адамс, большой фанат альпинизма, надеялся на совместную экспедицию с советскими.
А я теперь даже не знала, собирается ли Арт меня бортануть или в очередной раз будет приставать с предложением.
Но «Пьеро» все объяснило. Там одно мороженое стоит как полновесный обед в «Грине», туда не поведешь женщину, чтобы ее бортануть, разве что ты решил обеспечить ей незабываемый вечер как утешительный приз. Но Арт не пошляк, он бы никогда так не сделал.
Как оказалось, он и в «Пьеро»-то меня повел лишь потому, что сегодня там выступала Саша Метелица с программой на стихи Давида Самойлова.
– Как ты провела отпуск?
– Неплохо. Мон Сен-Мишель, кальвадос и Броселианд. А как ты съездил?
– Тоже неплохо. There Beren came from mountains cold… – прошептал он. – And lost he wandered under leaves, and where the elven river rolled he walked alone and sorrowing. He peered between the hemlock leaves and saw in wonder flowers of gold upon her mantle and her sleeves and her hair like shadow following…
…Мы познакомились два года назад, на армейском рождественском балу.
Я к тому времени уже семь лет была в армии – и этим все сказано. Вы знаете, что такое женщина-военнослужащая? Одно из двух: или это жена военного, или это любовница военного. Штатские не женятся на «форсянках». Особенно – на «Вдовах».
Будучи женой военного, «форсянка» находится под непрерывным надзором. Не то чтобы муж ревновал или шпионил – нет, просто армия – это очень маленький мир, а офицерский корпус – и того меньше. Словом, или распадается семья, или женщина увольняется, едва закончится контракт…
Любовница военного… Это самый распространенный вариант. Даже «Вдовы», сугубо женская часть, не испытывают недостатка внимания со стороны мужчин-коллег. Аэродромная обслуга, охрана, коммандос из качинского полка специальных операций – вот далеко не полный список. Но… Со временем отношения или превращаются в брак, и тогда см. пункт «жена военного». Либо… Обета девственности ни одна из «Вдов» не давала, а знакомиться со штатскими особенно некогда. И опять начинается связь с военным. Якобы тайная. Все о ней все знают и наблюдают с интересом, как за «мыльной оперой». Связь тянется год, полтора или два, а потом – с треском и болью рвется. Потому что баба-дура не понимает своего счастья и истинного предназначения, летать ей охота. Раз это повторится, другой, третий… И тогда женщина решает: гори все огнем! Будем пользоваться мужчинами так, как они – нами. Берешь мужчину. Пользуешься некоторое время. Потом выбрасываешь. Если он обижен – извини, дорогой, это твои проблемы.
На армейском рождественском балу я искала мужчину. Взять. Попользоваться. Выбросить. Если ему это не доставит неприятностей – что ж, я не кровожадная. По правде говоря, мне все равно.
Арт единственный на всем этом сборище не собирался флиртовать. Это был вызов. А от вызова я не уклоняюсь.
Весь вечер мы танцевали, пили шампанское, обсуждали поэзию и музыку Моррисона, Францию, где он не был, и Индию, где не была я, раскопки в Эски-Кермене, где работали мы оба, только в разное время (на Острове раскопки считаются страшно полезным для школьников занятием), массовое помешательство американских киноакадемиков (дать «Оскара» «Рокки» и не дать «Таксисту»?) и всякое другое, нарезáли обороты вокруг елки, и за все это время он не сделал ни одной попытки прижаться ко мне невзначай, не намекнул насчет пистона и не попытался меня напоить. Короче, я решила, что либо за мной приударяет Спок, либо он гей, а я чего-то не понимаю.
Когда я спросила, почему он так мало пьет, он, не отводя глаз, честно сказал, что не любит секса подшофе сам и партнершу тоже хотел бы видеть трезвой. Когда я спросила, с чего он взял, что у нас будет секс, он так же невозмутимо признался, что хочет меня с той минуты, как увидел, и в настоящее время как раз охмуряет. Когда я спросила, на какой стадии он собирался дать мне понять, что меня охмуряют, он все с тем же покерным лицом сообщил, что оптимальным временем посчитал закрытие бала: если он покажется мне противным или скучным, у меня будет целый вечер, чтобы найти кого получше, а если я не планирую ничего, кроме танцев, то он просто побудет собеседником и танцевальным партнером.
Я сказала, что не против перевести отношения в горизонтальную плоскость, но сначала хотелось бы узнать, как он целуется. Он слегка улыбнулся и спросил: «Прямо здесь?»
В тот год хозяевами бала были марковцы, и мероприятие они проводили в крытом павильоне Сакского дендрария. Мы уединились среди каких-то тропических растений, и я узнала, что целуется он хорошо: не вяло и не агрессивно, не сухо и не слюняво, не скупо и без попыток пересчитать своим языком все твои зубы. Он целовался так же, как и танцевал: без лишних затей, но чутко, отзвычиво.
Рахиль Левкович наставляла: смотри, как танцует и как целуется, девять к одному, что в постели будет так же.
Меньше чем через час я снова убедилась, что Рахиль редко ошибается. Но я оставалась с ним два года не потому, что с ним было хорошо в постели. А потому, что вне постели было ничуть не хуже.
И самое главное – он не давил. «Время идет, Тэмми, тик-так, тебе скоро тридцать, а я хочу маленького» – всего этого не было. Да, в каждую встречу он просил об одном и том же: «Тэм, сделай меня честным мужчиной», – но это звучало как шутка, и я отшучивалась, и тему он не поднимал до следующего раза. Не просил уйти из армии, не заикался о женском предназначении – да ради одного этого стоило оставаться с ним, говорила я себе, потому что боялась сказать главное: я его люблю.
Мы ополовинили бутылку инкерманского сухого красного пятилетней выдержки, доели карпаччо и десерт.
Музыка стихла. На эстраде появился конферансье:
– Дамы и господа! Леди и джентльмены! Имею честь представить вам мадемуазель Саша Метелица!
Мадемуазель поприветствовали бурными аплодисментами.
– Ее называют нашей Камбуровой, – тихо сказал Арт. Мне пришлось слегка напрячься, вспоминая, кто такая «их» Камбурова.
Саша, сухая и черно-белая, как ласточка, выпрямилась перед микрофонной стойкой. Заиграла гитара; что-то древнее, темное и русское звучало в этих тактах, и наконец я сообразила: гитара имитирует колокольный перезвон. Мелодия развернулась, пробуя силы, и грянула одновременно с мощным голосом певицы – я даже удивилась, как в таком тщедушном теле может скрываться такой сильный голос.
Раскинув руки, закрыв глаза, Саша словно неслась над темным залом, хотя и не сместилась ни на миллиметр, и даже лицо ее было бесстрастно, как у танцовщицы фламенко, но летящий, зовущий, могучий голос передавал все: и дикую, необузданную энергию российских ветров, и синеву недосягаемых небес, и стремительный полет, и жестокое падение…
Арт слушал так, как будто это последняя хорошая песня в его жизни. Чтобы вывести его из этого состояния, я наступила ему на ногу.
– В первый раз слышу такую аранжировку, – сказал он, когда песня закончилась, и взмокшая Саша смущенно поклонилась посетителям. Потом были еще песни – очень сильные, очень хорошо спетые, но та, первая, почему-то вонзилась в меня глубже всех.
В общем, все это было здорово, и когда концерт закончился и вновь пошли звякать вилки, а передо мной на столе оказалась изящная коробочка, обтянутая синим бархатом, я почувствовала себя как будто обманутой. Дешевая сценка из дамского романа. Ах ты ж господи…
Я отодвинула бархатный гробик.
– Арт, ну от кого-кого, но от тебя такой банальности не ожидала. Или ты решил, что меня переубедит girls’best friend?
Арт потер затылок. Потом подбородок.
– Тэм, я… я видел, чем кончают армейские семьи, поэтому не давил. Не хотел быть идиотом, который похерит свое счастье ради карьерных амбиций. И я ждал, и готов был ждать еще. Но нам не дают времени. Вторжение – вопрос ближайших двух дней.
– И ты полагаешь, что свадьба что-то изменит?
Он кивнул.
– Они там – большие любители формальностей, Тэмми. Я не знаю, чего от них ждать, но если мы станем мужем и женой, появится чуть больше надежды на то, что… ну, например, нас не пошлют в разные концы страны. Или ты сможешь, в случае чего, получить свидание со мной.
Мне захотелось взять бутылку и шарахнуть его по башке.
Нет, я не была в восторге от ИОС, не кричала «Вместе с Россией!», не рыдала при звуках советского гимна… Я достаточно много знала об СССР, чтобы понимать: жить станет хуже. Но беспросветный пессимизм Арта меня убивал сильней, чем радостный кретинизм некоторых подруг и мамино «А, все уже без нас решили».
– Перестань, – почти простонала я. – Перестань вести себя так, словно через два дня тебя поволокут в камеру 101 и будут пытать, чтоб ты от меня отрекся. Сейчас не тридцатые и даже не пятидесятые, с нами вряд ли поступят так же, как с твоим отцом.
Он разлил бутылку до конца и отдал пустую официанту.
– В Одессе и Новороссийске уже грузится бронетехника.
Я знала. В армии сплетничают не только насчет того, кто с кем спит. Но это не укладывалось в голове. Зачем высаживать десант в страну, которая присоединяется добровольно?
– Тэмми, давай хотя бы попробуем, а? Ведь нам почти нечего терять.
Я вздохнула и примерила кольцо. Оно оказалось как раз впору, кто бы сомневался.
– Ты никогда не останавливаешься, пока не добьешься своего?
– Сто двадцать пятая попытка удается. Как правило.
Да. И в этом тоже он весь. Я достала его кольцо и надела ему на палец. Ладонь – вся в заусенцах и царапинах, как обычно бывает, когда он возвращается со своих гор. Да и в обычное время руки у него покрыты мозолями, как не у всякого работяги. Просто удивительно, как эти руки умудряются быть такими нежными.
И я отчаянно захотела стиснуть эту ладонь бедрами. Как можно скорее.
Зверь с двумя спинами метался по скомканному шелковому покрывалу, и огромная постель отеля «Севастополь-Шератон» была ему тесна. Зверь дрожал, стонал и вскрикивал, и затихал в последней блаженной судороге… И, вдохнув тишины, умирал, распадался надвое в шелковых синих сумерках.
Запах шалфея. Запах сухого степного лета. Она пользовалась маслами вместо духов – и в этом он тоже находил что-то особенное. Разве эти темные волосы могут пахнуть иначе? Разве можно представить себе эти серые глаза в собольей опушке ресниц – на другом лице? Разве такая женщина может носить иное имя? «Тамара» – алый бархат, серый дикий камень. Древнее, как пески Синая, как шатры Иудеи у той дороги, где Фамарь соблазнила Иуду, своего мужа, переодевшись блудницей (а вы полагали, этот трюк выдумали дамочки из журнала «Вог»?).
Они познакомились два года назад на армейском рождественском балу. С первого взгляда на нее (полуоборот, темный гранатовый блеск сережек, темно-красное платье из «мокрого шелка») понял: это будет. И это будет больше, чем профилактика застоя крови в малом тазу.
После первого же танца, после минуты разговора: она. Та женщина, с которой он хотел бы каждое утро просыпаться в одной постели. Та женщина, чей цвет волос или глаз, или овал лица, или трезвый практический ум, или все это вместе он хотел бы видеть у своих детей.
Он встречался с ней два года и никак не мог добиться ответа: а тот ли он мужчина, чьи черты она хотела бы видеть у своих детей?
(Слушай, ну почему ты из всего делаешь проблему? А просто трахаться ты не можешь?
Нет, Гия. Просто трахаться я не могу.)
Он готов был добиться перевода в Качу, выдержать весь драконовский курс тренировок их коммандос, отказаться от грядущего капитанского звания, пройти via dolorosa новичка в другом роде войск, лишь бы оказаться рядом. Ты с ума сошел, говорила она, мне не нужны такие жертвы. Да какие, к черту, жертвы, а отказ от причастия – это не жертва? Хорошо, давай поговорим об этом в следующий раз…
Артем был убежден, что здесь не обошлось без ее матери. Анна Михайловна принадлежала к породе потомственной прислуги. Она не одобряла того, что дочь пошла в армию, а не «подыскала себе хорошее место». Она давала Верещагину навязчивые советы, как подменить контрацептивы аспирином и «подарить Тэмми маленького». Неудивительно, что брак для Тэм казался хуже сифилиса.
Но день настал. Мир должен был перевернуться для этого – и все же день настал.
Правда, больше он не сулил ничего хорошего.
Тем не менее, капитан Верещагин был счастлив в этот вечер, последний вечер прежней своей жизни. Он накрепко запер дверь, за которой стояло будущее, и вышвырнул ключ. Утром будущее все-таки высадит дверь прикладом, но к этому моменту все свое драгоценное настоящее Артем превратит в прошлое, целую ночь он будет превращать настоящее в прошлое, а когда закончит, завернет его в чистые холсты и положит на дно памяти, но не очень далеко – чтобы всегда можно было дотянуться, прикоснуться и наполниться теплом…
– Хочу быть подпоручиком, – вполголоса пропел он. – Хочу быть…
– Подполковником, – машинально поправила Тамара.
Он покачал головой.
– Подпоручиком. Под хочу быть поручиком…
Тамара засмеялась, провела рукой по его груди.
– Это какое-то двусмысленное предложение…
– Это совершенно недвусмысленное предложение.
– Если бы у тебя на груди росли волосы, я бы вцепилась в них, и ты бы не хватал меня за попу так нагло.
– Тебе надо было познакомиться с Князем. Когда он чешет грудь, слышно в соседней палатке. Звук такой, будто медведь продирается через малинник.
– Я не люблю мужчин с квадратной челюстью правосудия. Почему ты меня смешишь?
– Мне нравится, как ты смеешься. У тебя при этом так здорово колышется грудь. Заметь, я постепенно приближаюсь к своей стратегической цели. Ты уже сверху…
– Не дождешься!
– Посмотрим.
– Ты можешь думать о чем-нибудь другом?
– Конечно. На Восточном контрфорсе Лхоцзе есть лавиноопасный участок. Его можно обойти, но это – триста метров по вертикальной стене. Лазание на высоте – дело проблемное, и я думаю, что лучше…
– Замолчи, или я выщипаю твою бороденку по волоску.
– Что вам всем плохого сделала моя борода? Полковник Кронин сегодня назвал ее, цитирую, поганой чегеваровской бороденкой, конец цитаты. И велел сбрить.
– Она щекочет меня там. А где она щекочет полковника?
Арт поднял правую руку в жесте присяги.
– Клянусь, что нигде. По идее, у него должны быть претензии к усам Ставраки. Но на усы Ставраки он не покушался ни разу…
– Когда присягают, левую руку кладут на Евангелие. Или на сердце.
– Можно, я положу на твое сердце?
– Это не сердце.
– Я не виноват, что у вас так развиты молочные железы.
– Это все равно не сердце. Оно в нижнем квадранте. Здесь аорта.
– Туда не так приятно класть руку. И вообще, кто из нас зануда?
С ней было неописуемо хорошо. Даже когда плохо. Даже так: плохо рядом с ней было лучше, чем хорошо с другими женщинами, это просто Божье чудо – вот так найти человека, который тебе подходит, и не так подходит, как ложка вкладывается в другую такую же ложку, а вот как парус подходит к мачте или перо к бумаге.
(Это просто первая женщина, которая не сбежала, когда ты поставил этого, как его… Вигдора? Веспера?
Визбора, Гия. Сколько раз можно повторять. Визбора.)
Мысль о том, чтобы потерять ее сейчас, была почти физически болезненна. Он эту мысль пинками гнал, Тэмми уже спала, а он вел эту кошмарную борьбу и от усталости вырубился раньше, чем понял – победил или нет.
Проспать удалось часа четыре, спасибо и на том.
…Ну, вот мы и здесь – в стерильно-чистой, просторной, хоть конем гуляй, ванной комнате отеля «Шератон». Верещагин чувствовал себя гунном, по ошибке попавшим в римские термы. Сидит гунн на краю ванны и снимает острейшим двойным лезвием варварскую бороду, стремясь соответствовать окружающей обстановке. Сегодня по плану падение Рима. Ибо сквозь дверь, сквозь балконные двойные рамы слышится неумолчный басовитый гул, и варвар отлично понимает значение этого звука, опустившегося на сонный Севастополь с небес.
Сеанс добровольной пытки – протирание одеколоном после бритья. Из зеркала смотрит почти незнакомое худое лицо. Посмотрите на это лицо и скажите: способен ли его обладатель на что-либо выдающееся? Да полноте, господа, это же Арт Верещагин, звезд с неба не хватает, считает годы до отставки, пошел в армию ради университетской стипендии, а потом, как дурак, дал уговорить себя в офицерскую школу, соблазнившись курсом военной истории. Интеллигент и зануда, но лямку тянет исправно, солдатики и унтера считают его командиром не то чтобы очень хорошим – правильным. Стрелок хороший, в рукопашной не ахти, но удар держит неплохо, на том и выезжает. Такими исконно офицерскими развлечениями, как выпивка и карты, пренебрегает, и поэтому полезных контактов не завяжет и никогда карьеры не сделает. Хотя мог бы… Что с него взять – интеллигент, чудак. И мало ли что он там думает про воссоединение – а что он может? Что может один человек против огромной империи, с которой в единодушном порыве желает слиться маленькая нахальная республика, где он имел глупость родиться?
А даже если и может – какое у него право решать за девять миллионов человек? Какое тебе собачье дело до их дальнейшей судьбы – бери катер, сажай туда свою царицу Тамару и плыви на оном катере к такой-то матери. Чего проще? Или у тебя есть варианты? Три ха-ха. Любое выступление против СССР будет не чем иным, как коллективным самоубийством. Тебя будут писать через запятую с Чарли Мэнсоном – ты этого хочешь?
Арт Верещагин, ты смешон… Ты ломаешь голову так, как будто ты властен что-то изменить в этой жизни. У тебя есть волшебная палочка, по мановению которой исчезнет гул за окном? Нет? Тогда заткнись, встань, иди и делай, что решил. Что вы все вместе решили и окончательно подтвердили вчера в конференц-зале, где смотрели слайды Лхоцзе-шар.
Арт в последний раз провел пальцами по непривычно гладкой щеке. Хорошо, что у Старика пунктик насчет бород. Он начал что-то подозревать, он вслух заметил, что я не позвал половину своей команды, но позвал Козырева и Новака, а потом вызверился на бороду и отвлекся. Бедный Старик, что за подстава выйдет ему, причем независимо от того, провалимся мы или нет.
Тэм закричала, и он стремглав бросился из ванной.
Меня разбудило ощущение пустоты, кошмарной холодной бездны справа и сзади, как будто я лежу на скальной полке, на самом краю, спиной к обрыву, а внизу сотни и сотни метров леденящей пустоты…
Раньше между мной и пустотой была граница. Сто восемьдесят два сантиметра тела, сильного и теплого. Теперь эта граница исчезла, и пропасть распахнула свою пасть, тихо и плотоядно урча.
Этот звук меня разбудил и напугал до визга.
– Арт! – завопила я, бросаясь вперед-влево, стараясь откатиться от пропасти. И тут же ощутила под собой реальную пустоту, уже просыпаясь, успела выбросить вперед руки и согнуть колени, которыми тут же коснулась близкого пола.
Он появился сразу же, сначала – черная тень на фоне яркого прямоугольника – двери в ванную, потом – бледная тень в растворе выгорающей ночи.
– Что случилось?
Я засмеялась над собой, вернее, попыталась – вместо смеха выплеснулся всхлип. Вот дурочка.
– Ты исчез… Я испугалась… Свалилась с кровати, как маленькая…
– Это бывает. – Он осторожно усадил меня на постель, откинул ладонью упавшие на лицо пряди. – Все нормально, ты пришла в себя?
Я не знала, что ответить. Страх исчез, но тревога осталась. И была какая-то причина, что-то реальное…
Лицо Арта изменилось. Сделалось жестче, перестало походить на физиономию молодого и доброго пирата. Ну да, он побрился.
Мне он нравился бритый, именно таким я увидела его в первый раз. Но с бородой он, как ни странно, казался моложе. Как юноша, который для солидности отпустил бороду.
Он встал, отдернул шторы. Утренние сумерки сонно вползли в комнату. Предметы отяжелели, обрели ту плотность, которую ночью обнаруживаешь только тогда, когда треснешься обо что-нибудь.
Голубой лужицей застыл на коврике шелковый халат. Я подняла его, надела, затянула поясок. Тревога не прошла. Значит, дело не в том, что я голая…
Что-то еще. Но что?
Гул. Низкий, утробный гул, который я слышала во сне.
– Арт!
Он повернулся, кивнул.
– Да. Советские транспортники. Один из них выбрасывает парашютный десант где-то в районе военного порта. Кто-то у них там любит дешевые эффекты.
Я подошла, прижалась. Хорошо бы еще уткнуться лицом в его плечо, но увы – мы почти одного роста. Не везет мне на высоких мужчин.
От Артема пахло мятой (зубная паста) и алоэ (крем для бритья).
Над портом и в самом деле разворачивались парашюты. Нелепость какая. Они могли просто прилететь и сесть в Бельбеке. Или в Каче. Зачем это шоу?
– А что это мы вскочили в такую рань? – Арт распустил поясок моего халата. – Нам что, делать нечего? Что мы, парашютистов не видели?
Я знала, что ему тоже тревожно. И впервые по-настоящему поверила, что это может оказаться наша последняя ночь.
– Сначала я пойду и почищу зубы (Господи, мне страшно! Почему мне так страшно?).
– Да. Это святое.
Потом мы были вместе, и пока мы были вместе, я ничего не боялась. А тем временем пустой на три четверти отель «Севастополь-Шератон» начал оживать. Смотровая площадка под окном пятью этажами ниже заполнялась персоналом в красных униформах и постояльцами в фирменных халатах. Все смотрели на запад, где за темной черточкой советского транспортника тянулось многоточие розовых пятнышек – парашютных куполов, подсвеченных утренним солнцем.
Вторжение началось ровно в четыре часа по Москве. Высадка парашютного десанта в Севастополе и в самом деле была не более чем шоу: настоящие силы высаживались с тяжелых транспортников и вертолетов в Симфи, Саках, Сарабузе и Сары-Булате, с военных транспортных кораблей в Альма-Тархане, Керчи и Феодосии. В восемь утра мы стояли на перекрестке Нахимова и Благовещенской, пропуская колонну бронетехники из Симферополя. Я помню, как Арт улыбнулся, нажимая на клаксон. Это была скверная улыбка.
Вслед за нами загудела вся пробка – небольшая в такую рань. Кто-то выскочил из машины и начал фотографировать, кто-то махал красно-белыми флажками… Арт не двигался с места, только давил на гудок и улыбался. Мне снова стало страшно – но тут колонна кончилась, и мы вырулили на Благовещенскую, а потом – на качинскую трассу.
Эта церковь называется в обиходе «Святой Себастьян на скалах». Она действительно стоит на скалах, венчая невысокую горку. У подножия горки дорога троится: одна трасса ведет в близкую Качу, другая сворачивает к Бахчисараю, третья следует береговой линией до станицы Николаевской.
Арт не поехал ни по первой, ни по второй, ни по третьей. Он свернул на узкую двухполоску, которая двумя изгибами поднималась к храму.
– Я думала, мы поедем в магистрат.
– Брак зарегистрирует сам отец Андрей. Я договорился.
Класс. Он договорился.
– Скажи, а вот если бы я отказала тебе вчера, ты что бы делал?
– Позвонил и дал отбой.
Здорово. Ты думаешь, что у тебя есть выбор, а за тебя кто-то звонит и договаривается. А если выбор все-таки есть, дает отбой.
Это важно понимать – что Арт планирует эти вещи так же, как планирует экспедиции, – ну, если, конечно, на него не валятся форс-мажоры и не требуют импровизации. И я знаю десятки женщин, которые были бы готовы ему за это ноги мыть и воду пить, которые всю жизнь мечтали, чтобы с ними поступили именно так: ой, колечко, ой, номер в Шератоне, ой, да он уже и со священником договорился. А мне хотелось кричать, тем громче и выше, чем выше поднимался «хайлендер» по серпантину.
Арт припарковался на небольшой площадке между церковной оградой и старым серым «турбо-суздалем» – наверное, священника. Здесь было хорошо – ветер, тишина и покой, далеко внизу – море, далеко вверху – небо, и римский кентурион Себастьян между далью и далью, синью и синью, истыканная стрелами грудь выпирает, как форштевень. Прекрасный архитектор построил этот храм, и прекрасный скульптор к нему руку приложил. Вот только внутрь совсем не хотелось.
– Тэмми, что тебя смущает? Что это католический храм? Ну прости – я никого из православных священников не знаю настолько коротко, чтобы договориться о венчании за полчаса.
– Да перестань, я вовсе не об этом…
– А о чем? – Он вышел из машины. – Тэмми, времени очень мало…
Я тоже вышла из машины и присела на парапет.
– Ты решил за меня.
– А. Да. Есть немножко. Но ведь ты согласилась выйти за меня, и я решил, что сам характер церемонии тебе не важен.
– Он важен тебе. Исповедь и причастие, так? Тебе нужно исповедоваться и причаститься.
– Я никогда не скрывал, что для меня это… значимо.
Глаза у него карие, но с зеленоватым ободком, как медная патина.
– Но ты приносил эту жертву.
– М-м, я бы не назвал это жертвой. Есть люди, для которых отношения с Богом действительно настолько важны, что они отказались бы от… отношений. Я не из них. Ты важней. Mea maxima culpa, – он постучал себя в грудь и сделал щенячьи глаза.
Вот это стало последней каплей. Он каялся – и тут же пытался манипулировать мной.
– Но именно сегодня ты не можешь так больше, да? На что ты решился, Арт? Что ты будешь делать? Брак, исповедь и причастие – ты что, умирать собрался? Арт, за то время, что мы с тобой вместе, ты дважды ходил на восьмитысячники. Один раз ты вернулся с поломанной ногой, а Шамиль – без восьми зубов. В другой раз ты рисковал собой, спасая Берлиани…
– Честное слово, не так уж и рисковал…
Я подняла палец.
– Ты рисковал достаточно сильно, чтобы Гия свернул в трубочку свой метровый язык. Там было что-то серьезное, иначе он бы расхвастался, как обычно.
– Пострадало только его самолюбие.
– Я не закончила. Ты рисковал, Арт, но притом не давил на меня, за что тебе спасибо. А сейчас ты давишь. Значит, собираешься рискнуть еще серьезнее.
– Тэм, вторжение началось. Все мы рискнем еще серьезнее. Даже те, кто не собирается. Поэтому да, мне хотелось бы наладить отношения с верховным командованием. Ну, должен же у меня быть какой-нибудь недостаток, дай мне побыть фарисеем.
Если я что и поняла за два года с ним – это то, что никакой он не Спок. Его перфекционизм, педантизм, снобизм и сарказм – защита от страха и боли, и эта броня до ужаса прозрачна для тех, кто уже видел его голым. Когда он явно нервничает, злится или подавлен – беспокоиться не о чем, но если он начинает хладнокровно планировать, улыбаться и шутить при этом – готовь костюм химзащиты, потому что придется выгребать по шею в самом густом говнище.
Это не я, это Шэм Сандыбеков так высказался однажды.
И вот Арт стоит передо мной, улыбается и паясничает, и я понимаю, что нужно готовить химзащиту.
– Арт, ты вот собираешься дать мне клятву на всю жизнь. И смотришь мне в глаза при этом и врешь. Ну ладно, недоговариваешь. Что ты намерен делать? Вот прямо сейчас, когда мы выйдем из этой двери мужем и женой?
– Пообедать.
– А потом?
– Потом я оставлю тебя в мотеле с хорошей книгой и поеду разведать, что происходит в расположении части.
– Арт, а ты ни о чем не забыл? Вроде как, например: я тоже офицер и тоже не знаю, что делается в расположении моей части. И моя увольнительная закончится через четыре часа.
Он сел рядом, приобнял меня за плечо, посмотрел на дорогу, откуда уже давно доносился звучный рокот моторов и траков: парашютно-десантная часть, которой мы сигналили на перекрестке, теперь катилась по береговой трассе.
– Тэм, поверь, это не лучший вариант.
– Кажется, ты не можешь предложить мне лучшего. Уйти в бега? Я не хочу, Арт. Я не собираюсь бегать и прятаться на своей земле.
– Я тоже. Поверь мне, я тоже.
– Что же ты будешь делать, пока я сижу в мотеле с хорошей книгой?
– Разведать, как дела в батальоне.
– А потом? Арт, скажи мне правду. Скажи, и я сделаю, как ты просишь. Пойду с тобой в эту церковь и в мотель.
Он повернулся ко мне лицом и, не сморгнув, проговорил:
– Я собираюсь хладнокровно и преднамеренно убить восемь-десять человек, и развяжу на Острове кровавую баню. Ты со мной?
Мне бы, дуре, поверить ему в тот момент. Войти с ним в эту прохладную церковь и кадилом каким-нибудь подходящим или молитвенной скамеечкой врезать по загривку да оставить тут, под присмотром доброго батюшки.
Или наоборот – последовать за ним.
Скверней всего то, что в обоих случаях ничего, по большому счету, не изменилось бы. В частности, потому, что ракета, уничтожившая вертолет моего командира, уже болталась на подвесах советского истребителя.
Но я решила, что сарказм Арта перешел все допустимые пределы, что он просто хочет завернуть меня в вату, как другие мужчины до него.
Съездила ему по щеке, швырнула в него кольцо и пошла по серпантину вниз, навстречу своей судьбе, которая сегодня с утра стала нашей общей.
Вдоль по Слащева стелился белый вихрь: облетала черешня. Надувной Рональд Макдональд рвался с привязей под треск флагов. Недавно открытая американская закусочная блестела, как операционное отделение Бахчисарайской земской больницы.
Он нашел там почти весь свой «клуб самоубийц».
– Ну наконец-то! – сказал Князь. – Эта бутербродная себя на год вперед окупила – столько мы сожрали, пока ждали тебя… Не мог назначить в приличном месте…
– Здесь не подают спиртного – значит, красные не заглянут, – пояснил Арт.
Они расселись по машинам: четверо – к Верещагину, трое – к Князю. Один должен был подъехать прямо на квартиру.
Греческий квартал словно вымер – все побежали в центр, на Севастопольскую улицу, смотреть на проход советских войск.
…Зайдя в квартиру, Верещагин достал что-то из кармана джинсов и небрежно положил на книжную полку (они были даже в прихожей). Это заметил только Георгий. И только он заметил, что Арт не просто спокоен, а несколько мрачен.
– Царица? – тихо спросил Князь.
– Заткнись, Гия. Давайте садиться, господа. Шэм, запри дверь. Извините за недостаток посадочных мест, на такой кворум квартира не рассчитана. Берите подушки с дивана и рассаживайтесь на полу, кто хочет.
– Может, сначала дождемся гостя?
Верещагин посмотрел на часы, взял с полки кистевой эспандер. Козырев полез в холодильник.
– Кэп, я смотрю, у вас яйца есть… – начал Козырев. – Что вы ржете, сигим-са-фак?
– Это истерика. – Верещагин сам с трудом удерживал смех под контролем. – Есть, Володя, есть.
– В холодильнике! – На хохочущее офицерство это подействовало совсем деморализующе. – Три яйца, черт вас возьми, похабники! Капитан, можно их сварить?
– Ты же из «Макдоналдса», – удивился Верещагин.
– Он бургеров не ест, фигуру бережет, – пояснил отсмеявшийся Томилин. – Боится лошадке Басманова хребет сломать…
– Этой корове сломаешь, – весело отозвался Козырев.
Оптимизм поручика помог-таки поднять голову над трясиной уныния.
– Шамиль, Сид, что там у нас в батальоне?
– Наших согнали на футбольное поле в учебно-тренировочный комплекс…
– У советских поразительное пристрастие к спортивным сооружениям, – отметил Томилин.
– Легко использовать и охранять, – пожал плечами Верещагин. – Это еще Пиночету нравилось. Главное – чтобы Новак сделал свое дело. Нам нужен будет тактический центр…
– А телевышка, судя по передачам, еще не занята, – заметил Козырев.
– Паршиво будет, если мы влезем туда как раз одновременно с ними. Или если они нас обгонят, – сказал Берлиани. – А техники? Ты думаешь, мы сами сможем запустить в эфир это дело?
– Техники…
Верещагина перебил звонок в дверь.
– Ага, это, кажется, они…
Арт метнулся в прихожую. Князь потихоньку достал свою «беретту».
– Кто там?
– Простите, господа, мне нужен господин Верещагин. Это по поводу штурма Южной стены Лхоцзе.
– И как же вы собираетесь штурмовать гору?
– Э-э… По восточному контрфорсу, – последовал ответ.
– Войдите, – Верещагин открыл замок.
На пороге стоял типичный керченский амбал (почему-то считалось, что самые здоровенные грузчики водятся в Керчи). Ростом под два метра и такого размаха в плечах, что Верещагин усомнился в возможностях своего дверного проема.
Как выяснилось, зря. Парень легко преодолел дверь, подал капитану лапищу, между пальцами которой была зажата офицерская книжка.
– Штабс-капитан Кашук. – Детинушка продублировал голосом то, что было написано в книжке. – Батальон связи спецвойск ОСВАГ.
Верещагин вернул амбалу книжку и пожал протянутую ладонь. Князь спрятал «пушку», остальные облегченно вздохнули.
– Капитан Верещагин, – представился хозяин квартиры. – Капитан Берлиани, штабс-капитан Хикс, прапорщик Даничев, подпоручик Козырев, поручик Томилин, младший унтер Сидорук, ефрейтор Миллер, старший унтер Сандыбеков.
– Очень приятно, господа. – Кашук умостился в кресло, которое до него занимал Верещагин. – Ну у вас и пароль. Ничего смешнее нельзя было придумать? Например, «У вас продается славянский шкаф?»
– Остроумно, – холодно сказал Верещагин.
– А в принципе вы хоть что-нибудь о конспирации слышали?
Арт не счел нужным объяснять,
– Вы получили кассету?
Верещагин пошуровал рукой в сумке, достал две запечатанные видеокассеты.
– А почему две?
– Объясню на месте.
Кашук воздвигся во весь рост.
– Погодите, ваше благородие. Кажется, вы знаете больше меня…
– А вас это смущает?
– Смею вам заметить, что из всех присутствующих только я выполняю непосредственный приказ начальства. А вы все – привлеченные добровольцы.
Князь тоже поднялся. В ширину он не уступал осваговскому детинушке, хотя был на полголовы короче.
– Кто бы мы ни были, господин Кашук, – когда Князь волновался, в его голосе прорезались кавказские интонации, – мы тут соблюдаем воинскую субординацию. И подчиняемся капитану Верещагину. Поэтому не надо вести себя так, будто вы тут уполномочены руководить операцией. Вы – ценный, хотя и заменимый, технический специалист. Ваше сотрудничество играет большую, но не решающую роль.
– Осмелюсь добавить, – тихо сказал Верещагин, – что сейчас мы менее всего заинтересованы в слепых исполнителях приказа. Здесь все добровольцы.
– Как в восемнадцатом… – шепнул Даничев.
Да, подумал Верещагин, как в восемнадцатом. Господи ты боже мой, он же не застал турецкую, он же совсем зеленый, он не знает, как это – убивать человека…
Ему хотелось надавать Даничеву по загривку и вышвырнуть из квартиры. Но на счету был каждый, и Арт только кисло улыбнулся прапорщику.
…«Rent-a-carport» на окраине Бахчисарая. Артем бросил взгляд в зеркало заднего обзора, потом осмотрелся по сторонам. Пустынно и тихо. Отлично. Просто замечательно.
В глубине гаража стоял советский армейский ГАЗ. Козырев присвистнул. Верещагин запрыгнул в кузов, запустил руку в глубь накрытого брезентом ящика, что-то звякнуло.
– Ну, и мы с собой кое-что принесли, – слегка обиженно сказал Князь.
– Этого даже у вас нет, – Арт вытащил автомат. – АКС-74У.
– Я бы предпочел классическую модель, – Томилин принял из его рук оружие. – У этих и дальность, и точность прихрамывают.
– А что еще там у тебя? – спросил Князь. – Набор лазерных мечей?
Следом на свет появилась аккуратная связка курток и брюк.
– Прыжковый костюм десанта образца 1973 года, – сказал Арт.
– Hell’s teeth! – изумился Хикс. – А знаки различия?
– А их и не должно быть… В сумке у меня, кстати, документы.
– А чего вся такая обшарпанная? И ботинки стоптаны… Секонд разорили?
– Новенькая, с иголочки, обувь привлекла бы внимание, – снисходительно пояснил Кашук. – И форма, и обувь должны быть ношеными.
– Самое большое подозрение может возбудить знаете что? Что мы будем трезвыми.
– Дело, как говорится, поправимое.
– А это что – пластит? – Козырев заглянул в железный ящик. – Килограмма три. И взрыватели. Вибрационные, радиоуправляемые, контактные, часовые…
– Bay! Пулемет!
– Гранат советских я здесь что-то не вижу…
Кашук воздел глаза к потолку.
– Вы хоть представляете себе, как было сложно обеспечить хотя бы это? – осведомился он.
– По гроб жизни будем благодарны ОСВАГ и вам лично… – елейным голосом сказал Князь.
– Быстрее переодеваемся, – перебил его Верещагин. – Если мы их опередим, возможно, удастся обойтись без драки.
– А мне как раз хочется подраться, – вздохнул Даничев.
– Капитан… – обиженно сказал Кашук.
– Старший лейтенант, с вашего позволения. В чем дело, прапорщик Кашук?
Осваговец открыл рот, но забыл, что хотел сказать.
– Быстрее надевайте форму, прапорщик, – Верещагин снял рубашку. – У нас очень мало времени. Ваши трения с сержантом Берлиани должны закончиться здесь и сейчас. С этого момента вы – лучшие друзья. И называете друг друга «братишка».
– Это обязательно? – сдавленным голосом спросил Берлиани.
– Да, Гия. Обязательно. Давай порепетируем. Попроси прапорщика Кашука передать тебе твой подсумок.
– Я тебе… вам это припомню… товарищ старший лейтенант, – сказал Берлиани.
– Если будем живы, – согласился Верещагин. – Я жду.
Берлиани прочистил горло, смерил Кашука убийственным взглядом.
– Братишка… – процедил он сквозь зубы. – Подкинь мне патрончики.
– Всегда пожалуйста, – осклабился Кашук, протягивая сумку.
– Плохо, – покачал головой Артем. – Будем тренироваться.
Полковнику Кронину не давало покоя совещание, которое он застал в конференц-зале при спущенных шторах.
Войдя в свой кабинет, он нажал кнопку селектора и приказал дежурному офицеру вызвать весь офицерский состав.
Когда офицеры собрались, полковник убедился в справедливости своих подозрений.
– Где Хикс? Козырев? Даничев? Томилин?
– Не могу знать, сэр, – отозвался Ставраки. – Утром они просто не явились в расположение.
– А должны бы знать, господин подполковник. Они ваши подчиненные, и вчера меня насторожило их внезапное собрание, в котором зачем-то приняли участие Козырев и Новак.
– Новак на месте, – заметил прапорщик Муслимов.
– Арт никогда не был сторонником интеграции, – добавил штабс-капитан Шевелев. – Возможно, он уговорил друзей не появляться в полку… пока все не прояснится. Или вообще не появляться.
Полковник вздохнул. С одной стороны, конечно, лошади становится легче, когда леди покидает дилижанс, а с другой…
– Хорошо бы так, – сказал он. – Господа офицеры, по последним сведениям, поступившим в тактический центр, крымские военнослужащие после сдачи подвергаются изоляции. Правомерно ожидать чего-то подобного и в отношении нас. Пусть для вас не будет неожиданностью, если к вам станут относиться как к военнопленным. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я понимаю, в какую фикцию превращается в таком случае присяга, и не настаиваю на безусловном ее исполнении. Иными словами, тот, кто хочет, может уйти из батальона, как вышепоименованные господа. Дезертирством это считать я не буду.
Пауза, застывшая после этих слов, хрустнула сухим голосом поручика Шмидта:
– Вы оскорбляете нас, ваше высокоблагородие.
– Мы – офицеры «форсиз», – подытожил подполковник Ставраки. – И останемся ими до тех пор, пока Крымская армия существует. Давайте считать эту тему закрытой.
– Alright, – согласился Кронин. – Тогда приказ на сегодня: собрать личный состав и разъяснить им все, что я сказал вам здесь. И, как бы вам это ни было противно, повторить прозвучавшее здесь предложение. После чего приступить к обычным дневным обязанностям. То же самое разъяснить второй роте, когда она вернется из тактического центра для отдыха.
Дальше все пошло своим порядком. Офицеры собрали унтеров, те – солдат, в двух словах была обрисована общая картина и встречена нижними чинами с некоторым недоумением: ясное дело, советские коллеги должны будут на время поместить их в специальные учебно-тренировочные центры, чтобы дать возможность овладеть хотя бы самыми примитивными навыками солдат СССР. Опять же, заменить форму, переформировать, может быть… И какой дурак в такой ситуации будет сопротивляться?
С этим недоумением солдаты и разошлись – на учебу, на стрельбы, на отдых…
Центром оперативной информации стал КПП, где солдаты, несшие дежурство, слушали радио. Под «Smoke on the water» расчертили листик из унтерского блокнота, достали кости и, благословясь, начали партию в американский покер.
Около одиннадцати утра передали, что советские уже в Бахчисарае.
В глазах проигравшего в пух и прах рядового Костюченко затеплилась надежда.
– Вот сейчас здесь будут… – сказал он. – И не доиграем…
– Бросай, – рядовой Хесс подтолкнул ему стаканчик с костями. – Меньше работай языком, больше руками.
Время шло, а надежды Костюченко не оправдывались. Он уже был должен Хессу тридцать четыре тичи, Смирнову – восемь и Андронаки – двенадцать с половиной, когда на дороге, петляющей между холмами, показалась голова советской танковой колонны.
Быстрее танков в батальоне оказались советские БМД, ехавшие от Лакки. Свернув с дороги, машины начали окружать базу. Из люков выскакивали «голубые береты» и, рассыпаясь цепью, двигались к батальону короткими перебежками, время от времени залегая с оружием.
– Чего это они? – удивился Костюченко.
– Ты не отвлекайся, ты бросай.
Момент был драматический. После двух бросков у Костюченко имелась на руках пара шестерок. Столбики пар и троек уже полностью закрылись, спасти рядового могло только каре.
Костюченко принялся сосредоточенно громыхать костями в стаканчике.
– Паркинсон, – буркнул Хесс.
– Нервная дрожь, – поправил его Андронаки.
Костюченко шмякнул стаканчик донышком вверх, затаил дыхание, открыл кости…
– Ты гляди – покер! – поразился Новак.
Рык БМД приблизился и замер метрах в двадцати от КПП.
– Эй, на посту! – раздался крик со стороны советских. – Выходи по одному без оружия! Считаю до десяти, потом открываю огонь на поражение!
– Серьезные парни, – по-английски сказал Хесс.
– Раз… Два…
Новак, не вынимая сигары изо рта, вышел с поднятыми руками. За ним – Хесс, Андронаки, Смирнов и Костюченко.
От цепи БМД шло человек десять «голубых беретов».
– Ты не забудь, Костюк, с тебя сорок, – сказал Смирнов.
– А в пересчете на рубли? – тихо спросил Костюченко.
– Shut up! – рыкнул Новак.
«Ужасы тоталитаризма» мы себе воображали убого: многомиллионные лагеря за колючей проволокой, сырые застенки КГБ, оснащенные по последнему слову палаческой техники, многочисленные патрули на улицах и вездесущих стукачей, одетых в плащи и непременные шапки-ушанки.
Многие потом потрясались: отчего последовал социальный взрыв, ведь крымцы были готовы к аншлюсу и представляли себе его последствия!
Нет, не представляли. Мы все-таки рациональные люди, и наше воображение опиралось на логику. Мы понимали, что, скорее всего, советские власти не захотят положиться на добрую волю пятидесяти тысяч вооруженных мужчин и женщин. Возможно, нас отправят по домам или даже посадят под домашний арест в казармах. Обидно, досадно – однако логично.
С тем же успехом логики можно ждать от Королевы Червей. У жителей Чудоземья вместо логики идеология, и согласно этой идеологии мы, Крымская армия, не можем не захотеть с ними драться – мы же недобитые беловардейцы. Поэтому нас нельзя ни распустить по домам, ни изолировать в казармах. Нас нужно вывезти на материк как можно скорее. Но логистика, проклятая логистика! Пятьдесят тысяч человек – не пятьдесят тысяч долларов, которые можно увезти в чемодане. Нас нужно где-то собрать в кучу, чтобы затем маршем прогнать до Севастополя, Керчи и Альма-Тархана, загнать на суда и переправить на континент. Там, где мы будем подальше от нашей техники и нашего оружия.
Подумать о том, как эти места оборудованы для приема большого количества людей? О еде, воде, пардон, сортирах? Да зачем, все ведь решится в течение одного дня. Ну, двух.
Короче, они сделали все, чтобы нам захотелось драться. Все и больше.
…Крымские егеря, в принципе, были готовы к тому, что их повяжут – «интернируют», как они выразились. Более или менее они были готовы к тому, что офицеров изолируют и запрут на гауптвахте. Скорее менее, чем более, они были готовы к тому, что им не позволят под честное слово остаться в казармах, а сгонят на огороженную сеткой футбольную площадку. Почти не готовы они были к тому, чтоб в течение ближайших суток обойтись без пищи и воды. И уж совсем они были не готовы к тому, что им не позволят удовлетворять одну из самых базовых человеческих потребностей в специально отведенном для этого месте. Проще говоря, им не позволят пройтись тридцать метров до сортира, устроенного в учебно-тренировочном комплексе, чтобы тренирующимся не пришлось бегать в казарму.
– Вас тут четыреста человек народу, – пояснил советский десантник унтеру Новаку, выдвинутому солдатско-унтерским составом в качестве парламентера. – А нас – сорок. Если каждого водить в сортир под конвоем, мы тут все ноги собьем. А воды вам и не надо: меньше будете ссать.
В ответ на предложение отпускать всех под честное слово советский лейтенант только рассмеялся и посоветовал оправляться на месте.
Крымцы были возмущены не столько оскорбительной сутью предложения, сколько выказанным недоверием. Ведь никто из них не собирался бежать, они согласны были примириться с изоляцией на этом пятачке, огороженном сеткой, с отсутствием пищи, с пренебрежительным обращением… Но недоверие их обижало. Разве присоединение к СССР не было доброй волей Крыма? Разве крымские «форсиз» в целом и егеря в частности проявили при сдаче хоть малейшие признаки экстремизма и конфронтации? Они полностью доверились советским солдатам – почему же те не хотят доверять им?
Новак прикинул обстановку. Дренажные люки представлялись единственным выходом из положения, но дело осложнялось солнечной погодой и постоянно увеличивающейся температурой. Скоро здесь просто будет нечем дышать.
– Петр… – обратился кто-то к Новаку, – они не могут так поступать…
– Когда они входили в Чехословакию, – осклабился унтер, – они это делали прямо в подъездах. Дренажная система, по-моему, все-таки лучше.
Прогнозы унтера оправдались. Через час над стадионом распространилась неописуемая вонь, и Новак, как ему было ни горько, внес в это свою лепту, ибо деваться некуда. Он, правда, на минуту подумал о том, чтоб отлить на столбик ограды, в самой непосредственной близости от сапог советского солдата, но отказался от этой мысли.
Некоторым утешением крымцам могло послужить то, что советские солдаты тоже не особо комплексовали. В их распоряжении был, правда, учебно-тренировочный сортир, но, поскольку было жарко, большинство десантников в неимоверных количествах поглощали пиво, которое через некоторое время требовало выхода. Посадочных мест в сортире было шесть, а желающих воспользоваться услугами заведения – гораздо больше. В результате стены из ракушечника скоро украсились живописными (хм!) потеками.
Новак сидел на горячем тартане, подстелив под себя куртку, и курил сигарету за сигаретой. Время от времени он окидывал поле взглядом и определял градус, до которого раскалилась людская масса. В тесноте, в жаре и вони эта масса довольно быстро приобрела характер критической. Под влиянием температуры шло броуновское движение умов. Новак криво улыбался: похоже, ротный прав. Еще немного – и они созреют. Как бы потом не пришлось сдерживать их, остужая самые горячие головы.
Его отделение гужевалось неподалеку. Четверо бывших караульных продолжало игру в кости, Вайль и Швыдкий слушали радио (тихонько, чтоб не привлечь внимания часовых), Вашуков лежал на спине и, похоже, спал, Ганжа и Искандаров принимали участие в оживленной дискуссии вокруг Идеи Общей Судьбы.
Новак еще раз окинул поле орлиным взглядом и углядел очаг начинающейся истерии. В руках товарищей по отделению Мясных и Меджиева бился рядовой Белоконь. Силовой захват и болевой захват не могли обездвижить и обеззвучить его полностью, так что он местами дергался и хрипел:
– Пустите, гады! Let me go, you bastards!
– Что случилось? – небрежно спросил Новак у коллеги, унтера Лейбовича.
– Этот кретин собирается лезть через забор и бежать в городок. Ему показалось, что он слышал там крик жены…
Сам Лейбович тоже держался несколько напряженно.
– А он соображает, что его просто застрелят?
– Он сейчас ничего не соображает…
Сквозь толпишку, сгустившуюся уже довольно плотно, продрался рядовой Масуд Халилов с пластиковым пакетом, полным воды из фонтанчика – один источник влаги тут все-таки был, слава Богу! И Халилова даже пропустили без очереди, узнав, что вода для обморочного приятеля. Пакет был вылит на голову Белоконя, и тот притих. Осторожно и медленно егеря разжали руки, Белоконь опустился на колени и разрыдался.
– Хватит реветь, придурок, – процедил Новак. – Не у одного тебя там баба.
– Ага, – прохрипел Белоконь. – Ты свою вывез!
– Потому что был чуть-чуть умнее тебя.
Новак оглядел всех собравшихся.
– Вот так и будем тут торчать, пока нас всех не погрузят в трюмы и не отправят в Союз, да? Или кто-то еще верит в сказочку про то, что советские солдаты возьмут нас в переподготовку?
Он швырнул окурок на землю и смачно растоптал.
– Я видел, как они ведут себя. В шестьдесят восьмом. Тогда я от них убежал. Но больше бегать не собираюсь.
– А что ты собираешься, Новак? – заорал Лейбович. – Что ты собираешься, такой умный? Ну-ка просвети нас!
– Не ори, Сол. Пока вы ссали в дренажную систему, я взял один квадрат резины и положил на один дренажный люк. Ближе к краю. И сел на него. После темноты можно будет поднять решетку и попытаться выйти наружу.
Солдаты переглянулись. Дренажная система выходила в бетонный желоб на крутой, но не отвесной стене под автобаном. Высота метров пять, при известной сноровке можно легко спуститься и в темноте.
– Все не выберутся, – после полуминутного молчания заметил ефрейтор Валинецкий.
– А всем ли надо выбираться? – оскалился Новак. – Может, кому-то и здесь неплохо? Может, кто-то на все готов ради Общей Судьбы?
– Хватит трепаться, чертов чех! Что ты собираешься делать?
– Поднять своих «нафталинщиков». И если ты, чертов поляк, пойдешь со мной, у нас будут целых два отделения… Захватим оружейный склад и вдарим по здешнему конвою. А в это время остальные начнут холитуй здесь…
– С чего ты взял, что «нафталин» поднимется?
– Вечером прозвучит «Красный пароль».
– Не засирай мне мозги! Кто его передаст?
– Капитан обещал мне, что вечером пройдет «Красный пароль».
– А как он это сделает? Он что, Господь Бог? – спросил какой-то рядовой из первой роты.
– Он – наш ротный, – ответил за Новака Искандаров. – Он сделает то, что обещал.
– Это же война… – робко сказал кто-то из солдат.
– Война! – подтвердил Новак. – А ты думал, хрен собачий, что это пикник? A li’l party on а sunny day? Конечно, война. И нам придется воевать, если мы не хотим сгнить тут в своем дерьме… За каким шайтом вы записывались в армию, если не собирались воевать? Чтобы пощеголять в красивой форме?
– Офицеры, – напомнил Лейбович.
– Офицеры сейчас – мы. Ну, кто как? Или я бегу один?
– Не один, – Лейбович протянул ему руку. – Я вот что подумал: если «нафталинщики» откажутся идти, то и шут с ними. Мы прихватим парочку отделений отсюда и просто заберем у наших полуштатских оружие.
– Начинаем понемножку, с Богом… – Новак сверился с часами, – в половине десятого. Вернемся сюда, я думаю… где-то в полночь. Надо все продумать как следует. Кто идет, кто остается в команде прикрытия, как действовать, по какому сигналу…
– Тихо!!! – крикнул кто-то из рядовых. – Тихо!!! Они… Они убили командира «эйр-форсиз»!
Лагерь всколыхнулся, люди сгрудились вокруг тех, у кого были приемники. Хозяева маленьких «Сони», «Панасоников», «Рапанов» и «Кенвудов», утаенных от конвоя, крутили настройку, стремясь поймать новости «Радио-Миг», идущие каждые полчаса. Полчаса висела напряженная тишина, лопнувшая потом яростными криками.
Теперь Новаку пришлось сбиваться с ног, решая другую задачу – успокоить всех до темноты…
«Арабы верят людям, а не социальным институтам».
Крымцы, в общем, тоже.
Мы верили тем, кто возглавлял движение за интеграцию. Верили нашим пушистым белым кроликам, поманившим в Чудоземье.
Всех их переловили, обрили ушки и усики, отправили в Москву. Мы этого не видели, эту операцию проводили умелые шестерки со стертыми лицами, подальше от глаз восторженной общественнности.
Но вот с одним кроликом нехорошо вышло. Его взорвали на глазах у тысяч людей, а еще миллионы увидели этот взрыв по телевизору.
И тут многие призадумались, и даже у самых восторженных поубавилось восторгов. Нет, потом, конечно, говорили, что он виноват сам, что спровоцировал, что летал и долетался… Но таких безнадежных было сравнительно мало. Мы все-таки не привыкли, чтобы вот так. Мы продолжали считать наше небо – нашим.
– Факимада, – прошептал Шамиль, глядя, как на экране вспухает багровое облако, секунду назад бывшее «Дроздом» командира «эйр-форсиз».
Остальные молчали.
Мерцали окна контрольных мониторов. По московскому каналу транслировали какой-то фильм. Татарское телевидение передавало спортивную программу.
– Кашук, – сказал Князь, – ты записывал?
– Да.
– Прокрути это еще раз. Прокрути по всем каналам, чтобы все увидели…
– Нет, – отрезал Верещагин.
– Что значит «нет», Арт?
– «Нет» означает «нет». Отпусти меня, пожалуйста. Это все равно, что вывесить на телевышке триколор. Один раз это увидели по ТВ-Миг, достаточно.
– Ни хрена не достаточно! – прорычал Берлиани. – Мы зачем сюда пришли? Чтобы отсидеться или чтобы поднять Крым? Вот то, что может поднять Крым, Верещагин!
– У нас другая задача, Гия. Дождаться «Красного пароля». Если его не будет – передать самим. Точка.
– Капитан, – осторожно начал Даничев, – что мы будем делать теперь, когда убит главком?
Строго говоря, главкомом «форсиз» был генерал Павловский, но Главштаб взяли под контроль сразу же, а всех находившихся там офицеров вывезли в Москву первым же бортом. Командующий ВВС был единственным офицером Главштаба, оставшимся на свободе, – и по Уставу командование переходило к нему.
Арт на секунду задумался, вспоминая, кто в цепочке командования следующий.
– Да, это проблема…
– Кой черт «проблема»! Это полный crush! – Хикс швырнул свой краповый берет об пол.
– Нет, Миша, это именно проблема. Я уже думал об этом, – Верещагин беспощадно терзал кистевой эспандер.
– Ну так перестань дрочить и поделись своими драгоценными мыслями! – взорвался Князь.
– Хорошо, ваше благородие, – Артем отложил эспандер. – Согласно Уставу, после смерти или ареста главнокомандующего генерала Павловского, начштаба ВСЮР Каледина и так далее старшим становится командир Марковской дивизии полковник Волынский-Басманов. Он, скорее всего, арестован, за ним следует командир нашей, Корниловской, полковник Адамс.
– То же самое, – буркнул Томилин.
– А вот и нет. Адамс дежурит сегодня в тактическом центре, а ТЦ они еще не заняли.
– Ну так займут через минуту или через час.
Артем покачал головой и поднял телефонную трубку.
Командный бункер тактического центра Чуфут-Кале застыл в молчании. Дежурные офицеры штаба смотрели на командира дивизии, а тот – на «заснеженный» экран, где еще секунду назад было лицо друга, а полсекунды назад – вспышка.
– Bastards, – наконец прошептал Адамс.
– Сэр, на связи Бонафеде, – сообщил прапорщик Чешков.
– Да, – Адамс взял наушник.
– Дуг, у меня на прицеле их линкор. – Командир ракетной базы береговой обороны говорил ровно, как всегда. – Шваркнуть по нему?
– Не сходи с ума, Алекс, – глухо сказал Адамс. – Поздно… уже поздно…
Он опустил наушник на пульт и закрыл глаза. Через полминуты заговорил – медленно, словно читал под вéками бегущую строку.
– Сережа, свяжитесь с базами «Ковчег». Отдайте распоряжение от моего имени: укрыться по схеме «полная защита», не выходить на контакт с советскими частями, ждать дальнейших указаний. Ян, вызовите Бонафеде еще раз… Нет, не надо… Вызовите батальон РЭБ. Питер, вызовите штабы дивизий…
– Батальон РЭБ звонит, сэр!
Адамс поднял наушник.
– Сэр! – В дверях возник запыхавшийся охранник. – Прибыл советский командующий дивизией генерал Драчев!
– Очень приятно, – Адамс отвернулся от микрофона. – Не впускать!
Лицо унтера вытянулось.
– Что не ясно? – крикнул капитан Замятин. – Режим защиты, сэр?
– Пассивный! И не дергать меня!
Черный красавец «мерседес» блестел у массивных ворот тактического центра Чуфут-Кале. Все его нутро пахло свежей натуральной кожей, руль был красиво оплетен ею же, и под руками советского генерала она поскрипывала так тихо и приятно, будто пела… Генералу, конечно, положен водитель, но такую машину грех не поводить самому… А магнитолка! А кондиционер! Какой все-таки хороший сегодня день, мама дорогая! Как легко все удается, как весело складывается! Крымцы не сопротивлялись ни черта: сами, как зайчики, собрались на стадионах, сидели там смирненько… И кого мы только шестьдесят лет бздели, с кем готовились воевать! Можно просто приходить на базу, отдавать приказ, и они все сделают сами…
Экономилась масса времени и сил. Так было время с расстановкой побродить по симферопольским автосалонам и поискать то, о чем давно мечталось, – «мерс», последнюю модель со всеми модными феньками. И только после этого генерал Драчев поехал на «мерсе» принимать сдачу у командира Корниловской дивизии.
Сначала все было как положено, их остановили на КПП и белогвардеец-сержант доложил по селектору. Драчев был в легком раздражении: мог бы и сразу пропустить – в конце концов, на этой базе хозяин теперь он, советский генерал. Ладно, если беляку так охота потешиться, построить из себя напоследок чего-то там, то шут с ним…
Генерал посмотрел на часы.
– Однако! – сказал он вслух.
Половина второго. А на три его пригласил обедать мэр Бахчисарая. И с обеда нужно сразу ехать на ужин к мэру Ялты.
…Массивные ворота тактического центра Чуфут-Кале ожили, створки поползли навстречу друг другу под рык сервомоторов.
– Не понял… – сказал Драчев.
Часовой посмотрел на него с удивлением. Он тоже ничего не понял…
– Что вы там делаете? – спросил полковник Адамс, заметно волнуясь.
Ответ остался неизвестным, но полковник разволновался еще больше.
– Когда? – спросил он, дождавшись окончания довольно длинной реплики.
На сей раз ответ был коротким.
– Я даже не смогу снять с вас голову, если вы соврали, – сказал он. – Почему не сейчас, черт возьми?
Длинный ответ.
– Клаузевиц, мать твою, – сказал полковник в сторону. – Да, в этом есть резон. Но вы меня не убедили. Я приказываю вам сделать это сейчас.
На этот раз собеседник прокричал свой ответ, так что услышали двое дежурных офицеров:
– Сейчас – это невозможно, это полный крах, это гибель! Я не могу вам сейчас объяснить, просто поверьте и не сдавайтесь! Запритесь в командном центре и попробуйте продержаться до десяти вечера!
– Нет уж, вы потрудитесь это объяснить!
– Я не могу! У меня гости. Если вы меня не послушаете – всему конец, всему, понятно?
– Связь прервана, – зачем-то сказал поручик Лопатин, хотя все и так это видели по миганию красной лампочки…
– Son of a bitch! – Полковник бросил наушник.
– Приказ по «Ковчегам» сэр… – начал Сергей Ушаков.
– Остается в силе. Закрыться, замаскироваться, никого не впускать, на связь ни с кем не выходить… Что еще?
– Остальные три дивизии не отвечают. Штабы замолчали.
– Shit… – полковник встал из кресла.
– Что мы делаем дальше, сэр? – спросил Лопатин.
– Дальше? Боюсь, поручик, что мы просто сидим и ждем.
– …Как чего? – возмутился командир 102-й воздушно-десантной дивизии генерал Драчев. – Там же пульт управления, система связи… Я не знаю, что еще! А он заперся и не хочет выходить. Это как понимать?
– Ну, и что мне – головой эту дверь прошибать? – Сигарета в углу рта майора Ширяева поднялась градусов на тридцать. Майор чувствовал себя в своем праве – он был из спецназа КГБ и Драчеву не подчинялся.
– Слушай, майор, ты меня не зли! Прикажу – будешь и головой прошибать. Ты спецназ или кто?
– Спецназ, – подтвердил майор. – А не сапер. Дайте мне саперов, вскройте эту консервную банку – и мы с ребятами в два счета выковыряем вам вашего полковника, а так… Эту броню гранатой не возьмешь. Хотя, наверное, пробовали… – Майор оглядел разрушения, царящие в ставке базы Чуфут-Кале. Разбитые компьютеры и телефоны, изуродованные столы… И целехонькая бронированная дверь в бункер.
– С ним есть какая-нибудь связь? – спросил Ширяев у безымянного штабного подполковника.
– По вот этому селектору.
Ширяев ткнул пальцем в кнопку, склонился над микрофоном.
– Господин полковник! Ваше благородие! С вами говорит майор Ширяев, командир батальона спецназа КГБ… Сдайтесь, пожалуйста. Вам ничего не будет. Если сдадитесь по-хорошему. Это же глупо – закупориться в бункере и сидеть там. Ничего вы там не высидите. Кроме своих яиц.
– Господин майор, – донеслось из репродуктора, – ценю ваше чувство юмора, но сдаться не могу. Объект, доверенный мне, я сдам только по приказу моего командования. Ни до кого из них я не могу дозвониться. Телефон в Главштабе не отвечает. Вы, как человек военный, должны меня понять.
– Ваше благородие, они все уже сдались.
– Прекрасно! Пусть они мне сами об этом скажут.
– Упорный, как подшипник, – с уважением сказал майор. – Что делать будем? Товарищ генерал, может, звякнуть в штаб и попросить его начальство отдать ему приказ?
– Да что это такое, в конце концов! – Драчев бахнул по столу кулаком. – Мы что, уговаривать его должны? Вы солдат или кто?
– Ну, тогда саперов сюда! Сколько там с ним народу, вы не знаете?
– Человек двадцать.
Ширяев поморщился, и было отчего: штурмовать хорошо защищенный подземный бункер даже силами батальона – это не шутка. В подземельях численное преимущество не имеет никакого значения: один человек с автоматом из-за баррикады может уложить хоть роту.
– Может, обратиться к нижним чинам? – предложил штабной подполковник. – Разагитировать их, что ли…
– Валяйте, – великодушно уступил Ширяев. – Я не спец.
– Таких спецов, как вы, как раз в Афгане нехватка, – злорадно сказал Драчев.
– Если этот полковник чего-нибудь учудит, вместе туда отправимся, – спокойно заметил Ширяев. – Ведь так, товарищ генерал? Ну, вызывайте сюда саперов.
…Гости нагрянули меньше чем через полчаса. Группа спецназа ГРУ на советских армейских джипах.
– Сэр? – раздался в «уоки-токи» голос Шамиля.
– Нет. – Верещагин, не отрываясь от мониторов, снял с предохранителя «беретту». – Еще рано.
– А когда будет не рано? – спросил Берлиани.
– Когда из машин выйдут все.
– Один стрелок останется.
Верещагин поднялся из кресла, сунул «беретту» в карман, бросив Кашуку:
– Заприте за мной дверь.
Осваговец без единого слова выполнил приказание.
Капитан вышел из здания, где располагались технические службы, навстречу командиру спецназовцев – высокому старшему лейтенанту.
На Верещагине тоже была форма спецназовца и погоны старшего лейтенанта.
Новоприбывший слегка удивился тому, что на телевышке уже кто-то есть.
– А где все? – спросил он.
– Кто «все»?
– Местные.
– Внизу.
– Чего-то я не понял, братишка. Вы должны были держать их здесь!
– На хрена они мне здесь нужны? Сдал их десантуре, и все дела.
– Ты вообще кто? – приподнял бровь старший лейтенант.
– Старший лейтенант Верещагин.
– Не знаю такого.
– Девятая бригада.
– Ка-кая, на хрен, девятая? Вышку должны были мы занимать! Восьмая! У меня приказ!
– У меня тоже.
– Совсем охренел ваш Горобец.
– Гравец, – поправил Верещагин.
Прибывший старлей немного успокоился.
– Ладно, Верещагин, где там твоя машина? Пошли, свяжемся с твоим начальством. Обсудим ситуацию.
– Машина улетела.
– Так вас сюда еще и по воздуху забрасывали?
– Чего только штабы не придумают, лишь бы друг другу свечку вставить.
– Так как же вы…
– Из аппаратной. Пошли.
Старлей сделал знак рукой, и двое из команды отправились за ним.
– Что у тебя за рация, Верещагин?
– У местной охраны взял, – Верещагин снял с пояса «уоки-токи» и нажал на кнопку. – Хороша штучка?
Они подошли к двери аппаратной.
– А чего это у вас на полу пластик развернут?
– Не знаю, местные, наверное, что-то красить собирались. – Верещагин поднес «уоки» к губам:
– Кашук, открой.
В замковом механизме щелкнуло. Лже-спецназовец взялся за громоздкую ручку, повернул ее вверх и потянул дверь на себя.
Одновременно он сделал шаг влево, оказавшись между открывшейся дверью и стеной. Правая рука скользнула в кобуру и появилась оттуда с довеском.
А где твой черный пистолет? А вот он, мой черный пистолет…
«Стечкин», славный силой и точностью боя.
Было слишком поздно хвататься за оружие. Доли секунды хватило Кашуку и Хиксу, чтобы нажать на триггеры укороченных «калашей». Что бы Томилин ни говорил об АК-74У, но свою задачу они выполнили. Двое спецназовцев повалились на пол, срезанные пулями.
Верещагин выстрелил еще раньше. Старший лейтенант не успел даже понять, что же случилось.
Полсекунды Арт потратил на то, чтобы посмотреть в лицо убитого им человека.
Удивление и обида, угасающие в еще влажных серых глазах. Вопрос.
«…Почему я?»
Верещагину уже приходилось сталкиваться с этим вопросом. Внезапная лавина, отек легких, вылетевший крюк.
«…Почему я?»
Все запомнили смерть главкома ВВС. Смерть страшную, публичную и нелепую, но во многом – случайную.
Очень немногие узнали о смерти старшего лейтенанта спецназа ГРУ Виктора Чернышова.
И тем не менее, именно с этой смерти нужно начинать отсчет дней войны. Именно старшего лейтенанта и двоих его солдат убили преднамеренно, беспощадно и быстро.
Именно с этой минуты ничего изменить было нельзя.
Полковник Волынский-Басманов, командир Марковской дивизии, как раз скрашивал себе тяготы домашнего ареста, обедая с майором Жоховым, начальником штаба 161-го парашютно-десантного полка, когда в гостиную вошла жена князя Элен и тихонько сообщила супругу, что погиб главком ВВС.
Князь получил тяжелое наследство. Чемодан без ручки, внутри которого тикает бомба с часовым механизмом. Короче говоря, командир Марковской дивизии полковник Волынский-Басманов согласно боевому расписанию получил верховное командование.
Вот только этого ему и не хватало. И без того полно проблем: унизительный домашний арест, этот уже напившийся майор, шаткая ситуация… Одно подозрительное слово – и князь отправится на гарнизонную гауптвахту. И что есть командование в данной ситуации? Фикция. Никакой реальной власти. Зато реальная возможность попасть под огонь. Нет, благодарю покорно, мы уж как-нибудь так, потихоньку. Потерпим пьяного майора, поскучаем несколько дней дома. Незачем слушать паникеров, вопящих о катастрофе. Советские военные – не исчадия ада, а вполне нормальные люди. Взять, скажем, майора… Что, крымцы не пьют? Пьют! Простительная человеческая слабость. Разве в Евпатории происходит нечто ужасное? Творятся разрушения? Имеются жертвы? Нет, все тихо и мирно. Ну, а если солдатики разграбят несколько жидовских или греческих лавчонок, то ничего страшного не случится.
Н-да, конечно, лучше было бы, останься здесь советский командир полка, а не его начштаба. Тот набрался уж как-то очень быстро, скучно и безобразно. Командир, майор… Белов? Нет, Беляев… да, Беляев! – показался князю разумным молодым человеком. Контакт с ним пригодился бы. Интересно, он женат? Можно было бы даже, например, выдать за него младшенькую, Ивонн… Или средненькую, Арлетт… Или даже старшенькую, Полин… Дочерей у полковника было достаточно, чтобы завести полезные связи во всех слоях крымского высшего света, но раз такой поворот – то и в СССР наверняка есть своя «аристократия», среди которой ценится истинно дворянское происхождение.
Матримониальные планы отвлекли его, и некоторое усилие потребовалось, чтобы вернуть мысли на прежнюю, тревожную дорожку. Случай с главкомом – это повод к войне. И если где-то отыщется горячая голова, которая воспылает местью… Да, тогда новоявленному командующему не поздоровится.
Лучше забыть, решил он. Жена мне ничего не говорила, а если и говорила – то я не слышал.
– Еще кусочек пулярки? – спросил он у майора Жохова.
– Давай, – согласился начштаба.
– Мы не можем брать пленных, Гия…
– О, черт! – простонал сквозь зубы Козырев… – Ой, да что ж ты делаешь!
Хикс делал то, что был должен делать: срезал с него брюки, чтобы как следует наложить повязку на рану, которую Верещагин по причине спешки просто прижал перевязочным пакетом. Голая спина штабс-капитана блестела от пота, как и побелевший лоб Володьки. Анальгетик, видимо, еще не подействовал, ничего не попишешь – кровь нужно остановить, каких бы мучений это Володьке ни стоило. А кровь течет, как будто губку выжимают, и перевязочный пакет уже пропитался насквозь, и руки Хикса в ней по самые запястья…
Здесь все делали то, что должны были делать. Один Георгий не знал, куда девать взятого в плен спецназовца.
Вслед за Артемом он вошел в здание административного корпуса.
– Помоги мне притащить это кресло в генераторную, – сказал ему Верещагин.
– Ты что… – не понял Георгий, – ты собираешься положить Володьку ТАМ?
– Есть другие предложения?
– Здесь! В комнате отдыха! В любом из кабинетов!
– И как ты объяснишь советским, почему он ранен? С кем, по-твоему, мы перестреливались?
– Ты что, хочешь сказать, здесь еще кто-то будет?
– Может быть, и нет. А может быть, да.
– Из-за твоего «может быть» Козырев должен провести оставшийся день в одной каморке с трупами?
– Гия, мне это решение нравится не больше, чем тебе. Но другого выхода у нас нет.
– Спрячь его в аппаратной, если тебе так хочется его спрятать.
– Тратим время, – Верещагин снял с кресла матрас, оставив голый никелированный каркас.
– Почему? – крикнул Георгий. – Чтобы не нервировать твоего осваговца?
– Нет, – Верещагин обернулся. – Но если советские здесь появятся, офицеры захотят получить доступ в аппаратную. И я дам этот доступ. И хватит трепаться, в конце концов!
Берлиани грязно выругался по-грузински и подхватил мебельный скелет. В коридоре он встретил Сидорука, разматывающего пожарную «кишку». Нужно отовсюду смыть следы крови. Чтобы никто не узнал про маленькую комнатку в замке Синей Бороды. Девять трупов, один пленный и один раненый.
Пригнувшись, он вошел в дверь генераторной, бухнул железку в угол. Рядом Артем разложил матрас. Удобное ложе для Володьки. На мертвецов, в конце концов, можно не обращать внимания. Володьке, прямо скажем, будет не до них…
Он уже не стонал, притих. То ли вошел в ступор от боли, то ли подействовал морфин, который вколол Верещагин.
Вколол не раньше, чем разделся. Правда, разделся он довольно быстро. Не запачкать одежду кровью чертовски важно, потому что в ближайшее время действительно бог знает, кто на них может свалиться, и все следы нужно как можно быстрее уничтожить.
О, нет, он очень умело ввел морфин, у него была легкая рука, и в его глазах темнела отраженная боль, но Георгий знал: кто бы из них ни упал раненый, Арт действовал бы точно так же – он все равно сначала вспомнил бы о том, что следы необходимо уничтожить, а концы – спрятать в воду…
– Нести его? – спросил Хикс. Томилин стоял на подхвате.
– Погодите, – сказал Верещагин. – Мы ничего не забыли?
Забыли, подумал Георгий. Ничего, сейчас он вспомнит…
– Твой пленный, Гия. Где он?
– Здесь, – Князь кивнул на дверь в генераторную.
Спецназовец был связан и еще не пришел в себя – Берлиани очень крепко саданул его по голове…
– Это хорошо, – сказал Арт. – Хорошо, что он здесь…
– Ты что, – Берлиани сглотнул, – и впрямь собираешься…
– Мы не можем брать пленных, Князь.
«Лучше бы я его убил, – подумал Берлиани. – Лучше я сам, в бою, чем Арт – вот так, сейчас, полуобморочного, как барана…»
– Ты не можешь так поступить, – прошептал Георгий.
Артем снял свой «стечкин» с предохранителя. Поднял голову, посмотрел на Берлиани. Показал на распростертое у стены тело Даничева.
– Могу.
– Это подло.
– Сейчас идет подлая игра. И я буду самым подлым человеком на свете, если это поможет мне выиграть.
«А все-таки ты болтаешь. Тянешь время».
– Ты не должен этого делать! Мы солдаты, шэни дэда, а не шкуродеры! Есть Конвенция, и мы должны ее соблюдать!
Верещагин наклонился к сброшенной одежде, вытащил из кармана своих брюк «беретту» и протянул ее Георгию рукоятью вперед.
– Останови меня.
Не оглядываясь, он вернулся к пленному, связанному по рукам и ногам, приходящему в себя и пытающемуся поднять разбитую голову.
Пленный был, наверное, их ровесником, рыжим парнем с вытянутым крестьянским лицом, на высоком лбу выписан наследственный авитаминоз.
Осторожно, даже как-то нежно Арт прижал его голову к полу, к каменной плитке, приставил дуло «стечкина» к затылочной впадине, задрал куртку спецназовца, накрывая его голову и свою руку, и плавно, как учили на занятиях по стрельбе, нажал на спуск…
Тело рванулось один раз. Арт поднялся, на куртке спецназовца начало проступать темно-красное пятно.
Берлиани как стоял, уронив руку с пистолетом, так и продолжал стоять.
Артем прошел мимо него.
– Несите Володю, ребята. У нас все готово.
– Погоди, – Георгий сглотнул. – Нужно их чем-нибудь закрыть.
– Верно. Ту ковровую дорожку, что мы убрали из коридора… давай развернем ее.
Взять под контроль Ялту третьему батальону оказалось проще простого: зашли в мэрию, в полицию, в телекомпанию, ну и дальше по списку. Опасения были напрасны, никто не оказывал сопротивления. Уложиться в расписание, правда, не вышло: все дороги забиты машинами, советская техника создавала пробки то здесь, то там, да еще дорога за Ангарой пошла петлями и крюками, отчего батальон был на месте на три часа позже, чем планировалось. Но то еще ничего, мотострелки, которым велели закрыть горных стрелков в Бельбеке, до сих пор болтались где-то. Если бы крымцы собрались воевать, подумал майор, хана бы нам.
По счастью крымцы воевать не думали. Майор за все полдня с момента высадки вообще ни одного крымского вояки не видел. Он принял у мэра символические ключи от Ялты, расставил посты и распечатал пачку мексиканских сигар в кабинете мэра, про себя размышляя, что ситуация-то идиотская: по сути дела, от Фороса до Алушты идет одна сплошная городская застройка, и взять все это дело под контроль силами одного батальона, расставить блокпосты по уму и все прочее – попросту нереально. С другой стороны, ключевые пункты, как-то: полиция, вокзалы, телефонные станции – тоже штабными стратегами были намечены через известное место. Они вообще в курсе, что тут больше одной телекомпании?
Ну и человеческий фактор никуда не делся. Солдатика, как известно, куда ни целуй – везде жопа. Солдатик все время налево смотрит, а уж со всеми здешними соблазнами…
Словом, Лебедь нарушил приказ и не стал рассредоточивать батальон по объектам. За одним исключением: рота капитана Асмоловского отправилась на Роман-Кош.
На Роман-Кош Глеба ждал сюрприз: там уже обосновалась фронтовая разведка. Навстречу машинам десанта вышел среднего роста и среднего сложения парень, примерно ровесник Глеба, в краповом берете и с погонами старшего лейтенанта.
– Капитан Асмоловский, – представился Глеб.
– Старший лейтенант Верещагин.
– Знаменитая фамилия, – улыбнулся Глеб.
– Да… Жил себе, горя не знал… – с чувством сказал старлей.
Глеб его понимал. Шуточка на тему «уходи с баркаса» сама просилась на язык, и такие шуточки должны были уже изрядно поднадоесть обладателю знаменитой неудобной фамилии.
Но с баркаса – то бишь с площадки телецентра – кому-то нужно было уходить. Семьдесят человек не разместишь в одноэтажном корпусе техслужб.
– У меня приказ взять телевышку на Роман-Кош под контроль, – сказал Глеб.
– У меня тоже, – старлей пожал плечами. – И как видите, я успел раньше. Кристобаль Хозевич любил успевать раньше.
Щелк! Протянулась ниточка – нет, еще не симпатии – узнавания. Словно два волка, оказавшись в одном лесу, еще не знают, как относиться друг к другу, но определяют в воздухе запах брата по крови. Кто думает, что цитата – это всего лишь пижонство, бравирование читаными премудростями, тот ошибается. Это пароль, по которому отличают своих.
Глебу не хотелось покидать телевышку. Здесь его рота находилась в отдалении от крымских соблазнов, что облегчало задачу поддержания дисциплины. С другой стороны, он понимал, что личный состав, включая офицеров, мыслями и душой сейчас в Ялте, где их братья по оружию растаскивают магазины. Увидев разведчиков, бойцы приободрились: а ну как удастся отвертеться от сиденья на этой кудыкиной горе, вдали от благ капитализма? Бунта на корабле можно ожидать в любой момент. А с третьей стороны, оба они со старлеем люди подневольные, и если уж их в силу армейского маразма направили охранять один и тот же объект, то другой силы убрать их отсюда нет – кроме приказа же.
– Мне кажется, это не тот случай, когда работает правило «кто первый встал, того и тапки», – сказал он.
– Согласен. Думаю, вам имеет смысл обратиться по команде, чтобы приказ отозвали.
Вопрос «А может, это вам имеет смысл обратиться по команде?» отвалился, не дойдя даже до речевых центров Глеба. Главному разведуправлению Генштаба – а Верещагин сотоварищи служил именно там – таких вопросов не задают.
Поэтому он связался с майором.
– Сиди, где сидишь, – сказал майор. – Тут Драчев, злой, аж жопа трещит. Какой-то белый генерал заперся в бункере и посылает всех нас на хер, саперы сделать ни черта не смогли, генерал требует ему до вечера этот бункер раскупорить, так что я к нему с просьбами не полезу. Договорись там как-нибудь с ГРУшниками.
Глеб вздохнул и пошел договариваться.
– Ну что ж, – старлей выглядел недовольным, но с судьбой как будто примирился. – Как вы это себе представляете? Сколько вас здесь остается?
– Два взвода. Третий будет находиться на перевале Гурзуфское Седло, – сообщил Глеб.
– Разумно. Как долго вы здесь будете?
– Неизвестно. Сутки – точно.
– Мнда… – Верещагин побарабанил пальцами по кобуре.
– А что, будем мешать?
– Скажем так: на вас рассчитано не было. Мы тут уже настроились приятно провести время… Короче, нужно как-то устраиваться. Поскольку мы пришли раньше, административный корпус остается за нами, мы там ночуем. Яки?
– Яки – это что такое? – спросил Асмоловский.
– Яки – это здесь так говорят. Как в Америке – «О’кэй».
Он проследил вопросительную паузу и пояснил:
– Давно тут сидим… Очень давно. Вошли, так сказать, в образ. Так что еще какое-то время будем больше похожи на крымцев, чем на наших. Вы не удивляйтесь, если что не так.
– Административный корпус… – напомнил Глеб. – Что еще?
– Я хотел сказать, что там смогут ночевать ваши офицеры, места хватит. В комнате отдыха будем отдыхать все вместе, опять-таки веселее… Но вот куда я категорически не должен никого пускать – это генераторная, – он показал на приземистое строение со стальной дверью, – аппаратная комната и сама вышка. Не взыщите, приказ звучал именно так.
Глеб кивнул.
– Я предельно серьезен, товарищ капитан: у нас приказ в таком случае стрелять на поражение. И пусть поаккуратней пользуются сортиром. Нам еще несколько дней тут сидеть. Если возникнут какие-то вопросы ко мне, и я буду в аппаратной – только тогда и только вы можете войти. Договорились?
– По габарям, – согласился Глеб.
– И пей круг, – улыбнулся старлей.
Они посмеялись. Потом капитан протянул руку:
– Глеб.
– Артем, – представился старлей.
– Какая сволочь полезет в запретную зону, ГРУшники пристрелят без предупреждения, – с удовольствием объявил Глеб строю. – И я им только спасибо скажу. Потому что вас сюда прислали не водку пить. Увижу кого пьяного – дам в ухо. На территории не гадить, ходить в кусты. В аппаратную и генераторную не соваться. На постах нести службу согласно УГиКС, буду проверять лично. Вопросы есть?
Вопросов не было.
– Разойдись, – приказал он.
Пятнисто-зеленый строй распался. Солдаты и сержанты разошлись – кто на посты, кто на отдых. Офицеры поспешили в комнату отдыха, где были мягкие диваны и конфискованные у солдат спиртные напитки.
– Товарищ капитан, а почему это они ходят в сортир сюда? – спросил лейтенант Палишко. – Я захожу, а там грузин этот кабинку занял.
– Оставь их в покое, Сережа, – посоветовал Глеб. – Им здесь еще несколько дней сидеть.
– Да не в том дело! – горячо поддержал Палишко Васюк. – Обидно же, товарищ капитан: мы, десант, опять вроде как дерьмо, а они – войсковая элита. Кто им такое право дал?
– Васюк, – Глеб начал слегка закипать, – сколько ты свой взвод собирал? Не знаешь? Я тебе скажу: сорок две минуты! И двое до сих пор не стоят на ногах! Так кто тут дерьмо, а кто войсковая элита? Ты видел среди них хоть одного пьяного?
– Разведка, – уважительно протянул Петраков. – Дрючат их там…
– Я не понял, а кто вам мешает нормально себя вести? – взорвался Глеб. – Тебя, Вова, кто-то за грудки берет, руки выкручивает: грабь, тащи, что плохо лежит, наливайся водкой до ушей?! Что тебе мешает вести себя как офицер, а не как прапор вонючий? Палишко! Почему у тебя во взводе в первый же день раненый? Как вышло, что твой рядовой попал под нашу же БМД? Куда ты смотрел в это время? Я тебе скажу: ты магазин видео выносил.
– Знаете что, товарищ капитан? – Лейтенант Палишко даже встал. – Вы мне, пожалуйста, не читайте морали! Один раз в жизни я за границу попал, думал, хоть три месяца поживу, как человек, и что? Дулю тебе с маслом: иди, сиди на какой-то вонючей горе, ни жратвы приличной, ни шмотьем разжиться – и еще разведка тут ходит, нос выше этой вышки дерет! М-мудачье сраное! Вы, товарищ капитан, человек городской, вам всегда было во что одеться-обуться, у вас и центральное отопление, и теплый сортир с ванной. А мы с бабкой в деревне на двенадцать рублей жили. Я для того, может, и стал офицером, чтобы, наконец, нормальную жизнь увидеть!!! Хватит с этих белых, они шестьдесят лет с трудового народа кровь пили – теперь пускай поделятся. Никто тут никого не грабит, все законно!
В дверях кто-то вежливо откашлялся.
Палишко и Глеб отступили друг от друга, словно их застигли на чем-то недозволенном.
Рядовой с татарской физиономией прошел через комнату и поставил в холодильник ящик пива. Это был тот самый парень, которого Глеб отрядил вниз с ребятами сержанта Козленко – за выпивкой и едой. Верещагин растолковал, что не все и не везде брать можно: некоторыми магазинами владеют иностранные компании, у которых достаточно сил, чтобы попортить кровь нашим дипломатам, а на черта нам международный скандал? И сам же великодушно отрядил в проводники рядового Сандыбекова.
– Ну-ка, дай одну банку, – приказал Шамилю лейтенант Палишко.
Парень достал банку и поставил ее на стол перед лейтенантом.
– Открой, – велел лейтенант.
Алюминиевая крышечка щелкнула, вспух над банкой пенный султанчик.
Палишко взял банку левой рукой, а правой врезал рядовому под дых.
– Ты разрешения спрашивай, когда к офицерам в комнату заходишь, скотина.
Рядовой переводил дыхание, согнувшись пополам.
– Не слышу ответа! – Палишко взял парня за шиворот.
Стиснутые губы разведчика побелели от гнева, но не разжались.
– Палишко! – крикнул Глеб. – Оставь его в покое!
– Настоятельно советую выполнить требование вашего командира, – послышался голос от двери.
Офицеры развернулись и встретились взглядами с тремя черными зрачками. Два принадлежали старшему лейтенанту Верещагину, один – пистолету Стечкина.
– Оставьте в покое моего солдата, товарищ лейтенант. – Голос старлея звучал ровно, будто речь шла о банальном вопросе вроде распределения постов, словно и не в его руке застыл «стечкин».
– А если нет? Что, убьете меня? – спросил Палишко. – Вас за это не… полюбят, товарищ старший лейтенант?
– А я прострелю вам коленную чашечку, товарищ лейтенант, – так же спокойно ответил старлей. – Может быть, мне за это объявят порицание. Даже полюбят, как вы выражаетесь. Может, звездочку снимут. Но звездочку я верну, а вы на всю жизнь останетесь калекой.
Рядовой высвободился из рук Палишко и вышел за дверь. Старлей спрятал пистолет в кобуру.
– Товарищ капитан, товарищи лейтенанты. – Разведчик подошел к холодильнику, достал початую бутылку «Учан-Су» и налил в стакан. – Мои люди будут ходить по территории везде, где найдут нужным. Они будут заходить в эту комнату, не спрашивая ни у кого из вас разрешения. Они будут пользоваться санузлом наравне с вами, и если это кому-то кажется оскорбительным, он волен справлять нужду в кустах. – Артем допил и поставил стакан на поднос. – Это первое. Своих солдат вы можете бить, сколько вам угодно. Моих извольте не трогать. Это второе. И третье. Товарищ лейтенант, сейчас вы пойдете со мной и извинитесь перед рядовым Сандыбековым.
– Да пошел ты знаешь куда! – взвился Палишко.
– Сергей, ты пойдешь и извинишься! – сказал Глеб.
До ледяного спокойствия старлея ему было далеко. Хватит, по горло сыт он художествами своих солдатиков и офицериков.
– Товарищ капитан! – Палишко обернулся к нему за помощью, – Да как же это так… Им из нас можно веревки вить, так получается? А мы и слова не скажи?
– Ты дерьмо и трус, Палишко, – с расстановкой сказал старлей. – Во-первых, ты дерьмо потому, что самоутверждаешься за счет рядовых, которые не имеют права тебе ответить. Во-вторых, ты дерьмо потому, что боишься признать свою ошибку. И в-третьих, ты дерьмо потому, что перебздел и просишь защиты у своего капитана. Ты позоришь десант, Палишко, ты позоришь армию, ты позоришь всю свою страну.
– Палишко, пойди и извинись перед рядовым, – не глядя в глаза ни ему, ни Артему, сказал Глеб.
– Товарищ капитан!..
– Ты распустил руки, ты и выпутывайся! – крикнул Глеб. – Любишь трепаться и размахивать кулаками – отвечай за свой треп и свои дела! Не хочешь извиняться – получишь по морде от меня. Ты что, еще не понял, что не прав? Что ты повел себя как сука? Тебе это разъяснить популярно?
Палишко беспомощно оглянулся по сторонам. Старлей сделал приглашающий жест в сторону двери. Казалось, что от напряжения в комнате звенит воздух.
Палишко стоял несколько секунд, сжимая и разжимая кулаки, потом выдохнул и направился к двери.
– Черт, – Петраков взял со стола банку пива и отхлебнул. – Нехорошо вы поступили, товарищ капитан. Теперь они нам на шею сядут и ножки свесят.
– Нечего задираться, – бросил Глеб в ответ. – Ребята вообще нам ничем не обязаны. Они здесь в своем праве, могли бы спокойно всех нас выгнать за ворота… Нет, пустили сюда, поставили пиво за свой счет…
– Я не о том, – Петраков жестикулировал банкой. – Серега не прав, и не прав круто. Козел он, в общем, чего там говорить… Но это наше дело, семейное. Лучше бы вы ему сами по шее дали и заставили извиниться. А так получается нехорошо…
– Да, это я сглупил… – согласился Глеб. – Ладно, сделанного не воротишь.
– А ты слышал, как он разговаривает? – зампотех Стумбиньш, молчавший во время всего разговора, теперь взял слово. – Прямо лорд английский, а не офицер ГРУ.
– Это точно, – согласился Васюк. – Товарищ капитан, вы заметили?
– Что я заметил? Что человек нормально говорит по-русски, а не матюкается через слово? Это я заметил.
– Рыбак рыбака видит издалека, – подмигнул Стумбиньшу Петраков.
Вошел мрачный Палишко. Рванул дверцу холодильника, выхватил две банки с пивом, одну вскрыл и осушил залпом, после чего швырнул ею в стену, вторую начал пить не спеша, устроившись на диване.
– Знаете, на кого он похож? – спросил Васюк. – Да на белого офицера, как их в кино показывают. Такой чистенький, вежливый, а палец в рот не клади!
– Ну и не клади, – сказал Глеб.
– Муд-дак! – с выражением процедил сквозь зубы Палишко.
– Это ты о себе? – спросил Стумбиньш.
– Что, заставил он тебя перед рядовым извиниться? – подначил Петраков. – Может, ты татарина еще и в попку поцеловал?
Вторую пустую банку Палишко швырнул в него.
– Ша! – закричал Глеб, вставая между ними. – Палишко, сидеть здесь! Петраков, ты, кажется, начкар, так какого черта ты тут делаешь? Бегом проверил посты! Е-мое, как они нас могут уважать, когда вы собачитесь, будто базарные бабы?
– Я вот что думаю, – Стумбиньш часто сообщал свои рассуждения без всякой связи с предыдущим разговором: – Питание этой телевышки идет по кабелю откуда-то из Ялты. Или там Гурзуфа. Электростанция должна быть – зверь. В генераторной, как я понял, запасные генераторы. На случай если ток отключат, а что-то нужно срочно передать в эфир… Сейчас они не работают. Тем не менее. Эти ребята постоянно мотаются туда и обратно. Зачем?
– Карл Янович, – устало сказал Глеб. – Я так думаю: это не наше дело.
Убитые разведчики лежали чуть ли не вповалку на полу, возле одной из машин. Их накрыли чем-то, но Козырев знал, что они здесь, и этого было достаточно, чтобы добавить еще балл к общей хреновости его состояния.
«Скоро и я… как они…»
– И думать забудь, – сказал Верещагин, проследив его взгляд. – Володя, все будет хорошо. Ты у нас еще выиграешь «Триумфальную арку». Хватит туда коситься.
Он закончил заправлять шприц, надавил на поршень, чтобы выпустить воздух, протер Козыреву руку ватным тампоном и умело ввел иглу в вену. Мертвенный, дрожащий свет галогеновой лампы потеплел. Боль слегка утихла – начал действовать анальгетик.
– Арт… Почему ты все время приходишь сам?
Верещагин не ответил. Вместо ответа он распечатал салфетку и протер раненому лицо. Салфетка оставляла после себя приятную свежесть… Такая маленькая, чепуховая приятность, но вдруг оказывается, что совсем не лишняя, когда секунды сливаются в кошмар.
– Действует? – спросил Артем.
– Да…
– Очень хорошо.
Анальгетик экономили и вводили ровно столько, чтобы Владимир мог терпеть боль молча. Дверь в генераторную не пропускала звуков – наверняка во время работы всех этих агрегатов здесь стоял адский шум, потому и звукоизоляция была отменной. Но случайный стон, вырвавшийся тогда, когда кто-то входит в генераторную или выходит из нее, мог погубить их всех. Они часто ходили туда-сюда, это был не только полевой госпиталь или мертвецкая, здесь они сложили и то, что могло их выдать: крымское обмундирование, крымское оружие, документы… Этакая комнатка с секретами… Причину экономии морфина Владимир понимал четко: он может оказаться не последним раненым. Если что-то пойдет не так, здесь будет бойня…
– Кровь уже не течет, – ободрил его Артем. – Рана не воспалилась, температуры у тебя нет.
– Что там… с ногой?
– Я не настолько силен в медицине, чтобы сказать точно… Подожди настоящего специалиста, яки?
Владимир попробовал улыбнуться ему в ответ. Бедный совестливый убийца Арт Верещагин… Приходит сюда просить прощения у мертвого Даничева и еще живого Козырева… И все же не забывает снимать комбинезон всякий раз, когда берется за перевязку – чтобы не заляпать его кровью…
– Хочешь коньяку? «Ай-Петри» десятилетней выдержки…
– Нет…
Артем вытер руки влажной салфеткой и надел комбез.
– Арт… Не уходи…
– Тебе страшно здесь одному?
– Нет… Просто плохо…
– Ну, Володя… Ты ведь жокей. Сколько раз ты себе ломал ключицы?
– Четыре. Это… совсем другое. Я… больше не сяду… в седло.
– Да ну тебя.
– Сустав… Подвижность не восстанав… ливается.
– Кто тебе сказал такую чушь? С чего ты решил, что это сустав?
– М-м…
– Еще морфина?
– Да. Арт, представь себе, что ты больше никогда… Не сможешь подняться… на гору… Ты… представлял?
– Конечно. Все люди стареют. Рано или поздно приходится бросать спорт.
– Нет, сейчас… Господи… Арт, сделай люфтэмболию… Я не смогу так жить. Я не буду жить калекой.
– Ану, хватит молоть ерунду! Ты за кого меня держишь? – Артем показал ему кулак. – Вот тебе мое слово: ты выберешься отсюда и еще до конца года сядешь на лошадь. Ты немного потеряешь квалификацию, потому что долго будешь на отдыхе, и поэтому тренер даст тебе самую безнадежную скотину из всех, кто у него есть. А на середине дистанции эта тварь вспомнит молодость и придет первой, и тренер отматюкает тебя, потому что он сам поставил на фаворита из своей же конюшни.
– Хреновый из вас пророк, господин капитан. И в скачках вы ни черта не понимаете…
…Верещагин действительно мало что понимал в скачках. Но он немножко понимал в огнестрельных ранах, и знал, что Козырев прав: подвижность сустава не восстановится. Какой там конный спорт, парень до конца жизни проходит с костылем, если вообще сумеет встать на ноги.
Лгать ему было противно, а делать при этом вид, словно он не понимает, что Козырев видит его ложь насквозь, было противно вдвойне.
Реплика про люфтэмболию ему совсем не понравилась. Володя, будучи в здравом уме, никогда не заговорил бы об этом. Значит, он устал и сдают нервы. Артем решил – будь что будет, нечего жаться. Полные дозы морфина. Пусть подпоручик немного отдохнет…
Он сделал еще одну инъекцию и присел на стальную трубу каркаса от кресла. Сами по себе эти железки не были приспособлены к человеческой заднице и долго там высидеть было нельзя. Но наркотик действовал быстро.
Владимир больше не пробовал с ним заговорить. После укола он отвернул лицо в сторону, ожидая, когда придет сон. Артем боялся представлять себе, как он здесь коротает часы в компании мертвецов, страдая от боли и слабости, одиночества и страха… И вина, которую испытывал капитан, заставляла его приходить сюда, кропотливой и осторожной работой заглушая свой собственный страх и успокаивая свои натянутые нервы. Все они знали, что одно неверное слово – и все полетит к черту. Поэтому неукоснительно следовали его указаниям: сводили общение с десантниками к нижней границе необходимого, держались осторонь и все время были начеку. Ему было сложнее: взяв на себя роль буфера между своими ребятами и десантурой, он почти все время находился среди «голубых беретов» или поблизости. Он смеялся их шуткам, отвечал на их вопросы и задавал свои, смотрел в оба глаза, перенимая типично советские манеры и отказываясь от наиболее характерных крымских. Труднее всего было сохранять естественность. От него не требовалось особенного актерства или перевоплощения, он давно заметил, что практически любую промашку простят, если хранить самый непринужденный вид. Он умел существовать в чужой, даже враждебной среде, это умение спасало его в гимназии, в армии, в офицерском училище… Это спасало его и сейчас. Странности, если их кто-то заметил, были отнесены на счет особенностей подготовки и снобизма элитных войск.
Он готовился к этому долго. Он знал, что должен говорить в тех или иных наиболее распространенных случаях, как себя вести… Конечно, настоящий ГРУшник раскусил бы его через минуту… Но настоящие лежали здесь, укрытые ковриком и брезентом из гаража. Здесь же лежал Даничев, которому больше ничего не нужно. И Володя, которому нужен в первую очередь морфин. Эти люди поверили ему, и вот куда он их привел. Куда он приведет остальных?
И было еще одно. Артем вспомнил, кто такой капитан Глеб Асмоловский, следовательно, Глеб мог вспомнить, кто такой капитан Верещагин. Альпинистская братия достаточно хорошо знает выдающиеся имена из числа своих. А Глеб Асмоловский – это, как ни крути, было выдающееся имя.
Оставалось надеяться на плотность «железного занавеса» и на удачу.
Так не бывает, подумал Асмоловский. Ну, совпадение это. Полный тезка знаменитого крымского альпиниста… «Знаменитый альпинист» – само по себе смешно. И фамилия не такая уж редкая.
Они сидели на смотровой площадке телевышки, рассматривая покрытые лесом горы. Ближние пологие вершины поросли редким лесом, похожим на вытертый каракуль, витиеватая дорога переползала через Гурзуфское Седло. Вдали сияло море, в ложбине между двух холмов развалился сонный Гурзуф, и Глебу казалось, что он чувствует запах воды.
Глеб из последних сил сопротивлялся чувству созерцательного покоя, но примерно с тем же успехом, с каким весенний снег может сопротивляться действию солнца. Так накрутив людей, нужно бросать их в бой, иначе дело кончится все той же пьяной расслабухой. Офицеры имели хоть какое-то развлечение: в комнате отдыха был телевизор. Солдатам же ничего иного не оставалось, как трепаться, спать, травить анекдоты, играть в интеллектуальные игры («очко» на пальцах) и на гитаре… Ну и, конечно же, пить. Голь, хитрая на выдумки, прятала спиртное в самых невероятных местах, и, несмотря на обыски с конфискацией, количество пьяных оставалось стабильным. Больше того – конфискованное делили офицеры. Надежда была только на то, что запасы пойла все-таки конечны, а здесь, слава Богу, достать негде…
– Извините за дурацкий инцидент, – сказал старлей. – Я должен был предоставить это вам…
– Да нет, все нормально. Сергей был не прав.
– А что, собственно… послужило причиной?
– Мать его в детстве ушибла – вот что послужило причиной… Вы таким, как Палишко, – что гвоздь в заднице. Блатные, по заграницам ездите, куда ни сунься – везде командуете… Он, бедняжка, свои погоны пердячим паром зарабатывал – так оказывается, что даже ваш рядовой главнее его. Вот он и вызверился, дуралей…
Он открыл пиво.
– Дрянное здесь пиво, кстати. Это уже пятая банка, а градуса не чувствую.
– Товарищ капитан, посмотрите на процент алкоголя…
– Епрст, – Глеб засмеялся. – Безалкогольное пиво… А ребята там матюкают белогвардейскую пивоваренную промышленность…
Глеб повернулся к морю спиной и посмотрел на скальный взлет Роман-Кош, над которым на тридцать метров поднималась телевышка. Пятидесятиметровому крымскому ретранслятору было далеко до Останкинской телебашни, но крымцы остроумно решили проблему, расположив его на плече самой высокой горы. Держась за скалы на стальных растяжках, вышка была надежно застрахована от ветра. А ветер здесь не стихал ни на минуту.
Глеб разглядывал отвесный гранитный скол, идущий вровень с вышкой почти на треть ее высоты, мысленно прокладывал маршруты – совершенно несерьезная стена, но здесь можно проложить парочку изящных, хоть и коротких.
– Хотите подняться на самый верх? – предложил Верещагин.
Лестница изгибалась по квадрату сечения башни пролетами под углом около 40 градусов, потом, выше второй смотровой площадки, вела вертикально вверх, проходя внутри своеобразной «трубы», сваренной из железных прутьев.
Внизу осталась вершина горы и «рога» ретрансляторов. «Труба» закончилась, дальше ремонтникам или монтажникам уже нужно было бы работать со страховкой. Дул довольно крепкий и холодный ветер, железные штанги отзывались на его порывы низким гулом, который слышишь не ушами, а всем телом. Мерное раскачивание телевышки было сродни морской качке. Глеб высунулся из «трубы» по пояс, ухватился руками за секции металлических конструкций и огляделся.
Горы шли с востока на запад, на юге полмира захватило море, а на севере зеленел лес. Это была прекрасная земля, русская земля, которая наконец-то стала советской землей. И это бескрайнее небо, в котором он сейчас плыл и дышал, наполняло его какой-то надеждой. Казалось, что все в этом мире еще может стать прекрасным, если к этому приложить хоть немного усилий.
Внезапно тугое, распирающее чувство полета сменилось другим – всеохватной тревогой, дрянным предчувствием, которое высасывает из сердца радость, а из рук – силу. Глеб понял, что пора спускаться, что светлая нота безнадежно испоганена невесть чем.
Старлей ждал его на площадке.
– Что-то случилось? – спросил он. – Вы очень быстро спустились, Глеб.
– Какое-то чувство мерзкое появилось… – Капитан сел рядом с ним на железо.
– Наверное, электромагнитное излучение, – ответил Верещагин.
– Да, может быть… Давай на «ты», Артем.
Ветра здесь уже не было – от него защищала скала. Прогретый солнцем металл вызывал приятные воспоминания: вот так же, как эта площадка, выглядела детская горка во дворе, где рос Глеб. Только там металл был отполирован до блеска детскими штанами, а здесь – башмаками технарей. Ну, и пулеметного гнезда не было на той детской горке…
Глеб запрокинул голову, посмотрел в решетчатый колодец… На секунду перспектива стальных ферм, расчертивших небо на треугольники и квадраты, дрогнула, Глебу показалось, что верх – здесь, а там – низ, и он вот-вот сорвется туда, в кошмарный бесконечный полет… Даже чувство гравитации изменило. Он вздрогнул и опустил голову. Проклепанный теплый металл был таким великолепно-вещественным, ощутимым…
– Ага, – сказал Артем. – Пробирает. Похоже на гравюры Эшера, верно?
– Не знаю, не видел…
Глеб посмотрел ему в глаза, и это были глаза, в которые никто никогда не плевал.
Он попытался вспомнить лицо с обложки польского журнала, мысленно сбрить обындевевшую бороду… Нет, реконструкция лиц по воспоминаниям не давалась. Загар. У него неравномерный загар – подбородок светлее лба и скул, расстегнутый ворот показывает четкую границу между темной шеей и светлой впадиной между ключиц. Но Крым – солнечный край. Он мог загореть где угодно.
Как все честные люди, своим лицом Глеб владел плохо.
– Эй, товарищ капитан, с вами все в порядке? – спросил старлей.
– Нет. То есть да. Мы же вроде договорились на «ты».
– Извини. У тебя слегка… озадаченный вид.
– Мне просто любопытно, как давно вы здесь находитесь.
– Достаточно давно, чтобы считаться здесь своими. Это моя работа, Глеб: вживаться в среду, сливаться с ней, завоевывать доверие людей, а потом, в урочный час – предавать их.
И настолько спокойно, настолько без рисовки, даже как-то устало это было сказано, что Глеб поверил мгновенно.
– А ты в рамках своей подрывной деятельности не поднимался ли часом на К-2?
– Что я там забыл?
– Я серьезно. У тебя где-то здесь есть полный тезка. Два года назад он поднимался на К-2. Знаменитое было восхождение – не слышал?
– Не интересуюсь альпинизмом. А что, у нас об этом писали?
– Поляки писали подробно. Я думал, сдохну от зависти…
– Не представляю, чему тут завидовать. Как-то мимо меня вся эта романтика. Скучный я человек, – сказал коллега Джеймса Бонда и Штирлица. – А совпадение, конечно, забавное.
– Я и в самом деле подумал, что это ты. Ведь неплохое прикрытие. По всему миру можно мотаться в свое удовольствие. Разве нет?
– Из рук вон плохое прикрытие. Ну сам посуди: мой тезка сверкнул мордой в журнале – и вот уже ты помнишь его имя и можешь узнать в лицо.
– Там лица-то не особенно много было между бородой и очками.
– Но имя помнишь все равно. Нет, если бы я воспользовался легендой альпиниста, чтобы мотаться по всему свету, я бы не лидировал, а был где-то на пятых-шестых ролях, на подхвате. Незапоминающийся надежный середнячок. Вот остальных членов той экспедиции ты помнишь?
Глеб напряг память. На вершину тогда поднялись четверо, но фамилии не вспоминались. Да и Верещагин-то запомнился только потому, что за ним числился еще и Эверест. Ну и из-за фильма, конечно, тоже.
– Вот видишь, – сказал старлей, когда Глеб покачал головой. – А совпадения в жизни бывают самые дурацкие. Не говоря уж о том, что если бы я действительно был белым офицером и работал здесь под прикрытием, мое начальство позаботилось бы об отсутствии всяких совпадений. Иван Петрович Сидоров, очень приятно.
И опять он сказал это так ровно, что Глебу тут же захотелось поверить и самому посмеяться над своей подозрительностью. Но что-то мешало.
– Можно личный вопрос?
– Да на здоровье.
– Тебе нравится твоя работа?
– Думаю, так же, как и тебе твоя, – Верещагин улыбнулся одними губами, словно кавычки проставил, обозначая иронию. – Полно, Глеб, мы же с тобой читали в детстве одни и те же книги. Нужные книги мы в детстве читали. Есть такая работа – Родину защищать. И особенно приятно защищать ее на дальних подступах. Получая зарплату в долларах, одеваясь хоть и в Хансе и Морице, а все ж не с фабрики «Большевичка». И все с этаким пролетарским отвращением – у нас же собственная гордость, на буржуев смотрим свысока.
– У меня несколько другой профиль, – напомнил Глеб.
– Но все равно мы оба не в Афгане, а здесь. И попробуй скажи, что недоволен этим раскладом.
Глеб пожал плечами, показывая, что говорить такую глупость ему и в голову не придет.
– Только знаешь, где эти книги врут, капитан? – Верещагин чуть прищурился. – Они врут, что на той стороне все гады, которых предавать будет легко. Что любимые, но идейно невыдержанные женщины умирают в удобный момент, оставляя тебе развязанные руки и праведную месть. И что из двух зол всегда можно выбрать третье.
Он сжал пальцы на перилах, а потом вдруг оттолкнулся от площадки ногами и без всякого напряжения изобразил «ворону» в двадцати метрах над землей. А потом вытянул ноги и из «вороны» стал «крокодилом».
– Слабо? – Вот теперь старлей улыбнулся по-настоящему, всем лицом. Ветер трепал его темно-русые волосы, давно не стриженные, на пределе дозволенного в армии. «Зарос, как битла», – осуждающе говорил начальник училища, если челка у курсантов доставала до бровей.
Идиотское занятие, подумал Глеб. Но старлей смотрел и улыбался так азартно, что пришлось отстаивать честь десанта.
– А в стойку на руках выйдешь? – спросил старлей.
– Нет.