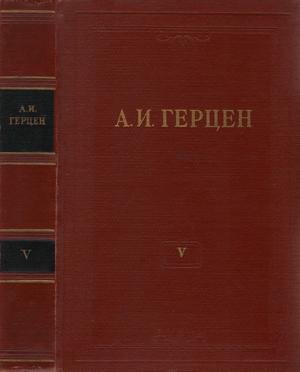
А. И. Герцен. С литографии Л. Ноэля, 1847 г.
Государственный Исторический музей, Москва.
Письма из Франции и Италии*
Может, я не во время издаю мои старые письма об Италии и Франции.
Я издаю их потому, что у меня много досугу. Русскому нечего теперь здесь говорить и нельзя. Война пьянит, кровь невинных подымается багровым туманом и не позволяет просто смотреть. Скрепя сердце приношу я на жертву войне свободную речь, которую купил дорогой ценой изгнания и потерь.
Я молчу, потому что не хочу смешивать петербуржское правительство с русским народом. Я никогда не скрывал моей ненависти к первому и никогда не скрою моей любви ко второму.
Мои брошюры, статьи в журнале Прудона, мои письма к Маццини и к Мишле были приняты с живым участием радикальною прессой в Европе и в Северной Америке. Я сделал опыт продолжать ту же речь в начале нынешнего года[1] и заслужил вопль негодования, грязь неблагородных обвинений и подлых намеков. Им теперь не до правды; до поры до времени надобно молчать или говорить о другом.
Письма эти не имеют прямого отношения к настоящим событиям. Они остались как были писаны (1847–1852), я только выбросил некоторые подробности, скучные теперь, но не коснулся ни до тона, ни до сущности.
Писавши эти письма под шум и гром событий, я часто увлекался, но был откровенен – за это я ручаюсь и потому думаю, что они не будут лишены для русских читателей той занимательности, которую имели в Германии[2].
Твикнем, 9 ноября 1854 г. Письма эти – врасплох остановленные и наскоро закрепленные впечатления времени, не бог знает как давно прошедшего, но преданию о котором уже «верится с трудом». Может, поэтому они и имеют для меня особую цену.
В них первая встреча с Европой, веселая сначала, – да и как же было не веселиться, вырвавшись из николаевской России, после двух ссылок и одного полицейского надзора! Веселый тон писем скоро тускнет – начинается зловещее раздумие и патологический разбор. Пестрые декорации конституционной Франции ненадолго могли скрыть внутреннюю болезнь, глубоко разъедавшую ее. Чем пристальнее я всматривался, тем яснее видел, что Францию может воскресить только коренной экономический переворот – 93 год социализма. Но где силы на него?.. где люди?.. а пуще всего где мозг? С горьким сомнением и нерешенными вопросами покинул я Францию и сразу наткнулся в Италии на первые, светлые дни ее пробуждения… Я шел от одной народной победы к другой – я видел только восторженные лица, ликующие взоры, – вдруг громовой удар 24 февраля, и вслед за ним рассыпались троны – цари пускались в бегство, подобравши порфиру и толкая друг друга по большим дорогам. Иронический дух революции снова привел западного человека на гору, показал ему республику во Франции, баррикады в Beнe, Италию в Ломбардии – и снова столкнул его в тюрьму, где ему за дерзкий сон прибавили новый обруч. Я слышал, как его заклепывали, – и опять письма мои, отразившие увлечение 1848, становятся мрачны, и этот мрак растет и растет до тех пор, пока 2 декабря 1851 года вырывает крик «Vive la mort!»[3] Когда последняя надежда исчезла, когда оставалось самоотверженно склонить голову и молча принимать довершающие удары как последствия страшных событий, вместо отчаяния – в груди моей возвратилась юная вера тридцатых годов, и я с упованием и любовью обернулся назад.
Таким образом эти письма вместе с книжкой, изданной мною в Швейцарии («Vom andern Ufer»), составляют целый цикл моего путешествия, мою странническую «Одиссею». Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину.
Вера в Россию – спасла меня на краю нравственной гибели.
Веровать теперь в развитие России неудивительно, когда Николай в Петропавловской крепости, да и там под спудом, – а его преемник освобождает крестьян. Тогда было не так. Но в самый темный час холодной и неприветной ночи, стоя середь падшего и разваливающегося мира и вслушиваясь в ужасы, которые делались у нас, внутренний голос говорил все громче и громче, что не все еще для нас погибло, – и я снова повторял гётевский стих, который мы так часто повторяли юношами: «Nein, es sind keine leere Träume!»[4]
За эту веру в нее, за это исцеление ею – благодарю я мою родину. Увидимся ли, нет ли – но чувство любви к ней проводит меня до могилы.
Прием этих писем, напечатанных долею в «Современнике» («Письма из Avenue Marigny»), долею в немецком издании («Briefe aus Frankreich und Italien», Hoffmann und Campe) и потом по-русски в нашей типографии, был розен: рядом с горячим сочувствием они встретили сильных порицателей. Русские возражения и упреки сводятся на три главные пункта: зачем я смеясь говорю об Европе, зачем я разрушаю веру в нее, зачем проповедую социализм, который пугает и до которого теперь в России дела нет.
На два первые замечания я уже отвечал, и не один раз[5], на третье скажу несколько слов. Оно меня всего больше поражает своим нерусским характером: у нас прежде не было этой хозяйственной расчетливости, этой нравственной гигиены, которая бы боялась истины, потому что до нее не дошел черед, потому что ее невыгодно говорить. Если у нас молчали о многом – то это просто оттого, что запрещали говорить. Нам не к лицу эта старческая воздержность, ни эта хитрая дипломация. Мы проще, мы здоровее, больничная разборчивость пищи нам нейдет; мы не адвокаты, не мещане – зачем же нам, как только опустили немного поводья, самим накупаться на мартинигал и обрекать себя на диету, предписанную худосочным старикам?
У нас, может быть, и образуется теперь слегка либеральная, парная оппозиция – она даже будет не без пользы для нравов, чтоб обчистить помещичью грязь и кавалерийскую солому, занесенную из конюшен во все жизненные отношения. Мы должны пройти в нашей школе истории и через этот класс – но рядом с другими. Многосторонность наша великое дело – замена, выкуп горького, бедного прошедшего – не будем же по Оригену сами себя уродовать, чтоб не согрешить.
К тому же вопрос социальный совсем не так далек от нас, как думают, мы середь него. Освобождение крестьян с землею – начало великого экономического переворота, в который Россия вступает.
Экономического или социального? – Это уже решайте сами.
А я пока вам расскажу анекдот, слышанный мною от Н. А. Полевого в те времена, когда он смеялся в «Телеграфе» и вовсе не плакал с Парашей Сибирячкой. Какой-то сиделец, начетчик газет и патриот, будто бы спросил раз его: «Позвольте осведомиться: храбрый генерал-майор Кульнев пал на поле брани или на поле чести?» – Я не помню, что отвечал Полевой, но я бы ему очень учтиво сказал: «А вам что приятнее?» – и утешил бы его, подтвердив его мнение.
Запад находится совсем в другом положении относительно коренного экономического переворота, чем мы. Наша боязнь – подражание, чувство заимствованное, лунное и потому неоправданное, не истинное.
Современное государственное состояние Европы – гавань, до которой она достигла трудным плаванием, путем сложным, à fur et à mesure[6], забегая и отставая. Оно не представляет стройно выработанный быт, а быт, туго сложившийся по возможностям; оседая, он захватил в себя величайшие противуречия, исторические привычки и теоретические идеалы, обломки античных капителей, церковных утварей, топоры ликторов, рыцарские копья, доски временных балаганов, клочья царских одежд и скрижали законов во имя свободы, равенства и братства.
Внизу средние века народных масс, над ними вольноотпущенные горожане, еще выше кондотьеры и философы, попы безумия и попы разума, живые представители всех варварств – от герцога Альбы до Каваньяка – и всех цивилизаций – от Гуго Гроция до Прудона, от Лойолы до Бланки.
«Святый отец прислал по электрическому телеграфу свое благословение новорожденному императорскому принцу – через два часа после разрешения императрицы французов».
В этой фразе из газет есть что-то безумное, подумайте об ней, она объяснит лучше всяких комментарий то, что я хочу сказать о Западе.
Может, в будущем и наше развитие спутается, но в отношении к идее ближнего будущего мы поставлены свободнее Запада, – воспользуемтесь этим. Долгие битвы и трудно доставшиеся победы связывают его, ограничивают его завоеванным, многое ему дорого, несмотря на то что оно уже не в пору. Мы ничего не победили, нам нечего отстаивать и нечего держать пограничные крепости на военную ногу. У нас все еще так шатко, неопределенно, насильственно, без нашего спроса, не по нашей мерке… что мы должны радоваться, если чужая одежда рвется, и свободно искать более удобную, где бы она ни нашлась и в чем бы она ни нашлась. Мы в некоторых вопросах потому дальше Европы и свободнее ее, что так отстали от нее; чтоб объяснить это, вот вам пример. Кто не знает, какой огромный шаг сделали народы, перейдя в протестантизм; но в наше время нет стран, в которых бы религиозная нетерпимость больше взошла в нравы, была бы притеснительнее и неизлечимее, как в землях протестантских. Было время, когда их теперичная нравственная неволя была для них освобождением, когда они за свое право скучать по воскресениям и петь псалмы – платили головой. Оттого-то религия вкоренена гораздо прочнее и глубже в Англии, нежели в Италии.
В Италии после революции 1848 делали опыты противудействовать папе каким-то протестантизмом; но Савонаролы XIX столетия проповедовали в пустыне. Нету настолько веры в папу, чтоб неверие в него могло двинуть умы, нету настолько интереса религиозного, чтоб нападение на религию обратило внимание масс. Католицизм – вымрет в Романье[7] вместе с христианством, без всякого протестантизма.
Либералы – эти протестанты в политике – в свою очередь страшнейшие консерваторы, они за переменой хартий и конституций, бледнея, разглядели призрак социализма и перепугались; удивляться нечему, им тоже есть что терять, есть чего бояться. Но мы-то совсем не в этом положении, мы относимся ко всем общественным вопросам гораздо проще и наивнее.
Либералы боятся потерять свободу – у нас нет свободы; они боятся правительственного вмешательства в дела промышленности – правительство у нас и так мешается во все; они боятся утраты личных прав – нам их еще надобно приобретать.
Чрезвычайные противуречия нашей несложившейся жизни, шаткость всех юридических и государственных понятий делает, с одной стороны, возможным самый безграничный деспотизм, крепостное состояние, военные поселения, с другой – обусловливает легкость переворотов Петра I, Александра II. Человек, живущий en garni[8], гораздо легче переезжает, нежели тот, кто обзавелся домом.
Европа идет ко дну оттого, что не может отделаться от своего груза, в нем бездна драгоценностей, набранных в дальнем опасном плавании, – у нас это искусственный балласт, за борт его – и на всех парусах в широкое море!
Мы входим в историю, деятельно и полные сил, именно в то время, когда все политические партии поблекли, стали анахронизмом и все указывают – с упованием одни, с отчаянием другие – на приближающуюся тучу экономического переворота. Вот и мы, глядя на соседей, перепугались грозы и, как они, не находим лучше средства, как молчать об опасности.
Я видал действительно барынь, которые во время грозы закрывали ставни, чтоб не видеть молнии; но не знаю, насколько это отвращает удары.
Полноте бояться, успокойтесь, на нашем поле есть громоотвод – общинное владение землею!
1 февраля 1858.
Путней.
Письмо первое
Париж, 12 мая 1847 г.
Кажется, четыре месяца не бог знает что, а сколько верст, миль и льё проехал я с тех пор, как мы расстались с вами на белом снегу в Черной Грязи… Да что версты! Сколько впечатлений, станций, готических соборов, новых мыслей, старых картин, дебаркадеров, – просто удивляешься, как это все может поместиться в душе. Надобно признаться, для праздного человека нет лучше жизни, как жизнь туриста: занятий тьма, все надобно видеть, всюду успеть, – подумаешь, что дело делаешь: бездна забот, бездна хлопот… Зато ничего не может быть печальнее для путника, вошедшего во вкус, как приезд в Париж: ему становится неловко и страшно, он чувствует, что приехал, что ехать далее некуда, и не бежит он на другой день с комиссионером из галереи в галерею, усталый и озабоченный, и не осмотривает редкостей и не лазит на колонны, а скромно идет к Юману заказывать платье… «Dans une semaine, Monsieur, dans une semaine…»[9], и он не удивляется этому ответу, пройдут не одна и не две недели… Очень грустно!..
Париж – столичный город Франции, на Сене… Мне хотелось только испугать вас; не стану описывать виденного мною: я слишком порядочный человек, слишком учтивый человек, чтобы не знал, что Европу все знают, что всякий образованный человек по крайней мере состоит в подозрении знания Европы, а если ее не знает, то невежливо ему напоминать это. Да и что сказать о предмете битом и перебитом – о Европе?
С легкой руки Фонвизина, и особенно с карамзинских «Писем русского путешественника», у нас всё рассказали о Европе в замечательных письмах русского офицера, сухопутного офицера, морского офицера, обер-офицера и унтер-офицера; наконец, гражданские деловые письма его превосходительства Н. И. Греча и приходо-расходный дневник М. П. Погодина договорили последнее слово. Для того, чтобы описывать путешествия, надобно по крайней мере съездить в пампы Южной Америки, как Гумбольдт, или в Вологодскую губернию, как Блазиус, спуститься осенью по Ниагарскому водопаду или весною проехать по костромской дороге. Впрочем, судьба путешественников по Европе, имеющих слабость писать, скоро улучшится. Теперь уже трудно и почти невозможно видеть Европу, но через несколько лет она совсем изгладится из памяти людской, для этого собственно и учреждаются железные дороги. Европа для путешественника превратится в несколько точек, освещенных фонарями, в несколько буфетов, украшенных рюмками. Тогда новые Куки и Дюмон-Дюрвили выйдут из вагонов (если б и прежний Дюмон-Дюрвиль вышел из вагона, не сгорел бы он на версальской дороге) и пойдут во внутренность Европы и расскажут нам о нравах и жизни людей, не на железной дороге живущих. Сколько раз я мечтал о том, когда окончат кенигсбергскую дорогу, – как славно и полезно будет путешествовать! Доплелся до Кенигсберга, сел в вагон – и не выходи, пожалуй; машина свистнула и пошла постукивать: Берлин – 4 минуты для наливки воды; Кёльн – 3 минуты для смазки колес; Брюссель – 5 минут для завоевания бутерброда с ветчиной; Валансьен – 4 минуты, для того чтоб доказать французскому правительству, что оно не умеет отыскивать спрятанных сигар; Париж – 15 минут для переезда в омнибусе из одного дебаркадера в другой; Гавр – 3 минуты для перегрузки на пароход… а там в Нью-Йорк и, словом, не успеешь опомниться – и опять в Ситке, в Сибири, т. е. опять дома.
А впрочем, беды большой нет, если до Рейна ничего не увидишь. Комфортабельная обитаемость Европы начинается с Рейна; это знали давно; две тысячи лет тому назад римляне поживали себе в Майнце да Кёльне, а в Ганновер и Берлин не ездили. В Германии нечего смотреть. Германию надобно читать, обдумывать, играть на фортепьянах – и проезжать в вагонах одним днем с конца на конец. Вы помните, как Василий Иванович с негодованием возражал Ивану Васильичу, что он не путешествует, а просто едет к себе в село Мордасы. Василий Иванович тут, как везде, победил близорукого Ивана Васильича: кто же поедет для путешествия в село Мордасы? Германия также не годится au jour d’aujourd’hui[10] (будущее завесою покрыто!) для путешествия; туристу жить в Германии значит отклонять ее от естественного назначения, так, как – ну я не знаю – так, как есть, например, картину; может попадется и вкусная, в которой масло еще свежо, все же это натяжка, и кто не предпочтет всякий салат лучшей картине дюссельдорфской школы, – разумеется, если этот салат приготовила не немка.
Не могу не приостановиться здесь и не вступить по поводу салата в некоторые подробности. Лейбниц и Гейне, Погодин и Шевырев, Гёте и Гегель и другие великие люди попарно и вразбивку согласны, что германский ум при всей теоретической силе имеет какую-то практическую несостоятельность; что немцы велики в науке и являются самыми тяжелыми, и, что еще хуже, самыми тупыми, и, что всего хуже, самыми смешными филистерами. Должна же быть на это какая-нибудь общая причина. Отчего немец всегда наклонен к золотухе, слезам и романтизму, к платонической любви и мещанскому довольству? Отчего немки не умеют одеваться и могут только жить в двух средах – в надзвездном эфире или в кухонном чаду? Отчего немцы умеют слушать Генгстенберга, Гёрреса?.. Оттого, и тысячу раз оттого, что у них фибрин плох, рыхл, дрябл… Томы писали об этом, но истинная причина ускользнула от внимания; она так близка, так под носом, что ее и не разглядели; толковали о Реформации, о Тридцатилетней войне, о бефреюнгскриге, в котором мы их освободили от французов; все это причины второстепенные, – общая главная причина одна – немецкая кухня.
Вам смешно, вы еще настолько идеалисты, что вам все нужны причины бестелесные, невещественные, – а не то что вареные и жареные. Полноте презирать тело, полноте шутить с ним! Оно мозолью придавит весь ваш бодрый ум и на смех гордому вашему духу докажет его зависимость от узкого сапога.
Знаете ли вы, что такое питание? как оно важно? Грант в начале своей сравнительной анатомии определяет животное удобопереносимым мешком, назначенным для претворения пищи. Из этого вы видите (а еще более из того, что человек без ума все человек, а без желудка не проживет двух дней), что все органы – роскошь желудка, внешние украшения его, его орудия. Пора восстать против аристократических частей тела, питающихся на счет желудка и кичащихся на его счет. Есть они – хорошо, нет – недурно; устрица живет себе без головы и без ног, а вкусна; без желудка же никто не живет, даже у растений есть желудок, не совсем на месте, но есть же. Верный своему антиромантическому призванию, желудок у растений уцепился за землю, чтоб растение не ушло к солнцу.
Теперь позвольте вас спросить: при всем германском усердии и преданности, что может выработать желудок немца из пресно-пряно-мучнисто-сладко-травяной массы с корицей, гвоздикой и шафраном, которую ест немец? Если б вы знали весь труд пищеварения, вы увидели бы, что за отчаянную борьбу с мукой и картофелем, что за мужественное противудействие душам из баварского пива каждый немецкий желудок давно заслужил медаль для ношения на дуоденуме с надписью «Pour la digestion»[11]. Где тут выработывать какой-нибудь упругий, самобытный английский или деятельный, беспокойный французский фибрин! Тут не до силы воли, не до расторопности, а чтоб человек на ногах держался да не совсем бы отсырел. Перемените немецкую кухню, и вы увидите, что Арминий недаром спас в «тейтобургской грязи» германскую народность. Такие перевороты, разумеется, не делаются разом, но я верю в прогресс, верю в Германию… Трудно будет – это правда. Когда Гегель жил в Париже у Кузеня, то писал к Гегельше: «Здесь обедают в 6 часов (это его так поразило, как если бы французы ушами читали); я не мог к этому привыкнуть, и мне готовят обед особо в два часа», – что прикажете делать против такой упорной натуры? Но – tempora mutantur[12] – Гегель, Гёте – все это последние могикане. А когда совсем вымрет старая «Юная Германия», вы увидите – кухня не устоит.
Разумеется, если б германская диета занялась диетой Германии и приказала бы, пока можно, отвести, ну хоть в Техас, благо он еще в моде, всех немецких кухарок и заменить их парижскими cordon bleu[13], успех был бы невероятный.
Шутить нечего этим: органическая химия гораздо важнее в политическом отношении, нежели думают. Собственно, вопрос о пролетариате – вопрос кухонный, вопрос социализма – вопрос пищеварения.
Понимая таким образом важность питания, скажем смело, скажем со всей высоты сильного убеждения: проклятие вам, густые супы, как наша весенняя грязь; пресные соусы, как драмы Бирх-Пфейфер; проклятие пяти тарелочкам, на которых подают (между вторым и третьим блюдом!) селедку с вареньем, ветчину с черносливом, колбасы с апельсинами! проклятие курам, вареным с шафраном, дамфнуделям, шарлотам, пудингам, переложенным на немецкие нравы, картофелю, являющемуся во всех видах! проклятие, наконец, корице, гвоздике и лавровому листу, который так не пристал к челу этих москотильных кушаний!.. Вы, Мартин Лютер и филология сделали много вреда Германии.
Недаром я сказал, что комфортабельная обитаемость Европы начинается с Рейна: именно там немецкая кухня приближается к единой и нераздельной кухне; нет худа без добра: в печальное время от 1793 до 1814 рейнская кухня подвергалась сильному влиянию французских поваров, ниспровергнувших во многом нравственно-безвкусный и семейно-пресный характер германских яств. Двадцать один год не шутка, много французских блюд приняла немецкая кухня на свои рейнские очаги и плиты, и они остались на них вместе с Наполеоновским кодексом. Я в Кёльне пообедал первый раз после Москвы, и за это его полюбил, – вот как потребность любви развивается, когда человек сыт… И Рейн славная река! Глядя на нее, забываешь, что она была несчастным поводом, конечно, прекрасной по чувствам и трогательной по патриотизму, но скучной и несколько насмешливой песни:
Оно конечно, Рейн жаль отдать хоть кому, – посторонние люди не умели никогда пройти, не остановившись перед ним, представители всех эпох европейской жизни приходили на рейнские берега и оседали на них; следы этих людей, этих эпох так и наслоились по течению реки. Пройдитесь по одному Кёльну – чего тут нет: несокрушимые стены, тяжелые романские церкви, колоссальный образчик готического собора, дом тамплиеров – мрачных воинов-монахов, угрюмо стоящих на пределах феодализма и централизации; коллегиум иезуитов, мрачных монахов-воинов, угрюмо стоящих на пределах папизма и Реформации; церкви времен Возрождения; присутственные места, устроенные во время владычества единой и нераздельной республики; новые фортификации, напоминающие наполеоновскую эру, и, наконец, леса около собора, свидетельствующие о теперешней Германии медленным производством средневековой работы современными руками. Везде воспоминания, везде легенды, – взгляните наверх: из четвертого этажа выглядывают две лошадиные головы из белого мрамора – тут было чудо; взгляните вниз: вот место, где Христос явился несколько столетий тому назад молившемуся отроку и взял у него яблоко.
Много жил этот край! Много жила вообще Европа. Десятки столетий выглядывают из-за каждого обтесанного камня, из-за каждого ограниченного суждения; за плечами европейца виден длинный преемственный ряд величавых лиц, вроде процессии царственных теней в «Макбете».
Чего и чего не было на Рейне между тем временем, когда Карл Великий на закате своих дней сиживал на известном ахенском стуле, и тем, когда на том же стуле отдыхала после прогулки женщина с огненными глазами, смуглая креолка – императрица французов? А прежде? А с тех пор? Седые, почернелые памятники дают Европе слишком аристократическую физиономию, оскорбительную для того, кто не имеет столько блестящих предков и столько великих преданий. Иногда как-то не по себе нашему брату, скифу, середи этих наследственных богатств и завещанных развалин; странно положение чужого в семейной зале, где каждый портрет, каждая вещь дороги потомкам, но чужды ему; он смотрит с любопытством там, где свои вспоминают с любовью; ему надобно рассказать то, что те знают с колыбели.
А с другой стороны, разве родина нашей мысли, нашего образования не здесь? Разве, привенчивая нас к Европе, Петр I не упрочил нам права наследия? Разве мы не взяли их сами, усвоивая ее вопросы, ее скорби, ее страдания вместе с ее нажитым опытом и с ее нажитой мудростью? Мы не с пергаментом в руке являемся доказывать наши права… да мы их и не доказываем, потому что они неотъемлемы; завоеванное сознанием законно завоевано, его не исторгнешь никаким безумием. Былое наше бедно; мы не хотим выдумывать геральдических сказок, у нас мало своих воспоминаний, – что за беда, когда воспоминания Европы, ее былое сделались нашим былым и нашим прошедшим. Да, сверх того, европеец под влиянием своего прошедшего не может от него отделаться. Для него современность – крыша многоэтажного дома, для нас да для Северной Америки – высокая терраса, фундамент; его чердак – наш rez-de-chaussée[15]. Мы с этого конца начинаем. Как не вспомнить опять:
…И вот у меня в голове не Кёльн, не его собор, а длинный ряд изб да хрустящий снег… Мы выезжали из России зимою снежной, холодной, с коротенькими днями и со всеми неудобствами зимнего ухабистого пути, который выдают за дарованную нам природой железную дорогу; небольшой почтовый тракт, по которому мы ехали, соединяет два шоссе и идет частию по Псковской губернии, частию по Лифляндской; этот путь сообщения беден; две соседственные полосы не пришли через него к одному уровню, и каждая осталась при всех особенностях, как будто между ними тысячи верст. Ни по одной дороге нельзя встретить такую резкую перемену, как переезжая от псковитян к остзейцам. Псковский крестьянин дичее подмосковных; он, кажется, не попал ни правой, ни левой ногой на тот путь, который ведет от патриархальности к гражданскому развитию, – путь, который называют прогрессом, воспитанием, рассказ о котором называют историей. Он живет возле полуразвалившихся бойниц и ничего не знает о них… Сомневаюсь, слыхал ли он об осаде Пскова… События последних полутора веков прошли над его головою, не возбудивши даже любопытства. Поколения через два-три мужичок перестроивает свои бревенчатые избы, бесследно гниющие, стареет в них, передает свой луг в руки сына, внука, полежит год, два, три на теплой печи, потом незаметно переходит в мерзлую землю; иногда вспомянут его дети или внучата гречневыми блинами в родительскую субботу; при новой ревизии его имя исключат из числа живых, потом и внуки поседеют; и, не будь рекрутской повинности, они бы так же, как предки их, ничего не знали о том, что делается в Питере, в России.
А разве жизнь привязанных к земле крестьян во всей Европе не так же проходила и исчезала, изнуренная работой, бесследно и невесело? Разве они не выработывали материальных условий для исторической жизни других сословий? Оно не совсем так, но если и так, то не забудем, что другие-то сословия жили. Когда вы в Генте останавливаетесь перед ратушей, когда смотрите на этот бефруа, сзывавший так часто своими колоколами граждан, вы понимаете, вы чувствуете, что за муниципальная жизнь кипела тут, и понимаете, что ей были необходимы и этот дом, поражающий величием и поэзией постройки, и эта башня, и эти соборы, и эти рынки с фронтонами и что даже амбар, где приставали рыбаки, по праву украсился барельефами; такие декорации шли к внутреннему содержанию. Таковы рыцарские замки, эти соколиные гнезда на скалах и горах. Рыцарская жизнь – жизнь вампира вниз – была пышна, страстна, благородна вверх. Но кому выработывал жизнь наш мужичок? Где у нас память другой жизни? Как жили помещики допетровского времени – кто их знает? Для этого надобно рыться в архивах, это вопрос антикварский. Господские домы сгнили, как избы, и исчезли вместе с памятью строителей, именья переходили из рук в руки, дробились, составлялись случайно, ненужно; помещики пили, ели, спали после обеда, парились, держали дворню и псарню…
Городская жизнь не восходит далее Петра, она вовсе не продолжение прежней; от былого остались только имена. Жизнь современного Новгорода, Владимира, Твери началась с утверждения провинций, с введения коллегиального порядка и определения штата чиновников. Если что-нибудь осталось прежнего, так это у купцов, они по праву могут назваться представителями городской жизни допетровских времен, и, пока они сохранят хоть бледную тень прежних нравов, реформа Петра будет оправдана; лучшего обвинителя старому быту не нужно. Воспоминания помещиков, их легенды примыкают к царствованию Екатерины II, к великим событиям 1812 года; о прежней жизни они ничего не знают; их настоящая жизнь однообразна, скучна, они как будто краснеют от нее и хранят в памяти и любят рассказывать свои поездки в Москву и Петербург и военную службу в молодых летах.
Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при всяком шаге вперед и упорно пребывает в одном и том же положении.
На Востоке, например, меняются только лица, поколения; настоящий быт – сотое повторение одной и той же темы с маленькими вариациями, приносимыми случайностью – урожаем, голодом, мором, падежом, характером шаха и его сатрапов. У такой жизни нет выжитого, keine Erlebnisse[17], – быт азиатских народов может быть очень занимателен, но история – скучна. Мы имели против Азии великий шаг вперед: возможность, понявши свое положение, отречься от него; невозможность влачить скучную жизнь кошихинских времен, – и кто, где так отрекался, как мы? В неполноте, в бедности, в неудовлетворительности прошедшего и в темном сознании сил, которых некуда было девать, – вот где надобно искать легость, с которой по великой команде Петра I: «На европейскую дорогу, марш!» – Русь пошла своими подвижными частями и так резко отделилась в пятьдесят лет от прежнего быта, что ей несравненно было бы труднее при Екатерине II возвращаться к оставленным нравам, нежели догонять европейские. Сколько ни декламировали о нашей подражательности, она вся сводится на готовность принять и усвоить формы, вовсе не теряя своего характера, – усвоить их потому, что в них шире, лучше, удобнее может развиваться все то, что бродит в уме и в душе, что толчется там и требует выхода, обнаружения.
Если б хотели хорошенько всматриваться в события, скорее могли бы обвинить Русь петровскую в нашем себе на уме, которое готово обриться, переодеться, но выдержать себя и в этой перемене. Разве вельможи Екатерины оттого, что они приобрели все изящество, всю утонченность версальских форм (до чего никогда не могли дойти немецкие гранды), не остались по всему русскими барами, со всею удалью национального характера, с его недостатками и с его разметистостью? В них иностранного ничего не было, кроме выработанной формы, и они овладели этой формой en maître[18]. Разве дети их, герои 1812, не были русские, вполне русские? Кто будет возражать – тому я пальцем покажу через улицу Elysée Bourbon, где жил император Александр.
А ведь вся эта екатерининская эпоха, о которой вспоминали, покачивая головой, деды наши, и все время Александра, о котором вспоминали, покачивая головой, наши отцы, принадлежат «к иностранному периоду», как говорят славянофилы, считающие все общечеловеческое иностранным, все образованное чужеземным. Они не понимают, что новая Русь – была Русь же, они не понимают, что с петровского разрыва на две Руси начинается наша настоящая история; при многом скорбном этого разъединения, отсюда все, что у нас есть, – смелое государственное развитие, выступление на сцену Руси как политической личности и выступление русских личностей в народе; русская мысль приучается высказываться, является литература, является разномыслие, тревожат вопросы, народная поэзия вырастает из песней Кирши Данилова в Пушкина… Наконец, самое сознание разрыва идет из той же возбужденности мысли; близость с Европой ободряет, развивает веру в нашу национальность, веру в то, что народ отставший, за которого мы отбываем теперь историческую тягу и которого миновали и наша скорбь и наше благо, – что он не только выступит из своего древнего быта, но встретится с нами, перешагнувши петровский период. История этого народа в будущем; он доказал свою способность тем меньшинством, которое истинно пошло по указаниям Петра, – он нами это доказал!..
И одного часа езды достаточно, чтоб очутиться совсем в другом мире, в мире прошедшего, в мире утрат, воспоминаний, вдовства. Все переменяется, как декорация в театре. Места становятся гористы, дорога извилиста, не те виды, не те ландшафты, к которым мы привыкли, с их луговою далью, с стелющимися полями, с синей полосой у небосклона, которая провожает вас десять верст, пока все небо почернеет… К станционному дому трудно подъехать от крутизны, на которой он стоит. Passagierstube[19] вымыта, вычищена, стол покрыт толстой, но чрезвычайно белой скатертью; в ярком, как солдатская пуговица, медном шандале стоит белая свеча, на окнах тощие цветы, пол посыпан песком. Чистота и опрятность свидетельствуют о длинной цивилизации; человеку надобно долго и много жить, чтоб любить чистое белье и светлую комнату. Через минуту вошел старичок с добродушным видом, исключительно свойственным немцам, в сером фраке со светлыми пуговицами; называя меня при каждом слове то Herr Baron[20], то Herr Freiherr[21], то Hochwohlgeboren[22] – он очень учтиво советовал подождать рассвета, основываясь на начинающейся метели и на опасных обвалах, возле которых надобно было ехать.
Я вышел в сени; страшный ветер свистел между голыми сучьями деревьев, изредка немного и на минуту выглядывал месяц и освещал полуразвалившуюся башню совсем развалившегося замка; на крошечных санках белокурый немец с длинными усами и бичом в руке, в венгерке, опушенной мехом, с ружьем за плечами, промелькнул и исчез на узенькой дороге; лошадь его была без дуги и звенела десятком маленьких колокольчиков; легавая собака бежала за ним, обнюхивая мерзлые кочки. На воротах сарая был прибит орел с развернутыми крыльями. Все это дышало чем-то средневековым. В Лифляндии нет наших деревень, а есть хутора у подножия замков; в хуторах этих живет племя жалкое, зашибенное, бедное средствами, бедное способностями и чуждое ритерам, разбросавшим некогда их лачуги и не позволявшим им селиться деревнями.
Остзейцы сложились, замкнулись, остались при выработанном и вперед нейдут. У нас во всем неопределенность, у них мера; мы не установились, мы ищем, они остановились, они утратили. Мы внутри смеемся над внешними формами и без угрызения совести переступаем их, у них форма прежде всего, выше всего; мы грудью рвемся к новому, они грудью стоят за старое. Мы имеем перед ними преимущество свежих сил и упований, они имеют преимущество выработанных и прочных правил; мы способны, они воспитанны; первоначальный гражданский катехизис знаком им, как всякому европейцу, у нас tabula rasa[23] в этом отношении. Нам с ними скука смертная, потому что мы не можем войти в их местные интересы. У них человек, проживающий две трети дохода, – мот, мы называем скупым того, который не проживает вдвое более своего дохода[24]. Но вспомним однако, что как псковские мужики неполные представители Руси, так и Лифляндия неполная представительница Европы. Лифляндия представляет один элемент европейской жизни, и только один. Европу в первый раз встречает русский путник в Кенигсберге; это не только памятник прошлой жизни, но жилой дом для современности, здесь памятники и воспоминания идут обнявшись с юной жизнию. Славный городок, он оставил в моей памяти самое милое, светлое впечатление.
Я приехал в Кенигсберг усталый от дороги, от забот, от многого; выспавшись в пуховой пропасти, я на другой день пошел посмотреть город; на дворе был теплый зимний день, солнце светило, с крыш капал талый снег, и я вдруг помолодел, точно несколько лет с костей долой; мне показалось, что все встречные смотрят весело и прямо в глаза, и я стал смотреть весело и прямо в глаза, потом отправился за table d’hôte[25] и за бутылкой рассказывал, как из Тильзита скверно везли и какая дорога гадкая. И кельнер тут, и немцы слушают… пускай себе, мне что за дело! Зачем дурно возят!.. Разве я не могу иметь своего мнения? Noch eine Flasche, Kellner!..[26]
…До того заболтался, что не помню, на чем мы остановились и к чему следует теперь возвратиться… да, к другому берегу Рейна. Ну, по ту сторону Рейна как-то привольнее, красивее; но из этого никак не следует, чтоб нам было хорошо. Везде скучно, будьте уверены. А если вам будет не скучно где-нибудь, так я вас поздравляю от души, вы полны мудрости, которой недостает во мне и во многих других. Странное дело, от испарений подземных, что ли, или от влияния планет, но какая-то давящая тоска провожает современного человека от Чухотского Носа до Финистерре, даже такого человека, который всегда смеется. Эта болезнь особенно развилась во время трех-июльских дней и трех-месячной холеры. Разумеется, разные скуки в разных местах; но основа, по которой снует челнок нашей жизни (это выражение я счел бы сам натянутым, если б не знал наверное, что оно краденое, именно у Гёте), скучна, тягостна на разные лады. В Париже – весело-скучно, в Лондоне – безопасно-скучно, в Риме – величаво-скучно, в Мадрите – душная скука, в Вене – скука душная. Что тут прикажете делать! Видно, образованный человек может только не скучать между дикими людьми и ручными зверями, в Африке и в Jardin des Plantes; там люди похожи на обезьян, здесь обезьяны похожи на людей. Вот время какое пришло!
Письмо второе
Париж, 3 июня 1847 г.
В прошлом письме мы говорили о том, что в нашем веке скука страшная, нынче я прибавлю к обвинению нашего века, что не только в нем скучно, но что ни о чем, ни о скучном, ни о веселом, говорить нельзя, – бог знает куда утянет. Все понятия перепутались, сплелись, зацепили друг друга, связались круговой порукой без всякого уважения к полицейским и схоластическим разделениям, к пограничным правилам школьно-таможенного благоустройства.
Следствия этой запутанности самые плачевные: всё, что прежде знали хорошо и ясно, знают скверно и смутно, людские звания и сословия, звериные признаки и отличия царств природы – всё перемешали, везде потеряны пределы.
Прежде могло ли это быть? Все было легко. «Есть междучелюстная кость?» – Есть – скот, нет – человек. «Есть душа?» – Есть – человек, нет – скот. – Были признаки несколько щекотливые, но верные в отношении к прекрасному полу животных и людей. Всё ниспровергнули вместе с незыблемыми авторитетами, благочестивым послушанием и послушным благочестием! Какое, кажется, дело было Гёте, поэту и консерватору, найти междучелюстную кость у человека, а нашел. Другие ученые, жившие в большой близости с орангутангами и жоко, нашли у них признаки, отрицаемые прежней наукой, – и разболтали… Весь этот беспорядок произошел от немецких теорий и французских практик; они подняли все дрожжи со дна общественного быта и со дна сознания человеческого; все и пошло бродить, мир очутился hors des gonds[27]. Возьмешь предмет и не знаешь потом, откуда и как начать.
Мне захотелось, например, сказать несколько слов о здешних театрах. Кажется, дело простое. В прежнее время, не говоря худого слова, я начал бы с того, что в Париже театров двадцать три, что Терпсихора цветет там-то, но что истинные поклонники Талии там-то, хотя великая жрица Мельпомены увлекает туда-то, – и всем сестрам по серьгам. А теперь, чтоб сказать со смыслом пять слов о Фредерике Леметре и Левассоре, мне нужно начать чуть не с Фредерика Барбароссы, и по крайней мере с того Левассёра, который сидел в Конвенте.
Нельзя понять парижских театров, не пустившись в глубокомысленные рассуждения à la Сиэс о том, ce que c’est que le tiers état?[28] Вы идете сегодня в один театр – спектакль неудачный (т. е. неудачный выбор пьес, играют здесь везде хорошо); вы идете на другой день в другой театр – та же беда, то же в десятый день, в двадцатый. Только изредка мелькнет изящный водевиль, милая шутка или старик Корнель со стариком Расином величаво пройдут, опираясь на молодую Рашель и свидетельствуя в пользу своего времени. – Между тем театры полны, длинные «хвосты» тянутся с пяти часов у входа. Стало, парижане поглупели, потеряли вкус и образование; заключение основательное, приятное и которое, я уверен, многим очень понравится; остается узнать, так ли на самом деле; остается узнать, весь ли Париж выражают театры, и какой Париж – Париж, стоящий за ценc,или Париж, стоящий за ценсом;это различие первой важности.
– Знаете ли, что всего более меня удивило в Париже? – «Ипподром? Гизо?» – Нет! – «Елисейские Поля? Депутаты?» – Нет! Работники, швеи, даже слуги, – все эти люди толпы до такой степени в Париже избаловались, что не были бы ни на что похожи, если б действительно не походили на порядочных людей. Здесь трудно найти слугу, который бы веровал в свое призвание, слугу безответного и безвыходного, для которого высшая роскошь сон и высшая нравственность ваши капризы, – слугу, который бы «не рассуждал». Если вы желаете иметь слугу-иностранца, берите немца: немцы охотники служить; берите, пожалуй, англичанина: англичане привыкли к службе, давайте им денег и будете довольны; но француза не советую брать. Француз тоже любит деньги до лихорадочного, судорожного стремления их приобрести; и он совершенно прав: без денег в Париже можно меньше жить, нежели где-нибудь, без денег вообще нет свободного человека, разве в Австралии. Пора бы перестать разглагольствовать о корыстолюбии бедных, пора простить, что голодным хочется есть, что бедняк работает из-за денег, из-за «презренного металла»… Вы не любите денег? Однакож – сознайтесь, немножко – деньги хорошая вещь; я их очень люблю. Дело совсем не в ненависти к деньгам, а в том, что порядочный человек не подчиняет всего им, что у него в груди не все продажное. Француз-слуга будет неутомим, станет работать за троих, но не продаст ни всех удовольствий своих, ни некоторого комфорта в жизни, ни права рассуждать, ни своего point d’honneur[29]; делайте требования, он будет исполнять, но не делайте грубости; впрочем, здесь никто не грубит с прислугой. Портье не потянет шнурка по грубому крику cordon![30] – ему непременно надобно s’il vous plait[31]; до полиции доходили подобные дела, и полиция, вменив в обязанность дворникам отпирать целую ночь дверь, присовокупила совет: шнурок требовать учтиво. О суетные галлы!
Француз-слуга, милый в своем отсутствии логики, хочет служить как человек (т. е. в прямом значении, у нас в слове «человек» заключается каламбур, но я говорю серьезно). Он не обманывает вас своею привязанностию, а с беззаботной откровенностью говорит, что он служит из денег и что, будь у него другие средства, он бы вас покинул завтра; у него до того душа суха и полна эгоизма, что он не может предаться с любовью незнакомому человеку франков за пятьдесят в месяц. Здешние слуги расторопны до невероятности и учтивы, как маркизы; эта самая учтивость может показаться оскорбительною, ее тон ставит вас на одну доску с ними; они вежливы, но не любят ни стоять навытяжке, ни вскочить с испугом, когда вы идете мимо, а ведь это своего рода грубость. Иногда они бывают очень забавны: повар, нанимающийся у меня, смотрит за буфетом, подает кушанье, убирает комнаты, чистит платье, – стало, не ленив, как видите, но по вечерам, от 8 часов и до 10, читает журналы в ближнем café, и это conditio sine qua non[32].
Журналы составляют необходимость парижанина. Сколько раз я с улыбкой смотрел на оторопелый взгляд новоприезжего помещика, когда garçon[33], подавши ему блюдо, торопливо хватал лист журнала и садился читать в той же зале.
Слуги, впрочем, еще не составляют типа парижского пролетария, их тип – это ouvrier, работник, в слуги идет бездарнейшая, худшая часть населения. Порядочный работник, если не имеет внешних форм слуги, то по развитию и выше и нравственнее.
«Избалованность», о которой мы говорили, одно из последствий прошлого переворота; на него мало обращали внимания, потому что оно вертится около кухни и передней, а оно не лишено важности. Большая часть парижских слуг и работников – дети и внучата солдат «великой армии», дети и внучата угомонившихся крикунов предместий св. Антония и Марсо, состарившихся трибунов des sections[34]. Несмотря на отеческие старания иезуитов и вообще духовных во время Реставрации воспитать юное поколение в духе смирения и глубокого неведения своего прошедшего, это было невозможно. Напрасно издавали они для школ книжки, в которых говорили о фельдмаршале войск Людовика XVIII Буонапарте и о кротком царствовании Людовика XVII, перенесшего столицу и двор в Кобленц по случаю чуть ли не переделки полов в Тюльери. Деды, отцы и матери – матери, всемогущие в деле воспитания во Франции, – совращали постоянно юное поколение с скромной тропинки, по которой вели его признанные учители, т. е. les frères ignorantins, своими умеренными правилами, почерпнутыми из скромного «Друга народа», почтенного «Отца Дюшена» и смиренного «Старого Корделье»; вместо доказательств присовокуплялись рассказы. Такое воспитание должно было сделать новое поколение состарившихся gamins de Paris[35] грубыми, дерзкими, наглыми – не правда ли? А вышло совсем наоборот: молодое поколение гуманно, вежливо, даже нежно, вообще мягко до тех пор, пока не затронуто. Что за уважение к женщине, что за трогательное внимание к детям!
Есть бедные, маленькие балы, куда по воскресеньям ходят за десять су работники, их жены, прачки, служанки; несколько фонарей освещают небольшую залу и садик; там танцуют под звуки двух-трех скрипок. Это не знаменитый Mabille и не Ranelagh, не канканной памяти «Хижина», где освещенье, деревья, трава – все пропитано сладострастием, где пульс бьется как-то не по-людски и где шалость иногда бы зашла далеко, если б… не угрызения совести, думаете вы?.. нет, если б не рука муниципала, готовая ежеминутно схватить за ворот… На этих бедных балах все идет благопристойно; поношенные блузы, полинялые платья из холстинки почувствовали, что тут канкан не на месте, что он оскорбит бедность, отдаст ее на позор, отнимет последнее уважение, и они танцуют весело, но скромно, и правительство не поставило муниципала, в надежде на деликатность – учеников слесарей и сапожников!
В праздник на Елисейских Полях ребенок тянется увидеть комедию на открытом воздухе, но как же ему видеть из-за толпы?.. Не беспокойтесь, какой-нибудь блузник посадит его себе на плечо; устанет – передаст другому, тот третьему, и малютка, переходя с рук на руки, преспокойно досмотрит удивительное представление взятия Константины с пальбой и пожаром, с каким-то алжирским деем, которого тамбурмажор водит на веревке. – Дети играют на тротуаре, и сотни прохожих обойдут их, чтоб им не помешать. На днях мальчик лет девяти нес по улице Helder мешок разменянной серебряной монеты; мешок прорвался, и деньги рассыпались; мальчик разревелся, но в одну минуту блузники составили около денег круг, другие бросились подбирать, подобрали, сосчитали (деньги были все налицо), завернули и отдали мальчику.
Это все Париж, за ценсом стоящий. Но не таков буржуа, проприетер, лавочник, рантье и весь Париж, за ценс стоящий. А этот-то Париж и выражается театром, и в этом он делит судьбу своего товарища du Palais Bourbon – Камеры. Театры держатся теми, кто платит наибольше; расходы на двадцать три театра страшные; кто же покрывает их, да еще с избытком (министр внутренних дел в прошедшем году продал в пользу «Эпохи» привилегию на театр за 100 000 франков)? Конечно, все это выкупается не дюжиною иностранцев: богатая буржуазия платит за все, и театр всего более выражает потребности, интересы мещанства. А разве прежде это было не так, – т. е. когда прежде? Некогда театр был аристократичен, потом бесцветен и официален, как все литературное, во время Наполеона. Во время Реставрации он стал склоняться к буржуазии, но буржуазия была тогда национальнее, она была зла, остра, умна, считала себя обиженною и не выступала так толсто и тупо-рельефно на первый план, как теперь.
Буржуазия явилась на сцене самым блестящим образом в лице хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское, цирюльника и дворецкого, словом – в лице Фигаро; а теперь она на сцене в виде чувствительного фабриканта, покровителя бедных и защитника притесненных. Во время Бомарше Фигаро был вне закона, в наше время Фигаро – законодатель;тогда он был беден, унижен, стягивал понемногу с барского стола и оттого сочувствовал голоду и в смехе его скрывалось много злобы; теперь его бог благословил всеми дарами земными, он обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит в бедность, называя ее ленью и бродяжничеством. У обоих Фигаро общее – собственно одно лакейство, но из-под ливреи Фигаро старого виден человек, а из-под черного фрака Фигаро нового проглядывает ливрея, и, что хуже всего, он не может сбросить ее, как его предшественник, она приросла к нему так, что ее нельзя снять без его кожи. У нас это сословие не так на виду, в Германии оно одно и есть с прибавкою теологов и ученых, но как-то смиренно, мелко и из рук вон смешно; здесь оно дерзко и высокомерно, корчит аристократов, филантропов и людей правительственных.
Вспомните всех Бриколеней, Галюше и др. в романах Ж. Санда – вот буржуа. Впрочем, позвольте, справедливость прежде всего. Ж. Санд выставляет дурную сторону буржуазии; добрые буржуа читают ее романы со скрежетом зубов и запрещают их брать в руки своим мещаночкам… в сторону ее! Я рекомендую лучший источник, патентованный, breveté de par la bourgeoisie[36] – Скриба. Скриб – гений, писатель буржуазии, он ее любит, он любим ею, он подладился к ее понятиям и ее вкусам так, что сам потерял все другие; Скриб – царедворец, ласкатель, проповедник, гаер, учитель, шут и поэт буржуазии. Буржуа плачут в театре, тронутые собственной добродетелью, живописанной Скрибом, тронутые конторским героизмом и поэзией прилавка. Они узнают себя и свои идеалы в скрибовских героях, они улыбаются себе в них, перемигиваются с ними, – словом, признают их столько, сколько отвергают портреты Ж. Санд. Ну, если после этого скрибовские герои отвратительнее, тупее, мелче всех Бриколеней и Галюше вместе, то нельзя не сознаться, что для буржуазии не на месте быть казовым концом Франции.
Буржуазия не имеет великого прошедшего и никакой будущности. Она была минутно хороша как отрицание, как переход, как противуположность, как отстаивание себя. Ее сил стало на борьбу и на победу; но сладить с победою она не могла: не так воспитана. Дворянство имело свою общественную религию; правилами политической экономии нельзя заменить догматы патриотизма, предания мужества, святыню чести; есть, правда, религия, противуположная феодализму, но буржуа поставлен между этими двумя религиями.
Наследник блестящего дворянства и грубого плебеизма, буржуа соединил в себе самые резкие недостатки обоих, утратив достоинства их. Он богат, как вельможа, но скуп, как лавочник. Он вольноотпущенный. Французское дворянство погибло величественно и прекрасно; оно, как могучий гладиатор, видя неминуемую смерть, хотело пасть со славою; памятник этого героизма – 4 августа 1789 г.; что ни толкуй, а в добровольном отречении от феодальных прав есть много величественного.
В то время вы уже встречаете во Франции класс людей, который при общей потере приобретает: дворянство лишается прав – они усугубляют свои; народ умирает с голоду – они сыты; народ вооружается и идет громить врагов – они выгодно поставляют сукна, провиант. Народ завоевывает всю Европу, по всей Европе течет реками его кровь – они пользуются континентальной системой. Во время ужасов второго террора, terreur blanche[37], как говорят французы, буржуа делается избирателем и депутатом, и тут, как мы сказали, начинается его вторая lune de miel[38], лучшее время его жизни после Jeu de Paume[39]. Но осторожных правил своих Фигаро не оставил: его начали обижать – он подбил чернь вступиться за себя и ждал за углом, чем все это кончится; чернь победила – и Фигаро выгнал ее в три шеи с площади и поставил Национальную гвардию с полицией у всех дверей, чтоб не впускать сволочь. Добыча досталась ему – и Фигаро стал аристократом – граф Фигаро-Альмавива, канцлер Фигаро, герцог Фигаро, пэр Фигаро. А религии общественной все нет; она была, если хотите, у их прадедов, у непреклонных и настойчивых горожан и легистов, но она потухла, когда миновала в ней историческая необходимость. Буржуа это знают очень хорошо; чтоб помочь горю, они выдумали себе нравственность, основанную на арифметике, на силе денег, на любви к порядку. Один лавочник рассказывал, что он во время барбесовского дела лишь только услышал, что что-то есть, взял свое ружье и целый день ходил возле дома. «Да с которой же стороны вы были?» – спросил его один молодой человек. – «О, я не мешаюсь в политику, – отвечал он. – Мне все равно, лишь бы общественный порядок был сохранен; я защищал порядок».
Недаром Ж.-П. Рихтер смеется над теми людьми, которые из любви к порядку десять раз кладут вещь на одно и то же место, ни разу не давши себе отчета, почему эта вещь должна лежать именно на том месте. Любовь к порядку и самосохранение много способствовали к тому, чтоб буржуазия из класса неопределенного перешла в замкнутое сословие, которому границы – электоральный ценс вниз и барон Ротшильд вверх. Малейшие изгибы этого сословия изучил Скриб и на все дал ответ.
Он наругался над мечтами юноши, чувствующего художественное призвание, и окружил его уважением и счастием, когда он сделался честным конторщиком; он к земле приклонил голову бедного и отдал его во власть хозяина, которого воспел за то, что он любил, чтоб работник повеселился в воскресный день. Он даже вора умел поднять за то, что он, разбогатевши, дает кусок хлеба сыну того, которого ограбил, – и так это ловко представил, что хочется пожурить сына за то, что его отец был неосторожен и плохо деньги берег. Казалось бы, воровство – страшнейшее из всех преступлений в глазах буржуазии… но Скриб и тут знал, с кем имеет дело: вор уже негоциант, уменье нажиться и хорошо вести свой дом смывает все пятна. А как позорно всякий раз наказывается у Скриба женщина за каприз, за минуту увлеченья, даже за шалость! Как она всякий раз одурачена, осмеяна, и как муж торжествует, исправляет, прощает! Буржуа – деспот в семье, тиран детей, тиран жены. Не судите о положении француженки по bal de l’Opéra[40], по амазонкам Булонского леса, по гризеткам, играющим на бильярде в Люксембургском саду, по жительницам квартала Nôtre Dame de Lorette… или, лучше, судите по этим живым, беззаботным, веселым, полькирующим, смеющимся образцам: какая потребность веселья, игры, шутки, блеска, наслаждений в француженке! Ей надобно проститься со всем этим, идучи к мэру с своим женихом. Для того, чтоб принимать участие в веселостях, ей надобно отказаться быть женой.
В Париже, как некогда в Афинах, а потом в Италии, почти нет выбора между двумя крайностями – или быть куртизаной, или скучать и гибнуть в пошлости и безвыходных хлопотах. Вы помните, что речь идет о буржуазии; сказанное мною не будет верно относительно аристократии, но ведь ее почти нет.
Кто наряжается, веселится, танцует? – La femme entretenue[41], двусмысленная репутация, актриса, любовница студента… Я не говорю о несчастных жертвах «общественного темперамента», как их назвал Прудон; те мало наслаждаются, им недосуг. Вместе с браком француженка среднего состояния лишается всей атмосферы, окружающей женщину любовью, улыбкой, вниманием. Муж свозит ее в дребезжащей ситадине на тощей кляче в Père Lachaise или, пользуясь дешевизной, отъедет по железной дороге станцию, свозит в Версаль, когда «бьют фонтаны», да раза два-три в театр, – вот ей на год и довольно. За эту жизнь современную буржуазию прославили семейно-счастливой, нравственной. Но такой почетной репутации мало для буржуазии, она имеет сильное поползновение аристократничать, хотя терпеть не может аристократов, потому что боится их превосходства в формах; слону смерть хочется иной раз пробежать газелью, – да где же научиться? – А Скриб на что? – Скриб надевает на себя ливрею швейцара и отворяет двери в аристократические залы времен регентства и Людовика XV; но хитрый царедворец умел везде выказать суетность обитателей этих зал рококо, перед вальяжностью зрителей: вы лучше – говорит он им – этих пустых людей, у них была только манера, се quelque chose[42]. – «Отчего же и нам не иметь ce quelque chose?» – думает слон-газель и весело тащит из ложи свой живот и, улыбаясь, ложится спать. Он же ведь лучше!
Страсть к шутке, к веселости, к каламбуру составляет один из существенных и прекрасных элементов французского характера; ей отвечает на сцене водевиль. Водевиль – такое же народное произведение французов, как трансцендентальный идеализм немцев.
Но вы знаете пристрастие людей не совсем воспитанных ко всему неприличному; для них только сальное остро, только циническое смешно. Буржуа, строгий блюститель нравов у себя в доме, любит отпустить полновесную шутку, заставить покраснеть двусмысленным намеком девушку; он и дальше идет – он любит и поволочиться, вообще любит развратик втихомолку, такой развратик, который не может никогда его поставить лицом к лицу с его обличенной совестью в треугольной шляпе, называемой полицейским служителем; он развратен включительно до статей кодекса о дурном поведении граждан. На сцене все это отразилось, как следовало ожидать; водевиль (из десяти девять) принял в основу не легкую веселость, не искрящуюся остротами шутку, а сальные намеки. Так, как в классических трагедиях, боясь потрясти нервы, убивали за сценой, так во многих пьесах новой школы вас заставляют предполагать за кулисами… не убийство, нет, – совсем противоположное. Терпеть не могу пуританской строгости, люблю смотреть и на свирепый канкан и на отчаянную польку; но, воля ваша, есть нечто грустное и оскорбительное в зрелище двадцати зал, в которых набились битком люди с шести часов вечера для того, чтоб до двенадцати восхищаться глупыми пьесами, сальными фарсами, и это всякий вечер. Пристрастие к двусмысленностям и непристойностям испортило великие сценические дарования; художники, увлекаемые громом рукоплесканий (на которые здесь очень скупы), так избаловались, что они каждому слову, каждому движению умеют придать нечто… нечто кантаридное. Ни Дежазе, ни Левассор не изъяты этого недостатка.
Было время, когда острая и сметливая публика умела ловко поднять всякий политический намек, всякую смелую мысль; это было во время беранжеровских песен и памфлетов Курье; нынче она охладела к идеям, к «словам»; да и, к тому же, хорошо было фрондерствовать во время Реставрации, а теперь мы сами стали консерваторами и боимся слишком зацеплять политику.
Зато, что касается героизма, до высокой отваги, – буржуа беспримерен; недаром он с себя снял исторический мундир той Национальной гвардии – первой. Людовику-Филиппу стало жаль мундир, который он нашивал в грозную годину; он разрешил другим носить тунику и кепи, а сам остался попрежнему в старом мундире. Надобно видеть что делается, когда в опере поют: «L’Anglais ne règnera»[43], – вопль, шум, треск, – буржуа, вне себя от патриотизма, кричит: «Ne règnera! Ne règnera!»[44] и смотрит с гордым видом на какого-нибудь секретаря лорда Норменби, который, не двигаясь ни одним мускулом, как гибралтарская скала, сидит в ложе, в белом галстуке из крашеной стали и с одной венозной кровью в лице. Приезжий издалека мог бы подумать, что война между Англией и Францией во всем разгаре, что английский флот стал на якоре в Булонском лесу и что Мафусаил-Веллингтон дерется с Мафусаилом-Сультом в Батиньолях, – а это еще entente cordiale![45]
После этого введения можно бы поговорить о театре, но отчего же не поговорить о нем в следующем письме?..
P. S. Перечитывая письмо, мне захотелось прибавить еще несколько слов о прислуге. О тягости, несправедливости, взаимном стеснении и взаимном разврате, происходящем от лакейства, говорят давно; но, не будучи диким или Жан-Жаком, как же обойтись без частной прислуги? В Париже частная прислуга со всяким днем становится менее нужною. Люди ограниченного состояния не имеют своих слуг – и живут очень удобно. Необходимость делает в этом отношении, как и во всех, то, о чем убеждение красноречиво разглагольствует. Все мы страшные теоретики, а на приложения смотрим свысока, мы носимся на воздушном шаре по воскресеньям – а в будни наша жизнь течет себе и утекает по грязной и глинистой почве.
Приложение вовсе не легко, оно-то и трудно. В теории можно понять всякую истину, всякую мысль, а на практике не устроишь свой домашний быт. Нравственные перевороты тогда совершаются действительно, когда они делаются истиной около очага, когда они становятся поведением, образом действия, привычкой, если хотите. Вот почему я придаю чрезвычайную важность тому, что здесь устроилась, осуществилась возможность до некоторой степени обходиться без частной прислуги… Но как же и чем заменяется эта третья рука, этот соподчиненный член, делающий для вас все, что вам не хочется для себя делать? Я вам сейчас расскажу.
Парижские квартиры чрезвычайно удобны, в какую цену ни возьмите – от 1000 фр. в месяц до 500 в год. Везде зеркала, занавески, мебель, посуда, мраморный камин, столовые часы, кровати с пологом, ковры, туалеты, – везде завоеваны у самого небольшого пространства все его возможности и на все наброшено это нечто, се fion[46], придающее маленьким комнатам светлый, веселый вид; в каждой комнате висит непременно шнурок. До него-то я и добираюсь. Шнурок идет в ложу консьержа или портье. Портье и вся семья его вечно готовы к услугам постояльцев; в больших домах у них есть помощники. Портье чистит вам платье и сапоги, портье натирает парке, обтирает пыль, моет окна, портье ходит за табаком, за вином, за бифстеком и котлетами; портье получает ваши письма, в его ложу бросают ваши журналы, ему отдают визитные карточки; портье освещает лестницу в начале вечера и запирает наружную дверь, портье отпирает ее, в какое бы время вы ни пришли, у него горит свеча, вы берете свой ключ, зажигаете ночник и идете спокойно, зная, что вас не ждут. Как портье успевает? – Это труднее сказать, нежели как Пинети делал из мыши пятак и из пятака птицу, – я не знаю как; где он спит, когда отдыхает – это тайна; дело в том, что он с своей семьей или с помощником так ловко улаживает свою службу, что он везде, и притом ложа никогда пуста не бывает. Но не опасно ли ему отдать ключ, можно ли положиться на него? – Как на каменную стену! – Да отчего же это? – Причины есть. Во-первых, проприетер или общий наемщик с большой осторожностью нанимает портье, а во-вторых, он в большом доме, в центре Парижа получит в год от двух до двух с половиною тысяч франков[47]. На него можно положиться, потому что он не нищий; само собою разумеется, он имеет свои счеты и с винопродавцем, и с мелочным торговцем, имеет свой revenant-bon[48], как министры имеют свой.
Утром, прежде нежели вы проснулись (я предполагаю, что вы нормальный человек и, следственно, просыпаетесь вовремя, т. е. никак не ранее 8 часов), платье ваше готово, вода принесена (особым водоносом); стоит одеться и идти в café, который в двух шагах, читать журналы. Но вы не любите, может быть (так, как я), рано выходить из дому, это от вас зависит, только за лень с вас надобно взять 20 фр. в месяц лишнего, и в назначенный час garçon de café[49] принесет вам кофейник и девочка из ближнего литературного бюро десяток журналов. Теперь к обеду. Дома готовить кушанье дорого, гораздо дороже, нежели ходить в лучший ресторан; за два франка вы будете сыты везде, прибавьте франк – и вас жажда томить не будет, вам дадут полбутылки медока (возможного). Прибавьте еще франк – все это принесут на дом. Шутка – 5 франков! Ну, а денег нет, так ходите за общий стол и обедайте за 2 фр. и даже за 1 фр. 50 с. с вином. Держать своих лошадей нелепо: превосходные voiture de remise[50] и прескромные ситадины и кабриолеты к вашим услугам; цена назначена. Приехали на бал, в театр, мальчик отворяет карету и кладет под ноги доску, если грязно, за один су. Шинель ваша или пальто отдается при входе за пять су; на что же вам лакей? А кто же приведет карету? Здесь нет жандармов, громко взывающих и повторяющих вашу фамилию; такой же мальчик в блузе за су отыщет карету. Когда же крайность в частной прислуге? Вы всегда можете за делом позвать портье – затопить ли камин, бросить ли письмо в ящик; но, разумеется, он помер бы со смеху или разразился бы ругательствами, если бы вы его позвали на пятый этаж затем, чтоб он набил вам трубку или подал платок из другой комнаты; да в этом-то и состоит нравственная выгода образованной жизни, что она отучает от диких привычек. Женатому горничная также не нужна: жена портье, его дочь, сестра будет и одевать, и раздевать, и шнуровать, и сплетничать – словом, делать все необходимое. Дети требуют кухарку или повара, за ними нужна нянька; но нет необходимости их не отдавать в пансион; для большинства детей, разумеется, лучше, чтоб они были в пансионах, нежели свидетелями всего, что делается под родительским кровом.
Из этого вы видите, что без частной прислуги обойтись можно… Вообразите теперь спокойствие такой жизни; она становится мужественнее, чище; вообразите удовольствие, приносимое отсутствием лишнего человека, чуждого, постороннего, бесстрастного свидетеля всех ваших дел.
Постскриптум мой я бы посвятил М. П. Погодину, так много в нем франков и сантимов; но ведь я со стороны дороговизны, я рад ей, я со стороны «payez, messieurs, si vous êtes assez riches»[51], a утопия M. П. - жизнь бессребренная, т. е. не тратящая серебра; он ненавидит алчность ближнего к деньгам, он и дальнему Лондону загнул: «Марфа, Марфа, печешися о мнозе!».
Письмо третье
Париж, июня 20 1847 г.
Если я вас огорчил в прошлом письме моими замечаниями о парижских театрах, то постараюсь несколько утешить теперь; на дворе идет мелкий дождь, мокрый солдат, в красных панталонах, с прекислой рожей, прижался к будочке у стены Elysée Bourbon, и на сердце что-то тяжело, – самые счастливые условия для критики доброй, все видящей в розовом свете.
Само собою разумеется, что не все же пошло на парижских сценах, как вас уверяет второе письмо; я решительно не согласен со вторым письмом. «В семье не без урода», – говаривал часто один добрый чиновник, рассказывая, что его племянник до того пристрастился к наукам, что вышел в отставку. Вот, для примера, хоть бы и «Парижский ветошник» Ф. Пиа, которого дают беспрестанно и все-таки желающих больше, нежели мест в театре Porte-St.-Martin. Конечно, многие ходят для Фредерика Леметра, но в пошлой пьесе Фредерик не мог бы так играть. Он беспощаден в роле «ветошника» – иначе я не умею выразить его игры; он вырывает из груди какой-то стон, какой-то упрек, похожий на угрызение совести. Королева Виктория спросила Леметра, после нескольких сцен, сыгранных им из драмы Пиа на Виндзорском театре, глубоко тронутая и со слезами на глазах: «Неужели в Париже много таких бедняков?» – «Много, в. в., – отвечал Леметр со вздохом. – Это парижские ирландцы!»
С первого явления пьеса настроивает вас особенно приятно. Зимняя ночь, сбоку Аустерлицкий мост, каменная набережная Сены тянется перед глазами, два фонаря слабо освещают берег, за рекой видны домы, лес труб, которые придают Парижу его оригинальный вид, кой-где мелькают огоньки. На скамье сидит оборванный человек; из его слов видно, что он совершенно разорился, принялся было за промысел ветошника, но и это не идет. Непривычный к нищете, он решается броситься в Сену. Но является другой ветошник с своим фонарем и сильно выпивши (Леметр); он в нищете – как рыба в воде, поет песни, покачивается и уговоривает своего товарища не бросаться в воду. «В газетах будут говорить и имя напечатают, с разными неприятными рассуждениями»; то ли дело с горя придерживаться синего и горького trois-six, fil-en-quatre[52] и ходить к Paul Niquet. По несчастию, тот не восхищается заведением Paul Niquet и предпочитает смерть водою смерти спиртом. Пьяница сердится и уходит, говоря ему, что, если ему очень хочется, пусть себе топится. Тот бы и утопился без этой встречи, но, развлеченный ею, он подумал, подумал – да и остался. Но что же он будет делать с мрачной злобой, с отчаянием, с недостатком мужества? Он сам не знает; но вот идет commis de bureau[53], с портфелем… чего тут думать… хвать его дубиной по голове, тот растянулся, бедняк его докончил, взял деньги и давай бог ноги. Тишина. Фонари так же горят, труп валяется на тротуаре, через минуту идет молча, мерными шагами рунд, видит мертвое тело и останавливается. – Вот каннибальский пролог, которым автор вводит вас в мир голода и нищеты, роющийся под ногами, копающийся над головой, – мир подвалов и чердаков, мир грустного самоотвержения и свирепых преступлений.
Проходит несколько лет. Сцена представляет верхний этаж, нечто вроде чердака; с одной стороны каморка, в которой при тоненькой свече шьет бедно одетая девушка платье; с другой – над лестницей догадливый проприетер выгадал нечто вроде полатей, вроде балкона, клетки, большого короба, – старик-ветошник спит совсем одетый на койке; это его комната. Девушке грустно и тяжело, бедность ее гнетет, она сирота… работа, работа и вечная работа из-за куска хлеба, никакой радости, никакого утешения! Она кончила платье, платье пышное, богатое; счастливица какая-то будет его носить, поедет в нем в театр, в оперу, а она будет шить что-нибудь другое в той же каморке, в печальном уголку своем, – и будто можно так жить в 18 лет и с французской кровью в жилах! Мария примеривает платье, чтоб узнать, нет ли складок… дитя, она хитрит с собою: ей просто хочется увидеть на себе такой наряд; оделась – к лицу ей платье, и она чуть не плачет; вдруг раздается карнавальная музыка, шум, хохот, маски идут мимо, потом шум на лестнице, и несколько швей, одетых дебардерами и гусарами, врываются в ее комнату. Мария в прекрасном платье… вот чудо, вот прелесть, в оперу, в оперу!.. Она не хочет, т. е. она хочет, но что-то страшно, она никогда не бывала… «Они будут потом ужинать, их звали, будут есть омара и мороженое» – она едет. А ветошник в это время встает, зажигает свой фонарь и идет, кряхтя, на работу – подбирать остатки, обглодки жизни, пронесшейся накануне; ночь – его юбилейный день.
Сцена меняется, один из кабинетов Maison d’Or; камин горит, лампы, свечи, зеркала – блеск такой, посетителей много; кто воротился из оперы еще в маскарадном платье без маски, кто сидел тут целый вечер, одни заказывают ужин, спорят о блюдах, другие требуют вина; какой-то молодой человек, развалясь с сигарой на кресле, философствует, все ждут дебардеров; вот и они – веселые, живые, кто садится на стол, кто полькирует, кто пьет. Их обнимают, их угощают, с ними любезничают – так, как вы, mio caro[54], знаете очень хорошо, и так, как вы, cara mia[55], никогда не узнаете. Но наша бедная девушка, в первый раз попавшаяся в такую компанию, перепуганная, не знает, что делать, она инстинктом поняла оскорбление, поняла что-то неловкое, дурное во всем этом, она взволнована. Сначала ее не замечают, потом добрались и до нее, начинают преследовать, интриговать, требуют, чтоб она сняла маску; она не снимает; маску срывают, – робкая и пугливая, она не знает, что делать. По счастию, философ с сигарой защитил ее от диких выходок своих товарищей; его поразил невинный и страждущий вид девушки, он даже взялся проводить ее до дому. И вот опять ее комната на сцене; она еще не возвращалась, какая-то женщина в салопе приходила тайком, пошныряла в комнате, потом ушла. Является и Мария, расплаканная и огорченная; сверх всего остального, платье залито, изодрано. Ну, вот ей и опера, и этот шум света, о котором она мечтала; раскаяние, стыд и горе – вот что осталось от всего. В порывах негодования и досады она решается лишить себя жизни, у ней никого нет на белом свете, кроме старого ветошника, друга-соседа, соседа-отца. Она пишет к нему записку, кладет ее ему на стол и приготовляет все нужное для угара; но вдруг раздается крик новорожденного… она смотрит – на ее кровати подброшенное дитя. Вы знаете великую физиологическую связь между женщиной и ребенком. Мария решается жить, потому что ей некуда деть ребенка… не покинуть же его, беспомощного, слабого, так. Между тем и старик вскарабкался в свою клетку, с корзинкой всякой дряни, с костями, которые перешли от барина к слуге, от слуги к собаке, от собаки достались ветошнику; но на этот раз находка была получше: père Jean[56] нашел десять тысяч банковыми ассигнациями; старик мечтает о награде, которую дадут ему, когда он возвратит деньги, – вдруг ему попадается записка Марии, он бежит к ней, и что же? – находит ее с новорожденным. «Так вот оно что!» – и он, как громом пораженный, падает на стул.
Да что у него за отношения к Марии, что он на старости лет влюблен в нее, или что за странная дружба седого старика с восемнадцатилетней девушкой? Он влюблен в нее, он любит ее как отец, он любит ее как друг; беспредельно нежное чувство его к Марии совершенно понятно, особенно понятно во Франции, всего понятнее в Париже. Бедные люди в Париже иногда впадают в какую-то одичалость, в кретинизм даже, особенно приходящие в Париж искать работы – все эти савояры, оверньяты; но это исключение – исключение, к которому принадлежат уличные нищие. Собственно парижские бедняки имеют, сверх затаенного негодования, голову, поднятую вверх, они психически развиты гораздо более, нежели вы предполагаете в этих организациях, бледных от дурного воздуха, от гнетущей нужды, от беспрерывных лишений, от зависти… да, от зависти!.. («Ну, уж это скверно!» Разумеется, любезный моралист, что же вы покраснели? Надобно уметь довольствоваться голодом, ходя мимо Шеве)… В душе их есть что-то верно чувствующее, метко понимающее и притом беспредельно грустное и нежное. Чистота и нравственность далеко не чужды им; разврат имеет свои пределы, опускайтесь по лестнице общественных положений, вы будете с каждым шагом находить более и более пороков и гадостей; но опуститесь на самое дно, вы найдете столько же добра и нравственности, сколько падения и преступного; разврат самый гнусный – принадлежность низшего слоя буржуазии, а не народа, не работника. Знаете ли, что народ, что бедняки берегут свою репутацию, что они редко протянут руку прохожему, а если и протянут, то не унижаясь, что они не всегда возьмут на водку и почти никогда не просят. Это не англичане, не немцы, – это парижане.
Парижский воздух – великое дело, он во все шесть или семь этажей, в чердаки и подвалы, в антресоли и первые этажи, в трубы и щели дует одним и тем же; буржуазия закрывает ставни, конопатит дыры от него; но бедняк не прячется, и он ему навевает разные мысли; ветошник, найдя минуту покоя, вытаскивает вчерашнюю газету и читает, закусывая черствым хлебом. Масса стремлений, понятий и мыслей, проникнувшая в низшие классы и поддерживающая лихорадочное и болезненное расположение духа, чрезвычайно велика; она-то и есть главная хранительница их нравственности; теряя ее, бедняки впадают в страшную жизнь «парижских тайн», с нею они типы героев Ж. Санд. Такова Мария, но ведь и père Jean таков, ведь и это чисто парижский продукт, «гриб, выросший на парижском навозе»; его колыбель, родина, училище – улица, на которую его выбросили тотчас после рождения; добрые люди не дали умереть с голоду, и он остался в живых по насмешливой прочности и упорности жизни там, где жить невозможно. Он и рос кой-как на улице, разумеется, ремеслу никакому не научили, кому до него дело… вырос наконец, сделался ветошником, пропивал все вырученное, потом бросил trois-six[57] и так вжился всвою долю, что и не ропщет, ему кажется совершенно в порядке зажечь ночью фонарь и идти подбирать тряпки и лоскутья. Он отроду не видал поля, зелени, он жил, как мокрица на сырых каменных стенах, и ползал по ночам по узким, темным переулкам. Семьи у него не было, он слишком беден, чтоб иметь семью; любить ему состояние не позволяло. Недаром однакоже père Jean лет шестьдесят таскался по улицам и смотрел на это многоразличие движущейся жизни; он философ, он мудрец, а главное – он характер. Встретившись на этом же краю бедности, на котором сам стоял, с Марией, он тотчас понял, какого закалу эта девушка, и он полюбил ее всею той любовью и всеми теми любвями, которых не было у него в жизни; у него явилась дочь, друг. Мария – его семья, его отдых, единственное человеческое утешение, она его поэзия; его trois-six, его примирение с жизнию, – ответ на все то, на что обстоятельства не дали ответа, а парижский воздух дал вопрос. Он стал ее сторожем, ее хранителем; разумеется, новорожденный поразил старика, так вполне веровавшего в ее чистоту, в ее откровенность. Дело объяснилось; но ребенок вовлекает опять в траты, ему надобно молоко, средств нет, десять тысяч лежат неприкосновенными, о них и думать не смеют. Мария решается просить дочь барона, на которую она работает, чтобы она простила ей и не заставляла бы зарабатывать испорченного платья.
В пышной гостиной сидит барон с дочерью; он что-то не в меру беспокоен, она не в меру грустна, а тут эта девчонка с вздорными требованиями, да еще сама говорит, что ей деньги нужны для ребенка. – «Какого ребенка?» – «Мне подкинули». – «Когда?» – «12 февраля». Барон, знающий жизнь, начинает журить девушку, без обиняков говорит, что это ее ребенок, что он ей ничего не даст, что он не поощряет беспорядков и распутства, наконец, бранит ее, что она смела его дочери говорить о таких непристойностях. Мария уходит, взволнованная и удивленная. Отец в бешенстве, дочь смущена; дело становится ясно: 12 февраля родила она; отец, чтоб спрятать концы в воду, дал десять тысяч франков доброй и услужливой повивальной бабке г-же Потар, чтоб она уничтожила, сюпримировала ребенка; у г-жи Потар сердце нежное, нервы слабы до того, что она не могла подняться до высоты задачи, которою ее почтило доверие барона: она не убила ребенка, а подбросила его бедной девушке. Второпях деньги были потеряны (и père Jean их нашел). Барон делает строжайший выговор г-же Потар и дает еще 10 тысяч франков, чтоб радикальнее сбыть с рук ребенка… Ребенок пропал, и пока Мария в отчаянии не может понять, что с ним сделалось, является полиция. «Мария Дидье, вас обвиняют в детоубийстве». – «Меня?» – спрашивает испуганная девушка. «Вашего ребенка нашли утопленным в канаве». Дикий крик вырывается из уст Марии в ответ на страшную весть и на гнусное обвинение. Нервы г-жи Потар оказались на этот раз исправнее.
Мария любима, любима нежно, страстно молодым человеком, который проводил ее с бала; он (как непременно воображают нужным писатели французских пьес) жених бароновой дочери. Но что ему до нее со всем ее богатством? Он нашел ту деву, о которой мечтал, он узнал Марию, изучил ее, он хочет жениться на ней. – Погодите, молодой человек, ваша невеста, ваша неземная дева в толпе колодников, развратниц, в тюрьме; ее судят за детоубийство, ее имя попало уже в «Gazette des Tribunaux», и разнеслось от кафе до дворцов, и послужило темой моральных рассуждений для толстых мещан и жирных мещанок.
Ветошник не спит. Объявлено в афишах, что 12 февраля потеряны 10 т. фр. билетами, ночью в квартале Saint-Lazare, и что нашедший может явиться к г-же Потар, повивальной бабке, за приличным награждением. «Это неспроста», – подумал père Jean, надел на себя лучшее платье, старый фрак, который ему не впору, купленный где-нибудь на толкуне, панталоны с заплатами и отправился к г-же Потар. Тут вы видите другую сторону бедняка – хитрость, уменье владеть собою, непреклонную, неуступчивую волю, свойства, столько же необходимые бедняку, как казаку на кавказской границе: тот и другой беспрерывно лицом к лицу с хитрым и злым врагом. Леметр в этой сцене удивителен. Père Jean успел выманить у Потар доказательство, что ребенок родился от бароновой дочери. Теперь он явится во весь рост обвинителем. Но знаете ли, кто барон? Барон – человек, совершивший убийство на Аустерлицкой набережной. Он богатый и сильный, не соперник ветошнику; ветошник обманут (сцена неловкая, трудная для актера и скучная для зрителя), мало того – отдан под суд, как находящийся в сильном подозрении убийства: у него нашли портфель с именем убитого. Все в порядке, как надобно было ожидать, но тут нелепая сцена в тюрьме, украденная из Шиллеровой пьесы «Коварство и любовь», где Вурм заставляет писать Луизу; барон уговоривает Марию для спасения молодого человека, за которого он хотел выдать свою дочь, принять на себя преступление, обещаясь спасти ее после сентенции; молодой человек остался верен, остался убежден в ее невинности, непоколебим в своей любви… вдруг сознание! Мария присуждена к ссылке. На сцене судебное место, у дверей сидит между двумя солдатами ветошник, он успел одичать – что-то похож на зверя. На улице разносчик кричит: «Marie Didier, infanticide, avec des détails intéressants… cinq centimes! Un sou!»[58] Старика начинают допрашивать, но он о себе и говорить не хочет: он умоляет разобрать дело Марии, его не слушают, ему велят молчать, он плачет, он рвет свои волосы; он, никогда не становившийся на колени, является перед судьями, судья приказывает муниципалу выбросить его за дверь – la toile, la toile!..[59] Чего еще?.. Но Пиа прибавил мелодраматическую развязку. Пьесу он этим сгубил и растянул, Леметру доставил еще удивительную сцену с г-жой Потар, а публике примиряющий, услаждающий финал в буржуазном духе[60].
Если вам однакож столько же надоело слушать о ветошнике, сколько мне говорить, то я не вижу причины, отчего не кончить, т. е. не начать чего-нибудь другого. Да и что такое Porte-St.-Martin? Пойдемте в Palais-Royal, но… увы! Palais-Royal перестал быть сердцем Парижа с тех пор, как из него извели (как из Берлина впоследствии) лучшее население его. Он стал слишком нравственен, слишком добродетелен. Париж переехал из него. Париж начинается, по словам «Шаривари», с бульвара des Capucines и окончивается Maison d’Or-ом, т. е. Париж – Итальянский бульвар. «Есть, – прибавляет ученый издатель, – баснословные слухи о каком-то бульваре Пуасоньер; но кто же знает о его существовании? Что же касается до бульвара Бомарше, это просто полицейская выдумка, нарочно распущенный слух». Но делать нечего, пойдемте в Palais-Royal, и именно в Théâtre Français.
Сей кубок мы минувшим дням!..
Théâtre Français познакомил меня с одним драматическим автором, которого я не знал… с Расином. «Неужели вы его прежде не читали?» – спрашиваете вы, краснея за меня. – «За кого же вы меня принимаете?»
Я его твердил на память лет десяти, а потом читал лет пятнадцати; но это уже было поздно. Имев счастие завершить начальное образование под маханье «Московского телеграфа» и под теорию российского романтизма, я посматривал свысока на человека трех аристотелевских единств, – человека, говорящего «vous»[62] и «madame» устами гомеровских богатырей. Немецкая эстетика убедила меня, что во Франции искусства никогда не было, что собственно искусство может цвести в Баварии, в Веймаре, – словом, от Франкфурта-на-Одере до Франкфурта-на-Майне. А потому и Расина читал я больше для того, чтоб вполне понять красоту трагедии Гувальда и Мюльнера. Наконец я увидел Расина дома, увидел Расина с Рашелью – и научился понимать его. Это очень важно, более важно, нежели кажется с первого взгляда, – это оправдание двух веков, т. е. уразумение их вкуса. Расин встречается на каждом шагу с 1665 года и до Реставрации; на нем были воспитаны все эти сильные люди XVIII века. Неужели все они ошибались, Франция ошибалась, мир ошибался? Робеспьер возил свою Елеонору в Théâtre Français и дома читал ей «Британника», наскоро подписавши дюжины три приговоров. Людовик XVI в томном и мрачном заточении читал ежедневно Расина с своим сыном и заставлял его твердить на память… И действительно, есть нечто поразительно величавое в стройной, спокойно развивающейся речи расиновских героев; диалог часто убивает действие, но он изящен, но он сам действие; чтоб это понять, надобно видеть Расина на сцене французского театра: там сохранились предания старого времени, – предания о том, как созданы такие-то роли Тальмой, другие Офреном, Жорж…
Актеры с некоторой робостью выступают в расиновских трагедиях, это их пробный камень; тут невозможно ни одно нехудожественное движение, ни один мелодраматический эффект, тут нет надежды ни на группу, ни на декорации, тут два-три актера – как статуи на пьедестале: все устремлено на них. Сначала дикция их, чрезвычайно благородная и выработанная, может показаться изысканной, но это не совсем так; торжественность эта, величавость, рельефность каждого стиха идет духу расиновских трагедий. Пожалуй, некоторые позы на парфенонских барельефах можно тоже назвать изысканными, именно потому, что ваятели исключили все случайное и оставили вечные спокойные формы; жизнь, поднимаясь в эту сферу, отрешается от всего возмущающего красоту ее проявления, принимает пластический и музыкальный строй; тут движение должно быть грацией, слово – стихом, чувство – песнью.
Вы более любите иной мир – мир, воспроизводящий жизнь во всей ее истине, в ее глубине, во всех изгибах света и тьмы, – словом, мир Шекспира, Рембрандта, – любите его, но разве это мешает вам остановиться перед Аполлоном, перед Венерой? Что за католическая исключительность! Пониманье Бетховена разве отняло у вас возможность увлекаться «Севильским цирюльником»?
Входя в театр смотреть Расина, вы должны знать, что с тем вместе вы входите в иной мир, имеющий свои пределы, свою ограниченность, но имеющий и свою силу, свою энергию и высокое изящество в своих пределах. Какое право имеете вы судить художественное произведение вне его собственной почвы, даже вне исторической, национальной почвы? Вы пришли смотреть Расина – отрешитесь же от фламандского элемента: это отрасль итальянской школы; берите его таким, чтоб он дал то, что он хочет дать, и он даст много прекрасного. Конечно, он не удовлетворит всему, чего жаждет ваша душа, но позвольте же еще раз спросить: а весь греческий Олимп, а все греческие типы, статуи, герои трагедий удовлетворяют вас? Нет, нет и нет! Я это испытал на себе. В греческих статуях везде выражается спокойное наслаждение, торжество меры, торжество равновесия, торжество красоты, но с тем вместе вы видите, что покой достигнут, потому что требование было не полно, потому что олимпийцы удовлетворялись немногим. Одно из величайших достоинств греческого ваяния – полнейшее отрешение чувственной формы от всего чувственного, Венера Медицейская так же мало говорит чувственности, как Мадонны Рафаэля; но зато в греческом искусстве нет того знойного сладострастия, которое мы находим, например, в страстных глазах, особо рассеченных и суженных к вискам, египетских изваяний. С другой стороны, в греческом искусстве нет и не могло быть элемента, развитого миром христианским, – элемента романтического, того сосредоточенного в духе, того глубоко страдальческого, неудовлетворенного, жаждущего, стремящегося, который вы можете вполне изучить в комнатах Катерины Медичи, где расставлены испанские картины. Для греков мы делаем почетное исключение, мы их судим как греков в их сфере, будемте так же судить Расина, Корнеля – обогатимте себя и ими.
Что же вам сказать о самой Рашели? Фельетоны всех газет давно все рассказали. Она нехороша собой, невысока ростом, худа, истомлена; но куда ей рост, на что ей красота, с этими чертами, резкими, выразительными, проникнутыми страстью? Игра ее удивительна; пока она на сцене, что бы ни делалось, вы не можете оторваться от нее; это слабое, хрупкое существо подавляет вас; я не мог бы уважать человека, который не находился бы под ее влиянием во время представления. Как теперь вижу эти гордо надутые губы, этот сжигающий, быстрый взгляд, этот трепет страсти и негодованья, который пробегает по ее телу! А голос – удивительный голос! – он умеет приголубить ребенка, шептать слова любви и душить врага; голос, который походит на воркованье горлицы и на крик уязвленной львицы. Она может сделаться страшна, свирепа… до «ехидного выражения»[63]. Рашель составляет средоточие трагической труппы, она идеал, которому подражает старый и малый, мужчины и женщины… до смешного; вся труппа французского театра оттопыривает губы, как она, все бассы и дишканты стараются говорить ее голосом.
Сестра ее Judith очень мила. Она не красавица; во Франции вообще нет красавиц, но ее gentillesse[64] совершенно французская, несмотря на то, что имя напоминает «почтенного фельдмаршала Олоферна» и невежливый поступок с ним одной дамы.
Да какая же это исключительно французская красота? Она чрезвычайно легко уловима: она состоит в необыкновенно грациозном сочетании выразительности, легкости, ума, чувства, жизни, раскрытости, которое для меня увлекательнее одной пластической красоты, всепоглощающего изящества породы, античных форм итальянок и вообще красавиц.
Быть красавицей – несчастие, красавица – жертва своей наружности, на нее смотрят как на художественное произведение, в ней ничего не ищут далее наружности. Французская красота чрезвычайно человечественна, социальна; она далека от германо-английской надтельности, заставляющей проливать слезы о грехах мира сего, о слабостях его, толико сладких, она также далека и от андалузской чувственности, от которой сердце замирает и захватывает дух. Она не в одной наружности, не в одной внутренней жизни, а в их созвучном примирении. Такая красота – результат жизни, – жизни целых поколений, длинного ряда влияний органических, психических и социальных; такая красота воспитывается веками, выработывается преемственным устройством быта, нравов, достается в наследие, развивается средою, внутренней работой, деятельностию мозга, – такая красота факт цивилизации и народного характера. Изредка встречаешь подобную красоту между польскими и русскими аристократическими дамами, и это, по-моему, высокое свидетельство в пользу славянской крови. Вы не обижайтесь, мы потому изредка находим такую красоту у нас, что число женщин, призванных к развитию, гораздо ограниченнее. Кто не замечал, насколько женщины в нашем народе хуже мужчин? Женщина в крестьянстве слишком задавлена, слишком работница, слишком безлична, слишком «баба», чтоб быть красивой. Как только переедешь границу, бросается в глаза некрасивость немецких крестьян и улучшение женщин, особенно по городам; этому много способствует, между прочим, уменье держаться; самая беднейшая горничная не выйдет на улицу не пригладивши волос и не оправившись; я не видал растрепанных голов, расстегнутых платьев, цинизма женской нечистоплотности с тех пор, как расстался с псковскою гостиницей и с жидовскими станциями в Ковенской губернии[65]. Любовь к опрятности показывает, как уж нам случалось заметить, старую цивилизацию и уважение к себе, чувство собственного достоинства и, следственно, понятие о личности; я, разумеется, говорю не об отвлеченном понятии личности и ее гражданских правах, а о том инстинктуальном понятии, которое так очевидно в самых низших классах европейских государств, совершенно независимо от их политического устройства, – в Испании, в Англии, в Италии и во Франции.
Но воротимся к театрам: в том же Palais-Royal, где во французском театре Рашель потрясает сердце, Левассор потрясает в театре Пале-Рояля всю грудь хохотом без конца, хохотом до слез, до истерики. Левассор – полнейшее выражение французской веселости, беззаботности, простодушной дерзости, острого ума, шалости, gaminerie[66]. Что за быстрота, что за неуловимость, что за богатство средств! Левассор так же принадлежит, так же необходим Парижу, как Шеллинг или Гегель Берлину. Все, что вы видели с неудержимым смехом в картинах Гаварни, все, что заставляет хохотать в «IIIаривари», все это перенесено в действие, оживлено Левассором. И в этом отношении он мне нравится гораздо больше Буффе, больше старика Верне, больше талантливого Арналя; те – превосходные актеры всякой сцены, и этим, может быть, выше Левассора, но тем Левассор и лучше их, что он актер французский – да нет и то нет, а парижский, актер Пале-Рояля: дерзость, наивность, непристойность, грация, канкан, фейерверк! И каким лицом судьба наградила этого человека: худой, с острыми маленькими чертами, за которыми спрятано втрое больше мускулов, нежели известно в анатомии Бона, и все они двигаются во все четыре стороны; от этого он делает из лица все, что хочет, так, как фокусник из складной бумаги, – то сделает сапог, то паром, то жабо. Рассказывать его игру невозможно, ее надобно видеть, и мало того – надобно войти во вкус, т. е. привыкнуть, чтоб ловить несущийся на всех парах train de plaisir[67] острот, шалости языка, глаз, голоса, ног.
От Рашели мы перешагнули к Левассору, от слез участия к смеху до слез, теперь перейдем от этого веселого смеха к смеху презрения и негодования, от милых шуток и потока каламбуров Левассора к пошлым и тяжелым фарсам, в которых актеры старой школы друг друга ругают, друг друга надувают – для общественного удовольствия. Тут на первом плане модная комедия «Эмиль Жирарден и продажное пэрство».
Как вспомню, как я на бенефисе Жирардена сидел в трибуне с 10 часов до половины седьмого, поддерживая двух французов, одного англичанина, свою собственную шляпу и бороду соседа с правой стороны, опираясь притом на почтенного посетителя, сидевшего передо мною, и все это в половине июня, градусов в пятьдесят жара, так и захочется опять выйти на чистый воздух… – Ну, и выйдемте!
Письмо четвертое
Париж, 15 сентября 1847 г.
Пока я собирался со славянской медленностью рассказать вам о парламентском турнире, на котором рыцарь прессы так отважно напал на Кастора и Поллукса министерских лавок и тем доставил небольшое рассеяние добрым мещанам, скучающим в пользу отечества в Palais Bourbon, – произошло столько турниров, кулачных боев, взаимных обвинений, травль и судебных расспросов, чрезвычайных случаев и случайных чрезвычайностей, что стыдно поминать мелкие обвинения в «злоупотреблении влияния в коммерции пэрством». Новые герои с неустрашимой последовательностью немецких философов и итальянских бандитов дошли до конца того поприща, которое начинается маленькой торговлей проектами крошечных законов, привилегиями на театры и рудокопни, а окончивается самими рудокопнями, морскими прогулками на галерах, трудолюбивым вколачиванием свай в портовых городах, а иногда воздушным salto mortale всем телом или отчасти, смотря по тому, по которую сторону Па-де-Кале случится.
Итак, оставимте дело Жирардена! Оно же окончилось очень хорошо и к общему удовольствию, камера депутатов – оправдала министров, камера пэров – оправдала Жирардена. Ясное дело, обе стороны были правы…
…Как спокойно и весело жить где-нибудь – в Неаполе, например, – куда не проникает всякое утро серая стая журналов всех величин, всех цветов, с отравляющим запахом голландской сажи и гнилой бумаги, с грозным premier-Paris[68] в начале и с крупными объявлениями в конце, – стая влажная, мокрая, как будто кровь событий не обсохла еще на ее губах, саранча, поедающая происшествия прежде, нежели они успеют созреть, – ветошники и мародеры, идущие шаг за шагом по следам большой армии исторического движения.
В Неаполе журналы ясны, как вечноголубое небо Италии, они на своих чуть не розовых листиках приносят новости успокоительные, улыбающиеся – весть о прекрасном урожае, об удивительном празднике на такой-то вилле, у такой-то дукеццы, на которой месяц светил сверху, а волны Средиземного моря плескали сбоку… Не лучше ли в милом неведении сердца верить в аркадские нравы на земле, в кроткое счастие лаццарона, в официальную нравственность и людское бескорыстие? Зачем, когда так много прекрасного в божием мире, – зачем знать, что в нем есть бешеные собаки, злые люди, тифоидные горячки, горькое масло и поддельное шампанское?
Всё журналы виноваты! Зачем всякий вздор доводить до общего сведения?
Я вам рассказывал, как один поврежденный доктор принимал журналы за бюльтени сумасшедших домов; это был человек отсталый, теперь журналы – бюллетени смирительных домов и галер.
В самом деле, Франция ни в какое время не падала так глубоко в нравственном отношении, как теперь. Она больна. Это чувствуют все, Гизо и Прудон, префект полиции и Виктор Консидеран.
Настоящим положением Франции – все недовольны, кроме записной буржуазии, да и та боится вперед заглядывать. Чем недовольны, знают многие, чем поправить и как – почти никто; ни даже социалисты, люди дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем.
Ни журнальная, ни парламентская оппозиция не знают ни истинного смысла недуга, ни действительных лекарств; оттого-то она и остается в постоянном меньшинстве; у нее истинно только живое чувство негодования, и в этом она права: сознание зла необходимо для того, чтоб рано или поздно отделаться от него.
Обвинение, всего чаще повторяемое и совершенно верное, состоит в том, что с некоторого времени материальные интересы подавили собой все другие; что идеи, слова, потрясавшие так недавно людей и массы, заставлявшие их покидать дом, семью, для того чтобы взять оружие и идти на защиту своей святыни и на низвержение враждебных кумиров, – потеряли свою магнетическую силу и повторяются теперь по привычке, из учтивости, как призвание Олимпа и муз у поэтов или как слово «бог» у деистов.
Вместо «благородных» идей и «возвышенных» целей рычаг, приводящий все в движение, – деньги. Там, где были прения о неотъемлемых правах человека, о государственной политике, о патриотизме, – занимаются теперь одной политической экономией.
В самом деле, вопрос о материальном благосостоянии на первом плане. Удивительного тут нет ничего. Как же, наконец, не признать важность вопроса, от разрешения которого зависит не только насущный хлеб большинства, но и его цивилизация? Нет образования при голоде; чернь будет чернью до тех пор, пока не выработает себе пищу и досуг.
Страны, которые уже перешли мифические, патриархальные и героические возрасты, которые довольно сложились, довольно приобрели, которые пережили юношеский период отвлеченных увлечений, прошли азбуку гражданственности, естественно должны были обратиться к тому существенному вопросу, от которого зависит вся будущность народов. Но вопрос этот страшно труден, его не решишь громким словом, пестрым знаменем, энергическим кликом. Это самый внутренний, самый глубокий, самый жизненный, существенный и по преимуществу практический вопрос общественного устройства.
Вы его встречаете не в одной Франции; в Северной Америке и в Англии он, может, сделал больше практических шагов, во Франции он, как и все другое, получил всемирную гласность. Жизнь Франции шумнее, сообщительнее английской, в ней все делается громко, все для всех. Подчас кажется, что именно все происходящее здесь делается, как в театре, – для публики, ей удовольствие, ей поучение; актеры играют не для себя и возвращаются со сцены к домашним неприятностям и мелочам. В этом одна из лучших национальных сторон французов, но они остаются за это с пустыми руками. Гегель сравнивает Индию с родильницей, которая, произведя на свет прекрасного ребенка, ничего больше для себя не хочет. Франция, напротив, всего хочет, но ее силы истощились от тяжких и частых родов, она не в силах носить своих детей.
Но воротимся к экономическому вопросу. Считать чем-то подчиненным и грубым стремление к развитию повсюдного довольства, стремление вырвать у слепой случайности и у наследников насилия орудия труда и скопившиеся силы, привесть ценность труда, обладание и обращение богатств к разумным началам, к общим и современным правилам, снять все плотины, мешающие обмену и движению, – считать все это материализмом, эгоизмом могут одни закоснелые романтики и идеалисты. По счастию, в наше время выводятся эти высшие натуры, боявшиеся замараться о практические вопросы, бегавшие в мир мечтаний от действительного мира… хотя я еще своими ушами слышал от одного из лучших представителей романтизма: «Вы полагаете, что с развитием довольства народ будет лучше, это ошибка, – он забудет религию и отдастся грубым желаниям. Что может быть чище и независимее от земных благ, как жизнь поселянина, который, кротко вверяясь провидению, бросает все свое достояние в землю, смиренно ожидая, чем его благословит судьба? Бедность – великая школа для души, она хранит ее». – «И образует воров», – добавил я.
Эту идиллию говорила не пятнадцатилетняя девочка, а человек лет под пятьдесят.
Все несчастие прошлых переворотов состояло именно в опущении экономической стороны, которая тогда еще не была настолька зрела, чтоб занять свое место. Тут одна из причин, почему великие слова и идеи остались словами и идеями и – что хуже того – надоели. Романтики, гордо улыбаясь, возражают, что величайшие исторические события нисколько не зависели от большей или меньшей степени сытости и материального благосостояния, что крестоносцы не думали о приобретениях, что голодная и босая армия победила Италию. – Да оттого-то, между прочим, и немного вышло из всех этих войн и передряг. Европа, после трех столетий гражданского и всяческого развития, дошла только до того, что в ней лучше, нежели там, где этого развития не было; она после стольких переворотов и опустошений стоит еще теперь при начале своего дела.
Поэтическими интересами, увлечениями вряд поднимете ли теперь взрослые народы – Англию или Северную Америку. Это следствие лет; нельзя же всю жизнь быть юношей, бретёром, горячей головой. Революция – я говорю о настоящей, а не о последней (1830) – со всею своей обстановкой от величественной introduzione до героической симфонии, оканчивающейся стоном под Ватерлоо, заключает собою романтическую часть истории гражданских обществ в Европе. Сколько событий, крови, великого было в этом финале, какой разгром, какая перемена пределов, условий жизни, обычаев, верований – и что же вышло, вытроилось, осталось, кроме легенды и песней? Сама буржуазия на днях произнесла в своем дворце страшные данииловские слова: «Rien, rien, rien!»[69]
Франция, заметив эту пустоту, ринулась в другую сторону, ударилась в противуположную крайность – экономические вопросы убили все остальные.
Люди мыслящие первые отдались им, и, как всегда бывает, увлекли с собой людей ограниченных, которые всякую истину доводят до нелепости, до цинизма, особенно такое близкое душе и соизмеримое учение, как учение о развитии материального благосостояния. Медаль перевернулась. Прежде слова без ясного понимания, без определенного содержания, полные фанатизма, увлечения, – вели людей, основываясь на высоком предчувствии, на глубоко человеческой симпатии ко всему великому, и люди охотно жертвовали идеям и общим принципам материальными делами, жизнию. Теперь, после бесплодных жертв, после долгих несчастий, люди увидели важность этих благ и предались одному экономическому вопросу. Разумеется, не многие умели поднять его в ту высокую и общую сферу, на которую он имеет право и вне которой его значение односторонно и бедно. Печальное недоразумение состояло в том, что не поняли круговой поруки, взаимной необходимости обеих сторон жизни. Политическая экономия, именно вследствие своей исключительности, при всей видимой практичности, явилась отвлеченной наукой богатства и развития средств, она рассматривала людей как производительную живую силу, как органическую машину; для нее общество – фабрика, государство – рынок, место сбыта; она в качестве механика старалась об употреблении наименьшей силы для получения наибольшего результата, о раскрытии законов увеличения богатств. Она шла от принятых данных, она брала политический факт (эмбриогенический, если хотите) современного общественного устройства – за нормальный; отправлялась от того распределения богатства и орудий, на котором захватила государства. До человека собственно ей не было и дела, она занималась им по мере его производительности, равно оставляя без внимания того, который не производит за недостатком орудий, и того, который лениво тратит капитал. В такой форме наука о богатстве, основанная на правиле «имущему дастся», могла иметь успех в мире торговли и купечества; но для неимущих такая наука не представляла больших прелестей. Для них – напротив – вопрос о материальном благосостоянии был неразрывен с критикой тех данных, на которых основывалась политическая экономия и которые явным образом были причиною их бедности.
Несколько энергических, сильных, юных умов, глубоко сочувствуя с несчастным положением пролетариев, поняли невозможность исторгнуть их из жалкого и грубого состояния, не обеспечив им насущного хлеба.
Они обратились тоже к политической экономии.
Но какой ответ, какое наставление могли они найти в науке, последовательно говорившей неимущему «не женись, не имей детей, поезжай в Америку, работай 12, 14 часов в сутки, или ты умрешь с голоду!» К этим советам человеколюбивая наука прибавляла поэтическую сентенцию, что не все приглашены природой на пир жизни, и злую иронию, что вольному воля, что нищий пользуется теми же гражданскими правами, как Ротшильд.
Они увидели, что сытый голодному не товарищ, и бросили старую, безжалостную науку.
Критика – сила нашего века, наше торжество и наш предел. Политическая экономия, в ее ограниченно доктринерской и мещанской форме, была разбита, место расчищено, но что же было поставить вместо ее? Все то, что ставила она, казалось, было неуклюже. Видя это, критика свирепела еще больше.
Но критика и сомнение – не народны. Народ требует готового учения, верования, ему нужна догматика, определенная мета. Люди, сильные на критику, были слабы на создание, народ слушал их, но качал головой, и чего-то все доискивался.
Во всех новых утопиях было много разъедающего ума и мало творческой фантазии.
Народы слишком поэты и дети, чтоб увлекаться отвлеченными мыслями и чисто экономическими теориями. Они живут несравненно больше сердцем и привычкой, нежели умом, – сверх того, из-за нищеты и тяжкой работы так же трудно ясно видеть вещи, как из-за богатства и ленивого пресыщения.
Попытки нового хозяйственного устройства одна за другой выходили на свет и разбивались об чугунную крепость привычек, предрассудков, фактических стародавностей, фантастических преданий. Они были сами по себе полны желанием общего блага, полны любви и веры, полны нравственности и преданности, но не знали, как навести мосты из всеобщности в действительную жизнь, из стремления в приложение.
И не странно ли, что человек, освобожденный новой наукой от нищеты и от несправедливого стяжания, – все же не делался свободным человеком, а как-то затерялся в общине? Хоть это лучше, нежели человек-машина, человек-снаряд, но все же оно тесно, неудовлетворительно. Понять всю ширину и действительность, понять всю святость прав личности и не разрушить, не раздробить на атомы общество – самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена.
Новое учение продолжало борьбу со старым не в народных движениях, не переворотами – но в мире литературно образованном. Старая наука, вовлеченная в злую полемику, не была в авантаже. Умы свежие, деятельные, сочувствующие с веком, оставляли ее, одни – по убеждению в истине новых учений, другие – видя недостаточность прежних.
Старая наука вскоре увидела опасность.
У нее было много поклонников, она была государственная, официальная, мещанская наука. Жадная и скупая посредственность ухватилась за прежнюю политическую экономию. Неглубокая сама по себе, наука Мальтюса и Сея измельчала, выродилась в торговую смышленость, в искусство с наименьшей тратой капитала производить наибольшее число произведений и обеспечивать им наивыгоднейший сбыт. Наука дала им в руки кистень, который бьет обоими концами бедного потребителя: в одну сторону уменьшением платы, в другую поднятием цен на произведения.
Во время Реставрации, когда социальные идеи были чистой мечтой, далекой, как Атлантида Моруса, – буржуазия либеральничала с своей политической экономией, – да и как ей было не либеральничать? Все перевороты, все несчастия Франции принесли плоды только среднему состоянию.
Июльская революция испугала ее – республикой. Она тотчас нашла своего мещанина-короля. Но когда проповеди улицы Менильмонтань стали комментироваться лионскими и парижскими работниками, когда страшная хоругвь с надписью «Vivre en travaillant ou mourir en combattant!»[70] мрачно прогулялась по площади, когда все это вместе грозило испортить хозяйство и спутать приходо-расходные книги, буржуазия разом отреклась от всего либерального, кроме кукольной комедии представительной камеры, представлявшей опять ее же самоё. Перемену эту в поведении буржуазия сделала с наглостью, она прямо и открыто стала за монополь, за премию, которую она вырывает из рук работника капиталом.
Эксплуатация пролетария была приведена в систему, окружена всею правительственной силой, нажива делалась страстью, религией, – жизнь сведена на средство чеканить монету, государство, суд, войско – на средство беречь собственность.
За римским распутством шло монашеское христианство, за мистицизмом и изуверством – кощунство и скептицизм, за идеализмом – материализм, за террором – Наполеон, за бессребренной Горой, за мечтательной Жирондой – алчная, стяжающая буржуазия, – это lex talionis[71] истории, наказание за прошлую односторонность. Пренебрежение к экономическим вопросам в прошлую эпоху и исключительное занятие политическими – вызвало пренебрежение к политике и поглотило государственной экономиею – все остальные интересы.
Революционеры первой революции – идеалисты-художники. Мещане с самого появления представляют прозу жизни, домохозяина больше, нежели гражданина, – домохозяина, занимающегося частными делами, строящего фабрики, а не церкви. Либералы-идеалисты толковали о самоотвержении и презирали на словах, а иногда и на самом деле – пользу; они любили «славу» и не занимались рентой. Буржуазия исключительно занимается рентой, смеется над самоотвержением и хлопочет только о пользе. Те приносили выгоду на жертву идеям, буржуазия принесла идеи на жертву выгодам. Те лили кровь за права – буржуазия теряет права, но бережет кровь. Она эгоистически труслива и может подняться до геройства только защищая собственность, рост, барыш.
Между тем со дна океана народной жизни поднимался тихо, но мощно тот же экономический вопрос, но обратно поставленный, та же замена революционного идеализма вопросом о хлебе, но со стороны неимущего.
Борьба была очевидна, неминуема, характер ее можно предсказать. Голодный человек свиреп, но и мещанин, защищающий собственность, – свиреп. Надежда у буржуазии одна – невежество масс. Надежда большая, но ненависть и зависть, месть и долгое страдание образуют быстрее, нежели думают. Может, массы долго не поймут, чем помочь своей беде, но они поймут, чем вырвать из рук несправедливые права, не для того, чтоб воспользоваться, а чтоб разбить их, не для того, чтоб обогатиться, а чтоб пустить других по миру.
Знало ли дворянство близость своих судеб, когда Сиэс спрашивал: «Что такое среднее состояние»? А разве мы не слышим со всех сторон вопрос: «Что такое работник»?… и угрюмый ответ: «Ничего»?
Ведь и он может поверить, как некогда поверила буржуазия, что она «все».
Дворянство имело по крайней мере 4 августа – буржуазия не будет его иметь, – и это очень жаль. Пока какой-нибудь элемент общественный еще жив, как бы он ни был близок к смерти и как бы смерть его ни была неотвратима, он многое может сделать для того, чтоб кончина его была честна, менее насильственна и – наоборот.
Буржуазия не поступится ни одним из своих монополей и привилегий. У нее одна религия – собственность со всеми ее римско-феодальными последствиями. Тут фанатизм и корысть вместе, тут ограниченность и эгоизм, тут алчность и семейная любовь вместе.
Улыбка пренебрежения не новость в истории, за нею скрываются не только глупая самонадеянность и ограниченность, но и страх, нечистая совесть, недостаток разумных доводов, собственная несостоятельность и даже признание силы в том, над чем смеемся. Это улыбка римских патрициев над назареями, римских кардиналов над протестантами, Наполеона над идеологами, это улыбка дворян, когда буржуазия требовала себе тех прав, которые отказывает теперь народу.
Грубый смех высокомерной посредственности принадлежит, наконец, всем мелкорабочим рода человеческого. Уткнувши нос в счетную книгу, прозябают тысячи людей, не зная, что делается вне их дома, ни с чем не сочувствуя и машинально продолжая ежедневные занятия. Разумеется, они превосходно знают все входящее в тесный круг их и знание свое выдают за великую практическую мудрость и житейскую науку, перед которой все другие науки и мудрости – мыльные пузыри. Им часто удается своими рутинными заметками подавлять на время неопытных юношей, которые, краснея, удивляются их основательной положительности и наторелому бездушью.
Роль этих roués[72], улыбающихся при слове «общих интересов», «религиозных вопросов», пренебрегающих мыслями и страстями, – чрезвычайно любит буржуазия. Это ее поэзия, ее ненужность, а с тем вместе ее близость к падению.
Тяжелый и доктринерский характер, который буржуазия вносит в свою практическую rouerie[73], всего яснее показывает различие ее с roués времен регентства и Людовика XV. Те были легкомысленные развратники, блудные дети отжившей аристократии, распутная, избалованная дворня большого барина; у них страсть к деньгам и философское равнодушие к средствам их приобретать сопровождалась страстью их бросать, они были вивёры, беззаботные gamins[74] в шестьдесят лет. У них не было никаких теорий, они ни об чем не думали всю жизнь, но за малейшую обиду дрались. Тяжелые roués XIX века пресерьезные, говорят так основательно, слушали Росси, читали Мальтюса, дельцы, депутаты, министры, журналисты; у них свои теории и учения, у них проделки приведены в систему, они денег не бросают и не дерутся за всякую обиду, они либералы и ссылаются часто на glorieuse révolution du 30 juillet[75]; они даже филантропы, хотя не до того, чтоб вотировать хлеб вместо экзекуции, когда люди впадают в ярость от голода[76]. Они, сверх того, строгих нравов, толкуют о семейных добродетелях и об обязанностях честного человека, у них есть целая воскресная, театральная мораль, вроде той, которую риторически проповедуют председатели коррекционельной полиции и многоглаголивые королевские прокуроры.
Оппозиция Людовику XVIII и Карлу X спасала буржуазию от того односторонно-ограниченного pli[77], которое она приняла теперь. Она покрывала неправое стяжание борьбой за права.
Народ сначала не замечал, какой монополь в руках буржуазии, видя в ней защитника этих мнимых, а в сущности бесполезных для него прав; но страсть, с которой буржуазия предавалась стяжанию и ажиотажу, пренебрежение ко всем другим вопросам, ожесточение ее против неимущих – не могли не раскрыть глаза народу, особенно когда за него принялись такие офталмисты, как Сен-Симон, Фурье, Прудон и пр.
Борьба началась; кто победит, не трудно предсказать; рано или поздно, per fas et nefas[78], победит новое начало. Таков путь истории. Вопрос тут не в праве, не в справедливости – а в силе и в современности. Дворянство имело не меньше прав на свое исключительное положение в государстве, нежели буржуазия, но оно не удержалось ни мечом, ни родословием, ни королевской опорой; королевство стащило его с собой на place de la Révolution, и оно принуждено было спасаться бегством.
Где же буржуазия найдет силу, с своим crédit et débit, с своей биржей и банком, с своим политическим атеизмом – в одну сторону и религией монополя – в другую сторону? Короли царствовали во имя божье, дворяне защищали государство во имя короля. Мещане обогащаются в свое имя, берут себе барыши, заставляя короля защищать свои капиталы детьми стариков, которых ограбили и разорили.
Письмо мое становится чудовищно. Прощайте, иду смотреть окончание процесса, за которым я следил с самого начала.
Входя в французский суд, вы отступаете века на два – на три. Судьи, адвокаты, прокурор в маскарадных платьях напоминают средние века, другие нравы, чуждые нам так, как условно тяжелый язык их протоколов и напыщенное, холодно-взбитое красноречие.
Прокурор витийствует против обвиненных с яростным, суровым ожесточением. Прав ли, виноват ли подсудимый, он считает личной обидой, несчастием, бесчестием, если его не приговорят к чему-нибудь. Он тронут, он плачет, если успеет вымолить наибольшее наказание. Я с удивлением смотрел на эту злобу, с которой прокурор преследует свою жертву и толкает ее под нож гильотины; точно будто их особо воспитывают, как бульдогов, или отдают, как Ромула и Рема, en nourrice[79] в Jardin des Plantes волчихам.
И все-то это – притворство и промысел!
Письмо пятое
Рим, декабрь 1847 г.
К осени сделалось невыносимо тяжело в Париже; я не мог сладить с безобразным нравственным падением, которое меня окружало; я чувствовал, что в мою душу забирается то самоотвержение, тот холод и то «все равно», которое вносится утраченными надеждами, разрывом с действительностью, презрением к настоящему; я черствел и только иногда по негодованию чувствовал молодость сил и прежнее одушевление.
Смерть в литературе, смерть в театре, смерть в политике, смерть на трибуне, ходячий мертвец Гизо с одной стороны и детский лепет седой оппозиции – с другой – это ужасно! Там где-то внизу, вдали раздавались иногда сильные стенания; казалось, они выходили из могучей и здоровой груди; но снаружи Париж представлял остынувший кратер, превратившийся в грязь и слякоть. Франция выздоровеет, как я сказал в прошлом письме, без радикальных средств, небесного огня и морской воды, но мне вовсе не хотелось быть сиделкой у ее изголовья, пока она ломается в припадке безумия, сдерживаемая грязными и циническими руками цирюльников и больничных сиделок. – «В Италию, в Италию!» Мне хотелось отдохнуть, хотелось моря, теплого воздуха, пышной зелени и людей – не так истасканных, не так выживших из сердца. Я решился ехать в половине октября. А признаюсь, когда пришлось расставаться с Парижем, мне сделалось страшно; вся моя задорная храбрость покинуть Париж исчезла. Париж – центр, выезжая из него, выезжаешь из современности. Я был бы рад, если б какой-нибудь непредвиденный случай меня остановил… но ось не сломилась, колесо не рассыпалось, и мы покатились. «Ну, а как в Италии будет еще хуже? Померанцевых деревьев и синего неба все-таки мало для жизни», – думал я, переезжая мост, построенный из камней, наломанных при разрушении Бастилии, и прощаясь с удивительной панорамой обоих берегов Сены. Огромные, почернелые домы и новые дворцы по Quai d’Orsay, капризная, разнообразная архитектура парижских построек, исполненная жизни и движения, мрачные стены Консьержри и величавая масса Собора, Тюльери, Лувр, Cité, врезывающееся баркой в Сену, – все это еще раз проходило перед моими глазами, двигалось, менялось, уходило за домы, становилось смутнее, совсем исчезло…
На станции я высунул голову. Дождь лился ливнем. «Как называется эта станция?» – «Шарантон!» – отвечал почтальон, стоя в луже и с досадой откладывая мокрых лошадей. Я вспомнил мою светлую квартиру в Avenue Marigny, вспомнил друзей, приходивших по вечерам вместе сердиться, и мне показалось естественным и справедливым, что меня привезли в Шарантон за то, что я выехал из Парижа. Париж, что там ни толкуй, – единственное место в гибнущем Западе, где широко и удобно гибнуть.
О дороге рассказывать нечего. Ездить во Франции на почтовых лошадях скучно: точно машина, ни разговоров, ни спора, ни станционных смотрителей, ни книг, ни подорожных. Закладывают в один миг, лошади везде есть, шоссе – как скатерть, почтальон скачет от станции до станции – вся поэзия наших дорог не существует. Даже сложная история и вечные споры о «водке» опрощены до удивительной степени. На первой станции почтальон, касаясь рукой до шляпы, вас спрашивает, сколько вы платите на водку, присовокупляя, что по закону ему следует получать полтора франка с мириаметра, но что обыкновенно порядочные люди прибавляют десять су. Вы, разумеется, хотите быть порядочным человеком и соглашаетесь на прибавку тринадцати копеек серебром на десять верст, тем дело и окончивается на всю дорогу. Никто, нигде не просит ничего больше, никакой «прибавочки». До Лиона мы доехали, не заметив пути. Лион сделал на меня сильное впечатление: я не мог довольно нарадоваться в нем успехам инженерного и фортификационного искусства во Франции; представьте себе – этот огромный, сжатый, битком набитый город, в котором постоянно более двухсот тысяч жителей, можно уничтожить в полчаса, благодаря укреплениям, поставленным после 1832 года. Лион прислонен к двум горам и разрезан двумя реками; на всех высотах, скромно и не очень выставляясь, притаились небольшие укрепления: там пушек пять-шесть, тут три-четыре; эти фортификационные образчики растут, умножаются и тянутся к огромной крепости по другую сторону Соны в старом римском городе, которая венком своих фортов окружает гору и кладбище, – мертвые сберегутся, т. е. те, которые успеют переехать до первого «пли». Между отдельными крепостцами есть художественный ensemble[80], так что, в случае перестрелки, весь город покроется ядрами и картечью; нет точки, на которую не могло бы упасть ядро, остальное доделают бомбы. Середь города тоже разбросаны пушки, вовсе неожиданно идешь каким-нибудь переулком и вдруг натолкнешься на два, на три жерла, обращенные на два, на три переулка и осененные трехцветным знаменем с иронической надписью «Liberté et ordre public!»[81] Главная часть укреплений обращена против фабричной части города, расположенной по горе с другой стороны Соны. У меня закружилось в голове, когда я с крепостной стены посмотрел в трубочку на шести-семиэтажные домы и в Croix Rousse, прислоненные к утесам, на улицы, кишащие от многолюдия, и вообразил себе два-три залпа, один сверху утесов, другой из крепости, – мне представилась груда каменьев, теплых от человеческой крови и переложенных трупами детей, женщин, стариков. Со мною был valet de place[82]. «Пятнадцать лет прошло после 32 года, – сказал он мне, – а теперь вспомню, что тогда было, так становится страшно. Видите эту террасу; сюда загнали солдаты и Национальная гвардия работников; как они столпились там, вдруг открылся пушечный огонь из-за Соны; сойти им было некуда, назад двинуться невозможно, дороги узкие и везде штыки, – ну, тут их и покончили картечью».
Я взглянул на древнюю стену, построенную еще во время римского владычества, она была вся рябая от пушечных выстрелов. Страшное событие, великая жертва в наш образованный век, принесенная министерством, составленным из газетчиков и филантропов, из историков и либералов! Чего, я чай, стоило их нежному сердцу дать такие приказы? А делать было нечего, надобно было успокоить буржуазию, надобно было дать залог, снять всякое сомнение, скрепить связь между новым порядком и ею. Лионское усмирение и бойня в Cloître St.-Merry громко высказывали, как разрешается министерством вопрос о плате за работу, о голоде и о прочих беспорядках; словом, это были сентябрьские дни du juste-milieu[83], которые отрезывали, с одной стороны, все надежды и сжигали, с другой стороны, все корабли. «После двухдневной стрельбы, продолжал мой рассказчик, – стало потише, тут взошла армия торжественным маршем, с барабанным боем, с зажженными фитилями, герцог Орлеанский и маршал Сульт ехали впереди». – «Ну что же, они дали праздник?» – спросил я. – «Нет, что-то не помню», – добродушно отвечал он.
У городов, как у людей, бывает иногда трагическая судьба. Лион, который теперь живет под дамокловым мечом укреплений, усеянный тысячами трупов в 32 году, был театром страшного наказания в 93 г. Лион никогда не блистал своей аристокрацией, но с давних лет в нем было богатое купечество и сильное духовенство. Это придало жителям, с одной стороны, характер жесткий, корыстный, завистливый, с другой – угрюмый, нетерпящий, сосредоточенный, скрыто страстный, террористический, иезуитский. Купцы в Лионе, как везде, были рады переменам 89 года; всякое приобретение прав среднего состояния было действительным приобретением лионских фабрикантов и торговцев; но прежде, нежели где-нибудь, обличалась в Лионе иная борьба – борьба работников с хозяевами, с фабрикантами. Приобретая новые права себе, буржуазия хотела оставить работников в состоянии прежнего илотства. А потому лионские мещане, рукоплескавшие первым мерам народного собрания, подняли знамя междоусобной войны против Конвента. Они это сделали в самую критическую минуту для Франции. Неприятель был в двух шагах, с трех сторон; Лион, близкий к Алзасу, к Швейцарии, к Пиэмонту, в надежде на неприятельскую помощь, защищался храбро против республиканских полчищ – но и те, как известно, были не трусы; город был взят. Месть Конвента объяснялась степенью опасности, в которой была Франция. Он произнес громовый приговор: «Срыть с лица земли крамольный город, упразднить его». Комитет общественного спасения послал одного из членов своих, Кутона, исполнить страшную казнь. Хромой, нервный Кутон – одно из чистейших лиц великой драмы – не был ни тем германским императором, который срыл до основания Милан и посыпал землю солью, ни инженером доктринерских времен; он не хотел выполнять буквально свирепый приговор, а придумал средство, совершенно обратное доктринерским обычаям: вместо того чтобы скрыть половину грозных мер и втихомолку замучить и передушить врагов, он их удвоил на словах; чтоб поразить умы, он сам с молотком в руке во главе всей черни отправился разрушать богатейшие здания; он сам давал первый удар домам, назначенным на сломку, по большей части этот первый удар был с тем вместе и последним. Захвативши главных зачинщиков, остававшихся в городе, Кутон дал знать под рукою второстепенным участникам, чтобы они удалились; несколько тысяч человек были спасены таким образом; казалось, что дело окончится несколькими казнями, но Кутон ошибся в расчете. Главный враг восставших лионцев не был ни Конвент, ни якобинцы, а лионская чернь, которую они морили с голоду, унижали, теснили в продолжение целых поколений, которой фанатического представителя они казнили самым страшным образом. Работники имели, сверх выстраданной ненависти и злобы, ту неумолимую свирепость, которую развивает нужда, невежество, у них были свои частные счеты, им хотелось мести личной, кровавой; они верили в нее, ждали ее, наслаждались ею вперед; надеясь на нее, служили верой и правдой Конвенту и обманулись; с бешеной злобой и с упреками обратились клубисты к Кутону, требуя крови, трагическая обстановка не скрыла в их глазах мысль конвентского посланника. Делать было нечего, надобно было усугубить казни. Кутон не мог вынести и просил Комитет общественного спасения отозвать его, чернь с своей стороны требовала более энергических исполнителей, т. е. более свирепых. На этот раз Конвент угодил им, он послал Карье и Фуше, – Карье, которым гнушался Комитет общественного спасения, и Фуше, которым не гнушались ни Наполеон, ни Реставрация. Все, что не успело спастись при Кутоне, пало под ударами гильотины, кровь струилась по площади перед Hôtel de Ville[84], гильотину перенесли на мост, и Рона уносила обезглавленные трупы; толпа осужденных была расстреляна en masse[85]. Карье и Фуше смотрели из окна на эту казнь – что они думали? Кто их знает! Чернь была удовлетворена, месть ее удалась, но она не предвидела, что кровь даром не проходит, что и на улице буржуазии будет праздник, что через сорок лет она отомстит черни – и как!
С Авиньона начиная, чувствуется, видится юг. Для человека, вечно жившего на севере, первая встреча с южной природой исполнена торжественной радости – юнеешь, хочется петь, плясать, плакать: все так ярко, светло, весело, роскошно. Прованс – начало благодатной полосы в Европе, отсюда начинаются леса маслин, небо синеет, в теплые дни чувствуется сирокко. Недалеко от Авиньона надобно было переезжать приморские Альпы. В лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходило, цепи гор вырезывались из-за утреннего тумана, луч солнца осветил вдали ослепительные снежные вершины; кругом яркая зелень, цветы, резкие тени, огромные деревья и мрачные скалы, едва покрытые бедной и жесткой растительностью. Воздух был упоителен, необычайно прозрачен, освежающ и звонок; наши слова, пенье птичек раздавались громче обыкновенного. С каждым шагом вниз виды менялись: то новая цепь гор откроется, то небольшое озеро внизу, то едешь берегом пропасти, то роскошной лужайкой, то у подошвы огромных, скалистых пластов, точно накладенных какими-нибудь титанами, вместо которых теперь прыгают козы, – и вдруг на небольшом изгибе дороги, как кайма около гор, блеснуло и зажглось Средиземное море. Сколько пустоты, скуки, скорби и, главное, пошлости выкупает такое утро! Въезд в Италию делается для человека каким-то благодатным событием, светлой чертой в воспоминании.
От Эстреля до Ниццы – не дорога, а аллея в роскошном парке: прелестные загородные домы, плетни, украшенные плющем, миртами, целые заборы, обсеянные розовыми кустами, – наши оранжерейные цветы на воздухе, померанцевые и лимонные деревья, тяжелые от плодов, с своим густым благоуханием, а вдали с одной стороны Альпы, с другой море –
Одно оскорбляет глаз и щемит славянскую душу – высокие каменные ограды, посыпанные битым стеклом, отделяют сады, огороды, иногда даже поля; они представляют какое-то увековечивание исключительного владения, какую-то нахальную дерзость права собственности; для бедняка дорога пыльная, жесткая и оскорбительная стена, напоминающая ему беспрерывно, что он нищий, что для него нет даже вида вдаль. Нельзя себе представить, какой угрюмый характер придают полям и земле эти стены; деревья, как узники, посматривают через них, прелестнейшие ландшафты испорчены. Русского села в Европе нет. Смысл деревенской коммуны в Европе – только полицейский; что общего между этими разбросанными домами, огороживающимися друг от друга? у них все особое, они связаны только общей межой; что может быть общего между голодными работниками, которым коммуна предоставляет le droit de glaner[87], и богатыми домохозяевами? Да здравствует, господа, русское село – будущность его велика. Об Ницце говорить нечего, все хорошо вне ее, т. е. в ее окрестностях. Ницца даже вовсе не итальянский город, а скорее провинциальный французский. Ницца живет и процветает больными, туристами. Сначала, когда мы приехали, я не мог найти в Ницце «Journal des Débats», запрещенный иезуитами, ни одной тосканской газеты, запрещенной королем. Это меня после Парижа столько же удивило в Ницце, как река без воды (единственная достопримечательность сего города). Словом, для того чтоб жить в Ницце, надобно иссушить свое тело излишним воздержанием или излишней невоздержностью, как все англичане, павшие на ноги, и все англичанки с попорченным спинным мозгом, – которые составляют главное население Ниццы. Или, наконец, можно в ней жить par dépit[88], на смех всей Европе, как девяностолетний Сержан, умерший здесь месяца три тому назад. Сержан будировал Францию, недовольный умеренностью Конвента. Закоснелый террорист умер, сильно опечаливши иезуитов. Они хотели воспользоваться апоплексией и предсмертной слабостью, чтоб обратить его и заставить отречься от прежней жизни своей. Такое обращение на путь истины было бы очень казисто. Но Сержан так же мало испугался паралича и иезуитов, как некогда гильотины и палачей, он приподнялся и, собравши последние силы, сказал стоявшим возле его постели, что, если б ему пришлось снова повторить свою жизнь, то он снова играл бы ту же роль в событиях, что совесть его покойна, – а Сержан участвовал в Сентябрьских днях!
В Ницце я встретился только с югом – с Италией встретились мы в Генуе. Мы приплыли в Геную прелестнейшим ноябрьским днем, на рассвете. Что это за удивительная красота – гора, покрытая мраморными дворцами, которые глядятся в море и над которыми зеленеются сады! С какой охотой я бы вам рассказал что-нибудь об этих домах, вышиною с наши колокольни, об этих узких переулках, покрытых народом, который тут работает, шумит, ест, поет, беспрестанно кричит и размахивает руками; да все это столько раз сказано, что стыдно повторять. Лигуры мне очень понравились, в них есть что-то свободное, республиканское, и я вообще думаю, что характеристика генуэзцев, сделанная правоверным немцем Лео в его итальянской истории, ошибочна; а впрочем, с точки зрения католицизма и самодержавия Генуя может и не понравиться: Маццини – генуэзец.
Мне кажется, что вообще итальянцы сильно оклеветаны; люди, принадлежащие к общей европейской цивилизации, т. е. принявшие ее понятия, формы, меры, весы, без всякого разбора прикидывают все на французский и английский аршин или на абсолютный вершок немецкой философии. Эта односторонность выказывается иногда в смешном удивлении образованных людей при виде фактов, которые стояли спокон века перед ними, но которых понять они не могли – именно от образования. Говорят, что итальянцы ленивы, обманывают, что они рабы, политические невежды и пр. Эти качества принадлежат всем народам в разных степенях; сверх того, говоря о лени, нельзя не заметить, что работа вообще не есть наслаждение, особенно в жарких странах; но этого мало: англичане в Манчестере, французы в Лионе, кажется, не ленивы, а хлеба насущного еще не заработали. Какая же польза быть очень ретивым? Работа в Италии так дорога, что хозяева дорожат работниками.
Кто не забыл историю последних трех веков, тот знает, как долго Франция, Австрия и папство работали, чтоб убить политическую жизнь Италии. Наконец, утомленный неровным боем, итальянец сделался равнодушен к политике, теперь он воскресает. Сверх того, и тут нельзя сказать, чтоб народ в Италии в самом деле так далеко отстал от других. Франция была очень неравнодушна к политике, что же – она свободна? Или вы, может, верите, что Англия свободна? – Ну, так и здесь все Corsini, Colona, Torlonia и др. по-своему свободны. В итальянцах особенно развито уважение к себе, к личности; они не представляют, как французы, демократию, она у них в нравах; и под равенством они не разумеют равномерное рабство. Мелкие плутни итальянцев, о которых столько накричали туристы, бросающие горстями золото и учитывающие байокк, когда дело идет о buona mano[89], – скорее смешны, нежели отвратительны, и вертятся всегда около гривенника.
Мы застали Геную торжествующею, нарядною. Kaрл-Альберт был тут, город пировал реформу и примирение. Генуя, с самого присоединения к Сардинии, жила в мрачном отчуждении от Пиэмонта, она смирялась, но с нахлобученным челом, ее аристократы держали себя вдали от Турина, пиэмонтские чиновники были иностранцы для лигуров. Реформа несколько примирила двух соседей, которых сочетал браком Венский конгресс. Перемены и права, данные Карлом-Альбертом, чрезвычайно скромны, они стараются исправить вещи, вопиющая несправедливость которых бросалась в глаза, меняют устаревшие учреждения, обессиленные самим временем; они были неминуемы, неотлагаемы после реформы Пия IX и тосканского герцога, Карл-Альберт с ловкостью исполнил то, чего отложить не мог. Увлекающийся характер итальянцев не знал предела радости; в самом деле, как реформа ни была бедна, она свидетельствовала о сильном толчке, о том, что государство двинулось, сошло с мели, это было официальное сознание пробуждения, del risorgimento![90]
Я бежал из Франции, отыскивая покоя, солнца, изящных произведений и сколько-нибудь человеческой обстановки, да и всего этого я ждал не под отеческим скипетром экс-карбонаро Карла-Альберта. И только что я поставил ногу на итальянскую землю, меня обняла другая среда, живая, энергическая, вливающая силу и здоровье. Я нравственно выздоровел, переступив границу Франции, я обязан Италии обновлением веры в свои силы и в силы других, многие упования снова воскресли в душе, я увидел одушевленные лица, слезы, я услышал горячие слова. Бесконечная благодарность судьбе за то, что я попал в Италию в такую торжественную минуту ее жизни, исполненную тем изящным величием, которое присуще всему итальянскому, – дворцу и хижине, нарядной женщине и нищему в лохмотьях. Кому из вас не случалось проезжать по селу в светлый праздник, – все нарядно, радостно; мужичок выпил стаканчик и рассеял думу об оброке, баба надела новый сарафан и забыла о барщине, парни гуляют, как будто нет рекрутства, девки не думают о насильственном браке, дети играют в чистых рубашонках, – «они воскресли тоже, как говорит Фауст, из душных мастерских, из низеньких домов». Представьте же себе не село, а целую страну в торжественном наряде, – страну, празднующую светлое воскресение свое, и представьте себе, что эту страну называют Италией!
А давно ли было то время, в которое Гейне говорил, что в письмах из Италии можно говорить обо всем, кроме Италии? И все находили, что он прав, и весь талант Диккенса не спас его пустого рассказа. В Италии вновь ничего не происходило, а что было прежде, то было все высказано с гением Гёте и с негодованием леди Морган, с огненным словом Байрона и с плоскостью Фулширона. Казалось, что нет предмета более исчерпанного, как Италия, она лет двести, даже больше, ничего не делала, как будто нарочно для того, чтоб дать полное время описать себя со всех сторон, она позировала – великая красавица, великая куртизана между народами
Ho tempora mutantur, время тяжелого сна для Италии прошло; она, уставшая от двух великих прошедших, захваченная во внутреннем раздоре внешними врагами, покорилась им, у ней не было больше сил противустоять; может, она и нашла бы еще в своей груди отвагу и мощь, но эту грудь разъедал изнутри ядовитый рак папства. Теперь Италия забыла старые притязания и семейные ссоры, теперь она плохо верит в папство, она спаялась горем и слезами и требует государственного единства и гражданской свободы.
В Ливурне я увидел первую «чивику», il popolo armato[92]. Я вообще не люблю ни орудий, ни солдат, но если уж есть необходимость в вооруженной силе, то внутренняя стража, составленная из граждан и не одетая в шутовской мундир, всего менее оскорбляет. По счастию, тосканская чивика еще не успела нашить себе мундиры, люди, одетые кто во что попало, в бархатных и суконных куртках, в блузах всех цветов, в пальто всех покроев, с круглыми шляпами и в фуражках, с перевязью через плечо и с ружьем, занимали все караулы. Вы не можете представить себе, до какой степени это отсутствие мундира облагороживает часового. Мундир отрезывает человека от людей, для солдата существует полк, знамя, военная честь, а не честь гражданина, не город, не семья; это человек иного мира, его ремесло – убивать по назначению начальства, и потому он одет иначе, и потому он противопоставлен au péquin[93], фрачнику, мужику. Мундир – риза, облачение; солдат не мирянин, он жрец смерти, человеческих жертвоприношений. Надевать мундир на Национальную гвардию – нелепость или желание из нее сделать такое же покорное орудие в руках власти, как армии. Цель эта во Франции достигнута. Глядя на чивику в Ливурне, признаюсь, я не мог удержаться, чтоб не подумать, что было бы с нашим другом Сергей Сергеевичем Скалозубом, если б он вдруг – не в Ливурне, а на Литейной или на Морской – увидел таких часовых.
Из Ливурны мы съездили на несколько часов в Пизу. Все эти места остались в моей памяти светлыми точками, воспоминания об них всякий раз отрадны для меня – и, не странное ли дело, при слове «отрадных воспоминаний» моего путешествия мне представился – что вы думаете? – Кенигсберг. Есть города, с которыми встречаешься особенно тепло, под особенно счастливым созвездием. Кенигсберг был первый город, в котором я отдохнул от двенадцатилетних преследований, там я почувствовал, наконец, что я на воле, что меня не отошлют в Вятку, если я скажу, что полицейские чиновники имеют также слабости, как и все смертные, и не отдадут в солдаты за то, что я не считаю главной обязанностью всякого честного человека делать доносы на друзей.
В Тоскане политическое движение мне показалось еще сильнее, нежели в Пиэмонте. В Ливурне на улицах стояли группы людей, с жаром толковавших об политике, все принимали участие в разговорах и спорах: таможенные смотрители, факины и лодочники. Во всех лавках были вывешены трехцветные фуляры с зажигательными надписями, с воззваниями, с портретом Пия IX, на шляпах были огромные кокарды, женщины носили трехцветные банты, дети распевали гимн Пию IX.
Кстати – расскажу вам, как я не слыхал в первый раз этот гимн. Одним добрым утром читаю я, в Париже, – читаю там, где обыкновенно приклеивают афиши, на тех выдолбленных каменных памятниках, назначенных, с одной стороны, для величайшей гласности, а с другой для глубочайшего aparté[94], что в Château des Fleurs будут петь гимн «Pio nono»[95]. Château des Fleurs – сад, отделанный в ультрамещанском вкусе возле Arc de Triomphe, с декорациями на холстине, с искусственными развалинами, с маленькими фонтанчиками и разноцветными шкаликами. Бегу туда, беру билет и приготовляюсь слушать; играют кадрили, играют Страусовы вальсы, поют «чувствительную Перету», играют отрывок из «Сороки-воровки», – гимна все нет. Наконец затрещал жалкий фейерверк – мещанки испугались, их мужья показали храбрость Нея и Мюрата и с твердостью духа смотрели на полет ракет. Фейерверк – учтивое и огненное напоминовение, что пора идти вон; я в отчаянии отправляюсь к капельмейстеру с афишей в руке и требую «Pie Neuf»[96]. «Это не наша вина, – отвечает капельмейстер, – префект запретил, мы с своей стороны сделали все, что могли, nous vous avons donné pour le „Pie Neuf” un morceau de la „Pie voleuse! ”»[97] И это запрещение никого не поразило, никого не удивило, кроме меня. Глубоко оскорбленный, шел я домой по Елисейским Полям и грустно посматривал на Place de la Révolution, с которого грозился черный и печальный обелиск, поставленный на месте страшной гильотины 21 января; я обернулся – добродетельные мещане шли так мирно, так покойно домой, хохотали, курили, а вдали исчезал Arc de Triomphe, на котором мастерской резец так славно вырезал громовую «Марсельезу». Журналы едва помянули об этом. Вот вам Франция в 1847 году. Мишле, начиная курс второго семестра, сказал: «Господа, прошедший год для нас нравственное Ватерлоо, глубже упасть нельзя, мы дотронулись до дна срама и позора». Мишле забыл, что есть у фокусников ящики с двумя, с несколькими днами.
Не могу сказать, чтоб Рим с первого раза сделал на меня особенно приятное впечатление. В Рим надобно вжиться, его надобно изучить; хорошие стороны его не бросаются в глаза, в наружности города есть что-то старческое, отжившее, пустынное и дряхлое; его мрачные улицы, его угрюмые дворцы и некрасивые домы печальны, в нем все почернело, все будто после покойника, все пахнет затхлым, так, как в Петербурге все лоснится, все пахнет известью, сырым, необжитым. Всего более поражает в новом Риме отсутствие величия, т. е. именно ширины, того, что мы привыкли сопрягать со словом «Рим». Не возмущайтесь тем, что я говорю, а дайте объясниться; дело идет теперь об общем впечатлении нового Рима, а не о двух прошедших, которые оставили свои великие памятники середь него.
«Вечный» город несколько раз менял свою броню, следы разных одежд его остались, по ним можно судить, какова была его жизнь. Рим – величайшее кладбище в мире, величайший анатомический театр, здесь можно изучать былое существование и смерть во всех ее фазах. Прошедшее здесь легко восстановляется по одной колонне, по нескольким камням.
Первое, что поражает человека, не свихнувшего свой ум мистическими бреднями, – это следы жизни смутной, дикой, отталкивающей, исключительной, которою сменяется широкая, могучая, раскрытая жизнь древнего Рима. В древнехристианском Риме не видать ни малейшего понятия об искусстве, никакого чувства изящного; застроенные в стены колонны, порталы стоят вечными свидетелями благочестивого безвкусия тогопечального мира, который заменил мир Пантеона и Колизея. Древний Рим пал, как могучий гладиатор, его колоссальный остов внушает благоговение и страх, он и теперь гордо и торжественно борется против разрушения, время не могло сокрушить его костей; его остатки, ушедшие в землю, разваливающиеся, покрытые плющем и мохом, величественнее и благороднее всех храмов Браманте и Бернини. Каков был мощный дух, умевший так отпечатлеть себя на этих каменных ребрах, что полустертый след его подавляет собою два, три Рима, выстроенные возле и строившиеся века! Когда я первый раз вышел за Капитолийскую гору и вдруг очутился над Форумом и Колизеем, я остановился, смущенный и взволнованный. Вот он, остов великого деятеля! В гигантском скелете сохранилось царственное выражение. Forum Romanum – великие светские мощи мира чисто светского; вечный Рим тут, по этим развалинам легко понять, кто были римляне.
Рядом с костями полубога, героя, возле них, около них, а частию на них замерла другая жизнь, жизнь средневековая; печальная, суровая мумия его наводит уныние, смерть сохранила изнуренные постом и молитвой формы, образ монашеский и болезненный. В Риме нет ни одного замечательного памятника средних веков; весь этот византизм и готизм был не по натуре итальянцам, всего менее римлянам. Они не настолько южны, чтоб предаваться сладострастию аскетизма, и не настолько северны, чтоб млеть в мечтательном мистицизме. Климат Италии слишком светел для истомы плотоумерщвления. Итальянца тянет из-под готической стрелки к спокойному куполу, он не стремится вместе с теряющимися колокольнями… туда, туда – ему и здесь хорошо. Он – как Миньона: dahin, dahin[98] у него значит – в Италию. Жизнь средневековая для Рима была не цветение, как для Бельгии, например, а болезнь, искупление старых грехов, изнеможение от избытка жизни и страстей. Как только он собрался с силами, он снова ринулся к светской жизни при цезаре Льве X, Юлии II. Языческая закваска никогда не проходила в Италии, ей равно не прививались ни учреждения благоустройства и тишины, о которых так старались гибеллины, ни нравственная неволя, которую папы налагали на весь мир за исключением Италии. Восстановленный Рим дебютировал громадно, закладкой св. Петра, но прежде, нежели папа Павел V и Карл Мадерни достроили и испортили храм, заложенный Брамантом, по Италии прошло дыхание смерти и оцепенения. Карлу V – положительно – и Мартину Лютеру – отрицательно – принадлежит эта печальная слава.
Реформация нанесла Риму страшный удар – финансовый, политический, религиозный, нравственный; она, освободившая долею мысль в Германии, остановила ее развитие в Италии; она испугала совесть ересью, она поразила умы возможностью падения католицизма, она ожесточила духовенство, построила его в боевой порядок, раздула инквизицию и вызвала иезуитизм. Александр Борджиа, этот Тиверий в тиаре, борется с Савонаролой; после Лютера борьба невозможна; пытка, вечное заточение, казнь – ответ на всякое разномыслие, на всякое высказанное сомнение. Доминиканцы трепещут за существование церкви и иерархии, папы отращивают бороду и не снимают монашеской рясы. Испуганные миряне начинают снова поститься, исполнять внешние обряды; католицизм упрочен на века.
Между тем борьба Франции и Испании на итальянской земле добила Италию. Она мученически вынесла свои тысячелетние междоусобия, – но дикие орды разбойников и вольнонаемных убийц она вынести не могла. Города были лишены укреплений, ограблены, стада угнаны, поля потоптаны, никакого обеспеченья не существовало.
Рим еще несколько щадили из уважения, из благочестия, из необходимости иметь Рим, но он оцепенел в своем одиночестве, и отсюда начинается для него новая эра. Мы ее можем считать с Карла V, он убил прошлую жизнь Италии так, как убил ее в Испании мертвящим, бездушным сосредоточением всех властей. Карл V – первый царь европейский. С него началось немое управление, угнетение всего самобытного, местного, индивидуального, пошлость и повиновение заменили средневековую верность и честь. В эту эпоху, серую и глухую, сложился тот Рим, который стоит теперь. Он в конце XVI и в XVII веке лепил дом к дому, церковь к дому, портил площади, все предоставлял случайности и строил в самом дурном стиле de la Renaissance[99]. Широкая жизнь тех веков текла не в Риме. Она шла там, где строились Версали да Лувры. Рим вовсе не знал изящества новых городов с их удобным щегольством, с их широкими улицами, с их большими площадями. Новые города, полные сил и свежести, беспрерывно строятся, деятельный дух, живущий в них, требует перемены, расширения, роскошной обстановки; на слабом и оставленном Риме лежал вампир, который высасывал всю кровь его. Где ему было перестроиваться? Его дворцы чернели, его виллы зарастали, его граждане приучались к лишениям, он остался Римом XVII века, ожидая новой жизни, и дождался ее.
Рим беден. Его доходы были искусственны, Реформация отрезала ему Англию и большую часть Германии, просвещение – почти все остальное; у него все уменьшалось, кроме расходов, нищенствующая братия все так же жила подаянием, огромные достояния монастырей и духовных корпораций все так же служили для поддержки скудельного тела отказавшихся от мира сего. Рим обнищал и, настоящий итальянец, сидит в лохмотьях, а похож на царя и не думает о том, как горю помочь. Рим, как все венчанные главы, не привык заботиться о материальных нуждах. Он уверен, что он попрежнему первый город во вселенной, что торговля всего мира стремится на его рынки, что он нравственный центр христианства и что Европа лучше ничего не просит, как прислать ему все, что нужно, от восковых свечей и ладану до драгоценных каменьев и слитков золота.
Чем далее живешь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона, и тем больше внимание сосредоточивается на предметах бесконечного изящества; грязные сени, отсутствие удобств, узкие улицы, нелепые квартиры, пустые лавки становятся все меньше и меньше заметны, и другие стороны римской жизни вырезываются, как пирамиды или горы из-за тумана, яснее и яснее. Такова самая Campagna di Roma. Сначала она поражает пустынным видом, отсутствием обделанных полей, отсутствием лесов, все бедно, угрюмо, будто вовсе не в средоточии Италии, такие пустыри найдутся, кажется, и на берегах Истры, но мало-помалу человек знакомится с этой вечной пустыней, с этой дикой рамой Рима. Ее безмолвие, ее опаловая даль, синие горы на горизонте – становятся все роднее… Там медленно двигается осел, постукивая бубенчиками, черноволосый пастух, с фартуком из бараньей кожи, сидит пригорюнившись и смотрит – женщина несет какой-нибудь овощ, – в ярком наряде и с белым сложенным платком на голове, она останавливается отдохнуть, грациозно поддерживая рукой свою ношу на голове, и смотрит вдаль, и черные глаза ее выражают такую тоску, такую задумчивость, о которой она и не подозревает, – и будто одна и та же дума налегла, тяжелая и широкая, на бесконечное поле и горы, на пропадающую в неопределенной дали зубчатую линию акведуков, идущую целые мили, на пастуха и на крестьянку. Всегда печальная, всегда угрюмая, Campagna имеет одну веселую минуту – это захождение солнца: тут она облита ярким светом, который меняется каждые две-три минуты, и вдруг поднимается роса, пурпур сменен ночью, и даль исчезла, – ничего не видать, кроме теперь только заметного огонька пастухов и двух-трех ближних развалин.
Раз ночью сидел я с одним молодым итальянцем на полуобрушившемся своде терм Каракалы – точно на высокой горе. Что за размах, что за своды, что за необычайные размеры, какая могучая фантазия, дерзость замыслов, упорность в исполнении! Совы и летучие мыши шныряли на месячном свете, вдали был слышен одинокий протяжный лай собаки на Тибре, – Байрон слышал подобный лай из Колизея.
– Без рабов римлянам было бы невозможно строить такие колоссальные здания – они равно свидетели их силы и их тиранства, – сказал мой товарищ.
Я не вытерпел и отвечал ему:
– Да в том-то и величие их, что руками невольников они умели воздвигать великое, что, грабя мир, они клад не зарывали в землю, а расчищали достойную арену для своего царского разгула. Рабы были не у одних римлян, есть страны, имеющие рабов в девятнадцатом столетии, да что-то об их постройках мало слышно. Признаюсь, что касается до меня, я склоняюсь перед остовом этого колосса, – каждая арка, каждая колонна говорят о силе, о шири, об этом стремлении к раздолью, которое свидетельствует, что римляне действительно пожили, в полном значении слова.
– А какая в них польза?
– Вам ли, итальянцу, это говорить – вся поэзия жизни состоит из ненужностей. Рафаэль рисовал ненужные картинки, Микель-Анджело делал каменные куклы, а Данте писал вирши, вместо того чтоб делать дело.
– Вы правы, – сказал, расхохотавшись, неолиберал, увлеченный антиитальянскими теориями тщедушного утилитаризма.
…Вторая великая сторона Рима – это обилие изящных произведений, той гениальной оконченности, той вечной красоты, перед которой человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел, и примиренный со многим – так, как это было со всеми людьми в самом деле, приходившими со всех концов мира на поклонение изящному в Ватикане, в Капитолии… и так, как это будет со всеми людьми грядущих веков до тех пор, пока время пощадит эти великие залоги человеческой мощи. Когда мучительное сомнение в жизни точит сердце, когда перестаешь верить, чтоб люди могли быть годны на что-нибудь путное, когда самому становится противно и совестно жить – я советую идти в Ватикан. Там человек успокоится и снова что-нибудь благословит в жизни. Ватикан не похож на все прочие галереи: это пышные палаты, украшенные изящными произведениями, а не выставка картин и статуй.
Галереи вообще очень утомительны и больше полезны, нежели изящны; каждая статуя имеет свое назначение, требует свою обстановку и вовсе не нуждается в целом батальоне других статуй; всякая картина действует сильнее, когда она на своем месте, когда она одна. Посмотрите, как фрески Микель-Анджело хороши в своем одиночестве на одной из стен Сикстинской капеллы; его Моисей в церкви – просто дома; пусть будут картины на каждой стене, лишь бы эти стены не были для картин. В галерее человек через час чувствует, что он не в состоянии понимать, и все-таки смотрит по обжорливости своей натуры. Я уверен, что много превосходных произведений утоплены, затеряны в больших галереях, в многом множестве других картин, где еще к тому они задавлены двумя-тремя chefs-d’oeuvre’aми. Добро бы еще картины располагались в строгом историческом порядке, такого размещения я нигде не знаю, кроме в берлинском музее; зато там, кроме исторического порядка, ничего нет. – Я обыкновенно ходил к двум-трем картинам, к двум-трем статуям, а с прочими встречался, как с незнакомыми на улице, – может, они и хорошие люди, может, дойдет черед и до знакомства с ними, ну а пока пусть себе идут мимо.
Чем больше приглядываешься к великому произведению, тем меньше удивляешься ему; это-то и необходимо, удивление мешает наслаждаться. Пока картина или статуя поражает, вы не свободны, ваше чувство не легко, вы не нашлись, не возвысились до нее, не сладили с нею, она вас подавляет, а быть подавленному величием – не высокое эстетическое чувство. Пока человек еще порабощен великим произведением, произведения более легкие доставляют более наслаждения, потому что они соизмеримее, даются без труда, в каком бы расположении человек ни был. Что трудного понять, оценить головки Карла Долчи, Марата? Они так милы, так изящны, что нет возможности их не понять. Великие картины, напротив, часто сначала притесняют, иногда являются порывы взбунтоваться против них; но когда вы однажды ознакомились с таким произведением, тогда только вы оцените разницу того наслаждения, которое вы приобрели от Карла Долчи или Грёза и, с другой стороны, от Бонарроти, Лаокоона, Аполлона Бельведерского… Я очень долго не мог сколько-нибудь отчетливо сладить с «Страшным судом», меня ужасно рассеивали частные группы, к тому же картина довольно почернела и я все попадал в капеллу в туманные дни. Как-то на днях, выходя вон из капеллы, я остановился в дверях, чтоб посмотреть еще раз на картину, – первое, что меня остановило на этот раз, было лицо и положение Богородицы. Христос является торжествующим, мощным, непреклонным, синий свет остановившейся молнии освещает его; давно умершие поднялись, все ожило – начинается суд, кара, и в это время существо кроткое, испуганное окружающим, робко прижимается к нему, глядит на него, и в ее глазах видна мольба, не желание справедливости, а желание милосердия.
Как глубоко понял Бонарроти христианский смысл Девы! Вот она, всех скорбящих заступница, готовая своей робкой рукой остановить поднятую руку сына, и когда от этой группы я стал переходить к окружающему, огромная картина сплавилась в нечто единое, бесконечное множество фигур со стороны, по бокам, получили смысл, которого я прежде не мог понять, который теперь начинаю подозревать, – и с этого дня я перестал анализировать каждую фигуру, перестал удивляться знанию остеологии и миологии Микель-Анджело.
Но я себе дал слово не утомлять вас описанием изящных произведений, – кого интересует читать картины – тот найдет источники.
В следующем письме мы поговорим о современном состоянии Рима, о его risorgimento.
Теперь в заключение скажу несколько слов об моих прежних письмах. До меня дошли слухи, что их дурно приняли в печати. Одни вступились за французскую буржуазию, за немецкую кухню, все за неуважительный тон, за легкость и поверхностность, за фамильярность с предметами почтенными и уважаемыми, за недостаток достодолжной скромности в обращении с старшими братьями, за недомолвки, наконец, которые тоже поставили на мой счет. Мне кажется, что письмам из Avenue Marigny придали больше значения, нежели они в самом деле имели, и рассердились на них за то, что они не оправдали ожидания. Письма эти – несколько помеченных впечатлений, несколько набросанных заметок на скорую руку, середь иных занятий, при недосуге, при новости явлений, при оглушительном громе событий, под влиянием досады, которую назвать и определить было гораздо труднее, нежели кажется. Письма эти вовсе не отчет о путешествии, не результат, выведенный из посильного изучения Европы, не последнее слово, не весь собранный плод – ничего подобного у меня не было в помышлении; мне просто хотелось передать первое столкновение с Европой; в них вылилось местами, рядом с шуткой и вздором, негодование, горечь, которая поневоле переполняла душу, ирония, к которой мы столько же привыкли, как Езоп, раб Ксанфа, к аллегории. У меня не было задней мысли, не было заготовленной теории ничему не удивляться или всему удивляться, а было желание уловить мелькающие, летучие впечатления откровенно, добросовестно – вот и все. Что касается до неуважительного тона[100], то я не вижу никакой необходимости говорить с почтением о вещах, которые мне кажутся презрительными, хотя бы мы их и привыкли уважать издали, по старым воспитаниям. Недостаточно найти страну, в которой все еще хуже, чтоб находить хорошим то, что делается здесь. Все кумиры долой – голая, обнаженная истина лучше приведет к делу, нежели лганье с доброй целью. Наконец, я должен признаться, что не только в моих письмах, но и в сердце недостает этой смиренной, почтительной струны, готовой умильно склоняться, «принижаться», как говорят славянофилы, для которой поклонение необходимо, чему бы то ни было, – золотому теленку или серебряному барану, русским древностям или парижским новостям. Из всех преступлений я всего дальше от идолопоклонства и против второй заповеди никогда не согрешу. Человек тогда только свободно смотрит на предмет, когда он не гнет его в силу своей теории и сам не гнется перед ним. Уважение к предмету не произвольное, а обязательное ограничивает человека, лишает его свободного размаха. Предмет, говоря о котором человек не может улыбнуться, не впадая в кощунство, не боясь угрызений совести, – фетиш, и человек подавлен им, он боится его смешать с простою жизнию. Так египетское ваяние и наша дикая иконопись давали идолам неестественные позы и неестественный колорит, чтоб отделиться от презренного мира земной красоты и теплой живой карнации.
Мне в Италии ни над чем не хочется смеяться; помнится, я в Париже тоже не смеялся над «Францией, за ценсом стоящей»;в плесени, покрывающей общество в Париже, в притязании мещан на образованность, на либерализм все вызывало презрительный смех, все дразнило меня. Я был откровенен в обоих случаях.
Письмо шестое
Рим, 4 февраля 1848 г.
Я видел несколько раз Пия IX; мне очень хотелось прочесть на лице этого человека, поставленного во главу не только итальянского движения, но европейского, какую-нибудь мысль, словом, что-нибудь, и я ничего не прочел, кроме добродушной вялости и бесстрастного спокойствия. Все портреты его, все бюсты похожи; к ним надобно добавить белый, нежный цвет лица, католическую, клерикальную полноту, прозрачную мясистость, и небольшие глаза, выражающие… что выражающие? – какую-то беспечную сытость. Я уверен, что Пий IX не способен ни к жестокости, ни к преследованиям[101], но он может допустить и то и другое, и я еще более уверен в том, что какие бы обстоятельства ни пришли, его пищеварение не расстроится, он тихо погрустит и успокоится.
Первый раз я видел его в квиринальской капелле, где он служил. Его окружали все кардиналы, находившиеся налицо в Риме, – что это за веющие несчастием лица, напоминающие инквизицию и аутодафе! Как ясно выражалась в каждой черте, в каждом движении этих бессемейных стариков жизнь, проведенная в двоедушии и домогательствах, ненависть ко всему свободному, властолюбие, зависть, готовность мести, отсутствие всего человеческого, теплого. Каждый в свою очередь подходил к папе, кланялся ему с коленопреклонением, он каждого накрывал руками; и в том числе был Ламбрускини, с видом старого шакала; я ждал, что он укусит св. отца, но они расцеловались преспокойно.
Во второй раз я видел св. отца во всем блеске понтификата в церкви Santa Maria Maggiore, где он прогуливался nella sedia gestatoria[102], –это было гораздо смешнее Квиринала. Пия IX носили по церкви в креслах, под разноцветными опахалами. Этот индейский вид совсем не шел к нему. В церкви была жара страшная, папу закачало, как на лодке, и он, бледный от приближавшейся морской болезни, с закрытыми глазами благословлял направо и налево. По дороге стояли с обеих сторон солдаты, красная guardia nobile[103] и пестрые svizzeri[104], в средневековой одежде. Офицеры командовали при приближении кортежа «Ar-mi!»[105], и ружья брякали на караул середь церкви; офицеры командовали «Ginocchio!»[106], и солдаты становились по темпам на колени. Я не могу привыкнуть к военной обстановке предметов по преимуществу мирных – ружья, мечи, штыки, сабли, кивера, пики и шлемы оскорбляют в церкви; прибавьте к этому неприятное кастратское пение, толпу откормленных монсиньоров, сытых каноников, переваливающихся с какою-то отвратительной фамильярностью с ноги на ногу, рядом с сухими и желтыми иезуитами и полудикими монахами из дальних монастырей, и вы поймете, каково должно быть впечатление.
Странная вещь! Католицизм, умевший создать такие храмы, умевший украсить их такими фресками, такими картинами и статуями, не умел уладить торжественнее, поэтичнее свой ритуал в самом Риме. Разумеется, время всех ритуалов вообще прошло, и они действуют не более как оперные процессии, самая толпа смотрит с любопытством, а не с благоговением на все эти ненужности, но тем не менее постановка могла быть художественнее и ближе к духу религии. Ритуал восточной церкви несравненно изящнее и величественнее.
Наконец, третий раз я видел папу более в трагической роли, нежели в комической, как прежде. Для того чтоб вам было понятно, надобно рассказать, что было накануне Нового года. Вечером 31 декабря дождь лил проливной, сильные удары грома и беспрерывные молнии, кроме всего остального, напоминали, что это не русский Новый год; между тем Piazza del Popolo покрылась народом и зажженные torci[107], невесело потрескивая и дымясь, зажигались там и сям. Я смотрел в окно на это приготовление, толпа построилась правильной колонной и, грянув «Scuoti il polvere»[108], пошла по Корсо к Квириналу. Анджело Брунетти, т. е. Чичероваккио, вел римский народ поздравить св. отца с Новым годом, прокричать ему «evviva»[109] так, как ему одному кричат, и напомнить, что римляне ожидают в этом году исполнение тех упований, на которые он дозволил надеяться, но которые еще не удовлетворены консультой. Савелли, римский губернатор, открытый враг движения, отправился к Пию и уверил его, что мятежная толпа народа собирается посетить его на Monte Cavallo. Папа, который лично знал Чичероваккио, которого Чичероваккио спас от ламбрускиниевского заговора, поверил и перепугался. Он велел созвать чивику и невдалеке от Квиринала приготовить полк берсальеров. Между тем в двенадцатом часу ночи, по дождю и грязи, спокойно и стройно пришла колонна с факелами к Monte Cavallo, с криком «Viva Pio nono, е viva semрrе!»[110] Народ звал папу на балкон, папа не вышел, а выслал сказать, чтоб народ расходился. Отношения, образовавшиеся между народом и папой, избаловали римлян: они несколько раз вместе плакали и клялись в взаимной любви. Отказ папы удивил всех. Люди, промокнувшие до костей, не ждали такого приема, они стали еще громче и настоятельнее требовать появления папы; тогда губернатор объявил им, что если они не пойдут сейчас же по домам, то он по приказанию св. отца их разгонит солдатами и чивикой. Народ с удивлением увидел, что в самом деле солдаты под ружьем. Если б Григорий XVI пустил ядро вдоль по Корсо во время moccoletti, это не удивило бы, не оскорбило бы так глубоко римлян, как грубый ответ Пия IX.
Такт римлян в этих случаях удивителен. Вдруг все переменилось; факелы погасли; ни одного крика; мрачно, безмолвно, свернувши свое знамя, народ пошел домой. На другой день нигде ни толпы, ни веселья; праздника нет, город оскорблен, чивика громко ропщет, двое сенаторов приняли сторону народа и отправились к Пию IX; Пий IX расплакался, сказал князю Корсини, что его ввели в заблуждение, и объявил, что для вознаграждения римлян он сам поедет их благословлять на Новый год и для этого подъедет ко всем главным кордегардиям чивики.
Часов в двенадцать 2 января Корсо покрылся людьми. Правильная масса народа двигалась с Piazza Colonna, Чичероваккио шел впереди с знаменем, на котором был написан следующий упрек, кроткий, простой и полный смысла: «S. Р. Giustizia al popolo chi è con voi!»[111] Процессия остановилась на перекрестке Corso и via Condotti, папе нельзя было миновать которой-нибудь из улиц; народа было по крайней мере тысяч двадцать; ни хохоту, ни крику, никто не толпился, не давил, ни одного карабинера, ни одного полицейского не было видно (они вообще здесь где-то прячутся, особенно когда есть демонстрация). Явилась чивика без ружей и стала в ряды народа. Порядок был удивителен, только по временам поднимался крик, который распространялся далее и далее, разрастаясь, как круг в воде от брошенного камня. Крики были выразительнее, нежели прежде: «Abbasso i gesuiti, abbasso il Palazzo Madama!»[112] (тут живет Савелли), «Viva la stampa libera, i fratelli Bandiera, – abbasso i oscurantisti!»[113] и потом – «Viva Pio nono, masolo, solissimo!»[114] Кто-то прокричал: «Viva i piemontesi!»[115] – народ подхватил; при этом вдруг продирается сквозь густую толпу седой, но здоровый старик и начинает благодарить римлян от имени Генуи; слов его я не расслышал, но по мимике можно было догадаться; лицо у него разгорелось, онплакал, в конце речи он закричал: «Viva la libertà!»[116], бросил свою шапку вверх и сам бросился обнимать солдата Национальной гвардии, потом другого, третьего. Это была сцена из первых дней французской революции. Народ бешено рукоплескал генуэзцу… Часа в два раздалось: «Едет, едет!». Папа ехал шагом, сопровождаемый четырьмя драгунами и каретой, в которой сидел кто-то из министров. Он был взволнован и очень бледен. Народ его встретил громким, бесконечным приветствием. Чичероваккио поднял знамя к его окошку, и двадцать тысяч человек пошли провожать Пия IX. На первую минуту мир был заключен. Конечно, не вина народа, если с тех пор он еще дальше стал с папой, нежели был в Новый год.
Пий IX, как все слабые люди, упрям; он сделает что требуют – да после, раздразнивши прежде отказом, и тогда, когда уж хотят чего-нибудь другого. Так он испортил действие 2 января, но день этот для него был торжественен, грозно торжественен… По морю весело прокатиться, а чувствуешь, что утонуть можно. Балконы были усыпаны дамами, все окна раскрыты, отовсюду махали платками, карета папы двигалась шаг за шагом, всадники были смяты, народ держался за постромки, за лошадей, за колеса, кучера и лакеи не препятствовали, потому что невозможно было ничего сделать. Чичероваккио влез на вторую карету и сел с знаменем на империале, жалкая фигура какого-то кардинала выглядывала, испуганная, из-под его ног, покрытых пылью. Часов до семи продолжалось это шествие, текла эта живая река от Via Condotti до Monte Cavallo; с переулков и площадей раздавались приветствия и крики, повторяемые всякий раз несколькими тысячами человек возле ушей папы: «Abbasso i mascheri!» «Viva Ganganelli!»[117] (Климент XIV, изгнавший иезуитов из Рима), «Viva l’indipendenza, abbasso i gesuiti!»[118]. Когда процессия пришла к Квириналу, смерклось; обширная площадь, на которой стоят знаменитые Фидиасовы лошади, была полна народом, ожидавшим возвращения св. отца и его благословения. Но он изнемог; бледный, он опустил благословляющую руку, и голова его склонилась на подушку, он лишился чувств. Драгун, ехавший возле кареты, сказал что-то Чичероваккио; Чичероваккио дал знак рукой, и мало-помалу водворилась тишина, прерываемая время от времени криком встречавшихся, которым тотчас показывали, чтоб они молчали. Тишина придала еще больше торжественности зрелищу. Молча проводил народ папу до ворот, никто не требовал, чтоб он вышел на балкон, его повели под руки на лестницу. «A casa, a casa!»[119] – закричали передние ряды, и толпы народа молча и с поднятыми знаменами пошли – а полицейских все не было.
Еще раз, народные движения в Риме носят на себе особый характер величавого порядка, мрачной поэзии, как их развалины, как их Campagna. Лица, фигуры этих людей сохранили античные черты – черты доблести и благородства; католицизм им придал, вместе с бедствием, с неволей, вид угрюмый, печальный, который еще более поражает в соединении с страстным выражением и с племенною красотой. Эти люди, которые смеются раз в год – на карнавале, – терпели века и наконец спокойно сказали: «Довольно!»
Папа был потрясен, плакал, занемог, и – ничего не сделал. Он не умел воспользоваться этим днем и совершенно лишился народной любви. Все ждали новое министерство, увольнение Савелли. Савелли остался – и ни одной льготы; народ обиделся второй раз и вряд помирится ли. Пустые и бесполезные полицейские меры внесли больше горечи в эту размолвку, нежели бы могли сделать действительные притеснения. Римляне привыкли всякое утро читать маленький листок «Palladе», приклеенный по стенам на улицах. Можете себе представить, как должна быть дорога некоторая свобода книгопечатания для народа, жившего века под гнетом самой варварской ценсуры. Папа запретил приклеивать «Палладу» по стенам, запретил даже продавать на улицах. Редакция объявила афишами на всех углах об этом запрещении и уведомляла читателей, что она перенесла сбыт своего журнала во все табачные лавки, во все кофейные и что, не имея права носить «Палладу» по улицам, ни приклеивать к стенам, они поставят столы и положат на них свой журнал для чтения. Савелли побоялся запретить – и римский Шаривари над ними женахохотался досыта.
В конце декабря делали демонстрацию швейцарскому послу, поздравляя его с разбитием Зондербунда. Вдруг через две недели св. отец надумался и повелел всем участникам антикатолической демонстрации три дня поститься, предоставляя исполнение этой полезной меры на собственную совесть тех, которые были на демонстрации. Рим расхохотался от одного конца до другого, прочитав в официальной газете эту шалость будирующего наместника св. Петра.
Но, в сущности, Рим был далек от смеха. Мрачная тишина и тяжелое расположение духа становились очевидны с половины января. Сомнение в св. отце, недоверие к нему работало во всех умах, в аристократическом Circolo Romano и в народном Circolo Popolare, основанном на днях Чичероваккием. Пий IX хмурился и давал созреть этим мыслям. Его поведение действительно было непонятно. Всякий день приносил какую-нибудь потрясающую весть – то из Милана, то из Павии, Неаполя, Сицилии. На Монте Кавалло, в Квиринале царила тишина недоумения; ни слова успокоения, ни слова утешения. Римляне боятся Людовика-Филиппа, боятся короля Альберта, ненавидят Австрию – и спрашивают, с кем св. отец, против кого?.. Глаза всех обращаются на Пия IX, на человека эпохи, – а Пий IX притих, как будто его нет; хотя, впрочем, и разрешил торжественную панихиду по убиенным ломбардцам, несмотря на протест австрийского посланника.
Так проходил январь, тревожно внутри и тихо снаружи, при отвратительной мокрой погоде, что уже само по себе в Италии составляет общественное несчастие, как вдруг, вслед за сбивчивыми слухами, пришли достоверные вести не токмо о восстании Палермы, но и о геройской защите города. С этого дня Рим вступил в новую фазу пробуждения, он еще больше проснулся. Уступки неаполитанского короля, которые за месяц были бы приняты рукоплесканием всей Италии, были приняты презрением; они выражали страх и бессилие. Неаполь молчал, осыпаемый сарказмами римских и флорентинских журналов. Наконец, 28 января двинулся и он; король попробовал усмирить народ, не сладил и скрепя сердце обещал конституцию и амнистию. Весть эта дошла до Рима на другой день. Толпы народа бегали по главным улицам с криком: «Lumi! Lumi!»[120] – и все окна осветились. Сенат и шатающееся министерство поняли, что тут распасться с народом значило погубить себя, а потому под заветными буквами S. P. Q. R. они объявили al popolo romano[121], что 3 февраля назначается молебствие и торжествование «восстановления мира в королевстве обеих Сицилий». Снова ошибка, снова слабость в обе стороны и, следственно, неудача в обе стороны. Корсо горело огнями, демонстрация была величественна и колоссальна; вся чивика, все народонаселение Рима принимало участие, но для Пия IX горек был этот день: Национальная гвардия сняла его кокарду (желтую с белым) и надела трехцветную. Ликующий народ прошел по всему Риму, посетил Форум и Капитолий, но миновал Monte Cavallo; Пий IX был исключен из торжества. Правительство лишилось всякой моральной силы. Папа снова готовится к уступкам и снова дразнит народ. Начальник Национальной гвардии велел снять трехцветную кокарду, его не послушались; на другой день вышел приказ, разрешавший трехцветные кокарды! 3 февраля к крику «Viva Pio nono!» прибавляли всякий раз: «е la costituzione е la libertà»[122]. Замечательно, что во все время ликований ни одному человеку не пришло в голову или никто не осмелился по крайней мере прокричать какое-нибудь приветствие неаполитанскому королю.
Завтра отправляюсь посмотреть своими глазами на Неаполь в революции, на Неаполь не только изящный, но и свободный. Пока, пользуясь дождем, я намерен сказать еще несколько слов об итальянских делах. Как это случилось, что страна, потерявшая три века тому назад свое политическое существование, униженная всевозможными унижениями, завоеванная, разделенная иноплеменниками, полтора века разоряемая и наконец совсем сошедшая с арены народов как деятельная мощь, влияющая сила, – страна, воспитанная иезуитами, отставшая, обойденная, обленившаяся, – вдруг является с энергией и силой, с притязанием на политическую независимость, и гражданские права, с притязанием на новое участие в европейской жизни?
Судьба полуострова шла в последние три века не торной дорогой истории, и оттого его современное состояние на первый взгляд не совсем понятно; может, один западный народ и есть, которого быт народный еще непонятнее, – это испанцы.
Мы легко привыкаем по умственной лени к шаблонам и нормам, к исторической алгебре, алгебра эта составлена по трем типам: по английскому, французскому и немецкому. Италия шла иным путем. Когда весь мир забыл древний Рим, память о нем хранилась в Италии. Когда же, напротив, вся северо-западная Европа стремилась к государственной централизации, к римской монархии – Италия продолжала быть феодальной, была побеждаема, притесняема, но не делалась монархическою, кроме Пиэмонта и Неаполя. В Италии не было периода индустрии, не было революции в пользу среднего сословия; ее горожане – не освобожденные рабы, не буржуазия, а вольные люди, утратившие все права, кроме муниципальных.
В XVI веке Италия накрыта внешним гнетом, захвачена иноплеменными войсками и оставлена при своем местном, муниципальном праве. Мертвая как государство, она жила в городских коммунах, вся жизнь ее притекла к этим сердцам народного существования. Гнет, тяготевший над Италией до Ломбардо-Венецианского королевства, не был ни равномерен и ни всеобщ, он не имел принятой, проведенной во все стороны системы. Есть части Италии, которые со времен греческих императоров и до нынешнего дня едва понаслышке знали оправительстве, платили подать, давали солдат и внутри управлялись своими обычаями и законами, – такова Калабрия, Базиликат, Абруццы, целые части Сицилии. С другой стороны, например, Тоскана никогда не выносила того лишения всех человеческих прав, как ее соседи.
Территориальные разделения Италии менялись на тысячу ладов, народ их переносил, редко был доволен и никогда не принимал их за нечто истинное, прочное, а за грубый факт насилия. Все усилия Гогенштауфенов и их наследников развить в Италии монархическое начало остались тщетными, и собственно теория гибеллинов, о которой писали тяжелые трактаты ученые легисты и которую они старались представить последним словом и органическим развитием римского права, никогда не прививалась итальянскому народу; философию права и государственные понятия итальянцев надобно искать в сочинениях Макиавелли и в их историках. Народ был всегда гвельфом и только по ссоре с папой или с соседними городами бросался к стопам императоров, предоставляя себе право при первой возможности восстать и отделиться. Методическое, холодное, безнадежное управление, вводимое немцами, было невыносимо для итальянцев. Древний Рим мог переносить цезарей со всем их тиранством, потому что их управление более походило на беззаконную диктатуру, на какое-то личное, случайное исключение, их владычество было сочетанием деспотизма с анархией; однообразный, систематический гнет германизма совершенно противуположен итальянцу, и он больше ненавидит Барбароссу, нежели своего Еццелино.
Совсем напротив, власть папская была совершенно национальна, потому что она была неопределенна. Рим, Романья едва слушались пап, они дома были цари тайком; чем дальше от центра, тем власть папская становилась сильнее и наконец достигала страшной мощи уже вне Италии. Папы действовали совсем обратно императорам, они опирались на местные различия и поддерживали муниципальную жизнь. Григорий VII, с своей гениальной проницательностью, понял элемент, который спасет Италию от императоров, и городская жизнь, ободренная и двинутая им, переросла германизм, плохо дающий корни в почве, в которой был сохранен языческий Рим. Италия жила и развивалась всеми точками; города ее цвели, она была самое образованное и самое торговое государство в XIV столетии, и между тем десяти лет не проходило без того, чтоб она не покрывалась кровью и пеплом. Города становились роскошнее после пожара, сильнее после разорения. Шутка одного старинного историка: «Война – мир для Генуи», может относиться ко всему полуострову. Необыкновенно живучая страна! Жизнь, развитие, подавленные в одном месте, ускользали, как ящерица в траве, и являлись во всем блеске на другом месте. В северной Европе давным-давно цетрализация задавила средневековую жизнь и сильные государства образовались, опираясь на постоянные армии и служебное дворянство; в Италии продолжалась прежняя жизнь нескольких городов на первом плане и множества других, не столько важных в политическом отношении, но свободных, независимых и образованных на втором и третьем. Так она дожила до страшной годины, когда Карл V и Франциск I выбрали прекрасные поля ее для кровавой войны, – для войны, продолжавшейся более столетия. Эта война сокрушила страну, Италия крепилась, крепилась, – наконец сил ее не стало противустоять войскам, беспрерывно усиливавшимся свежими толпами из Франции, Германии, Испании и вольнонаемными шайками из Швейцарии. Может быть, если б идея народного единства, идея государства была развита в Италии, она отстояла бы себя – но этой идеи не было.
Враг имел всегда дело с частью. Города сражались, как львы, крестьяне составляли вооруженные толпы, нападавшие на неприятеля нежданно, между гор, в теснинах, в домах, – но вся отвага их погибла попустому, их подавили числом. Тип итальянской войны, так же как и гражданского устройства, – отдельность, дробность, городское восстание, партизанская война, война отдельными вооруженными дружинами. Государство, требующее поглощения городов, армия, требующая поглощения личностей, для итальянцев противны; нет народа, менee способного к дисциплине, к полицейскому устройству, к монархическому порядку. С другой стороны, отсутствие единства столько же спасло Италию, сколько погубило ее на время. Жизнь Италии не была связана ни с Римом, ни с Венецией, ни с Флоренцией. Задавленная в больших городах, она вдруг являлась в Ферраре, в Болонье; вытесняемая в Неаполе, она переплывала в Палерму, Мессину; в Генуе она сохранилась до революции. Италия – гидра лернская задушить такую многоголовую жизнь – невозможно.
Побежденная Италия, уступая мало-помалу политическую жизнь, является в главе художественного и умственного развития; она воскрешает греческую философию, она создает живопись и, верная своей федеральной натуре даже в искусстве, рисует на три типа, – рисует так, что вы узнаете города по школам; художественный период итальянской жизни совпал с действительным возрождением мысли, после скучного теологического схоластицизма. Итальянские представители нового движения вышли с отроческим увлечением и с необыкновенной отвагой на арену, на которой их уже ждали не апотеоза, как Петрарку, а плаха и костер. Преследование мысли во имя религии нанесло новый удар Италии, убило последнюю сферу, в которой она могла развивать избыток своих сил. Ей позволяли рисовать, ваять и строить, но запретили думать, но Галилея свели в тюрьму за астрономию, Ванини и Бруно казнили за метафизику. Время доблестных, гуманных пап прошло, Реформация внесла ужас в Ватикан, начальники инквизиции надевали тиару; вопреки веку, нравам, стране эти люди снова возвращались к суровому и дикому монашеству. Лукавый и злой характер католицизма развернулся до конца Реформацией, доминиканцы подняли знамя крестового похода против мысли, иезуиты, янычары церкви, были недовольны кротостью инквизиции и пап, – пап, которые в Ватикане, в сенях Сикстинской капеллы велели на стенах нарисовать фрески, представляющие сцены из Варфоломеевской ночи и которые я видел.
Силы страны, наконец, так же сочтены, как силы лица. Италия, обиженная во всем человеческом, занятая чужими солдатами, связанная по рукам и ногам, казнимая за мысль, отдалась своей судьбе так, как преследуемая, несчастная женщина отдается старческим объятиям не из любви, а от устали, от отчаяния и, однажды отдавшись, падает глубже и глубже.
Прошли двести томных лет; и в двести лет все эти вампиры в короне и в тиаре не могли высосать ее крови, – удивительный народ!
Люди не дают себе труда оценивать несчастия. Гёте, который так глубоко понимал природу Италии и ее искусство, бросил ее народу несколько стихов злого укора, в котором нигде нет ни упования, ни утешения. Тяжелый сон Италии, ее падение, ее слабую сторону он схватил метко, но пробуждения не предвидел. «Так это-то Италия?» – говорит он и отвечает: «Нет, это уж не Италия».
Гёте, который, по превосходному выражению Баратынского, умел слушать, как трава растет, и понимать шум волн, был туг на ухо, когда дело шло о подслушивании народной жизни, скрытной, неясной самому народу, не обличившейся официальным языком. Он не мог совсем не видать жизни, прорывавшейся странными и неустроенными проявлениями, для этого достаточно было посмотреть на народные игры, на лица и глаза, послушать песни… он видел и слушал, но знаете ли, как оценил?..
Если б в половине XVIII столетия в Италии были Ordnung и Zucht[125], – как в Веймаре, – то наверное не было бы Risorgimento в половине XIX столетия. Если б можно было привести итальянцев в порядок и покорить их немецкой дисциплине, то они превратились бы в лаццаронов, в монахов, т. е. в лакеев, в воров и тунеядцев; а при помощи иезуитов, тедесков и дипломатических влияний впали бы в варварство, уничтожились бы как народ. Неуловимая беспорядочность спасла итальянцев.
Несмотря на все действия, на чужеземный гнет, на нравственную неволю, итальянец никогда не был до того задавлен, как французы и немцы. Не надобно забывать, что правительства итальянские прескверно организованы, что их государственные люди так же беспечны, как земледельцы. Но главная причина в том, что итальянец не всю свою жизнь связывал с государством, для него государство всегда было формой, условием, а не целью, как для француза; оттого падение государства не могло совсем раздавить человека. Крестьянин средней Италии так же мало похож на задавленную чернь, как русский мужик – на собственность. Нигде не видал я, кроме Италии и России, чтоб бедность и тяжелая работа так безнаказанно проходили по лицу человека, не исказив ничего в благородных и мужественных чертах. У таких народов есть затаенная мысль или, лучше сказать, не мысль, а непочатая сила, непонятная им самим до поры до времени, которая даст возможность переносить самые подавляющие несчастия, даже крепостное состояние.
После Гёте французы попробовали завести свои порядки в Италии. Французы поступали так, как они всегда поступают, – насильственно освобождая. Они выдумали несколько республик в Италии и устроили их по образцу и подобию своего директориального правления. Не принимая в расчет ничего индивидуального, они гнули итальянцев в формы, выдуманные в Париже и которые французы добросовестно считали равно годными для Отаити и для Исландии. При всех недостатках новых республик они были лучше смененных правительств, они покончили нелепые, феодальные права, секуляризовали бездну имений, дали некоторую свободу мысли и слова. Несмотря на это, народ смотрел враждебно и недоверчиво на новые правительства, он не верил в республики, заводимые такими республиканцами, как Бонапарт и Массена. Время доказало, кто был прав: народ ли, принявший освобождение за новую фазу рабства, или среднее состояние, бросившееся в объятия Наполеону, для того чтоб тот мог их дарить брату Иосифу, зятю Иоахиму, пасынку Евгению, сестре Полине, собственному сыну и прочим сродникам из Аячио. Состояние Италии после наполеоновского периода ухудшилось. Реакция во всей Европе была чудовищна, удушливое время от 1815 года до 30 не вполне оценено, я советую почитать, например, историю Волабелы, чтоб узнать, что такое было terreur blanche во Франции.
Замечательно, что в Италии реакция действовала так же ненационально, как революция. Пиэмонт и Неаполь вздумали пробовать в двадцатых годах у себя заальпийскую монархию с притеснительной бюрократией и с готовностью войсками подавлять всякий ропот. Австрия учреждала Ломбардию на австрийский манер. Против реакции восстала оппозиция в духе Лафайета и Бенжамена Констана. Оппозиция была побеждена, Италия стояла одной ногой в гробе. Меттерних с улыбкой повторял, что «Италия – географический термин»; все энергическое, благородное, не попавшее в Шпильберг, С.-Эльм или С.-Анджело, бежало, экспатриировалось. В задавленной литературе если что-нибудь прорывалось, то это был вопль и стон безнадежного отчаяния Леопарди, доходящий до люциферского, мрачного смеха. Но были люди, веровавшие в будущее Италии, и Маццини, начавший работать темной ночью для рассвета, вполне оправдан теперь. Вы помните благородные попытки, безумные до величия, самоотверженные до безумия, кончавшиеся страшными казнями, новыми залогами, – они свидетельствовали, что народ этот «не умер, а спит».
Мрачная эпоха преследований и казней достигла полной высоты своей избранием Григория XVI. Людвиг-Филипп и Меттерних с любовью подали ему руку и его министру Ламбрускини. Король французов посылал доносы папе римскому, папа римский посылал доносы Меттерниху, кардинал Ламбрускини помогал русской дипломации. Тюрьмы в папских владениях к концу святительства Григория XVI были до того полны, что во всех публичных зданиях начали помещать – i politici[126]. Наконец Романья подала голос, наконец стон Болоньи был услышан; этот стон, этот голос шли из другого начала, нежели голос оппозиции, о которой мы говорили, это не был отголосок французского либерализма, а негодование народа, которому наконец нельзя дышать. Григорий XVI понял опасность и решился во что б то ни стало задушить народ. Чтобы не распространяться об этом тупом и пьяном злодее и об его мерах, я скажу одно, но это одно важнее целого тома in folio: австрийский кабинет, долго с умилением смотревший на дела св. отца, не мог наконец вынести и закричал: «Basta santo padrе!»[127] Меттерних послал ноту в защиту романьолов, в которой напоминал представителю Христа, что есть же, наконец, мера притеснениям. Об этом папе во французской камере пэров С.-Олер сказал на днях: «Григорий XVI – был святой человек!»
Наконец «святой человек» умер от старости и от марсалы. Конклав избрал кардинала Мастая Феррети. В избрании Феррети, кроткого, благородного римлянина, участвовало, с одной стороны, желание дать вздохнуть стране, опустить натянутые поводья, с другой стороны, в его избрании было славянское желание выдвинуть личность, ничем не выдающуюся, «не выскочку, не указчика миру». Конклав считал на слабость Пия IX и ошибся именно потому, что был прав. Кардиналы, как и следует им, не взяли в расчет духа времени, эпохи; зная мягкий и слабый характер Пия, они не подумали, что положение народа и всей Италии вообще будет на него действовать, что найдутся люди, которые молчали при Григории XVI, потому что знали его неблагородную и ограниченную душу, и которые будут искать влияния на Пия, душа которого была раскрыта любви народной и патриотизму. Пий IX в самом деле был одушевлен желанием добра, когда сел на престол, первое время его понтификата было истинно поэтической эпохой.
Удивленный народ не знал, верить или не верить такому странному явлению, народные рукоплескания и восторженные крики, приветствия понравились папе. Он предложил святой коллегии объявить всепрощение политических преступников, кардиналы с негодованием подали голоса против. «Coraggio, santo padre!»[128] – кричал ему народ на улицах, и Пий IX объявил, что по власти, данной ему свыше «вязать и разрешать», он объявляет амнистию.
Крик искреннего восторга раздался не только в Церковной области, но во всей Италии; все, уповавшее лучшей будущности, окружило Пия IX; они сделали из доброго, благонамеренного человека – великого понтифа, освободителя Италии, величайшего венценосца в Европе.
Кардиналы содрогнулись от досады и сделали вторую ошибку. Вместо того чтоб несколько обождать, вместо того чтоб действовать на религиозность Пия и испугать его, они выдумали заговор под начальством Ламбрускини, в нем участвовал австрийский посланник, неаполитанский король, начальник шпионов Григория XVI и, разумеется, иезуиты. Они хотели силою заставить папу отречься от всего им сделанного и были готовы не только свергнуть его с престола, если он не согласится, но даже убить его, предоставляя себе удовольствие свалить потом злодейство на либеральную партию. Для этого им нужно было народное волнение, уличный шум. Приготовления к этому движению узнал Чичероваккио и с хитростью итальянца добрался до главных заговорщиков. Мысль об опасности, которой подвергался Пий IX, наполнила ужасом римлян, они всеми мерами старались ему показать свою любовь и готовность защищать его своей кровью; Пий еще более сблизился с своим народом и разрешил составление народной внутренней стражи – чивики. Имена заговорщиков явились публикованными на улицах, часть их бежала, часть их переловил Чичероваккио, и они до сих пор сидят в крепости Сент-Анджело, и их не судят, потому что папа не может решиться посадить с ними кардинала Ламбрускини.
С этого заговора начинается важная роль Чичероваккио во всех римских движениях. Il gran popolano[129], простой, честный римский плебей, знаемый всеми в Риме и знающий всех, идол черни, трибун питейных домов и народных сходок, он давно приобрел влияние в Риме, к нему ходили советоваться об семейных и торговых делах, он судил и разбирал ссоры, отдавал последние деньги товарищам и был в страшном почете между ними. С избранием папы Чичероваккио бросился на политическую арену, он принес свое влияние в опору меньшинству, работавшему с Пием IX в пользу Рима. Значение его с тех пор возросло; упорный защитник народных требований, неутомимый представитель народных нужд, он тем больше приобретал авторитет, что был совершенно чист характером, не хотел никакой общественной перемены своего положения и оставался тем же плебеем, как был, по платью, по нравам, по языку. Отправляясь к лорду Минто, он по дороге играл с его кучером в мору и, выходя от папы, шел в кабак с каким-нибудь солдатом. С дня открытия заговора полиция, замешанная в нем, исчезает, порядок в городе увеличивается, Чичероваккио исправляет, так сказать, должность полицмейстера, ему помогают факины, дровосеки и весь народ. Губернатор приказывает выслать из Рима неаполитанского изгнанника; Чичероваккио отправляется к губернатору и говорит, что он едет его провожать, сыскать ему место и что он не отвечает за то, что народ, оскорбленный этим грубым поступком, сделает без него в Риме; губернатор берет назад приказ. Порядок и тишина в Риме во все последнее время, блестящий результат муниципальной жизни – это self-government[130] своего рода. Пию IX сначала понравилось такое легкое управление. Теперь он спохватился, захотел несколько притянуть вожжи – troppo tardi![131]
На сей раз довольно.
Письмо седьмое
Неаполь, 25 февраля 1848 г.
Я думаю, если б везде был такой воздух, такой климат и такая природа, то было бы гораздо меньше святых и мудрецов и гораздо больше счастливых и беззаботных грешников. С религиозной точки зрения нельзя допустить, чтоб люди жили на этом сладострастном берегу, и почем знать – может, усердные молитвы первых христиан много способствовали к извержению Везувия, погубившему Помпею и Геркуланум? В самом деле, здесь, в теплом, влажном, волканическом воздухе дыхание, жизнь – нега, наслаждение, что-то ослабляющее, страстное. Самый сильный человек делается здесь Самсоном, остриженным под гребенку, готовым на всякое увлечение и не способным ни на какое дело. Беда, если к тому же кто-нибудь докажет, что именно увлеченье-то и есть жизнь, а дела – вздор, что их совсем и делать не нужно…
Переход от римской природы к неаполитанской до того поразителен, до того резок, что я хочу сказать несколько слов о маленьком переезде нашем. Печальная Кампанья со своими водопроводами и голубыми горами, пропадающими на горизонте, сменяется еще более печальными Понтинскими болотами; их все торопятся миновать, боясь маларии; сырая почва этих потных полей испаряет изнурительные и трудно излечимые лихорадки; даже стада становятся редки. И в то же время возле них степенные на вид и заброшенные города Велетри, Албано удивляют своим населением: это цвет романского племени, каждая женщина – тип правильной, классической красоты, каждый мужчина может служить моделью для художника, и что за грация в движениях, в позах, что за стройность! Вы этих людей знаете, например, по гравюрам с Робертовых картин. Вы, может, даже согрешили перед живописцем, находя некоторую театральность в положении лиц; нам это кажется оттого театральностию, что мы в вседневной жизни не привыкли видеть такие изящные формы, такую аристократическую породу людей, которым ловкость и грация врождена так, как русскому парню врождена удаль, так, как нашему ямщику – страсть скакать. Роберт, совсем напротив, удивительно верно поймал в своих «жнецах» характер романских крестьян, он не забыл подернуть легкой дымкой задумчивости и печали все лица, даже тех, которые пляшут.
Дикая полоса продолжается до Террачины. Небольшой город угрюм, Средиземное море беспокойно бьется за старинными воротами его; огромная и совершенно одинокая скала стоит у выезда. На скале этой жил некогда грозный кондотьер, о котором народ теперь еще рассказывает легенды; около нее жили очень недавно толпы разбойников, уничтоженные при Льве XII. Скала эта превосходно заключает папские владения, это точка, поставленная после римских развалин, Кампаньи и болот.
За скалой начинается природа веселая, смеющаяся, совсем иная; население гораздо менее красивое, но больше движущееся, шумливое; одичалые черты лаццарони и подобострастные манеры неаполитанской черни начинают показываться; серьезный и гордый вид крестьянина, нищего, пастуха Кампаньи заменяется насмешливым выражением и движениями пулчинеллы; на место величавой, правильной красоты романьольской женщины, внушающей уважение, встречаются дерзкие, зовущие взгляды, милая вертлявость, неправильные черты, внушающие чувства, вовсе не похожие на уважение. В неаполитанском населении есть что-то фавновское и приапическое, здесь никто и не подозревает немецкого изобретения платонической любви.
Всю эту разницу двух стран, двух природ, двух населений вы видите на самом рубеже их, переезжая от Террачины до Гаэты. Эта резкость пределов, определенность характеров, самобытная личность всего: гор, долин, страны, города, растительности, населения каждого местечка – одна из главных черт и особенностей Италии. Неопределенные цвета, неопределенные характеры, туманные мечты, сливающиеся пределы, пропадающие очерки, смутные желания – это все принадлежность севера. В Италии все определенно, ярко, каждый клочок земли, каждый городок имеет свою физиономию, каждая страсть свою цель, каждый час свое освещение, тень как ножом отрезана от света, нашла туча – темно до того, что становится тоскливо; светит солнце – так обливает золотом все предметы, и на душе становится радостно. Федеральность – в самой земле, в самой природе итальянской. Какая огромная разница в характере Пиэмонта и Генуи, Пиэмонта и Ломбардии; Тоскана нисколько не похожа ни на северную Италию, ни на южную, переезд из Ливурны в Чивита-Веккию не меньше резок, как переезд из Террачины в Фонди. Ливурна кипит народом, город шумный, оппозиционный, деятельный и торговый, столько же выражает цветущую и несколько распущенную Тоскану, как пустая и безлюдная крепость с высокими старинными стенами, которые нехотя полощет море, выражает неторговый, мрачный, монашеский Рим.
Но самую резкую противуположность, самый крутой антитезис составляют Рим и Неаполь, они столько же похожи друг на друга, как строгая и величавая матрона на резвую, легкомысленную гетеру, как Рим времен пунических войн на Рим времен Тиверия и Нерона, искавший по сочувствию неаполитанского неба. Рим напоминает о бренности вещей, о минувшем, о смерти, это вечное memento mori[132], Неаполь – об упоительной прелести настоящего, о жизни, о carpe diem[133]. Рим, как вдова, верная прошедшему, не отрывается от кладбища, не забывает утраченного, его развалины ему больше необходимы, нежели Квиринал. Неаполь верен наслаждению, верен настоящему, он беснуется и пляшет на Геркулануме, т. е. на гробовой доске; дымящий Везувий напоминает ему, что надобно пользоваться жизнию пока, до лавы. Философия Анакреонта и Горация сделалась его кодексом, перешла в нравы.
Поживши в Риме, невозможно его не уважать, но от Рима устаешь, – устаешь так, как от людей, с которыми беспрерывно надобно говорить о важных предметах. Рим действует на нервы, поддерживает натянутое состояние восторженности – может, оттого-то у него и было столько героев и столько фанатиков. Неаполь нельзя не любить, и если б вы только пробыли в нем один день, всю жизнь стали бы вспоминать со вздохом об этом дне.
Мы приехали вечером. Солнце садилось, пурпуровым светом освещая море, синее, темносинее, и гору, застроенную домами, на которой стоит Камалдулинский монастырь и крепость С.-Эльм. По мере того как садилось солнце, дым над жерлом Везувия краснел, и струйка каленой и растопленной лавы медленно стекала по горе. Улицы кипели народом, песни, органы, разные инструменты раздавались со всех сторон, марионетки и пулчинеллы – плясали, сыпали скороговорками; на балконах стояли дамы между цветов, в окнах начали показываться огоньки… я ничего подобного и не подозревал, просто упиваешься, забываешь все на свете, телесно наслаждаешься собой и природой. Sta, viator![134] – лучшего ты не увидишь. «Посмотри на Неаполь – и потом умри» – как это глупо! – «Посмотри на Неаполь – и возненавидь смерть!»
Тут-то бы, кажется, и развиваться человечеству – так нет, судьба этого удивительного края самая жалкая. Неаполь лишен даже тех блестящих и ярких воспоминаний, которыми себя утешали другие города Италии во время невзгоды. Он имел эпохи роскоши, богатства, но эпохи славы не имел. Старый Рим бежал умирать в его объятия, и, разлагаясь в его упоительном воздухе, он заразил, он развратил весь этот берег. А потом один враг за другим являлись его тормошить и мучить; Неаполь служил приманкой всем диким завоевателям – сарацинам и Гогенштауфенам, норманнам и испанцам, анжуйцам и Бурбонам. Ограбивши его, не оставляли его в покое, как другие города, в нем жили – потому что в нем хорошо жилось. Как же было не образоваться такой черни, как лаццарони, – помесь всех рабов, низший слой всего побитого, осадок десяти народностей, перепутавшихся, выродившихся!
Соперница Неаполя – Палермо – и вся Сицилия перенесла многое, но иначе; замкнутый характер островитян, другой закал и менее чужого постоя позволили Сицилии хоть сколько-нибудь дышать, Сицилия – «отечество», Палермо – ее столица. Неаполь, если хотите, не принадлежит ни к чему, это город и больше ничего, разве прибавим к нему его окрестности да небольшую морскую полоску; он ничего не имеет общего с другими частями, никто не любит его, кроме тех, которые в нем. Что за дело Абруццам и Калабрии до Неаполя? До Палермо – дело всей Сицилии. Оттого Палермо подставила в январе свою грудь ядрам и приобрела Неаполю представительное правительство.
В первые дни после моего приезда я увидел, что неаполитанцы не доверяют обещанию Фердинанда II и ждут с трепетом 9 февраля, в которое назначено было объявить новое уложение. Король сидел назаперти в своем дворце, окруженном солдатами и пушками. Министры, чтоб дать залог народу, велели в силу амнистии освободить политических арестантов из С.-Эльма, Кастель-del’Ovo и других мест заключения. Народ толпился у тюрем в день их освобождения. Выходя из ворот, они встретили своих друзей и либеральную часть населения, их окружили и повели торжественным шествием по улице Толедо; в café del’Europa был приготовлен для них пышный обед. Народ толпился у окон кафе. Бывало, la roture[135] ходила смотреть в щелочку, как пируют ее господа; теперь граждане теснились, чтоб увидеть бледные, истомленные лица колодников, давно отвыкнувших от надежд, давно сдружившихся с мыслию о палаче, о галерах. Для них, вероятно, все казалось сном: улица Толедо, богатый кафе, пышный стол, цветы, бокалы, яркое освещение – и это через час после темных каземат. Ромео, которого голова была оценена, спокойно пьет за независимость Италии в café del’Europa! Им жмут руки, приветствуют, а вчера боялись произнести их имена, как будто в самом звуке уже слышалась беда, соприкосновенность к делу, пытка…
После обеда их повели в S. Carlo, окруженных целым легионом людей, которые несли факелы; дирекция вышла навстречу и просила экс-каторжных занять безденежно первые места в сталях[136] оркестра. Конечно, это очень хорошо, а все же жаль, что, выпуская их, не посадили на их места других… Дело-то было бы попрочнее.
Одиннадцатого февраля, часа в три перед обедом, Санта-Лучия покрылась народом, который бежал на дворцовую площадь с криком: «На firmato!»[137] Пошел и я. «Si, si, – сказал мне мой сосед, пожилой человек, – ha firmato stamattina»[138]. – «Eccolo», – прибавил он и снял свою шляпу. «Santo nome di Dio – é per la prima volta, per la prima volta»[139], добавил он, извиняясь. «Evviva il re costituzionale!»[140] раздалось и не умолкало минут десять, – шляпы летели на воздух, народ сошел с ума от радости. Король с открытой головой в длиннополом зеленом пальто кланялся на балконе народу низко, очень низко. Возле меня стоял римлянин, который ехал с нами в дилижансе и которого я знал за решительного революционера. «А что, – сказал я ему на ухо, – ведь молодой-то человек ближе, нежели на пистолетный выстрел». – «Ближе», – отвечал С. – «Чего же зевают?» – «Помилуйте, в такой день, когда он дает конституцию?». – «В другой день зато он не подойдет и на пушечный выстрел, ведь мы в Неаполе – carpe diem!» – С. улыбнулся[141]. Толпа хлынула от дворца на Толедо. Что тут было в этот вечер, невозможно описать. Представьте себе оргию, в которой участвует целый город; это была политическая Walpurgisnacht[142], безумная сатурналия, имевшая совершенно другой характер, нежели римские демонстрации. На этот раз не кучка героических арестантов праздновала свое освобождение, а целое народонаселение. Люди с восторгом в глазах, с разгоревшимся лицом, со слезами бросались друг другу в объятия, незнакомые останавливали незнакомых и поздравляли, домы осветились на Толедо, Киаие и Санта-Лучии; нарядные дамы ехали, стоя в колясках с факелом в руках и с криком «Viva la libertà!»; полуголые мальчишки прыгали середь улицы и распевали во всю глотку гимн в честь Masaniello на голос известной народной песни «Perchè t’engriffi com’un gatto?»[143], которую пальясы поют по улицам с самой уморительной декламацией. Живость и комизм неаполитанцев не мог не отразиться на таком празднике, они с хохотом и кривлянием, бросая башмак на воздух и ловя его ногой, кричали: «Viva la costituzione е i maccaroni!»[144]
Толедо с утра кипит народом, мальчишки пристают с политическими памфлетами и карикатурами так, как прежде приставали с предложением цветов (обоих царств – растительного и животного)… Какое же тут писанье!
Прибавлю только, что я видел, как король присягал новому уложению в соборе S. Francesco di Paolo. Он формулу присяги прочел громко, но лицо его имело скверное выражение. В чертах его есть дальнее сходство с Людовиком-Филиппом, со всеми Бурбонами и еще больше с римскими бюстами императорских времен, с бюстами Гальбы, Вителия. Лицо его толсто, выражает животную чувственность и лукавую жестокость; нижняя часть особенно развита, взгляд лишен всякой приветливости, бакенбарды en collier[145] придают всем чертам что-то неблагородное.
Когда он вышел из собора и стал садиться на лошадь, он потихоньку перекрестился. – Трус и ханжа, как же ему не быть тираном? – Прощайте.
Завтра мы едем опять в Рим. Расскажу вам теперь, что за происшествие случилось здесь со мной.
Раз, возвращаясь домой, я не нашел портфель, в нем были ломбардные билеты, векселя, кредитивное письмо, и к тому же мой пасс, словом, все мое состояние. Что было делать! Я бросился к Ротшильду, к графу Феррети, двоюродному брату Пия IX, к которому имел рекомендательное письмо. Феррети ничего не сделал, только нюхал как-то не по-людски и очень противно табак. Ротшильд велел написать рекомендательное письмо к префекту, графу Тофано.
Отправляясь к нему, я встретил Спини, редактора «Эпохи».
Спини предложил прежде префекта идти к Микеле Вальпузо, это был революционный начальник неаполитанской черни, вроде Чичероваккио. 15 мая 48 г. он пал мертвый на улице Толедо, геройски защищая баррикаду. Вальпузо сказал, что «если портфель цел и в Неаполе, то его доставит», и советовал, между прочим, объявить афишами, что я даю сто скудов тому, кто найдет потерянный портфель. На слово «потерянный» он особенно налегал, говоря, что если будет сказано «украденный», то никто не принесет.
Префект принял меня очень внимательно, обещал всевозможную помощь со стороны полиции, хотел мне дать агента, двух даже, знающих город, как свои карманы, и совершенно одобрил предложение Микеле Вальпузо.
Измученные, возвращались мы с Т. мимо огромного S. Carlo, возле которого стоят лошади с Аничкина моста, подаренные Николаем своему другу королю.
«Неужели, – сказал я Т., – оттого и в театр не ехать, что меня обокрали?»
В этот день король являлся в театр мириться с публикой, аристократический Неаполь собирался сделать ему в С. Карло овацию за подпись уложения.
Т., как настоящий русский, нашел, что действительно нет достаточной причины, чтоб не ехать в театр. У меня в кошельке были четыре золотых, на ту минуту это составляло все мое достояние, два с половиной я отдал за пол-ложи.
Между тем прошли дня три, о портфеле не было ни слуху, ни духу, я сообщил всем главным банкирам в Европе, сообщил в московский опекунский совет. Всякий день таскался я от префекта в остерию, где Вальпузо, завтракая, давал аудиенции, от Вальпузо к Феррети, который все так же гадко нюхал табак и утешал меня тем, что теперь все управление новое, честное, но непривычное и, стало, для него открыть трудно. Вальпузо повторял свое «портфель принесут, если он в Неаполе». Наконец решился я ехать в русское посольство, – тогда еще мне не была заперта дверь наших миссий, но я никогда не пробовал ее отворять.
Я без отвращения не могу входить вообще ни в какое присутственное место, ни в какую канцелярию – но в особенности в русскую. Тут нет ничего личного, я не могу пожаловаться ни на одного посольского чиновника; но мысль, что там русские дипломаты, чиновники, делает на меня нервное влияние, которое на многих производят тараканы и мыши. Нет человека, который бы боялся таракана из-за вреда, который он может причинить… это чувство невольное и трудно побеждаемое. Я из России выехал затем, чтоб не видать офицерства и чиновничества, чтоб не видать всех этих Ноздревых и Хлестаковых, что же за радость видеть их на Киаие, на Санта-Лучии в виду Везувия и Кастелла-Маре…
Нужда солому ломит… отправился я в посольство. Сначала кучер меня завез в австрийское, – так в понятиях неаполитанцев нераздельны две империи с своими пернатыми Рита-Христинами на флаге.
Когда я сказал швейцару мою фамилию, он вдруг так мне обрадовался, как будто я был его родной дядя, возвратившийся с кулями золота из Батавии; он засуетился, подал мне стул – кажется, два – и после каких-то несвязных учтивостей спросил меня:
– Так это вы, граф, потеряли портфель?
– Ну, хотя я и не граф, а портфель действительно потерял.
– Очень рад, очень рад, oh que je suis content![146]
Я думал, что это из особой тонкой политики министерия для русских посольств берет швейцаров из сумасшедшего дома.
– Видите, – сказал он, – этого человека?
Я оглянулся и увидел больше, нежели нужно, потому что человек, на которого он указывал, был совершенно нагой и только на плече в должности алмавивы болтался клок паруса. Это был худой, оливкового цвета, породистый лаццарони, лет 17, с плоским лбом, с хищными зубами, весь из мускулов, весь обожженный солнцем. Он лежал у посольских ворот и, казалось, нисколько не заботился о том, что дождь накрапывал.
– Вижу.
– Ну он-то и нашел ваш портфель.
– Как нашел?
– Он тут уже часа три лежит, ждет, чтоб за вами послали.
– Где же портфель?
– У посланника.
– Доложите ему, что я здесь…
– Его дома нет. Советник посольства тут – пожалуйте к нему. Но, – сказал швейцар тихо и выразительно, отворяя дверь и поглядывая на меня страстным и нежным взглядом, – но граф не забудет, что первую весть о портфеле он получил от меня.
– Не забудет, – отвечал я и взошел в канцелярию.
Вскоре явился человек в шитом мундире; зачем он был в шитом мундире, я не знаю.
Ни швейцар, ни Вальпузо, ни Тофано не сомневались, что я – я. Шитый мундир сомневался, я начал с ним говорить по-русски, дал ему записку всего находящегося в портфеле и рассказал ему содержание писем.
Он держал портфель в руках и рассматривал бумаги.
– Я не думаю сомневаться, но все эти дела должны быть подвергнуты некоторым формам, – сказал он. – Не угодно ли вам написать в посольство письмо о потере вашего портфеля и просить содействие императорской миссии об отыскании его? Мы вам тогда ваш портфель и выдадим с свидетельством и возьмем с вас расписку.
– Я полагаю, что с этого бы можно начать.
– Невозможно, у нас свой заведенный порядок, от которого не отступаем без крайности, дела должны быть подвергнуты некоторым формам. Вам все равно.
– Позвольте лист бумаги, я здесь напишу.
– С величайшим удовольствием.
И так, в виду портфеля, я попросил посольство сыскать его.
А чиновник велел другому чиновнику написать мне ответ, что-де миссия с удовольствием извещает, что вследствие ее сношений с полицией портфель отыскана!!
Я дал расписку и портфель взял. Раскрывая его, я увидел, что русские билеты и пасс были налицо, но что недоставало двух векселей тысяч на тридцать и кредитивного письма.
Я позвал лаццарони и просил швейцара растолковать ему, что я не дам ста скуди, пока он не принесет всего. Он бормотал свое:
– Я так нашел, я вечером нашел, я что нашел, то и принес.
– Да где же портфель был четыре дня?
– Тут, у старичка, где мы живем, тут и был.
– Да где же этот старичок?
– За Dogana di sale[147].
– Поедем к нему.
Смертельно не хотелось мальчику ехать, однако он поместился на козлы с кучером. Сцена эта была неподражаема, он свой парус надел, как русские попы носят ризу, что его очень мало покрывало, между тем дождь ливмя лил. Он раза два хотел сойти, но кучер из нашего отеля, зная в чем дело, не пускал его.
Лаццарони думал, что я его отдам в полицию и, совершенно как зверь, косился и посматривал на меня. Дома я застал Спини, и, поручив ему моего однопарусного приятеля, которого убедил, что в полицию не отдам, поехал к Тофано.
Тофано был очень рад, что портфель нашелся, и тотчас предложил схватить лаццарони.
Я отказался.
– Мы ему ничего не сделаем, а только пугнем тюрьмой, он завтра все расскажет. Полиция теперь не так страшна, как вы думаете… мы начинаем бояться народа, а не народ нас… – прибавил префект, смеясь.
– Я ему обещал, граф, что не отдам его.
Тофано не настаивал, но сказал, что если мне покажется что-нибудь подозрительным в доме старика или он откажется отдать, то что он тотчас распорядится, а пока лаццарони оставит в покое.
Спини, я и молодой человек отправились к старичку за Dogana di sale; он указал в вороты большого полуразвалившегося дома, мы въехали на вонючий и нечистый двор. В окнах болтались грязные рубашки, тряпье; дом был похож на 3апущенные казармы, на оставленную фабрику.
Мы взошли в довольно темные сени; на площадке и в коридоре лежали на камнях, по которым текла какая-то темная, непрозрачная и подозрительного свойства жидкость, несколько лаццарони; все лежало на голых камнях, и все было одето вроде моего юноши, который отправился за стариком, сказав нам, чтоб дожидаться его тут.
Хилый мальчишка лениво встал с полу и, почесывая голову, подошел ко мне, растопырил ноги и стал рассматривать меня с величайшей подробностью.
Старик, лежавший неподалеку, толкнул мальчишку ногой, так что тот отскочил шага на три; старик грубо прикрикнул:
– Пошел к чорту, ну что лезешь, é un padrone![148]
Но из угла послышался сиплый голос другого старика:
– Siam anche noi padroni – viva l’uguaglianza![149]
– Viva! – отвечал я демократу.
– А что, нет ли с вами сигар?
– Есть, – и пять-шесть человек бросилось на меня. Сигары было три.
Явился старик. Его физиономию, его речь, его движения я никогда не забуду. Это типическое лицо. Во-первых, он был довольно чисто одет, вроде итальянского моряка; низенький, плечистый, с небольшими сверкавшими волчьими глазами, он как-то смотрел и не смотрел, мало говорил и все наблюдал, что делается. По его недоверчивому, пытливому взгляду, по бездне морщин на лбу и щеках, по обдуманности, с которой он говорил, по огню, который иногда прорывался из глаз, – можно было догадаться, сколько страстей кипело тут и сколько борьбы, постоянной борьбы с обществом, он вынес, – борьбы отчаянной из-за куска хлеба, из-за крова.
Старик начал говорить на неаполитанском наречии, которое и итальянцам трудно понимать, говорил, что молодой человек вечером на улице в угле нашел портфель, что они было так его оставили, но увидели объявление и послали его в посольство. Может, говорил он, и были другие бумаги, кто их знает.
Лица наши ободрили его. Он стал говорить на чистом итальянском наречии.
– Двадцать пять скудов я прибавлю, – сказал я, – к тому же по векселям денег получить невозможно, я уже писал, и кто явится с ними, будет непременно арестован.
– Разумеется, с такими векселями арестуют, и поделом – как же можно, грех какой… Мне не нужно ваших 25 скудов, за рюмку хорошего коньяку я отдал бы вам. Да где же взять бумаги, знаете, какое дело, тут ребятишки… Братцы, – продолжал он, обращаясь к своим товарищам, постланным на грязном полу, – а слышите, 25 скудов прибавки, что, не поискать ли где – видите, какой добрый барин.
– Где искать через пять дней? – отвечал подземный хор, как в «Роберте».
– Негде искать, – сказал старик.
Спини рассердился и заметил:
– Мой друг с вами церемонится, вот я сейчас отправлюсь к префекту, я знаю теперь ваш вертеп, – непременно надобно повальный обыск сделать, тогда и не то отыщется.
Старик отвечал ему смиренно:
– Что же, мудрено ли обидеть бедных людей, siamo miserabile gente[150], беззащитные. Воля начальства, и повальный обыск можно сделать – мы люди маленькие.
Это была самая торжественная минута старика: говоря смиренно эти слова, у него было в лице больше нежели ирония, презрение к нам. В переводе его слова значили: сунься, сунься с полицией, много найдешь.
Товарищи его начали что-то поговаривать меж собой. Спини попробовал, с ним ли пистолет; пистолета не было, мы были довольно далеки от двери, и между нами и дверями было еще человек пять вновь взошедших лаццарони. Спини посмотрел на меня, я ему ответил сквозь зубы:
– У меня ничего нет. Легкая улыбка пробежала по лицу старика, и волчьи глаза сверкнули.
– Что вы это в самом деле толпитесь, – сказал он, – люди пришли толковать о деле, всякому своего жаль. Видите, какая беда, векселя пропали… Что тут лезть, искали бы лучше, вместо того чтоб болтаться. Ce sont de braves gens, – заметил он мне по-французски, – mais des paresseux[151].
Старик торжествовал, он видел минуту нашей робости после угрозы. Ах, эти волчьи глаза!
– Ну окончимте, – сказал я ему. – Вы можете быть уверены, что денег по векселям не получите, это одно упорство, что вы не отдаете. Я даю сто скуди молодому человеку и 25 вам, если принесете. Если нет, вы не пеняйте на меня: дело это известно полиции. Я даю вам срок подумать до завтрашнего дня.
Старик кланялся, уверял, что не знает, что и делать, проводил нас до коляски, жалел и ничего не обещал.
Путь до Санта-Лучии был довольно далек, дом префекта на дороге; я вышел на одну минуту из коляски, чтоб рассказать, что было, секретарю префекта, и прямо поехал домой.
Представьте себе мое удивление, когда первое лицо, встретившее меня у отеля, – был мой старик; на тротуаре и на мраморных ступенях лежало человека четыре сильно плечистых лаццарони. На сей раз к костюму старика прибавились большие серебряные очки. Он подошел ко мне и с видом шестилетнего ребенка сказал:
– А я вот пришел к вам, после вас мы все углы перешарили, нашли еще какие-то бумажонки, уже не эти ли? Я хотел было прочитать, да глаза слабы.
Эти бумажонки были два векселя, каждый в 15 000 франков.
– Вот давно бы так, старик. Ну зачем тратили слова?
– А вы все не верите – вот в углу лежали, за кроватью, – ты ведь за кроватью нашел, Бепо?
– За кроватью, – отвечал Бепо, лежа на брюхе и отогревая спину каленым солнцем.
– Хорошо, хорошо, вам двадцать пять и ему сто. Да я было забыл, вы хотели рюмку хорошего коньяку, пойдемте, я вам отдам деньги и выпьем вместе отличного коньяку.
– Ну, коли вам все равно, – отвечал старик, – так уж прикажите слуге сюда вынести рюмку, я стар, поясница болит по лестницам ходить.
Я расхохотался. Он нам платил той же монетой и не очень доверялся.
Этим дело и кончилось. Но для полноты картины надобно себе представить семнадцатилетнего дикого мальчика, одетого в парус, когда я ему дал сто скуди серебром. Он не знал, куда их деть, у него не было ни кармана, ни тряпки. Старик, отечески улыбаясь, сказал ему:
– Ты все растеряешь, дай-ка я тебе донесу до дому.
Я уверен, что мальчику больше десяти скудов не досталось.
Письмо восьмое
Рим, 3 марта 1848
Мы поспели и здесь к концу карнавала. Он шел вяло, плохо, все заняты другим, внимание всех обращено на иное, печальные вести из Ломбардии мешают маскам, moccoletti совсем не были. Сегодня заходил ко мне редактор «Эпохи» с вестью, что Париж вспомнил, что он Париж, что строят баррикады и дерутся.
4 марта утром.
Ночью я был на маскараде в Тор-ди-Ноне. Часу во втором в одной ложе какой-то человек махал платком и подавал знак, что он хочет говорить; все обратились к нему. – Romani![152] – закричал он. – Сейчас получена весть из Чивиты, что парижане выгнали Людовика-Филиппа, республика провозглашена! – Viva la Repubblica francese! Viva la Francia libera![153] – закричали в зале. – Morte al caduto malgoverno, viva, viva sempre la Repubblica![154] Во сне это или наяву? События с каждым днем густеют, становятся энергичнее и важнее, усиленный пульс истории постукивает лихорадочно, личные взгляды и ощущения теряются в величине совершающегося. Писать нет ни малейшей охоты. А потому прощайте.
20 апреля.
Удивительное время. У меня дрожит рука, когда я принимаюсь за газеты, всякий день какая-нибудь неожиданность, какой-нибудь громовый раскат; или светлое воскресенье или страшный суд возле. Новые силы пробудились в душе, старые надежды воскресли, и какая-то мужественная готовность на все снова взяла верх.
На днях я оставляю Рим. Расскажу наскоро, что здесь было в продолжение последнего месяца. Весть о провозглашении французской республики сильно потрясла всю Италию, Рим явным образом становился республиканским городом. А Пий IX в это время издавал тощую и уродливую конституцию – troppo tardi, st. padre, troppo tardi![155] Она была принята холодно, она не удовлетворяла ни прогрессистов, ни иезуитов. Григорианцы кричали против нее так же громко, как друзья Маццини. Одна золотая посредственность была довольна, – я говорю о либералах, о тех либералах, которые, как выразился один берлинский депутат, любят один умеренный прогресс, и в нем больше умеренность, нежели прогресс.
Конституция Пия хуже неаполитанской – уродливая смесь католической теократии с английским представительством. Папа и святой коллегиум могут отвергать всякое предложение двух камер, инквизиция и доминикальные суды остались; дозволялось печатать все светское без цензуры, но решение вопроса, что светское, что духовное, предоставлялось цензуре, – разделение очень трудное там, где министры – кардиналы, где папа – царь, где финансовые меры – чуть не догматы и полицейские распоряжения – оканчиваются епитимиею. Самое лучшее в конституции было то, что она доказала миру возможность конституционного папы; впрочем, она доказала это в то время, как мир с своей стороны стал догадываться, что никакого папы не нужно.
Пий IX был очень недоволен приемом уложения, он видел, что теряет последнюю популярность, а для человека, испытавшего любовь народную, не легко ее потерять. Одно могло примирить папу с народом и загладить все сделанное: ему следовало объявить войну за Ломбардию и послать папского гонфалоньера[156] во главе нового крестового похода. Но поступить смело, сказать резкое слово войны – это было несовместно с женским характером Пия. Все, что Пий IX делал после амнистии и закона о чивике, было делано днем позже, нежели надобно, и поэтому не имело никакой цели. Дал бы он конституцию тотчас после неаполитанского восстания, она была бы принята с восторгом; Пий IX медлил, ждал – и дождался 24 февраля, все конституции в мире побледнели перед республикой во Франции. В самую яркую минуту политического увлечения в Риме он обнародовал свою дрянную конституцию, да еще прибавил в манифесте, что он ее издал, «побуждаемый быстротою несущихся событий».
Точно то же сделал он в отношении к войне. Новости из Ломбардии были мрачны, австрийцы, видя неминуемое восстание Милана, душили его, во всей Италии был один крик – идти на помощь Милану; всякий раз, когда на римских торжествах являлось знамя Ломбардии, покрытое черным крепом, его приветствовали с исступлением. Все люди последовательные, люди, не шутя хотевшие независимости Италии и не удовлетворявшиеся кокардами и демонстрациями, требовали войны, ожидали ее. Слухи о том, что в Милане все готово к восстанию, о новых мерах австрийцев, ясно доказывали, что час войны пробил. Пий IX молчал.
Размолвка с папой была внутри душ, его щадили, его выносили на своих плечах; теперь радикальная партия поняла, что с ним не сладишь и что легче делать без него, чем с ним, теперь она отняла свою руку и предоставила его судьбе. Когда папа заметил, что волна, его подхватившая, не покоряется ему, когда он увидел, что язык, которым с ним говорили римляне, изменился, – он растерялся, у него закружилось в голове, он хотел остановиться и не делать шагу вперед. Политическому деятелю остановиться и с тем вместе остаться на своем месте – невозможно, тут выбора нет: или надобно совсем отойти от несущихся событий, или бесславно удариться оземь и быть раздавленным или увлекаемым против воли. Последнее случилось с Пием. Сначала попробовали иезуиты и кардиналы увлечь его в полную реакцию, они его уверили, что Рим накануне восстания; бедный папа издал приказ чивике, которой поручал жизнь и собственность своих римлян, в то время как в городе все было так же покойно, как теперь. Одно, – и это одно я ставлю в великое достоинство Пию, – сколько ни старались иезуиты, папа не хотел прибегнуть к диким средствам насилия, тюремных заключений, преследований силою. Папа хотел все уладить дипломатически и увещаниями; но есть события, есть эпохи, в которые всякая хитрость, всякая дипломация ломается силою стремящегося потока. Пока иезуиты приготовляли толпу к тому, чтоб вырезать особенно влиятельных людей радикальной партии, пока они наушничали папе и стращали его, совершилось событие, которого никто не ждал, – венская революция.
Весть эта, пришедшая в Рим почти вместе с вестью о восстании в Милане, произвела больше волнения, нежели самая весть о 24 феврале. Народ требовал, чтоб ударили в колокола, и праздничный звон раздался в Риме; он требовал, чтоб крепость S. Angelo приветствовала пушечной пальбой падение австрийского правительства и восстание Ломбардии, и пушечный гром раздался. Кажется, все власти в Риме в этот день забыли, что есть другой господин, кроме народа; об другом господине никто не думал, а волю того, который приказывал пятьюдесятью тысячами голосов, исполняли беспрекословно.
Корсо, все большие улицы и площади были покрыты народом. Кто-то предложил идти к Palazzo Venezia и снять австрийский герб, уничтожить эту ненавистную двуглавую птицу на доме посла – questo ucello grifagno[157], – все ринулись туда. Достали лестницы, влезли, и пошла работа; снять тяжелые гербы, прибитые очень высоко, было не легко. Плечистый работник с длинной бородой залез на герб и исчез, по временам раздавались удары топора, трое молодых людей помогали ему; наконец огромный щит, гремя цепями, которыми был прикреплен, рухнулся на землю, работник привязал на его место ломбардское знамя. Народ бросился с остервенением на герб, все наболевшее на душе, все накопившееся против Австрии выразилось в злобе, с которой топтали, ломали ненавистный герб притеснения, деспотизма и мертвящего statu quo[158].
Но этим еще не кончилась казнь in effigie[159]. Герб привязали к хвосту осла и отправились торжественным шествием по Корсо… свист и крик встречал и провожал бедную двуглавую птицу; мальчишки бежали за ней, подстегивая и бросая грязью; на Piazza del Popolo щит сожгли на огромном костре и музыка чивики протрубила ему вечную память.
Папа медлил и тут. Допустивши колокольный звон и пушечную пальбу, не сделав даже виду противудействия оскорблению австрийского герба, – он обсылался теперь с послом, в то время как «Эпоха» вечером печатала: «La guerra é dichiarata all’Austria, non dal governo, ma dal popolo Romano»[160]. Ha другое утро почта из Милана не пришла, волнение усилилось. На третий день разнесся слух, что австрийцы одолевают… тогда раздался новый крик: all’ armi! all’ armi![161]
Народ хотел начать свои военные подвиги с римского арсенала; тут в первый раз стал он обвинять папу в том, что он действует заодно с Австрией. Министры, особенно Галетти, убедили Пия IX уступить народному желанию и дать ему оружия; они ему доказали, что правительство решительно не имеет средств противудействовать. Папа все сделал нехотя, без теплого слова, уклончиво.
Галетти прискакал на первом извозчике, который ему попался на Piazza del Popolo, с вестью и объявил, что распоряжение сделано насчет раздачи оружия. Весть эта, разумеется, была принята с восторженными криками. Вслед за Галетти показалась у фонтана возле обелиска толстая, но довольно красивая фигура священника, он требовал речи. «Римляне, – сказал он, – в Колизей! В Колизее вас ждут ломбарды, там приготовлена книга, в которую желающие идти на войну могут записываться, времени терять нечего. За мной в Колизей». Народ расступился, чтоб дать пройти отцу Гавацци, и пошел за ним в Колизей мерным и важным шагом, гордо забрасывая край грязной шинели на плечо.
Зрелище в Колизее было поразительное; дело шло к вечеру, заходящее солнце яркими полосами входило в арки; несметная толпа народа покрывала середину; на арках, на стенах, в полуобвалившихся ложах – везде сидели, стояли, лежали люди. В одной из выдающихся лож был pater Gavazzi[162],усталый, обтирая пот, – но готовый снова говорить. Тут я слышал его речь слово от слова, это настоящий народный оратор – простота, энергия, сильный голос, резкие жесты и притом добродушный вид.
– Есть время, – говорил он, – когда бог мира становится богом войны; на груди моей возле распятия трехцветная кокарда освобождения. Клянусь перед этим распятием идти вперед, делить все ваши труды, все опасности – раненый найдет меня для помощи; умирающий для последнего утешения, для молитвы об нем; даже тот, кто оробеет, найдет мой ободряющий взгляд, мой пример.
В этом роде он говорил больше часу, его речь электризовала массы, он знал свою аудиторию, иные фразы его покрывались криками восторга.
– Юноши Рима, вам я чуть было не забыл сообщить радостную весть: мы предложили начальникам вольных отрядов вас поставить в первые ряды, вы первые сразитесь за свободу Италии и, падая, будете думать о том, что защищаете собою отцов семейства, – но падут несколько чистых и великих жертв, остальные из вас первые взойдут на неприятельские стены с хоругвию освобождения – мы там увидимся – до свидания!
Вслед за Гавацци явился Чичероваккио, он держал за руку прелестного отрока лет пятнадцати, снял свою шляпу, поклонился народу с своей простонародной грацией, велел мальчику снять шляпу и сказал:
– Мне очень хотелось идти в Ломбардию…
Гавацци и другие стоявшие на трибуне, перебили его словами:
– Анджело Брунетти должен остаться здесь, нам легче будет там, когда он будет здесь.
– Да, – продолжал il popolano[163], – я не могу идти… ну что же я сделаю для войны, romani? У меня есть сын, è mio sangue[164], я его отдаю отечеству, пусть он идет в первых рядах.
Он обнял юношу. Гавацци пожал руку Чичероваккию – и утер слезу. Народ грянул: «Viva Cicerovacchio!» Раздраженный и взволнованный с утра, я не вытерпел, слезы катились у меня градом – и верите ли? – теперь, вспоминая, я плачу. Это одна из лучших минут того времени[165].
Под одной из арок сидели несколько человек за столом, покрытым сукном и осененным знаменами Ломбардии и Италии, тут толпилась молодежь записываться, каждому давали для отметки кокарду; на дворе смеркалось, зажгли факелы около этого странного рекрутского набора, народ остался в полутемноте, ветер качал знамена, испуганные птицы, непривычные к таким посещениям, кружились над головой, и все это – обнятое исполинской рамой Колизея…
Многие матери недочлись в этот день своих сыновей. Один из редакторов «Эпохи» рассказывал мне, что, когда он воротился в редакцию, он нашел на столе письмо к одному из собственников журнала; нисколько не подозревая содержания, редактор занес ему его; письмо было от семнадцатилетнего молодого человека к своему отцу, он писал: «Любезные родители, ваш Тит записался в ополчение; простите меня, я чувствовал, что не нашел бы силы расстаться с вами, если б я пришел проститься и увидел ваши слезы, – я поступил в ломбардский отряд, который нынче отправляется на почтовых».
На третий день, часу в четвертом утра, меня разбудил барабанный бой; я открыл окно, первые вольные отряды выступали; разумеется, об мундирах никто и не думал, – ранец, ружье, тесак, патронташ и большая кокарда на шляпе составляли всю форму. Народ провожал их, ополченцы, вероятно, гуляли всю ночь, у некоторых были еще зажженные факелы, патер Гавацци шел вперед. На Piazza del Popolo ударили сбор, построили ратников в колонну, полковник объехал верхом ряды, все вместе было что-то не весело и сумрачно, небо было покрыто тучами, резкий, холодный утренний ветер дул перед восхождением солнца, женщины плакали, мужчины жали руки, целовались.
– Трррр-рам-там, там, трррр-рам, – колонна двинулась, а жители стали расходиться, у всех было тяжело на душе, все приуныли, все думали, сколько-то воротится из этих свежих, молодых людей и кто именно воротится. Война – свирепое отвратительное доказательство безумия людского, обобщенный разбой, оправданное убийство, апотеоза насилия, – а человечеству еще придется подраться прежде возможности мира!
На всех площадях выставлены большие столы для приношения вещей и денег; приносят бездну, я видел золотые и серебряные вещи, медные байокки и груду скудов на Piazza Colonna.
Пий IX дозволял отправиться волонтерам, но не приказывал (как объясняла официальная газета), ибо святой отец не считает совместным с своим званием объявить войну. Странное явление в истории этот Пий IX; два-три благородных порыва, два-три человеческие действия поставили его во главу итальянского движения, окружили его любовью, ему стоило только продолжать, по крайней мере не мешать; нет, слабые плечи его ломятся под тяжестью великого призвания. Он стоит на рубеже двух сильных потоков, и то один уносит его с собою, то другой. Великая судьба его преследует, навязывает ему свои дары, а он упорно отказывается, вредит делу и себе. Пусть бы он удалился куда-нибудь. Из благодарности за светлые минуты начального risorgimento память его осталась бы незапятнанною, неосмеянною. Пора, наконец, понять, что невозможно быть папой и человеком, царем и гражданином, что тут есть неразрешимый антагонизм.
Я был на площади св. Петра, когда папа глубочайшим образом оскорбил ополчение, отказываясь благословить знамя их. Есть в жизни торжественные минуты, требующие такой полноты и такого сочетания всех элементов, – минуты, в которые так натянуты все нервы, все чувства, что малейшая неудача, малейший несозвучный тон, который в обыкновенное время прошел бы едва замеченным, страшно действует, огорчает, сердит. Именно в такую-то минуту св. отец и оскорбил римлян. Дело кончилось тем, что благословение украли, начальники колонны подошли под благословение Пия, когда он выходил из кареты, у них в руках были знамена, Пий благословил их, а не знамена!
Я смотрел на всю эту комедию и от души желал этому благонамеренному старику, или этой старой бабе, называемой Pio nono, не только честной, но и скорой кончины для того, чтоб он мог дать добрый ответ на страшном судилище истории.
После выхода волонтеров, в числе которых ушла доля чивики, Рим опустел, сделался еще угрюмее, весна поддерживала нервное раздражение, столько же, сколько ломбардские новости. Сообщения были отрезаны войною, ожидание, страх волновали всех; на улицах вслух читались журналы, мальчики бегали с новостями и кричали: «La disfatta di Radetzky – un baiocco! Un baiocco per la disfatta degli Austriachi! La fuggita del arciduca Raniero – un baiocco e mezzo! La repubblica proclamata in Venezia, evviva il Leone di S. Marco! Due, due baiocchi!»[166] – С утра бежишь на Корсо слушать выдуманные и невыдуманные новости – и веришь и не веришь; а тут каждая иностранная газета приносит одну весть мудренее другой. Таким взволнованным, оживленным и ждущим необыкновенного еду из Рима.
Что-то будет из всего? Прочно ли все это? Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего; историческая tramontana сильна, но что б ни было, благодарность Риму за пять месяцев, которые я в нем провел. Что прочувствовано – то останется в душе, и всего совершенного – не сдует же реакция!
Письмо девятое
Париж, 10 июня 1848.
Снова, любезные друзья, настает время воспоминаний о былом, гаданий о будущем, – небо опять покрыто тучами, в душе злоба и негодование… мы обманулись, мы обмануты. Трудно признаваться в этом, будучи тридцати пяти лет.
Пятнадцатого мая сняло с моих глаз повязку, даже места сомнению не осталось – революция побеждена, вслед за нею будет побеждена и республика. Трех полных месяцев не прошло после 24 февраля, «башмаков еще не успели износить»[167], в которых строили баррикады, а уж Франция напрашивается на рабство, свобода ей тягостна. Она опять совершила шаг для себя, для Европы и опять испугалась, увидевши на деле то, что звала на словах, за что готова была проливать кровь.
Я был пятнадцатого мая с утра до ночи на улице, я видел первую колонну народа, пришедшую к Камере, я видел, как ликующая толпа отправилась из Собрания в ратушу, я видел Барбеса в окно Hôtel de Ville, я видел кровожадную готовность Национальной гвардии начать резню и торжественное шествие победоносного Ламартина и победоносного Ледрю-Роллена из ратуши в Собрание. Спасители отечества, из которых один под рукой помогал движению, а другой кокетничал с монархистами, ехали верхами без шляп, провожаемые благословениями буржуазии. Барбес и его товарищи отправились в то же время, осыпаемые проклятиями, в тюрьму. Собрание победило, монархический принцип победил, часов в девять вечера я пришел домой. Горько мне было. Дома я застал одного горячего республиканца, он тогда заведовал мэрией XII округа.
– Республика ранена насмерть, ей остается теперь умереть, – сказал я ему.
– Allons donc![168] – заметил мой демократ с тем французским легкомыслием, которое в иные минуты бывает возмутительно.
– Ну, так ступайте за вашим ружьем и стройте баррикады.
– Nous n’en sommes pas encore là[169], придет время построим и баррикады. Собрание ничего не осмелится сделать.
Мой приятель мог на досуге взвесить истину своих слов, его схватили, когда он шел домой, и отправили в Консьержри[170].
Когда я в Риме читал список членов Временного правления, меня разбирал страх: имя Ламартина не предвещало ничего доброго, Марраст был прежде известен за большого интриганта – потом эти адвокаты, эти неизвестности; один Ледрю-Роллен будто что-то представлял, Луи Блан и Альбер стояли особо, – что было общего между этими людьми? Потом огромность событий заслонила лица. Вдруг они напомнили о себе, одни – тайной изменой, другие – явной слабостью. Отдавая обстоятельствам то, что им принадлежит, мы не покроем однако ими людей, – люди тоже факты и пусть несут ответственность за свои дела, – кто их заставлял выйти на сцену, взяться своими слабыми руками за судьбы мира? Где их призвание, где помазание? Если они и уйдут от железного топора, то не уйти им от топора истории.
С каким восторгом летел я снова в Париж, как было не верить в событие, от которого потряслась вся Европа, – в события, на которые отвечала Вена, Берлин, Милан. Но Франция назначена всякий раз излечивать меня от надежд и заблуждений.
В Марселе я прочел о страшном усмирении руанского восстания, это была первая кровь после 24 февраля, она пророчила дурное…
Пятого мая мы приехали в Париж. Он много изменился с октября месяца. Меньше пышности, меньше щегольской чистоты, богатых экипажей – больше народного движения на улицах; в воздухе носилось что-то резкое и возбужденное, со всех сторон веяло девяностыми годами, чувствовалось, что революция вчера пронеслась по этим улицам. Толпы работников окружали своих ораторов под тенью каштанов в тюльерийском саду, деревья свободы на всех перекрестках, часовые в блузах и пальто, косидьеровские монтаньяры с большими красными отворотами и с сильно республиканскими, театрально воинственными лицами[171], расхаживали по улицам, стены были облеплены политическими афишами, из окон Тюльери выглядывали раненые герои баррикад, в больничных шинелях и с трубкой в зубах, на бульварах и больших улицах толпы мальчиков и девочек продавали с криком и с разными шалостями журналы, прокламации; знаменитый крик: «Demandez la grrr-ande colère du Père Duchêne, – un sou! Il est bigrrr-ement en colère, le père Duchêne, – un sou cinq centimes!»[172] – раздавался между сотнею новых. Мелкая торговля, отталкиваемая в дальние кварталы и переулки чопорной полицией Дюшателя, рассыпалась по бульварам и Елисейским Полям, придавая им цыганскую пестроту и удвоенную жизнь. При всем этом не было слышно ни о каких беспорядках и середь ночи можно было ходить по всему Парижу с величайшей безопасностью.
Собрание открылось накануне моего приезда, это не было торжественное, полное надежд открытие 89 года. Народ парижский и клубы встретили его с недоверием, правительство презирало его в душе; все оттенки политических партий, не соглашаясь ни в чем, были согласны, что это Собрание ниже обстоятельств; нравственное 15 мая было совершено в совести у всех за десять дней. Горестная судьба Собрания, которое было ненавидимо прежде, нежели успело сказать слово; для того чтоб компрометировать представителей, генерал Курте, кажется, или Косидьер заставил их выйти на перистиль и перед народом провозгласить Республику.
Начальные заседания, ожидаемые с страшным нетерпением, поразили всех своей необычайной бесцветностью; характер Собрания ярко обозначался при этом первом приеме за дело, оно бросилось в подробности, занялось вопросами второстепенными, – адвокатский, прокурорский и доктринерский тон прежних камер остался в Национальном собрании. Положим, что вопросы, которыми Собрание занималось, были дельны, но мало ли на свете дельного, – попавши на эту дорогу, можно работать года два-три, до поту лица и не разрешить ни одного из тех вопросов, которые дают резкий тон, делают переворот и вперед решают тысячу второстепенных вопросов.
Национальное собрание, следуя благородной поговорке «charité bien ordonnée», тотчас вотировало своему президенту право призывать Национальную гвардию не только парижскую, но и из департаментов на защиту Собрания. Оно боялось. Трусость – одна из самых выдающихся сторон его; Собрание чувствовало ложность своего положения, оно видело, что не представляет ни народ, ни революцию, ни даже реакцию, что действительной почвы у него нет; что Париж, народ и роялисты не за него; что за него часть мещан, пресные реакционеры, помешанные на идее внешнего порядка, – и больше никого; что в нем уважают не его, а первый результат всеобщей подачи голосов…
Ламартин явился перед Собранием Временного правительства с отчетом, он вел под руку честного, но выжившего из ума Дюпон-де-Лёра, показывая, что он только подстав преклонного и уважаемого старца. Ламартин говорил своим известным напыщенным слогом; его речи похожи на взбитые сливки: кажется, берешь полную ложку в рот, а выйдет несколько капель молока с сахаром; для меня он несносен на трибуне, французы удивляются ему – стало, он оправдан вполне. Ламартин смирялся перед Собранием, льстил ему, называл его владыкой и самодержцем. Собрание было довольно и предложило вотировать, что Временное правительство заслуживает благодарность отечества; оно терпеть не могло Временного правительства, особенно трех членов его – Ледрю-Роллена, Луи Блана и Альбера, но хотело заплатить за учтивость учтивостью и на почине сказать спасибо правительству за его смиренный вид. Казалось, это пройдет без спора, – вышло не так.
Барбес потребовал речи. Его появление на трибуне сделало сильное впечатление, все ждали с нетерпением, что он скажет; такие люди даром не говорят; Барбес, которого остроумная «Северная пчела» не иначе называет, как «каторжник и убийца», пользуется огромным преимуществом людей, которых твердость и чистота выше всякого подозрения; его убеждения были ненавистны Собранию, его личность, его прошедшее, его известность, его долгие страдания, так героически вынесенные, внушали неловкое, досадное, но непреодолимое уважение. Барбес считал нужным, прежде нежели Собрание покроет своей благодарностью все действия правительства, потребовать у него отчета во многом.
– Я протестую, – говорил он, – против ряда действий, вследствие которых оно лишилось народности. Вы помните руанские – убийства?..
При слове убийства неистовый крик «à l’ordre!»[173] перебил оратора, дальше мещане не могли слушать, кровь убитых ими или их товарищами подымалась им в голову не как угрызение совести, а как ободрение продолжать если не делом, то симпатией, то оправданием. Оратор выждал окончание бури и продолжал, спокойно и гордо глядя на парламентскую чернь:
– Я говорю об убийствах, сделанных Национальной гвардией в Руане.
Снова шум.
– Я напомню вам колонны поляков, белгов, немцев, преданных на истребление. Когда эти вопросы уяснятся, будем благодарить правительство, но не прежде; до тех пор я протестую против этой благодарности во имя народа.
В последних словах лежало много смыслу для тех, кто знали авторитет Барбеса на клубы и на весь революционный Париж; но увлеченное Собрание хотело однако наказать смелого республиканца, оно вотировало тотчас и почти единогласно благодарность децемвирам.
Барбес оставался с десятком своих друзей против всего Собрания; грустно и задумчиво качая головой, сел он на свое место и замолчал до 15 мая[174]. Отблагодаривши Временное правительство, Собрание назначило исполнительную комиссию из пяти человек; комиссия составила министерство из журнальных поденщиков «Насионаля», прибавив к ним знаменитого стенографа Флокона как образчик «Реформы». Луи Блан и Альбер были отстранены от правительства, слово «социализм» делалось уже клеймом, которым обозначали людей, отверженных мещанским обществом и преданных на все полицейские преследования. Собрание не хотело слушать о министерстве работ. Члены исполнительной комиссии потеряли всякое доверие искренних республиканцев выбором министров, на них смотрели как на ренегатов или как на орудие интриг Марраста, который, сидя у себя в мэрии, передергивал людей и подсовывал своих корректоров и батырщиков.
Четвертого мая открылось Собрание, десятого оно было ненавидимо всем Парижем, исключая партии «Насионаля» и тупорожденных либералов. Демократические клубы вотировали поздравления Луи Блану и Альберу. Самые случайности делали несчастное Собрание еще более нелюбимым и смешным; так, например, упорное отвращение Беранже от звания представителя, его вольтеровские письма об этом, его мольбы пощадить его седины унизили Собрание всею славою любимого народного поэта. После десятого мая все ожидали чего-то, всем казалось невозможным, чтоб эта торговая баня, чтоб этот толкучий рынок мог стоять во главе Франции и Парижа. Журналы были полны укора, в кафе, на улицах все говорили с жаром против Собрания, на площадях и углах улиц собирались всякий день группы, в клубах делались (как говорят роялисты) зажигательные предложения, произносились судорожные речи. Так подошло пятнадцатое мая.
Пятнадцатое мая было великим протестом Парижа против устарелого притязания законодательных собраний на самодержавие, за которым всегда и везде пряталась монархия, реакция и весь дряхлый общественный порядок. Чего не осмелился сделать Робеспьер 8 термидора, перед чем он, передовой человек революции 93 года, остановился и лучше хотел снести голову на плаху, и снес ее, нежели решился спастись противно своим началам, в силу которых самодержавие принадлежало одному Конвенту, – то сделал парижский народ 15 мая.
Вот отчего консерваторы и либералы на старый лад опрокинулись с такой яростью на Барбеса, Бланки, Собрие, Распаля; вот отчего в этот день Собрание и исполнительная комиссия, ненавидевшие друг друга, бросились друг другу в объятия. Роялисты схватились за оружие для того, чтоб спасти Республику и Национальное собрание. Спасая Собрание, они спасали монархическое начало, спасали безответную власть, спасали конституционный порядок дел, злоупотребление капитала, а наконец и претендентов. По ту сторону виднелась не ламартиновская республика, а республика Бланки, т. е. республика не на словах, а на самом деле; по ту сторону представлялась революционная диктатура как переходное состояние от монархии к республике; suffrage universel[175], не нелепо и бедно приложенный к одному избранию деспотического Собрания, а ко всей администрации; освобождение человека, коммуны, департамента от подчинения сильному правительству, убеждающему пулями и цепями. Собрание, опертое на Национальную гвардию, победило, но нравственно оно было побеждено 15 мая, оно держится, как все отжившие учреждения, единственно силою штыков и не дошло даже до того, чтоб журналисты говорили об нем без явного презрения.
Для того чтоб сделать понятным пятнадцатое мая и странное положение республики, которая пятится назад с половины апреля, т. е. через семь недель после революции, необходимо бросить взгляд на предшествовавшие обстоятельства, которые потрясли всю Европу. Революция 24 февраля вовсе не была исполнением приготовленного плана; она была гениальным вдохновением парижского народа, она, как Паллада, вышла разом, вооруженная и грозная, из народного негодования; это удар грома, внезапно осуществивший давно скопившиеся, но далеко не зрелые стремления. Февраля двадцать третьего ни Людвиг-Филипп, ни Гизо, ни министры, ни «Реформа», ни «Насиональ», ни оппозиция, ни даже люди, построившие первые баррикады, не предвидели, чем окончится 24 февраля. Хотели реформы – сделали революцию, хотели прогнать Гизо – прогнали Людовика-Филиппа, хотели провозгласить право банкетов – провозгласили республику; утром мечтали о министерстве Тьера или Одилона Барро, вечером Одилон Барро больше отстал, нежели Гизо. Как же это случилось? «De l’audace[176], – говорил С.-Жюст, – да, дерзкая смелость, отвага – тайна переворотов, особенно парижских». Горсть людей, принадлежавших к тайным обществам, мужественно дравшаяся на баррикадах, опираясь на благородные инстинкты парижских работников, провозгласила республику и дала такой толчок всей Европе, что теперь еще нельзя предвидеть, чем кончится это повсюдное брожение. Разумеется, республиканская партия существовала, она, обманутая 30 июля, пережила бойню в Cloître St.-Merry, резню в улице Транснонен, потерю всех своих корифеев, от Барбеса и Бланки до Алибо, – записывая в свою печальную хронику одни удары, несчастия, открытые гонения и судебные приговоры. Она имела мало надежд. Арман Карель качал головой во время битвы, Годфруа Каваньяк говорил перед смертью с мрачным отчаянием: «Это правительство износит нас всех, мы состаримся в бесплодной и неровной борьбе!»
С 1840 года действительно прекращается открытая борьба. До 1840 года у правительства был еще стыд, или если не стыд, то осторожность, оно боялось прибегать ко всем средствам, оно не было совершенно уверено в полном, безграничном сочувствии буржуазии. Оно убедилось наконец, что маска не нужна; действующая часть народа, т. е. та часть, которая имела гражданские права, была достаточно развращена, чтоб действовать заодно с правительством. Выборы – с малыми изъятиями – были в руках министров, подкупы делались открыто, половина Камеры состояла из чиновников, остальная часть была втянута в разные финансовые операции, для успеха которых надобно было не распадаться с правительством. Достаточная буржуазия давала свои голоса правительству, правительство давало ей свои штыки на защиту всех злоупотреблений капитала. У них был один общий враг – пролетарий, работник, – они соединились против него, при этом союзе были пожертвованы республиканцы и национальная гордость. Понижение электорального ценса после 1830 года заставило всплыть страшную дрянь в Камеру. Понижение ценса остановилось на границе народа и буржуазии, оно не ввело в Камеру элемента чисто народного, а подняло в нее всю чернь среднего сословия. Гизо понял круговую поруку буржуазии с правительством, он понял, что она гораздо больше боится народа, нежели власти; вооруженный Тьеровыми сентябрьскими законами, он пошел прямее к цели. Методический, холодный, притеснительный по характеру и властолюбивый донельзя, Гизо посвятил себя на уничтожение доли приобретенного Францией с 89 года; Гизо, кальвинистский поп, трезвый, желчевой, бесчувственный фанатик, сказал с высоты трибуны задавленному трудом и нуждой работнику: «Работа вам необходима, это единственная узда, на которой вас можно держать».
Семь лет постоянных удач развили более уверенности в Гизо, нежели в самом короле, они забылись. Умей Гизо остановиться во-время, он сделал бы гораздо больше вреда, он отдалил бы 24 февраля, он успел бы еще больше приучить к подкупам, к симонии всех родов, еще глубже растлить все нравственное в общественном мнении, но он слишком рано принял тон победителя, он не хотел даже хранить благопристойного вида, увлекаясь желчевым характером и мелкими личностями. Часть буржуазии испугалась, видя петербургские замашки министров. Министерство не боялось партии умеренного прогресса; надобно было видеть своими глазами презрительный тон Гизо, его вид, его отрывистую речь, когда, вынужденный реформистами взойти на трибуну, он противупоставлял свою талантливую дерзость – бездарной горячности Одилона Барро.
Другого рода протестация порядку вещей слышалась иногда как будто из-под земли… какой-то тяжелый стон раздавался по временам, не в Камере, не в «Насионале», не в «Реформе», а в мастерской, у изголовья умирающих от нужды, а иногда в ассизах, – «Gazette des tribunaux» записывала его, не понимая, что делает. На лавке подсудимых часто слышались страшные признания и страшные обвинения безобразному общественному устройству от людей, которые, отправляясь на галеры, в тюрьмы, бросали мрачные слова на прощанье; но кто же их слушал?..
Таково шли дела перед революцией, так застал я их, приехавши в Париж в марте месяце 1847 года.
Не могу вам выразить тяжелого, болезненного чувства, которое овладело мною, когда я несколько присмотрелся к миру, окружавшему меня. Мы привыкли с словом «Париж» сопрягать воспоминания великих событий, великих масс, великих людей 1789 и 1793 года; воспоминания колоссальной борьбы за мысль, за права, за человеческое достоинство, – борьбы, продолжавшейся после площади то на поле битвы, то в парламентском прении. Имя Парижа тесно соединено со всеми лучшими упованиями современного человека, я в него въехал с трепетом сердца, с робостью, как некогда въезжали в Иерусалим, в Рим. И что же я нашел – Париж, описанный в ямбах Барбье, в романе Сю, и только. Я был удивлен, огорчен, я был испуган, потому что за тем ничего не оставалось, как сесть в Гавре на корабль и плыть в Нью-Йорк, в Техас. Невидимый Париж тайных обществ, работников, мучеников идеи и мучеников жизни – задвинутый пышными декорациями искусственного покоя и богатства – не существовал для иностранца. Видимый Париж представлял край нравственного растления, душевной устали, пустоты, мелкости; в обществе царило совершенное безучастие ко всему выходящему из маленького круга пошлых ежедневных вопросов.
У французов среднего состояния мы встречаем, кроме исключений, какое-то образованное невежество, вид образования при совершенном отсутствии его; этот вид обманывает сначала; но вскоре начинаешь разглядывать невероятную узкость понятий, их ум так неприхотлив и так скоро удовлетворяем, что французу достаточно десятка два мыслей, сентенции Вольтера или Шатобриана, Ламартина или Тьера или того и другого вместе, чтоб довольствоваться ими и покойно учредить нравственный быт свой лет на сорок; к этому у него прибавляются практические нравоучения, взятые из подслащенной морали à la Жанлис, кой-какие предания, которые он уважает не рассуждая, и кодекс, которого он боится.
У французов нет потребности идти далее, идти вглубь, никакой смелости мысли, никакой истинной инициативы; они достигают большой ловкости навыком, они рутинисты по преимуществу; все эти roués из roués Тьеры, Маррасты ничего не понимают в социальном вопросе. Они умны и ловки в своем известном круге, за пределами его – они пошлы и глупы. Посмотрите их возражения – смешно читать; они знают, что социализм враждебная им партия, что ее надобно уничтожить, мастерски подведут guet-apens[177], но не поймут, в чем дело. Одна господствующая страсть поглощала все мысли и досуги среднего состояния – стяжание, нажива, ажиотаж; эта страсть, вместе с национальной скупостью французов, вытравливает в их сердце не только любовь к ближнему, к истине, но уважение к себе. Издание журнала, выбор депутата, голос в Камере – все это было торговым оборотом, едва прикрытым условными фразами. Сила банкиров во всех общественных делах была чрезвычайная; министерство боялось больше всех зол распадения с капиталистами.
Англичанин тоже расчетлив, он купец, для него приобретение выгоды составляет цель оборота, он в него вносит всю светлость своего практического ума, это его дело, его занятие; но, закрывая бухгалтерскую книгу, он делается в свою очередь потребителем, охотно бросает свои гинеи, хочет пожить на свой лад, он имеет свои капризы, которые не подчиняет деньгам. Француз, увлеченный в денежные дела, делается лишенным всех страстей и желаний, он ни в каком случае не забудет финансовой стороны вопроса, он вперед подкуплен опасением денежной утраты. Может быть, это свидетельствует, что французам не свойственна исключительно коммерческая деятельность, они в ней словно теряют такт и меру, потому что это не их дело; может, оно и пройдет как временное зло, как уродливое и последнее проявление буржуазии, может… но таким я застал среднее состояние в Париже. Прибавьте к страсти стяжания страсть власти, жажду мест, которою заражены все политические люди, к какой бы партии они бы ни принадлежали. Мы видели в последнее время, с какою яростью редакторы «Насионаля» и «Реформы» бросились на места и как важно подняли они потом свой демократический нос, замаранный голландской сажей. При таком нравственном падении буржуазии, при невежестве крестьян, при подозрительной чистоте оппозиции и либеральной партии, при страшных средствах административной централизации министры Людовика-Филиппа могли смело поступать как хотели, храня наружный вид законности. Но последнее опять не в духе французов, я это вменяю им в достоинство. Француз не может остановиться на фарисейском толковании буквы, как англичанин, не может довольствоваться существенной выгодой победы, он хочет еще внешнего торжества, унижения противника.
Противник, с своей стороны, точно также, перенес бы поражение, но восстает против оскорбления. Сверх дерзкого тона, министры впали в вечную ошибку всех консерваторов: они не умели оценить своего врага, они не знали этой несокрушимой упорности небольшой кучки республиканцев, готовых, выходя из тюрьмы, в тот же день продолжать заговор и начинать новую попытку, – эти исключительные явления во французской жизни приводят в удивление своей твердостью, своим героическим постоянством. К тому же люди правительства слишком презирали работников после Лиона, Cloître St.-Merry и Трансноненской улицы, они были уверены, что армия и Национальная гвардия задавят их, – и ошиблись. Людовик-Филипп недаром толковал, качая головой, о Париже et ses aimables faubourgs[178]. Старый король видел les sections[179] первой революции, он сам стоял дежурным при входе в якобинское Собрание; а Гизо начал собственно знать французов после взятия Парижа союзными войсками. Сверх всего, не надобно забывать, что семнадцатилетняя проповедь самого грубого эгоизма и самого нечистого поклонения материальным выгодам и спокойствию – не могла образовать особенно преданных и самоотверженных защитников июльскому трону… В октябре 47 г. я уехал в Италию, оставив Париж в самом мрачном состоянии, надежды на 24 февраля никакой не было. Воровство, продажа пэрства и крестов, подкупы министров, убийства в герцогских комнатах, крапленые карты в Tюльери, кража лесов королем, министр юстиции, пойманный в публичном доме, сын короля (Монпансье), выброшенный из дому почтенным генералом за неприличное поведение, – вот чем были полны журналы и разговоры. Депутаты отвечали на обвинительные документы – вотируя спасибо министрам, уличенным в плутнях.
Вы помните ряд событий, который привел к 23 и 24 февраля, – я намерен только слегка их коснуться, время истории этого переворота еще не настало, мы еще мало знаем его закулисную сторону, а его официальную сторону мы еще помним из газет и брошюр.
Вы знаете, в какое положение Гизо поставил Францию к концу 1847 года. Все влияние на Европу было утрачено из-за мелких династических интересов; все симпатии народа были пожертвованы для того, чтоб простили испанские браки и революционное начало июльского трона. Франция не могла держаться даже на той высоте, на которой была за десять лет, она делалась второстепенным государством. Правительства перестали ее бояться, народы начинали ненавидеть. Узкая, эгоистическая, мещанская политика, ставившая мир выше всего и невозможную теорию de la non-intervention[180] ключом свода, не мешали Гизо запятнать Францию явным вмешательством в дела Португалии и тайным в дела Швейцарии. В обоих случаях Франция играла ту самую роль, которую Реставрация – столько проклинаемая – принимала на себя в 1822 относительно Испании, – роль военной экзекуции, полицейского усмирения. Португалия была задавлена из учтивости к королеве Виктории – Пальмерстоном и из учтивости к Пальмерстону – Францией. В Люцерне выставили на площади пушки французской артиллерии, потихоньку присланные Зондербунду.
Для довершения благородной политики недоставало одного – союза с Австрией против Италии. Действительно, все симпатии кабинета были в пользу statu quo. Гизо беспрерывно унимал Пия IX, даже Карла-Альберта, меры которого он находил слишком либеральными. Французский посланник в Турине протестовал против дозволения печатать в Генуе песни, в которых говорят оскорбительно об австрийцах. Союз с Россией – было одно из пламенных желаний Гизо. Бакунина выслали из Парижа по требованию русского посланника, князю Чарторижскому не позволили праздновать своих именин.
При всем этом нельзя было не заметить характер мещанина в дворянстве, который принимало правительство, вышедшее из баррикад, и министр из профессоров. Аристократические симпатии английского министерства-тори естественны и потому просты. Поспешность, с которой Гизо протягивал руку всему аристократическому, старание прикрыть революционное происхождение трона 1830, отречься даже от 1789 года и выдать себя за страшного тори, за страстного консерватора – было очень смешно. Французскому министерству, как всем parvenus[181], при всех стараниях не удавалось стать на одну ногу с аристократически-монархическою Европой. Россия имела поверенного в делах, которому в конце 1847 дала название посланника… Зато с какой радостью, с какой благодарностью Гизо протянул руку Меттерниху – когда тот ему дозволил это. Мишле был прав, говоря, что глубже пасть невозможно.
Камера 47–48 собралась. Большинство оказалось еще плотнее за министерство, нежели в прежней. Гизо вместо ответа указывал оппозиции рукою на свою когорту. Парламентскими путями трудно было сломить министерство. Появление Ламартина на трибуне было событием; долгое время он держал себя в стороне, его «Жирондисты» были новым знаком жизни, вслед зa тем речь в Маконе, глаза многих обратились на него, его считали чистым человеком, потому что он ничего не делал. Речь его потрясла министерство, наравне с другою речью, – хотя второго оратора, совсем наоборот, никто не уважал. Тьер произнес нечто вроде смертного приговора политике Гизо. Дерзкий Гизо сломился под тяжестью этих речей. Забывая свою материальную силу большинства, лично уязвленный, он сделал опыт победить своим талантом – ему это удавалось, – но ответ его был неловок, бледен. Униженный как дипломат и политик, оскорбленный как оратор, гибнущий от ударов сладкоглаголивого стихотворца и политического афериста, он спасся бы еще какой-нибудь парламентской шуткой, но ему пришлось выпить до конца унижение и горечь, он должен был еще потерять в это заседание последний венок, который так шел к его квакерскому челу, – венок бескорыстия. Многие, не любя Гизо, считали его человеком правдивым, но увлекшимся доктринаризмом, системой – маленьким Стаффордом, и не смешивали его с людьми вроде Дюшателя и Эбера. И что же? Ограниченнейший из смертных, Одилон Барро, сорвал с него этот венок, доказавши, что Гизо семь лет не только терпел продажу мест, но брал отеческое участие в распоряжениях, условиях…
Закон, уничтожающий право собираться на общественные банкеты, был вотирован. Торжество большинства, впрочем, было не весело, трусливое и купленное стадо депутатов начинало подозревать, что это даром не пройдет, оно готово было оставить министерство на том условии, чтоб оппозиция оставила банкет. Такое примирение было невозможно, скорее coup d’Etat[182].
– Если б и у нас, – сказал… – и кто же? – Кобден после 24 февраля, – в парламенте, нашлось министерство настолько глупое или преступное, чтоб осмелилось предложить закон против мирного собрания граждан, и мы бы взялись за оружие.
Ропот сделался всеобщ. Министерство соглашалось было дозволить банкет, но уже Одилон Барро думал об отступлении, Тьер решался не идти на него… Видя эту слабость, полиция заперла залу, в которой приготовлялся банкет, Делессер объявлял городу нелепым циркуляром о причинах; министерство сзывало войска и готовилось. Мера эта действительно возмутила Париж, волнение распространилось по всему городу. Правительство, не совсем уверенное в Национальной гвардии, не било сбора, одни муниципалы свирепствовали, как всегда, на улицах; войска собиравшиеся были печальны. Национальная гвардия, созванная наконец, собиралась с криком «да здравствует реформа, долой министерство!» Король решился уступить. Перемена министров успокоила было народ, но люди, видевшие далее, не хотели потерять такой случай, они поняли, что не скоро опять взволнуешь весь Париж и что не скоро найдешь такой повод к восстанию, в котором Национальная гвардия стояла бы заодно с народом. Они устроили знаменитую прогулку по бульварам, которая окончилась залпом у Hôtel des Capucines и баррикадами во всем Париже 24 февраля.
Утром 24 февраля немудрено было понять, что правительство не устоит; напрасно Тьер уступил место Одилону Барро, напрасно Одилон Барро в синих очках верхом ездил на баррикады и сам поздравлял народ с назначением такого славного министерства. Реформы было недостаточно и на баррикадах там-сям поговаривали о республике.
Король отказывался от престола в пользу внука. Бюжо просил дозволения бомбардировать Париж и, не получив его, выругался и вышел вон от короля, надев в дверях шляпу. Эмиль Жирарден шумел в кабинете Людовика-Филиппа, народ приближался к Тюльери, события неслись с страшной быстротою.
Бюро «Реформы» и «Насионаля» кипели охотниками царствовать. По мере того как народ побеждал, они росли в предприимчивости. У них тем больше было досуга обдумать и приготовить план, как завладеть движением, чем меньше они участвовали в том, что происходило на площади. Они, отойдя в сторону, предложили себе вопрос, на который не только никто не отвечал, но который еще не был поставлен: «Что же теперь?» «Реформа» хотела провозгласить республику, «Насиональ» довольствовался регентством, он во имя регентства отправил уже Гарнье-Пажеса в Ратушу, но обойденный обстоятельствами Марраст тотчас согласился на республику и составил свой лист Временного правительства. Лист этот он отправил в «Реформу» для взаимного соглашения, «Реформа» восстала против имени Одилона Барро, который не отличился храбростью в деле банкета XII округа, его вычеркнули и потом согласились в главных лицах. «Реформа» ввела трех своих: Ледрю-Роллена, Флокона и Луи Блана. Король, которому отказал от места Эмиль Жирарден, как будто бы он был фельетонистом в «Прессе», уже садился в карету, и первые колонны народа подступали к Карусельской решетке; а две спасающие отечество редакции продолжали еще толковать об именах, не согласившись решительно ни в чем, кроме в объявлении республики. Они были так заняты лицами, что даже не подумали об афишах; работников не было; Прудон, не принадлежавший ни к какому приходу и пришедший узнать, что делается, в «Реформу», набрал афишку, отпечатал ее и отдал Торэ, который бросился на баррикады отыскивать Альбера, чтоб вместе с ним раздавать афиши.
Между тем победа народа становилась полною. Вслед за королем исчезло все правительство. Людовик-Филипп так мало понял, так плохо знал народ, которым правил 17 лет, что счел нужным для полного позора обрить свои седые бакенбарды и надеть пальто английского шкипера, чтоб скрыться от погони – которой за ним не было – misère![183] Он удалился одинокий, без преданных людей. Правда, и министры бежали, но не для того, чтоб разделить судьбу короля, – а боясь галер.
Камера сидела повеся нос, она боялась очень справедливо народной мести. Но народ, победивший почти без боя, не успел рассердиться и, покричавши немного «à la mort Guizot!»[184], вовсе забыл о мелких плутах, помогавших ему. Столько ли это было благоразумно, как великодушно, – не знаю, но скорее думаю противное. Прибежал Тьер, растерянный, без шляпы, сказал: «La marée monte – monte – monte»[185] – и замолчал. «Вы министр?» – спросили его. Он покачал головою и ушел. Министерские лавки были пусты, председатель совета, Одилон Барро, забавлялся в министерстве внутренних дел, сам извещая Францию телеграфом о своем назначении.
После отъезда короля явилась герцогиня Орлеанская с Немурским и с графом Парижским; на дворе Камеры была припрятана маленькая лошадка разукрашенная, на ней должен был маленький король проехаться по большому городу. Камера готова была провозгласить регентство, Дюпен, уже со слезами на глазах, просил записать в журнал, что герцогиню встретил народ на мосту с восторгом, как, по несчастию, он сам, т. е. народ, ворвался при этих словах в Камеру и дал ему полнейшее démenti[186].
Мари предложил учредить временное правление, основываясь на необходимости взять сильные меры для того, чтоб остановить растущее зло и обуздать безначалие. Эту речь, диктованную страхом и желанием занять место в правительстве, вменили Мари в достоинство; кровь еще текла по улицам, а благоразумные люди принимали уж меры против победителей и составляли правительство. Одилон Барро отстаивал регентство. Ларошжаклен иронически заметил, что рассуждать о регентстве вовсе не дело Камеры, что вообще депутаты «теперь ничего не значат, совершенно ничего». Эта выходка взбесила центры, они думали, что трон может упасть, а они-таки останутся на своих местах. Созе сделал замечание оратору – это был его последний rappel à l’ordre![187] Он вскоре вовсе пропал, прочитавши, впрочем, народу параграф устава, которым запрещается говорить посторонним в Камере. Новые толпы взошли и середь елейной речи Ламартина; они были с баррикад, вооруженные и готовые на все. Кто-то прицелился из ружья в Созе, Созе спрятался за трибуну и с тех пор исчез из парламентской истории.
После энергической речи Ледрю-Роллена, при шуме и крике прибывающей толпы, привели старика Дюпен-де-Лёра и заставили его провозглашать имена Временного правительства. Народ подтверждал криком, par acclamation.
Почему именно этим людям в руки попалась судьба народа, освободившегося за минуту до того? Знали ли они что-нибудь о желаниях, о нуждах этого народа, подвергались ли они за него смерти, они ли победили? Или, может, у них была мысль новая, плодовитая? Поняли ли они лучше других современное зло, придумали ли они средства ему помочь?..
Нет, нет и нет. Они заняли место потому, что нашлись люди довольно смелые, чтоб выбирать не на баррикадах, а в бюро журнала, чтоб провозглашать их имена не на месте битвы, а в побитой Камере. Народу не дали опомниться, Временное правительство явилось перед ними совсем не кандидатами, а готовым правительством. Ламартин и люди «Насионаля» во главе движения были великим несчастием для Франции. И что могло выйти из двуглавого правительства, руководимого Ламартином и Ледрю-Ролленом? Ледрю-Роллен хотел во что б ни стало утвердить республику, Ламартин – обуздать революцию. Ледрю-Роллен шел в правительство для того, чтоб двигать вперед, Ламартин для того, чтоб подставлять ногу, чтоб тормозить движение; Ледрю-Роллен хотел нести революцию в Бельгию и Германию, Ламартин в марте месяце писал в Швейцарию, чтоб не очень настаивать на признании республики, «мы де не знаем, прочна ли она».
Ламартин и люди «Насионаля» были испуганы успехом. Они привыкли к мелкой парламентской оппозиции, к безопасно революционным тостам на банкетах, к удали журнальных статеек и к бескровному задору красноречивых ответов с бокалом в руке – а вдруг победили королевство, сели на трон. Они никогда не уважали себя настолько, чтоб считать себя достойными победы. Первая мысль, пришедшая им в голову, была против революции. Они хотели обуздать народ, они хотели скорее порядка, скорее выйти из революционного состояния – зачем они торопились? Затем, что чувствовали слабость своих плеч, затем, что в них было чисто буржуазное, оскорбительное недоверие к народу. А между тем народ вел себя эти дни удивительно. Я не стану повторять пошлые похвалы за то, что не крали в Тюльери, ни хвалить глупцов, которые расстреляли каких-то бедняков за то, что они взяли что-то из королевских вещей – регуловские черты буржуазной добродетели меня не трогают, – но нельзя не упомянуть о порядке во всем городе, о безопасности для людей, известных народу, банкиров, судей, полицейских… Вместо спасиба этому народу люди, втеснившие себя в правительство, расточая ему лесть, убаюкивая его, как льва, втайне ковали ему оковы, заменяя на них королевский штемпель словом «республика» с ее громовым девизом. Действительные участники движения были в Ратуше. Они, не успев перевести духа после битвы, собирались в этом Эскуриале революций с той же целью – избрать правительство, как вдруг разнесся слух, что правительство выбрано в Камере и идет к ним, сопровождаемое толпами народа. Никто не спросил – кем выбрано, когда, по какому праву?.. Все торопились узнать имена новых господ. Из этого ясно, что демократическая партия была незрела, что у ней не было ничего готового, что народ вообще до такой степени привык быть управляем другими, что сейчас удовольствовался правителями, взятыми в рядах парламентской и журнальной оппозиции, не сообразив, что край буржуазного радикализма против Гизо становился ретроградным в отношении к социализму и пролетариату.
Когда новое правительство явилось в Hôtel de Ville, оно догадалось пустить Ледрю-Роллена вперед. Ему кричали со всех сторон, хочет ли он провозгласить республику. Ледрю-Роллен отвечал, что он не признает никакого избрания, кроме избрания народом, что вся цель его желаний – провозглашение республики. Народ тотчас признал его за члена Временного правительства. Ламартину предложили те же вопросы; он смешался, отвечал, что вся нация должна решить, какую форму правительства она принимает. Ему кричали из толпы:
– Какое воззвание к народу? Разве мы для того подвергали грудь нашу пулям? Если возвратится король, мы воротимся на баррикады.
Эти ответы удвоили крики негодования, многие кричали «долой его!» Ламартин нехотя провозгласил республику, и народ, точно пораженный слепотой, признал его членом. Многие роптали; чтоб их успокоить, представили им Луи Блана, которого работники уважали и любили. Другие члены правительства проскользнули как-то незаметно. И вот как совершился великий акт водворения нового правительства.
Давно было замечено, что люди чрезвычайно обстоятельны, благоразумны во всех мелких делах, но как только дойдет до чего-нибудь важного, решительного, они поступают очертя голову. То же можно сказать о целых народах.
Прежде появления Временного правительства в ратушу, место мэра занял Гарнье-Пажес. Он, не зная еще, будет ли регентство или республика, раздавал места по назначению Марраста. Расчет был верен: не дать место тому или другому не трудно, но взять назад однажды данное вовсе не легко. «Реформа», чтоб не отставать от «Насионаля», отправила Этьена Араго завоевать почту, а Косидьера – префектуру полиции; они оба дрались на баррикадах. Косидьер пришел пешком с своим ружьем на плече в префектуру, взошел в кабинет, из которого только что вышел Делессер, поставил ружье в угол и объявил, что он назначается именем французского народа префектом полиции. Секретарь ему поклонился – и делапошли своим чередом.
Передовые люди баррикад, члены общества des droits de l’homme[188] были недовольны; баррикады еще стояли 25 февраля, и к ним подвезли пушки; на баррикадах, на общественных зданиях развевалось красное знамя. Мрачные толпы народа были с раннего утра на площади Hôtel de Ville, они как будто спохватились, что вчера упустили из рук победу. Но за ночь Временное правительство окрепло, и Ламартин – как вы знаете, – подвергая свою жизнь опасности, отстоял трехцветное знамя. Знамя народа, знамя, водруженное под пулями, знамя демократии, республики грядущей, было отринуто; знамя прошедшей республики, перешедшей в империю, знамяНаполеона, обидное для всей Европы, обагренное кровью всех народов, знамя, семнадцать лет осенявшее лавочку Людовика-Филиппа, знамя, из-под которого стреляли муниципалы в народ, знамя буржуазии – было принято хоругвией новой республики. Новая республика объявляла себя мещанскою, она не разрывалась с прошедшим и, следственно, необходимо должна была встретиться с республикой ожидаемой, и встретиться злее, нежели монархия, потому что между монархией и социализмом именно стояла еще политическая, формальная республика. Как только буржуазия узнала о трехцветном знамени, лавки открылись, у нее отлегло на сердце. За эту уступку и она с своей стороны делала не меньшую – она соглашалась признать республику!
Письмо десятое
Париж, 1 сентября 1848 г.
Больше двух месяцев прошло после моего последнего письма. Трудно продолжать начатое, реки крови протекли между тем письмом и этим. Вещи, которые я никогда не считал возможными в Европе, даже в минуты ожесточенной досады и самого черного пессимизма, – сделались обыкновенны, ежедневны, неудивительны. Глубоко огорченный, я остался досматривать преступление осадного положения, ссылок без суда, тюремных заключений вне всяких прав, военносудных комиссий. Вероятно, чем-нибудь да кончится это тяжелое состояние, кто-нибудь явится воспользоваться учрежденным порядком – Генрих V, Людовик-Наполеон или этот несчастный солдат, который добродушно пошел из воинов в палачи и добросовестно казнит улицы, жителей, мысли, слова.
Усталый народ примет всякого с рукоплесканием, ему хочется сколько-нибудь покоя, он все на жертву принес в июньские дни и все утратил, он хочет залечить раны, оплакать жертвы и заработать кусок хлеба. Бедный героический народ, в какие предательские руки ни попались бы судьбы его – из моей груди он не услышит упрека.
Если б вы видели, какой он стал грустный, печальный после июньских дней. По улицам ходить страшно; там, где кипела жизнь, где громкая «Марсельеза» раздавалась середи других песен с утра до ночи, там теперь тишина – разносчик газет не смеет кричать, бледный блузник сидит перед дверью пригорюнившись, женщина в слезах возле него, они разговаривают вполслуха, осматриваясь. К ночи все исчезает, улица пуста, и мрачный патруль подозрительно обходит свой квартал с заряженными ружьями; блуза почти исчезла на бульварах, Национальная гвардия пыталась ее не пускать в тюльерийский сад, так, как это было при Людовике-Филиппе. Народ терпит – он побежден и знает своего победителя; он знает, что мещанин ни перед чем не остановится, что казаки и кроаты в сравнении с буржуазией – агнцы кротости, когда она победоносна, когда она защищает права капитала, неприкосновенность собственности. Народ терпит, но в душе его собирается мрачная злоба, тоска; невыносимость положения до того велика, что толпы работников просятся в Алжир; а вы знаете, что нет народа, который бы имел больше нелюбви к переселению, как французы.
Никогда террор 93 года не доходил до того, до чего дошел террор теперь. Не говоря уже о том, что характер, обстановка, причины – все разно, я держусь за материальный факт насилия и меру его. Много голов пало на гильотине, много невинных, в этом нет сомнения, мы знаем их поименно. А кого расстреливали у фортов, на Карусельской площади, на Марсовском поле, в подвалах тюльерийского дворца? Мы знаем Фукье-Тенвиля, Германа и других членов революционного суда. А этих кто судил, кто признал виноватыми, и в чем состояла необходимость этих кровавых злодейств? Зачем эта тайна, зачем украли у народа право знать своих мучеников? Разве Комитет общественного спасения скрывал свои меры? Самая резня в сентябрьские дни делалась белым днем, и списки рассматривались довольно внимательно, как свидетельствует оставшийся в живых писарь Бисетрской тюрьмы. Ну а в этих ночных и глухих казнях кто рассматривал списки, да и кто составлял их? Кто осмелился взять на себя такую кровавую ответственность? Алжирские генералы были палачами, исполнителями Собрания, действовавшего под влиянием Сенара и Марраста, а Сенар и Марраст выражали волю буржуазии – вот виноватый. Нет, почтенные мещане, полно говорить о красной республике и о кровожадности; когда она лила кровь, она верила в невозможность иначе поступать, она обрекала себя на эту трагическую долю и рубила головы с чистой совестью, а вы только мстили, мстили подло, безопасно, втихомолку. Шесть тысяч семейств должны ждать депортации и окончания военных судов, чтоб узнать, расстрелян или нет их брат, сын, отец…
Террор 93 года был величественен в своей мрачной беспощадности, вся Европа ломилась во Францию наказать революцию, отечество действительно было в опасности. Конвент завесил на время статую свободы и поставил гильотину стражей «прав человеческих». Европа с ужасом смотрела на этот волкан и отступала перед его дикой, всемогущей энергией; террор хотел спасти Францию – и вместо этого победил Европу. Когда миновало его время, те, которые обрекли себя на страшную долю судей, положили в свою очередь голову на плаху; их надобно было казнить, это своего рода lex talionis, невинные головы их пали, и остановленный топор заржавел.
Теперь – всякую неделю префект полиции объявляет, что Франция цветет, что торговля снова идет вперед, что доверенность возвратилась… кого же спасают эти лавочники с этими алжирцами? Со стороны Европы бояться нечего – после июньских дней цари наперерыв торопятся признать новое правительство; они спасают порядок вещей, потрясенный, но далеко не разрушенный 24 февраля, и они мстят за испытанный страх, за дерзкое притязание черни – быть людьми, после того как их философы и либералы только об этом и писали целый век.
Какой страшный урок это трехмесячное осадное положение! Вот вам Франция, так любящая свободу, страна пропаганды, революции… она всего лишена, жизнь остановлена в самом сердце; у Парижа завязан рот, связаны руки, он лишен права собираться в клубах, коварный закон, позволяя, убил его, он лишен свободы книгопечатания, его дети отправляются сотнями на понтоны – и все это для спасения общества, pour le salut public…[189] Если б это было так, то пропадай государство, которое надобно спасать такими средствами, пусть оно гибнет, туда ему и дорога. Народ не погибнет с государством, хуже ему не может сделаться; погибнут нелепые учреждения; погибнут те, которые из республиканских форм умели сделать казарменный деспотизм и покорились ему, лишь бы погубить работника – чего же их жалеть!
Чем и как разрешится все это, мудрено предвидеть – насилие, самоуправство приходит мало-помалу в порядок, к ним привыкают; кто может отвечать за то, что Франция не двинется не только за 1830, но и за 1789 год?
Народ долго не поднимется после такого восстания и такого поражения, ему надобен отдых; он лишился всех друзей своих, всех вожатых; при малейшем движении возобновятся ужасы июньских дней, удесятеренные, – кто знает предел злодейства, до которого могут дойти защитники порядка? До сих пор они ни перед чем не остановливались. Лишь бы достало терпения великому парижскому народу, пусть он сойдет теперь со сцены, облитой его кровью, пусть не смотрит на события, не слушает оскорблений и в тиши собирает свои силы; не знаю, придется ли ему водрузить хоругвь социализма на парижской бирже, но знаю, что он отомстит за июньские дни, за апрельскую измену, за обман в ратуше, за ложное воззвание Каваньяка. Войну, начатую июньскими днями, остановить невозможно. Вся Европа вовлечена в нее. Трудно переродиться старому Адаму, социализм слишком широк для изношенных людей и слишком несовместен с обветшалыми формами, в которых держится старая жизнь Западной Европы.
Жалкие, дрянные люди! Передо мною теперь лежит страшная книга, «донесение» следственной комиссии о 15 мае и об июньских днях. В этом болоте грязи, ябеды и доносов потонули децемвиры республики 48 года. Посмотрите на этих гордых республиканцев, так смело вышедших из рядов граждан, чтоб сделаться правителями, посмотрите, как они теперь жалко торопятся делать доносы в свою очистку, как они боятся того, чем хвастались несколько месяцев. Частные разговоры, дружеские излияния – все предано, даже жесты не забыты. Ирония, ирония! Ретроградное Собрание хотело отомстить республиканцам и с злою насмешкой назначило председателем следственной комиссии Одилона Барро, и этот тупорожденный либерал времен Реставрации, обойденный, выброшенный революцией 24 февраля, важно развалясь на президентских креслах, позвал к ответу Ламартина и его товарищей, и Ламартин, как ученик, пойманный гувернером и желающий оправдаться, боясь, что поставят на горох, начал битой фразой из хрестоматии и кончил доносом, что у них во Временном правительстве не было ладу… И никто из этих господ не смел сказать, что они отводят такого следователя, открытого врага республики, министра Людовика-Филиппа, и никто не пожалел революции 24 февраля. Вместо того чтоб ужаснуться посягательству судить ее, они ее притащили перед инквизицией Одилона Барро, они позволили рту Бошара прочесть ей обвинительный вердикт, это ужасно!
И такие люди стояли во главе республики, и если в числе их нашлись два человека, которые не хотели наушничать, губить доносами обвиняемых, зато ни один не нашел твердости сказать всю истину, ни в ком не нашлось настолько мужественного сострадания, чтоб сказать слово в пользу восьми тысяч жертв и половину их вины отбросить на Собрание и на самих себя. Куда! Точно в деле Роганова ожерелья, все знали, кто обвиняемая, но никто не смел ее назвать, так и тут – никто не смел заикнуться о причинах 15 мая и 23 июня, – даже те, которые желали разогнать Собрание, желали победы восстанию, не удержались, чтоб не бросить жесткого слова в казематы этим несчастным жертвам веры во Францию. Чувства собственного достоинства, уважения к себе настолько, чтоб не отвечать на дерзкие вопросы, не нашлось у этих людей. Они оправдываются повиновением закону. Кто же облек Собрание таким самодержавием, кто дал ему право без суда осуждать, назначать инквизиции и делать следствие над целыми переворотами, над историей? Какое тут повиновение закону? Это рабство, это малодушие – испуганные своими связями с побежденными, горцы допустили роялистов взять страшные меры, молчали, не протестовали. Пусть идут теперь оправдываться перед Одилоном Барро, кланяться ему, предавать своих друзей… может, он и Собрание помилуют их…
…Республика была провозглашена робко, нехотя со стороны Временного правительства, – оно уступило народу, вооруженному и готовому на бой. Самый акт провозглашения был странен и носил в себе что-то напоминающее ту дипломацию, которая должна была исчезнуть в республике и которая, напротив, развилась в ней. «Временное правительство, – сказано в первой прокламации, – желает республику, если народ французский ее утвердит». Какая осторожность и неуверенность; говорит ли кто-нибудь этим языком через час после битвы, после победы? На другой день Временное правительство объявило, что оно «республиканское», вслед за тем явилась третья прокламация, в которой сказано: «Королевская власть уничтожена, республика провозглашена!» О народном согласии на этот раз ни слова.
Революция 24 февраля сделалась слишком нечаянно, это был coup d’Etat, 18 брюмер со стороны республиканцев. Во Франции такие перемены бывали часто и удавались, но не надобно забывать, что 18 брюмеры гораздо легче делать в пользу власти, нежели в пользу свободы. Власти надобно только признание, формы, орудия, а свобода ничего не значит, пока не проникла в убеждение, пока не сделалась верой, мыслию, мнением. Республика была сюрпризом для всех, для тех, которые пламенно желали ее, для тех, которые еще пламеннее ее отталкивали. «N’est-ce pas un rêve?»[190] – спросил тронутый Кремьё, после речи, сказанной им адвокатам в первые дни республики. Да, гражданин министр, это был сон, в том-то вся и беда; теперь мы не спим, и уже вы не спросите, сон ли это или нет, – мы сладко спали, но проснулись, как после опиума, – грудь разбита, голова болит, глубокое отвращение к жизни и к людям наполняет душу. Мне все кажется, что король уехал на время, правление без него ослабилось; но вот перед его возвращением слуги говорят громче и начинают процесс февральскому возмущению, точно так, как начинали все остальные политические процессы в Камере пэров. Загулявшая дворня перепугалась, она защищается тем, что она все ждала его, и в самом деле она благоговейно оставила запертыми его дворцы, его сады, его отдельные парки – для кого? – так, по тому чувству, по которому слуга, отпущенный на волю, все-таки считает бывшего барина своим господином.
Все люди, всплывшие после 24 февраля, были попорчены египетским пленением Фараона Орлеанского, они образовались в политику оппозиции, в парламентские козни, expédients[191], и не могли быть ни просты, ни откровенны. Отчасти лица не виноваты, они родились под тяжким фатумом, они образовались из негодной среды, они воспитались на гнилой почве. Люди, кроме исключительных явлений, служат невольными и по большей части искаженными проводниками тех начал, которые уже даны; тем не менее мне бы не хотелось их освободить от всякой ответственности. Освобождать людей от ответственности значит их не уважать, не принимать их за серьезное. Покрыть все действия человеческие широкой амнистией исторической необходимости – очень легко, но с тем вместе это значит утратить достоинство личности и лишить историю всего драматического интереса.
Мне жаль людей Временного правления, я так привык слышать их имена в светлое время, которое теперь кажется мечтой, невозможностью по сравнению с безобразным настоящим, с этой беззаконной диктатурой, начавшейся по горло в крови и продолжающейся по горло в позоре. Но именно эта кровь, этот позор и вызывают беспощадное осуждение; мы не можем отказаться от обнаружившихся последствий, нам нельзя отречься от настоящего, сквозь которое это недавно прошедшее представляется иным. Временное правительство, рассматриваемое сквозь штыки осадного положения, не находит отпущения в душе нашей.
Франция не была готова для республики… Но Временное правительство, облеченное страшной диктатурой, опираясь на Париж, могло действительно стать во главу движения и вести народ, воспитывая его учреждениями, а не подвергая кровавым потрясениям, которыми он вырабатывается теперь. Для этого надобно было иметь веру и энергию Комитета общественного спасения, и, заметьте, только веру его и его преданность; обстоятельства были таковы, что Временному правительству вовсе не нужно было обрекать себя на строгую карающую ролю, которая окружила кровавым облаком диктатуру 93 года. Яуверен в некотором желании добра почти всех членов, особенно в первые дни, в которые надобно было быть уродом или извергом, чтоб не разделить общего увлечения; кроме Ледрю-Роллена – Луи Блан и Альбер были не только республиканцы, но и социалисты. Да и у них недоставало нерва революционного, который был у роялиста Мирабо и у монтаньяра Дантона; в них не было того беспокойного духа, подрывающего старое, ломающего без оглядки, дерзкого в отношении к прошедшему, сердящегося и находящего удовольствие в разрушении. Луи Блан радикальнее Ледрю-Роллена, но он, удалившись в Люксембург, сделался проповедником социализма и утратил влияние на правительство.
Ледрю-Роллен встретил противудействие в товарищах; может, он и сладил бы с ними, но в их главе стоял авторитет – Ламартин. Характер Ламартина по преимуществу женский, примиряющий, бегущий крайностей; он стремился примирить, соединить противуположные направления, потому что ни с чем не справился внутри себя; в его уме, в его речах – отсутствие всего резкого, определенного; он был рефлектёр в поэзии и сделался рефлектёром в политике. Ламартин развился под странными влияниями и остался верен эпохе своего цветения. Тому времени, когда отсталая Франция изменила собственному гению своему, ясному в отвлечениях, определенному во всем; французская мысль и французская фраза приняли что-то туманное, не вполне высказываемое, стремящееся «все обнять, ничего не отвергая», – таинственная пустота Шатобриана и спутанный эклектизм Кузеня могут служить представителями этой эпохи.
В Ламартине есть именно нечто шатобриановское и нечто эклектическое. Он не догадывался, что это колебание между крайностями, эта высшая, обнимающая справедливость, без внутреннего начала, без установившейся мысли, представляет или высшее бездушие (как вся философия Кузеня), или эгоистический эпикуреизм, распущенность. Ламартин находил в сердце своем звуки и белым лилиям, и служителям алтаря, и Наполеону, и – и ничему не предавался в самом деле; Ламартин – диктатор, полюбил республику, народ, – он на этой высоте хотел наслаждаться общим миром, сочувствовал голодному работнику, любил роскошь богатого, имел слезу для герцогини Орлеанской, рыцарское великодушие к политическим врагам; он с одним не мог сочувствовать – с революцией, он думал, что ее не нужно после провозглашения республики! И такой-то человек стоял во главе возникающей демократии, осредотворяя мягкостью своей души два бурные потока, уступая обоим и обессиливая тот и другой.
Временное правительство приняло за главный вопрос успокоть среднее состояние во Франции и встревоженные правительства в Европе. Оно не верило в свое собственное дело – и оттого погубило его. Оно хотело как-нибудь уладить республику как-нибудь удержать мир – и достигло цели. Оно боялось разорваться с прежним порядком; новой, государственной, построяющей мысли у него не было; отсюда это неприятное нестройное колебание между разными направлениями – то является закон, основанный на социализме, то чисто монархическое распоряжение, в одних мерах видно бледное подражание Комитету общественного спасения, в других остался весь характер конституционного королевства. Люди, судившие и рядившие Францию, а с ней вместе и всю Европу, ни разу не подумали, чем собственно должна отличаться новая республика от старой монархии.
Они себя принимали за такую случайность, за такое преходящее, что они ни в чем не шли дальше формы и поверхности; они обходили все важные задачи; им предстояло бросить первые основы демократического и социального пересоздания; вместо того они смиренно указывали республиканцам на будущее Собрание, социалистам – на люксембургскую комиссию; они боялись взять революцию на свою ответственность, они одного хотели: уличной тишины и полицейского порядка; их слабые нервы не могли выносить республиканского шума.
«Всеобщая подача голосов, организация работы» – вот чего хотела февральская революция и чего не осмеливалось оспоривать у народа Временное правительство. Но грубое непонимание вопроса и механическое, холодное разрешение его привели к тому, что всеобщая подача голосов убила организацию работ.
Всеобщая подача голосов, при монархическом устройстве государства, при нелепом разделении властей, которыми так хвастались приверженцы конституционных форм, при религиозном понятии о представительстве, при полицейской централизации всего государства в руках министерства, – такой же оптический обман, как равенство, которое проповедовало христианство. Тупость консерваторов, их привычки к ценсу заставляли их трепетать перед всеобщей подачей голосов, в то время как оно не опаснее всякого другого избрания представителей. Дело вовсе не в том, чтоб раз в году собраться, выбрать депутата и снова воротиться к страдательной роли управляемого, надобно было основать всю общественную иерархию на выборах, надобно было предоставить общине избрать свое правительство, департаменту свое; надобно было уничтожить всех проконсулов, получающих священный сан от министерского помазания; тогда только народ мог бы действительно воспользоваться правами и, сверх того, дельно избрать своих центральных депутатов. Об этом и не думали наши децемвиры, они хотели оставить города и общины в их полнейшей зависимости от исполнительной власти и демократическую мысль всеобщей подачи голосов приложили к одному гражданскому акту.
Ледрю-Роллен понял опасность и нелепость предстоявших выборов. Что за результат могли дать голоса нескольких миллионов человек, первый раз избирающих без приготовления, без образования, под влиянием духовенства, богатых собственников, нотариусов, чиновников – людей, враждебных республике по общественному положению? Ничего не могло быть естественнее, как мысль послать объясниться с народом посредников между им и революционным правительством; еще естественнее было напутствовать циркулярами комиссаров. Чему удивились консервативные журналы, члены правительства, откуда этот вопль буржуазии, эти проклятия Ледрю-Роллену, когда он послал комиссаров и обнародовал свои циркуляры? Буржуазия покорилась горькой необходимости и признала республику на условии, что республика будет шутка, она надеялась на неустроенную всеобщую подачу голосов, как на каменную гору; а тут является человек, у которого в руках была страшная власть министра внутренних дел и который вздумал призрачные выборы сделать действительными. Прочтите эти знаменитые циркуляры – вы увидите, что вся его цель состояла в том, чтоб преимущественно выбирали республиканцев, а не роялистов, для того, чтоб представлять и устроить республику. «Да Франция вовсе не хочет республики!» Это другой вопрос, тогда надобно было обратиться не к Ледрю-Роллену, а ко всему правительству, ко всему парижскому народу и спросить у них отчета, почему после Людовика-Филиппа они не провозгласили Генриха V? – Республика была факт, она была провозглашена по праву революции, ее министры должны были действовать в духе республиканском. Если б все шли дружно и по одной дороге с Ледрю-Ролленом, если б, сверх того, и сам Ледрю-Роллен не сбился с нее, мы не сидели бы третий месяц в осадном положении и не видели бы улицы Парижа, устланные трупами.
Роковая неловкость Временного правления вела его от ошибки к ошибке, чтоб не сказать от измены к измене. Если б выборы назначены были немедленно, можно было бы ожидать, что под влиянием недавней революции – изберут республиканцев; если б выборы были отложены на долгий срок, можно было бы несколько приготовить народ, особенно крестьян. Правительство не сделало ни того, ни другого, оно дало ровно столько времени, сколько было нужно, чтоб одушевление простыло и чтоб реакция ободрилась. Оно употребило одну réclame électorale[192], это надбавочный налог сорока пяти сантимов. Нелепость этой меры превышает всякое человеческое пониманье; она оскорбила земледельцев, она их восстановила против республики, сорок пять сантимов сделались знаменем реакции. Крестьяне собственно через этот налог узнали о республике, она им рекомендовалась прибавкой тяжести. Да откуда было взять деньги? Откуда угодно, только не с бедных людей, задавленных и без того общественной несправедливостью. Откуда брал деньги Камбон? – Тогда был террор. – Хорошо, откуда в конце 1795 года достала Директория 600 миллионов? Наконец, сир Робер Пиль, конечно не революционер, прибегнул же к income-tax?
Клуб Бланки понял гибельное действие, которое произведет надбавочный налог, он послал депутацию к правительству. Гарнье-Пажес отвечал делегатам клуба, что само правительство видит неловкость этой меры и постарается поправить ее. Как же оно поправило? Оно велело не взыскивать 45 сант. с людей, которым мэры выдадут свидетельство, что им нечем заплатить. Если это была увертка, то Гарнье-Пажес дурной шутник; если же он это сделал по убеждению, то мы имеем право усомниться, не поврежденный ли он? Не только во Франции, где по чрезвычайно развитому чувству гордости никто не признается в бедности, но где угодно, объявите налог с таким оскорбительным изъятием для неимущих, его или все заплотят или никто. Так и случилось; там, где не заплатили, правительство приняло военные меры…
Парижский народ и клубы с ужасом видели, что правительство сбилось с дороги, они подозрительно смотрели на всех членов, исключая Ледрю-Роллена, Луи Блана и Альбера. Клубы давали советы, указывали зло, ошибки через журналы, через делегатов; правительство и не думало переменить линии поведения. Они говорили, например, что невозможно оставить судьями людей, занимавшихся лет двадцать пять преследованием республиканцев, – правительство их оставило.
Вместе с падением электорального ценса пало исключительно буржуазное устройство Национальной гвардии; каждый гражданин, получая голос, получал ружье. Вооруженный Париж представлял огромную силу, он делался не только столицей демократии, но ее великой дружиной; войск в Париже тогда не было и не могло быть, пока народ имел голос и волю. Вооруживши весь Париж, Временное правительство ввело новую массу в старые кадры легионов Национальной гвардии; вновь взошедшие в легионы естественно подчинились прежним членам, приняли большей частию их направление и дух. Кабэ десять раз в своем клубе говорил о необходимости распустить Национальную гвардию и потом вновь ее составить, он сильно восставал против мундира – и был прав. Мундир вообще вещь превредная, он отделяет человека от других, но он нигде не вреден до такой степени, как во Франции; Франция со времен Наполеона заражена солдатизмом. Правительство дальше уничтожения меховых шапок не пошло, оно оставило прежние мундиры и дозволило вновь поступившим остаться в обыкновенном платье; люди в мундирах, само собою разумеется, тотчас составили аристократию в легионах.
Что касается до устройства работ, правительство и не думало серьезно заняться этим вопросом, оно не имело никакого плана, никакого мнения об этой важнейшей задаче современности. Чтоб отделаться от нее, оно назначило Луи Блана и Альбера председателями комиссии о работниках и отослало их на другой край Парижа в Люксембургский дворец. Сверх того, оно, не ожидая ее решения, основало национальные мастерские, вроде убежища для работников, лишенных работы вследствие революции. Эти знаменитые ateliers nationaux[193], поставленные на счет социалистам, были изобретены консерваторами Временного правительства не из желания добра, я из страха перед двумя стами тысячами человек, не имевших ни насущного хлеба, ни занятия. Много ли, мало ли сделала люксембургская комиссия – важность ее не подлежит сомнению: социальный вопрос сделался государственным. Такие вещи народ не забывает, как ни расстреливай его, ни депортируй. Временное правительство было вынуждено работниками назначить для них комиссию, – это первая церковь, данная христианам в древнем Риме; Луи Блан был первосвященник и проповедник нового храма. Речи Луи Блана раздавались глубоко в сердцах настрадавшихся не только от нужды – но от оскорблений. Слова симпатии и братства слышались ими с высоты той самой трибуны, на которой за несколько дней тому назад кашлял сгорбившийся старик Пакье, бездушный и лукавый представитель отходящего и дряхлого мира. В заседаниях комиссии мало делали дела, но они иногда оканчивались слезами; это были торжественные литургии отроческого социализма, дружеские беседы, значительно действовавшие на развитие работников. Однажды перед окончанием заседания пришел Ламартин, Луи Блан закрыл уже беседу, народ стал расходиться, вдруг крошечный Луи Блан бежит снова на трибуну, шумит, звонит, просит приостановиться, работники останавливаются, Луи Блан говорит им:
– Друзья мои, сейчас товарищ мой, гражданин Ламартин, получил весть, что венский народ одержал победу, Меттерних бежал, революция торжествует; я вас остановил, чтоб поделиться с вами хорошей новостью. Да здравствует всеобщая республика!
Между тем реакция торжествовала; она до того была уверена в победе, что маршал Бюжо предлагал правительству свою трансноненскую шпагу, а Тьер ожидал выборов. Гордясь смешным великодушием, правительство не брало никаких мер против закаленных интригантов и давало им полную волю сбивать с толку избирателей. Я в глубине сердца ненавижу все свирепые меры, тем больше ненавижу, что считаю их за роскошь, за месть. Но в чем же состояла бы свирепость отстранить несколько сот человек, богатых по большей части, от участия в делах, заставить их удалиться из Франции до тех пор, пока новое правительство окрепло бы, пока республика учредилась бы? Люди эти были известны, они известны теперь, это знаменитые satisfaits[194] Камеры депутатов, это бывшие министры, публичные защитники иезуитизма. Я думаю, что эта мера была бы гораздо кротче и гораздо полезнее, нежели каннибальские депортации, продолжающиеся третий месяц. Ледрю-Роллен, который думал, что надобно было отставить всех префектов, оставил в то же время в министерстве внутренних дел Карлье. Шпионы, которых число было весьма значительно при Людовике-Филиппе, имели дерзость предложить свои услуги Временному правительству, ссылаясь, между прочим, на то, что они лишились всех средств существования с 24 февраля, и правительство, вместо того, чтоб депортировать это гнездо разврата, приняло их услуги. Из них и из всяких плутов разных партий составились три тайных полиции. Одна была при префектуре, другая при министре внутренних дел, третья при Маррасте! Суммы потрачены на содержание этих доносчиков, которые были совершенно не нужны, – все делалось открыто, на улице. Шпионы Марраста окружали Косидьера, Ледрю-Роллена и Луи Блана, в то время как Косидьер знал каждое слово Марраста. Вот чем забавлялись децемвиры. В министерстве иностранных дел – то же самое: Ламартин употреблял секретарей Гизо и вверял людям самой подозрительной репутации важные дипломатические поручения.
Вы помните, как весть о провозглашении республики потрясла всю Европу, даже Англия покачнулась на своих средневековых основаниях; народы подняли голову и протягивали руку симпатии республике, Франция естественно становилась главою всемирного движения. Какая разница с республикой, провозглашенной 22 сентября 1792 года! Тогда в Европе едва нашлась небольшая горсть людей, как Кант, Фихте, Форстер, Фокс, симпатизировавших с движением, теперь депутация за депутацией являлась к Временному правительству с речами симпатии и братства. Поляки, итальянцы, немцы, северо-американцы, ирландцы, английские демократы и чартисты наперерыв заявляли свою дружбу и удивление. Это не были праздные речи и пустые слова – вспомните, что происходило тогда в Вене, Берлине, Милане, Риме, в Южной Германии, в Познани и в самой Бельгии. Ни в какую эпоху Империи Франция не имела такого влияния на всю Европу, как в марте и апреле месяце; правительства были деморализованы, сбиты с толку, народы за Францию, испуг был так велик, что прусский король и австрийский император соглашались на демократические уложения и обещали восстановить Польшу. Чтоб разом выразить слабость старой политики 1815 года, стоит вспомнить, что маленький уголок Монако и Невшательский кантон сделали свои революции и никто не думал им мешать!
Как воспользовалась французская республика этим удивительным стечением обстоятельств? – Она дала время пройти страху, ободрила все правительства и убила все европейское движение. Манифест Ламартина был уже довольно слаб и водян; но действия его дипломации были гораздо слабее. Он говорит в манифесте, что Франции нечего искать прощения за революцию, ни упрашивать о признании республики; на деле он именно искал, чтоб европейские государства отпустили Франции грех освобождения. Ламартин столько же боялся коалиции монархов, сколько монархи боялись союза народов. Можно без смеха себе представить человека, который боится другого, но представьте, что они оба друг друга боятся, и вы непременно расхохочетесь.
Старая дипломация европейских дворов была догадливее и хитрее Ламартина, она поняла, с каким республиканским правлением имеет дело. Ей было досадно, что она поддалась мнимому страху, она отомстила народам за свою слабость. Реакция, открытая и дерзкая, началась везде и продолжается во всей красе; чудовищное изобретение осадного положения на целые месяцы нашло подражателей.
Но что же делала демократическая партия, что делали социалисты, какие меры были взяты ими, когда они увидели, в каких искусных руках правительство и на какой гибельной дороге? Нельзя сказать, чтоб демократия показала себя ловкой или искусной, она умеет только мужественно драться, геройски умирать и гордо выносить тюрьму и галеры. Три раза могла демократия победить монархическую республику – и три раза упустила из рук победу.
Мученики времен Людовика-Филиппа, Барбес и Бланки, были главами двух мощных клубов; Собрие, Распайль, Кабэ имели свои клубы, цель у них была общая, но единства, но плана не было. Барбес и Бланки были во вражде; вражда эта, основанная на совершеннейшей противуположности характеров, была раздуваема людьми, находившими выгоды в взаимном отдалении двух корифеев демократии. Барбес и Бланки, возвратившись из Mont S.-Michel, протянули руку Ламартину, тем более что Барбес считал себя обязанным благодарностью – Ламартин упросил Людовика-Филиппа не исполнять смертного приговора, к которому Барбес был осужден в 1840 году[195]. Помощь таких людей была неоцененна для правительства, они приносили совет закаленных демократов, авторитет, основанный на больших заслугах, на героическом мужестве одного и на глубокомысленном и многообъемлющем взгляде другого. Недели через две оба отошли, качая головой; они увидели, что с этими людьми ничего не сделаешь, что они погубят революцию. Барбес, полковник XII легиона, представитель, отходя от правительства, по своему положению оставался с ним в сношениях. К тому же присовокуплялись у него дружеские воспоминания: в правительстве были его прежние товарищи по заговорам. Доверчивый, всегда готовый отдать за республику последнюю каплю крови, он многого не видал; чистый душою, он верил в чистоту других, он надеялся на людей там, где их надобно было презирать.
Не таков был Бланки. Разрывая связи с правительством, он разрывал их окончательно, он никого и прежде не любил из этих слабых людей, теперь он их ненавидел и подозревал. Бланки, человек сосредоточенный, нервный, угрюмый, изнуренный и больной от страшного тюремного заключения, сохранил невероятную энергию духа; Бланки – революционер нашего века, он понял, что поправлять нечего, он понял, что первая задача теперь – разрушать существующее. Одаренный совершенно оригинальным красноречием, он потрясал массы, каждое слово его было обвинение старого мира и вызов на казнь его. Его меньше любили, нежели Барбеса, но слушались больше. Правительство было испугано этим беспощадным человеком; что б оно ни делало, злой и иронический взгляд Бланки был у них перед глазами; и они бледнели. Извести его старались все, Ледрю-Роллен и Косидьер так же, как и другие; с Барбесом они надеялись поладить.
В марте месяце правительство еще не смело и думать об арестациях, оно ограничивалось клеветою. Бланки и клубы напомнили ему 17 марта свою силу, по поводу глупой демонстрации меховых шапок. Они прошлись торжественной прогулкой по главным улицам Парижа в числе ста тысяч человек. Несмотря на величайший порядок и тишину, буржуазия до того была испугана прогулкой и выражением лиц, что опять присмирела на целый месяц и продолжала свою мелкую работу за стеной.
В этот день, в этот месяц можно было наделать чудеса, демократия не умела им воспользоваться. Люди, имеющие возможность прогуливаться колоннами, которые наполняют бульвары, не могли, не должны были допустить той реакции, которая наконец собрала свои силы и победила вполне в июньские дни. Демократия 17 марта ограничилась ободрением правительства; народ обещал поддержать его против козней реакции, но кто же сказал, что правительство боялось реакции, оно именно боялось народа. Ламартин за день перед тем выдал Ледрю-Роллена и косвенно снял с части правительства ответственность за его циркуляры; народ принимал теперь эту солидарность и кричал: «Vive Ledru-Rollin!»[196] – и Ледрю-Роллен не догадался, что ему следовало захватить диктатуру и спасти революцию. Народ пошел по домам, ничего не сделавши, он усилил только Временное правительство, и оно отвечало народу на другой день в «Монитере»: «Правительство, провозглашенное на месте битвы, получило новое утверждение своей власти двумя стами тысячами граждан, которые принесли нам своими рукоплесканиями нравственную силу и царственную санкцию». Поблагодарив таким образом народ, правительство стало приготовляться к новому приему царственного гостя, на этот раз с военной почестью.
Ровно через месяц, 16 апреля, клубы и работники, убежденные теперь, что правительство ничего не хочет делать для народа, что выборы идут скверно, собрались без оружия на Champ de Mars. Вдруг раздался сбор Национальной гвардии по всему Парижу – вооруженные мещане бежали отовсюду, банльё входила во все заставы, в мэриях раздавали боевые патроны, около ста тысяч штыков теснились у Hôtel de Ville и у Люксембургского дворца; люди, не знавшие ничего прежде, с беспокойствием спрашивали, где восстание, где враг. Собрие схватил свое ружье и выбежал на улицу, уверенный, что роялисты сделали какое-нибудь восстание. Эти штыки, эти пули были приготовлены тому самому народу, перед которым преклонялось месяц тому назад Временное правительство. В этот день неосторожный Ледрю-Роллен принял на себя большую ответственность – он приказал бить сбор; Марраст предложил мэрам парижских округов крик «à bas les communistes!»[197] – от того было не далеко до «mort aux communistes!»[198], которое повторялось в рядах хранителей порядка. Под словом «коммунистов» разумели теперь всех республиканцев, не верящих, что республика значит отсутствие Людовика-Филиппа и больше ничего. Если б не добрый и благородный старик Курте, который начальствовал Национальной гвардией, дело не обошлось бы без кровопролития. Хорошо ли это? Трудно сказать. Победа была возможна для народа, войск не было, не было бы и столько жертв, как в июне, а июньские жертвы все же не последние.
Оскорбленные работники требовали у правительства объяснения, правительство путалось, благодарило Национальную гвардию за ее готовность, благодарило работников за то зло, которое они не сделали и которого никто не хотел. Марраст уверял, что вся цель правительства – «окончить эксплуатацию человека человеком», – народ расходился мрачно, недоверие и злоба распространялись, две республики померились; «Oh que l’avenir est menaçant, – писал Пьер Леру к Кабэ, – puisqu’il у a dès aujourd’hui deux républiques en présence!»[199]
Через два дня или три, после 17 апреля, на каком-то смотру Национальной гвардии, генерал Шангарнье, открытый роялист, известный интригант, человек предприимчивый, бездушный, честолюбивый и чрезвычайно завистливый, объявил, что несколько линейных полков готовы вступить в Париж для облегчения Национальной гвардии; это был, так сказать, запрос мещанам, хотят ли они, чтоб войско взошло в Париж. «Vive la ligne!»[200] – прокричали первые легионы (т. е. из богатых и аристократических частей города), и через несколько часов солдаты взошли с барабанным боем в Париж – первые солдаты после 24 февраля. С их вступлением республика находилась под дамокловым мечом, Каваньяк отрезал шнурок, и меч, занесенный Временным правительством, сделал свое дело. Солдаты могут производить возмущения преторианские, янычарские, лейб-гвардейские, но с народной свободой их присутствие несовместно, или они должны перестать быть солдатами. Эмиль Жирарден очень справедливо повторял в «Прессе», что 24 февраля армия побеждена не как армия, а отвергнута как институт (elle a été condamnée comme institution), и тупая «Реформа» восставала против него. Однако ввод войск сильно взволновал граждан; клуб Бланки явился требовать у правительства отчета; Ламартин с своим красноречивым лукавством отвечал, что войска взошло четыре тысячи для того, чтоб примирить граждан-солдат с их братьями. «Мы не думаем, – говорил он, – не думали и никогда не будем думать о том, чтоб противудействовать войсками народу, республика внутри не требует других защитников, кроме вооруженного народа. И что может сделать эта горсть воинов, когда 80 000 человек под начальством Бюжо ничего не сделали?» Это было великое преступление Временного правительства, и Ледрю-Роллен согласился на эту меру и той же рукой, которой подписывал свои бюллетени и циркуляры, подписал смерть революции. Власть развращает или пьянит.
После этих событий правительство удалялось далее и далее от народа, народ чувствовал, что он обманут, и жался около клубов, в клубах было бездна речей, шумных заседаний, предложений – и никакого плана, как остановить реакцию; все предоставлялось случаю, народ был готов. Французам удавались много раз такие неожиданные вспышки, они думали, что и теперь удастся. А между тем выборы гнулись явно на сторону реакции и монархии, комиссаров Временного правительства выгоняли, сажали в тюрьму, лишали возможности действовать, духовенство помогало буржуазии и легитимистам. Работники, потеряв всякую надежду видеть свои интересы представленными, взбунтовались в Лиможе, Руане и Эльбефе. В Лиможе народ одержал верх и дело обошлось без убийств, в Руане победила буржуазия и кровь обагрила улицы древнего города. Теперь через четыре месяца реакция приготовляется судить возмутителей общественной тишины. Положим, что с полицейски-юридической точки зрения народ был неправ, возражая насилием против выборов, но есть другая, высшая справедливость, и она за него; народ чувствовал, что он обманут; не находя другого средства, запутанный формализмом, он восставал, врывался в собрания, бросал в огонь урны. Народ не судебное место, не частное лицо, он не может, кроме Англии, идти легальными путями. В Англии законность равно кует в цепи народ и правительство; правительство в Англии никогда не выступит из законом определенных форм. А был ли пример, чтоб во Франции какое-нибудь правительство остановилось на легальности в политическом вопросе? Все правительства имели здесь свои сентябрьские дни, свои lettres de cachet[201], свои фруктидоризации, и расстрелянный герцог Энгиенский стóит Эбертовой complicité morale[202] и нынешних депортаций. Французские правительства с 9 термидора 1794 г. не верят ни в свою законность, ни в свою прочность, им все мерещится гильотина, и они защищаются чем попало. Что касается до хваленой судебной власти во Франции, до ее независимости – это один из самых вопиющих предрассудков. Судебная власть во Франции служит каждому правительству поочередно для отсылки его врагов в каторжную работу или на плаху.
Сверх этого, легальность не может быть обязательна для целого народа; когда он восстает, он носит в себе живой источник справедливости и законности данной минуты, он идет не по параграфу кодекса, а творит новый закон. Народ протестует баррикадами, как 24 февраля; врывается в Собрание, чтоб заявить свое презрение к представительству, выбранному законно по форме, но не имеющему доверия, как 15 мая. В такие минуты народ сознает себя самодержавным и поступает в силу этого сознания. Нелепые преследования за политические движения, особенно во время выборов, после революции, доказывают одно – что республика ложь, пустое слово. К беспорядкам и нарушениям тишины надобно в республиках привыкать, делать нечего; оно же, в сущности, и не беспорядок и не так страшно, как кажется. В монархиях, казармах и тюрьмах несравненно спокойнее, там всякий шум, всякое нарушение дисциплины считается изменой, оскорблением величества, но в этой тишине одно нехорошо – что человек не может быть уверен в том, что с ним будет через час. В Северо-Американских Штатах выборы почти никогда не обходятся без шума, правительство обыкновенно исчезает в это время, и в этом его высокая честность – здесь нету ни столько такта, ни столько понимания. Монархическое устройство у французов не выбьешь из головы; у них страсть к полиции и к власти; каждый француз в душе полицейский комиссар, он любит фронт и дисциплину; все независимое, индивидуальное его бесит, он равенство понимает только нивелировкой и покоряется произволу полиции – лишь бы только и другие покорялись. Дайте французу галун на шляпу, и он сделается притеснитель, и он начинает теснить простого человека, т. е. человека без галуна; он потребует уважения перед властию. Французы любят террор, оттого они так легко переносят осадное положение. Все это не мешает вспомнить, говоря об ужасах 93 года, для того чтоб национальную вину не ставить на счет лиц.
«Монитер» толковал через два месяца после 24 февраля об cris séditieux[203], об сборищах безоружных людей; правительство никогда и не подумало, отчего же и не кричать человеку что хочется и что как же может народ принимать деятельное участие в общественных делах, если он не будет собираться; клубы, общественные залы, площади – все это кабинеты народа. Да хоть бы они протвердили краткую афинскую и римскую историю.
Между тем в Париж наезжали со всех сторон представители. Народ и республиканцы с негодованием и краснея до ушей смотрели на эти ограниченные лица, на эти скупые глаза проприетеров, на эти черты, искаженные любовью к барышу и к порядку, на жирные носы и узкие лбы провинциалов-стяжателей, шедших теперь перед лицом мира устроивать судьбы Франции, создавать республику, имея критериумом аршин лавочника и разновес эписье[204]. И вы отдали будущность вашей прекрасной Франции им, вы их допустили, вы позволили им – несите же горький плод.
Странная судьба Франции – быть великой в болезни и пошлой в здоровье, быть великой один день и ничтожной на другой день. Конечно, важно и то, что она обладает этой силой стряхивать время от времени с себя грязь, что она не может долго оставаться в покое, что ей необходимо новое, перемена, движение; но тем не меньше ее невыдержка поразительна. Французский народ внезапно восстает; неотразимый и грозный, вступает в отчаянный бой с общественным злом; противустоять ему в эти минуты невозможно, он берет Бастилию, он берет Тюльери, он отражает целую армию – их надобно переждать. По мере того как он одолевает врага, силы его слабеют, ум тускнеет, энергия исчезает, он делается равнодушным к тому, за что проливал кровь. Пока республика и Франция в девяностых годах висела на волоске, пока Европа, Вандея, духовенство, дворянство, федералисты, претенденты, эмигранты, английские гинеи шли войной со всех сторон, снизу, сверху, извне, изнутри, – Париж и Конвент отстояли Францию и республику. Побитый неприятель не успел добежать до своих домов, а уж республика слабела не по дням, а по часам. Десять лет дравшись за свободу, Франция обиделась, что у нее нет сильного правительства, что ее никто не теснит. Уродливая, бездушная конституция сухого Сиэса с казарменными вариациями генерала Бонапарта была принята с восторгом, никто не заметил или не хотел заметить, что конституция VIII года – организованный деспотизм, что правительственная гласность в ней убита, что избирательная система превращена в шалость, что о свободе книгопечатания в ней даже не упомянуто. Нет в мире народа, который сделал бы столько подвигов, который бы пролил столько крови за свободу, как французы, и нет народа, который бы менее понимал ее, менее искал бы осуществить ее на самом деле, на площади, в суде, в своем доме; они довольствуются словами, они издают прокламации там, где надобно изменять быт. Французы – самый абстрактнейший и самый религиозный народ в мире, фанатизм к идее идет у них об руку с неуважением к лицу, с пренебрежением ближнего; у французов все превращается в идол – и горе той личности, которая не поклонится сегодняшнему кумиру. Француз дерется геройски за свободу и не задумываясь тащит вас в тюрьму, если вы не согласны с ним в мнении. Людовик XIV говорил: «L’Etat c’est moi»[205], республика на деле показала, что она правительство считает за государство и тираническое salus populi[206] и инквизиторское, кровавое «pereat mundus et fiat justitia»[207] равно написано в сознании роялистов и демократов. Это происходит, между прочим, оттого, что французы всякую истину возводят в догмат; их считали нерелигиозными, нехристианами оттого, что они ветрены и привыкли к вольтеровскому кощунству, но разве рядом с Вольтером не стоит Руссо, которого каждое слово религиозно, который перевел евангелие с церковно-латинского языка на новофранцузский? Французы нисколько не освободились от религии, читайте Ж. Санд и Пьера Леру, Луи Блана и Мишле, – вы везде встретите христианство и романтизм, переложенные на наши нравы; везде дуализм, абстракция, отвлеченный долг, обязательные добродетели, официальная, риторическая нравственность без соотношения к практической жизни. Посмотрите, с каким ужасом слушают здесь Прудона оттого, что он смело и открыто говорит вещи, сказанные за несколько лет тому назад Фейербахом.
Свобода мысли, слова у французов скорее благородный каприз, а не истинная потребность, и я так же мало отвечаю за свободу книгопечатания, если овладеют властью демократы, как теперь. Их спасает от продолжительного рабства их подвижная натура. Утратив девять десятых приобретенного кровью, они лет через пятнадцать снова строят баррикады, усеивают трупами улицы, удивляют мир геройством для того, чтоб опять потерять завоеванное. Этот отроческий, легкомысленный характер, эта политическая gaminerie французов, полная отваги и благородства, долго нравилась Европе и увлекала ее, нравилась особенно, пока она сама не смела открыть рта, а исподтишка перемигивалась с Парижем; теперь народы повыросли, в Берлине, в Вене были баррикады; народы, поднявшие голову после революции 1830 года, уже громко негодовали на французскую реакцию; они отпрянули с досадой от Франции после 24 февраля, которое так много обещало и так ничего не сделало. Еще подобный взрыв и такое падение, и вы увидите – европейские народы отвернутся от Франции и позволят ей бесплодно резаться сколько угодно, не удостоивая ее ни симпатией, ни участием. Это старая басня волка и мальчика, делавшего напрасную тревогу; возмужалое человечество не позволит себя беспрерывно надувать и станет равнодушно смотреть на страну, которая, как русские крестьяне до Годунова, имеет один день свободы в году и триста шестьдесят четыре дня рабства!
Письмо одиннадцатое
Париж, 1 июня 1849 г.
Наше время, мои друзья, при всей своей тягости, полно глубокого поучения. Последний год довоспитал нас. Мы лучше знаем наш стан, наши силы, мы стали гораздо беднее, но зато ближе к пониманию. Оставаться с нами становится труднее – все слабое, неопределенное, хрупкое торопится отстать. Даже многие из откровенных и преданных людей, – людей, которые всю жизнь работали для революции, жаждали ее, разглядевши теперь, куда она идет, приостановились; иные не покидают нас только от стыда, от привычки; другие составляют особые легионы – в ожидании, пока какой-нибудь Каваньяк их поведет по-своему…
Года за два было дешево либеральничать, стоило толковать о прогрессе, о самодержавии народа, о демократических симпатиях, сидеть в левом центре, пугнуть иногда мещан воспоминанием о Конвенте, травить министров par force[208], невозможными вопросами, и все это – оставаясь не только защитником прав, но и порядка, т. е. существующего.
Все переменилось, и серьезно теперь нельзя быть революционером не только по двум-трем фразам, речам, но и по благородным воспоминаниям о прошлых боях, строивши и защищая баррикады. Ни личная храбрость, ни доблестный нрав не могут сделать человека революционером, если он не революционер в смысле современной эпохи. Революционеры XVIII века были велики и сильны имени потому, что они так хорошо поняли, в чем им следовало быть революционерами, и, однажды понявши, безбоязненно и беспощадно шли своей дорогой. Быть теперь революционерами в смысле Конвента было бы почти то же, что явиться в Конвент гугенотом. В XVIII столетии достаточно было быть республиканцем, чтоб быть революционером, теперь можно очень легко быть республиканцем и отчаянным консерватором. Но социалисту в наше время нельзя не быть революционером.
Никакой нет обязанности быть революционером, но тот, кто поднимает знамя, кто добровольно становится в ряды, тот должен знать, что революция обязывает, что нельзя по капризу идти до того места или до другого.
По счастию, в последнее время революция и консерватизм так раздвинулись, что каким Колоссом Родосским ни будь, но все невозможно стоять разом на обоих берегах – в этом любимом положении людей сильных, как Ламартин. Время политического эклектизма прошло, надобно стоять на том берегу или на этом.
Кто желает сохранить что бы то ни было из оснований христианских, феодальных, римских, у того в душе дремлет консерватизм и реакция; обстоятельства непременно его обойдут. Дело очень просто, революционная идея нашего времени несовместна с европейским государственным устройством; они друг к другу идут так, как английские законы к Японии или бранденбургское право к древней Греции. Чисто политические агитаторы в сущности все-таки ближе к Гизо, нежели к нам.
Все в Европе стремится с необычайной быстротой к коренному перевороту или к коренной гибели; нет точки, на которую бы можно опереться; все горит, как на огне, – предания и теории, религия и наука, новое и старое. В один год Франция износила блестящую мечту политической республики, а Германия все остальные мечтания.
Но где пределы? Кто их провел, начертил? Где оканчивается политическая республика, где начинается социальная?
Политическая республика не окончивается в социальной, а переходит в нее; социальная республика есть исполнение, осуществление политической, они противуположны только в антитетическом смысле, и это не значит смутность понятий, таково все движущееся, живое, развивающееся. Где пределы между растениями и животными, между химизмом и организмом? Разница между розой и медведем страшная, бросается в глаза, а углубитесь в мир зоофитов и криптогамии, и вы увидите, что животное царство смешивается с растительным, что одно переходит в другое едва заметными тропинками… Социализм предполагает республику как необходимо уже пройденный путь; политическая республика, представительная, составляет именно переход от монархии к социализму. Республика имеет идеал, стремление, она не есть действительность пока она ограничивается представительством народного самодержавия. Она может при хороших условиях быть свободнее конституционной монархии – но она не может быть совершенно свободна до тех пор, пока она принимает неизменными основы существующего исторического, общественного устройства. А в ту минуту, в которую она их переступит, она становится социальной – название условное, и присвоенное именно для означения этого перехода.
Обыкновенно думают, что социализм имеет исключительною целью разрешение вопроса о капитале, ренте и заработной плате, т. е. об уничтожении людоедства в его образованных формах. Это не совсем так. Экономические вопросы чрезвычайно важны, но они составляют одну сторону целого воззрения, стремящегося, наравне с уничтожением злоупотреблений собственности, уничтожить на тех же основаниях и все монархическое, религиозное – в суде, в правительстве, во всем общественном устройстве и, всего более, в семье, в частной жизни, около очага, в поведении, в нравственности.
Республика, остающаяся при монархическом устройстве и с монархическими нравами, всегда может сделаться монархией или, еще хуже, попасть под деспотическую власть плута или солдата, под самовластие предательского, но самодержавного Собрания, под гнет проданного министерства и его агентов.
Для того чтоб еще яснее представить, в чем состоит разница истинной, действительной, социальной республики, республики в самом деле, от переходной, представительной, монархической, представим во всей чистоте, в последнем выражении его, идеал общественного устройства, к которому стремится современный человек, и посмотрим, в чем его существенная разница с идеалом монархии, который весь раскрыт и исчерпан историей.
В монархии народ управляется, в республике он управляет своими делами. Тип монархии – отец, пекущийся о детях, хозяин, занимающий своих работников, опекун, защищающий своих питомцев. Тип республики – свободная артель, братья, имеющие общее дело и одинакое участие.
Монархия непременно должна быть основана на священном, неприкосновенном авторитете, этот авторитет идет спускаясь до самого народа, сообщая каждой степени общественной иерархии долю высочайшей власти. Я на лбу каждого квартального вижу след елея, которым помазан его монарх. Монархии необходимы торжественность и блеск; величественная представительность и пурпур так нужны царю, как риза священнику. Царская власть должна на каждом шагу заявлять себя, быть очевидной, встречаться, мешать; она должна беспрестанно напоминать, что лицо несостоятельно против нее, что оно подданное и обязано жертвовать ей лучшей частью своей и, главное, во всем покоряться.
Уничтожение авторитета – начало республики. Первое условие ее – свободные и самобытные люди; авторитет убивает независимость разума. Республике нет нужды в других началах как в необходимых началах всякого общежития; она основана на тех существенных, всеобщих и необходимых условиях, без которых всякое общество делается невозможным. Эти условия не потому обязательны, что люди живут в республике, а потому, что они живут вместе, потому что их разумно нельзя отвергнуть.
Разум действительно обязателен, и логика вовсе не зависит от капризов, и несмотря на это, нет ничего противуположнее авторитету, как логика. Республика, которая требует больше этих неоспоримых, необходимых условий, перестает быть республикой или еще находится в развитии; такая республика должна иметь инициативу в правлении, а не в людях, что именно составляет начало монархии. Оттого в монархиях управление так трудно и сложно, оно представляет не форму для общей деятельности, а самую деятельность; оно заменяет здравый смысл и волю подданных, считаемых за недорослей и дураков. Чем свободнее лицо, община, город, провинция, тем меньше дела государству; три четверти труда, обременяющего ныне правительства, будут делаться сами собой, без всякого участия и ведения центрального управления. Монархическая власть принимает добровольно эту ношу на свои плечи, она этим хранит и упрочивает свою власть над подданными.
Монархия основана на дуализме. Правительство никогда не должно, не может совпасть с народом. Правительство – провидение, священный чин, творящий дух; народ – страдательная масса, послушное стадо доброго пастыря. Монархия по преимуществу теократия, она держится на божественном праве, она всегда поддерживала религию, и религия всегда поддерживала монархию. Без Иеговы, Юпитера – нет царя, земной царь предполагает небесного. И отчего же, в самом деле, людям не повиноваться одному, когда природа, когда вся вселенная повинуется богу?
В монархии, как в религии, не может быть речи о нравственности; повиновение, снимая ответственность, снимает с тем вместе и нравственность; авторитет отрицает человеческое достоинство и самобытность, так, как верование отрицает мышление. В монархии одно лицо государя нравственно, потому что оно одно свободно.
Внутреннее начало республики – совокупность, имманенция, а не дуализм; у нее нет духовных и мирян, высших и низших, над ней ничего нет, ее религия – человек, ее бог – человек, и нету бога разве его. Потому-то она и предполагает человека нравственным, т. е. способным к общежитию. Свободному человеку никто не дает велений, он самодержавен, так, как и все другие самодержавны. Отсутствие высшего порядка, тяготящего авторитетом сильного, властью, – начало человеческой нравственности, ответственности за дела. Нравственность тут становится естественной формой человеческой воли, физиологическим единством между человеческим желанием и наружным миром, обществом. Ей не нужно дерзкого пальца, который указывает дорогу, грозит, унижает. В этом отношении республика похожа на природу. Покорность природы законам часто приводят в пример, забывая, что в природе закон неразделен с исполнением, что она сама – осуществленный закон; закон как отвлечение существует только в человеческом уме.
В природе все независимо и все в соотношении, все само по себе и все соединено; природа вовсе не ищет исполнять законы; напротив, где только может, минует их; о природе можно сказать то, что Прудон сказал об истории: c’est la révolution en permanence[209]. В природе так, как в республике, правительство спрятано, его не видать, правительство – ensemble, его нет отдельно, оно беспрестанно становится и распускается. Идея правительства, отдельного от народа, стоящего выше народа и имеющего призвание вести его, – идея духа, устрояющего грубую материю; это Иегова, это монарх, символ провидения на земле – именно то, против чего борется республика.
Республика – не школа, не символика, ей не нужно представлять себя правительством, так как разуму это не нужно, его существование и действие не представляет его, а заявляет. Мысль переноса своего самодержавия на избранных – мысль монархическая и ложная. Свободный человек не может отделаться от своего самодержавия, как от своего дыхания, ни быть рабом своего голоса. Представительство тоже монархия, но лицемерная. В республике есть поверенные, делегаты, они необходимы по чисто материальным причинам расстояний, занятий и пр. Но совокупность их не может представлять верховной власти, они творят волю пославших, они не выше народа, над головою свободных людей ничего нет; ни даже какого-нибудь окаменелого уложения, охраняемого черными левитами паркета и пестрыми кшатриасами казарм.
Управление в республике – это волостное правление, народная контора, канцелярия общественных дел, регистратура народной воли, полицейский распорядок, исполнение…
Монархия не может существовать без сильной централизации, республике централизация совсем не нужна, республиканское единство основано на общей выгоде, на общем развитии, на соплеменности, на нравах, на крови – а если она не имеет этих оснований, то и нет нужды в искусственном единстве, в неестественной централизации. Случайно соединенные части – могут распасться, взойти в состав иных соединений, более родственных, или остаться самобытными. Все искусственные соединения ни к чему не ведут, они отвечают временным потребностям. Разве Пруссия и Австрия составляют действительно нации, единства?
Нас пугает воля, оттого что мы боимся людей, мы их считаем несравненно хуже, нежели они есть, – к этому нас приучила монархия. Мы спим спокойно, зная, что есть сильное правительство, т. е. такая власть, которая, опираясь на штыки, может нас бросить в тюрьму, расстрелять, сослать, – такая власть, которая должна бы была нас лишить сна и покоя.
Человек по преимуществу «животное общественное», как выразился Аристотель; ему общественность легка. Мы знаем, как у нас крестьяне распоряжаются в общине, как работники ведут свои артели, у них нет никаких дел, доходящих до полиции, оттого что все делается просто, без перьев, протоколов, чиновников, квартальных.
Надобно иметь некоторое доверие к людям и не требовать от них невозможного и вздора, ни натянутых добродетелей, ни неестественного самоотвержения – и они будут и любить и не делать зла. Монархия интересована в отрицании здравого смысла у людей, признание совершеннолетия в народе равняется отречению от престола.
Если вы думаете, что в предшествующем есть доля истины, то я спрашиваю вас, может ли наружная республика удовлетворить внутреннему смыслу ее, не переходя в ту внутреннюю, действительную республику, которую называют социальной?
С месяц тому назад в заседании прудоновского банка были произнесены замечательные слова, тем более замечательные, что их произнес не негодующий юноша, не оскорбленный реакцией француз, а спокойный гражданин Северо-Американских Штатов. «Я гражданин республики, – сказал Брейсбен, – существующей более семидесяти лет при самых блестящих условиях; но я скажу вам откровенно, потому что вам это нужно знать: республика вам не поможет (он говорил работникам). Все, что политическая республика может дать, она дала в Америке, но она бессильна осуществить то общественное состояние, к которому стремится современный человек».
Согласимтесь раз навсегда, что республика – неминуемое начало освобождения народов, это первый шаг, без которого не может быть второго. Как бы монархия ни была хорошо устроена, она теснее ограничивает круг развития; стало быть, когда речь идет о республике, ее никто и не сравнивает с монархией; она над монархией имеет уже то преимущество, что ей присущ элемент движения, перемены и, следственно, надежды. Республика просто приличнее, нежели монархия; власть в ней, оставаясь тиранической, лишается таинственного помазания, лишается опьяняющего характера высшей власти, царского величия, которые притупляют человеческую доблесть, притупляют ум. Оттолкнув всякое сравнение с монархией, как унизительное для республики и для человеческого достоинства, мы однако должны знать, что само по себе слово «республика» чрезвычайно неопределенно и тягуче; говоря «республика», мы еще ничего не сказали, кроме отрицания наследственной власти и признания какого-нибудь участия народа в общественных делах.
Именно такая республика теперь во Франции, она освободила государство от орлеанской династии, но не освободила лицо от государства, она, напротив, оставила лицо слабым и беспомощным перед призраком репрезентации, облеченной в царскую порфиру. Она может сделаться сноснее, оставаясь при том же монархическом принципе; но дойти до «истинного равенства, до свободы», как говорит Брейсбен, не может. Все, что могла дать конституционная республика в разумнейшем развитии своем, все осуществилось по ту сторону океана. Северо-Американские Штаты, что ни толкуют болезненно романтические души, которым все простое и здоровое противно, государство возмужалое, трезвое, умное. Политическая республика, к которой стремился либерализм XVIII столетия, там водворена, права, о которых столько говорили французы, там приобретены. Вы можете быть оскорблены в Северо-Американских Штатах общественным мнением, их образом жизни, но не властью, – там никогда не считали правительственное – святым, там почти нет бюрократии, этого позорного бича, обмакнутого в чернила, которым на днях хвастался спьяну король прусский; там нет шпионства, нет марсомании и бешенства к мундирам, там не понимают, что такое стеснение книгопечатания, и при всем том гражданин Северо-Американских Штатов говорит работникам: «Республика, существующая на тех основаниях, на которых она существует, не имеет средств помочь вам, тут предел, далее которого она не идет».
В XVIII столетии республика была пламенным верованием, религией, ее имя тогда была целая революция. В 92 году республика являлась на горизонте светлою и торжественной вестью освобождения, как некогда царство небесное. Разумеется, ни царство небесное, ни мечтаемая республика не могли осуществиться так, как их ожидали современники, – в самом водворении церкви и ниспровержении трона лежало освобождение людей от доли прошедших уз; но скоро люди наткнулись на предел.
Бабёф, прежде нежели сложил голову на плаху, сказал Франции, что ее революция только начало, l’avant-coureur[210] другого переворота и что этот грядущий переворот дотронется не до форм, а до сущности, до нервной пульпы гражданских обществ. Его не поняли, да и тогда не время было понимать его; развитые силы первым освобождением были еще так велики, что разгул их чуть не разбил всю старую Европу и что двадцать лет беспрерывных войн едва могли привести Францию в русло. С наполеоновской эпохи прошли века – безумие Бабёфа, безумие Сен-Симона и Фурье выросли с своей стороны в религию.
Революция двадцать четвертого февраля была действительно социальная; отсталые люди, люди тупые и злонамеренные свели ее на политическую; она вышла бледною, потому что была ниже обстоятельств, потому что была копией, а не оригиналом. Вот отчего сказания о времени первой революции при двадцатом повторении все так же захватывают душу, отчего в понятии каждого из нас навеки врезались пластические лица, события, слова, взятие Бастилии, ответ Мирабо, 10 августа, Дантон, Робеспьер и все эти гиганты войны и гиганты цивизма. Вспомните рядом с ними эти стертые, бледные, половинчатые, осторожные личности Ламартина и компании, вам сделается смешно. Не думайте, чтоб одно отдаление придало тем их величие; через сто лет члены Временного правительства будут более забыты, нежели второстепенные деятели девяностых годов; в то время как личность Сантера, Эксельмана будет жива для дальнейшего потомства, имена прошлогодних львов революции едва останутся в памяти какого-нибудь компилятора. События бывают велики, когда они совпадают с высшей потребностью своего века; тогда люди приносят на совершение всю силу свою, их деяние до того исчерпывает на ту минуту всю созданную возможность действования, что за пределами его ничего не видать, что душа удовлетворена. Апостолы и якобинцы веровали, что они спасают мир, что их спасение есть единое возможное, и оттого действительно спасли его. Разумеется, с абсолютной точки зрения они не были правы, они увлекались, ошибались в размере делаемого, но это увлечение и эти ошибки находятся во всем гениальном и великом. Для того чтоб быть деятелем в истории, скорее надобно несколько мономании, сумасшествия, нежели холодного беспристрастия; люди, захватившие власть после 24 февраля, конечно, не были сумасшедшие, они заслуживают премию за умеренность и благоразумие, но за это не дается лавровых венков, а много-много – Владимир в петлицу<.>
Провозглашение республики было необходимо. Социализм предполагал, ставил, требовал республику как необходимую гражданскую ступень и шел далее в критике, в отрицании существующего и в доверии к будущему, к человеку, к жизни; его протест было пророчество. Обвинение, что социализм не выработал своего воззрения, не развил своих учений, а принялся их осуществлять, школьно и пусто; общественные перевороты никогда не бывают готовы перед борьбою; готово бывает отрицание старого; борьба – действительное рождение на свет общественных идей, она их делает живыми из абстракции, учреждениями из теоретических мыслей; готовы и выработаны являются утопии – Платонова республика, Атлантида Томаса Моруса, царство небесное, весь божия христиан. Церковь вовсе не была готова в евангелии, а развилась временем, борьбою, соборами. Пока социализм был теоретическою мыслию, он делал окончательные построения (фаланстер), выдумывал формы и костюмы; как скоро он стал осуществляться, сен-симонизм и фурьеризм исчезли и явился социализм коммунизма, т. е. борьбы насмерть, социализм Прудона, который сам недавно сказал, что у него не система, а критика и негация.
Зачем, говорят люди очень добросовестные, зачем социализм усложнил вопрос? Надобно было дать время упрочиться республике, а потом начать пропаганду социализма, – он многих испугал, отстращал от республики; с другой стороны, работники не хотят драться просто за республику. Можно быть очень добросовестным человеком и плохим историком, еще худшим психологом. – У человечества другая экономия, нежели у кухарок, оно починает все круги сыра разом, а не ждет, чтоб первый был съеден, оно порет со всех концов. Когда является в сознании новая, великая мысль и поражает сильнейшие разумения своего времени, ее остановить или задержать невозможно; массы как будто предчувствуют ее; каждое слово, которое в другое время прошло бы незамеченным, беспокоит, волнует; и кто же, в самом деле, может сказать людям, как Гамлет говорил себе: «Сердце, погоди, не бейся – я выжду, что скажет Горацио»? Разве мысль не такой же факт, как все другие факты? Разве она не имеет своего необходимого рождения и развития непреложного, неотвратимого? Социализм должен был поднять свое знамя при первом клике республики и заявить свое существование; обманутый два раза Временным правительством, обманутый Собранием, он потребовал сначала словом, потом баррикадами исполнение обещанного. Ему отвечали четырехдневной канонадой; он был побежден – и посмотрите, республика не может держаться, сохранение такой республики не имеет больше интереса для народа. Да и республика эта сама по себе не имеет мысли – или укажите ее в конституции 48 г., в заседаниях Собрания, в журналах несоциальных?.. Я ничего в мире не знаю жалче положения «Реформы» –
и ей нечего сказать… Там где-то борьба, великие сомнения, работа будущего, а тут, в Камере, правительстве, в журналах жуют себе жвачку, пережевывая ее в сотый раз, – Прудон, Пьер Леру, Консидеран не идут в пример, потому что их не слушают, они иностранцы в Собрании, их слова вызывают только вопль негодования.
«Да республика организовала бы свободу»… Что такое свобода, господа Горы? – Не та ли это свобода, которая, по предложению Паскаля Дюпра, отдала Париж в осадное положение? Нет, время либеральной партии и политических республиканцев прошло, им нечего сказать, им нечего делать, их республика оттого и не стоит, что не может стоять, она обойдена, народу до нее нет дела.
Работник, отчаянно дравшийся 24 февраля, ждал не того. Это было своего рода journée des dupes[211]. Как только хмель торжества прошел, все проснулись удивленные, испуганные; люди, не хотевшие ронять трон, вспомнили, что они его уронили; люди, хотевшие политической республики, вспомнили, что они лепетали всенародно о социализме; красные республиканцы бесились, что выпустили из рук власть, что допустили правительство слабое и ретроградное; работники оплакивали свое знамя – оскорбленное Ламартином для удовольствия мещан. Словом, никто не видел исполнения своей мысли, никто не был доволен, одни с досадой вспоминали, что наделали, другие с ужасом, на чем остановились. Смешение понятий росло и дошло наконец до того, что в июньские дни враги нападали друг на друга с ожесточенной злобой и при крике «Vive la République!»[212] с обеих сторон, – это было страшным доказательством, что слово «республика» не могло удовлетворять новой борьбе, что борьба и вопрос перешли за пределы этого слова.
Это следовало понять прежде кровавых событий Временному правительству, но, лишенное инициативы и энергии, оно было похоже не на диктатора, а на целомудренного человека, который нашел корону и держит ее в руках, спрашивая каждого встречного, не он ли обронил ее и не имеет ли он надлежащие документы, чтоб взять ее назад. Это было честно, но очень глупо. Два месяца реакция не верила своим глазам, люди биржи и интриг были побеждены наивностью Ламартина, они не могли понять, как можно, имея такую власть, никуда не употребить ее. Когда же они убедились, что власть эта только и употребляется на удержание источника, который ее питал, тогда, заглушая внутренний хохот, они прокричали 4 марта свое «Vive la République!» Люди положительные, они поняли, что хлопотать о той или другой династии не стоит труда и что с такой республикой первенство буржуазии не погибло.
Письмо двенадцатое
Sei Repubblica tu, Gallica greggia…[213]
Alfieri (Misogallo).
Ницца, 10 июля 1850 г.
Наконец я опять в Ницце, – в Ницце теплой, благоуханной, тихой и теперь совершенно пустой. Два года с половиной тому назад я едва обратил внимание на нее. Тогда я еще искал людей, большие центры движения, деятельности, многое было мне ново, многое занимало. Полный негодования, я еще примирялся; полный сомнений, я находил еще надежды в моей груди и торопился оставить маленький городок, едва бросив рассеянный взгляд на его красивые окрестности. Торжественный гул итальянского пробуждения пробегал тогда по всему полуострову – я рвался в Рим.
Это было в конце 1847 г. …а теперь я прихожу в Ниццу с потупленной головой «голубя-путешественника», прося одного покоя в ее безмятежной пустоте, удаляясь от трескучей деятельности больших городов, так же ни к чему не ведущей на Западе, как беспечная праздность на Востоке.
Долго думая, куда укрыться, где найти отдых, я избрал Ниццу не только за ее кроткий воздух, за ее море – а за то, что она не имеет никакого значения – ни политического, ни ученого, ни даже художественного. Мне менее не хотелось ехать в Ниццу, нежели всюду, и я доволен ею. Это мирная обитель, в которую я отхожу от мира сего, пока мы не нужны друг другу. Счастливый ему путь. Он довольно меня мучил, я не сержусь на него, он не виноват, но не имею больше ни сил, ни охоты делить его свирепые игры, его пошлый отдых.
Это вовсе не значит, что я совсем посхимился, дал обет, заклятие, – я вышел из тех лет, да и род человеческий вышел из них, когда такие шутки были в ходу, я не считаю себя в праве кабалить мое будущее… Нет, я поступил гораздо проще, я отошел в сторону от непогоды и долгого ненастья, не видя средств остановить его.
И было от чего уйти в лес, без распоряжений Бароша и Карлье. Когда я подумаю, что за жизнь влачил я в Париже в последнее время, мной овладевает тоскливое беспокойство и страх. Я вспоминаю об ней, как об недавней хирургической операции, и мне кажется, что снова чувствую приближение кривых ножниц и зонда к наболевшему месту. С утра до ночи все стороны души были оскорбляемы, грубо, нагло, дерзко. Один взгляд на журналы и прения в Собрании отравляли целый день.
Нет, это не роялизм и не консерватизм довел этих людей до такого растления всякого нравственного чувства, всякого человеческого достоинства. Совсем напротив, эти люди довели роялизм и консерватизм до такого бесстыдного цинизма. Роялизм – своего рода общественная религия, он не исключает ни доблести, ни благородства; его вина в ограниченности и несовременности; консерватизм – политическая теория, старческий образ мыслей, но далеко не лишенный чувства стыда, чести. Ни Стаффорд, ни Малерб, ни английские тори нисколько не были похожи на нынешних орлеанистов и елисейцев. Депутаты, литераторы, журналисты «великой партии порядка» так перемешались с грязными орудиями власти, которых нельзя уже оскорбить не только словом, но и рукой, что не знаешь ни разу, имеешь ли дело с человеком или с шпионом.
Большинство Камеры и консервативные журналы – верные органы не роялизма, а того поколения французов, которое, родившись под казарменным гнетом Империи, вполне расцвело под зонтиком короля-гражданина. Оно не верит в христианство, оно не верит в королевскую власть, но оно знает опасность свободы, но оно хочет наслаждаться – хоть одно десятилетие еще. И вот отчего журналисты порядка представляют доносчиков ангелами, хранящими порядок и спасающими общество. И вот отчего один из опричников порядка наивно защищался в своей брошюре тем, что он ходил на революционеров, как на охоту, и брал хитростью, где нельзя было взять силой; а рецензент, воспевший его, уговаривает схватить вилы и серпы и избивать социалистов по домам и полям. В то же время орган более порядочный, «Journal des Débats», умиляется пред самоотверженной службой доблестного корпуса жандармов, a «Assemblée Nationale» называет императора Николая – Агамемноном и страстно зовет его идти на Европу.
Защитники порядка с какой-то болезненной горячностью напрашиваются на самый грубый деспотизм, лишь бы власть обеспечила неприкосновенность стяжания. Они из-за этого протянули руку всем правительствам, ненавидящим Францию; они из-за этого отдали детей своих на воспитание иезуитам, которых сами терпеть не могут; они из-за этого дошли до того героизма подлости, что хвастаются публично доносами – так, как их публичные сестры хвастаются своим развратом.
Образованность не обязывает французских консерваторов ни к чему; с этой стороны они совершенно свободны; при своих риторических, учтиво стереотипных и чувствительно моральных фразах они свирепы, безжалостны и безраскаянны. Французы вообще любят теснить. Вы знаете, как они в прошлом веке «освобождали» Италию и какую ненависть возбудили в Испании, – но это ничего перед тем, каковы они дома в междоусобии; тут они делаются кровожадными зверями, мясниками Варфоломеевской ночи, сентябрьских дней, июньскими застрельщиками.
Я с ужасом, смешанным с любопытством, с тем любопытством, с которым мы смотрим, как кормят гиену или как boa constrictor[214] глотает живых кроликов, следил за прениями о депортации.
Не думайте, что я хочу говорить о нелепости осуждать людей на вечную тюрьму за поступки, сделанные через несколько дней после переворота, когда умы еще волнуются, а учреждения не установились, – нет. Я знаю, как враги судят и осуждают своих врагов, – чего тут ожидать лучшего? Но колоссально то, что Собрание, состоящее из семисот человек, возвращается через два года в казематы, в которых гибнут их противники, для того, чтоб удесятерить наказание.
Прежде всего надобно знать, что такое французские тюрьмы. Одно позволение видаться с другими арестантами и вместе гулять делает их сноснее Шпильберга, Шпандау или Бобруйска. В центральной тюрьме Клерво люди мерли с голоду, в Мон-Сен-Мишеле, в Дулансе, в Бель-Иле бросают за вздорные провинности заключенных с связанными руками в конуру без окон; знаменитый Бланки был однажды избит в тюрьме. Шильонская темница, построенная савойскими герцогами в средних веках, покажется танцевальной залой перед château d’If[215] возле Марселя, где содержались июньские инсургенты. Но если французские тюрьмы стоят Шпильберга, то Нука-Ива далеко превосходит Сибирь. В Сибири климат свирепый – но не убийственный, ссылаемые на поселение (на депортацию), а не на каторжную работу не принуждены к поурочному труду, как в французских пенитенциарных колониях в Алжире.
Но министрам и представителям было мало Нука-Ивы, они выдумали на этом болотистом острове, обожженном тропическим солнцем, покрытом тучами москитов, построить экваториальную Бастилию. И это не все, они хотели подвести всех прежде осужденных под этот закон, вопреки здравому смыслу и начальным понятиям уголовного права.
Когда остаток совести Одилона Барро восстал против этой неслыханной нелепости, когда раскаяние за июньскую кровь вызвало Ламорисьера на трибуну, чтоб предложить укрепленное место вместо тюрьмы, тогда надобно было видеть этих ирокезов порядка, этих каннибалов религии, этих шакалов добродетели и семейной жизни. Звериные звуки злобы вырывались из груди этих бесчувственных стариков, этих бездушных адвокатов – во время собирания голосов. Потерявши два пункта, они с бешенством схватились за третий – и отстояли его. Семьи не имеют права идти в депортацию, осужденный должен просить как милости об этом; министр имеет право отказать. «У политических преступников, у врагов общества – нет семьи», – сказал один из ораторов.
Как язык человеческий нашел столько силы, чтоб всенародно сказать это, как бесстыдство могло воспитаться до этой поэзии бездушия в стране, где последовательно в полстолетия все партии перебывали в тюрьме, – это тайна французского воспитания…
И все это делается для защиты общества, религии, семьи.
Хорошо должно быть общество, защищаемое такими средствами. Общество, защищаемое Тьером; религия, защищаемая – Тьером; семейство, защищаемое – Тьером!
Thierus salvator mundi, redemptor usuriae et defensor proprietatis – ora pro nobis![216]
Бедный Иисус Христос, до чего тебе пришлось дожить – Тьер стал твоим однокорытником!
А впрочем, Тьер – полнейший представитель современного большинства, дерзкого на вид и смиренного на деле, которое, остря и помирая со смеху, ссылает на поселение, сажает на цепь, которое имеет одного бога – капитал и не имеет богов разве его. Кто лучше может представлять французскую партию порядка, как не Тьер – остряк, седой gamin, шалун, болтун, либерал, облитый лионской кровью, вольнодум, продиктовавший сентябрьские законы? Самая наружность Тьера, малорослого старичишки, с кругленьким брюшком, на тоненьких ножках, с видом плута-дворецкого, Фигаро, типически выражает буржуазную Францию.
Скорее отлейте его статую – статую в очках и в полуфраке – и поставьте ее на июльскую колонну, пусть она переглядывается с своим императором на Вандомской колонне. Наполеон и Тьер – героическая эпоха восходящего мещанства и эпоха ее тучного преуспеяния!
…«Все это печально, дурно, – говорили мне демократы, страдающие хронической надеждой и застарелым оптимизмом, – но не надобно временную остановку принимать за более важное, нежели она есть. Наша победа близка, безумцы хотят коснуться до всеобщей подачи голосов… за свой голос народ встанет, как один человек».
Отняли всеобщую подачу голосов – ни один человек не двинулся, народ остался в том «торжественном и величавом покое», о котором ему так натолковали и в котором остается человек, когда его ограбят, довольный, что не изуродовали. Странная борьба, всякий раз один и тот же побит, и мы знаем о его существовании только потому, что он кричит от боли; это не борьба, а победа. Но чающие воскресения мертвых демократы не унывают. «Это-то и прекрасно, – говорят они, – теперь-то правительство и сломит себе шею». Разумеется, правительство когда-нибудь упадет, все имеет конец, особенно во Франции… Да вы-то во всем этом что? Народ не за правительство, – зачем клепать на него, – да и не за вас.
Народ не с вами, потому что в вашей свободе он не находит своей, потому что ваша борьба – борьба двух правительственных форм – не его борьба… Вы воображаете, что приобрели дело, когда произнесли слово, а народу дела нет до слов; народ не с вами, наконец, потому, что вы должны быть с ним. Вы должны изучить его стремления, его желания, а не он давать свою кровь на ваши теоретические попытки, на ваш курс экспериментальной революции. Вы видите, что прежней дорогой идти нельзя… Если же вы не хотите новых путей, если же не можете переродиться, то сознайтесь откровенно, что вы – прошедшее, и доживайте спокойно ваш век как историческая редкость, как образчик иного времени, не усиливаясь ходить и мутить мир после смерти, как легитимисты, иезуиты, пиетисты.
Они называли это озлоблением, отчаянием, они находили доблестным выдерживать свою роль и пытаться ставить на своем, хотя явным образом не было места, где ставить…
…Трудно издали вообразить себе, что делается в Париже. Никаких гарантий, этих бедных, небольших гарантий, данных притеснительным code civil[217], не существует более. Террор, сальный, скрывающийся за углом, подслушивающий за дверью, тяготит каким-то чадным туманом надо всем. Всякий мерзавец, который донесет на вас какую-нибудь политическую небылицу, может быть уверен, что на другой день полицейский комисcap с двумя шпионами явится к вам осматривать бумаги. Семейные тайны, дружеские сообщения – все перерыто рукою лакеев светской инквизиции, половина унесена и никогда не возвратится к вам. Люди, имеющие или имевшие политическое значение, не спят дома, прячут бумаги, запасаются визированными пассами. Все боятся дворников, комиссионеров, трех четвертей знакомых; письма приходят подпечатанные, на углах улиц постоянно бродят подозрительные фигуры в сюртуках не по мерке, в потертых шляпах, с подло военным видом и с палкой в руке. Они провожают глазами прохожих и передают их своим партнерам.
Вечером шайки шпионов отправляются на ловлю запрещенных для продажи журналов, они всякими обманами выманивают какой-нибудь нумер «Evénement», городовые сержанты, спрятанные в засаде, бросаются тогда на бедную лавчонку или стол, единственное достояние какой-нибудь старухи, пропитывающей семью. Сержанты хватают старуху, старуха плачет, ее толкают, ругают и ведут к префекту вместе с каким-нибудь обтерханным мальчиком 8 лет, который до вечера не ел и продал тайком «Эстафету». Прохожие видят и идут своей дорогой, не смея поднять голоса, – будто в Петербурге или в Варшаве.
В тиранстве без тирана есть что-то еще отвратительнейшее, нежели в царской власти. Там знаешь, кого ненавидеть, а тут – анонимное общество политических шулеров и биржевых торгашей, опертое на общественный разврат, на сочувствие мещан, опертое на полицейских пиратов и на армейских кондотьеров, душит без увлеченья, гнетет без веры, из-за денег, из страха – и остается неуловимым, анонимным. У этой Вест-Галльской компании есть комиссар центральной полиции, получивший шесть миллионов голосов в память того, что его дядя теснил лет шестнадцать тот же народ и усеял поля всей Европы французскими трупами, для того чтоб сделать возможным возвращение Бурбонов!
Кто он такое сам? – Сколько я ни смотрел на его заспанное лицо, на его колоссальный нос, на его мутные, пухлые глазки, на опустившиеся черты… я только мог высмотреть отрицательные качества, но поэтому-то он и будет велик, поэтому-то он и современен.
Действительно, нашему веку принадлежит честь производить таких пресных, бесхарактерных, бесплодных, стертых людей, как Пий IX, король прусский, Людовик-Наполеон и их doyen d’âge[218], отставной австрийский император.
…На самой границе Франции еще раз мне припомнились все черные стороны ее.
Случайно взял я на железной дороге из Авиньона в Марсель книгу одного из сопутников и, прочитавши страниц двадцать, остановился. Я не нервная женщина, вообще довольно читал и видел, чтоб вперед знать, что нет зверства, что нет злодейства, на которое люди не были бы способны. Но, без преувеличения, без фраз, я положил книгу от внутреннего волнения. Это была какая-то новая история о «белом ужасе» (terreur blanche) в 1815.
В Марселе роялисты вырезали, избили всех мамелюков с их женами и детьми. В другом месте католики напали на протестантов, выходящих из церквей, часть их перебили и, раздевши донага, таскали их дочерей голых по улицам… И все это делалось под покровительством центральных комитетов, имевших сношения с графом Артуа и получавших свои приказания из марсанского павильона.
«Но разве якобинцы лучше поступали в департаментах?» – Нет, не лучше. Но это не только не утешительно, а напротив, это-то и приводит в отчаяние, тут-то и лежит неотразимое доказательство кровожадности французов. С которой бы стороны победа ни была, «оставьте всякую надежду», они безжалостны и не великодушны, они рукоплещут каждому успеху, каждой кровавой мере, они всякий раз идут далее самого правительства.
Марсель – один из самых противных, прозаических городов на юге. Летом, если мистраль не сшибает с ног и не душит пылью, жар нестерпимый, гнилое испарение поднимается от стоячей воды канала. Мне хотелось как можно скорее уехать, особенно после прочтенной главы… Мне все казалось, что я встречаю на улицах актеров гнусных сцен – вот этот нищий, старик с диким лицом, непременно ходил из дома в дом убивать бонапартистов; вот этот портной, кривой, нечистый и с узким лбом, верно, резал мамелюков или, может, примется во имя Порядка, Семьи и Религии резать con amore[220] социалистов.
Когда я переехал Варский мост и пиэмонтский карабинер принялся записывать мой пасс, мне стало легче на душе. Я стыжусь, краснею за Францию и за себя, но признаюсь – я свободнее вздохнул, так, как во время оно вздохнул, переезжая русскую границу. Наконец я вышел из этой среды нравственной пытки, постоянного раздражения, бешенства, негодования. По эту сторону я буду чужой всем, я не знаю и не делю их интересов, мне дела до них нет и им до меня. Здесь я могу быть отрицательно независимым, здесь я могу отдохнуть… до тех пор пока святая Германдада всемирной полиции не начнет и в Пиэмонте свой крестовый поход.
Карабинер отдал мне пасс, я взглянул на визу
– «Visto da R. carab. al Ponte Varole il 23 giugno»[221].
И так я оставил Францию в страшную годовщину 23 июня.
Я посмотрел на часы – три четверти пятого. Два года тому назад в этот час приготовлялась великая, роковая борьба. Я стоял под дождем, прислонясь к дому и смотрел на окончивавшуюся огромную баррикаду на Place Maubert – сердце билось страшно, и я думал – to be, or not to be[222]…
Not to be[223] – решила судьба. Революция была побеждена. Авторитет восторжествовал над свободой; вопрос, потрясавший Европу с 1789 года, разрешился отрицательно. Стыд взятия Бастилии смыт канонадой на ее месте, и на этот раз взято предместье св. Антония. После июньских дней оставалось делать частные усмирения, воспользоваться победой, смело проложить ее последствия. Главное было сделано, монархическая республика защитила монархический принцип и смешала все понятия.
Революция была побеждена не в Вене, не в Берлине, а в Париже; не Англией и Россией, не эмигрантами и Бурбонами, а республиканцами во имя порядка – какого порядка? – того «варшавского порядка», который стремилась завести правительственная редакция «Насионаля», – того, который окончился избранием Людовика-Наполеона, взятием Рима, осадным положением, уничтожением всех свобод и всех прав. – Итак, да здравствует порядок! Июньская кровь – новое помазание всем монархам, всем властям!..
С бомбардирования парижских улиц, с обмана инсургентов предместья св. Антония, с расстреливания гуртом, с депортаций без суда не только начинается победоносная эра порядка, но и определяется весь характер предсмертной болезни дряхлой Европы. Она умрет рабством, застоем, византийской болезнью… она умерла бы и свободой, но оказалась недостойной этого. Донской казак в свое время придет разбудить этих Палеологов и Порфирогенитов – если их не разбудит трубный глас последнего суда – суда народной Немезиды, который будет над ним держать социализм мести – коммунизм – и на который апелляцию не найдешь ни у Тьера, ни у Марраста – да вряд тогда найдешь ли самих Марраста и Тьера. Коммунизм близок душе французского народа, так глубоко чувствующего великую неправду общественного быта и так мало уважающего личность человека.
После июньских дней ни разу луч близкой надежды не проникал в мою грудь. Сколько мне приходилось спорить с друзьями! Они не хотели видеть, что произошло, они требовали, чтоб я делил их упования. Я готов был делить с ними опасности, гонения, готов был даже погибнуть – не столько из мужества и самоотвержения, сколько от скуки и по пословице «на людях и смерть красна»; но добровольно заблуждаться, но остановиться перед истиной и отвернуться от нее, потому что она безобразна, – я не мог.
И где те, с которыми я спорил? – Все рассеяны, все гонимы; кто не в тюрьме, тот давно переплыл океан, другой удалился в Каир, третий спрятался в Швейцарии, четвертый скитается в Лондоне… Кто же был прав?
…Но довольно! Перед моим окном стелется Средиземное море, я стою на святом итальянском берегу. Мирно вхожу я в эту гавань и начерчу на пороге своего дома древний пентаграмм в отженение всякого духа тревоги и людского безумия…
Письмо тринадцатое
Ницца, 1 июня 1851 г.
Я исполнил свое намерение и прожил в моей пустыне год целый, не только не писавши длинных посланий, но и не читая писанных другими. Смиренно сидел я у Средиземного моря и ждал погоды, но не дождался ничего хорошего – все стало еще хуже, суровый мистраль дует и сильнее и холоднее. Напрасно радовался я моему тихому удаленью, напрасно чертил я пентаграмм, я не нашел желанного мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищают от нечистых духов; от нечистых людей не спасет никакой многоугольник – разве только квадрат селюлярной тюрьмы.
Скучное, тяжелое время и чрезвычайно пустое, утомительная дорога между станцией 1848 года и станцией 1852 – нового ничего, разве какое личное несчастие доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыпется, шина лопнет…
Впрочем, до июня месяца 1851 г. дотащились – и то хорошо. Ну, друзья, ну! шаг за шагом, дорога больно глиниста, песчана – да ведь делать нечего, не остаться же ночевать, – чтоб сократить ее, давайте снова перебирать старое.
Хотя перебирать его не легко.
Трудно говорить откровенно в наше время, и это вовсе независимо от полицейских преследований, а от того, что большинство людей, стоявших с нами на одном берегу, расходится более и более; мы идем, они не двигаются и становятся все раздражительнее от лет, от несчастий и составляют демократическое православие.
У них учреждена своя радикальная инквизиция, свой ценс для идей; идеи и мысли, удовлетворяющие их требованиям, имеют права гражданства и гласности, другие объявляются еретическими и лишены голоса; это пролетарии нравственного мира, они должны молчать или брать свое место грудью, восстанием. Против бунтующих идей является демократическая цензура, несравненно более опасная, нежели всякая другая, потому что не имеет ни полиции, ни подтасованных присяжных, ни судей в маскарадных беретах, ни попов в маскарадных митрах, ни тюрем, ни штрафов. Цензура реакции насильственно вырывает книгу из рук, и книгу все уважают; она преследует автора, запирает типографию, ломает станки, и гонимое слово переходит в верование. Цензура демократическая губит нравственно, обвинения ее раздаются не из съезжей, не из прокурорского рта, а из дали ссылки, изгнания, из мрака заточения; приговор, писанный рукой, на которой виден след цепи, отзывается глубоко в сердцах, что вовсе не мешает ему быть несправедливым.
У наших староверов образовалось свое обязывающее предание, идущее с 1789 г., своя связующая религия, – религия исключительная, притеснительная. Они хранят ее в изгнании, несмотря на преследования и гонения, – это прекрасно, но мало способствует к развитию. Несчастие останавливает, верность былому мешает настоящему; гонимое предание, с своим терновым венком на голове, ограничивает сердце, мысль, волю.
Демократы-формалисты, точно Бурбоны, ничему не научились в бедственную годину, начавшуюся на другой день после февральской революции. Оттого они так упорны в своих мнениях, не могут надивиться, откуда произошли все их неудачи, и добродушно объясняют их частными ошибками, изменами. Воротись они завтра из тюрем и ссылок в правительство, они будут продолжать свою невозможную несоциальную республику, так, как эмигранты после 1815 г. продолжали свою невозможную монархию-рококо.
Все то, что останавливается и оборачивается назад, каменеет, как жена Лота, и покидается на дороге. История принадлежит постоянно одной партии – партии движения. Революционный консерватизм дошел в последнее время до того, что хранительное начало в нем перевешивает революционное, и как ни парадоксально это покажется, а разрушение старых общественных форм идет вперед благодаря реакционерам и действительным консерваторам.
Видя грозящую опасность, реакционеры вышли за пределы, поставленные законами, и укрепились вне падающих стен собственной крепости – подтверждая тем самым и ускоряя близость их падения; а наши староверы из этих-то стен, готовых рухнуться, и собираются построить свою республику.
Вот почему брошюра Ромье гораздо революционнее прокламаций Центрального комитета.
Брошюра Ромье – крик ужаса, раздавшийся у гуляки, невзначай увидавшего в окно столовой, где он так привольно пировал с Вероном, – красный призрак;увидав Медузу в фригийской шапке, ему показалось, что своды треснули, что столбы закачались, из-за трещин ему мерещился огонь от поджога, головы на пиках, люди с топорами с заскорузлыми руками, и он, дрожа всем телом, стал звать на помощь.
«Забудьте, – кричал он ломая руки, – забудьте формальности легистов, право ваше всегда было пустое слово, а особенно теперь, когда надобно спасаться и спасать свое последнее достояние. Бейте на улицах, режьте по домам, зовите на помощь русские пушки, венчайте цезарем того сержанта, который своим тесаком убьет последнего социалиста» – «ваши теперешние средства остановить катаклизм смешны (депортация, расстреливание, тюрьма, гильотина!..), они напоминают тех двух жандармов, поставленных начальством во время разлива Луары с приказом ездить шагом взад и вперед по берегу и подаваться назад, по мере того как вода будет понимать луга. То ли надобно теперь… давайте боевые патроны – и грудью вперед, у победителя не спросят о правах!»
Народные массы, вечно реальные по инстинкту, а может, и потому, что они-то и составляют реальность, не слушают староверов. Они смотрят им через голову. Как, где научился народ, трудно сказать – только не из книг, народ мало читает. Он не прочь иной раз послушать демократические речи на банкете, так, как прежде любил слушать проповедников; он даже соглашается с теми и с другими от непривычки к слову и увлекаясь фразой, но на его жизнь, на поведение это не имеет никакого влияния.
Народ, как женщины, понимает вещи особым процессом и особенно развитым тактом; до чего мы дорабатываемся длинным теоретическим трудом, то он схватывает вдруг целиком и, повидимому, даром. Новая истина, поражающая его, если он ее поймет, переходит не в рассуждение, а в непосредственное действие, его понимание больше страстное и художественное, нежели логическое. Долго дремлет народ, тупо следуя обычаю отцов, привычке, повторяя принятое предшествовавшими поколениями, – он склоняется перед духовной и светской властью, не разбирая ее; он ее принимает за роковой факт, за неотвратимую и не подвластную ему силу, так, как принимает природу и ее явления. У него мало досуга на отвлеченную работу, он работает беспрерывно руками для завоевания материальных условий жизни. Иногда душу его волнуют темные стремления и неопределенная тоска, он чует возможность лучшей жизни и гнетущую несправедливость, но поколения идут за поколениями, и он все остается при неясной тоске, при одном стремлении, он ничего не делает повидимому, но грудь его разъедена и готова. Одно слово, одно событие, и он рвет, как Самсон, свои путы; ринувшись вперед, он становится в уровень революционному вопросу своего времени.
Массы французского народа ничего не знали о политике перед 1789 г., но они давно были недовольны; пробужденные парижским набатом, они стали революционными, особенно в городах, они взяли Бастилию, а потом Тюльери, а потом Лион, а потом всю Европу и, побежденные, в свою очередь вовсе не усмирились. Каждое поколение имело свой юбилейный день революции, 30 июля 1830, 24 февраля 1848 года.
Но с июньских дней народ расстается с революционерами именно потому, что остается верен революции. Призрачный мир политики и внешних перестроек тюрьмы вдруг исчез для него и утратил весь интерес свой. Людовик-Наполеон мог десять раз провозгласить себя императором, легитимисты могли выписать своего Шамбора, орлеанисты – короновать графа Парижского, народ не сказал бы ни слова. Трусость династов помешала им успеть. А давно ли этот самый парижский народ бежал за ружьем, оскорбленный приказами Полиньяка, запрещавшими печатать книги, которых он никогда бы не прочел, приказами Дюшателя, запрещавшими банкет, на который его никто не звал, и армии бледнели перед ним и короли бежали? А теперь он сидит и не двигаясь смотрит на гнусности, которыми явно подкапывают все приобретенные им права. Он дал свои три месяца голода, его обманули, он не верит больше в тех, которые оставили его в день его восстания.
Но революция не остановилась. Вместо неосторожных попыток и заговоров работник думает крепкую думу и ищет связи не с цеховыми революционерами, не с редакторами журналов, – а с крестьянами. С тех пор как грубая рука полиции заперла клубы и электоральные собрания, трибуна работников перенеслась в деревни. Эта пропаганда неуловима и глубже захватывает, нежели клубная болтовня.
В груди крестьянина собирается тяжелая буря. Он ничего не знает ни о тексте конституции, ни о разделении властей, но он мрачно посматривает на богатого собственника, на нотариуса, на ростовщика; но он видит, что, сколько ни работай, барыш идет в другие руки, – и слушает работника. Когда он его дослушает и хорошенько поймет, с своей упорной твердостью хлебопашца, с своей основательной прочностью во всяком деле, тогда он сочтет свои силы – а потом сметет с лица земли старое общественное устройство. И это будет настоящая революция народных масс.
Всего вероятнее, что действительная борьба богатого меньшинства и бедного большинства будет иметь характер резко коммунистический.
Слово это пугает старых революционеров, так, как слово «якобинец» пугало вольнодумов-дворян и слово «иезуит» полукатоликов. Они проповедовали всю жизнь равенство и братство, теперь они хотят отпрянуть, когда народ берет их за слово, – и всё еще воображают, что они идут с ним заодно и представляют во всей чистоте его стремления.
В сущности они и не с народом и не из него, они из книг, изшкол, из римских преданий, из образованного меньшинства, из тогообщественного устройства, которое развилось против народа и которое должно погибнуть для того, чтоб народ был свободен.
Какой практически смешной и щемящий сердце образ складывается для будущего поэта, образ Дон-Кихота революции! Наши рыцари времен Конвента и старой Горы, вскормленные историей девяностых годов и тогдашним «Монитером», видят в настоящем одно временное отклонение от истинных начал, они стараются возвратить человечество к 9 термидору и к конституции Сен-Жюста… Они повторяют слова, потрясавшие некогда сердца, не замечая, что они уже давно задвинуты другими словами, они все еще толкуют о цивизме и тирании, о коалиции и английском влиянии, о протестациях и петициях, о неотъемлемых правах человека, о нарушении конституции и, наконец, о святом праве восстания!
Как работнику не улыбаться и не качать головой, когда ему в осадном положении, возле военных судов и партий, ссылаемых без суда, толкуют о праве восстания, прибавляя к нему вновь изобретенную нелепость «права работы». Кому он предъявит эти права, кто обязан их признать, и на что они ему, когда сила не с его стороны? И на что они ему, когда сила с его стороны? По крайней мере Людовик XVII был признан десятью немецкими календарами и одним русским…
Наши Дон-Кихоты вышли на поле, ничего не приготовив ни в себе, ни вне себя; они вышли с ненавистью к царям и внешним формам самодержавия, но с уважением к власти; они не хотели попов, но алтарь хотели, они назвали монархию республикой и перевели на римскую номенклатуру феодальные постановления, в сущности не коснувшись до них. Цель их прекрасна – уничтожение тиранства, водворение всеобщего братства, всемирной свободы, но так как эти общие места без ряда объяснений и развитий расплываются в каком-то приятно окрашенном тумане, то и не удивительно, что практической прилагаемости им не нашлось.
Они дерутся ржавыми оружиями своих врагов на изнуренной почве; их бьют, разумеется, оттого что противники лучше владеют своим оружием и что они дома. И в то же время в довершение бедствий они столько же теряют и на своем поле. Их средства устарели, их знамена истаскались, и не всегда в боях, а больше на банкетах и демонстрациях.
Пора бы, кажется, остановиться и призадуматься, а пуще всего – изучить поглубже современность и перестать с легкомысленной суетностью уверять себя и других в фактах, которых нет, – и отворачиваться от тех, которые есть, да нам не нравятся; пора не принимать больше толпы на демонстрациях за готовое войско, искать глас народный в газетных статьях, писанных самими нами или нашими друзьями, и общественное мнение в тесном кружке приятелей, собирающихся ежедневно для того, чтоб повторять одно и то же.
Как это ни ясно, но горе тому, кто в печальном стану побежденных поднимает такую речь. Маститые революционеры и их ставленники увидят обиду, личность, измену в ней и проглядят трагический характер скорбных признаний, которыми человек отдирает свое сердце от среды, в которой жил, которую любил, но в несвоевременности которой убежден. Они не оценят лиризм иронии и злобы, вырывающийся из груди человека, увидевшего, что он часть жизни шел по ложной дороге и не знает, успеет ли еще своротить на ту, которая его приведет к цели. Они называют «дилетантами» мятежные личности, не делящие их воззрения, неучтивыми гостями, которые не хотят делить тяжелой приуготовительной работы, а спокойно пересуживают сделанное.
Дон-Кихот тоже трудился очень много и совершенно бескорыстно. Приуготовительные труды всех эмиграций состояли в ссорах между собой, в составлении комитетов, в которых повторяли, что победа близка накануне всякого поражения и на другой день после всякого поражения…
Многим кажется, что они, напротив, живут в совершенной праздности, даже в праздности мысли, они не хотят подумать о том, что об них говорят их друзья и что об них говорят их враги. Они довольны собой. Что это за умственная лень, за Vornehmtuerei[224], за morgue aristocratique[225], что за сознание своей папской непогрешительности?
Но какая же необходимость говорить именно с этими закоснелыми староверами, тугими на ухо, приросшими как полипы к скале? Они сделали свое, они люди почтенные, у них место в истории – но не сделаться же нам столпниками из учтивости к ним.
Как ни восставай, как ни досадуй, но мы сами принадлежим по жизни, по привычкам, по языку к той же литературно-ученой и политической среде, от которой мы отрекаемся. Теоретический разрыв наш с нею сделать практическим не в нашей воле, мы слишком далеко зашли в этой жизни, чтоб остановить ее. Мы сняли нашу рясу, как Гафис, поседевши в ней, и оттого нам, как Гафису, беспрерывно хочется говорить об этом. Оно и не удивительно. Наше деяние – это именно этот разрыв, и мы остановились на нем, он нам стоил много труда и усилий.
Разумеется, нам казалось, что это освобождение себя – первый шаг, что за ним-то и начнется наша полная свободная деятельность; без этого мы бы его не сделали. Но, в сущности, акт нашего возмущения и есть наше деяние, на него мы потратили лучшие силы, о нем раздалось наше лучшее слово, мы и теперь можем быть сильны только в борьбе с книжниками и фарисеями консервативного и революционного мира[226].
Оставить речь с ними и обратиться к народу – великое дело, но мы не сумеем.
Народу не то надобно, что мы можем сказать, что нам хочется сказать; наши слова – ответы, подмостки, разработывание понятий, оскорбление, исповедь, критика, сомнение. Народ едва знает привидения, против которых мы боремся, его не занимает наш бой, у него не та злоба. Народ много страдает, ему тяжела жизнь, он многое ненавидит и страстно догадывается, что скоро будет перемена, но он ждет не приуготовленных трудов, а откровения того, что закрыто бродит в его душе, он ждет не книг, а апостолов, людей, у которых вера, воля, убеждение и сила совпадают воедино, – людей, никогда не разрывавшихся с ним, – людей, не выходящих из него, но действующих в нем и с ним, с откровенной, непотрясаемой верой и с ничем не развлекаемой преданностию.
Кто чувствует, что он так близок с народом, так освободился от среды искусственной цивилизации и так переработал и победил ее, кто до того окончил с собою, что ему остается одно действие, и кто достиг целости и единства, о которой мы говорим, тому принадлежит речь, тот пусть говорит народу, да он и будет непременно говорить – мы склонимся перед ним.
Ощущаете ли вы что-нибудь подобное в груди? Сомневаюсь. Мы вместе труп и убийцы, болезнь и прозекторы старого мира – вот наше призвание.
Я долго думал, что можно по крайней мере лично начать новую жизнь, отступить в себя, удалиться от толкучего рынка. Невозможно – будь хоть один человек возле вас, с которым вы не порвали все отношения, через него воротится старый мир, порочный и распутный, лукавый и предательский. Мы похожи на того раба в французских колониях, которого, рассказывает Шельшер, господин за наказание связал наглухо с трупом им убитого вола и так оставил умирать.
Смерть отжившего мира захватит и нас, спастись нельзя, наши испорченные легкие не могут дышать другим воздухом, кроме зараженного. Мы влечемся с ним в неминуемую гибель; она законна, необходима, мы чувствуем, что нас скоро будет не нужно; но исчезая с ним, но чувствуя роковую необходимость, связавшую нас, мы нанесем ему еще самые злые удары и, погибая в разгроме и хаосе, радостно будем приветствовать новый мир – мир не наш – нашим «Умирающие приветствуют тебя, Кесарь!»
Письмо четырнадцатое
Ницца, 31 декабря 1851 г.
Vive la mort[227], друзья! И с новым годом! Теперь будем последовательны, не изменим собственной мысли, не испугаемся осуществления того, что мы предвидели, не отречемся от знания, до которого дошли скорбным путем. Теперь будем сильны и постоим за наши убеждения.
Мы давно видели приближающуюся смерть; мы можем печалиться, принимать участие, но не можем ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсем напротив, нам надобно ее поднять – мы оправданы. Нас называли зловещими воронами, накликающими беды, нас упрекали в расколе, в незнании народа, в гордом удалении, в детском негодовании, а мы были только виноваты в истине и в откровенном высказывании ее. Речь наша, оставаясь та же, становится утешением, ободрением устрашенных событиями в Париже.
Когда люди, стоявшие во главе движения, шутили над своей слабостью, когда они принимали предсмертную болезнь за минутный сон, за мимолетную усталь, когда эмпирики и шарлатаны уверяли, что болезнь пройдет, и тратили лучшие силы на врачевание трупа, когда они ждали, что больной возьмет одр и пойдет по их приказанию, тогда было необходимо проповедовать, что «у ворот их стоит не Катилина, а смерть» – как это и делал Прудон из своего заточения. Теперь она их растворила, взошла, теперь ошибиться трудно… вот она, между нами, косит направо, косит налево… подрезанная трава так и валится.
Рухнулся наконец этот мир, призрачный, дряхлый, переживший самого себя, мир распадающийся, двуначальный, неоткровенный, дошедший до лжи и смешения всех понятий, как все выживающее из ума, остановившийся на невозможных сочетаниях, на несовместных перемириях, на слабодушных уступках. Все, что он лепил, придумывал, выстроил из прошедшего и выбелил новой краской, все произведения его старческого ребячества – все рассыпалось, как карточный дом; противные сумерки пропали. Нет больше двусмысленных недоговорок, поддерживавших пустые надежды с обеих сторон. Темная ночь, которую ждали, настала, – мы шагом ближе к утру.
Все кончено – представительная республика и конституционная монархия, свобода книгопечатания и неотъемлемые права человека, публичный суд и избранный парламент. Дыхание становится легче, воздух чище; все стало страшно просто, резко… Куда ни посмотришь, отовсюду веет варварством: из Парижа и из Петербурга, снизу и сверху, из дворцов и мастерских. Кто покончит, довершит? Дряхлое ли варварство скипетра или буйное варварство коммунизма, кровавая сабля или красное знамя?..
Варварством новая цивилизация насильственно вводится во владение старой почвой или отрывается от нее, если она неспособна и истощена. Это беспорядок похорон, грубая опека над малолетними.
Идею грядущего переворота нельзя подавить ни римским деспотизмом, ни византийской республикой, ни анархическим варварством, ни варварством иноплеменных орд. Ее никто не может подавить, кроме геологического переворота. Она не привязана ни к какой стране, в этом-то ее великая сила. Кто знает, где она будет торжествовать свою победу – по эту ли сторону океана или по ту? во Франции или в России? в Нью-Йорке или в том же Париже?
Христианство было сильно своим вселенским значением; это значение еще более принадлежит социализму. Пространства исчезли, пути сообщения легче; исключительный патриотизм первый должен быть перечислен из добродетелей в пороки при переходе в новый мир.
Реакция оттого и кажется нам такой всемогущей и страшной, что мы лепимся на одних и тех же местах и упорно держимся за них, как будто род человеческий исключительно существует от Парижа до Берлина. Пересоздание быта, к которому стремится современный человек, его революционная мысль не только не приросла ни к какой стране, но ни к какой общественной форме, основанной на старых началах. Оттого республика может пасть, Франция может пасть, а революция продолжаться. Она ускользает, как ртуть от давления, и собирается по другую сторону.
Нам жаль теперешнее падение народа, который так славно жил, который мы так любили, может, больше, нежели сознаем. Мы чувствуем, по выражению Мишле, что с падением Франции температура земного шара понизилась.
Трудно было свыкаться с мыслию, что Франция разошлась с революцией. Второе декабря, несмотря на то, что все его ждали, поразило всех. Предвидит ли человек несчастие или нет, оно все приходит врасплох. Горесть наша искренняя, она наше право, наше личное участие в современном деле. Но сверх связи с настоящим, мы имеем связь и с будущим.
Теперь, когда мы пережили первые минуты бессильной злобы, стыда, тревожной неизвестности, – пора из-за развалин и трупов взглянуть вдаль. Если сердцу мало одного пониманья, то и пониманью мало одной грусти. Мысль всходит, как луна на кладбище, и ищет своим светом привесть в ясность совершившееся, связывает порванные концы и указывает красную нитку революции, идущую через императорский скипетр, через весь шар земной – вместе с телеграфической проволокой.
Мы не бежали ни от опасности, ни от печали, случайно остались мы целы; но теперь нечего больше делать, сражение кончено, падшие зарыты – не жить же нам у их кургана, не довольствоваться же одной скорбью об утраченном. Жизнь обязывает!
В груди нашей – еще здоровой после всех ударов – есть титанический голос непокорности, даже иронии над победителем. Они победили нас – покажем, что они нам победили. У нас отняли настоящее – отнимем у них будущее, отравим нашим пророчеством их ликующую радость.
Конечно, потери станут яснее от разбора, несомненнее – кто боится знания, тот пропал, тот консерватор.
«Оставьте мертвым погребать мертвых», – говорил Христос. Действительно, весь вопрос при таких переворотах в том только и состоит, мертвецы ли мы, принадлежащие прошедшему и повторяющие с воплем «совершилось», или люди будущего, которые, с умилением задергивая царский покров, говорят: «Le roi est mort – vive le roi!»[228].
Горе тому, кто теперь с насмешливой улыбкой бросит холодное слово Франции – пора укора и упреков прошла, для нее настает прошедшее. Париж останется в памяти веков Иерусалимом революции. Религия будущего родилась середь потоков французской крови, в груди французских мыслителей, среди страдания французского пролетариата.
Да не посмеет ни один народ радоваться ее падению. С опущенным взором пусть они преклонятся перед ее несчастием. Они так не падут; пусть будут довольны этим. Посредственность имеет великие льготы, но она обязывает к скромности. Если Франция во многом виновата – она много наказана…
…То, что не удалось революционерам 15 мая, белым днем, во имя свободы, то удалось Людовику-Наполеону и полицейским сыщикам темной ночью, во имя насилия. Республика пала зарезанная по-корсикански, по-разбойничьи, обманом, из-за угла.
Бланки оправдан Бонапартом.
Собранье разогнали – как хотел его разогнать Гюбер.
Вместо диктатуры революционной водворилась диктатура управы благочиния – и все пало перед ней, потому что все было шатко, неглубоко, неистинно; потому что в каждом новом учреждении был оставлен старый, отравлявший его элемент.
Чего же нам-то удивляться, что нашлись добровольные палачи для того, чтоб казнить осужденное нами? Второе декабря, лишенное всякой творческой силы, всякого живого начала, под предлогом спасения разрушает государство, против которого борется социализм.
Франция традиционная, историческая, монархическая была казнена во время террора. С тех пор является ряд неустоявшихся форм правления, ряд переложений и сочетаний незрелых мыслей с отжившими формами. Дикий деспотизм Наполеона так же мало мог удержаться, как царства двух хартий*. Представительная система была цела во Франции, пока исполнительная власть и революционеры ее терпели. Не только Людовик-Филипп, но и Людовик XVIII и Карл X были настолько люди прошлого века, что боялись открыто изорвать хартию, они верили в нее.
Республиканское издание хартии, сделанное в 1848 году, отличалось от прежних тем, что в него никто не верил, а все употребляли как маску или как щит. Прудон не хотел его вотировать, социалисты презирали его, роялисты ненавидели, республиканцы находили недостаточным и нелепым. Один Людовик-Наполеон присягал ему и был обязан верностью; он-то ему и изменил, но он не изменил своему избранию.
Его избрание, совершенно свободное в 1848, было плебисцитом, которым Франция отрекалась от свободы.
Он исполнил волю народную. Интригант по семейному преданию, он исполнил ее исподтишка, в то время как мог то же сделать открыто. Человека этого ничто не связывало. Иностранец, выросший вне Франции, он не делил ни хороших, ни дурных качеств французов, он их подсматривал и хладнокровно помечал. Постоянно изучая жизнь своего дяди, он в ней не мог найти ничего, кроме беспредельного презрения к французам и к людям вообще. Терять этому человеку было нечего, ожидать всего. Три года присматривался он и рискнул наверное.
Ему удалось, потому что его coup d’Etat отвечал необходимой потребности выйти куда бы то ни было, хоть в полную гибель, но не оставаться в ложном положении. Второе декабря лишено всякого другого нравственного смысла. Это был выход. Парижский народ, хорошо понимая это, не защищал баррикад, потому что он был рад перемене; но скоро увидел, что он ничего не выиграл. Умные консерваторы с своей стороны поняли также, что победа не их. Но кто же победил?
Переворот второго декабря, как июньские дни, не имеет знамени, он имеет только собственное имя, бунтующую полицию, пьяных солдат, подкупленных генералов. Смерть явилась, как всегда, в острых болезнях, бессмысленно, с видом случайности, без разумного слова.
Говорят, что победил порядок. Нет идеи беднее, жалче, слабее, как идея порядка quand même[229], порядка в смысле полицейской тишины.
Полиция идет вперед и на первом месте только тогда, когда ведут кого-нибудь на казнь.
Цезарь полиции, исполнитель ее власти, представитель порядка называется – Палачом.
И действительно, Людовик-Наполеон должен все переказнить для того, чтоб остаться на месте, – он не может иначе удержаться. Что вы думаете, он оставит в покое орлеанистов, синих и красных республиканцев?.. Литература, поэзия, журналистика – все будет убито, словоохотная Франция замолчит… Далее ему необходима война; война – это казнь гуртом, это коренное разрушение. На войну надобно много денег – где их взять, пока контрибуции не разорили целых племен?.. Где? У капиталистов! И тут начнется цезарский коммунизм!
А, господа, вы продали ваши человеческие права за блюдо чечевицы – и воображаете, что вам его оставят. Нет! Куда вы пойдете жаловаться? Разве есть гласность, суд, защита? Нет. Порядок слишком хорошо торжествует; за крамолу в тюрьму, за возражение в Нука-Иву, в Кайенну.
На этой стремнине, при войне, будет труднее удержать Францию, нежели взять корону из рук префекта полиции. Но какое дело, спасется она или нет – победит она или нет. Кто бы ни победил, от монархическо-христианской Европы, от старых форм не уцелеет и половины.
Вся Европа выйдет из фуг своих, будет втянута в общий разгром; пределы стран изменятся, народы соединятся другими группами, национальности будут сломлены и оскорблены. Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики остановятся, в деревнях будет пусто, земля останется без рук, как после Тридцатилетней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизм заменит всякую законность и всякое управление. Тогда победители начнут драку за добычу. Испуганная цивилизация, индустрия побегут в Англию, в Америку, унося с собой от гибели кто деньги, кто науку, кто начатый труд. Из Европы сделается нечто вроде Богемии после гуситов.
И тут – на краю гибели и бедствий – начнется другая война – домашняя, своя расправа неимущих с имущими!
Напрасно жать плечами, негодовать и клясть. Разве вам этого не предсказал Ромье? «Или безвыходный цезаризм, или красный призрак». Он только не договорил одного – что цезаризм приведет к коммунизму; если же нет, то в самом деле в Европе не только правительства и общественные формы умерли, но и народы.
И чем эта война несправедливее войны мещан против дворян, либерализма против феодальной и монастырской собственности?
Мещане заработали свое достояние трудом, дворяне кровью, оба насилием, потому что тем и другим помогало правительство. Революционное правительство поможет третьим.
Да и какая тут справедливость! Мы видим, куда несется поток; доказывать юридически водопаду, чтоб он не разливался, не топил бы чужих берегов, ни к чему не ведет.
…Вооруженный коммунизм приподнял слегка, полушутя свою голову в южных департаментах, он едва взял несколько аккордов, но характер своей музыки заявил. Пролетарий будет мерить в ту же меру, в которую ему мерили. Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Середь грома и молний, при зареве горящих дворцов, на развалинах фабрик и присутственных мест – явятся новые заповеди, крупно набросанные черты нового символа веры.
Они сочетуются на тысячу ладов с историческим бытом; но как бы ни сочетались они, основной тон будет принадлежать социализму; современный государственный быт с своей цивилизацией погибнут – будут, как учтиво выражается Прудон, ликвидированы.
Вам жаль цивилизации?
Жаль ее и мне.
Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества и унижения.
Смирение перед неотвратимыми судьбами! И твердым шагом взойдем в новый год!
Приложение
Письмо к Ш. Риберолю, издателю журнала «L’Homme»
Гражданин издатель,
Три года тому назад вышли в Германии мои «Письма из Италии и Франции». Книга шла успешно; события 1848 г., обсуживаемые русским, имели особенный интерес.
Впоследствии я написал еще несколько писем – которые не были напечатаны. Хотите их для вашего журнала?
Мысль предложить их Вам пришла мне в голову, когда я увидел, как широко Вы растворяете двери всем революционным мнениям, стало – и нашему.
…Будто есть русское революционное мнение? Чем оно может отличаться от французского, немецкого? Родина русского образования не в России, а в Европе. Действительно, революционная идея одна и та же; но положения наши розны.
Никто еще не думал о странном, эксцентрическом положении русского на Западе, особенно когда он перестает быть праздношатающимся.
Нам дома скверно. Глаза постоянно обращены на дверь, запертую царем и которая открывается понемногу и изредка. Ехать за границу – мечта каждого порядочного человека. Мы стремимся видеть, осязать мир, знакомый нам изучением, которого великолепный и величавый фасад, сложившийся веками, с малолетства поражал нас. Мы стремимся еще сильнее не видать ни Зимнего дворца, ни голубой и зеленой полиции, ни утешительного зрелища торжествующего порядка.
Русский вырывается за границу в каком-то опьянении – сердце настежь, язык развязан, – прусский жандарм в Лауцагене нам кажется человеком, Кенигсберг – свободным городом. Мы любили и уважали этот мир заочно, мы входим в него с некоторым смущением, мы с уважением попираем почву, на которой совершалась великая борьба независимости и человеческих прав.
Сначала все кажется хорошо и притом – как мы ожидали, потом мало-помалу мы начинаем что-то не узнавать, на что-то сердиться – нам недостает пространства, шири, воздуха, нам просто неловко; со стыдом прячем мы это открытие, ломаем прямое и откровенное чувство и прикидываемся закоснелыми европейцами – это не удается.
Напрасно стараемся мы придать старческие черты молодому лицу, напрасно надеваем выношенный узкий кафтан, – кафтан рано или поздно порется, и варвар является с обнаженной грудью, краснея своего неумения носить чужое платье.
Знаменитое grattez un Russe et vous trouverez un barbare[230] – совершенно справедливо. Кто в выигрыше, я не знаю. Но знаю то, что варвар этот – самый неприятный свидетель для Европы. В глазах русского она читает горький упрек; обидное удивление, которым сменяется у него удивление совсем иное, действует неприятно, будит совесть…
Дело в том, что мы являемся в Европу с ее собственным идеалом и с верой в него. Мы знаем Европу книжно, литературно, по ее праздничной одежде, по очищенным, перегнанным отвлеченностям, по всплывшим и отстоявшимся мыслям, по вопросам, занимающим верхний слой жизни, по исключительным событиям, в которых она не похожа на себя.
Все это вместе составляет светлую четверть европейской жизни. Жизнь темных трех четвертей не видна издали, вблизи она постоянно перед глазами.
Между действительностью, которая возносится к идеалу, и той, которая теряется в грязи улиц, между целью политических и литературных стремлений и целью рыночной и домашней деятельности столько же различия, сколько вообще между жизнию христианских народов и евангельским учением. Одно – слово, другое – дело; одно – стремление, другое – быт; одно беспрестанно говорит о себе, другое редко оглашается и остается в тени; у одной на уме созерцание, у другой – нажива.
Разумеется, быт этот непроизволен. Он сложился посильно, как мог, из исторических данных накипел веками, захватил в себя всякую грязь, всякие наследственные болезни, в нем остались наносы всех наций. Ряды народов жили, истощились и погибли в этом потоке западной истории, который влечет с собой их кости и трупы, их мысли и мечтания. Они носятся над этим глубоким морем, освещая его поверхность, – как некогда носился дух божий над водами.
Но воды не разделяются.
Новый мир можно только творить из хаоса. А старый мир еще крепок, иным нравится, другие привыкли к нему.
Тягость этого состояния западный человек, привыкнувший к противоречиям своей жизни, не так сильно чувствует, как русский.
И это не только потому, что русский – посторонний, но именно потому, что он вместе с тем и свой. Посторонний смотрит на особенности страны с любопытством, отмечает их с равнодушием чужого; так смотрел Бу-Маза на Париж из своего дома на Елисейских Полях; так смотрит европеец на Китай.
Русский, напротив, страстный зритель, он оскорблен в своей любви, в своем уповании, он чувствует, что обманулся, он ненавидит так, как ненавидят ревнивые от избытка любви и доверия.
У бедуина есть своя почва, своя палатка, у него есть свой быт, он воротится к нему, он отдохнет в нем. У еврея – у этого первозданного изгнанника, у этого допотопного эмигранта – есть кивот, на котором почиет его вера, во имя которого он примиряется с своим бытом.
Русский беднее бедуина, беднее еврея – у него ничего нет, на чем бы он мог примириться, что бы его утешило. Может, в этом-то и лежит зародыш его революционного призвания.
Оторванный от народного быта во имя европеизма, оторванный от Европы душным самовластием, он слишком слаб, чтоб сбросить его, и слишком развит, чтоб примириться с ним. Ему остается удаление.
Но куда удалиться? Не все способны день и ночь играть в карты, пить мертвую чашу, отдаваться всевозможным страстям, чтоб заглушить тоску и умертвить душу. Есть люди, которые удаляются в книгу, в изучение западной истории, науки. Они вживаются в великие предания XVIII века, поклонение французской революции – их первая религия; свободное германское мышление – их катехизис, и для них не нужно было, чтоб Фейербах разболтал тайну Гегелева учения, чтоб понять ее.
Из этого мира истории, мира чистого разума, он идет в Европу, т. е. идет домой, возвращается… и находит то, что нашел бы в IV, V столетии какой-нибудь острогот, начитавшийся св. Августина и пришедший в Рим искать весь господню.
Средневековые пилигримы находили по крайней мере в Иерусалиме пустой гроб – воскресение господне было снова подтверждено; русский в Европе находит пустую колыбель и женщину, истощенную мучительными родами.
Будет ли она жива?
Будет ли жив ребенок?
Да – нет?.. спросить не у кого, философы суеверны, революционеры консервативны, они ничего не могут сказать. Наивный дикарь всю декорационную часть, всю mise en scène[231], всю часть гиперболическую брал за чистые деньги. Теперь, разглядевши, он знать ничего не хочет, он представляет к учету, как вексель, писанные теории, которым он верил на слово, – над ним смеются, и он с ужасом догадывается о несостоятельности должников. «Где же наконец те сильные, те пророки, которые нас вели, манили?» Они-то первые и обанкрутились. Их мнимые богатства были просто акции на будущий капитал, это было приложение системы Лау к нравственному миру.
Непоследовательность революционных людей, их двойство глубоко оскорбляет нас. Они поддерживают одной рукой то, что ломают другой; им жаль дряхлого мира, и, пока они мирволят ему, плачут об нем, мир будущего проходит у них сквозь пальцы. Одни боятся логического вывода, другие не могут его понять и почти все стоят еще на том берегу, где дворцы, церкви, суды.
Печальное знамение остановки, предела, смерти бросается в глаза, и мы его равно читаем на челе мучеников, гибнущих на галерах, и на челе каторжников, пирующих в Тюльери.
«И это рабы царя, бог весть зачем являющиеся из-под своего снега, осмеливаются видеть?»
Не их вина, если они видят. Варвары спокон века отличались тонким зрением; нам Геродот делает особую честь, говоря, что у нас глаза ящерицы…
«…Русский, снимая с себя цепи, становится самым свободным человеком в Европе. Что может его остановить? Уважение к его прошедшему? – Новая история России начинается с полнейшего отречения преданий. Или петербургский период? „Это пятое действие кровавой трагедии, представленной в публичном доме”, нас ни к чему не обязывает. Оно оставило не верования, а сомнения.
С другой стороны, ваше прошедшее служит нам поучением, но не больше, мы нисколько не считаем себя душеприказчиками вашей истории. Ваши сомнения мы принимаем, но ваша вера нас не трогает, вы слишком религиозны для нас. Мы готовы делить ваши ненависти, но не понимаем вашей привязанности к наследию ваших предков. Мы слишком задавлены, слишком несчастны, чтоб удовлетвориться половинчатыми решениями. Вы многое щадите, вас останавливает раздумье совести, благочестие к былому; нам нечего щадить, нас ничего не останавливает – но мы бессильны, связаны по рукам и ногам. Отсюда наша вечная ирония, злоба, разъедающая нас и ведущая нас в Сибирь, на пытки, к преждевременной смерти. Люди жертвуют собой без всякой надежды – от скуки, от тоски… В нашей жизни есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего неподвижного, ничего мещанского.
Не обвиняйте нас в безнравственности, потому что мы не уважаем то, что вы уважаете, – с каких пор детям в воспитательных домах ставят в упрек, что они не почитают родителей?
Мы свободны, потому что начинаем с самих себя. Преемственное в нас только наша организация, народная особенность, прирожденная нам, лежащая в нашей крови, в нашем инстинкте. Мы независимы, потому что у нас ничего нет, нам нечего любить; горечь, обида в каждом воспоминании; науку, образование нам подали на конце кнута.
Что нам за дело до ваших преемственных обязанностей, нам, меньшим и лишенным наследства? И как нам принять вашу поблеклую нравственность, не человеческую и не христианскую, существующую только в риторических упражнениях, в воскресных проповедях, в прокурорских разглагольствованиях? С чего нам уважать ваши судебные палаты с их тяжелыми, давящими сводами, без света и воздуха, перестроенными на готический лад в средние века и побеленными вольноотпущенными мещанами после революции?..
Русские законы начинаются с оскорбительной истины „царь приказал” и оканчиваются диким „быть по сему”. А ваши указы носят в заголовках двоедушную ложь, громовой республиканский девиз и имя французского народа. Свод законов точно так же направлен против человека, как Свод Наполеона, но мы знаем, что наш свод скверен, а вы не знаете этого. Довольно носим мы цепей насильно, чтоб прибавлять еще добровольные путы. В этом отношении мы стоим совершенно на одной доске с нашими крестьянами. Мы повинуемся грубой власти, потому что она сильнее. Мы рабы – оттого что не можем освободиться, но мы ничего не примем из вражьего стана.
Россия никогда не будет протестантскою.
Россия никогда не будет juste-milieu[232].
Она не восстанет только для того, чтоб отделаться от царя Николая и получить в награду представителей царей, судей-императоров, полицию-деспотов»[233].
Вот что я писал в сентябре 1851.
Австрийский Lloyd, говоря об моей книге «Vom andern Ufer», называет меня русским Иеремием, плачущим на развалинах июньских баррикад, и прибавляет, что книга моязамечательна как патологический факт, показывающий, какой беспорядок вносит в русскую голову немецкая философия и французская революция.
Я принимаю все это.
Да, я плакал на июньских баррикадах, еще теплых от крови, и теперь плачу при воспоминании об этих проклятых днях, в которых каннибалы порядка восторжествовали. Я буду очень счастлив, если мои писания могут служить для уяснения «патологии» революции, и цель моя будет совершенно достигнута, если я могу указать, как последние молнии революции сверкнули и отразились в русском понимании.
С этой тройной точки зрения я Вам предлагаю мои письма и братски приветствую вас.
Лондон, 7 февраля 1854 г.
Оглавление[234]
Введение
Письмо I. Париж. – Дорога. – Немецкая кухня. – Положение русского в Европе. – Рига и Псков. – Кенигсберг.
Письмо II. Париж, стоящий за ценс, и Париж, стоящий за ценсом. Буржуа и Пролетарий. – Прислуга. – Портье.
Письмо III. «Ветошник» Ф. Пиа и Фредерик Леметр. – Расин и Рашель. – Французская красота. – Левассор.
Письмо IV. Нравственно-политическое состояние Франции. – Социальные идеи. – Вопрос материального благосостояния.
Письмо V. Прощанье с Парижем. – Лион в 1793 и 1832. – Эстрель. – Ницца. – Генуя. – Risorgimento. – Три Рима. – Кампанья. – Извинение смеха.
Письмо VI. Пий IX. – Новый год и демонстрация 2 января. – Восстание в Палерме. – Взгляд на историю Италии последних трех веков. – Мнение Гёте. – Чичероваккио.
Письмо VII. Неаполь. – Сравнение с Римом. – Король ha firmato. – Потерянный портфель. – Лаццарони.
Письмо VIII. Слух о 24 февраля. – Маскарад в Тор-ди-Ноне. – Viva la Repubblica francese! – Размолвка папы с народом. – Восстание в Милане. – Казнь австрийского орла. – Ополчение в Колизее. – Патер Гавацци.
Письмо IX. 15 мая 1848 г. – Приезд в Париж, его вид после революции. – Национальное собрание. – Барбес о руанском деле. – Реакция. – Взгляд на события, предшествовавшие 24 февраля. – Характер французской буржуазии. – Гизо. – 23 и 24 февраля. – Временное правительство.
Письмо X. Июньские дни. – Сравнение с террором 93 и 94. – Донесение следственной комиссии. – Провозглашение республики. – Социализм. – Люксембургская комиссия. – Ледрю-Роллен. – Луи Блан. – Ламартин. – Бланки.
Письмо XI. Современное значение революции. – Социализм. – Пределы политической республики и социальной. – Их характеристика. – Брейсбен и Северо-Американские Штаты. Нелепые нападки на социализм.
Письмо XII. Ницца в 1850. – Париж в разгаре реакции. Вотирование закона о Нука-Иве. – Семейство, порядок и религия, защищаемые реакцией. – Демократы и народ. – Травля на парижских улицах. – Вест-Галльская компания. – Президент. – Белый террор. – Марсель. – Воспоминания 23 июня на пиэмонтской границе.
Письмо XIII. Демократы-староверы, революционное православие, народ. – Революционный Дон-Кихот. – Право работы и право восстания. – Наше призвание и его предел.
Письмо XIV. Второе декабря 1851 года. – Vive la mort! – Необходимость coup d’Etat. – Бонапарт и Бланки. – Последствие 2 декабря. – Война, разрушение старого мира.
Приложение. Письмо к издателю журнала «L’Homme».
227
Другие редакции
Письма из Avenue Marigny*
Письмо четвертое
Мне на роду написано – никогда не писать писем о том, о чем предполагаю. Даже «Письма об изучении природы» остановились именно там, где следовало начать о природе. Судьба, или, как любил выражаться один древний писатель (Виктор Гюго), Ананке! Вы знаете очень хорошо, что может сделать слабый человек против Ананки, хотя бы они являлись не с козой, не с фанданго, не с маленькими ножками и огненными глазками цыганки, как случилось с нотрдамским архидиаконом. У меня было твердое намерение рассказать вам о благородном турнире, на котором рыцарь газеты «Presse» так отважно напал на Кастора и Поллукса министерских лавок, о турнире, доставившем маленькое рассеяние добрым буржуа, скучающим в пользу отечества в Palais Bourbon. Но пока я собирался с славянской медленностью, здесь случилось столько турниров, кулачных боев, травль, чрезвычайных случаев и случайных чрезвычайностей, что вспоминать о маленьких обвинениях, взводимых Жирарденом на своих противников, столько же своевременно, как поминать историю Картуша, Ваньки Каина, Стеньки Разина… хотя сии последние с отвагою и смелостью последовательности немецких идеалистов дошли до конца того поприща, которое начинается «злоупотреблением влияния», маленькой торговлей, проектами крошечных законов, привилегиями на театры и рудокопни, а оканчиваются самими рудокопнями, морскими прогулками на галерах, трудолюбивым вколачиванием свай в портовых городах, а иногда и воздушными прогулками всем телом или отчасти… смотря по тому, на которой стороне Па-де-Кале случится. Картуш и театральная привилегия, Жирарден и продажное пэрство – все это забыто, задвинуто, затерто новыми происшествиями. Никто не говорит здесь о Жирардене:
a) После дела Теста, в котором так справедливо наказали генерала Кюбьера за то, что он плута не считал честным человеком, и так невинно расстреляли фуфайку и рубашку бывшего министра.
b) После ученых изысканий Варнера, который открыл в Алжире видимо-невидимо маленьких Абдель-Кадеров министерского происхождения, – Фавну, составленную на местах, он привез в Париж; все ее видели, все убедились в возможности его открытия, кроме одного поэта из художественной школы Фукье Тенвиля, патентованного изобретателя de la complicité morale. Он, как поэт, презирает доказательства, у него сердце вещун, оно молчит – он не верит.
c) После размолвки Буа-ле-Конта с швейцарской собакой, – размолвки, доходившей до «диеты» вместе с делом об иезуитах, – собака вполне оправдалась, доказала невинность своих намерений, чистоту образа мыслей и выиграла процесс. Вы, верно, помните эту историю; она была в то же время, как в Берне намылили так жестоко голову тому же Буа-ле-Конту за то, что мешается в семейные дела, заводит всякие шашни, якшается с подозрительными людьми, советует, когда его не спрашивают, и распоряжается с своей нон-интервенцией везде, как дома; или, еще хуже, точно, куда ни обернешься, все Португалия.
d) После семейной сцены герцога Праленя с женой, от которой герцог приобрел такую силу, что, искрошивши свою жену, он отужинал мышьяком, приготовленным на опиуме, и прожил, не хуже Митридата, с неделю, – потом вспомнил, что порядочный человек должен умереть, отравившись, – и умер, как истинный маркиз, из учтивости, чтоб не поставить в неприятную необходимость гг. пэров казнить товарища и однокорытника, после того как маститый Пакье в нынешнем году уже сгубил двух пэров-министров. Жаль Праленшу! А ведь страшная женщина была! Это обличилось после ее смерти; она всякий день писала мужу письма в несколько листов. Все ведь это к нему писалось; ему, бывало, надобно к M-lle Luzy, вдруг несут книгу in folio… Что такое? – Утренняя записочка от герцогини… е, f, g… р, q, r, s, t… у… z… После того, как история Жирардена была напечатана в «Современнике»… Вы думаете, здесь не читают «Современника»? Извините, чрезвычайно, невероятно! В café только и слышишь: «„Le Sovremennik”, s’il vous plait…» – «Impossible, – отвечает garçon, – on se l’arrache „Le Sovremennik”»[235] и подает апельсинный гранит как слабую и холодную замену «Современника»…
А право, жаль, что время прошло говорить о жирарденовской истории: такая милая и забавная история! Жирарден баловень, горячая голова, Алкивиад буржуази; он далеко оставил за собой тяжелого и плюгавого Гранье де-Кассаньяка, который нашел утешительную пристань от треволнений жизни в объятиях дружбы, нежной и постоянной, с Гизо. Жирарден, не боясь мефитического воздуха, взболтал после семилетнего застоя болото бюрократической грязи, и оно стало бродить с тех пор. Он в этой борьбе явился во всем блеске, он в ней дома, как эти белые венчики нимфеи в болотах, которые так изящно плавают по поверхности воды и у которых корень глубоко в илу и глине. Оттого-то обличаемые им и перепугались: один осунулся и сделался цвету потертых мундиров, у другого щека стала дрожать независимо от его воли; я до сих пор не видал ни у одного человека такой самобытности щек. Чем ближе стоял Жирарден к коммерческим домам, где продавались привилегии, проекты, Лежьон д’онеры и места, тем с бóльшим душевным волнением слушали обвиняемые негоцианты. У них была одна надежда, что он пощадит себя, многого не скажет; но Жирарден ничего не пожалел. Бывали случаи, что черемис Вятской губернии до того рассердится на своего врага, что, не зная, чем донять его, придет ночью да и повесится у него на дворе, умирая таким образом с сладкой надеждой, что месть обеспечена, что следствие будет. Такую вендетту обыкновенно приписывают дикости; но с некоторыми изменениями в формах она встречается не в совершенно диких обществах и даже совершенно не в диких. Один самоотверженный газетчик, чтоб окончательно уличить одного из известных писателей наших, воспользовался неосторожной исповедью его, чтоб довести до сведения читателей, что между им и автором величайшая симпатия; газетчик очень хорошо знал, что после этого автор потеряет всякое уважение порядочных людей. Таков в своем роде Жирарден: он не пощадил своей чести, лишь бы посыпать на старости лет главы семилетних министров всевозможными обвинениями. К фоблазовскому окончанию поприща Мартень дю-Нора только и недоставало каталога подкупов, продаж, взяток, сделок, проделок etc., оглашенных «Прессой» из ее семейных бумаг!
Камера депутатов оправдала министров.
Камера пэров оправдала Жирардена.
Общественное мнение было удивлено. Журналы требовали следствий, суда. – Поэт Эбер им лукаво улыбался, грозил пальцем и уверял, закрывши глаза, что ничего не видит.
Тогда посыпался град доносов, документов, доказательств… Я вам рассказывал как-то, что один поврежденный доктор принимал журналы за бюллетени сумасшедших домов: это был человек отсталый; теперь журналы, по крайней мере здесь, – бюллетени смирительных домов и галерных выходок…
О журналы, журналы!
Как спокойно и весело жить где-нибудь – в Неаполе, например, – куда не проникает всякое утро серая стая журналов всех величин, всех цветов, с отравляющим запахом голландской сажи и гнилой бумаги, с грозным premier-Paris в начале и с крупными объявлениями в конце, – стая влажная, мокрая, как будто кровь событий, высосанная ею, не обсохла еще на губах, саранча, поедающая происшествия прежде, нежели они успеют созреть, – ветошники и мародеры, идущие шаг за шагом по следам большой армии исторического движения. Там журналы ясны и прозрачны, как вечноголубое небо Италии; они на своих чуть не розовых листиках приносят новости успокоительные, улыбающиеся – весть о прекрасном урожае, об удивительном празднике в такой-то вилле, у прелестной дукеццы, на которой месяц светил сверху, а волны Средиземного моря плескали сбоку… Хорошо, кого судьба избавила от страшных, ежедневных доносов и обличительных актов безумия, низости и разврата; не лучше ли в милом неведении сердца верить в аркадские нравы на земле, в кроткое счастие лаццарони, в праздничную, официальную нравственность и в людское бескорыстие? Не лучше ли, когда много прекрасного в божием мире, не знать, что в нем есть бешеные собаки, крапива, холера, тифус, поддельное шампанское, горькое масло, – и наслаждаться запахом розы и пением соловья?
Да какая же обязанность читать журналы? Вот подите, никакой обязанности нет, да и выбору нет; страсть к новостям – это парижское сирокко, какая-то болезнь вроде запою. Проснешься утром, так и тянет, ну хоть маленькую газетку, ну «Шаривари», пока кофей подают; дотронулся до одной – и пошло, и пошло, и перечитаешь десяток, а сам очень хорошо знаешь, что такой мрак падет на душу, такая тоска, что с горя бросишься в вагон да и уедешь на целый день куда-нибудь в Медонский лес… Хороши журналы, да каков же однако и быт, вести о котором всякий день исполняют горечью и негодованием душу порядочного человека?
Знаете ли, что мне пришло в голову вас спросить? Вы так и ждете, что я, увлеченный Жирарденом и Варнери, спрошу вас: «Что ваши часы – краденые или купленные?», – совсем напротив, я хочу вас спросить, случалось ли вам после долгой разлуки встретить женщину, которую вы любили издали, которая для вас была недосягаема, о которой светлое воспоминание согревало вашу грудь? Вы ее увидели наконец. Она замужем, и муж ее – пошлый, тупой, мелкий, ничтожный негодяй. Как уважать жену пошлого человека! Она лишилась пьедестала, и вместо трепетной и робкой речи уважения на ваших губах колкий намек, и вместо восторженного идолопоклонства вам хочется за нею поволочиться. С кем этого не случалось? Но случалось ли вам потом рассмотреть в той женщине другие, новые черты, скрываемые, затаенные, но выступающие наружу, как обличительный румянец? Случалось ли подслушать иные речи, свидетельствующие, что в душе ее ничего не утрачено, что, напротив, она окрепла в невзгоде, в перенесенном опыте, что она возмужала в сердечных утратах? Если случалось, будьте осторожны: не давайте воли поспешному суду и оскорбительной насмешке, говоря не о женщине, а о целом народе, чтоб не краснеть потом от стыда и раскаянья!
Ничего нет легче в мире, как указать больное место Франции, Англии, преимущественно Франции. Сам Париж своими журналами и укажет и покажет все зло и всю меру его с ожесточением духа партий, с ловкостью их острой и едкой полемики, со всеми средствами гласности. Стало быть, достаточно знать грамоту, чтоб без особого труда и умственного напряжения в одно утро, проведенное в café, узнать черную и грязную сторону Франции: отрицать ее была бы величайшая недобросовестность или полнейшее тупоумие. Но – прав ли будет тот, кто удушливый и вонючий воздух тесных переулков примет за атмосферу целой нации? Испорченный воздух вовсе не есть ее обычная среда; она доказывает это своим повсеместным негодованием, а негодовать попусту она не привыкла. Журналисты втянуты в омут дел, – представители борьбы, органы и орудия партий делают свое дело. Но много ли путного сделает посторонний свидетель, который остановится на перечислении этой массы зла, безнравственности и обманов, на бесплодном подтверждении, что все это есть, на возгласах, на проклятиях? Надобно дать себе несколько труда вглядеться в историческое происхождение, в логику событий, в смысл того, что есть. Только в связи с прошедшим, и притом с прошедшим, освещенным всем светом современной, возмужалой мысли, можно уяснить настоящее положение Франции; тогда вы увидите много запутанного, много трудного, много отрицательного, но с тем вместе увидите, что безнадежного, отчаянного ничего нет и что Франция еще изворотится без радикальных средств землетрясения, небесного огня, потопа, мора, которыми так богата искаженная Франция вновь изобретенного Востока, говорящего с дикой радостью о всем дурном на Западе, воображая, что ненависть к соседу – истинная любовь к своей семье, что чужое несчастие – лучшее утешение в своем горе. Я не берусь писать в этих письмах целых диссертаций, но скажу несколько намеков, несколько беглых мыслей в подтверждение моих слов. Настоящим положением Франции – все недовольны, кроме записной буржуази и ажиатёров «во всех родах различных»; чем недовольны – знают многие, чем поправить и как поправить – почти никто; всего менее – существующие социалисты и коммунисты, люди какого-то дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем. Почти в том же положении и существующая оппозиция, парламентская и журнальная: она основана или на небольших, паллиативных средствах, которые могут принести слабые улучшения, или на воспоминании былого, на стремлении снова призвать к жизни идеал, удаляющийся в прошедшее. Они не знают истинного смысла недуга, они не знают действительных лекарств и оттого становятся в постоянном меньшинстве; у них истинно только живое чувство негодования, и в этом они правы, ибо болезнь все болезнь, хотя бы она была к росту; чувствовать присутствие зла необходимо для того, чтоб отделаться от него тому равнодушному, косному квиетисту, которого не мучит настоящее зло из-за будущего блага. Обратимся теперь к обвинениям.
Обвинение, всего чаще повторяемое и совершенно верное, состоит в том, что с некоторого времени грубые материальные интересы овладели всеми сословиями и подавили собою все другие интересы, что великие идеи, слова, потрясавшие так недавно душу людей и масс, заставлявшие покидать дом, семью, исчезли и повторяются теперь, как призвание Олимпа и муз у поэтов, как слово «верховное существо» у деистов – по привычке, из учтивости. Вместо их рычаг, приводящий все в движение, – деньги, материальные удобства; там, где были прения о государственных интересах, исключительно занялись одними вопросами политической экономии.
Тот, кто не видит, что вопрос о материальном благосостоянии составляет великую половину всех вопросов современности, тот вовсе не знает, что делается на свете.
Да, это важнейший общественный вопрос нашего века. И беда не в этом, а большею частию в образе разрешения. Как же, наконец, не поставить на первый план тот вопрос, от разрешения которого зависит не только насущный хлеб большинства, но и их цивилизация? Нет образования при голоде; чернь будет чернью до тех пор, пока не выработает себе досуга, необходимого для развития. Страны, которые уже перешли мифические, патриархальные и героические эпохи, которые довольно сложились, довольно приобрели, которые пережили юношеский период абстрактных увлечений, изучили азбуку гражданственности, естественно обратились к тому вопросу, от которого зависит вся будущность народов; но он труден, его не решишь громким словом, пестрым знаменем, энергическим кликом; это самый внутренний и существенный вопрос общественного устройства. Вы его встречаете в Северной Америке, в Англии, во Франции; в Америке и Англии он сделал более практических шагов, во Франции более шуму. Все это понятно: жизнь Франции, во-первых, богаче, полнее и поэтому сложнее, смутнее, запутаннее, во-вторых, экспансивнее, – в ней все гласно, все громко, все для всех. Оттого на Францию обращено более внимания; все худое и хорошее, что делается здесь, точно делается на сцене, а в партере сидит все человечество; подчас кажется, что именно все происходящее здесь делается, как в театре, – только для публики, ей польза, ей удовольствие, ей поучение; актеры играют не для себя и возвращаются со сцены к домашним неприятностям и мелочам. В этом одна из лучших национальных сторон французов, но они иногда остаются за это с пустыми руками. Гегель говорит, что Индия походила на родильницу, которая, произведя на свет дитя, радовалась им и сама для себя ничего больше не хотела. Франция – хочет всего, но ее силы истощились при тяжких родах, она не может оправиться. Ею выработанное принято другими на свежие плечи; этого не надобно забывать. Но воротимся к экономическому вопросу. Считать чем-то подчиненным и грубым стремление к развитию повсюдного довольства, стремление вырвать у слепой случайности распределение сил и орудий, привести труд, ценность, плату, обладанье к разумным началам, к незыблемым правилам, раскрыть действительные законы общественного достояния – могут одни закоснелые романтики и идеалисты. По счастию, в наше время выводятся эти высшие натуры, боявшиеся замараться о практические вопросы, бегавшие в мир мечтаний от мира действительности, хотя я еще своими ушами слышал следующее замечание одного из лучших представителей старого романтизма: «Вы полагаете, что с развитием довольства, – говорил он мне, – народ будет лучше, это ошибка, – он забудет все прекрасное и отдастся грубым желаниям… Что может быть чище и независимее от земных благ, как жизнь поселянина, который бросает все свое достояние в землю, смиренно ожидая, чем его благословит судьба? Бедность – великая школа для души, она хранит ее». – «И образует воров», – добавил я. И эту идиллию говорила не пятнадцатилетняя девочка, а человек лет в пятьдесят. Все несчастие прошлых переворотов состояло именно в упущении экономической стороны, которая тогда еще не была настолько зрела, чтоб занять свое место; тут – одна из причин, почему великие слова и идеи остались словами и идеями и, что хуже всего, страшно выговорить, надоели. Романтики, которым все это смертельно не по сердцу, с иронией возражают, что величайшие исторические события нисколько не зависят от большей или меньшей степени сытости и материального благосостояния, что крестоносцы не думали о приобретениях, что голодная и босая армия победила под Жемапом, Флерюсом и проч. Да оттого-то, между прочим, и не много вышло изо всех этих войн и передряг. Оттого-то Европа, после трех столетий правильного гражданского и всяческого развития, дошла только до того, что в ней лучше, нежели там, где этого развития не было, и что она после стольких переворотов и опустошений стоит при начале своего дела. Поэтические интересы, увлеченья теперь не поднимут народа совершеннолетнего. Это просто результат лет, возраста; нельзя же всегда быть юношей. Революция (я говорю о настоящей, а не о последней), со всей обстановкой ее, от страшной introduzione[236] до героической симфонии Наполеона, заключает собой романтическую часть истории гражданских обществ. Финал громовый, грозный, достойный завершитель ряда событий, начавшихся с похода аргонавтов и со взятия Трои, – финал, начавшийся провозглашением прав человека и окончившийся провозглашением маленького капрала императором французов. Сколько событий, сколько крови, и после этого разгрома, когда улеглась пыль и разъяснилось небо, вырезались, наконец, страшные данииловские слова, написанные перстом самой буржуази: «Rien, rien, rien!»
Но вы однако не вовсе доверяйтесь этому rien. Это – негодование, это ненависть любви, ревность. Результаты не исчезли: они взошли внутрь.
Люди, проливавшие кровь и пот, страдавшие и измученные, приобрели право иеремиевского плача. Мы не имеем никакого права ни на слезы, ни на увлеченье: наше дело сторона, и потому мы можем иначе оценить совершающееся. Повидимому, Франция всего менее занята продолжением своего былого, она действительно будто унаследовала только это «ничего» – и, заметивши, ринулась в другую сторону, ударилась в противоположную крайность – в материализм финансовых вопросов. Люди мыслящие первые вдались в эти вопросы и увлекли с собою, как всегда бывает, пошлую толпу, которая всякий принцип доводит до нелепости, до цинизма, особенно такой родственный, такой близкий и соразмеримый принцип, как материальное благосостояние. Медаль перевернулась.
Прежде слова без ясного пониманья, без определенного содержания, но полные фанатизма, увлеченья, – вели людей, основываясь на высоком предчувствии, на глубоко человеческой симпатии ко всему широкому и благородному, и люди охотно жертвовали им всеми материальными благами; теперь увидели всю важность этих благ, отвернулись par dépit от всего прочего и прилепились к одному вопросу политической экономии; но вопрос этот очень немногие умели поднять в ту высокую сферу общечеловеческих интересов, на которую он имеет право и вне которой он не имеет действительного значения. Печальное недоразумение состояло в том, что не поняли круговой поруки, взаимной необходимости обеих сторон жизни. Политическая экономия, именно вследствие своей исключительности, при всей видимой практичности, явилась отвлеченной наукой богатства и развития средств; она рассматривала людей как производительную живую силу, как органическую машину; для нее общество – фабрика, государство – рынок, место сбыта; она, в качестве механика, старалась об улучшении машин, об употреблении наименьшей силы для наибольшего результата, о раскрытии законов движения богатства. Она шла от принятых данных, она брала патологический факт за физиологический, отправлялась от того распределения богатства и орудий, на котором захватила общество. До человека собственно ей не было дела. Занимаясь им по мере его производительности, она равно должна была за пределами своими оставить того, который не производит за недостатком орудий, и того, который имеет мертвый капитал. В такой форме наука о богатстве, основанная на правиле «имущему дастся», должна была сделать великий успех в мире торговли, купечества, буржуази. Но для неимущих такая наука не представляла больших прелестей. Для них вопрос о материальном благосостоянии был неразрывен с критикой тех данных, на которых основывалась политическая экономия и которые явным образом были причиною их бедности. Критика удалась вполне. Несколько сильных умов, глубоко сочувствуя с несчастным положением бедных классов, поняли невозможность исторгнуть их из жалкого и грубого состояния, не обеспечив им куска насущного хлеба; понявши, они бросились на изучение экономических вопросов. Но какое наставление, какое утешение могли они найти в холодной науке, которая, по несчастию, совершенно последовательно говорила неимущему: «Не женись, не имей детей, поезжай в Америку, работай 12 часов или умирай с голоду», прибавляя к этим советам поэтическую сентенцию, что не все приглашены жизнию на ее пир, и бесчеловечную иронию, что «вольному воля», что «нищий пользуется теми же гражданскими правами, как Ротшильд». Они видели, что сытый голодному не товарищ и что в старой науке есть что-то неладное, тупое и оскорбительное, – они ее бросили. Экономический вопрос получил иные размеры. Начали с критики. Критика – сила нашего века, это наше торжество и наше проклятие. Политическая экономия была разбита, место расчищено, но что же было поставить вместо ее?
Благородное негодование, pia desideria, и критика не составляют положительного учения, особенно для народа; нет ничего менее симпатизирующего с критикой, как народ: он требует готового, доктрины, верования; ему нужно знамя, ему нужна определенная межа, к которой идти. Люди, смелые на критику, – были слабы на создание; все фантастические утопии двадцати последних годов проскользнули мимо ушей народа; у народа есть реальный такт, по которому он, слушая, бессознательно качает головой и не доверяет отвлеченным утопиям до тех пор, пока они не выработаны, не близки к делу, не национальны, не полны религией и поэзией. Народы слишком юны, чтоб увлекаться одними экономическими теориями. Они живут еще несравненно более сердцем и привычкой, нежели умом; из-за нищеты, бедности и работы так же трудно ясно видеть вещи, как из-за богатства, пресыщения и лени. Попытки новой экономической науки одна за другой выходили на свет и разбивались о чугунную крепость привычек, истин и фактических преданий. Они были сами по себе полны желанием общего блага, полны любви и веры, никогда не достигали до бесчеловечной плоскости старой науки, но зато держались во всеобщностях, представляли больше стремление, нежели достигнутый результат. Всего страннее, что человек и в новую науку вошел все же не человеком, а каким-то жалким существом, которого освобождали от нищеты или от неправедного стяжания для того, чтоб затерять его в общине… Понять личность человека, понять всю святость, всю ширину действительных прав лица – самая трудная задача, и, кроме частностей и исключений, она никогда не была разрешена никакими прошлыми историческими формами; для нее нужно большое совершеннолетие, до которого не дорастал человек.
. . . . . . . . . . . . . . .
Старая наука, вовлеченная в злую полемику, не была в авантаже, новая отличалась на этом журнальном и литературном поприще. Умы, сочувствующие с веком, оставили прежнюю политическую экономию, одни по убеждению в истине новых теорий, другие по убеждению в недостаточности и лжи прежних; зато пошлая посредственность прильнула к ней; в ее руках наука Адама Смита измельчала, выродилась в торговую смышленость, в искусство с наименьшей тратой капитала производить наибольшее число произведений и обеспечивать им наивыгоднейший сбыт; наука дала им в руки кистень, который бьет обоими концами бедного потребителя, с одной стороны, уменьшением платы, с другой – поднятием цены на произведения. Буржуази бросилась на экономические вопросы, хотя не из крайности, но тем не менее они поглотили все ее внимание; она пожертвовала им всеми интересами; в этом, сверх нерасчета, была черная неблагодарность, ибо все перевороты, все несчастия Франции принесли лучшие плоды свои среднему сословию. А оно, как только стало на ту высоту, которую ему приготовила революция 1830 года и обеспечили сентябрьские законы, забыло свое прошедшее, забыло даже национальную честь и свои права, о которых столько разглагольствовало во время Реставрации. – Будущности для буржуази, повторяю, нет. Она теперь уже чувствует в своей груди начало и тоску смертельной болезни, которая непременно сведет ее в могилу, и, что всего печальнее, польза, которую она приносит, останется, но не приобретет ей даже спасиба, не заставит пролить ни одной слезы на ее могиле, – слезы, так легко проливаемой по всему умершему. Буржуази сама отучила от любви и симпатии, она сама проповедовала холод и бездумье, – чего же ожидать? Еще во время Реставрации буржуа не все продали внутри души своей, тогда их еще уважали; но с тех пор, как все интересы их можно разменять на звонкую монету, с тех пор, как жизнь превратилась для них в средство чеканить деньги, народ возненавидел их тем более, чем ближе к ним стоит. В народе бездна раздражительности, susceptibilité[237], он оскорблялся развратом Людовика XV и его царедворцев, он оскорбляется теперь продажностью голосов, подкупной администрацией, он теперь принял вместо политического крика – «A bas les voleurs!»[238] Крик этот по справедливости относится не к одной администрации; не она развратила буржуази, а буржуази дала из среды своей таких администраторов, а те, воспитанные ею, в свою очередь подстрекнули, ободрили ее алчность к деньгам. Не в самом же деле несколько бюрократов увлекли огромный класс народа. Что это за сильные люди были бы, и эта седая пискливая куколка – Тьер, и этот рыцарь печального образа, квакер de l’hôtel des Capucines, и… эти неизвестности и ничтожности, которые их окружают, если мы им припишем возможность развратить такую страну. Лица, обвиняемые журналами и общественным мнением, не более как скир, скир – обнаруженное последствие худосочья; оттого умные медики и не вырезывают его, а стараются поправить все жизненные отправления. Зло не только глубже, нежели в администрации, но имеет свое историческое оправдание, свою необходимость.
Буржуази – казнь за прошлую односторонность. Следом за мистицизмом и изуверством идут кощунство и сомнение, следом за идеализмом – материализм, за террором – Наполеон.
Corsi и ricorsi Вико, lex talionis истории, вознаграждении вроде тех нелепых наказаний, которые стремятся сделать преступнику столько же зла, сколько он сам сделал. Пренебрежение экономическими вопросами в прошлую эпоху и исключительное занятие политическими вопросами вызвали пренебрежение к политике и возвеличили государственную экономию. Аристократы и народ были – юноши, дети, поэты; революционеры – были идеалисты. Буржуази явилась представить прозу жизни, практическую сторону домохозяина, строящего фабрики вместо храмов, заменяющего колоссальными работами инженера – колоссальные постройки зодчего; это своего рода освящение жизни, реабилитация занятий, работ. Толковали о самоотвержении – и презирали (по крайней мере, на словах) материальную выгоду, – буржуази открыто ищет пользу и смеется над самоотвержением; приносили людей на жертву идеям – буржуази принесла идеи на жертву себе. Разумеется, все это нисколько не составляет нравственного оправдания, и буржуази еще не за что любить за то, что она последовательна реакции своей до нелепости и шутовства[239]. Самая же непростительная сторона в буржуази – это ее полное сознание; она очень хорошо знает, что уронила Францию в глазах Европы, в глазах народа, что нет защиты ей в продаже голосов, вотирований… Самые отчаянные консерваторы Камеры – какой-нибудь Морни и двести человек, которые перед лицом всего Парижа, т. е. всего мира, не постыдились вотировать, что обвиняемые Жирарденом оправдались, в то время как Жирарден их уличил. Все эти господа настолько знают важность законности и справедливости, что не могут невольно попасть в такую грубую ошибку; им просто нужен покой, внешний порядок и министерская поддержка для их коммерческих дел; вот откуда эта возможность, вовсе не свойственная французскому характеру. При потере всяких убеждений, при эластической готовности поддерживать все существующее, худое так же, как хорошее, и останавливать всякий успех, они опасны, потому что сильны, в их руках средства страшные; единственное сословие, имеющее политические права, сословие, из которого выбираются законодатели, сословие, обладающее всеми богатствами, опирающееся, в качестве охранительной партии, на правительственные средства, на Национальную гвардию, на войско и полицию и на людскую лень, составляющую опору отрицательную, но чрезвычайно важную. Чему же дивиться, что буржуази всем овладела, особенно в такое время, как политический вопрос сделался труднее и неразрешимее от вопросов социальных? – Буржуа смеются, когда их упрекаешь; они с презрительной улыбкой практических дельцов посматривают на пустых людей, толкующих об убеждениях и об оскорбленном чувстве справедливости. Пора перестать бояться такой улыбки, пословица недаром говорит, что хорошо будет хохотать тот, кто последний будет хохотать; она не новость, она очень известна в истории, за нею всегда скрывается страх, нечистая совесть, недостаток разумных доводов, в ней выражается собственная несостоятельность, признание силы в том, над чем смеемся; а иногда, гораздо проще, она выражает радость ограниченности и посредственности, когда она может бросить грязью во все то, что выше ее. Это улыбка римских патрициев над назареями, римских кардиналов над протестантами, Наполеона над идеологами и тех чернорабочих рода человеческого, которые, утопая в грязной жизни, не сочувствуют ни с какими религиозными вопросами, ничего не знают вне ограниченного круга своей ежедневной деятельности, вследствие чего они превосходно знают этот ограниченный круг и знание свое выдают за великую практическую науку и житейскую мудрость, перед которой все другие науки и мудрости – мыльные пузыри; им часто удается своими рутинными заметками подавить на некоторое время неопытных юношей, которые, краснея, удивляются их основательной положительности и наторелому бездушью. Эту роль знающих, советующих свысока – буржуази очень любит, и именно в этом доктринерском характере всего яснее ее различие с roués времен Людовика XV и регентства. Те были легкомысленные развратники, блудные дети выродившейся аристократии; у них страсть к деньгам сопровождалась страстью их бросать; это – вивёры, беззаботные gamins до шестидесяти лет; у них не было никаких теорий, они ни о чем не думали всю жизнь. Тяжелые roués XIX века – люди пресерьезные; они говорят так основательно, они слушали Росси, они читали Мальтуса, они дельцы, депутаты, министры, журналисты; у них свои теории, свое ученье, у них проделки приведены в систему; они даже филантропы, хотя не до того, чтоб заменить недостаток хлеба чем-нибудь более съестным, нежели штыки . . . . . . . . . .
…Недавно здесь снова разыгралось старое дело о дуэли Бовалона с Дюжарье. Дело это нечистое; все актеры его, как актеры Илиады, большей частью греки. Сам Агамемнон – Гранье де-Кассаньяк – замешан в нем. Жирарден и А. Дюма хотя не замешаны, но помянуты были в ассизах. Когда судили секунданта Эквилье за ложное показание, судьи и адвокаты, как следует, были в маскарадных платьях, королевский прокурор, как еще более следует, свирепствовал дурным слогом против обвиненного. Прокуроры здесь вообще злобы невероятной, их особо дрессируют для этого. Мне часто приходило в голову, не отдают ли их, как Ромула и Рема, en nourrice в Jardin des Plantes к волчицам и медведицам; но я не успел справиться. Злоба эта им необходима, это их point d’honneur; оправданье подсудимого – личная обида прокурору; он не умел, стало, ни доказать вины, ни понять невинности, а потому, для поддержки своей репутации, прокурор нападает бесчеловечно. Прокурор свирепствовал, наказывая себя телесно в грудь кулаком, поднимая глаза вверх и придавая голосу то грустный и заунывный тон оторопелой невинности, то густой звук человека правдивого, но гневного, – то переходя к воплю негодованья, к крику ярости, то опять понижая голос и сокращая под умоляющую просьбу к присяжным, чтоб они ему подали ради имени Христова обвинительный вердикт; к ним он обращался беспрестанно, стараясь их раздражить и уверить, что преступление Эквилье личная обида им. В пространной речи своей, однажды только прерванной человеческой слабостью одного присяжного, который попросился у президента отлучиться ненадолго, причем президент объявил: «Messieurs, la séance est levée»[240] и снял с себя шапку с золотой оторочкой. Присяжный воротился вскоре, тогда президент объявил: «Messieurs, la séance est ouverte»[241], накрылся, опять снял шляпу, и прокурор продолжал, – в пространной речи своей прокурор красноречиво удивлялся распутной жизни нынешней молодежи, которая ужинает у «провансальских братий», проводит ночи за картами, посещает актрис, имеет связи с женщинами, и в этом числе есть даже имена молодых литераторов, которые вместо того, чтобы брать пример с Вольтера и Руссо, тоже ужинают и играют в карты. Он цепенел от ужаса, вспоминая эту жизнь, он просил присяжных посмотреть, если только ужас и негодование, если слезы сожаления и справедливое отвращение дозволят им ближе вглядеться в эти нравы, вопиющие и развращенные, взглянуть, куда все это привело… Холодный труп одного лежит в земле, он убит на дуэли, другой убийца его, третий – на скамье обвиненных. «О, если б, – говорил он, – эти молодые люди проводили свою жизнь… (следует идеал жизни по понятиям г. прокурора), тогда бы…» (следует награда по понятиям г. прокурора), но вместо этого, сколько ему ни жаль, по состраданию, свойственному всякому от женщины рожденному, но он уверен, но он не смеет сомневаться, но его душа не имеет места, которым бы он дерзнул предположить, что присяжные не покажут спасительного примера строгости законов. Вы, может быть, подумаете, что прокуроры здесь выписываются из женских монастырей? Совсем нет: они сами обедают и ужинают у «провансальных братий», играют в карты, имеют интрижки (да еще какие, если вспомнить Мартень дю-Нора, прокурора прокуроров), а если не ездят к актрисам, так это потому, что к непорядочным надобно ездить с деньгами (они здесь в цене), а прокуроры скупы; а к порядочным их не пускают, потому что они скучны.
«Но где же было общество без лицемерия? Да, где? покажите-ка?» Что делать! Надобно сознаться, правда…
Да еще надобно сознаться, что женщины коварны… что мужчины, как мухи, к ним льнут, что нет правила без исключенья, что, пока будут люди, будут злоупотребления, а пока будет буржуази, у нее будет кодекс глубокомысленных сентенций в китайском вкусе…
Все это так; но вот что меня сбивает: как же это по железным дорогам люди никогда прежде не ездили, а мы ездим?
А если раздумаемся, в самом деле трудно решить, следует ли защищать лицемерие, т. е. ложь, или нападать. Вот хоть бы сказать о деле Эквилье.
Эквилье за ложь и за то, что он не подражал в жизни Вольтеру и Руссо, ужинал у «провансальцев», играл ночью в карты, имел связи с женщинами и ездил к актрисам, посадили на десять лет в тюрьму (reclusion[242] – это хуже простой тюрьмы). А Гранье де-Кассаньяк, солгавший в том же деле, уличенный во лжи да еще в дополнение подбивавший свидетелей, даже не отдан под суд. Может быть, он подражал в жизни Вольтеру и Руссо, ужинал в Rocher de Cancale, играл днем на бильярде, имел связи не с женщинами и только ссорился с актрисами, может быть… не знаю. Что же, надобно лгать или не надобно? Это как вам угодно… Друг Гизо, друг Дюшателя и еще более друг лжи поехал в Италию; климат, антики, картины, альпы и сопраны – и он под голубым небом Италии будет думать, «как хорошо лгать».
Друг Бовалона, друг актрис в то же время едет в тюремной карете обдумывать на полном досуге в каком-нибудь мерзком центральном остроге, «как дурно лгать».
Ну, а как вам нравится выходка прокурора против целого сословия драматических артистов? Я не мог вам передать с стенографической точностью речь прокурора, но слова подчеркнутые с подлинным верны. Что, у вас нет сестры, жены, друга на сцене, и прекрасно, если нет, а то ежели знакомство увеличивает вину, то родство, я думаю, само по себе преступление. А как кричали буржуа, когда не хотели хоронить Тальму? Это другое дело; а подобная диффамация нравится им, они ей аплодируют грязными руками своими; буржуази не терпит все, что не тонет с нею в болоте посредственности и пошлой жизни; как не ненавидеть им женщин, получающих большие деньги, – женщин, на которых ходят смотреть с восторгом, – женщин, о падении которых они слыхали, бледнея от зависти, потому что они падали не в их объятия, – а там что им за дело, что благородные женщины, матери семейства, великие таланты – Виардо, Рашель, Линд, Гризи – оскорблены рядом с какой-нибудь развращенной! – Грязные люди, мелкие люди!
Однако довольно с них на этот раз. – Я с ними расстаюсь, посмотрю на них издали, с апеннинских высот и с итальянского берега… есть художественные произведения, которые надобно смотреть отступя. – Прощайте до следующего письма.
15 сентября 1847.
P. S. Приехала Карлота Гризи… ни слова не скажу о ней: во-первых, боюсь: прокурор рассердится, что я в одном письме упоминал о нем и о танцовщице; во-вторых… даже говорить об этой вьющейся, гибкой, неуловимой ящерице с изумрудными глазами опасно, очень опасно, а видеть и не приведи бог. Вы не видали, ну, вам и ничего, а у меня вот теперь перед глазами, как живая… вот… вот… исчезла! Ах, зачем я не Аполлон Савромах!
Письма с Via Del Corso*
Письмо первое[243]
К осени сделалось невыносимо грустно в Париже, я не мог сладить с безобразным нравственным падением, которое меня окружало, я чувствовал, что в мою душу забирается то самоотвержение, тот холод и то «все равно», которое вносится утратами, разрывом с действительностию, презрением к настоящему; я старился и только иногда по негодованью чувствовал еще молодость сил. – Смерть в литературе, смерть в театре, смерть в политике, смерть на трибуне, ходячий мертвец Гизо, с одной стороны, и детский лепет седой оппозиции, с другой; – там где-то внизу раздавались какие-то крики титанов, что-то сильное и страшное, как будто из могучей и здоровой груди, но снаружи – остынувший кратер, превратившийся в грязь и слякоть. Франция выздоровеет, я сказал это в прошлом письме, без радикальных средств небесного огня и морской воды, но мне не хотелось быть сиделкой у ее изголовья, пока она ломается в припадке безумия, сдерживаемая грязными и циническими руками цирюльников и фельдшеров. – «В Италию, в Италию!» – Прочь каменные стены, прочь жалкая природа, мне хотелось отдохнуть, хотелось моря, моря, теплого воздуха, пышной зелени и людей не так истасканных, не так выживших из сердца. Я решился ехать. – А признаюсь вам, когда пришлось расставаться с Парижем, мне сделалось страшно, мне сделалось больно; вся моя задорная храбрость покинуть Париж исчезла, когда пришлось сесть в коляску, – я даже ожидал, не случится ли чего-нибудь, не сломается ли ось, – как на смех ничего, – мы покатились. – «Ну, а как в Италии будет еще хуже? Померанцевых деревьев и синего неба мало для жизни», – думал я, переезжая мост, сделанный из камня, наломанного народом при разрушении Бастилии, и прощаясь с удивительной панорамой обоих берегов Сены; огромные почернелые от времени домы и блестящие новые дворцы, печальные, готические стены Консьержри, величавый фасад Собора, а по другую сторону Тюльери с Лувром провожали меня – но как-то печально, дождик падал, небо обложилось, даль была покрыта легким туманом, почтальон щелкал бичом, коляска катилась, панорама менялась, становилась боком, уходила за домы, выходила из-за домов все смутнее, смутнее – прощай, Париж, прощай, – и я в глубокой задумчивости и в очень капризном и сонном расположении высунул на станции голову. – «Как эта станция называется?» – «Шарантон!» – отвечал почтальон, стоя в луже и с досадой откладывая лошадей. Дождь лился ручьями, смерклось совершенно – я вспомнил свою светлую квартиру, Рашель, Карлоту Гризи, бульвары – – и мне показалось естественным и справедливым, что меня привезли в Шарантон за то, что я выехал из Avenue Marigny. – Париж, господа, что там ни толкуй, – единственное место в гибнущем Западе, где широко и удобно гибнуть.
Ездить во Франции на почтовых лошадях скучно: точно машина, ни разговоров, ни спора, ни станционных смотрителей, ни их самоваров, ни книг, ни подорожных. Почтальоны ездят скоро, закладывают в один миг, дорога – как скатерть, лошади везде есть, вся поэзия исчезла. И не сломайся у меня коляска в Шалоне, я доехал бы до Лиона, не заметив пути. Лион зато во всяком случае сделал бы на меня сильное впечатление. Я не мог нарадоваться в нем успехам инженерного и фортификационного искусства во Франции; представьте себе – этот огромный, этот сжатый, битком набитый город, в котором постоянно более 300 тысяч жителей, можно уничтожить в полчаса, благодаря укреплениям, поставленным после 1832 года. Лион прислонен к двум горам и разрезан двумя реками; на всех высотах, скромно и не очень выставляясь, притаились небольшие укрепления, – там пушек пять, шесть, тут – пушки три, четыре; эти фортификационные образчики растут, умножаются и тянутся к огромной крепости по другую сторону Соны в старом римском городе, которая угловатым венком своих полигонов окружает гору и городское кладбище, – мертвые сберегутся,т. е. те, которые успеют переехать до первого «пли». Между отдельными крепостцами есть художественный ensemble, так что, в случае перестрелки, весь Лион покроется ядрами и картечью во всех направлениях, не будет в городе точки, на которую бы не могло упасть ядро, – остальное доделают бомбы. Середь города тоже разбросаны пушки, идешь каким-нибудь закоулком и натолкнешься вдруг на два, на три жерла, обращенные на два, на три переулка и осененные трехцветным знаменем с иронической надписью: «Liberté et ordre publique». – Главная часть укреплений обращена против фабричной части города, расположенной по горе с другой стороны Соны. У меня закружилось в голове, когда я с крепостной стены посмотрел в трубочку на эти шести-семиэтажные домы, прислоненные к утесам, на эти улицы, кишащие от многолюдья, и вообразил себе два залпа, один сверху, с утесов, и другой из крепости – Мне представилась груда каменьев, теплых от человеческой крови и переложенных детьми, женщинами, стариками, – я не мог удержаться, чтоб не сказать этого офицеру, который стоял возле меня – – Офицер вспыхнул в лице, отвернулся от меня и сказал голосом мрачным и тронутым: «Это невозможно». – «Для чего же в таком случае страшные траты на постройку, – были вы здесь в 32 году?» – «Нет, я был в Алжире, я и теперь, – поспешил он прибавить, – временно прикомандирован здесь, – я служу в Алжирской армии». – Со мною был valet de place. «Вот ужас-то был, – вступил он в речь, – пятнадцать лет прошли, а теперь вспомню, так страшно делается. Видите эту террасу, сюда загнали солдаты и Национальная гвардия работников, сойти им некуда, назад двинуться невозможно – штыки, а дороги, сами видите, какие узкие; пользуясь этим, открыли пушечный огонь из-за Соны, да тут их и покончили – картечью». – Я взглянул на древнюю римскую стену, она сделалась рябая. – Страшное событие, великая жертва в наш век со стороны образованного министерства; министры большею частию были филантропы, либералы, политические экономы, историки, газетчики – – чего, чай, стоило их нежному сердцу, их сентиментальности дать такие приказы – а делать было нечего, надобно было успокоить буржуази, надобно было дать залог, снять всякое сомнение, скрепить связь между новым порядком и ею. Лионское усмирение и бойня в Cloître St.-Merry громко высказывали, как разрешается министерством вопрос о плате за работу, о голоде и о прочих беспорядках, – словом, это была комментария, очень говорящая, к знаменитому «désormais une vérité»[244] – это были сентябрьские дни второй Реставрации, они отрезывали, с одной стороны, все надежды и сжигали, с другой, все корабли – –
– После двухдневной стрельбы, – продолжал мой рассказчик, – стало потише, тут взошла армия торжественным маршем, с барабанным боем, с зажженными фитилями, герцог Орлеанский и Сульт приехали.
– Что же, дали праздник? – спросил я.
– Нет, что-то не помню, – отвечал он с величайшим добродушием. Я обернулся к офицеру, но он успел уйти – –
У городов, как у людей, бывает иногда трагическая судьба. Лион, который теперь живет под дамокловым мечом укреплений, усеянный тысячами трупов в 32 году, был театром страшного наказания в 1793 году. – Лион никогда не был городом аристократическим, дворянство его не было блестяще, но в нем всегда было обширное, богатое купечество и очень сильное духовенство. Все это вместе придало его жителям, с одной стороны, характер жесткий, корыстный, завистливый, с другой – угрюмый, нетерпящий, сосредоточенный, скрытно страстный, если хотите, иезуитский; буржуази в Лионе, как и везде, была рада переменам 89 года; всякое приобретение прав среднего состояния было действительным приобретением для лионских фабрикантов и торговцев, но прежде, нежели где-нибудь, обличилась в Лионе иная борьба и иное зло, именно: борьба работников с хозяевами, с фабрикантами; приобретая новые права себе, они хотели оставить бедные классы и работников в состоянии прежнего илотства. А потому лионская буржуази, аплодировавшая первым мерам народного собрания, подняла знамя междоусобной войны против Конвента. Она это сделала в самую критическую эпоху для Франции. Неприятель был в двух шагах с трех сторон. Лион, близкий к Алзасу, к Швейцарии, к Пиэмонту, в надежде на неприятельскую помощь, защищался храбро против республиканских полчищ, – но и те были, конечно, не трусы, город был ими взят. Месть Конвента была страшна, она мерилась степенью опасности, в которой была Франция – он громко возвестил свой громовый приговор: «Срыть с лица земли крамольный город, упразднить его». Послали Кутона, члена Комитета общественного спасения. Хромой, нервный Кутон не был ни тем германским императором, который срыл до основания Милан и посыпал землю солью, ни инженером доктринеровских времен, он не хотел выполнить буквально свирепый приговор и придумал средство, совершенно обратное доктринерским, – не скрыть половину свирепостей и грозных мер – а удвоить, накричать об них так, чтоб поразить воображение погребальной торжественностию казни – он сам с молотком в руке, во главе всей черни, отправился разрушать богатейшие здания – он сам давал первый удар молотом домам, назначенным на сломку; по большей части этот первый удар был и последним. Начался суд, т. е. казни, – захвативши главных зачинщиков, остававшихся в городе, Кутон дал знать под рукою замешанным в дело жителям, чтобы они удалились; несколько тысяч человек были спасены таким образом. Кутон ошибся в расчете. Главный враг восставших лионцев не был ни Конвент, ни его солдаты, а лионская чернь, которую они морили с голоду, унижали, теснили в продолжение целых поколений; эта чернь, которой безумный и фанатический представитель был казнен самым страшным образом врагами черни, имела, сверх выстраданной ненависти и злобы, ту неумолимую свирепость, которую развивают нужда, невежество и долго переносимая несправедливость, у нее были свои частные счеты, им хотелось мести – непреклонной, кровавой, личной; они верили в нее, ждали ее, наслаждались ею вперед – и обманулись, с бешеной злобой обратились клубисты к Кутону – трагическая обстановка не скрыла в их глазах мысль конвентского посланника. Делать было нечего – надо было усугубить казни. Кутон не мог вынести и просил Комитет общественного спасения отозвать его, чернь требовала более энергических исполнителей, т. е. более свирепых – на этот раз Конвент угодил им, он послал Карье и Фуше, – Карье, которым гнушался Комитет общественного спасения, и Фуше, которым не гнушались ни Наполеон, ни Реставрация. Все, что не успело спастись при Кутоне, пало под ударами гильотины, Рона уносила их обезглавленные трупы, кровь струилась по площади перед Hôtel de Ville, толпа осужденных (до 300 человек, говорят иные) была расстреляна en masse – Карье и Фуше смотрели из окна на казнь – – что-то они думали? Кто их знает! – Чернь была удовлетворена, месть ее удалась – – но она не предвидела, что кровь даром не проходит, что и на улице буржуази будет праздник, что через сорок лет буржуази отмстит черни – и как!
С Авиньона начиная, чувствуется, видится юг. Для человека, вечно жившего на севере, первая встреча с южной природой исполнена торжественной радости – юнеешь, хочется петь, плясать, плакать – так все ярко, светло, весело, роскошно. Провансом начинается благодатная полоса, тут встречаются леса маслин, пышная зелень, цветы, – небо синеет, в теплые дни чувствуется широкко. Недалеко от Авиньона надобно было переезжать приморские Альпы; в лунную ночь взобрались мы на Эстрель, побоялись ночью спускаться и дождались рассвета. Когда мы поехали, солнце всходило, цепи гор вырезывались из-за утреннего тумана, луч солнца осветил вдали ослепительные снежные вершины; яркая зелень, цветы, резкие тени, огромные деревья и мрачные скалы, едва покрытые бедной растительностью, – прибавьте к этому упоительный воздух, необычайно прозрачный и звонкий; наши слова, пение птиц необыкновенно раздавались; мы стали спускаться; с каждым шагом виды менялись: то новая цепь гор откроется, то небольшое озеро внизу, то едешь берегом пропасти, то роскошной лужайкой, то у подошвы огромных скалистых пластов, точно будто накладенных какими-нибудь титанами, вместо которых теперь прыгают козы, – и вдруг на небольшом изгибе дороги, как кайма около гор, блеснуло Средиземное море. Мы все молча взглянули друг на друга – – сколько пустоты, скуки, скорби и, главное, пошлости выкупает такое утро, такой переезд! – Тосканец-повар указал мне рукой на этот вид и в три ручья заплакал. «Это наше море, это наши прекрасные итальянские берега!» – сказал он, закрывши лицо рукой. Как, в самом деле, не любить такую родину, в этой природе есть что-то упоительное, захватывающее грудь, – вот и я не мог не описать вам нашего пути, а знаю, что тут ничего нет ни особенного, ни нового – – Что делать – въезд в Италию делается для человека каким-то счастливым событием, светлой чертой в воспоминании – – –
От Эстреля до Ниццы не дорога, а аллея в роскошном парке: прелестные загородные домы, плетни, украшенные плющем, миртами, целые заборы, обсеянные розовыми кустами, наши оранжерейные цветы на воздухе – – померанцевые и лимонные деревья, тяжелые от плодов, с своим густым благоуханием – и вдали с одной стороны Альпы, с другой море.
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. –
Удивительно хорошо, – одно оскорбляет глаз и щемит славянскую душу: высокие, каменные ограды, отделяющие сады, даже иногда огороды и поля, – мрачные, лишенные изящества, они представляют какое-то увековечиванье исключительного владения, дерзкую апотеозу права собственности – для пролетария дорога пыльная, жесткая и оскорбительная стена, напоминающая ему беспрерывно, что он нищий; для него нет даже вида вдаль. Нельзя себе представить, какой угрюмый характер придают полям и земле эти стены: деревья, как узники, посматривают через них – – Русского села в Европе нет. Деревенская коммуна в Европе – полицейская мера, другого смысла в ней нет: что общего между этими разбросанными домами, у которых все свое, которые связаны только общей межой? Что общего между голодными работниками, которым коммуна предоставляет le droit de glaner, и богатым домохозяином? Да здравствует русское село – будущность его велика!
Ницца город французский больше, нежели итальянский, об нем говорить много нечего. Не будь в Ницце несколько гористых и темных переулков, по которым ездить нельзя от узкости, а ходить невозможно от грязи, – не будь горы, к которой она прислонилась старой частью своей, и залива, который в свою очередь прислонился к новой части, – она была бы похожа на большой губернский город у нас. Одна достопримечательность и есть в Ницце – река без воды, но с набережной, с мостом, как следует, даже сохранен вид, будто она впадает в Средиземное море. Ницца живет и процветает туристами – почему предпочитают Ниццу другим городам той же полосы и также огражденным горами, я не знаю. Для того чтоб жить в Ницце, надобно иссушить свое тело излишним воздержанием или излишней невоздержностью, как все англичане, павшие на ноги, и все англичанки с попорченным спинным мозгом, – которые составляют главное население Ниццы, – или, наконец, в ней можно жить par dépit, на смех всей Европе, как девяностолетний Сержан, умерший здесь три месяца тому назад. Сержан будировал Францию, недовольный умеренностью Конвента; закоснелый старик умер, сильно озлобивши иезуитов, – они хотели воспользоваться апоплексией и предсмертной слабостью его, чтоб заставить торжественно отречься от прежней жизни своей. Для них такое обращение было бы очень казисто. Но Сержан так же мало испугался паралича и иезуитов, как некогда гильотины и палачей, – он приподнялся с усилием и слабым голосом объявил стоявшим возле его постели, перед самой кончиной, что, если б ему пришлось снова повторить свою жизнь, то он снова играл бы ту же роль в событиях, что совесть его покойна, что он, может, ошибался – – но в преступлении себя ни в каком не обвиняет и проч. А Сержан участвовал в Сентябрьских днях. Как тут поймешь? –
– Зато Генуя совершенно итальянский город. Мы приплыли в Геную прелестнейшим ноябрьским днем на рассвете. Что это за удивительная красота, как пышно рассыпался этот город по горе, до самого моря! Здания, улицы Генуи имеют совершенно оригинальный характер, огромные дворцы, мрамор, домы вышиной с наши колокольни и узенькие переулки без конца, покрытые народом, который тут работает, ест, поет песни, беспрестанно кричит и размахивает руками. И что за добрый, что за славный народ итальянцы, со всяким днем убеждаюсь я в этом более и более, сколько приветливости, гуманности, сколько веселого юмору и беззаботного простодушия; даже его мелкие плутни, о которых столько накричали туристы, скорее смешны и веселы, нежели отвратительны, и всегда вертятся около пяти, шести байокков; он, обманывая вас, делает такую улыбку и такие глаза, он так доволен и так готов сознаться, что лжет, – что у вас недостает духу сердиться. Заметьте притом, что он никогда не унижается, никогда не похож на раба[245]. Геную я застал торжествующую, нарядную. Карл-Альберт был тут, и город пировал с ним реформу и примирение. Генуя, с самого присоединения к Сардинии, жила в каком-то мрачном отчуждении от Пиэмонта; она смирялась, покорялась – но с нахмуренным челом, ее аристократы держали себя вдали от Турина, пиэмонтские чиновники были иностранцы для лигуров. Реформа уничтожила почти все, делившее двух соседей. – Кстати, весть о реформе я еще узнал в Ницце; расскажу вам, как это было; мне эти воспоминания святы, с ними связано у меня нравственное выздоровление, за которое я бесконечно благодарен Италии. – Я бежал из Франции, отыскивая покоя, солнца, изящных произведений – и сколько-нибудь человеческой обстановки, да и всего этого я ждал не в Пиэмонте. И что же – лишь только я поставил ногу на итальянскую землю, меня обняла другая среда – живая, энергическая. Я обязан Италии воскрешением лучших упований, обновленной верою в свои силы и силы других; я здесь увидел одушевленные лица, слезы, я здесь увидел, что и сам не разучился сильно чувствовать. Бесконечная благодарность судьбе за то, что я попал в Италию в такую великую минуту ее жизни – в это спокойное, благородное Risorgimento, полное силы, сознания и того изящества, которое присуще всему итальянскому – дворцу, хижине, нарядной женщине и нищему в лохмотьях. – Кому из вас не случалось проезжать по селу в светлый праздник – все нарядно, радостно, мужичок выпил стаканчик и рассеял думу об оброке, баба надела новый сарафан и не думает о барщине, парни гуляют, забыв о рекрутстве, «они воскресли тоже, – говорит Фауст, – из душных мастерских, из низеньких домов». Представьте же себе не село, а целую страну в праздничном наряде, да еще в такое воскресенье, которое не имеет понедельника, – страну, которая не обманула себя на день, а вступила в новую эру, – и в дополнение представьте, что эту страну называют «Италией»! Фауст, видя праздничных поселян, сказал: «Hier bin ich Mensch – hier darf ich sein!»[246]
Что сказать мне? – – – –
– – – – А давно ли было то время, в которое Гейне писал, что в путевых записках об Италии можно говорить обо всем, кроме Италии? – Все находили, что он прав, всем казалось пошлым <говорить> о предмете, о котором все высказано с гением Гёте, с негодованием леди Морган, с поэтическим гневом Байрона, с мещанской тупостью Валери, написавшего гид ad usum[247] французской буржуази. Казалось, что нет предмета более исчерпанного, как Италия, потому что в ней ничего не совершалось, и путнику оставалось повторять о величине Колизея, о действии лунного света на развалинах, о куполе св. Петра, о Ватикане, о жирондоле и папских благословениях. – Италия лет двести, даже с лишком, ничего не делала, как будто нарочно давая полное время описывать себя со всех сторон, она изящно позировала – великая куртизана между народами.
– и сбылось, только ее не разлюбили. Недаром Соломон в притчах сказал: «На все свое время, есть время камни собирать, есть время камни метать». Было время тяжкого сна для Италии, она устала от двух великих прошедших, она устала от междоусобий, от несчастий и, захваченная в брани и ненависти, она просыпается, одушевленная одной любовью и одной мыслию, она спаялась горем и слезами, она научилась в это скорбное время признавать брата в каждом отвечающем «si»[249] на вопрос и забыла семейные ссоры и старые притязания.
Глухой говор о реформе, тяжелое ожидание ее, подземный ропот, деятельная тишина, если можно так выразиться, – предшествовали обнародованию перемен, полицейские ходили, придавая своему лицу особую проницательность, озлобленные иезуиты и испуганные аббаты шныряли по улицам и поучали направо и налево, военные придавали себе еще более кровожадный вид[250]. Группы являлись вдруг, как из-под земли, на площадях, на углах; в кофейных и на бульваре говорили о политике – несмотря на то, что еще не было разрешения говорить о чем-нибудь, кроме погоды. В Турине были заметны большие хлопоты: то одного министра отставят, то другого переведут куда-нибудь, то третий сам выйдет, «Gazzetta Piemontesa» свирепствовала против реформы, жужжала с бессильной злобой пчелы против всех нововведений и дурным слогом говорила, что Сардиния находится на верху блаженства, что если в ней похуже, нежели в царстве небесном, то это только потому, что еще не совсем развились премудрые учреждения, созданные Каринианским домом, что реформа погубит прелестную гармонию Пиэмонта, Лигурии, Савойи и Сардинии – – Карл-Альберт иначе понимал вопрос, он чрезвычайно казисто и своевременно исполнил то, чего отложить не мог. Он очень хорошо понял, с одной стороны, зрелость своего народа, с другой – перевес, который ему даст реформа в глазах всей Северной Италии. Реформа была самая скромная, она стремилась поправить вещи, вопиющая несправедливость которых бросалась в глаза, меняла устаревшие учреждения, обессиленные самим временем. Словом, возле Пия IX, возле Леопольда Тосканского – нельзя было не сделать уступки развитию, потребностям времени. Важнейшая сторона реформы состояла в довольно широких коммунальных правах. – Коммуна – глубочайший корень гражданственности, всякая политическая перемена только в ту меру истина, в которую она входит в жизнь коммуны; доселе коммуны управлялись коронными приставами – теперь они сами будут избирать начальника, будут иметь свой совет. Далее, судопроизводство получило правильную однообразную форму, инквизиционный процесс заменяется гласным, один суд и одинакий суд для всех; судопроизводство всякими исключительными комиссиями отменено, власть полиции сокращена, власть ценсуры уменьшена, разрешено издавать политические журналы, даже употреблено слово «свобода книгопечатания», более, впрочем, как ораторское украшение[251]; вы помните, что и Фигаро имел право все говорить, за исключением того, о чем хочется. Итак, в то время как дикие завывания «Пиэмонтской газеты» печатались, Карл-Альберт страшно наказал официальный лист, подписывая положение о реформе. – И на другой день является «Пиэмонтская газета», в ней манифест о реформе – Мария-Антуанетта поседела за ночь, газета переменила свой цвет в полчаса. – Жить не может без реформы и только, в горячности своего поклонения к новым мерам она представила так ужасно беспорядок и вред всего, защищаемого ею с таким ожесточением, что я растерялся в догадках. «Верно, переменили редакцию?» – спрашиваю я в Cabinet de lecture. – «Нет, редакторы те же». Стало быть редакторы включительно до королевского приказа о реформе были помешанные и вдруг прозрели в этот день. – Эдакие случаи «бывали в истории с многими известными людьми» – «и большими листами». –
Новость разнеслась с быстротою электрического телеграфа. Все население Ниццы высыпалось на Корсо, шляпы полетели вверх, трехцветные фуляры, привязанные к тростям, заменили знамена, загремела музыка, и раздалось громкое, беспрерывное «Evviva Carlo-Alberto, – evviva l’Italia, evviva Pio nono!»[252] – Бюст Пия явился в окнах рядом с бюстом короля – вечером городок покрылся плошками, шкаликами, толпы народа гуляли с песнями, криками и факелами; с балконов дамы махали платками, мужчины выходили с кокардами; работа остановилась, город ожил; энтузиазм не знал предела, он доходил до ребячества – и только было улегся немного, вдруг lega doganale[253] – опять знамена, факелы, опять гимн Пию IX, гимн Карлу-Альберту.
Кстати, к празднествам Ниццы расскажу вам, как я в первый раз не слыхал гимн Пию. Читаю я однажды в Париже объявление, читаю – там, где обыкновенно приклеивают афиши, – на тех выдолбленных памятниках, назначенных, с одной стороны, для величайшей гласности, а с другой – для глубочайшего aparté, – что в Château des Fleurs будет пропет в первый раз гимн «Piо nono». Бегу в этот ультрамещанский и пошлый сад, беру билет, сажусь – играют польки, поют «Чувствительную Перетту», плохой актер de l’Opéra comique дурачится – играют, наконец, отрывок из «Сороки» Россини и пускают ракету – трещит плохой фейерверк, мещанки показывают вид страха, их кавалеры храбро улыбаются – – все это мило – но где же гимн? Фейерверк обыкновенно значит «подите вон». Я в отчаянии подхожу к капельмейстеру с афишей в руке. – «У нас все было готово, – отвечает капельмейстер, – префект запретил. Que voulez vous faire, nous vous avons donné pour le „Pie neuf” un morceau de la „Pie voleuse”»[254]. Не думайте, впрочем, что я один заметил, что гимна не было. Вы знаете, как парижская публика требовательна – – но вы, может, не знаете, как ее выдрессировали Дюшатель и Делессер. – Мещане пошептались и пошли по домам. Муниципалы, т. е. королевская гвардия Карла X в других мундирах, каким-то холодно-упорным взглядом проводили посетителей до улицы – – Мне было досадно – я вышел из ворот глупого сада, два ряда бесчисленных фонарей горели в обе стороны Елисейских Полей – с одной стороны на place de la Révolution грозился черный печальный обелиск, поставленный на месте страшной гильотины, – я обернулся назад – там исчезал Arc de Triomphe, на котором чудный резец так славно вырезал «Марсельезу». – А между площадью и Триумфальными воротами запретили петь гимн Пию девятому. –
Мишле, начиная курс второго семестра 1847, сказал: «Гг., прошедший год для нас нравственное Ватерлоо, глубже упасть нельзя, мы дотронулись до дна срама и позора». –
Мишле не думал в это время, что у фокусников есть ящики с несколькими днами. С тех пор как он произнес эти слова – открылось еще дно пониже. – Последнее ли оно – увидим! – Но воротимся к Италии.
В Ливурне я увидел первую итальянскую народную стражу – чивику, il popolo armato. Люди, одетые в блузах и куртках, во фраках и пальто, с перевязью через плечо, с ружьем и с кокардой на шляпе или фуражке, занимали все посты. – В этом зрелище есть нечто чрезвычайно совершеннолетнее. Национальная гвардия в мундире – не армия, но и не граждане. – Чивика в блузе и сертуке – остается мирным гражданином, оберегающим иногда общественный порядок, никогда не враждебной народу; а впрочем, мне даже сделалось больно, когда я вздумал о страданиях грибоедовского Сергея Сергеевича, так любившего форменные отлички, в мундирах выпушки, погончики, петлички. – В Ливурне случилось дни за два до моего приезда забавное происшествие. Полиция, – хотя тосканская полиция всегда была скромнее, нежели во всей Италии, – обиженная реформами, а более всего учреждением чивики, которая обрезала их круг деятельности, бросилась в решительную оппозицию. Между прочим, им хотелось замарать, компрометировать чивику; для этого полиция стала подкупать разных мерзавцев, чтоб они ночью старались завязывать драки и шум с патрулями чивики. В одну ночь игра зашла несколько дальше программы, один из плутов ударил капрала ножом, да так ловко или так неловко – что тот упал и умер; убийцу схватили и свели в тюрьму – – разнесся слух, что его хотели поскорее казнить, чтоб скрыть семейные тайны о подкупе, – народ привел священника к тюрьме, велел колодника подвести к окну и заставил его каяться; испуганный, что ли, или тронутый, но дело в том, что преступник рассказал все, чивика отправилась арестовать сообщников, и когда они поймали двух, трех, остальные, т. е. вся полиция бросилась в вагоны и ускакала в Емполи. Город остался совершенно без начальства, и притом в удивительном порядке – чивика исполняла все полицейские обязанности. – При этом не следует забывать, что муниципальная жизнь, привычка распоряжаться городскими делами, унаследованная и от древнего мира и от средних веков, – поразительны в Италии; это такой великий, такой полный будущего элемент, который не умели и не могли подавить ни папы, ни тедески. Гнет, лежавший на Италии, почти никогда не касался до коммунальных и чисто городских прав, он подавлял политическую жизнь, общегосударственное развитие ее, подавлял общие мысли и новую цивилизацию, но до сильно сложенных и замкнутых индивидуальностей городских он не касался – особенно в Тоскане и папских владениях. Напротив, власть старалась их поддерживать в исключительности и отчуждении от всего за стенами города; наконец, она их поддерживала потому, что легче было вести дела, имея коммунальную жизнь за себя. – Города, пользуясь этим, не отвыкли управляться сами собою. –
В Тоскане сильное политическое движение, жители этой полосы Италии образованнее прочих итальянцев. Вы знаете, что еще до Французской революции Тоскана уже имела довольно свободные учреждения и даже конституцию, которой не умела пользоваться. До австрийской династии Тоскана менее своих соседей пострадала от вековых бедствий Италии – это какой-то береженый сад ее. Теперь все от мала до велика занимаются политикой, везде платки с патриотическими надписями, карикатуры, стихи. Лодочник, который меня вез из Ливурны на пароход, толковал о необходимости присоединения Миссы и Каррары к Тоскане, потом стал рассказывать проделки иезуитов, сильно выражаясь насчет почтенных братий, а когда я, вспомнив свое православие, не счел нужным особенно их защищать, тогда он со мной совершенно подружился и вдруг схватил меня за руку и с довольным лицом указал мне на борт лодки – там было грубо и косо вырезано: «Viva Gioberti е l’indipendenza!»[255] – Во Флоренции мы не были, оставили ее для обратного пути.
Тридцатого ноября приехали мы в Рим.
Генуя, Ливурна, Пиза – остались в моей памяти светлыми точками, воспоминания об них всякий раз делают мне большое добро. Такого вполне радостного чувства, как в этих городах, я не часто испытывал, и не странное ли дело, при переборе отрадных воспоминаний сейчас представляется – что вы думаете – Кенигсберг! Есть города, так, как люди, с которыми встречаешься особенно тепло, под особенно счастливым созвездием. Кенигсберг был первый город, в котором я отдохнул и свободно перевел дыхание после тяжкого и долгого пути, в нем я встретился с Европой, – и вот теперь невольно вспомнил его. – Не могу сказать, чтоб Рим с первого раза сделал особенно приятное впечатление. В Рим надобно вжиться, его надобно изучить, чтоб раскрыть его хорошие стороны. В наружности его есть что-то старческое, отжившее, пустынное и дряхлое; его мрачные улицы, его огромные дворцы и некрасивые домы – печальны, в нем все почернело, все будто после покойника, все пахнет затхлым – так, как в Берлине или Петербурге все лоснится, все ново, все пахнет известью, сырым, необжитым. Но всего более поражает в старчестве Рима – отсутствие величия, ширины – понятия, которые мы привыкли сопрягать со словом «Рим» и которые действительно остались в некоторых памятниках да уцелели в народном характере. Новый Рим мескинен и грязен, лишен торговли – и с нею всех удобств. В Италии нигде нет комфорта – но нет и пошлости, итальянские города грязны, но поразительно хороши в своей небрежности; они неудобны, но величавы, нигде не тесно, нигде нет vulgar; итальянские лохмотья – драпри. – Рим делает исключение. Пожалуйста, не осуждайте меня снова за неуважение, а дайте объясниться, о каком Риме я говорю. Я говорю о Риме, который есть, а не о двух прошедших Римах, – и еще менее о том, который нарождается, я говорю о Риме настоящем, как он вышел из рук последнего представителя смерти и оцепенения – в полтора года переродиться ему было невозможно.
Вечный город несколько раз менял свою броню, следы разных одежд его остались, по ним можно судить, какова была его жизнь. Рим – величайшее кладбище в мире, здесь, как в анатомическом театре, можно изучать смерть во всех ее фазах, здесь можно научиться понимать былую жизнь по кости, по одной колонне. И первое, что поражает человека, не свихнувшего свой ум приготовленной теорией, – это следы жизни узкой, дикой, отталкивающей, исключительной, сварливой, которыми сменяется широкая, изящная жизнь древнего Рима; в ней ни малейшего понятия об искусстве, ни малейшего чувства изящного – застроенные в стены колонны, порталы стоят вечными свидетелями безвкусия печального мира, заменившего мир Пантеона и Колизея. Древний Рим пал, как могучий гладиатор, его колоссальный остов внушает благоговение и страх, он и теперь гордо и торжественно борется против разрушения, время не могло сокрушить его кости; его остатки, ушедшие в землю, разваливающиеся, покрытые плющем и мохом, и величественнее и благороднее всех храмов Браманта и Бернини. Каков был великий дух, умевший так отпечатлеть себя этими каменными ребрами, – дух до того поправший смерть, что полустертый след его подавляет собой два, три Рима, выстроенные возле и строившиеся века! Когда я первый раз вышел за Капитолийскую гору и, вовсе не зная Рима, вдруг нежданно очутился на Форуме, у меня сперлось дыхание, – я остановился смущенный и взволнованный – вот он, остов великого деятеля, я узнал его черты, в гигантском скелете сохранившие царственное выражение. Forum Romanum – великие светские мощи мира чисто светского. Достаточно одного образчика, достаточно с избытком, например, одних терм Каракаллы, чтоб понять, что вечный Рим тут, в этих развалинах, – и чтоб по этим развалинам рассказать, кто были римляне. Рядом с костями полубога, героя, возле них, около них, а частию и на них, замерла другая жизнь, жизнь средневекового Рима – печальная, суровая мумия. Весь этот византизм и готизм был не по натуре итальянцам, всего менее римлянам – они не настолько южны, чтоб предаваться страстному аскетизму, и не настолько северны, чтоб предаваться мечтательному мистицизму. Климат Италии слишком светел, ее деревья слишком хороши, небо слишком сине, женщины слишком стройны и черноглазы – для всей этой истомы плотоумерщвления; итальянца тянет из-под готической стрелки к спокойному куполу Пантеона, он не стремится вместе с теряющимися колокольнями и сводами «туда, туда». Ведь и Миньона звала своим «dahin, dahin» – только в Италию. – Жизнь средневековая была для Рима долгая болезнь искупления старых грехов, он изнемог – от избытка жизни и страсти – и века проводил в кровавых драках и смутах, спокойно продолжавшихся под апостольским благословением пап. Когда он собрался с силами, он опять было сделался светским при доблестных цезарях Юлии II и Льве X. Языческая закваска никогда не проходила в Италии, – ей равно не прививались ни учреждения благоустройства и тишины, о которых так старались Гибеллины, ни нравственная неволя, которую папы налагали на весь мир за исключением Италии. Восстановленный Рим дебютировал громадно – закладкой св. Петра, – но прежде, нежели папа Павел V и Карл Мадерни достроили и испортили храм, заложенный Брамантом, по Италии и по Риму прошло дыхание смерти и оцепенения; Карлу V и Мартину Лютеру принадлежит эта печальная слава. Один положительно, другой отрицательно нанесли такие удары, после которых Италия долго не могла поправиться – целых триста лет! Реформация потрясла и изменила Рим во всех отношениях: финансы, политика, религия, нравы – все переменилось. Реформация, долею освободившая мысль в Германии и на севере Европы, остановила естественное развитие мысли итальянской, она испугала совесть – ересью, она поразила умы – возможностью падения католицизма, она ожесточила духовенство, построила его в боевой порядок, она раздула инквизицию и вызвала тонкий яд иезуитизма. – Александр Борджиа – этот Тиверий в тиаре, борется с Савонаролой; после Лютера борьба невозможна: пытка, казнь, цепи – ответ на всякое разномыслие; доминиканцы трепещут за бытие церкви и иерархии, – да и миряне спохватились, что они слишком упали в мир практический, суетный, все приняло аскетические формы, забытые фразы очутились в устах каждого – начали поститься, исполнять внешние обряды – и светлая сторона итальянской жизни только и звучала, что в Ариосте. Между тем борьба Франции и Испании на итальянской земле политически добила Италию; она мученически вынесла тысячелетнее междоусобие, свою войну, но толпы иностранцев не могла вынести. Поля были потоплены, стада угнаны, города лишены укреплений, ограблены, – достоверность, обеспеченье не существовали. Рим оцепенел, его еще несколько щадили из уваженья, из благочестия, из необходимости иметь Рим. Отсюда начинается для него новая эра, мы ее можем считать с Карла V; Карл V был один из главнейших преобразователей политического устройства европейских государств, он убил войной прошлую жизнь Италии, почти столько же, сколько убил ее в Испании – мертвящим, бездушным сосредоточением всех властей. Карл V – первый царь европейский. С него началось немое управление, притеснение всего самобытного, местного, индивидуального – пошлость и повиновение заменили средневековую федеральную честь. В эту-то серую и глухую эпоху сложился тот Рим, который стоит теперь печально, неудобно, неизящно, – тот Рим, от которого глаза ваши ищут отвернуться, чтоб отдохнуть в грустной Кампанье или потеряться в созерцании великих развалин. Жизнь XVII века не знала зодческого величия древних, пренебрегала мрачным готизмом и не предвидела изящества новых городов с их площадями, широкими улицами, с их удобным изяществом. XVII век уцепился за свое рококо, за свой renaissance, – кривлял линии, лепил дом к дому, церковь к дому, портил площади, все предоставлял случайности и капризу. Широкая жизнь тех веков текла не в Риме – Париж, Лондон, даже Неаполь, Милан, Флоренция перестроились с тех пор, или, лучше сказать, беспрерывно строятся; в них так много сил, свежести, юности, деятельный дух, живущий в них, требует перемены, расширенья, роскошной обстановки, – на Риме, слабом и оставленном, налег вампир, который высасывал всю кровь. Где ему было перестроиваться? Его дворцы чернили, его виллы зарастали, его граждане приучались к лишениям, он остался Римом XVII века, ожидая новой жизни, – и дождался ее. – Пий девятый был на этот раз Симеоном Богоприимцем «ныне отпущаеши раба твоего». Но для наружности Рима он не мог ничего сделать. Рим страшно беден. Его доходы были искусственны, Реформация отрезала ему Англию и большую часть Германии, просвещенье – почти все остальное; у него все уменьшилось, кроме расходов, нищенствующая братия все так же живет подаянием; оставшиеся после Наполеона достояния монастырей и духовных корпораций все так же служат для поддержки скудельного тела отказавшихся от мира сего. Рим обнищал и, настоящий итальянец, сидит в лохмотьях, а похож на царя и не думает о том, как горю помочь. Город этот, как все венчанные главы, не привык заботиться о материальных нуждах. Рим в XIX веке уверен, что торговля всего мира стремится на его рынки, он уверен, что он до сих пор нравственный центр католической Европы, которая ничего лучше не просит, как прислать ему все, что нужно, – от восковых свечей и ладану до драгоценных утварей. – Но – чем более вы живете в Риме, тем более исчезает его мелкая, пошлая сторона, и тем более все ваше внимание сосредоточивается на иных интересах и на иных предметах – величия и изящества бесконечного; грязные сени, отсутствие всех удобств, узкие улицы, нелепые домы, пустые лавки становятся все мельче, мельче – – и из-за них мало-помалу вырезываются другие стороны римской жизни, как пирамиды или горы из-за тумана, – увидевши их, глаза от них не отрываются, забыта каменистая дорога, болотистая трава, жар, холод и пыль. Такова на первом плане Campagna di Roma; сначала она поражает пустынным видом, отсутствием обделанных полей, отсутствием лесов, все бедно, угрюмо, будто вовсе не в средоточии Италии, – «да такие пустыри, мол, и на берегах Истры, даже Шпре найдутся» – – – но мало-помалу человек начинает знакомиться с этой вечной пустыней, с этой дикой рамой Рима, ее безмолвие, ее опаловая даль, синие горы на горизонте располагают душу к торжественной грусти, – там, где-нибудь медленно двигается осел с бубенчиками, черноволосый пастух, с фартуком из бараньей кожи, сидит подгорюнившись печально и смотрит вдаль – и женщина, которая несет какой-нибудь овощ, в ярком наряде и с белым сложенным платком на голове, сохранившая изящнейшие формы древних статуй, остановилась отдохнуть и тоже смотрит вдаль – – и ее прекрасные глаза выражают тоску, может, непонятную для нее самой – – и будто одна и та же дума налегла, тяжелая и мрачная, на бесконечное поле и на горы, и на пропадающие акведуки, и на обломки колонн, и на пастуха, и на крестьянку. Всегда печальная, всегда угрюмая, Campagna имеет одну торжественную минуту – захождение солнца, – тут она соперничает с морем. Какое наслаждение стоять где-нибудь на горе, в Фраскати, на Monte Mario и следить целые часы за заходящим солнцем, за наступающей ночью – – Кто не был в Италии, тот не знает, что такое цвет, освещенье, тому, должно быть, кажутся натянутыми, слишком яркими южные пейзажи. Печальная Кампанья неразрывно связана с развалинами древнего Рима, они дополняют друг друга. Что это, в самом деле, за невероятное величие в этих камнях! Недаром на поклонение этим развалинам является каждое поколение со всех концов образованного мира. Кто, читая историю, не понял Рима – пусть придет сюда в термы Каракаллы, в Колизей. Я раз ночью, часов в двенадцать, сидел на оставшемся своде терм; кругом, как привидения, столбы, части стен, полуразрушенные арки, которые обозначают залы величины и вышины необъятной. Летучие мыши шныряют между ними, совы перекликаются, и соловей поет; внизу кустод, солдат, служивший при Мюрате ввеликой армии, сидит с своим фонарем – вдали слышен лай одинокой собаки на Тибре, – как его слышал Байрон… «Без рабов римлянам было бы невозможно строить такие колоссальные здания – они равно свидетели их силы и их варварства». Мне это замечание ужасно не по сердцу. Да в том-то и величие их, что и руками невольников они воздвигали великое, что, грабя мир, они не зарывали клад в землю, а расчищали арену, место, достойное для себя. Рабы были не у одних римлян, есть страны, имеющие рабов в девятнадцатом столетии, да что-то об их постройках мало слышно. Признаюсь, что касается до меня, я склоняюсь перед остовом этого колосса, – каждая арка, каждая колонна мне говорит о силе, о шири, об этом стремленье к царственному раздолью, приличному такому народу, – о величавом вкусе их и говорить нечего – Пантеон и теперь своею внутренностью действует благотворнее и спокойнее Петра, несмотря на то, что и он, как и все памятники, испорчен благочестивым безвкусием позднейших пристроек.
Вторая великая сторона Рима – до которой я действительно не смею коснуться – это обилие художественных произведений, того великого, оконченного изящества, перед которым человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души и очищенный тем, что видел – так, как это было со всеми людьми, приходившими на поклонение изящного в Ватикан, Капитолий в прошлых веках, так, как это будет со всеми людьми будущих веков, которые придут в Рим. Когда мучительное сомнение в жизнь посещает вашу душу, когда вы перестаете верить в людей, когда вам становится противно или совестно жить – подите в Ватикан, и вы исцелитесь, вы успокоитесь и снова поверите в жизнь и в мощь человека. Кто, живши здесь, не развил в себе любви к пластическим искусствам и не образовал сколько-нибудь своего вкуса, у того наверное есть физический недостаток или в зрительном нерве, или в мозгу, и я ему советую от всей души начать серьезное леченье.
Галереи вообще бывают утомительны, я их не умею смотреть, у меня нет настолько прожорливости к изящному, ни поместительности в мозгу, чтоб раза в два осмотреть сот пять картин, – я обыкновенно часа через полтора дурею и перестаю понимать. Добро бы еще картины ставились хоть в историческом порядке или по школам, – такого размещения я нигде не знаю, кроме в Берлинском музее, зато там нет художественных произведений, а только исторический порядок. Каждая статуя имеет свое назначение, требует свою обстановку и вовсе не нуждается в фронте других статуй, всякая картина действует сильнее, когда она на своем месте, когда она одна. Посмотрите, как фрески Микель-Анжело дома – в Сикстинской капелле; его Моисей – в церкви; я любил бы картины на стенах всякой залы, но не любил бы, чтоб эти стены были построены для картин – – Впрочем – кто же не знает пользу галерей, не об этом речь. Вы лучше представьте себе, если б кому-нибудь стали читать поэму за поэмой, отрывок за отрывком из Гомера и Ариоста, из Вольтера и Шекспира, из Гёте и Пушкина, – какое смутное, темное впечатление осталось бы в голове. Мне кажется, самая лучшая метода – ходить к двум, трем картинам, к двум, трем статуям, а с прочими встречаться, как с незнакомыми на улице, – может, они и хорошие люди, может, дойдет черед и до них, но не надобно натягивать знакомства. Так делал я, или по крайней мере так собирался делать. Чем больше мы видим одно и то же великое произведение, тем меньше мы удивляемся ему, удивление – мешает наслаждаться, до тех пор пока картина, статуя поражает – вы не свободны, ваше чувство не легко, вы не нашлись, вы не возвысились до нее, не сладили с ней, она вас подавляет, а быть подавленным вовсе не эстетическое чувство. Если вы будете добросовестны и откровенны, то сознаетесь, что пока вы еще порабощены великим произведением – произведения более легкие доставляют больше наслаждения только потому, что они соизмеримее, отдаются без труда, в каком бы расположении вы ни были. Что трудного понять, оценить головки Карла Долчи, Маратта? Они так милы, так изящны, что поневоле весело смотреть; но великие мастера часто сначала притесняют, даже бывают порывы взбунтоваться против них, но когда вы поймете великое произведение, тогда только вы оцените разницу того наслаждения, которое вы приобрели от картины Карла Долчи и от картины Бонарроти. Я потому помянул именно Бонарроти, что я очень долго не мог понять его «Страшный суд» – меня ужасно рассеивали частные группы, точно собрание разных этюд, меня это огорчало, – раз, выходя из капеллы, я остановился в дверях, чтоб еще посмотреть на картину, – первое, что меня остановило на этот раз, было изображение Богородицы. Христос является торжествующим, мощным, непреклонным, синий свет какой-то остановившейся молнии освещает его. Давно умершее поднялось – он судит, он карает, – но в это время существо кроткое, нежное, испуганное окружающим, робко прижимается к нему – – она глядит на него, и во всем существе ее видна совсем иная мысль, она не хочет ни суда, ни казни грешнику, а несправедливости всепрощения. Никто не понял так глубоко христианский смысл Девы! Вот она, всескорбящая заступница, – вот она, готовая остановить поднятую руку сына, и притом робкая, испуганная женщина – – с этого дня я перестал рассматривать разные группы и перестал удивляться великому знанию миологии Микель-Анжела.
А знаете ли вы Марию Магдалину Тинторетто в Капитолии? – Худую, носящую следы всех порывов, всех бурь, которыми она дошла до новой страсти – до страсти раскаяния?
А знаете ли вы Мадонну Ван-Дика в галерее Корсини? – Мадонну бледную, не оправившуюся после родов, Мадонну с томными глазами – в которых столько любви, столько слез и столько физической слабости? –
Но – я делаю истинное усилие, чтоб остановиться – перейдемте к третьей стороне римской жизни, она же самая захватывающая внимание, самая новая сторона. Я говорю об его современном состоянии, об его Risorgimento. Трудно себе представить перемену, которая совершилась в Риме в один год, – особенно трудно потому, что мы вообще судим об Италии по готовым понятиям и совершенно внешним фактам. Об этом в следующем письме. Теперь позвольте ненадолго оставить Рим в покое, – ему, вечному городу, ничего не значит подождать, а мне хочется побеседовать с вами о моих прошлых письмах. Слышал я, что вы-таки побранили меня за них, – кто вступился за французских буржуа, кто за немецкую кухню, все за неуважительный тон, за легость и поверхностность, за фамильярность с важными предметами, за недостаток достодолжной скромности в обращении с старшими братьями, за недомолвки, наконец, которые тоже поставили мне на счет. Вы ими недовольны, потому что придали им значение, которого они не имели. Несколько набросанных впечатлений, несколько заметок, шутки и дело, мысли, помеченные на скорую руку середь иных занятий, при недосуге, при новости явлений, при оглушительном громе событий, под влиянием досады, которую назвать и определить было труднее, нежели кажется, – вот смысл бранимых писем. Письма эти вовсе не отчет о путешествии, не результат, выведенный из посильного изучения Европы, не последнее слово, не весь собранный плод – ничего подобного у меня не было в помышлении, когда я набросал их; мне просто хотелось передать первое столкновение с Европой; в них вылились местами, рядом с шуткой и вздором, негодованье, горечь, которой поневоле переполнялась душа, – ирония, к которой мы столько же привыкли, как «раб Ксанфа» Езоп к аллегории; у меня не было задней мысли, не было заготовленной теории ничему не удивляться – или всему удивляться, а было желание уловить мелькающие, летучие впечатления откровенно, добросовестно – вот и все. На беду редакция поместила их в «большой угол» журнала; они скромно проскользнули бы в смеси, как небольшой арабеск, идущий к сеням, к галерее – но несносный в гостиной[256].
Еще слово о неуважительном тоне, это мой грех, сознаюсь и каюсь.
Но знаете ли, что всего хуже? Не только в моих письмах, но и в моем сердце недостает этой смиренной, почтительной струны, готовой умильно склониться, принижаться, для которой необходимо поклонение чему-нибудь – золотому теленку или серебряному барану, русским древностям или парижским новостям. Из всех преступлений я всего дальше от идолопоклонства и против второй заповеди никогда не согрешу; кумиры мне противны. Мне кажется, что человек тогда только свободно смотрит на предмет, когда он не гнет его в силу своей теории и не гнется перед ним. Мы из рук вон скромны и чрезвычайно любим церемонии и торжественность, мы любим придавать некоторым действиям нашим (и в том числе писанию) какой-то серьезный, величавый характер, который для меня очень смешон, – ведь и жрецы благоговейно и серьезно резали в стары годы баранов и быков в пользу Олимпа, воображая, что куда какое важное дело делают. Уважение к предмету, не непроизвольное, а текущее из принятой теории, принимаемое за обязанность, – ограничивает человека, лишает его свободного размаха. Предмет, говоря о котором, человек не может улыбнуться[257], не впадая в кощунство, не боясь угрызений совести, – фетиш, и человек не свободен, он подавлен предметом, он боится его смешать с простою жизнию, так, как дикая живопись и египетское ваяние дают неестественные позы и неестественный колорит, чтоб отделиться от презренного мира телесной красоты и мягких, грациозных движений. – Мне в Италии ни над чем не хочется смеяться, в Италии всего менее смешного, пошлого, мещанского – я, помнится, нигде не смеялся и над Францией, стоящей за ценсом – – а в плесени, покрывающей общество во Франции, все вызывало смех, все досадовало, все дразнило меня, больше нежели в Германии, потому что в Германии все эти petites misères[258] как-то не так возмутительны, – я и досадно смеялся, писавши мои письма из Avenue Marigny, я готов плакать, писавши письма с via del Corso – в обоих случаях я не лгу, в этом могу вас уверить. – До следующего письма.
1847. Декабрь. Рим.
Письмо второе
Как это случилось, что страна, потерявшая три века тому назад свое политическое существование, униженная всеми возможными унижениями, завоеванная, разделенная иноплеменниками, полтора века разоряемая и наконец почти совсем сошедшая с арены народов как деятельная мощь, как влияющая сила, – страна, воспитанная иезуитами, отставшая, обойденная, обленившаяся, – вдруг является с энергией и силой, с притязаниями на политическую независимость и гражданские права, с притязанием на полное участие в европейской жизни и во всех плодах нашей цивилизации? – Судьбы полуострова, его развитие, его худое и хорошее чрезвычайно самобытны – и от этого на первый взгляд не совсем понятны. Может, один народ европейский и есть, которого быт народный еще непонятнее, – это испанцы. Мы обыкновенно привыкаем по диалектической лени к однажды принятым нормам, к исторической алгебре; алгебра эта составлена по развитию северо-западной Европы – но развитие Франции, Англии и Германии в многом не совпадает с развитием истории за Пиренеями, за Альпами. Иные элементы, иные события, иные результаты. Где в Италии период чисто готический и феодальный, где переход к государственной централизации, где монархический период, наконец где период индустрии, среднего сословия? – В XII столетии в Италии уже подавлен немецкий элемент или принимает национальный колорит. В XVI Италия накрыта внешним гнетом, захвачена, так сказать, как была, иноплеменными войнами и оставлена при своем местном, локальном муниципальном праве. Мертвая как государство, она жила в коммунах, вся жизнь бросилась к этим центрам и сохранилась. Гнет, тяготевший над Италией до Ломбардо-Венецианского королевства, не был ни равномерен, ни всеобщ, не был принятой, проведенной системой. Когда, собственно, выносили его римские аристократы, флорентинцы – и вообще Тоскана? Есть части Италии, которые со времен греческих императоров и до нынешнего дня едва понаслышке знали о правительстве, – платили подать, давали солдат и внутри управлялись своими обычаями и законами, – такова Калабрия, Базиликат, Абруццы, целые части Сицилии. Территориальные разделения Италии делались на тысячу манер – но всегда насильственно; народы часто их переносили – никогда не были ими довольны, никогда не принимали их за нечто истинное, прочное – всегда за грубый факт насилия. Даже прежде правительства национальные, верно выражавшие потребности своего города – Флоренции, Генуи, Венеции, – за городскими стенами являлись как иго, которое покоренные были всегда готовы свергнуть; они сами вне метрополи принимали свою власть не более как за военную оккупацию и были всегда sur le qui vive[259]. Такого отношения части к целому, такой нелюбви к централизации вы нигде не найдете. Все усилия Гогенштауфенов и их наследников развить в Италии монархическое начало – остались тщетными, и собственно теория гибеллинская, о которой писали трактаты ученые легисты и которую они старались представить последним словом римского права, – никогда не прививалась к народу, народ был всегда гвельфом и только по ссоре с папой или с соседними городами бросался к стопам императорским, предоставляя себе право при первой возможности восстать и отделиться. Методическое, холодное, безнадежное управление, вводимое германскими императорами, было невыносимо для итальянцев. Древний Рим мог переносить цезарей со всем их тиранством, потому что их управление более походило на беззаконную диктатуру, на какое-то личное, случайное исключение, их владычество было сочетанием деспотизма с анархией, – однообразный гнет германизма противнее для итальянца. Совсем напротив, власть папская была совершенно национальна, по самому тому, что она была неопределенна. Рим, Романья едва слушались пап, – они дома были цари тайком, furtivement[260]; чем далее от центра, тем власть папская становилась сильнее и наконец достигала страшной мощи вне Италии. Папы действовали совсем обратно императорам, они опирались на локальное разнообразие, они поддерживали муниципальную жизнь. Григорий VII с проницательностию гения понял элемент, который спасет Италию от императоров, – и муниципальная жизнь, ободренная и двинутая им, поглотила элементы германские и феодальные, плохо дающие корни в почве, в которой был схоронен языческий Рим. Италия жила всеми точками, жила городами, жила республиками, испытывала тирании и диктатуры – но никогда не чувствовала потребности в единовластии, в централизации. Италия развивалась в своих беспрерывных междоусобиях, города становились роскошнее после пожара, сильнее после разорения, острота одного итальянского историка, что «война – мир для Генуи», – относится ко всему полуострову; она была самое образованное и самое торговое государство в XIV столетии, и между тем десять лет не проходило без того, чтоб Италия не покрывалась кровью и пеплом, – необыкновенно живучая страна, она ускользала, как ящерица в траве, и через год, через два являлась опять полная жизни и отваги. В Европе давным-давно централизация задавила феодальное устройство и сильные государства образовались, опираясь на постоянные армии и служебное дворянство, – в Италии продолжалась прежняя жизнь нескольких городов на первом плане и множества других, не столько важных в политическом отношении, но свободных, независимых. Так дожила она до страшной годины, когда Карл V и Франциск I выбрали поля ее для кровавой войны, для войны, продолжавшейся более столетия, – эта война сокрушила страну – Италия крепилась, крепилась – – наконец сил ее не стало противустоять войскам, которые беспрерывно усиливались свежими толпами из Франции, Германии, Испании и вольнонаемными шайками из Швейцарии. Может быть, если б идея народного единства, идея государства была развита в Италии, она отстояла бы себя – но этой идеи не было. Враг имел всегда дело с частью. Города сражались, как львы, крестьяне составляли вооруженные банды, нападавшие на неприятеля нежданно, между гор, в теснинах, в домах, – но вся отвага их пошла на ветер, их подавили числом. Тип итальянской войны тоже отдельность, тоже обособление, городское восстание, партизанская война, война разными вооруженными ватагами. Государство, требующее поглощения городов, армия, требующая поглощения личностей, для итальянцев ненавистны; нет народа, менее способного к дисциплине, к полицейскому устройству, к канцелярскому и казарменному порядку. С другой стороны, отсутствие единства, средоточия – столько же спасло Италию, сколько погубило ее на время. Жизнь Италии не была связана ни с Римом, ни с Венецией, ни с Флоренцией; задавленная в больших городах, она вдруг являлась в Ферраре, в Болонье; вытесняемая из Неаполя, она переходит в Палермо, в Мессину – в Генуе она сохранилась до революции. Италия – гидра лернская; задушить такую жизнь невозможно.
Побежденная Италия, уступая мало-помалу и шаг за шагом политическую жизнь, – не долго выносила в груди избыток сил, богатство способностей своей широкой натуры – она явилась в главе художественного и умственного движения, она воскресила греческую философию, она создала живопись – и, верная своей федеральной натуре, рисует на три типа, – рисует так, что вы узнаете города по школам. Артистический период итальянской жизни, совпадающий с отроческой отвагой новой мысли, едва порвавшей схоластику, был упоительным временем для всего человечества, особенно для Италии, которая так умеет наслаждаться. Но тут ждал другой враг бедную Италию. Правда, ей позволили рисовать, ваять и строить – но запретили думать, но Галилея свели в тюрьму за астрономию, но Ванини и Джордано Бруно – казнили за метафизику. Время доблестных, гуманных пап прошло – Реформация внесла ужас в Ватикан, начальники инквизиции шли занимать папский престол, вопреки веку, вопреки стране эти люди снова возвращались к суровому монашеству, – преследующий и злой характер католицизму привился с Реформацией, доминиканцы подняли с воплем негодования знамя крестового похода против мысли, иезуиты образовали янычар, преторианцев около церкви и св. отца. Силы страны, наконец, так же сочтены, как силы лица, – Италия, обиженная, оскорбленная во всем человеческом, связанная по рукам и ногам, действительно походила на литографированную женщину, которую здесь продают на всех перекрестках[261], голова у ней склонилась на грудь, скованные руки опустились; изнуренная, доведенная до отчаяния преследованием – она отдалась старческим объятиям, ревнивым, ядовитым, не из любви – а от устали, от истощенья, от слабости. С тех<пор> прошли двести томных лет для Италии – и в двести лет все эти вампиры не могли высосать ее крови – удивительный народ!
Гёте, который так глубоко понимал природу Италии и ее искусство, бросил в нее несколько стихов злого укора, стихов, в которых нигде нет ни упованья, ни утешенья. Тяжелый coн Италии, ее паденье, ее грязную сторону, ее мелкую сторону он схватил метко, – но пробуждения не предвидел. «Так это-то Италия? – говорит он в заключение, – нет, это уж не Италия».
Гёте, который, по превосходному выражению Баратынского, умел слушать, как трава растет, и понимать шум волн, – был туг на ухо, когда дело шло о подслушивании народной жизни, скрытной, неясной самому народу, не обличившейся официальным языком. Он не мог не видать жизни в итальянце и острой закваски, бродящей в проявлениях странных, неустроенных, – для этого достаточно было взглянуть на лицо первого встречного, посмотреть на его мимику, – он и видел все это, но знаете ли, как оценил? – словами:
Я думаю с своей стороны, что если б в половине XVIII столетия в Италии были Ordnung и Zucht, – то наверное не было бы Risorgimento в половине XIX столетия. Если б можно было привести итальянцев в порядок – то они давно превратились бы в народ лаццаронов и монахов, воров и тунеядцев, и при помощи иезуитов, тедесков и дипломатических влияний впали бы в варварство, уничтожились бы как народ. Неуловимая беспорядочность итальянцев спасла их. Не странное ли дело – а оно так; несмотря на все бедствия, на чужеземный гнет, на нравственную неволю – итальянец никогда не был до того задавлен, как француз до революции, как немец в XVIII столетии. Этого общего принижения личности никогда не было в Италии, – итальянец потому был свободнее, что не всю жизнь связывал с государством, для него государство всегда было формой, условием – никогда целью, оттого падение государства не могло раздавить внутренней твердыни. Итальянский крестьянин так же мало похож на задавленную чернь, как русский мужик – на собственность. Нигде не видал я, кроме в средней Италии и в Великороссии, чтоб бедность и тяжелая работа так безнаказанно прошли по лицу людей – не исказив ничего в благородных и мужественных чертах. У таких народов есть затаенная мысль или, лучше сказать, такой принцип самобытности, принцип непонятный им самим – до поры, до времени, – который дает им хранительную силу и страдательный отпор, от которого, как от скалы, отскакивает все, посягающее на разрушение их самобытности. Вот вам пример. В конце XVIII столетия французская республика устроила несколько республик в Италии. Французы поступали так, как поступают абстрактные пропагандисты в восьмнадцать лет – т. е., не принимая в расчет ничего индивидуального, гнули личности народов в форму, выдуманную в Париже и которую они сначала добросовестно считали равно годною для Отаити и для Исландии. При всех недостатках новых республик они были несравненно лучше смененных правительств, они покончили нелепые, феодальные права, секуляризировали много имений, признали неприкосновенность лица и юридическую одинакую правомерность, дали свободу мысли и свободу петиции, о которой итальянцы и не мечтали, – как, казалось бы, не увлечься народу; а итальянцы смотрели хладнокровно и даже враждебно на новое правительство, оно было им не по душе – оно оскорбляло в тысяче случаев местные привилегии, обычаи, индивидуальности; они не верили в республики, заводимые генералом Бонапартом при помощи кровавой памяти генерала Массены; время доказало потом, кто был прав – народ ли, принявший освобождение за новую фазу неволи, или среднее сословие, бросившееся в объятия Наполеону – для того, чтоб тот мог их дарить брату Иосифу, зятю Иоахиму, пасынку Евгению, сыну – Наполеону, сестре Полине – и прочим сродникам из Аячио. Состояние Италии после наполеоновского периода еще более ухудшилось, оно даже стало местами хуже, нежели было в начале XVIII-го. Реакция была страшная, беспощадная, мелкая, грубая, сухая, мстительная – и, что всего хуже, не национальная. Пиэмонт и Неаполь хотели в двадцатых годах попробовать у себя заальпийскую монархию, Австрия учреждала Ломбардию на австрийский манер. Против них восстала такая же ненациональная оппозиция – оппозиция, бравшая свои вдохновения с французcкой трибуны, которая тогда была в самом блестящем периоде своем, – оппозиция либерализма общеевропейского, времени Лафайета. На первый случай победа осталась на стороне правительства – казалось, Италия перешла в прошедшее, она одной ногой стояла в гробе, Меттерних с улыбкой повторял, что «Италия географический термин». – Литература была невозможна, классики, составляющие славу Италии в Европе, – были запрещены в Риме, итальянские историки были запрещены почти везде, кроме Флоренции, или продавались в очищенных изданиях; все энергическое бежало, экспатриировалось или шло в Сант-Анжело, в С.-Елм, в Шпильберг; в материализме жизни, в грубых наслаждениях, в суетной потере времени гибло молодое поколение; в Милане, в Венеции были взяты все меры, чтоб поддерживать это направление, – молодой человек, не игрок, не развратный, не офицер, считался подозрительным; разумеется, всех развратить было нельзя – кто не знает огненные попытки, безумные до величия, самоотверженные до безумия и кончавшиеся страшными казнями и новыми реакциями! Эпоха эта, вполне развившаяся с 1821 года, достигла своей полной высоты – избранием Григория XVI папой. – Григорий XVI и его министр Ламбрускини были вторыми представителями официальной Италии своего времени. Людвиг-Филипп и Меттерних с любовью подали ему руку на дружбу и службу. Людвиг-Филипп писал ему доносы – он писал доносы Меттерниху. Тюрьмы в Риме и папских владениях к концу его святительства были до того полны, что во всех публичных зданиях начали помещать арестантов – i роlitici. Наконец Романья подала голос, наконец стон Болоньи был услышан – этот голос, этот стон шел совсем из другого начала, это не была иноземная демагогия, а негодование народа, которому наконец нельзя было дышать. Григорий XVI понял опасность – и решился во что б то ни стало задушить народ и реакцию. Чтоб не распространяться более об этом человеке, я скажу одно, но это одно, если вы взвесите, важнее целого тома in folio. Австрийский кабинет, долго молчавши, не мог наконец вынести и закричал: «Basta, santo padre!» Меттерних писал ноту в защиту Романьи и Болоньи и доказывал кротким кардиналам, что есть же мера, наконец, и злоупотреблениям, что римское правительство этим путем доведет до ожесточенного восстания своих подданных – и что тогда вредный дух может пробраться в Ломбардию! – Об этом-то человеке на днях во французской Камере пэров С. Олер сказал: «Григорий XVI – был святой человек!»
Наконец святой человек умер от старости и от марсалы. Конклав выбрал кардинала Мастая Феретти – и «гонимая, но ненизлагаемая Италия» воскресла. В избрании Феретти – кроткого, благородного римлянина – господствовало, с одной стороны, желание дать вздохнуть стране, отпустить натянутые нервы; с другой – в его избрании было что-то славянское, а именно – выдвинуть ту личность, которая ничем не выдается, «не выскочка, миру не указчик». Конклав считал на его слабость и ошибся именно потому, что был прав. Кардиналы, как следует по их званию, не взяли в расчет духа времени, эпохи; зная мягкость, удобовпечатлимость его характера – они и не подумали, как сильно должно было действовать на него положение Романьи, Италии, – они не подумали, что выбирали человека, способного к увлеченью и не способного к подкупу, к измене. Кроткий Пий действительно был одушевлен чистым желанием добра Риму и Италии, когда сел на престол, первое время его понтификата было истинно поэтической эпохой его жизни – благодать и добро струились из Квиринала; удивленный, пораженный народ не знал, верить или не верить такому странному явлению, такой нежданной перемене. – Заметим только, нисколько не уменьшая подвига Пия IX, что продолжать управление Григорья XVI было невозможно, глухое волнение овладело всеми городами, в Риме у подножия Квиринала, возле дверей крепости, на публичных местах, в тавернах и кафе, несмотря на толпу шпионов, раздавался ропот. Следовало или задушить мерами кровавыми и страшными этот говор – или прислушаться, нет ли в нем истины. Хвала Пию IX, что он избрал последнее, – впрочем, Калигулой надобно родиться, не всякий способен, кто захочет, быть извергом. Когда Пий IX предложил святой коллегии объявить всепрощение – кардиналы с негодованием подали голоса против. «Coraggio! santo padre!» – кричал ему народ, с тем удивительным тактом, который отличает римлян, – и Пий девятый объявил, что по власти, данной ему свыше, вязать и разрешать, он объявляет амнистию. Крик истинного восторга раздался не токмо в Церковной области, но во всей Италии. Все, уповавшее лучшей будущности, окружило Пия девятого и повторило тысячу и тысячу раз народный крик: «Coraggio, s. padre!»; они сделали из доброго благонамеренного Пия – Великого понтифа, освободителя Италии, знамя, величайшего человека в Европе. – Кардинальский коллегиум содрогнулся от досады и негодования и сделал вторую ошибку. Вместо того чтоб прямо и открыто действовать на религиозность, на предрассудки Пия, на его шаткий характер, они выдумали заговор под начальством Ламбрускини, заговор имел связи и сношения с иностранными дворами и почти со всеми итальянскими. Цель заговора состояла в том, чтоб произвести волнение в Риме и захватить Пия девятого, австрийские войска заняли бы крамольный Рим, – и тогда бунтовщики заставили бы папу отречься от всех сделанных перемен, даже, в случае его упорства, от самого папства; если б дело приняло дурной оборот, заговорщики решались убить папу и бросить гнусное обвинение убийства на радикальную партию в Риме. Чичероваккио открыл заговор, – страшная мысль об опасности, которой подвергался Рим и Пий IX, исполнила ужасом весь город, он с фанатизмом, с бешенством изъявлял свою любовь Понтифу; тронутый Пий IX еще более сблизился с своим народом, – чивика, организовавшаяся в несколько дней, сделалась хранителем и оберегателем св. отца и всего города.
Но кто же этот Чичероваккио, этот tribunus plebis[262] в 1847 году, il gran popolano? Чичероваккио еще более чисто итальянское явление, нежели Пий IX. Чичероваккио – простой, честный римский плебей, себе на уме, знаемый всеми в Риме и знающий всех, идол факинов, трибун в питейных домах и народных сходках, – народ давно подружился с ним; он помнит, как во время наводнения Тибром силач Чичероваккио спасал людей и как несколько раз отдавал все, что у него было, в помощь товарищу; к нему ходили советоваться, на его авторитет опирались. Значение его, основанное на фанатической любви к Риму и народу, на чистоте намерений, до которых не досягает никакое подозрение, на плебейском происхождении, – страшно возросло после открытия заговора. Чичероваккио – самый упорный защитник прав, самый неутомимый представитель народных нужд, это человек, который ежеминутно готов отдать все достояние свое, своих детей, свою голову, чтоб спасти Италию, своих сограждан.
Мудрено ли было Чичероваккио, который знает, как свои пять пальцев, весь подноготный Рим, который знаком с попами и факинами, с князьями и ворами, узнать заговор Ламбрускини, – он открыл его. Имена участников явились в афишах на стенах Рима, часть заговорщиков перехватали – и тайком дозволили некоторым бежать. Чичероваккио переловил их и снова отвел в тюрьму – где они и теперь сидят, потому что папа не может решиться ни выпустить сидящих, ни посадить Ламбрускини.
Со дня открытия заговора полиция, замешанная в нем, исчезает, правительство ослабевает, и порядок увеличивается. Чивика смотрит за всем, Чичероваккио делается блюстителем порядка, властью. Губернатор приказывает выслать из Рима Драгонетти, изгнанного неаполитанца, – Чичероваккио изъявляет желание, чтоб Драгонетти остался – и губернатор берет приказ назад. Лорд Минто по приезде своем в Рим делает визит Чичероваккио, дарит книги его детям, ставит статуэтку его у себя в зале. А Чичероваккио – несмотря на портреты, на камеи, на бюсты, на власть – все тот же добродушнейший плебей, который по дороге от лорда Минто к Пию девятому заходит выпить бутылку веллетри с веттурином и поиграть с ним в <мору>[263]. Порядок и тишина в Риме со времени этого кризиса не нарушались, – блестящий результат муниципальной жизни итальянской, о которой мы столько раз упоминали, – это self-government своего рода. Когда Пий девятый спохватился и захотел несколько притянуть ослабленные вожжи – он увидел, что это поздно! –
Неудачные опыты реакции относятся к тому времени, в которое я приехал в Рим. Consulta di stato[264], нечто вроде аристократического, совещательного представительства, была собрана – она не удовлетворила никого. Папа хмурился, Рим был очень невесел – его угрюмому характеру придавала еще более мрачности ненастная дождливая зима. Италия не может быть без солнца, дурная погода для нее – общественное несчастье. Через несколько дней после моего приезда римляне праздновали победу над Зондербундом. Папа велел всем участникам три дня поститься – предоставляя, впрочем, исполнение этой полезной меры на собственную совесть тех, которые были на демонстрации. Рим расхохотался. Из Ломбардии и из королевства обеих Сицилий получались страшные вести, римляне, изъявляя всеми средствами свою симпатию к притесненным, ждали, что скажет св. отец. Пий IX молчал! Так окончился 1847 год.
Я видел Пия девятого несколько раз; мне очень хотелось прочесть на лице этого человека, поставленного во главу итальянского движения, что-нибудь – я ничего не прочел, кроме доброты и слабости. Все портреты его, все бюстики похожи. К ним надобно добавить белый, нежный цвет лица, католическую полноту, особую клерикальную мясистость и небольшие, исполненные добродушия глаза. Впрочем, костюм и ритуал чрезвычайно мешают видеть человека. В первый раз я Пия IX видел в квиринальской церкви, потом во всем блеске понтификата в Santa Maria Maggiore.
В Квиринале папу окружали все кардиналы, находящиеся налицо в Риме, – что это за страшные, жесткие, подозрительные лица и что за веющие могилой лысины! В их отживших чертах виднелась бесчувственность бессемейных стариков и жестокосердие дипломатов-иерофантов. Да, это люди инквизиции и реакции – Все кардиналы подходили к папе и кланялись с коленопреклонением – он каждого накрывал руками; в числе кардиналов находился Ламбрускини – это было пикантно. В S. Maria Maggiore св. отца несли nella sedia gestatoria, под пестрыми опахалами, по обеим сторонам стояла красная guardia nobile и пестрые в одежде средних веков svizzeri. – «Ginocchio» – командовали офицеры, и солдаты становились по темпам на колени; в церкви была жара страшная, папу закачало, как на лодке, и он, бледный от приближающейся морской болезни, с закрытыми глазами, благословлял направо и налево. Я никак не могу привыкнуть к военной обстановке предметов по преимуществу мирных – эти ружья, мечи, штыки, сабли, копья, кивера и шлемы середь церкви – обидны, странны, – когда понесли колыбель с изображением святого младенца – начальник закричал: «Ar-mi!», и ружья брякнули на караул перед св. колыбелью. Отчего католицизм, умевший создать такие храмы, умевший украсить их такими фресками и такими картинами и статуями, отчего он не умел уладить торжественнее, серьезнее и поэтичнее свой ритуал – все натянуто, лишено грации, от неестественного пенья кастратов, раздирающего уши, до костюма, наружности и походки всех этих монсиньоров, откормленных аббатов, сытых каноников, сухих и желтых иезуитов, раздирающих глаза. – Ритуал восточной церкви несравненно величественнее и изящнее – он несравненно последовательнее христианскому миросозерцанию. –
<Письмо третье>
Через месяц.
События с каждым днем густеют, становятся энергичнее и важнее, полный, усиленный пульс временами постукивает лихорадочно – субъективные взгляды и ощущения теряются в величине совершающегося. Я больше месяца не брал пера в руки, даже ни разу не вспомнил, что умею писать, – расскажу вам несколько отрывков из виденного мною и, чтобы ничего не потерять из итальянской хроники нынешнего года, начну за несколько часов до его начала.
Проливной дождь лил весь вечер 31 декабря 1847 г., несколько ударов грома и беспрерывные молнии, кроме всего остального, напоминали, что это не русский Новый год; между тем Piazza del Popolo покрывалась народом, и зажженные torci, невесело потрескивая и дымясь, зажигались там и сям. Чичероваккио вел римский народ поздравить св. отца с Новым годом, прокричать ему «evviva» – так, как ему одному кричат, и в то же время напомнить ему, что римляне ждут в этом году исполнения тех важных упований своих, на которые он дозволил надеяться – но которые слабо исполнены консультой и всем прочим. – Савелли, губернатор римский, открытый враг всякого прогресса, отправился к Пию девятому и уверил его, что мятежная и опасная толпа народа собирается ночью посетить его на Monte Cavallo с разными нелепыми требованиями. Папа испугался. Созвали чивику, поставили под ружья полки гренадеров. Между тем в одиннадцать вечером, по дождю и грязи, спокойно и стройно двинулся народ с криком «Viva Pio nono!» и с полным энтузиазмом к нему, – с энтузиазмом, который ему было суждено видеть и слышать только еще один раз, как мы увидим. Народ пришел к Квириналу и звал папу на балкон поздравить с Новым годом. Папа не вышел и выслал сказать, чтоб народ разошелся. Отношения любви и доверия, образовавшиеся между народом и папой, избаловали народ – они несколько раз вместе плакали, вместе радовались. – Народ, измокнувший, стоя в грязи, не ждал такого приема, он еще сильнее стал требовать появления папы на балконе – тогда св. отец выслал им сказать, что если они не разойдутся, то он велит войску их разогнать. – С тем вместе губернатор пояснил, что оно готово и что чивика под ружьем. Если б Григорий XVI дал залп или велел бы пустить ядро вдоль по Корсо во время moccoletti – это не удивило бы, не оскорбило бы так глубоко, как ответ Пия. Оглушенные, изумленные ответом – они тотчас переменили физиономию, – факелы погасли, ни одного крика, ни одного воззвания, мрачно, безмолвно все пошли по домам. На другой день нигде ни толпы, ни веселья, праздника нет, – город оскорблен. Сенатор Корсини, представитель популярной аристократии, удаленный от управления при Григории XVI и в главе Сената теперь, отправился к папе сказать ему, что его поступок обидел город, что народ, промокший на дожде и который с любовью и доверием приходил к Квириналу, не заслужил ни отказа в благословении, ни опасной и ненужной угрозы войсками. Пий IX был тронут, он расплакался, сказал Корсини, что его ввели в заблуждение, и объявил, что для вознаграждения римлян он сам поедет благословлять на Новый год граждан и для этого подъедет к каждой из главных кордегардий чивики. Это было назначено на другой день, 2 января. Народные движения в Риме носят на себе какой-то характер величавого порядка, мрачной поэзии, как их развалины, как их Campagna di Roma, – который передать невозможно. В их лицах сохранились античные черты, – черты благородства и гордости; католицизм им придал вместе с бедствием, с неволей – вид угрюмый, печальный, который поражает в сочетании с мужественной красотой. Эти люди терпели века бедствий – и наконец спокойно и благородно сказали: «Довольно». Часов в 12 утра Корсо покрылся народом. Правильная колонна с знаменами впереди шла с Piazza Colonna. Чичероваккио шел впереди с знаменем, на котором был написан следующий упрек – кроткий, полный любви, но тем не менее выразительный: «Santo padre, giustizia al роpolo chi à con voi!» Процессия остановилась на перекрестке Koрсо с via Condotti. Папе нельзя было миновать которой-нибудь из пересекающихся улиц; всего народу было по крайней мере тысяч тридцать; ни хохоту, ни крику, ни воцифераций, никто не толкался, не давил, ни одного муниципала не было, явилась чивика без ружей и стала в ряды народа. – Тишина и порядок были удивительны, только по временам поднимался крик, который распространялся далее и далее, разрастаясь, как круг в воде от брошенного камня, – крики эти были определительнее, нежели прежде: «Abbasso i gesuiti, abbasso il Palazzo Madama!» (тут живет Savelli), «Viva la stampa libera, morte al «Diario di Roma», viva i martiri Italiani, i fratelli Bandiera!»[265] и, как припев ко всему: «Viva Pio nono-ma solo, solissimo!» Кто-то прокричал: «Viva i piemontesi», народ подхватил; при этом вдруг продирается сквозь густую толпу седенький старичок и начинает благодарить римлян от имени Генуи; слов его я не расслыхал, но мимику его видел, лицо у него разгорелось, он плакал, – и в конце речи бросил шапку вверх, а сам бросился обнимать солдата Национальной гвардии, потом другого, третьего – при громких «evviva». – Вдруг часа в два раздалось: «Едет, едет». Папа ехал шагом, сопровождаемый четырьмя драгунами и каретой, в которой сидели кто-то из министров. – Он был тронут, взволнован, бледен – народ его встретил страшным рукоплесканием и криком. – Чичероваккио поднял знамя к его окошку, и вся масса народа пошла провожать Пия IX. – На первую минуту мир был заключен, – конечно, не вина народа, если с тех пор он еще дальше стал с папой, хотя и любит его из благодарности. Пий девятый, как все слабые люди, ужасно упорен и сделает то, что требуют, – да после, т. е. раздразнивши прежде отказом. Так он испортил действие 2 января – но день этот для него был торжественен, грозно торжественен. – Пию могло прийти в голову, что по морю весело кататься, а чувствуешь, что утонуть можно. – Все балконы усыпались дамами, все окна раскрылись, отовсюду махали платками, и карета папы двигалась шаг за шагом, всадники были смяты и не могли иначе ехать, как касаясь кареты; народ облепил ее, держались за постромки, за колеса; люди в куртках и без курток, люди во фраках и пальто; кучера и лакеи не думали ни сердиться, ни останавливать, потому что это было бы смешно. – Чичероваккио, усталый наконец, влез на вторую карету и сел с знаменем, жалкая фигура какого-то кардинала выглядывала, испуганная, из-под его ног. Часов до шести продолжалось это шествие, текла эта живая река от via Condotti до Monte Cavallo. С переулков, c площадей раздавались приветствия и крики, повторяемые несколькими тысячами человек возле ушей папы. – «Abbasso i gesuiti, viva Pio nono solo, solo – – abbasso i moderantisti, abbasso le maschere, abbasso il Palazzo Madama, viva Ganganelli!»[266] (папа Климент XIV, изгнавший иезуитов из Рима). – Когда процессия пришла к Квириналу, уже смерклось, обширная площадь Monte Cavallo была полна народом, ожидавшим папу и его благословения. Но он изнемог, бледный, болезненный, он опустил благословляющую руку и склонился головой на подушку. – Драгун, ехавший у кареты, сказал лакею, лакей – Чичероваккио. Чичероваккио дал знак рукой, и мало-помалу водворилась тишина, перерываемая время от времени криком встречавшихся, но тотчас крики были подавляемы. Эта тишина придала еще более торжественности, – молча проводили папу до ворот, никто не требовал, чтоб он вышел на балкон, – с ним, действительно, сделалась дурнота и его под руки повели <на> лестницу. – «A casa, a casa!» – закричали передние ряды, и толпы разошлись, прокричав: – «Evviva l’indipendenza, viva l’Italia, viva Pio nono, evviva Cicerovacchio!» –
Папа был сильно потрясен, плакал, занемог – но ничего не сделал. Он не умел воспользоваться этим днем. Все ждали, что на другой день Савелли будет уволен, все ждали новое министерство. Папа оставил Савелли, ни одной льготы, – народ обиделся второй раз и доселе не мирился. Мрачная тишина и состояние тяжелое, как бывает перед грозой, наступили в Риме. Сомнение в св. отца, недоверие к нему – работали во всех умах, в аристократическом Circolo Romano так же, как в Circolo Popolare, основанном Чичероваккио. Пий девятый дал не только созреть этой мысли – но дразнил умы еще более пустыми и бесполезными мерами, которые он дозволял брать Савелли, – они внесли много горечи в размолвку. Римляне привыкли всякое утро читать «Pallade» – приклеенную к стенам по Корсо; «Pallade», журнал оппозиционный, популярный и буфф, доставлял им великое удовольствие. Папа запретил приклеивать его по улице. Его носили везде по улицам – и продавали по три байокка лист – и продажу запретили. Тогда редакция объявила афишами на всех углах об этом запрещении и уведомляла читателей, что она перенесла свой сбыт с улицы в кофейные и табачные лавки и, чтоб не носить, выставила на перекрестках столы, на которых лежат листы «Pallade» для чтения. Савелли побоялся запретить – и «Pallade» над ним нахохоталась досыта. Полумера не принесла ни малейшей пользы – и весь вред, производимый ненужными раздражениями, пал на органы правительства. Сборища на улицах, в Caffè delle belle arti[267] приняли характер более ожесточенный – а тут вдруг страшные кровавые новости из Ломбардии о резне в Милане, в Павии, о терроре в Неаполе. Минута устали, abattement[268] нашла на Рим – – глаза всех обращались на Пия девятого, на человека эпохи, – Пий девятый притих, как будто его нет, хотя, впрочем, разрешил торжественную панихиду по убиенным ломбардцам, вопреки протесту австрийского посла. Другие с ожиданием смотрели, что сделает Карл-Альберт, его называли «мечом Италии», но опасались его, не верили в него; в довершение Франция, ретроградная и враждебная, Франция Людвига-Филиппа и Гизо, стращала столько же, сколько северные государства. Французский посол в Турине требовал объяснения насчет вооружения, насчет песен!!! – Как на смех, для большего раздражения погода в январе была ужасная. Дождь лил целый месяц с каким-то странным постоянством. Так проходил январь: тревожно внутри и тихо снаружи – как вдруг газеты принесли весть о восстании Сицилии 12 января. Новость эта, как толчок землетрясенья, двинула Рим; с этого дня физиономия Рима переменилась, он вступил в новую фазу «пробуждения». Начальные уступки короля неаполитанского, которые за месяц были бы приняты рукоплесканием всей Италии, были приняты теперь с негодованием, – они выражали страх, бессилие, уловки, желание выиграть время. Сицилия была в полном восстании, в главе которого стал Ruggiero Settimo, Калабрия вооружалась, Абруццы были готовы вступить в Неаполь. Неаполь молчал, осыпаемый сарказмами Рима и Тосканы, – наконец 28 января двинулся и он. Король велел усмирить народ, волновавшийся по Толедо, – но войско не хотело стрелять, да вряд хотел ли того и генерал Стателли, новый начальник военной силы. Делать было нечего, король обещал конституцию, амнистию, удалил ненавистного Del Carreto, первого министра, награбившего себе страшное состояние. Кокле, его духовник, бежал и увез с собою капитал в несколько сот тысяч дукатов. Король в прокламации 29 января требовал десять дней для приведения в исполнение всего обещанного. Весть эта дошла до Рима на другой день. Вечером толпы народа проходили с факелами по Корсо, по Ринетти, по Бабуине, с криками: «Viva la costituzione di Napoli, viva Sicilia, viva Ruggiero Settimo, coraggiо, lombardi!»[269] и заставляли грозными криками «lumi, lumi» зажигать свечи на всех окнах. – Сенат и шатающееся министерство поняли, что тут распасться с народом – значит погубить себя, – и потому il Senato Romano объявил al popolo Romano, что он приглашает отпраздновать торжественно – общей иллюминацией вечером 3 февраля – «восстановление мира в королевстве обеих Сицилий», – снова ошибка, снова слабость в обе стороны, а следственно, неудача в обе стороны. – Вечером Корсо горел огнями, несметное количество народа собиралось на Piazza del Popolo – чивика выстроилась там жe – на всех были трехцветные кокарды, – первый раз римляне заменили папские цвета итальянскими. Толпы состроились правильными колоннами, знамена, музыка и несколько сот факелов впереди, с криками: «Viva la costituzione di Napoli, viva Sicilia!» отправились по Корсо, распевая сицилийский гимн. Дошедши до Piazza Colonna – вместо того чтоб идти к Квириналу – прошли на Piazza Venezia, – с грозным молчанием, похоронным шагом прошли мимо австрийского посла; с свистом и шиканьем, опустивши факелы – мимо иезуитов – и пошли на Капитолий. Там на пьедестале статуи Марка Аврелия ожидал процессию какой-то народный оратор с речью и толпой музыкантов, которые примкнули и пошли на Форум. Оттуда разошлись. Папа был исключен из празднества, не его кокарда была на груди у каждого, не его приветствовали. Крик: «Viva Pio nono е la costituzione» мог дойти до него – и действительно дошел. Правительство было сконфужено, лишено всякой моральной силы. Такт римлян еще раз удивителен: ни одного крика неаполитанскому королю, ни одного даже Неаполю. – Папа готовился сделать уступки. – Февраля 5 мы уехали в Неаполь. –
Печальная, величественная Кампанья с своими бесконечными акведуками, с развалинами «старого города», с голубыми горами, пропадающими на горизонте – сменяется еще более мрачными Понтинскими болотами. Тут и стада становятся реже, тут все торопится пройти, боясь malaria, сырая почва испаряет лихорадки, изнурительные и трудно излечиваемые – – небольшие города, почернелые и степенные на вид, Веллетри, Альбано – удивляют своим населением; это цвет романского племени: каждая женщина – тип древней красоты, каждый мужчина может служить моделью для художника, изображающего римские сцены; и у женщин и у мужчин эта красота подернута каким-то легким флером грусти, задумчивости – – Вы, верно, знаете по гравюрам картины Робера, представляющие итальянских жнецов и крестьян, он удивительно верно поймал печальную сторону их красоты. Этой дикой поляной, этими степями и болотами, середь такого аристократического племени доезжает путник до Террачины. Небольшой город угрюм, Средиземное море беспокойно бьется за старинными воротами, огромная и совершенно одинокая скала стоит у выезда. Скала эта, на которой жил какой-то грозный кондотьер, о котором народ повторяет легенды, – превосходно заключает папские владения. Это точка, поставленная после римских развалин, после Кампаньи и болот. За террачинской скалой начинается природа веселая, смеющаяся, совсем иная; население менее красивое, но гораздо удободвижимее; благородный тип мужчины исчезает, одичалые черты лаццарони, подобострастные движения неаполитанской черни начинают показываться; серьезный и задумчивый вид крестьянина, нищего, пастуха Кампаньи заменяется насмешливым выражением и движениями пульчинеллы; на место величавой, правильной, гордой красоты римлянки – встречаются агасаитные взоры, милая вертлявость, живость и дерзкий вид. – Всю эту разницу двух стран, двух природ, двух населений вы видите на самом рубеже, переезжая от Террачины до Фонди. – Эта резкость пределов, эта характерность, эта самобытная индивидуальность всего – страны, гор, долин, городов, растений, населения, каждого человека наконец – одна из главных принадлежностей Италии. Неопределенные цвета, неопределенные характеры, туманные мечты, сливающиеся пределы, пропадающие очерки – это все принадлежность севера. В Италии все определенно, ярко, каждый клочок земли, каждый городок имеет свою физиономию, каждый час – свое освещение; тень, как ножом, отрезана от света, – нашла туча, так темно до того, что становится тоскливо; светит солнце, так обливает золотом все предметы, и на душе становится весело. Федеральность лежит в самой земле итальянской, резкость характеров, о которой мы говорим, бросается в глаза при проезде через весь полуостров. Какая огромная разница в характере Пиэмонта и Генуи, Пиэмонта и Ломбардии; Тоскана нисколько не похожа ни на северную Италию, ни на южную, переезд из Ливурно в Чивиту-Веккию не меньше резок, как переезд из Террачины в Фонди. Ливурна, кипящая народом, шумливая, оппозиционная, республиканская, богатая, деятельная и торговая, столько же выражает пышную Тоскану, самую богатую и самую образованную часть Италии, как пустая и безлюдная крепость с высокими, старинными стенами, в которые плещет море, – выражает неторговый, угрюмый, монашеский Рим. Но самую резкую противуположность, антитезис Италии составляют Рим и Неаполь; они столько же не похожи друг на друга, как серьезная матрона на резвую куртизану, – Рим напоминает о бренности вещей, о смерти, Неаполь об упоительной прелести настоящего, о жизни. Рим, как вдова, верная прошедшему, не отрывается от кладбища, не забывает утраченного, его развалины ему столько же необходимы, как Тибр, как Квиринал, как Ватикан, как Рафаэль и Бонарроти. Неаполь, стоящий одной ногой на Геркулануме, пляшет на гробовой доске, он живет в настоящем, в нем все светло, все зовет наслаждаться – а Геркуланум и Помпея у подножия дымящейся горы служат выразительным напоминанием пользоваться жизнию – а мертвых оставить спать; это – его наследие древнего мира, это – вдохновение Анакреонта и Горация, перешедшее в нравы. Поживши в Риме, невозможно его не уважать, – но от Рима устаешь, устаешь так, как устаешь от людей, с которыми беспрерывно надобно говорить о важных предметах, Рим действует на нервы, поддерживает какое-то натянутое состояние восторженности – может, оттого-то у него в былом и было столько героев и столько фанатиков. Неаполь нельзя не любить, и если б вы только приехали на день, то всю жизнь стали бы поминать со вздохом об этом дне; он совсем иначе действует на нервы, он их опускает, человек делается эпикурейцем, но эпикурейцем артистическим.
Мы приехали в Неаполь на другой день вечером. Солнце садилось, пурпуровым светом освещало оно море и город, Везувий и гору, застроенную домами, на которой стоит Камалдулинский монастырь. По мере того как садилось солнце, дым краснел от зарева, и река каленой и растопленной лавы медленно стекала по Везувию; в городе начали показываться огоньки, песни, шарманки раздавались, марионетки и полишинели – пели и сыпали скороговорками на неаполитанском наречии; на балконах стояли дамы между цветами (в феврале месяце) – вдали за вечерней мглой исчезали Портичи, Кастелламаре – – – «Sta, viator!» «Лучшего ты не увидишь», «увидь Неаполь и потом умри» – какая нелепость – увидь Неаполь и возненавидь смерть! Все возгласы, все фразы (к которым я прибавил свою сейчас) о Неаполе оправданы им, превзойдены. Что за удивительный край! И что за жалкая судьба его! Неаполь даже не имеет тех блестящих и ярких воспоминаний, которыми себя утешали другие города Италии во времена невзгоды. Он имел эпохи роскоши, эпохи образования, он давал моду и тон, – нo эпохи славы, цивической силы он не имел. Один враг за другим являлся его разить, Неаполь служил приманкой всем диким завоевателям, сарацинам и Гогенштауфенам, норманнам и испанцам, анжуйцам и Бурбонам; его не оставляли в покое, его мучили, его терзали; в нем оставались на житье – потому что в нем жить хорошо – вот откуда образовались чернь и лаццарони, недостаток гражданского характера и политическая распущенность. Соперница Неаполя Палермо и вся Сицилия закалена на другом огне, она перенесла многое – но иначе; к этому ведет, впрочем, и положение, – островитяне всегда имеют более сосредоточенный и замкнутый характер. Неаполь, если вы хотите, не принадлежит ни к какой стране, это город и больше ничего, разве прибавим к нему его banlieue, его окрестности, маленькие города около него да небольшую полоску по морю вверх – он ничего не имеет общего с другими частями, его не любят, что за дело Абруццам и Калабрии до Неаполя – до Палермо дело всей Сицилии. Оттого Палермо геройски подставила в январе месяце свою грудь ядрам и приобрела Неаполю представительное правительство. Неаполь, далеко отставший от Рима, от Флоренции, даже от Турина в деле общего гражданского развития Италии, был разбужен бомбардиментом Палермо, испугался и спросонья обежал Рим и Флоренцию.
Не надобно думать, чтоб в Неаполе недоставало образования, сильной потребности выйти из положения, действительно ужасного, в котором он находился с 1820 и которое становилось вдвое невыносимее при сравнении с Италией Пия IX, – стон Неаполя, задавленного инквизиционной полицией, отсутствием всяких прав, преследованиями, грозными наказаниями, уничтожением всякой свободы мысли, слова, печати – давно долетал до Рима; они были несчастны, это чувствовали все они – но восстать, но решиться принести большие жертвы для того, чтоб снять большую тягость с плеч своих, на это у них недоставало характера. Калабрия еще в прошедшем году была в полном восстании, братья Ромео вели партизанскую войну – она была подавлена – – казни следовали за казнями, как вдруг восстала Сицилия 12 января. Палермитяне приготовились к этому подвигу, обдумавши приготовились; обиды и притеснения губернатора выходили из всех границ. В главу восстания стал старик семидесяти лет Руджеро Сеттимо – он ему придал всю упорность, всю настойчивость своих лет, все страстное хладнокровие старика. Сицилия, некогда отстоявшая Фердинанда I, была присоединена к Неаполю на очень положительных условиях; Англия гарантировала ей конституцию 1812 года и отдельное управление. Конституция 1812 года принадлежит ко всему семейству конституций, происшедших из английской, – характер их известен: две камеры, электоральный ценс, личная свобода каждого, книгопечатание без ценсуры и т. п. Неаполитанское правительство не оставило ни одной йоты, но нарушило ее самым оскорбительным образом; никакие протестации, никакие просьбы не помогали, на них отвечали тюрьмой, пулей, пыткой. – Нынешний король, с молодых лет попавшийся в руки иезуитов и потом подчинившийся во всем Дель-Каррето, не токмо не облегчил тягость управления отца, но с первых дней своего царствования показал такое отсутствие снисходительности, такое презрение к просьбам народа, что недоставало только Risorgimento, чтоб возмутить Сицилию да и часть материка. Так и случилось. Сицилия восстала и за нею вслед Калабрия и Абруццы. Войско было отряжено сицилианцам, калабрийские волонтеры подступали – десятки подземных типографий печатали кландестинные журналы, прокламации, воззвания – «Alba» и «Patria» проповедовали из Флоренции. Крепости наполнились арестантами – но число инсургентов не уменьшалось, их расстреливали на скорую руку, правительство чувствовало, что земля теряется у него под ногами, что через несколько дней, может, будет поздно убивать и мстить – – Король хотел было, по примеру отца, сделать вид уступок, ни к чему не обязывающих, обещал маленькую амнистию и разные крошечные льготы – никто не был ими доволен. Неаполь восстал. Войско медлило начать бойню на Толедо, неохотно заряжало ружья – – оно было мрачно, деморализовано. Король мог вполне надеяться на одних швейцарцев – на эти бездушные машины, на этих убийц и защитников по найму. Новые министры между тем представили королю положение дел, грозящую потерю всей Сицилии, опасность Калабрии и Абруцц. Января 31 вышла знаменитая прокламация. Реакционное движение лаццаронов не удалось, иезуиты и del Carreto не могли произвести ничего серьезного. – Король выслал del Carreto для того, чтоб спасти его от раздраженного народа. – В день моего приезда я отправился в San Carlo, где был назначен гимн Фердинанда II – составленный в благодарность за обещание 31 января. Огромная зала S. Carlo напоминает московский театр, но она больше, несравненно пышнее и красивее – все места были заняты. Давали гуннскую оперу Верди «Аттила»; между первым и вторым актом поднимается занавес, и в хор певцов с трехцветным знаменем грянул гимн – половина партера сидит в шляпах, – оканчивается первый куплет – тишина, оканчивается второй – тишина, оканчивается последний – тишина, тем более резкая, что несколько ладоней в ложах и креслах хлопали с неудержимым усердием по тому же горячему чувству долга, по которому в Александринском театре хлопают иному крепкому словцу Кукольника и патриотической выходке немецкого Ляпунова. – Тишина эта меня удивила. У меня в памяти были так живы гимны: «Il vessillo», «Pio nono»[270]; – в Риме весь партер поет припев, в ложах машут платками, дамы стоят, партер на ногах, – «Evviva» – сопровождает каждый куплет. За день до моего отъезда из Рима в Тор-ди-Ноне давали балет «Гвельфы и гибеллины» – появление Фридриха Барбароссы и австрийских солдат возбуждало свист, крики, вой негодования – публика потребовала «Vesillo», и, как только началось:
все вскочило на стулья, дамы выбросили шали, шарфы, сделали из ложи в ложу гирлянды, несколько трехцветных платков привязали на палки, мужчины дали друг другу платки, чивика подняла на голых шпагах кивера – – и громчайшее «Coraggio, Lombardia! Coraggio, fratelli!»[272] – раздалось сквозь слез в энтузиазма. –
Здесь гимн прошел в молчании. «Вот оно что», – подумал я и не мог скрыть моего удивления перед соседом (я иногда здесь обращаю речь даже к незнакомым соседям в театре – прежде я этого не делал, как имел честь сообщить вам в статейке «По поводу одной драмы»). – «Подождемте 9 февраля», – отвечал мне молодой человек – и на лице его было какое-то презрительное недоверие и злая ирония. Следующие дни меня еще более убедили, что недоверие волновало всех. На Толедо, на дворцовой площади стояли группы людей, горячо рассуждавших, кафе были так полны, что часть посетителей дожидалась за дверьми – патрули вновь образованной народной стражи ходили печально, у них лица были так женеспокойны, как у всех, и всем было не по себе. Перед дворцом двойной караул, ружья, поставленные пирамидами, блестят на солнце; кучки офицеров в разных мундирах похаживали по тротуару – во дворце большая тишина, мало свечей по вечерам, мало экипажей выезжают и въезжают. Группы на улицах разбиваются и снова сходятся, переходят с места на место – но не исчезают – как будто все говорит «подождем 9 февраля». – Между тем министры, чтоб дать торжественный залог, доказательство на деле, что прокламация не шутка, сделали распоряжение об освобождении всех политических арестантов из С. Елма, Кастель дель Ово и проч. Город пошел их встречать, они в дверях тюрьмы встретили руки друзей, их окружили, их повели торжественным шествием по Толедо, из домов выходили люди приветствовать воскресших к жизни страдальцев, другие продирались сквозь толпу, чтоб пожать руку, сказать слово, встречные снимали шляпу – – давно ли все бежало от них, давно ли боялись произнести эти имена, как будто в самом звуке есть уже соприкосновенность к делу. – В Caffè dell’Europa был накрыт пышный стол – за этот стол вели освобожденных арестантов их друзья и поклонники. Неаполь толпился у окон кафе – бывало, la roture ходила смотреть издали, в щелочку, как пируют ее господа, теперь тысячи людей старались увидеть странное, новое зрелище, увидеть эти бледные истомленные лица, преждевременно состаревшиеся, источенные горем, перенесенным бедствием; – между вазами фруктов и цветов, между полными бокалами и хрусталем, возле сотни свечей, от которых потуплялись еще их глаза, отвыкнувшие в темных и сырых казематах от яркого освещения – и им, давно отвыкнувшим от надежды, давно сдружившимся с мыслью о палаче, о галерах, – и им пришлось на улице Толедо – публично выпить бокал за независимость Италии. – Ромео, которого голова была оценена, – Ромео спокойно обедал в Caffè dell’Europa! Как это они не сошли с ума, не умерли от такого переворота! Когда окончился обед, новая толпа провожатых с факелами ожидала их у выхода из кафе, у этих каторжных образовалась почетная стража, гвардия, – они их повели в San Carlo – дирекция вышла навстречу и просила занять безденежно первые места в сталях оркестра – –
Но недоверие не уменьшилось, ждут 9 февраля – оно проходит, группы еще многочисленнее, лица полны судорожного движения. Правительство молчит, проходит 10-ое, и вместо исполнения всего ожидаемого – афиша, что министры и король занимаются неутомимо исполнением обещанного. Глаза всех сделались подозрительнее, взгляды злее, лбы наморщились; ожидали ретроградного движения лаццаронов и иезуитов. Одиннадцатого февраля я пошел пройтиться перед обедом. Мы жили на Санта-Лучия; как только я вышел, мне представилась площадь перед дворцом, покрытая народом, – все бежало туда, меня чуть не сшибли с ног, я очутился в густой колонне прежде, нежели успел порядком разглядеть что-нибудь. Крик раздавался страшный, и, несмотря на дождь, шапки летели сотнями вверх. «На firmato!» – кричали в народе – «Si, si», сказал мне мой сосед, пожилой человек, «ha firmato – eccolo» – прибавил он, схвативши меня за плечо. Народ закричал: «Evviva il re costituzionale, evviva la costituzione!» – Мой сосед снял свою шляпу и, обращаясь ко мне, сказал сквозь слезы: «Per il nome di Dio – è per la prima volta – per la prima volta!» Король без шляпы и в длинном зеленом сюртуке раскланивался с народом низко, низко – мне показалось, что он был тронут в эту минуту, – а верно, что я был сильно взволнован. Толпа бросилась от дворца на Толедо – что тут было в этот вечер, невозможно описать, безумный восторг и сатурналия, оргия, в которой участвует целый город, опьяневший от политического воскресения, – тут не кучка арестантов праздновала свое освобождение, а целое народонаселение. Лица с восторгом в глазах, красные и растрепанные, бросались друг к другу в объятия молча, со слезами, незнакомые останавливали друг друга и поздравляли, вся улица покрылась фонарями и шкаликами, на всех окнах явились свечи, дамы ехали стоя в колясках с факелами и махали платками, мальчишки дурачились середь улицы – «Viva l’indipendenza, – viva la libertá!» – раздавалось с конца на конец по бесконечной улице. Римской величавости в этом опьяненье, в этом восторге нечего было и искать, gravité совсем не в характере неаполитанцев, у них живость и комизм прививаются ко всему – они до такой степени шуты, что свой гимн «Masaniello» приладили на голос известной «кошки»:
которую пульчинеллы поют по улице с самыми карикатурными и смешными движениями. Но восторг, одушевление вечера, о котором, я говорю, глубоко потрясал душу. На другой день торжество было приведено в порядок. Толедо была богато иллюминована, бесконечные вереницы экипажей с факелами тянулись по бокам, в середине улицы шли разные группы с своими знаменами – но вчерашнего увлечения не было. Король явился в театре S. Carlo, театр был освещен a giorno[274] – дамы в бальных платьях, военные в полном мундире, мы во фраках и белых жилетах; зала, кипевшая народом, была необыкновенно пышна. Королю аплодировали, гимну аплодировали – но чего-то недоставало. После театра праздник продолжался до глубокой ночи на Толедо, Санта-Лучии и Киайе – народ с хохотом и криком нес виселицу, на которой была повешена восковая фигура Дель-Каррето, – другие несли его голову на пике. Вчера враги еще были забыты, на другой день ненависть, накопившаяся годами, пробралась уже середь ликований и потребовала участия. Виселицу снесли под окна жены экс-министра, имевшей героизм или глупость остаться в Неаполе. А ее добродетельный супруг, Улисс или вечный жид наших дней, имел случай убедиться, какою обширной известностью пользуется его имя в Италии. Его путешествие принадлежит к числу самых поучительных легенд нового времени. Del Саrreto посадили на пароход и отправили в Ливурну, спасая его от народа, – не знаю, как в Ливурне узнали, что на борте парохода Del Carreto, – народ высыпал на берег, запрещая высаживать экс-министра, капитан просил дозволения взять углю и воды – ему отказали. Сам префект советовал им отчаливать подобру и поздорову; он отправился в Геную – но генуэзцы послали на лодке депутацию к капитану с советом не остановливаться в их порте, а ехать далее и сказать ему, что они решились скорее умереть в схватке с экипажем, нежели позволить Del Carreto запятнать своим присутствием, капитан снова попросил углю, генуэзцы отвечали выразительным советом продолжать немедленно путь, – «On a eu cette barbarie»[275], – прибавляет мягкосердный «Journal des Débats» к рассказу об этом. Del Саrreto отправился на парусах в Гаэту, тут он сделал еще опыт устроить контрреволюцию, она не удалась, ее открыли, нашли бездну оружия и мундиры Национальной гвардии – для сбирров. Тогда огорченный Del Carreto уехал в Марсель – где хотя и был дурно принят народом (за что «Монитер» сильно пожурил марсельцев) – но зато взнискан лаской и вниманием товарищами по службе – Гизо и Дюшателем.
Жизнь, которая распространилась в Неаполе после конституции, нельзя себе представить. Толедо кипит народом с утра до ночи, кафе набиты битком, блестящие экипажи несутся вереницей по Киайе к Villa Reale, все шумят и веселятся, клубы дают обеды и праздники – никто не боится сбирров, их будто нет, полиция притихла. A propos – вот вам трагикомический анекдот, случившийся со мной. У меня пропал портфель с чрезвычайно важными документами. Я объявил, что тому, кто найдет бумаги, я даю двадцать пять дукатов. Прошло более недели, я и не ожидал более моего портфеля, как вдруг лаццарони – в панталонах без рубашки и завернутый в какой-то толстой холстинной тряпке вместо шинели – принес портфель с бумагами, но в числе их недоставало двух векселей. Повидимому, лаццарони не был вор, вероятно, портфель ему подсунули – было бы безмерно глупо из-за двадцати пяти дукатов подвергаться страшной опасности – укравши несколько тысяч франков! Но через него можно было добраться до векселей. Лаццарони стоял на том, что он бумажник нашел на улице. Я отправился к графу Тофано – новому префекту. Префект хотел послать захватить моего приятеля, завернутого в отрывок паруса, – я ему заметил, что это будет дурная благодарность с моей стороны за возвращение бумаг, если я отдам по одному подозрению на полицейское истязание бедняка, который их принес. – «Как вы ошибаетесь, – сказал мне, улыбаясь, граф Тофано, – вы думаете, что еще народ боится полиции, – теперь пришел наш черед, теперь полиция боится народа». – Я все-таки не счел нужным тотчас принять предложение префекта и отправился сам с принесшим портфель в какой-то грязный притон лаццаронов за Dogana di Sale. Мой приятель обещал мне показать старого матроса, которому он отдавал поберечь портфель, найденный им в куче сора. В сенях лежали человек пять почти совсем голых, на мокром каменном полу, запах чесноку был невыносим; какой-то мальчик стал передо мной и начал меня рассматривать, как какую-нибудь вещь, – лаццарони – консерватор и аристократ – отпихнул его от меня и грубо сказал: «Е un padrone»; но тут же стоял, прислонясь к стене, лаццарони – радикал и демократ, не совсем трезвый и чрезвычайно замаранный, он разругал аристократа и прибавил: «Santa Maria, – è un padrone – – ma noi, anche noi siamo padroni, – oggi tutti sono fratelli; sono uguali». – «Viva la fratellanza!»[276] – прибавил я, и успокоившийся демократ попросил у меня сигару. Явился матрос-старик – – сквозь стекла очков глаза его горели, как у юноши; ум, плутовство, хитрость и целая жизнь, проведенная в опасной партизанской войне против собственности и общества, виднелись в его чертах. Он был одет гораздо чище прочих – сначала начал со мной говорить по-неаполитански, я не умею понимать ни одного слова на этом наречье, он стал продолжать чистым итальянским языком, прибавляя даже французские слова для пояснения. Переговоры наши шли не легко. Я объяснял ему, что мои векселя для того, у кого они теперь, не принесут пользы, что я предупредил банкиров и пр. Он доказывал мне то самое, что я говорил ему, находил справедливым отдать векселя и жалел об одном – о том, что их нет. – Я сказал наконец о предложении префекта и о моем отказе, давая чувствовать, что дело может пойти иначе. – «Мудрено ли обидеть нас, бедных людей», – отвечал старик, а лицо его против воли явно выражало презлую насмешку, оно так и говорило: «Ну, поди-ка с твоим префектом, поищи, – много найдешь?» – Я его стал уверять честным словом, что я не хотел бы дать этому делу оборот полицейский, что, напротив, если он мне поможет, я готов ему подарить что-нибудь. – Матрос посмотрел на меня пристально, глаза его, несокрушимые временем, казалось, хотели проникнуть вглубь души – и вдруг он стал говорить довольно порядочно по-французски. – «Я, право, для вас бы сделал, если б вы требовали не невозможного, я верю вам, что векселя были, – да их нет, откуда их взять, что мне ваш подарок. Я за рюмку хорошего коньяку отдал бы вам – а вы, может, и десять дукатов дали бы?» – «Охотно». – «Вот досада-то, – сказал он, обращаясь к товарищам, – кому нужны именные векселя, разве в Ливурне, а не то в Марселе разменяет – да и то трудно – а господин этот дал бы десять дукатов, сверх обещанных, – ведь сверх обещанных?» – «Разумеется». – «Поищем те-ка, братцы». – «Где теперь искать, через неделю», – отвечали грубо валяющиеся на полу собеседники. – Я уехал – заметьте, я был в коляске, и, только на одну минуту завернувши в префектуру, приехал домой – первое лицо, которое я встретил у ворот отеля, был старик матрос, на ступеньке лежали два лаццарони, мой приятель и довольно плечистый товарищ. – «Мы после вас все перерыли у себя, – сказал мне старик, – и вот нашли какие-то бумажки, кажется с вашей фамильей – мы читать-то не совсем умеем» – Я взглянул – это были мои векселя. – «Мне остается вам отдать деньги», – скаазал я. – «Деньги следуют не мне, а вот этому мальчику, он нашел ваши бумаги; а мне разве так, на макарони». – «Пойдемте со мной», – сказал я ему. – «Вынесите лучше сюда в сени», – отвечал старик. – Я улыбнулся, и старик улыбнулся. – «Пожалуй». – Надобно было видеть глаза старика и вид лаццарони, которому я платил деньги, – он дрожал, глядя на серебро, а вряд осталась ли у него треть их, недаром матрос считал глазами. Старику я дал дукат – он представил вид величайшей радости. – Прибавлю только к этой характеристической истории, что мне протежировал грозный Michele Valpuso – неаполитанский Чичероваккио[277].
Теперь возвратимся к Неаполю. Итак, жизнь кипит, несется, крутится в этой изящной раме. Толедо запружена журналами, карикатурами – это так ново для неаполитанцев. Мальчишки-лаццарони бегают с песнями и новостями и пристают с ними так, как прежде приставали с виолетками. – Неаполь сделался еще красивее, еще упоительнее, оставив натянутое состояние, в котором я его застал. Одно меня удивляло и не позволяло совершенно отдаться этой жизни – страшный эгоизм в нравах. Это не Рим, плачущий о каждой итальянской скорби, сочувствующий каждой части полуострова. Неаполь не помянул в своем ликовании Ломбардию, не помянул даже полуразрушенной Палермы; он и не подумал, что Сицилии обязан всеми переменами; еще хуже, он дулся на то, что сицилийцы, сидя на трупах детей и отцов, на развалинах своих домов, не бросились тотчас на неаполитанские предложения, не надели розовых венков на головы, по которым еще текла кровь от ран, нанесенных неаполитанскими тесаками. Неаполь не понял великого острова!
Февраля 24-го видел я, как в S. Francesco di Paola король присягал новому уложению. Он формулу присяги прочел громко. – Теперь еще слышатся слова: «Io, Ferdinando secondo, Re delle due Sicilie – giuro»[278], – но лицо его было мрачно, я тут лучше, нежели прежде, разглядел его, он более нежели полон, бакенбарды кругом лица, небольшие усы и страшный взгляд, есть какое-то дальнее сходство с Людвигом-Филиппом и еще более с римскими бюстами цесарских времен, с бюстами Гальбы, Вителия. После короля присягали генералы. Стателли, сицилианец, отказался и с ним еще три генерала, – они не хотели присягать до получения вестей из Сицилии, – их исключили из службы. Перед церковью стояла Национальная гвардия и войска. Сам король привел их к присяге – при громе пушек с крепостей, на которых развевались знамена с трехцветными лентами.
А тут и пошла весть за вестью – новое уложение в Дании, Тоскане, Пиэмонте – в Риме перемена министерства, папа снова уступал.
Напировавшись в Неаполе, мы возвратились в Рим. Карнавал шел вяло, плохо, все были заняты другим, внимание всех обращено на иное, печальные вести из Ломбардии мешали маскам. Клубы объявили, что в этот карнавал не будут moccoletti. – Правительство объявило, что moccoletti будут – дали обычный сигнал выстрелами из пушек – ни одной свечи не зажглось – сим заключаю я мое письмо.
Рим 3 марта.
P. S. Говорят о важном восстании в Париже; дело началось с реформистского обеда. В газетах нет ничего.
Ночью я был на маскераде в Тор-ди-Ноне, толпа была огромная. Часу во втором в одной из лож явился человек с какой-то бумажкой в руках и громко закричал: «Viva la Francia liberata, morte al caduto governo – viva la Repubblica francese!»[279] – и масса наряженных, пестрая, разноцветная, – вдруг остановилась, столпилась и прокричала: «Viva, viva la Repubblica francese!»
Да что это – во сне или наяву?
4-го марта 1848.
Прибавление к третьему письму
Прошло еще два месяца – и какие два месяца? Для полноты писем с via del Corso я прибавлю рассказ доли тех событий в Риме, которых я был свидетель; это будет заключение моей итальянской поездки.
Весть о провозглашении французской республики сильно потрясла Рим и всю Италию. Пий девятый спешил издать свое уложение, – troppo tardi[280] – оно было принято холодно, оно не удовлетворило ни радикалов, ни иезуитов, партия грегорианцев кричала против новых постановлений не менее партии Маццини и Жоберти. Одна златая посредственность, люди пресные, ни теплые, ни холодные, соответствующие французским буржуа-либералам, любящим умеренный прогресс, и притом любящие в нем умеренность больше прогресса, были довольны. Пий девятый учреждал две камеры, из них одна была в руках кардиналов, а другая представляла ей свои предложения; если она соглашалась с низшей камерой, то отсылала ее предложения на утверждение папы, – который не прежде утверждал, как предлагая их на обсуживание святого коллегиума, – и в последнем случае принимал или отвергал со всею волею своего непогрешительного суда. Избирательный ценс утверждался очень высокий – особенно взявши в расчет бедность края и распределение собственностей. Инквизиция не уничтожалась. Доминикальные суды, мешающиеся во все семейные и брачные дела, не отменялись, и тайна алькова снова оставалась отданной на разбор людей, по званию не долженствующих иметь никакого понятия о делах брачных. Дозволялось печатать все светское без ценсуры, но решение вопроса, что светское и духовное, предоставлялось духовной ценсуре; не надобно забывать, что такое разделение очень нелегко там, где министры – кардиналы, где папа – царь, где финансовые меры – чуть не догматы и полицейские распоряжения – почти епитимья. Словом, папское уложение было беднее сардинского и тосканского, оно было ниже того порядка, который фактически существовал в Риме, лучшая сторона его состояла в том, что оно доказало миру возможность конституционного папы. Папа был с своей стороны недоволен приемом уложения, он видел, что теряет свою народность, а для человека, испытавшего любовь народную, трудно отстать от ее изъявления, она ему нужна, как актеру рукоплескания. – Объявление войны за Ломбардию могло все исправить. Вести, приходившие оттуда, были мрачнее и мрачнее; Пий девятый – скорбел, как все итальянцы, о несчастном крае – но – поступить смело, сказать резко слово войны – это было невозможно женскому характеру Пия. А между тем вся Италия требовала громче и громче права пособить братьям. – Папа и монархи ждали, ждали une douce violence[281] и чуть-чуть было не дождались изгнания. – После революций 24 февраля и объявления папской конституции – партии в Риме приняли новый вид. Я говорил в прежних письмах, что большая демонстрация 2 января была высшей и последней точкой народности Пия девятого, в самой демонстрации этой замешался уже резко обозначенный характер горечи, которой прежде не было, – правда, он был побежден любовью к Пию, – но что-то печальное, заботливое осталось на душе, энтузиазм к нему простывал. Он это мог видеть в демонстрациях по поводу неаполитанских дел, в которых его обошли, в трехцветной кокарде, вытеснившей папскую. Римляне сердились, негодовали и скрывали свое неудовольствие, потому что Пий был для них знамя. Правительство делало ошибку за ошибкой, необходимость дать конституцию после сицилийского восстания бросалась в глаза, папа медлил – журналы всякий день вгоняли римлян в краску, указывая на Неаполь, Тоскану, Пиэмонт – Папа ждал и дождался 24 февраля, – революция во Франции внезапно раздула такие политические требования, о которых накануне не смели мечтать, все конституции в мире побледнели перед огненным словом республики – Папа издал конституцию, «побужденный, как сам сказал в прокламации, быстротою несущихся событий». Конституция его, в сущности не удовлетворившая никого, – разорвала на две стороны либеральную партию в Риме. Доля либеральной аристократии, слабое, но существующее однако сословие буржуази и ей принадлежащая часть чивики, чирколо романо и все любители порядка, в какую бы цену он ни был, и тишины, какою бы жертвой она ни достигалась, испугались влияния французской революции, испугались радикализма, который стал высказываться прямо и открыто в новом римском журнале «L’Epoca», – они подали друг другу руку и прижались, как стадо овец, к Квириналу, умоляя «меч Италии», Карла-Альберта начать войну, без которой они не предполагали возможности удержать в покое Рим. – Лесть, расточаемая пиэмонтскому королю, надежда сделаться ломбардским королем – которой они льстили его – возбуждала крик негодования и злобы радикалов, далеко не так незлопамятных и очень хорошо помнивших жизнь Карла-Альберта – которого в Италии если менее презирают, нежели неаполитанского короля, то столько же ненавидят. Люди последовательные, люди, не шутя хотевшие свободных учреждений, люди с мыслию стали в резкую оппозицию не только с правительством, но с модерантизмом чирколо романо, открыто порицали конституцию и проповедовали народную войну. Размолвка с папою доселе была внутри душ, его щадили, его выносили на своих плечах, старались снова толкнуть на дорогу, с которой он сбился, – теперь радикальная партия предоставляла его своей судьбе и модерантистам, она поняла, что с ним не сладит и что легче делать свое дело без него – что наконец когда он опять будет нужен, то его можно силою толкать в спину – так, чтоб стоящим издали казалось, что он впереди, что он предводительствует. Словом, радикальная партия вымерила свою силу и его слабость. Рим воспитался менее, нежели в полтора года. Когда папа заметил, что волна, его подхватившая, не покоряется ему, когда он увидел, что язык, которым с ним говорили римляне, изменился, – он растерялся, у него закружилось в голове, он хотел остановиться, – по счастию, не мог. Остановиться политическому деятелю и остаться на своем месте – nonsens, тут выбора нет: или отойти совсем от несущихся событий, или бесславно удариться оземь и быть, смотря по окружающим обстоятельствам, раздавленным или влекомым против воли. – Последнее случилось с Пием. – Была минута, впрочем, в которую иезуитское влияние взяло верх, они ловко и хитро избрали время – но есть события, есть эпохи, в которые всякая хитрость, всякая дипломация падет перед энергией убеждений, перед силою современной мысли. Иезуитизм воспользовался раздвоением либеральной партии, – оставляя в покое вялое и пресное juste-milieu, удовлетворившееся конституцией, – они представили тревожному и беспокоившемуся Пию радикальную партию как анархистов, как людей, стремящихся к явному восстанию, как его врагов, они указали ему их силу, их язык, наконец умоляли его спасти церковь и их самих от угроз этих якобинцев – Пий девятый, устрашенный ими, издал еще накануне конституции два приказа нелепости и неосторожности невероятной; в одном он защищал иезуитов, в другом поручал Национальной гвардии спокойствие города, вверял им сохранение лиц и собственности, – можно было думать, что Рим в полном восстании, что толпы разбойников его грабят, – ничего подобного не было, иезуиты уверили папу, что радикалы хотят ограбить их коллегиум. Радикальная партия, отталкиваемая правительством, оклеветанная перед ним (надобно, впрочем, отдать полнейшую справедливость Пию в том, что он даже не попытался прибегнуть к диким средствам насилия и преследования), сверх официальной борьбы подвергалась иной опасности: иезуиты, не удовлетворенные папой, из которого не могли выжать какого-нибудь Нантского эдикта, обратились с проповедью к транстеверинцам и монтежианам; эти дикие и энергические обитатели дальних частей Рима, недавно отвыкнувшие от кровавых сцен и от потомственной ненависти к центральному Риму, в политическом отношении далеко отстали от своих сограждан: им иезуиты начали проповедовать святое избиение нескольких злодеев, желающих ниспровержение св. отца, церкви и собирающихся перебить и ограбить монахов. – Не надобно думать, чтоб транстеверинцы и монтежианы имели что-нибудь общего с неаполитанскими лаццаронами, которые около того же времени явились на защиту иезуитам, так, как они являлись на защиту del Carreto. Лаццарони – одичавшая и павшая от бедности чернь. В Риме ничего нет павшего; тех можно поднять деньгами – римлян одним фанатизмом. Проповеди принесли свой плод – энергические транстеверинцы морщили лоб и начали поговаривать, что лучше дадут убить себя, нежели своих духовников и наставников, грозили либеральному Caffè delle belle arti, редакции «Эпохи», восстание их могло быть, при помощи иезуитов и партии Ламбрускини, ужасно, превратиться в страшную Варфоломеевскую ночь. – Два батальона чивики состоят из монтежиан и транстеверинцев, прибавьте к ним 16 000 холопов, живущих у кардиналов и монсиньоров, самой развратной и ленивой челяди, которые копошатся, как черви, в мертвом теле духовного вельможества. Для них всякая перемена – голодная смерть или работа, ненавидимая ими. – Мудрено ли, что они готовы идти на ножи и с ножами; прибавьте потом всех монахов, попов, аббатов, чиновников, которые душою против движения и которые, если бы не пошли резаться на улицу, то подстрекнули бы резню и наверное не сделали бы ничего в защиту ненавистных революционеров.
Чичероваккио – несколько обойденный, но всегда честный, благородный, не утративший ни своего влияния на народ, ни своего такта, инстинкта – старался противудействовать «Иисусовой компании» и обличать ее проделки. Радикалы запасались пулями, многие не выходили на улицу без пистолета или кинжала. Но прежде, нежели благочестивые братии приготовили Варфоломеевскую ночь и Пий IX совсем перешел в реакцию, раздался призыв на другой бой, на иную войну. И враждебно распадавшийся Рим на партии снова сплотился воедино, увлеченный одною мыслию и одним криком: «В Ломбардию, в Ломбардию – спасать итальянскую национальность!» –
Весть о венской революции сначала как-то смутно пронеслась по городу – никто не поверил. «В Вене революция», – эти два слова, вместе поставленные, производили смех, но в посрамление тем, которые не верят в народы и отчаиваются в целых странах, революция, хотя и не оправдавшая доселе половины надежд и ожиданий – но революция, огромная по смыслу, влиянию и последствиям, – совершилась в самом деле. С тем вместе вспыхнул Милан. – 22 марта пришла верная весть об этом в Рим; утром я заметил необыкновенное движение на Корсо; выхожу на улицу – везде группы, громкий разговор, подхожу к одной из них и спрашиваю у человека, держащего в руке письмо, в чем дело. «Народ восторжествовал в Вене, Меттерних бежал, император задержан во дворце, – отвечал он мне и прибавил: – Да вы, кажется, немец? Oh bravi, bravissimi tedeschi, oggi fratelli nostri!»[282] Я заметил ему, что я не немец, а русский, но это не помешало двум-трем прокричать немцам «evviva» – вот как амнистируют народы, вот как у них коротка память на зло; часам к одиннадцати густые массы народа покрыли Корсо от Piazza del Popolo до Piazza Venezia. Я зашел узнать подробности к Торлони, у него в банке царил смутный беспорядок. Спада, растерянный и сконфуженный, расспрашивал меня в ответ на мои вопросы, главный секретарь нашего посольства, качая головой, говорил с князем-банкиром, – нет бездушнее людей в мире, как занимающиеся финансовыми оборотами. Они не могут дать места ни одному бескорыстному чувству, они должны сдерживать каждую радость и каждую печаль – ибо не знают еще, как она будет в переводе на скуди и франки на hausse[283] и baisse[284]. Когда я вышел от Торлони, домы были уже все украшены коврами, трехцветные знамена развевались из сотни окон, ломбардское знамя, являвшееся доселе в черном крепе, – красовалось перед толпой с золотыми кистями – одушевление и восторг толпы были невыразимы. Народ требовал, чтоб ударили в колокола, раздался праздничный звон; народ требовал, чтоб крепость S. Angelo приветствовала падение австрийского правительства и восстание Ломбардии, и пушечный гром раздался. Народ плавал в блаженстве, и вдруг у всех явилась одна мысль: идти к Palazzo Venezia, к австрийскому посланническому дому. На нем, по итальянскому обычаю, висят два огромные императорские герба, – снять их, растерзать эту uccello grifagno как видимый знак абсолютизма – тотчас пришло в голову и овладело всеми – народ бросился за лестницами и инструментами – более двадцати тысяч человек окружили дом; снять тяжелые гербы было нелегко, и во все продолжение работы не было даже разбито ни одного стекла, никто не попытался взойти в комнаты посла, да если б и попытался, то это было бы невозможно – ломбардцы сделали из себя караул – австрийскому послу! Плечистый работник с длинной бородой залез за герб и исчез там, по временам раздавались удары топора – толпа задыхалась – трое молодых людей помогали работнику, того и смотри, что кто-нибудь сорвется, все ожидали в каком-то нервном беспокойстве; и вот после долгих усилий огромный щит, гремя цепями, которыми был прикреплен, рухнулся на землю – и работник, прокричавши во все горло: «Viva l’alta Italia!»[285], принялся привязывать ломбардское знамя. Народ бросился с остервенением на герб, все наболевшее на душе его от австрийцев выразилось в злобе, с которою топтали, ломали ненавистный герб притеснения и томного statu quo. Мраморную надпись ссекли молотами и написали вместо ее: «Palazzo della Dieta Italiana»[286]. Герб привязал к ослу и отправились триумфальным шествием по Корсо, свист и крик встречали бедную двуглавую птицу, мальчишки бежали за нею, бросая грязью, подстегивая плетью, из окон стреляли – так шествие дошло до Piazza del Popolo, там сожгли его на большом костре, и музыка чивики протрубила ему вечную память.
Папа медлил и тут, и тут играл свою уклончивую роль. Допустивши колокольный звон и пушечную стрельбу, не сделав даже вида противудействовать оскорблению герба австрийского – он обсылался теперь с Луцовым, объяснялся, говорил, что если австрийский император со всем войском своим не мог удержать в Вене порядок, то как же ему было воспрепятствовать. А «Ероса» печатала: «La guerra è dichiarata all’Austria, non dal governo, ma dal popolo Romano»[287]. На другое утро ждали почты из Милана – она не пришла, это повергло в сильное беспокойство; часов в 11 приехал какой-то дилижанс из Болоня, его остановили расспросами, а потом несколько тысяч человек проводили до почты, чтоб узнать, нет ли чего нового; заспанные лица путешественников смотрели с каким-то недоуменьем на все, что делалось; вдруг разнеслась весть, что в Милане дела идут не так-то хорошо, что австрийцы одолевают, дикое «all’armi, all’armi!» пробежало по Корсу – ломбарды и римская молодежь звали народ в вольное ополчение, оружие хотели просить, а если папа откажет, взять силой в арсенале, – все были недовольны полумерами, от восстания был один шаг, – по счастию, часа в два явился на Piazza del Popolo в извозчичьей коляске министр полиции Галетти (человек радикальный, приговоренный некогда Григорием XVI на вечные галеры); он объявил, что папа оружие дает и позволяет формировать вольные отряды. «В Колизее, римляне, – сказал толстый священник, выходя из толпы, – в Колизее лежит книга, куда записываются, там ждут ломбарды братий-искупителей; за мною в Колизей! – я иду с вами на поле битвы». – «В Колизей!» – закричали тысячи голосов, и народ мерными и важными шагами, гордо забрасывая край грязной шинели на плечо, отправился в Колизей. Я не видал в жизни моей зрелища более торжественного, более величественного.
Форум и Колизей были освещены заходящим солнцем, яркими полосами входили лучи его в арки Колизея, несметная толпа покрывала середину; на арках, на стенах, в ложах толпились люди – в одной из лож стоял pater Gavazzi – усталый, обтирая пот – но готовый уже снова говорить; – и вот он подает знак рукою, тишина водворяется. Гавацци – энергический патер, некогда гонимый, фанатик патриотизма, я слышал слово от слова речь или, лучше сказать, – несколько речей, сказанных им в Колизее. – Надобен большой навык, чтобы говорить с народом, тут нейдет ни академическая речь, ни проповедь, ни адвокатская риторика. Сильные выражения, яркие цвета, энергия, простота, авторитет и, главное, – глубокое знание своей аудитории, со всеми ее особенностями, ее симпатиями и местными предпочтениями, с ее слабостями и добродетелями. Гавацци не сказал ничего нового – но сильно потряс своих слушателей. – «Есть время, – говорил он, – в которое бог мира становится богом войны – возле креста на моей груди трехцветная кокарда. Христос и Италия! Жить для них, для них умереть – вот наше призвание, – перед этим распятием клянусь идти вперед – я буду в всех опасностях с вами, раненый найдет меня для помощи, умирающий для последнего утешения, даже тот, кто оробеет, найдет мой взгляд ободряющий – клянитесь же и вы – но в храбрости вашей никто и не сомневается; клянитесь в повиновенье, клянитесь в сохранении порядка». И так далее в этом роде. – В заключение он вдруг обратился к молодежи: «Юноши Рима, вам я чуть было не забыл сказать радостную весть, мы выпросили у ваших начальников, чтоб вас поставить в первые ряды, вы первые падете за свободу Италии – падая, вы будете думать, что защищаете собою отцов семейств – вы первые будете победителями, первые взойдете на стены – мы там увидимся – до свиданья! – Довольны ли вы этим?» – «Довольны», – кричала молодежь сквозь слезы восторга и прибавляя: «Viva Gavazzi!» – Гавацци благословил знамена. Папа прислал сказать, что он надеется, что те, которые не пойдут сами, будут участвовать приношениями, и что наверно духовные корпорации покажут первые пример содействия великому делу освобождения Италии. – Все это, разумеется, было суфлировано папе министрами, – он впоследствии от всего отперся, но на ту минуту это объявление произвело свое действие. Вслед за Гавацци взошел на эстраду Чичероваккио – народ думал, что он идет в ополченье, и громко приветствовал его – он было и действительно хотел идти, но его уговорили остаться, чтоб смотреть за темными происками; il popolano смешался от недоразумения, Гавацци объяснил народу, зачем он остается, – Чичероваккио прибавил: «Я не могу идти, romani, – но вот моя кровь, мой сын, я его отдаю отечеству!» – и он обнял мальчика лет шестнадцати и показал его на помосте. – Народ плакал и кричал: «Viva Cicerovacchio!» – Между тем под одной из нижних арок сидели несколько человек за столом, покрытым сукном, и записывали волонтеров, – молодые римляне толпились у стола, ожидая своей очереди, увлеченье было страшное. – «Многие матери не дочтутся детей своих сегодня, – сказал один старый тра<н>стеверинец, поправляя свою шляпу, на которой была нашита засаленная трехцветная кокарда, – а делать нечего, идти надобно, не дать же братьев под ноги варварам». – Такого рекрутского приема вы, верно, никогда не видали. – Когда настал вечер, весенний, не холодный и не теплый, зрелище еще раз изменилось, зажгли факелы около записывавшихся, народ остался в полутемноте, знамена едвавиднелись, и испуганные птицы, не привычные к таким посещениям, кружились над головой, – все, окруженное гигантской рамой Колизея. – На другой день сформировали набранную молодежь – на больших площадях поставили столы и окружили чивикой, для сбора приношений; я подошел к такому столу на Piazza Colonna – груда скуди и меди лежала на блюде и кругом разные вещи, золотые кольцы, табатерки, браслеты – при мне какой-то факино положил два байокка. На третий утром на рассвете выступил первый отряд волонтеров, весь город их провожал, резкий утренний ветер дул, небо было покрыто тучами, многие плакали, другие пели «Il vessillo», у некоторых в руках еще были зажжены факелы, с которыми они гуляли ночью. На Piazza del Popolo их построили; непривычные к дисциплине, им было дико, многие даже приуныли, ударил барабан – – Патер Гавацци с веселым и радостным лицом пошел вперед. – «Прощай, Рим, – говорил он, – прощай, святой город, – я присягаю, что нога моя не взойдет в священные стены твои до тех пор, пока Ломбардия не будет свободна – с богом – evviva Pio nono!» – колонна двинулась, женщины рыдали, мужчины жали руку солдатам – тррр – тррр – и они скрылись на дороге, а жители печально разошлись, у всех на сердце было тяжело, сколько-то воротятся из этих свежих, юных людей, – война свирепое, отвратительное безобразие, обобщенный разбой, оправданное убийство, апотеоза насилия и грабежа – и между тем люди еще так дики и невоспитанны, что она необходима. – Часть Национальной гвардии и драгуны отправились вслед за волонтерами. – Папа объявил, что он дозволяет им идти, но не приказывает, и что объявить войну считает несовместным с своим званием. Странное явление в истории этот Пий девятый – два, три благородных порыва, два, три человеческие действия, так рельефно выразившиеся после глухой и мелко жестокой тирании Григория XVI, поставили его во главу великого итальянского движения; после Наполеона не было ни одной венчанной главы, которую бы народы действительно любили до такого обоготворения, – но слабые плечи его ломятся под тяжестью великого призвания, с начала 48 года Пий девятый остановился, он, собственно, не хочет ни вспять идти, ни впереди, он стоит на рубеже двух сильных потоков, и то один его уносит с собою шага на два, то другой влечет назад. Он до того слаб, что беспрерывно дает себе dementi, он приобрел даже силу этой женственной впечатлимостью – на него все боятся опереться, иезуиты и радикалы, короли и народы[288] – и все это делается без хитрости, он беспрестанно плачет, он добросовестен. Великая судьба его преследует, навязывает ему свои дары, а он упорно отказывается и вредит самому себе. Наконец это надоело, мало-помалу сильнейшая рука, поддерживавшая его, отнимается. Пусть бы он отошел с миром от всего светского, из благодарности за светлые минуты начального Risorgimento, пусть бы память его осталась в сердце итальянцев – незапятнанною, неосмеянною – – или уж лучше бы умер.
Когда волонтеры были совсем готовы идти, они пошли просить папу благословить их знамя – он отказался; есть в жизни торжественные минуты, требующие такой полноты и такого сочетания всех элементов, – минуты, в которые так натянуты все нервы, все чувства, – что малейшая неудача, малейший несозвучный тон, который в обыкновенное время прошел бы едва замеченным, страшно действует. Народ вообще подлежит детским dépits[289], даже женским капризам. Отказ папы ошеломил волонтеров, папа вперед деморализировал войско, которому внутри души желал победы. Дело кончилось тем, что благословение украли, ополченные поймали папу, когда он входил в церковь святого Петра, он по дороге благословляет всех, несколько человек с знаменами стали перед ним – он их благословил, – они прокричали народу и волонтерам, что св. отец благословил знамена. Я был свидетелем всей этой сцены – и от души желал этому благонамеренному евнуху Италии честной кончины и доброго ответа на страшном судилище истории.
После выхода волонтеров, в числе которых ушла доля римской чивики, Рим опустел, сделался угрюм – эти дни мне особенно памятны. Итальянская весна прибавляла к судорожному раздражению от событий, о занятиях нельзя было думать, я не только разучился писать, но разучился читать что-нибудь кроме газет. Война недели на полторы отрезала сообщения с Миланом – новостей не было. Как сильно волновало душу и трепетное ожидание вестей, и боязнь за ушедших воинов! Чудное время – в противуположность обыкновенной апатии, ежедневного безразличия. Бывало, с утра тянет на Корсо, к почте, узнать, спросить – а тут мальчишки внизу кричат: «La disfatta di Radetzky – un baiocco – La fuggita del arciduca Raniero – un baiocco e mezzo – La repubblica proclamata in Venezia»[290] и пр., и торопишься купить листок, читаешь его, веришь и не веришь – каждый день, каждая газета приносила новости великие, невероятные. Могло ли остаться надолго такое время, все энергическое, не пошлое считается минутами, днями. – История скупа, да и люди слабы – им равно не вынести ни избыток счастия, ни избыток горя.
– Возвращаясь теперь назад ко времени моего приезда в Италию – становится страшно. Сколько событий с реформы Карла-Альберта и с епитимьи, наложенной за Зондербунд! – Да уж прочно ли все это? Дикая, злобная война завязалась. Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего. – Но что прочувствовано, то остается в душе, что совершено – того не сдует реакцией.
Париж, 10 мая 1848.
Опять в Париже*
Письмо первое
1 июня 1848.
Итак, любезные друзья, снова настает время истории, воспоминаний, рассказов о былом, гаданий о будущем – – настоящее снова враждебно, покрыто тучами, в душе опять злоба и негодование – будемте вспоминать, будемте рассказывать, учиться по свежим ранам, по новым горьким опытам.
Эти письма назначены исключительно для вас, друзья; у меня наконец в голове нет ни одной мысли, которая могла бы пройти сквозь ценсуру, сверх того, нет и прежнего желания высказывать свою мысль как можно темнее – лишь бы ее напечатали. Письма мои будут вам полезны. Истинные вести о добре и зле, совершающихся здесь, до вас дойдут не скоро, они дойдут до вас, сделавшись хроникой, историей. Те журналы, которые энергически и бойко высказывают дело, – для вас невозможны; те, которые вам возможны, – не передадут дела. Сверх того, часть знаемых вами событий сделается живее и ближе для вас – пересказанная мною. Не правда ли?
Революция 24 февраля вовсе не была исполнением приготовленного плана – она была гениальным вдохновением парижского народа, она, как Паллада, вышла разом – вооруженная и грозная – из народного негодования, это удар грома, давший внезапно осуществление и тело давно скопившимся и долго стесненным стремлениям. Национальная гвардия допустила республику – потому что она не поняла движения, Камера допустила Временное правительство – из трусости, из желанья обуздать народ; буржуази ее приняла как ограждение собственности. Один народ, т. е. блузник, работник, хотел добросовестно республики и знал, что делал. Последующие дни были днями всеобщего удивления, все казались довольны, все были обмануты, все обманывали друг друга, все скрывали страшные недоразумения – которые должны были привести к демонстрациям 17 марта и 16 апреля, к грозному протесту 15 мая и к тупой реакции, в которой мы теперь. – «Башмаков не успели eще износить», в которых ходили на баррикады 24 февраля, а уже реакция уносит все следы революции, и кто знает, где она остановится. Она родилась вместе с провозглашением республики, она прокрадывалась тихо, воровски и вдруг подняла свою голову дерзко и нагло. Ей поклонились отовсюду ее друзья – все отсталое, монархическое перевело дух, с радостью повторяя: «Так это-то республика?!» С падения республики в глазах Европы начинается отчаянное противудействие правительств народам. Слово «республика» устрашило все тирании, жалкое управление ободрило всех тиранов. Будем беспощадны – и, отдавая все то обстоятельствам и общим причинам, что им принадлежит, скажем громко: позор на голову людей, пошедших вспять, обманувших обещаниями народ и фразами всю Европу, – позор им, людям вялым, будничным; – кто заставлял их взяться за судьбы мира, где их призвание, где помазание? – Если они и уйдут от железного топора, то не уйти им от топора истории. –
Заодно вечная благодарность итальянскому Risorgimento и 24 февраля за четыре месяца светлой, торжественной жизни; кто не увлекся, кто не был обманут 24 февралем? С своей стороны я, признаюсь, только после 15 мая понял, какую республику приготовляют французскому народу – он еще не верит своим глазам. Поверит!
В истории, как в жизни художника, есть вдохновенные мгновения: к ним народы стремятся долгое время и долгое время потом эти мгновения провожают своим светом. Такие светлые полосы в истории искупают десятки прошедших и будущих лет, принадлежащих хронологии, календарю. Счастлив тот, кто участвовал в праздничном пире человеческого воскресения, счастлив и тот, кто, не будучи призван на содействие, был зрителем, у кого билось сердце и лились слезы оттого, что он видел действительность не ниже самых смелых идеалов, народ в уровень событиям. – Мы видели! – Святое время, – оно прошло! Ни Франция, ни какой другой народ не могут еще удержаться на той высоте, на которую они поднимаются в минуты энергического гнева и гражданского вдохновения. Они, как поэты, устают от одушевления, от полноты жизни – и серая ежедневность сменяет гениальный порыв и творческую мощь. – Франция совершила провозглашением республики еще великий шаг для себя, для Европы, для мира – и снова запнулась, как бы боясь собственного величия, и снова нашлись нечистые руки и предательские объятия, которые задушили ребенка в колыбели. Опыт не учит Францию. Она доверчива, как все мужественные и благородные натуры. Французский народ не готов для республики, о которой мечтает социалист, демократ и работник. Его надобно воспитать, для того чтоб он понял свои собственные права. Но кто его воспитает? По несчастию, мысль французская так же мало готова и развита, как народ. Под словом «французская мысль» я разумею сознание большинства всех образованных людей, всех достигнувших высшего предела цивилизации своей страны – и именно они никак не стоят на той высоте, на той простоте, на той воле, которую требует демократия. Это касается до всех – до Ламартина и до Ледрю-Роллена, до Барбеса и до Косидьера; – есть исключения, но общество отрекается от них – это Прудон, которого называют безумным, это Пьер Леру, которого не хотят слушать – – это работники, парии современного мира. Французская мысль – мысль монархическая, и республика, которую Франция может учредить, будет республика монархическая, а может быть, деспотическая – тут есть, повидимому, contradictio in adjecto, но реально противуречия в этом нет. Несравненно нелепее и невозможнее республиканская монархия, нежели монархическая республика. В последнем случае монарх остался, но он не лицо – а лица, но он не случайность – а результат выбора; однажды признанный монархом, парламент может сделаться самым чудовищным притеснителем, самым безжалостным – ибо ответственность распадается. Весь вопрос сосредоточивается в том, что в демократии вовсе не должно быть монарха, а вот этого-то и не вдолбишь в ограниченное разумение французов – они вам наверное возразят: «Стало быть, не надобно правительства». До такой степени монархизм у них неразрывен с словом «правительство». Национальное собрание – это Людвиг XIV, оно прямо и наглее Людвига XIV говорит: «L’Etat c’est moi», ему не возражают. Что разумеет француз под словом «самодержавие народное»? – только право бросить шар в урну, – бросивши его, он отрекается от своего самодержавия, он делается рабом шаров. Собрание вовсе не думает, что оно делегат, поверенный в делах, представитель народа, а не в самом деле народ, – нет, оно считает тотчас себя свободным, себя самодержавным, народ низшим, управляемым. – Это-то и есть монархический принцип, и от него долго не отделается Франция, потому что он очень последовательно развит из их цивилизации – так француз смотрит на власть, на семейные права, на закон – – у него все это святыни, кумиры, цари. – Француз жив и насмешлив по характеру, он смеется надо всем – но его шалость скользит по поверхности, в сущности он упорный консерватор. Его перемены похожи на его моды, покрой платья другой – человек тот же. Он революционер, в этом нет сомнений: отважный и быстрый во всем, он тотчас строит баррикады, для него это протест, месть и полная награда – после баррикад он тотчас спохватывается и бросается ставить подпорки к стене, которую сам стремился сломить. Французы вообще боятся свободы, той свободы, за которую они каждые пятнадцать лет льют потоки крови, – им нужна не свобода в быте, а религия свободы, им нужна свобода на площади в фригийской шапке, им нужны не права, a déclaration des droits de l’homme[291], они снесут деспотизм во имя этой фригийской шапки и этих напечатанных прав. Это самый практический и самый отвлеченный народ в мире, а всего более самый религиозный. Весь характер революции 89 года – религиозный. Революция была религиозной фазой, как католицизм, как протестантизм: запирая церкви и изгоняя священников, она была тем не менее развитием, последствием, исполнением христианства. Смотрите только на дух, а не на букву. Немецкий ум, часто оставаясь при букве, изменял дух, Фейербах – больше ничего, как Гегель, у которого дух приведен в уровень с буквой. Энциклопедисты не таковы. Не верьте их хвастливым речам, их шутливому кощунству, они сами не подозревали, что половина корней их почерпала соки из религиозной почвы; им казалось, если религиозный догмат перевести с церковно-латинского на французский разговорный язык, если слово «charité»[292] заменить словом «филантропия», слово «самоотвержение» – «патриотизмом», – то и дело христианства покончено. Они часто были похожи на того непокорного сына евангельской притчи, который, грубо отказавшись идти работать в виноградник отца, – все-таки пошел. Франция XVIII века имела свои символические книги – например, Руссо, своих святых – как Вашингтон и Франклин, свое изуверство и свой иезуитизм, наконец – внешние формы, обряды во время террора имели грозную обязательную силу. Так, как в теории французские философы принимали за догматы – простые истины науки, чуть не молились закону тяготения, так в практических сферах потом они придавали религиозный характер полицейским распоряжениям, и закон свободы был для них законом тяжелым и мрачным. Я тороплюсь сказать вам: не ищите в этих словах порицания великой эпохи, я хочу только указать эту постоянную черту французского характера. Она является в страшном величии в 93 году и страшной низости в 48 – это хороший знак, французы становятся совершеннолетнее. В первую революцию – религия республики была на месте, нынче религия собственности является каким-то уродством, опираясь на догмат suffrage universel. Характер первой революции романтический, юношеский, героический. Романтизм значит несовершеннолетие, героизм – отрочество, – но они прекрасны в своей горячей вере в будущее, в народ, в первый радостный день освобождения от прошлых учреждений, на краю гибели. Вера спасла Францию – но не свободу – и она спасла только Францию – а не республику. Забудем кровь, пролитую тогда, примиримся с нею. Где есть фанатизм, там ждите самоотверженных и страстных людей, из которых одни, отирая слезы, обрекут себя на страшную долю палачей, а другие с веселым челом, с песнью на устах, с верой в сердце – пойдут на плаху. Тогда увлеченье было так велико, что насильем хотели освобождать. Тогда думали, что достаточно объявить людям, что они свободны – чтоб их сделать свободными. В этом доверии к человеческому разумению, в этой вере в удобоисполнимость идеала лежит именно юношеский элемент того переворота. Горячая вера и горячая любовь не ждет, не рассчитывает, она бывает нетерпелива, беспощадна от самонадеянности. Нынешнее salus populi не имеет ни одного луча того времени, его фанатизм – холоден.
Казалось, что царствование Людвига-Филиппа было всего способнее потрясти монархическое воззрение во Франции. Франция ненавидела Реставрацию – правление Людвига-Филиппа она под конец презирала. Карл X возбуждал злобу, Людвигом-Филиппом и его последними министрами гнушались. «C’est une révolution de mépris qui les emportera»[293], – сказал Ламартин на маконском празднике в 47 году. Но потрясая собственно династический интерес, прогнавши короля – французы попытались на время устроиться в духе противуположном монархии, но как только Собрание начало свои действия – оно стало царствовать, оно стало возвращаться ко всем законам монархии, а главное – стало смотреть на все вопросы с точки зрения монархической, – осталось одно название республики. Я согласен, что и это много, это не простая перемена одного слова другим, это великий шаг вперед, огромное устранение прошедшего. Слово «республика» сделает ту отрицательную пользу, что старая монархия будет невозможна. Особенно важно слово это для Европы. Я видел, что такое было в Риме и во всей Италии при получении вести о провозглашении республики. Но для истинно развитой части Франции этого мало – она это чувствует, бьется, исходит кровью – без успеха; статьи Прудона, Торе, Ж. Санд – – показывают очень ясно, чего они ждали от 24 февраля – и чего дождались.
Слишком легкий успех, неожиданность 24 февраля должно было броситься в глаза каждому – разве таким шуточным боем достигаются пересоздания государств? Все осталось по-прежнему – кроме трона, который сожгли; сначала этого не замечали из-за толпы, из-за шума, страсти были еще так возбуждены, сердце так билось, великие слова 92 года воскресли и звучали тогдашней силой и славой, – но когда все улеглось, успокоилось, увидели факт, который нельзя было не видеть и прежде, – что республиканская партия слаба, почти не существует. Небольшая кучка республиканцев, уцелевших от всех ударов, наносимых лукавым правительством Людвига-Филиппа, боролась еще кое-как до 1839 года – записывая, впрочем, в свою печальную хронику одни потери, одни гонения, – гонения открытые и тайные, клеветы прокуроров и обвинительные вердикты подтасованных присяжных. Сентябрьские законы довершили победу. Сам Годфруа Каваньяк говорил перед смертью с глубокой печалью: «Это правительство износит нас всех, мы состареемся в бесплодной и неровной борьбе». Наконец и эта глухая борьба почти исчезает, задавленная правительством и буржуази. До 1840 года у правительства был еще стыд или если не стыд, то осторожность, оно боялось прибегать ко всем средствам, оно не было совершенно уверено в полном сочувствии большинства, после 40 года оно убедилось, что маска не нужна. Камеры депутатов, наполненной чиновниками, не боялись, достаточная буржуази, увлеченная в ажиотаж, соединялась теснее и теснее с троном, ее благосостояние зависело от сохранения существующего порядка; начала, на которых Людвиг-Филипп опирал свою власть, – были те начала, на которых опирались финансовые сделки, торговые предприятия, монополи, – люди коммерции и капитала давали правительству свои голоса, правительство ограждало их своими штыками. Незаметная партия республиканцев тонула в этой entente cordiale. А когда ей случалось всплывать, ее били сплеча клеветой и всеми адвокатскими проделками. К тому же люди прогресса, – люди, которые не могли по благородству натуры оставаться равнодушными зрителями жалкого положения Франции, были разделены между собой на три партии, редко соединявшиеся. Одни хотели реформы, другие – республики, третьи стремились к социальным переворотам. Из этих партий – чистые республиканцы не были в большинстве.
По мере того как правительство шло далее и далее в путях насилия, разврата, по мере того как оно находило средства превращать хартию в пустую форму и заменять личным правлением – представительное, росла мысль о реформе; страна, настолько развитая, как Франция, с своей старой цивилизацией, с воспоминанием 1830 года, не могла не понять опасности личного правления; самое покорное большинство, подавая голос за правительство, часто жертвовало убеждениями единственно для сохранения «общественного порядка». В Камере и вне ее образовалась партия, желавшая сохранить представительное правление 1830 года во всей чистоте, усиливая сторону Камеры расширением электорального ценса, вводом «способностей» – ожидали от предполагаемых перемен появления новых сил, новых интересов, – в этом духе появилась известная брошюра Дювержье де-Горона, в этом духе действовала часть оппозиции и лучшая, образованнейшая часть буржуази. У этой партии, как у всего половинчатого, были связаны руки, она столько же боялась республиканцев и социалистов, сколько хотела обуздать Людвига-Филиппа и его министров. Сила ее возросла страшно в 1847 году. Гизо слишком понадеялся на солидарность буржуази с правительством, он слишком понадеялся на тьеровские законы; действия министерства с начала 1847 становятся непонятны. Уменье свое понимать, наблюдать Гизо доказал на каждой странице своих сочинений, – как же он, так долго, в таких разных случаях призываемый к общественным делам, так грубо ошибся в характере французов, особенно Парижа? Власть пьянит, семь лет постоянных удач свели его с ума, он забылся до того, что перестал скрывать свою внутреннюю реакционную мысль, – язык его становился дерзок, оскорбителен; судя по тому, что он делал и говорил, надобно думать, что он безмерно презирал Францию. К тому же он уронил ее влияние в европейской политике. Ни оскорблений себе, ни унижения Франции – француз не прощает. Недостаток учтивости больше сделал вреда Гизо, нежели преступное управление его; неудачи внешней политики сердили французов больше, нежели ряд безобразных мер против книгопечатания, против театров и пр. Неудовольствие росло, а с ним и партия реформистов; Гизо встречал ее нападки иронией, подкупами, растлением всякого чувства чести и долга в общественных делах, – но 47 год должен был сделаться позорным столбом развращающего министерства. Первый удар Гизо и Дюшателю – удар ловкий, злой – нанес Эмиль Жирарден. Подкупленное большинство ввиду неопровержимых документов публично оправдало министров. – Это было хвачено через край. Нравственное чувство самых простых людей и самых далеких от политики было оскорблено. Буржуази начала хмуриться – через несколько дней после истории Жирардена начинается суд над Тестом, товарищем Гизо и Дюшателя. Дело Теста в моих глазах не столько важно по взяткам, сколько по обличению страшной бессовестности, которая указывала на глубочайший разврат людей, находившихся в правительстве.
Министр Тест является перед палатой пэров сильный негодованием, он оскорблен, он снимает с себя Лежион д’Онер, слагает звание пэров – для того, чтоб их снова получить после торжественного оправдания – – и в это самое время какой-то старик бухгалтер сквозь слезы, трепещущим голосом читает в шнуровой книге несомненное доказательство, что Тест – вор. И что же потом – королевский прокурор Делангль, недавно купленный министерством из рядов оппозиции, позорит дерзкими словами заслуженного старика генерала Кюбьера за то, что он смел сказать: «Правительство в руках грязных и развратных, без денег ничего не сделаешь» – и Камера пэров, основываясь на глупом законе, снимает все звания заслуженного старика, все знаки отличия и высылает вон опозоренным бродягой. – Вся Франция следила шаг за шагом процесс Теста. Он еще не кончился, как оппозиционные журналы сделали пять или шесть доносов – не токмо Сульт и министры, но члены королевской фамилии были замешаны в грязные денежные сделки. Министерство упорно не дозволяло производить следствие – министр юстиции Эбер, в моих глазах, был еще гнуснее самого Дюшателя: Дюшатель – какой-то развратный Фигаро, слуга roué и больше ничего; но Эбер – это инквизитор без веры, у него наружность змеи, существо худое, желтое, гадкое; Эбер не хотел допустить следствия, говоря, что правительство не верит обвинениям. Так шутить нельзя с народом, который имел сто лет тому назад Монтескье. –
Вне парламентского мира правительственные лица тоже отличились – один скандальный анекдот заменял другой. – Полицейский комиссар, взойдя для обыска в maison de tolérance[294], где обыгрывали молодых людей, захватил там старика, предававшегося безобразнейшему разврату, и, несмотря на все его усилия, отправил его в префектуру. – Это был министр юстиции Мартен дю-Нор. – В Тюльери поймали на вечере у короля плута, который передергивал карты, – этот плут был адъютант герцога Немурского, полковник Гюден. – Мартен дю-Нор умер, Гюден исчез; никто не судил ни того, ни другого.
Наконец, страшное убийство герцогини Пралень, подробности преступления и, наконец, смерть преступника, которого правительство отравило для того, чтоб не вести на эшафот герцога, окончательно возбудила все умы, негодование, ропот становился сильнее, в воздухе было что-то тяжелое. Толпа народа, стоявшая у решетки Венсенского дворца, в котором Монпансье давал бал, встречала кареты министров криками: «A bas les voleurs!» Людвиг-Филипп отвечал на этот крик, повторившийся в всех департаментах, назначением Гизо в президенты совета министров. Больше пренебрежения к общественному мнению показать было невозможно. – Капфиг издал брошюру, которая объясняла смысл председательства Гизо, – брошюра эта, отрекавшаяся даже 1789 года, была до того написана в духе правительства, что правительство отреклось от нее. Капфиг говорил о необходимости ценсуры, о недостаточности суда присяжных, о монархических преданиях, разорванных революцией, – об этих преданиях говорил несколько раз и Гизо.
Партия реформистов быстро росла от всех этих событий. Депутаты оппозиции, возвращаясь в свои департаменты, проповедовали реформу, указывая всю гниль, всю гадость правительства. Люди, известные своим независимым образом мыслей, – Ламартин, Кремье, Одилон Барро, – ездили из города в город, везде принимаемые реформистскими банкетами, везде произнося речи, возбуждая уснувшую политическую деятельность. Правительство оставалось глухо и немо к требованию реформистов, оно сражалось мелкими средствами, напр. нападая за то, что тост короля не был предложен на банкете, что в такой-то речи было такое-то выражение, – подобного рода замечания, выходившие из министерства, дразнили вдвое более. Банкеты приближались к Парижу. Министерство становилось en garde[295]. Оно решилось употребить все силы и все средства, чтоб в Париже не было банкета. – Как мелко всегда люди власти понимают оппозицию, как будто важность дела состояла в том, что будут обедать или нет несколько депутатов, что скажет речь Одилон Барро или нет. Между тем отказ должен был оскорбить – и, как вы знаете, он был поводом 24 февраля.
Республиканская партия не могла при Людвиге-Филиппе открыто действовать, она работала в тайных обществах, société des droits de l’homme, des montagnards[296], в ней были энергические люди, но не в большом количестве и очень розных направлений – из ее рядов вышли Барбес, Г. Каваньяк, Алибо, – к ней принадлежал умеренный Арман Карель; «National» и «La Réforme» представляли до некоторой степени публичные органы умеренных республиканцев; «National» продолжался в духе Кареля – Маррастом, который даже принял имя Армана, до того был под влиянием благородной тени предшественника. Взгляд Марраста – умный и бойкий – был очень ограничен, его журнал проповедовал буржуазную республику, он за suffrage universel не видал ничего, для него социальные вопросы не существовали; находя в себе самом все симпатии мещан, Марраст льстил армии, народной гордости, бранил социалистов, говорил о сильной полиции, о мощном правительстве, – куда эти теории привели Марраста и его друзей, мы увидим после. У «Насионаля» были большие связи, большие сношения с департаментами, он заправлял их журналами, был их органом в Париже; ему доставлялись все министерские секреты, он знал депеши час после их получения; Марраст был отличный памфлетчик, его отчеты об особенно важных заседаниях Камеры депутатов – напоминали иногда самого Курье. – «Реформа» была радикальнее «Насионаля», но беднее средствами и способностями. Влияние ее было ограниченнее «Насионаля», но она, впрочем, сильно действовала в кругу студентов, бедной молодежи и работников-республиканцев. «Реформа» плохо понимала социальные вопросы, но звала социалистов на общий труд, доказывая невозможность социального переворота без политического. «Насиональ» имел тысяч пятнадцать подписчиков, «Реформа» не более шести тысяч[297]. – В публичном преподавании республиканское направление поддерживалось лекциями Мишле. – Вся эта партия находилась под беспрерывным Дамокловым мечом Дюшателя и Эбера, – выстрелит ли кто в короля – их обвиняли в complicité morale и гнали, как Дюпоти. Попадется ли какой-нибудь вор, который случайно зашел к республиканцу, – полиция замешивает республиканца, и его сажают в тюрьму, как сделали в 1837 году с Флотом. Реформистские обеды развязали, вместе с общим ропотом, руки республиканцам, на некоторых банкетах гости явились повязанные красными платками, и только прямо не пили за здоровье республики. Из этого никак не следует заключить, что у партий республиканцев была прямая надежда, они готовы были пристать к каждой партии, противудействующей правительству, – но не считали сбыточным скорое провозглашение республики. Я скажу смело и с полным убеждением, что 23 февраля никто не предвидел, чем окончится 24-е, ни Людвиг-Филипп с своими министрами, ни реформисты с своим протестом, ни «Насиональ» с своей осторожной оппозицией; республика была сюрпризом для всех, республику 24 февраля создали и провозгласили – парижские работники и несколько клубистов – это было вдохновение; люди, построившие первые баррикады на улице С.-Оноре, люди, сражавшиеся у ворот С.-Дени, Национальная гвардия, становившаяся в ряды народа, – не шли так далеко. Хотели реформы – сделали революцию, хотели прогнать Гизо – прогнали Людвига-Филиппа, хотели отстоять право банкета XII округа – провозгласили французскую республику, утром радовались министерству Одилона Барро – вечером Одилон Барро больше отстал, нежели Гизо. Мало этого, 24 февраля, когда народ везде побеждал, когда Национальная гвардия – тоже побеждала, не зная кому, Марраст посылал Мартина из Страсбурга в «Реформу» сговориться о каком-то правительстве, в котором членом будет Одилон Барро, и поддерживал регентство. «Реформа», увлеченная Ледрю-Рол<леном>, была уже вполне за республику и печатала первую прокламацию – которая должна была так удивить Камеру, буржуази и Национальную гвардию. Этого сюрприза не забыли они до сих пор.
Третья оппозиционная партия, существовавшая до революции, была партия социалистов и коммунистов – французский социализм явился вслед за 93 годом как упрек республике политико-демократической С.-Жюста и Робеспьера, как пророчество будущего переворота – его казнили консерваторы в лице Гракха Бабефа. Но он вскоре, во время Империи, возродился не в революционной, а индустриально-религиозной форме, потомок герцогов Сен-Симонов сделался проповедником нового социализма. Пятнадцать лет Реставрации Франция провела в парламентских прениях, в либерализме, в конституционных теориях – о социализме никто не думал, совсем напротив, все твердили Сэя и Мальтуса, это было золотое время представительного правительства, тогда блистали такие ораторы, как Манюэль и Б. Констан, буржуази – отборная и богатая (ибо ценс был выше) – соперничала с возвратившимся дворянством и, сидя на мешках золота, смеялась над почерневшей позолотой их гербов. Революция 1830 вдвинула другие начала, по видимому, казалось, ничего не переменилось, кроме собственных имен и грамматических поправок в тексте хартии. Таково свойство сильных народных потрясений, совсем назад воротиться нельзя; после 1830 года французские Камеры утратили интерес, слишком много посредственности взошло в них. Ценс 1830 не ввел ничего народного, а позволил всплыть бедной или по крайней мере небогатой буржуази – сословию плохо образованному и весьма неблагородному. Социальные вопросы стояли так близко, так неминуемо, что нельзя было их миновать, – народ очень хорошо понимал, что его положение не улучшилось, нашлись люди, которые стали ему пояснять отчего. Ученье С.-Симона и Фурье распространялось – и что, может, важнее их школ, – это то, что вопросы, поднятые ими, что их сомнения в прочности существующего, что их критика перешла в умы, враждебные им, заняла всех. – Восстание в Лионе 1832 – носит в себе совершенно новый характер, кровь льется не из религиозного разномыслия, не из политического устройства – из вопроса работы и возмездия. – С тех пор вопрос этот ни на минуту не сходил с арены, вольно было отворачиваться от него, не знать его (ignorieren, как говорят немцы); он был тут, как угроза, как угрызение совести. Работники, вообще пролетарии, несравненно более сочувствовали социальным и коммунистическим теориям, нежели либерализму «Насионаля». Журналы социалистов имели мало влияния, буржуазная и буржуазно-либеральная журналистика не удостоивала внимания и разбора даже такие сочинения, как Прудоново «Contradictions de l’économie politique» – самое серьезное и глубокое сочинение последнего десятилетия в Франции. Ни одно отдельное учение не обнимало всего вопроса социального, ни одно само по себе не было сильно, от уступчивых теорий Консидерана до злейшего коммунизма, от логики Прудона до мечтаний Кабе, – но, взятые вместе и дополненные теми стремлениями, которые еще не успели выразиться ученьем, системой, они представляли великий элемент в развитии народном, тем более важный, что вся сознательная и рассуждающая <часть> работников были социалистами.
Из пепла, брошенного умирающим Бабефом, – родился французский работник. Будущность Франции – его, наследник Бурбонов и мещан – не Генрих V, не Ламартин, а блузник, столяр, плотник, каменоделец. Потому что это единственное сословие во Франции, которое доработалось до некоторой ширины политических идей, которое вышло вон из существующего замкнутого круга понятий. Потому что его товарищ по несчастию, бедный земледелец, представляет в противуположность деятельному протесту работников – страдательное, тупое хранение statu quo. Парижский работник принял в наружности что-то серьезное, austère[298]. Это люди, до которых коснулось веяние будущего, это люди, почувствовавшие призвание – и оставившие для него все, это назареи в Риме, социализм у них перешел в религию, работа сделалась священнодействием. Что за мощный народ, который, несмотря на то, что просвещение не для него, что воспитанье не для него, несмотря на то, что сгнетен работой и думой о куске хлеба, – силою выстраданной мысли до того обошел буржуази, что она не в состоянии его понимать – что она с страхом и ненавистью предчувствует неясное, но грозное пророчество своей гибели – в этом юном бойце с заскорузлыми от работы руками. При Людвиге-Филиппе теоретический социализм презирали – но где правительство встречало практическое поползновение осуществить социальные учения – там оно разило беспощадно, уверенное, что буржуази ему будет рукоплескать, гонение работника составляло новый брак между королем-мещанином и богатой частью народа. По временам доходил до ушей публики какой-то стон, выходящий из мощной, но задавленной груди, слышался страшный протест – не в журналах, не в Камере, а на лавках подсудимых, в ассизах, его хроника в «Gazette des Tribunaux». Судьи-мещане, присяжные-мещане наказывали тюрьмой за стон и гильотиной за голод и отчаяние. Толпы бедняков без хлеба, – взбешенные торговцев ржи, который выстрелил в них и убил одного из них, они бросились в первую минуту на убийцу и убили его самого. Четыре человека были гильотинированы по этому делу в Бизансе. Это было во время голода 47 года. Правительство из страха кормило тогда бедняков в Париже, в провинциях оно их оставляло в самом беспомощном положении, но и в Париже достаточно было самого легкого подозрения в коммунизме, чтоб обрушить на работника страшные гонения; полиция выдумывала гнуснейшие обвинения, королевские прокуроры находили мужество поддерживать обвинения, которых ложь они видели явно; присяжные соглашались с ними, для того чтоб проучить «анархистов». Гизо имел дерзость задавленному работой и нуждой работнику сказать с трибуны Законодательного собрания: «Работа, беспрерывная работа для вас необходима, это единственная узда, на которой вас можно держать». Вот эти-то гонимые люди сохранили настолько свежести сил, настолько глубокого чувства человеческого достоинства, что взялись за ружье 23 февраля – и явились во всем величии французского народа; лишь только блузник стал во весь рост, все исчезло перед ним, как звезды перед солнцем: и Людвиг-Филипп, и наследственный престол, и Одилон Барро, и Камера, и регентство. – Он – великий народ баррикад, надел на себя корону, он занял Тюльери, а трон отправил сжечь на то место, где стояла Бастилья, он – провозгласил республику и водрузил красное знамя демократии, и все это менее нежели в двое суток, и без всяких приготовлений. – Остальное сделал не он. – Он остановился на первом успехе, он дал спокойно снять с своей головы корону, он спохватился после – но уже было поздно. –
Теперь мы знаем отчасти элементы, которые должны были взойти в революцию 24 февраля. История февральской революции довольно соответственно этим элементам представляет три фазы – ее начала парламентская оппозиция, которая далее реформы идти не хотела, ее совершил парижский народ – провозглашением республики, ее окончили журналисты, воспользовавшиеся общим разгромом и своими либеральными именами, чтобы сесть на трон. Оппозиция и Национальная гвардия с ужасом увидели, что они завоевали больше, нежели хотели. Журналисты стали между народом и мещанами, обоим присягнули, обоим протянули руки и основали свою власть на попытке нелепого примирения. Что они сделали, мы увидим.
Письмо второе
Вы помните, в какое положение Гизо поставил Францию к концу 1847 года. Все влияние на Европу было утрачено из-за мелких династических интересов; все симпатии народа были пожертвованы для того, чтоб простили испанские браки. Франция не могла держаться даже на той высоте, на которой была за десять лет, она делалась второстепенным государством. Правительства перестали ее бояться, народы начинали ненавидеть. Узкая, эгоистическая и буржуазная политика, ставившая мир выше всего и невозможную теорию de la nonintervention – ключом свода, не мешала Гизо запятнать Францию явным вмешательством в дела Португалии и тайным – в дела Швейцарии. В обоих случаях Франция играла ту самую роль, которую Реставрация – столько проклинаемая – принимала на себя в 1822 относительно Испании, – роль военной экзекуции, полицейского усмирения. Португалия была задавлена из учтивости к королеве Виктории Пальмерстоном и из учтивости Пальмерстону – Францией. – Оксенбейн отвечал дерзкой нотой на вмешательство французского посланника и велел выставить на площади в Люцерне – пушки французской артиллерии, потихоньку присланные Зондербунду. – Для довершения благородной политики недоставало одного – союза с Австрией против Италии. Действительно, все симпатии кабинета были в пользу statu quo, Гизо беспрерывно унимал Пия девятого, даже Карла-Альберта, меры которого находил слишком либеральными. Французский посланник в Турине протестовал против дозволения печатать в Генуе песни, в которых говорят об австрийцах оскорбительно. Союз с Россией – было одно из пламенных желаний Гизо. В последнее время высылали из Парижа людей по требованию русского посланника и теснили польских выходцев, думая сделать этим что-нибудь любезное нашему правительству.
При всем этом нельзя не заметить характер мещанина во дворянстве, который принимало правительство, вышедшее из баррикад, и министр из профессоров. Аристократические симпатии английского министерства делаются с какою-то простотой естественного влечения, не выставляются. Поспешность, с которой Гизо протягивал руку всему аристократическому, старание прикрыть революционное происхождение трона 1830, отречься даже от 1789 года и выдать себя за великого тори и консерватора – было очень смешно и очень печально. Французскому министерству, как всем parvenu, при всех стараниях не удавалось стать на одну ногу с аристократическо-монархической Европой. Россия имела поверенного в делах, которому в конце 1847 года дали названье посланника, – зато с какой радостью, с какой благодарностью Гизо протянул руку Меттерниху – когда тот ему позволил – – Мишле был прав, говоря, что глубже пасть невозможно.
Что делалось внутри Франции, я отчасти вам рассказал в прошлом письме, прибавлю несколько личных впечатлений, для того чтоб еще индивидуальнее характеризовать время, предшествовавшее февральской революции. Я приехал в Париж в марте 1847 и прожил до конца октября. Не могу вам выразить тяжелого, болезненного чувства, которое овладело мною, когда я несколько присмотрелся к миру, окружавшему меня. Мы привыкли с словом «Париж» сопрягать воспоминание великих событий, великих людей, 1789 и 1793, воспоминания колоссальной борьбы за право, за мысль, – борьбы, продолжавшейся после революции то на поле битвы, то в парламентских прениях; имя этого города тесно соединено со всеми святыми стремлениями, со всеми лучшими упованиями современного человека – я в него въехал с трепетом сердца, с робостью, как некогда въезжали в Иерусалим, в Рим. И что же я нашел – Париж, описанный в ямбах Барбье; меня оскорбляло все виденное. Я был удивлен, огорчен – я был испуган, потому что за тем ничего не оставалось, как сесть в Гавре на корабль и плыть в Нью-Йорк, в Техас. Невидимый Париж тайных обществ, работников – этих мучеников и страдальцев, задвинутых пышными декорациями искусственного богатства, – не существовал для иностранца – по крайней мере на первый взгляд. Видимый Париж представлял край нравственного растления, душевной устали, пустоты, мелкости, апатии. В обществе, сколько мне случалось видеть, царило совершенное безучастие ко всему, выходящему из маленького круга пошлых вопросов. У французов среднего состояния, кроме исключений, есть какое-то образованное невежество, какой-то вид образования при совершенном отсутствии его. Их понятия невероятно узки – их ум так неприхотлив и так скоро удовлетворяем, что французу достаточно десятка два мыслей, сентенций, Вольтера или Шатобриана все равно, пожалуй, того и другого вместе, чтоб довольствоваться ими и покойно учредить на них нравственный быт свой, лет на сорок жизни; к этому у него прибавляются практические нравоучения, предания и кодекс. У нас теперь перед глазами совершается бой Прудона со всей буржуазной журналистикой, бой этот взошел даже в Национальное собрание. Что же вы думаете – понял кто-нибудь, что Прудон говорит? Нет, они поймали резкое выражение его «la propriété est un vol»[299] – на этом и сидят. Прудон просит их, стыдит, уговаривает развернуть книгу, по крайней мере его журнал – ему отвечают: «Вы разрушаете семейство». – Спросите их, где он разрушает семейство, что они разумеют под собственностию, – они вам ответят фразой, пошлой, битой – у них нет потребности идти далее, да нет и сил, ограниченность их пониманья так же поразительна, как невежество, – никакой смелости мысли, никакой инициативы. Их философия остановилась на Вольтере и Руссо, – на Вольтере, которого гений отрицать безумно, но которого при жизни считал Дидро и Голбах отставшим, – на Руссо, которого имя свято и дорого всякому образованному человеку – но понятия которого, конечно, тесны для современного мира. Возьмите курс Мишле или историю Луи Блана – я беру высших, лучших представителей – взгляните на начала, на внутреннюю построяющую мысль – и вымеряйте, на много ли они ушли от Руссо, сам Пьер Леру, сама Ж. Санд. Для них достаточны общие места из хрестоматии и казистые фразы. Но большинство и до этого не достигает. Холодный, скудный разврат, денежные обороты и хвастовство – поглощают их мысли и досуги. Стяжание, нажива, ажиотаж – вот на что был обращен деятельный дух французов; певицы и аббаты, литераторы и львы, министры и лоретки – все играло на бирже, приобретало, перепродавало акции, купоны. Издание журнала, выбор депутатов, голос в Камере – все это было торговым оборотом, несколько прикрытым условными фразами. Сила банкиров во всех общественных делах была чрезвычайная. Министерство боялось больше всех зол распадения с капиталистами.
Среднее сословие во Франции в отношении к алчности, к страсти обогащения оставляет за собой все европейские народы. Скупость их – мелкая, обдуманная, постоянная – не ослабевает ни на минуту, от этого так гадок буржуазный разврат, – разврат, сведенный на minimum ценности. Англичанин расчетлив, он купец, для него приобретение выгод – решение задачи, он в него вносит всю светлость своего практического ума, это его дело, его занятие – но, закрывая бухгалтерскую книгу, он делается потребителем, он любит комфорт, он любит удовольствия. Мотовство несообразно с жизнию делового человека, оно расстроило бы доверие к торговому дому, хорошее состояние дел – point d’honneur купца, – но в своих границах англичанин позволяет себе пожить, у него нет безусловного поклонения золоту. Совсем не таков французский буржуа – он всегда жмется, он ни в каком случае не забудет финансовой стороны вопроса, он скряга с самых молодых лет. Оттого он так сух душою, он вперед подкуплен собственным состоянием, скупость у него стягивает всякий порыв, беспрерывная мысль о денежных счетах обессиливает все силы души. Как много должно отнести на счет скупости, – что французы терпели гнусное управление Людвига-Филиппа, и разве не скупость заставила буржуази признать республику? У англичанина есть свои нравственные привычки, свои, так сказать, религиозные капризы, которые он всегда поставит выше денег, – безумие стяжания и собственности играет приму во всем, что делает французский буржуа, его поддерживают от совершенного падения только честолюбие и любовь к наружному блеску[300]. Отчего французы так симпатизируют с итальянским вопросом, так желают эманципации Италии – и с пеной у рта говорят о работниках – – отчего они так отважно готовы жертвовать кровью, жизнью – и так упорно борются против прогрессивного налога, который мог бы спасти на первый случай республику от кризиса и бедные классы от голода! – Рядом с жадностию к деньгам должны были развиться все низкие страсти, украшающие корыстолюбие, – желание эксплуатации всякого человека, всякого предприятия, подозрительность, неоткровенность; пожалуйста, не верьте, что французы сообщительны, – у них это только форма, только болтовня, далее фразы он нейдет, ему вас не нужно – если у вас нет общего с ним дела. Нет города, где бы было легче наделать тьму шапочных знакомств, как в Париже, и нет ничего труднее, как в самом деле сблизиться там с несколькими людьми. Какая разница с немцами, с итальянцами, даже с англичанами, когда раз познакомишься с ними. Многим может показаться преувеличенною моя характеристика буржуази – я не могу по совести уменьшить ни слова. Она не была такова в XVIII столетии, я знаю, она тогда еще шла вперед, не отрывалась от народа, пробивалась; с ее стороны были новые идеи и революция; она не была такова во время Реставрации – хотя с некоторым вниманием можно везде отыскать родственные недостатки. –
Царствование Людвига-Филиппа развернуло все стыдившееся света, семнадцать лет разврата воспитало современную буржуази, и она наконец выродилась, как Меровинги, ей спасенья нет, она идет в гроб, она посвящена богам. Революция 24 февраля хотела ее вынести с собою, – мы видим результат, вот вам assemblée nationale – ни объему мысли, ни élan[301], ни благородства, – оно на бесконечную пропасть ниже революции, современности – – и подите сдвиньте их с их жалких, давно обойденных теорий. – Roué из roués, Тьер или Марраст – что, вы думаете, поняли они важность социальных вопросов? Они и не подозревают, они умны и ловки в своем известном круге идей – за границей его они пошлы. – Взгляните на их литературу, возьмите их журналы, ступайте в их ученые общества, взгляните на их искусства – на эти истомленные, исковерканные сладострастием статуи, на выражение лиц, которое домогается схватить живописец, – подите на их гулянье, где пошлость, мескинность спорит с нелепостью и безвкусием, – наконец, идите в театр, и мера смерти этого сословия выйдет перед вами на сцене. Вторую половину сорок седьмого года давали ежедневно «Le Chevalier de Maison Rouge» Дюма; я уродливее и глупее пьесы не видел, прибавьте еще, что она писана в самом раболепном духе, – театр был всякий раз полон.
На закраине между работником, пролетарием и буржуази находится бедное мещанство. Оно грубо и резко представляет внутри себя антагонизм народа и буржуази. Часть его считает себя народом и ненавидит больше работника богатую буржуази; тут начинается нравственное население Франции, это сословие республиканское, благородное, здесь люди имеют верования, здесь живы предания Великой революции, тут я встречал древних матрон – матерей, которые радовались, что их дети идут на баррикады, тут я встречал гордую и величавую бедность, у них не утратился даже живой, веселый, чисто французский ум. Возле них с одной стороны такая же бедная буржуази, но отделившаяся от народа, – это мелкие лавочники, мастеровые-хозяева, сидельцы, эписье, консьержи богатых домов, лакеи, главные наемщики – тут во всей грубости являются все недостатки мещанства, ненависть к народу, скупость, надменность и проч. С другой стороны работники – о которых мы говорили в прошлом письме. Работники и демократическая буржуази наполняют парижские предместья – эти казармы революции, о которых говаривал, покачивая головой, Людвиг-Филипп: «Paris et ses aimables faubourgs». Без работников, без aimables faubouriens[302] я не вижу, откуда Франция могла бы ждать спасенья.
Были люди, защищавшие буржуази в 1847 году, – в 48-м, кроме буржуа, никто ее не защищает. Она себя показала. Предупреждая возражение – которое я уже слыхал – прибавлю, что без сомнения нет забора, который бы отделял демократическую буржуази от враждебной народу, тут нет ни каст, ни грамот – но есть факт, непреложный, дошедший теперь до открытой войны, до того, что два враждебные стана стоят каждый под своими знаменами. Найдутся люди, которые независимо от своего положения, по убеждению перейдут из стана в стан, и еще более найдутся такие, которые, переходя из звания работника в звание хозяина, – делаются яростными буржуа. Против всеобщности нами высказанного факта это ничего не значит – это перемена лиц, а не принципа. Открытая борьба народа с буржуази перед глазами – это начало страшной, социальной войны. Миновать ее невозможно.
Пользуясь всем сказанным, пользуясь ненавистью буржуази к народу, правительство при Людвиге-Филиппе дошло до полицейских мер, которые сделали бы честь в Петербурге или Неаполе. Власть до того опьянила Гизо, Дюшателя и самого старого короля, что они забыли раздражительность французского характера и его обидчивость. Осенью 1847 начался глухой ропот, воровство министров оскорбляло буржуази, злодейство герцога Праленя оскорбляло народ, реформистские банкеты и справедливые упреки, которыми осыпали Францию либеральные журналы всей Европы, проповеди реформистов расшевелили несколько политическую деятельность. Когда во французском народе начинают бродить сильные неудовольствия, мятежные мысли, он их не может долго оставлять на дне души, он стремится тотчас облегчить сердце действием. Начались частные волнения. Для того чтоб показать вам, что такое французская полиция, расскажу ничтожную эмёту в улице С. Оноре – которая была при мне в сентябре месяце 1847 года и после которой я уехал на зиму в Рим. Какой-то сапожник недоплатил своему работнику двух франков. Из этого вышла ссора – а так <как> суда и расправы у прюдомов работникам искать было невозможно – ибо их всегда обвиняли и жертвовали хозяевам, – то товарищи работника, видя тщетность склонить хозяина, выбили ему окна в магазине. Полиция обрадовалась случаю, – ей хотелось раздуть бездельный мятеж, для того чтоб замешать в него радикальную партию – и прихлопнуть ее. Муниципалы оцепили дом, явились патрули, народ хлынул со всех сторон. Вызывать на неприготовленные возмущения и замешивать в них людей, которые кажутся правительству вредными, – это старая французская полицейская уловка, ее равно с успехом употребляли все безнравственные правительства – директория и первый консул, Людвиг-Филипп и ассамблея 48 года. Толпы постояли, разошлись; на другой вечер опять собрались, и полиция собралась; видя однако, что из этого ничего не будет, муниципалы начали разгонять толпу, без сомации, предписанной законом, не давая времени уйти, они били прикладами и давили массой. Кто осмеливался возражать, того тащили в тюрьму; в толпе оказались люди, одетые в блузу, которые по выбору били особенными ремнями, с узлом на конце, того или другого, – это были переодетые шпионы – разумеется, негодование и крик росли, полиция свела человек 300 в тюрьму. Начался суд в коррексионельной полиции (без адвоката). Виноватых, разумеется, не было никого – те, которые выбили окна, не остались дожидаться полиции. Те, которые пришли после полиции, не могли бить окон. Суд нашел, что следует всех выпустить, «кроме 50 работников»-иностранцев, которых выслать за границу, как нарушивших обязанности благодарности за французское гостеприимство! – Верите вы этому? – Чувствительная Аделаида прислала им на дорогу деньги, кажется по 50 франков на человека.
Многие из захваченных начали горько жаловаться на побои, которым они подверглись, на дикие поступки муниципалов с людьми, случайно шедшими по улице, и пр. Президент им отвечал, что ему душевно жаль, что с ними это случилось, что он не одобряет неосторожных действий полиции, но что надобно принять в соображение, что в таких трудных случаях – бывает не без конфузий и что всего лучше из этих печальных событий взять для себя поучение не останавливаться на улице, когда есть толпа, особенно буйная – – Где это, господи, в Париже или в передней храброго генерала Кокошкина? Кто не верит, может справиться в «Gazette des Tribunaux» (это было в сентябре 1847).
Вслед за эмётой и пралиновским делом Эбер отдал под суд шесть журналов:
«La Réforme»,
«La Démocratie Pacifique»,
«La Gazette de France»,
«Le Charivari»,
«Le Courrier Français» и, наконец,
«Le National», которого министерство долго не решалось захватить. Половина журналов были осуждены, – тут и пошло – запрещение лекций Мишле, строжайшая ценсура театров, запрещение петь гимн Пию девятому. Корн был исключен из судейского звания за то, что он не хотел, чтоб на реформистском банкете был предложен тост короля; работников-типографов, собиравшихся всякий год в один и тот же день на братский пир, разогнали муниципалы; полякам запретили праздновать именины князя Чарторижского. Правительство обезумело, закусило удила.
Собралась Камера 47–48 года. Большинство оказалось еще плотнее за министерство, нежели в прежней; подкуп и интриги были еще очевиднее. Гизо вместо ответа указывал рукой на свою когорту. Парламентскими путями трудно было сломить министерство. Однако оппозиционное меньшинство, пойманное арифметически, знало, что в народе ропот растет, что самая буржуази негодует, что банкеты реформистские имели столько же влияния в департаментах, как банкет du Château rouge. Оппозиция знала, что реформу хотят все, что министерство ненавидимо, что дипломатические отношения Франции, ее жалкая роль возмущали общественное мнение. Прения об ответе на королевскую речь, несмотря на большинство, вышли из пошлой колеи апатических фраз и косвенных намеков. Ламартин покрыл позором внешнюю политику, он назвал ее австрийской в Италии, русской в Польше, иезуитской в Риме, везде ретроградной и нигде французской. Самое появление Ламартина на трибуне было событием. Последнее заседание он держал себя в стороне, ему был противен неблагородный бой депутатов, он этого не скрывал. Успех его книги и речи на реформистских обедах выставили его на первый план оппозиции; авторитет его был велик, знали, что он не домогается министерства, денег, пэрства, в него верили, его считали чистым человеком – может, потому, что он ничего не делал. Речь его потрясла министерство, но не менее потрясла его и другая речь – хотя, совсем наоборот, оратора никто не уважал. Я говорю о речи Тьера в пользу Италии. Тьер произнес нечто вроде смертного приговора предательской и неблагородной политике Гизо. Дерзкий Гизо сломился под тяжестью этих речей, он, забывая большинство, сделал опыт победить своим талантом – ему это удавалось – его ответ был беден, даже смешон. Проницательный дипломат уверял, что Италия еще не созрела для представительного правления, что она не думает об нем, что этот вопрос явится sur le tapis[303] лет через тридцать. Когда Гизо говорил это, народ вынудил конституцию в Неаполе, король сардинский и тосканский герцог объявляли свои уложения. Гизо, униженный как дипломат и политик, должен был потерять в это заседание последний венок, который так был к лицу на его квакерском челе, – венок бескорыстия. Многие, не любя Гизо, считали его человеком, увлекшимся системой, французским Стаффордом, человеком неукоснительной честности – его не смешивали с каким-нибудь Дюшателем или Эбером. Одилон Барро заклеймил Гизо – он семь лет терпел перепродажу мест, брал участие в распоряжениях, условиях – это было доказано.
Вопрос первой важности, после адреса, – вопрос, которого обойти было невозможно, самый живой и на котором должна была решиться судьба министерства, – был вопрос о праве банкетов. Подобный вопрос не мог бы явиться в каком-нибудь английском парламенте, ибо он вперед разрешен во всякой стране, имеющей свободные учреждения. В Париже Гизо это было не так. В XII округе приготовлялся реформистский обед Дюшатель, ссылаясь на законы, вовсе не идущие к этому случаю, грозился запретить. Это было прямое посягательство на личную свободу. Но правительству доселе все сходило с рук, большинство Камеры было и теперь его, журналисты, связанные огромным залогом и сильными денежными пенями, не могли высказывать всей мысли – министерство рискнуло и предложило закон против права собираться на банкеты с политической целью. «Если б и у нас, – сказал Кобден в парламенте, – было министерство столько глупое и столько преступное, что осмелилось бы предложить закон против мирного собрания граждан – и мы бы схватили оружие». – Ледрю-Роллен смело, резко и энергически напал на закон, это был какой-то новый язык в опошлевшей Камере. Ламартин напомнил, что присяга в зале Jeu de Paume имела началом насильственно запертые двери Собрания. Большинство иронически расхохоталось и проводило оратора ропотом и негодованием. Ламартин остановился и повторил свои слова. Ропот удвоился – большинство ответило ему урной. Закон был принят. Однако торжество было мрачно. Трусливое и подкупленное большинство начинало подозревать, что это даром с рук не сойдет; оно было готово оставить министерство на том условии, чтоб оппозиция оставила банкет. Оппозиция объявила, что она пойдет; министерство отвечало, что оно пошлет полицию засвидетельствовать неповиновение закону; ему хотелось отдать оппозицию под суд, может быть, под суд Камеры пэров, служившей Людвигу-Филиппу органом его мести, судом безжалостным и несправедливым. Министерство согласилось наконец на дозволение банкета с условием, чтоб были одни приглашенные, – но потом вдруг префект полиции приклеил прокламацию, в которой напоминался закон о сборищах на улице и положительно воспрещалось идти на праздник. Предлогом этой беззаконной меры ставили афишу реформистов, которую министры называли возмутительным воззванием. Одилон Барро требовал, чтоб правительство приняло на свою ответственность последствия беззаконных мер. Дюшатель отвечал дерзко, отбрасывая ответственность на оппозицию. Перчатка была брошена и поднята. – Когда оппозиция увидела, что дело принимает очень серьезный характер, она распалась. Люди робкие, слабые, половинчатые, думающие всегда об отступлении, когда надобно нападать, – как Одилон Барро, люди нечистые, интриганты, которые любят прийти после, которые любят выиграть в обоих случаях, – как Тьер, – решились уступить власти и не ходить на банкет, к ним пристало большинство оппозиции. Осьмнадцать депутатов остались верными намерению идти на банкет. Пока они рассуждали и думали, Дюшатель велел за ночь полиции вынести все приготовления к празднику и запереть дом. Оппозиция была поражена этой новой дерзостью. Весть об этом разнеслась по всему городу. На улицах начали показываться мрачные группы, собиравшиеся около прокламации Делессера. Многие громко бранили меры правительства. Министерство знало, что история банкета не пройдет без шума, и изготовилось с своей стороны к отпору, оно такой хотело дать урок беспокойным людям, после которого можно было бы еще открытее уничтожить все приобретения революции 89 года. Военный министр призвал тридцать семь батальонов пехоты, двадцать эскадронов кавалерии, пять батарей – все эти войска вместе с муниципалами были готовы. Герцог Монпансье держал вготове пушки, в штабе генерала Тибурса Себастиани приготовляли план войны по улицам. Какой же был шанс в пользу горсти депутатов, не совсем согласных между собой, нескольких журналистов, вовсе несогласных, и тайных обществ, которые скрывали свои действия? Могли ли они надеяться на несколько возбужденное общественное мнение, против которого уже готовились пушки? – Один! – Еще не было известно, как примет все это парижский работник, народ предместий. Вечером 21 февраля на углах улиц явились большие толпы блузников, они ходили молча взад и вперед, они останавливались на перекрестках, как будто приходили чуять – в самом ли деле завязывается что-нибудь или нет, т. е. воротиться ли за работу или сбегать за ружьем. – К ночи, впрочем, все разошлось и, кроме мерных шагов патрулей, ничего не было слышно. Все ожидали в какой-то беспокойной тоске, на душе было тяжело, страшно. Атмосфера, полная электричеством, давила.
Подробности 22, 23 и 24 февраля вы найдете в разных брошюрах. Я их напомню слегка, чтоб возобновить в памяти вашей главные события. Утром 22 – толпы снова показались, вид их был еще решительнее. У Пантеона собирались люди XII округа, самого либерального во всем Париже, – студенты, молодые люди стали в их ряды, и они, взявшись за руки и распевая «Марсельезу», которую почти забыли парижане, пошли к Маделене – тут их ждали другие толпы. Горячие речи и угрозы слышались в среде этих людей, нет никакого сомнения, что тайные общества распоряжались движением. От Маделены колонна пошла к Камере, с криком «Vive la réforme!», на мосту ее встретил отряд солдат – казалось, тут должна была пролиться первая кровь, но не надобно думать, что линия охотно стреляет в народ, она стреляет, натравленная Национальной гвардией, обманутая, – стреляет в ответ на выстрелы, – колонна, явившаяся перед ними, была безоружна. Молодой человек выступил вперед, объяснил солдатам, что они идут к Камере заявить своей протест, что остановить их невозможно и что, если они хотят стрелять или колоть братьев, то пусть начнут с него – с этими словами он пошел вперед. – Солдаты посмотрели друг на друга и пропустили; на другой стороне моста встретил толпу отряд драгун, он скакал с поднятыми палашами от Камеры, чтоб отбросить колонну, «Vivent les dragons!»[304], – прокричал народ, и драгуны положили палаши в ножны и шагом, едва двигаясь, заставили отступить толпу. Видя невозможность дойти до Камеры, толпа разбилась на несколько частей и пошла по разным улицам. Слабый отпор войск должен был ужаснуть правительство, если б оно было способно видеть истину, тем более что оно само не надеялось на Национальную гвардию, – 22 еще не били сбора. Одни муниципалы свирепствовали, ругались, толкались, водили под арест, но не токмо муниципалы, но и проливной дождь, на который, как вы помните, так надеялся Pettiori, не мог разогнать густые толпы, собиравшиеся в разных местах. На улице С.-Оноре, против самого дома, в котором жил Робеспьер, начали было строить первую баррикаду, но вскоре ее оставили, пошли к центральным частям города, на бульварах взяли оружие в двух магазинах, потом главная часть народа подвинулась в свои кварталы, в узкие переулки близ улицы С.-Мартен – где так ловко драться, где так часто дрались и делали баррикады.
В Камере пэров 22 февраля задорный Буасси просил дозволения спросить министров о положении Парижа и почему Национальная гвардия не в сборе. Камера отказала – не находя, повидимому, достаточно важными обстоятельства, о которых говорил Буасси. Старый Пакье не думал, что это будет последнее заседание пэров и что через несколько дней в самом этом здании, в этой зале, на этих местах сядут работники под председательством работника Альбера. В Камере депутатов было еще покойнее, депутаты продолжали заниматься будущим устройством Бордоского банка и разошлись для того, чтоб на другой день заняться очень современным и важным вопросом – учреждением du chapitre royal de S.-Denis[305]. Одилон Барро подал президенту обвинительный акт, сделанный оппозицией против министров. Гизо полюбопытствовал прочесть и, презрительно улыбнувшись, отдал бумагу. Дюшатель прошел по зале и вышел на террасу посмотреть, все ли распоряжения были исполнены. Площадь была пуста и окаймлена солдатами, возле Камеры были пушки. Он воротился довольный и самонадеянный, все шло хорошо. Тем и окончилось 22 число. «Монитер» от 23 объявил Парижу, что толпа злонамеренных людей, увлекших с собою множество мальчишек и в рядах которой было несколько человек подозрительной наружности[306], сделала преступную попытку возмутить общественное спокойствие в Париже, но что деятельными мерами полиции толпы были рассеяны и совершенная тишина восстановлена.
Действительно, ночь с 22 на 23 прошла довольно тихо, особенно на бульварах и аристократических улицах, – но классические части города – Faubourg S.-Antoine[307], Faubourg S.-Marceau[308] – кипели. Толпа людей ходила в Батиньолях из дому в дом, обирая ружья Национальной гвардии. Многие жители сами приносили ружья, патроны, исторические улицы Транснонен, du Cloître St.-Merry не спали – там шла работа, приготовления. Работники явным образом стали со стороны восстания. Утром 23 ударил сбор Национальной гвардии. Правительство нехотя сзывало этот раз верную защитницу свою – оно чувствовало, что зашло слишком далеко, что на большинство Камер и на преданность богатой буржуази можно надеяться – но не в бою. Вопрос о роли, которую будет играть Национальная гвардия, становился так же важен, как с вечера вопрос – примут ли работники деятельное участие. Состав Национальной гвардии был, как вы знаете, чисто буржуазный, это были вооруженные собственники, вооруженные мещане, это было войско хартии – часто готовое поддержать первую против власти и всегда готовое давить народ. Несмотря на это, Национальная гвардия тоже делилась на два стана: беднейшая часть буржуази, считавшая себя за народ, имела радикальное направление, к ней присовокуплялась Национальная гвардия либеральных частей города (например XII округа). Когда ударили сбор – они первые собрались, – собрались с криком «Vive la réforme, à bas Guizot!»[309]. К ним пристала часть консервативной буржуази, которой наконец сделалось противно управление министров; другая часть консервативной буржуази, и самая богатая, вовсе не явилась, – она, разумеется, не хотела успеха возмущенью – но еще менее хотела стать под пули из-за Гизо. Чтоб увлечь окончательно сомневающихся, множество клубистов надели мундиры Национальной гвардии и рассыпались в рядах, они предлагали товарищам не допускать кровопролития, уговорить войско не стрелять, вытребовать реформу – они увлекли за собой отряд, с которым они прошли возле войск, приветствуя солдат, протягивая им руки с криком «A bas Guizot!». Войско пропустило их, оно было смущено, ему не хотелось драться. Все это делалось перед глазами маршала Бюжо. Между тем несколько баррикад явилось там-сям, на одной развевалось огромное красное знамя. Парижский народ отчаянно храбр и от природы стратег, он мастерски располагает свои баррикады – делает ложные, заманивает неприятеля, мучит его, утомляет, здесь берет гауптвахту, там зажигает дом, смеется из-за своей баррикады – и всякий раз оставляет ее прежде, нежели войско взойдет. Военные действия не были велики – несколько ружейных выстрелов слышались в разных сторонах, даже несколько пушечных.
Правительство было поражено изменой Национальной гвардии, хладнокровным безучастием войск, ожесточением злоумышленников. Король потребовал отставку министров. Весть об этом разослали по всему Парижу. Перестрелка почти тотчас прекратилась – это было часов пять вечера. Восстание в пользу реформы достигло своей цели, оно оканчивалось, потухало, на бульварах начали освещать домы.
Но небольшая кучка закаленных республиканцев, ждавших восемь лет восстания, работавших в тайных обществах, не затем взялась за ружья, чтоб доставить портфель Моле и маленькую реформу Франции. Они с ужасом видели, что движение, начавшееся так громадно, – движение, в которое, сверх народа, была вовлечена Национальная гвардия, оканчивается ничтожной уступкой, они очень верно оценили, что благоприятнее случая не дождешься – войско дралось нехотя, испуганное правительство было презираемо, слабо, – реформа его укрепила бы. И работник парижский не затем сошел на улицу и покинул свою работу, чтоб идти назад тем же парием, каким пришел; если ни те, ни другие не вышли сначала с криком «Vive la République!», на это было много причин. Кто знал оборот, который примет движение, темная надежда республики созрела за баррикадами, каждые четверть часа приносила ей силы. Притом же республиканцы были в страшном меньшинстве. Они испугали бы криком своим. Испугали бы даже ответственностью за такой крик. Кто пошел бы с ними? Национальная гвардия пошла бы против них. Будущее, пока не осуществится, всегда бывает достоянием энергического меньшинства. Они не смели утром говорить о республике – но теперь слабость правительства была так очевидна, волнение в народе так велико, что они начали надеяться и, разумеется, сотчаянием видели начало успокоения. С наступлением вечера по бульварам и разным улицам проходили ликующие толпы Национальной гвардии, перемешанной с народом, они весело кричали «Vive la réforme!» и были принимаемы с восторгом. Часов около десяти показалась новая густая колонна с красным знаменем, резкое пение «Марсельезы» и крики «Au palais, chez les ministres!»[310] обратили на нее общее внимание; около колонны шли люди с зажженными факелами. Эту колонну вели самые энергические республиканцы, тут были клубисты и монтаньяры. Когда колонна поравнялась с hôtel des Capucines, где жил Гизо, она увидела, что дом окружен солдатами и бульвар перерезан. Надобно вспомнить, что по всей дороге к толпе приставали прохожие, женщины, мальчишки, так что, когда она остановилась перед солдатами, в ней могло быть, как говорят, больше тридцати тысяч человек. Останавливать тридцать тысяч человек вообще глупо, всего глупее было их останавливать в то время, как, повидимому, праздновалось примирение. Само собой разумеется, что толпа шла вперед, она просто не могла остановиться от натиска сзади. Между солдатами и передовыми завязался крупный разговор. Тут случилось одно из роковых происшествий, которые решают в один миг – то, что готовится годами, десятками лет: в жару спора один из начальников колонны выстрелил из пистолета в солдат – говорят, что это именно Лагранж, известный баррикадист в Лионе, один из радикальных представителей теперь. Колонна солдат немного попятилась, покрылась дымом, огненная полоса блеснула в ширину бульвара, раздался залп, и пятьдесят два человека упали на мостовую убитые и тяжело раненые, вопль и крик ужаса раздался в толпе, она отпрянула – – между солдатами и ею сделалось пустое <пространство> – перед фрунтом лежали несчастные жертвы, борясь в предсмертных муках. Солдаты опустили ружья, – бледные, они стояли стиснув зубы, слезы лились у них по щекам – они поняли, что совершили преступление. Офицер, приказавший сделать залп, взошел с видом безумного в café, стал оправдываться, несколько человек Национальной гвардии спасли его от верной смерти – – Но толпа не за тем отпрянула, чтоб уйти, крик мести заменил все остальные. Оскорбленный до глубины души и великий в глубине души парижский народ восстал негодующий и грозный. – «Теперь кончено», – сказала толпа, и в самом деле царствование Людвига-Филиппа было кончено. Гизо был отомщен. Да и народ отомстил за себя. Часов в одиннадцать Париж увидел страшное зрелище – по бульварам везли дроги, полные едва остывших трупов, кровь еще сочилась из ран. Время от времени бледный, растрепанный человек, стоявший на дрогах, поднимал труп молодой женщины, показывал глубокую рану и кричал: «Месть!» – ему отвечал народ, толпившийся отовсюду, криком «Aux armes!»[311]. Кортеж проходил по местам, занятым войском, и войско, поставленное для того, чтоб не пропускать, – молча и без команды раздвигалось и составляло почетные шпалеры. Негодование, гнев овладели всеми, все вооружалось, все сошло на улицу – дети, женщины, старики, – такого рода порывы свойственны одной Франции, они искупают бездну грехов и недостатков; одни богатые буржуа и проприетеры домов торопились затворять ворота, двери, ставни. Печальный и торжественный набат, грозный и грустный токсен раздавался издали мерно, страшно, напоминая 93 год – – всю ночь строили баррикады. На многих баррикадах явились поутру красные знамена, на некоторых кричали: «Vive la République!». Многие, увидя это знамя и услышав этот крик, оставили их. Национальная гвардия ужаснулась, она тут только поняла, чему она помогла; но движенье было слишком сильно, остановить его не могла никакая сила – Редакция «Насионаля» не верила еще в возможность республики – – народ опередил политиков и литераторов. Вся честь, вся слава принадлежат ему и его друзьям. Прежде нежели мы с ним встретимся в тронной зале – вспомним, что делалось во дворце.
Моле отказался. Поздно вечером 23 февраля король послал за Тьером. Тьер застал еще в кабинете Гизо – они раскланялись молча, как Миних с Бироном на Волге. Одилон Барро взошел в состав министерства. Тьер написал прокламацию, которую тотчас отправили в типографию. Тьер был уверен, что город успокоится, узнав, какие великие люди во главе правительства. Король отправился в той же уверенности спать. Великие, хитрые, проницательные дипломаты и дельцы! Как жалки все эти Талейраны, Меттернихи – когда народ действительно выходит на сцену, как они бледнеют и исчезают со всей премудростью своей перед его мощной простотой, – нахохотался над вами 48 год! – Гизо побоялся отправиться домой, его уложили где-то во дворце; на другое утро, ранехонько, он вышел из Тюльери – и исчез, первая весть о беглом министре была из Лондона. Просыпаясь, король услышал перестрелку. Тюльери были окружены в разных расстояниях, но со всех сторон баррикадами, – вот что сделал народ от полночи до рассвета. Встревоженный Людвиг-Филипп ждал с нетерпением действий магической прокламации Тьера; ему донесли, что ее рвут со стен. В комнатах короля суетились генералы, придворные, этикет был забыт, одни шептались, другие громко спорили. Королева, бледная от досады, советовала королю показаться солдатам и Национальной гвардии, король надел мундир, сел верхом, проехал по Карусельской площади и очень скоро возвратился уничтоженный и растерявшийся. Национальная гвардия, стоявшая для его защиты, встретила его криком «Vive la réforme!». Явился Тьер с кислым лицом, он был на улицах, видел, что он обойден, просил назначить президентом Барро – не догадываясь, что и Барро давно обойден. Король согласился. Барро сам отправился узнать действие этой новости – он надел синие очки, сел верхом и поехал к баррикадам; подъезжая, он кричал «Vive Barrot!», «Vive le roi!»[312] – одни не обратили на него внимания, другие советовали ехать своей дорогой, пока цел. На обратном пути его ждала, впрочем, комическая овация. Толпа каких-то женщин и пьяных бадо узнали его, окружили и понесли в Камеру – суетный старик величественно принял это торжество. – Между тем революция подвинулась на ружейный выстрел к дворцу. Часть войска, стоявшего на Карусельской площади, когда к ней подошел народ, грозя саблями и стреляя, подняла ружья прикладом вверх и без всякой команды двинулась назад с криком «В казармы!» – народ проводил их с рукоплесканием. Почти в то же время завязался отчаянный и бесполезный бой около Château d’Eau, уворот Пале-Рояля. Внутри Château было поставлено то самое войско, которое вчера дало залп у hôtel des Capucines; их уверили, что им спасенья нет, – бедные обманутые хотели кровью смыть кровь – они дрались, как львы, они почти все легли под развалившимся сводом, но не сдались. – Интересно бы знать, кому в голову пришла поэтическая мысль поставить именно этот отряд в Шато д’О.
У короля не было еще никакого плана, он ни на что еще не решался, как вдруг отворилась дверь и взошел – взошел в кабинет к королю – кто вы думаете? – Эмиль де-Жирарден. Он принес ему приятную весть, что если он не возьмет решительных мер, то через час во Франции не будет ни короля, ни королевства!
– Да что же делать? – спросил король французов у редактора «Прессы».
– Отказаться от престола, государь.
– Abdiquer[313], – повторил старик король, и перо, которое он держал, выпало у него из рук. Оно и не было нужно. Сметливый Эмиль Жирарден принес прокламацию – которую он уже велел набирать. Король был в состоянии совершенной прострации; да и было отчего; его с трона выгонял не совсем чистый журналист, известный roué и интригант, он отказывал королю от места, как будто он был корректором или протом в его типографии. Прокламацию уже печатали – король пробормотал свое согласие – истинно шекспировская сцена!
Но и новость об отречении не сделала большого действия. На одних баррикадах Жирардену не поверили, потребовали письменного доказательства, на других его прогнали, – баррикады не дворец, туда не так легко входят люди tannés[314]. Надобно было воротиться, надобно было снова мучить не у дел состоящего короля. Людвиг-Филипп написал свое отречение и отдал его генералу Ламорисьеру. Ламорисьер поскакал к Шато д’О, где шла отчаянная битва, – он не уехал дальше первой баррикады. Молодой человек с ружьем спросил его, куда он едет и зачем, – Ламорисьер объяснил и показал ему бумагу. – «Генерал, – возразил молодой человек, – воротитесь, отреченье короля не нужно». – Ламорисьер хотел насильно проехать через баррикаду – по нем выстрелили, он был легко ранен, лошадь убита. – Подписавши отреченье, король стал готовиться в путь. Карета его не могла подъехать; на Карусельской площади убили пикера и двух лошадей – приходилось удалиться тайком, – еще одна династия бежала из этих комнат. – Жаль, что после их отъезда не срыли с лица земли Тюльери, пока есть Тюльери, все кажется, рано или поздно будет и король. – Король пошел; но вдруг воротился, вынул ключи, начал искать в каком-то ящике своего бюро каких-то бумаг, ничего не находил – досадовал – и был очень жалок. Он вышел из дворца подземным ходом, который выходит на place de la Concorde, к Сене. Две буржуазные каретки увезли короля-буржуа и его семью. Несколько кирасиров и несколько уланов Национальной гвардии проводили его в Сен-Клу, – в Сен-Клу Людвиг-Филипп хотел им что-то сказать, но речь не клеилась, он повторял: «Мне было нечего делать – я должен был – не правда ли?» (Это я слышал от офицера Национальной гвардии, его провожавшего). Жена Немурского и ее дети уехали с королем; герцогиня Орлеанская с детьми и герцог Немурский остались. Герцогиню Монпансье, кажется, забыли, ее нашел генерал Тьери бегущую по place de la Concorde – растерянную и в слезах.
Жалче, прозаичнее, безучастнее не падала ни одна монархия – у прежних монархий были приверженцы, около них было преданное дворянство, преданные воины. Людвиг-Филипп был королем буржуази – у буржуази нет преданностей, она слишком положительна. Гизо и Дюшатель поехали не для того, чтоб разделить ссылку короля, как Лас-Каз и Бертран, а потому, что они боялись галер. Гизо через три месяца после 24 февраля пустил в лондонской аристократии рукопись, в которой сваливал всю вину на Людвига-Филиппа.
Лишь только Людвиг-Филипп и его министры удалились, Франция их забыла. И Людвиг-Филипп так мало понял, так плохо знал характер народа, которым правил 17 лет, что счел нужным для полного позора обрить свои седые бакенбарды и надеть пальто английского моряка, чтоб скрыться от погони – которой за ним не было. – Misère! Доктор медицины Рош после отъезда короля подошел к Карусельской решетке и потребовал, чтоб его впустили, – решетка отворилась – Рош отправился к герцогу Немурскому и предложил ему во избежание страшного кровопролития, которое все-таки окончится взятием дворца, отдать приказ, чтоб войска отступили. Герцог повиновался.
Народ занял дворец. Молодой работник в блузе обтер сапоги об подушку трона и водрузил на нем красное знамя при криках «Vive la République!» – Это было торжественное, единственное, искреннее и откровенное провозглашение республики. Началась оргия, победители торжествовали победу – они расположились пировать, в этом доме, так дорого стоившем народу; лучшие вина были принесены из подвалов, поварам велели готовить, и повара-аристократы с тою же покорностью новому владыке принялись за вертелы. Бюсты Людвига-Филиппа, его портреты, портреты Бюжо были расстреляны, трон вырубили. – Молодой поляк М. из Познани, бывший студент берлинского университета, который с начала восстания не оставлял улицы и начальствовал баррикадой, – попросил теперь награду – везти трон Людвига-Филиппа на place de la Bastille и там сжечь – французы уступили храброму славянину эту честь[315], и он верхом на лошади, вероятно, взятой в королевских конюшнях, поехал с толпой народа предать огню этот возрождающийся феникс между мебелью. Народ ободрал бархат с трона и сделал из него фригийскую шапку для статуи Спартака. Пока часть победителей пировала во дворце, Château d’Eau был взят и горел, народ овладел Пале-Роялем – и плясал уже на площади карманьолу возле трупов, освещаемый пожаром, и выкатывая бочки вина из палерояльских подвалов. Мебель, драгоценные вещи, бронзы летели из окон. Во всем этом нет ничего удивительного, – как народу было не ненавидеть всю эту роскошь, как не обрадоваться возможности отмстить на излишних вещах – все свои лишения? Подлую и буржуазную похвалу, что народ не крал, я не повторю, потому что по себе чувствую, что я не был бы доволен, если бменя кто-нибудь похвалил за то, что я не украл ничего. И когда же люди, подвергающиеся пулям из-за своих убеждений, крадут? Каких-то бедняков, взявших себе вещицы из дворца, расстреляли – я с отвращением вспоминаю об этом бездушном педантизме. Вы тут видите влияние буржуази, которая хочет поставить выше всего религию собственности. Итак, две республиканские оргии шли буйно и весело, недоставало одного на этом празднике – дам. Они не долго заставили ждать. Между прочими тюрьмами работники отворили и С.-Лазар, где содержались бедные жертвы Венеры, искупая на хлебе и воде излишнее поклонение ей. Выпущенные из тюрьмы, они по какому-то инстинкту бросились прямо в Тюльери. Пропустивши дам, работники заперли решетку, везде расставили караул – будто король пошел почивать – но король не почивал – le roi s’amusait[316] – Канкан и карманьола пошли под рояли герцогини Орлеанской, работники угощали своих дам на серебре, вино лилось, дамы сняли с себя лишние части одежды – дворец был демократизирован.
Однако и я поступаю, как народ, увлекаюсь первой радостью и первым опьянением республики. – Партии, интриги не увлекались, они не устали от битвы, потому что за них дрались другие, – они не пировали, они делали свое дело, старались овладеть поскорее властью, они старались о себе. До сих пор мне не было большого труда передавать главные события 24 февраля: то, что делалось в камерах, мы знаем, – на это есть «Монитер»; то, что делалось на улице, мы знаем из «Реформы», из «Насионаля», из брошюр Пельтана, Лавирона, С.-Амана и десятка других, – мне оставалось прибавить несколько черт, слышанных мною от очевидцев, и убавить грубую лесть, с которой журналы того времени говорили о Ламартине с компанией. Этими событиями хвастались, они происходили открыто, всенародно. Остальное скрыто, спрятано, известны одни официальные последствия; едва, едва теперь приподнимается кой-где край завеса. Истина с 25 февраля была в услугах власти, ни по «Реформе», ни по «Насионалю» судить нельзя, они слишком замешаны во все. Широкая и постоянная оппозиция превосходных журналов Прудона и Торе началась с половины апреля. Изредка только какая-нибудь семейная ссора выводила на свет отдельные подробности подземной работы партий. Время истории революции 24 февраля не настало; мы слишком близко стоим к событиям и людям, мы слишком в ней. Но если нельзя писать объективную историю, то, с другой стороны, исторические очерки могут выйти живее, страстнее, – в этом своя верность, такие очерки пригодятся историку – хоть для колориту, хоть для того, чтоб знать, как события отражались на свидетелях. Сверх изустных рассказов, у нас есть богатый источник воочию совершающейся истории, беспощадно выводящей последствия, беспощадно обличающей сущность из-за фиоритуры фраз, знамен, праздников.
Утром 24 февраля немудрено было понять, что правительство пало. Редакция «Реформы» – rue J. J. Rousseau[317] – и редакция «Насионаля» – rue Lepelletier[318] – были местом свидания и сборища людей, участвовавших в движении; тут они совещались, обдумывали, это были два министерства революции, – по мере того как народ побеждал, они росли в предприимчивости. Не надобно думать, чтоб главные лица, которые были на баррикадах под пулями, которые предводительствовали народом, подвергались всем опасностям открытого восстания, – принадлежали к этим двум бюро; говорят, что Ледрю-Роллен и Флокон были на баррикадах, что Косидьер дрался на улице, что и крошечный Луи Блан не отставал, но хроника молчит об их особенном влиянии на баррикадах; один Альбер мог находиться в центре революционных действий с Лагранжем, настоящими монтаньярами и членами общества des droits de l’homme. Именно оттого, что они мало участвовали на площади, у них было больше досуга обдумать и приготовить план, как завладеть движением; они, отойдя в сторону, предложили себе вопрос, на который не токмо никто не отвечал, но который никто еще не делал: «Что же теперь?» – «Реформа» – хотела провозглашения республики, «Насиональ» – довольствовался регентством и suffrage universel, потом и «Насиональ» согласился на республику, обойденный обстоятельствами. Несмотря на всю важность слова «республика», это было еще только начало ответа, знамя, заглавие. Главное решение вопроса зависело от дальнейшего определения, какую республику хотели учредить. «Насиональ» был, как и всегда, за буржуазную республику, за республику монархическую, если хотите, он хотел suffrage universel и с тем вместе хотел ему поработить Францию, он мечтал о сильном правительстве, опертом на штыки – готовые без различия разить внешнего врага и работника-социалиста, словом, он хотел республику невозможную; самолюбивый Марраст уже мечтал, как он будет первым консулом этой уродливой республики, как он заживет в Тюльери. «Реформа» стояла дальше в демократии, нежели «Насиональ», центром ее вдохновений был Ледрю-Роллен. Не думаю, чтоб он <имел> особенно новые мысли и виды, но он был человек преданный, страстный оратор и откровенный республиканец. Луи Блан представлял в этом кругу социализм – которого он в сущности никогда не понимал, его пустая книга «De l’organisation du travail» и несколько блестящих фраз составили ему репутацию. Серьезный социализм, имевший представителем мощную голову Прудона, стоял в стороне и ждал случая, где можно будет поднять речь, начать действие. «Насиональ» чувствовал, что ему на время надобно сделать перемирье с «Реформой». Мартин de Strasbourg был отправлен для переговоров, он принес свой лист Временного правительства, в котором было имя Одилона Барро. «Реформа» восстала – Одилона Барро вычеркнули. Согласились в главных лицах: Дюпон de-l’Eure, Ламартин, Араго, Марраст, Гарнье-Пажес, Ледрю-Роллен, Флокон и Луи Блан, которого не очень любили, но которого миновать было нельзя по его популярности у работников. Не замыкая, впрочем, листа, отправили печатать афиши. «Насиональ» прибавил на своих афишах еще какие-то имена; говорят, Ламартин, к которому послали печатную афишу, своей рукой приписал имя Кремье. В типографии «Реформы» напечатали прокламацию о провозглашении республики и о созвании Национального собрания – прокламации разнесли по баррикадам. В некоторых местах Национальная гвардия изодрала их – ей все еще не верилось, что она зашла так далеко. Теперь из-за кулис опять выйдемте нa сцену, но уж не на площадь, а в Камеру. Прибавим одно насчет этого самовольного распоряжения судьбами целого народа, – что, вероятно, эти люди сами не думали, какую страшную ответственность они брали на себя. Я готов верить, что половина их была добросовестна, увлечена, – но с этой минуты они должны были знать, что неудача великих дней 23 и 24 падет на них, а могли ли они добросовестно сказать, что они своими кандидатами не вносили с самого начала в правительство семена раздора, оппозиции, раздвоения: разве могло быть единство между Ледрю-Ролленом и Маррастом, между Гарнье-Пажесом и Луи Бланом, между надутым доктринером Араго и скромным работником Альбером?
Камера сидела повеся нос. Составленная из людей неблагородных и подкупленных, она боялась очень справедливо народной мести. Но народ и не думал о мести, сначала кричали «А mort Guizot!» – и то в первые минуты; мелкими плутами Камеры не занялись. Столько ли это было благоразумно, как благородно и великодушно, – это трудно решить. – Вдруг взошел Тьер, смущенный, без шляпы – «Что, вы – министр?» спрашивают его со всех сторон, Тьер качает головой и, сказавши «La marée monte, monte – monte –», исчезает. Министерские лавки пусты. Все спрашивают, где же председатель совета Одилон Барро. Барро в это время забавлялся после овации, о которой я сказал, в министерстве внутренних дел – сам по телеграфу передавал всей Франции радостную весть о своем назначении. Камера, всеми забытая, Didona abbandonata[319], предавалась совершенному отчаянию, как вдруг принесли три стула – вслед за ними явилась герцогиня Орлеанская с обоими детьми и с герцогом Немурским. Камера встретила их рукоплесканием, ей возвещают, что этот ребенок – король, что его мать – правительница. Камера кланяется и снова рукоплещет. Тронутый Дюпен предлагает записать в журнал эти рукоплескания и à propos рассказывает Камере, что они не первые, что правительница и король были с восторгом приняты на улице. Казалось, все шло как нельзя лучше. Вечный президент Камеры Созе[320] начал своим бесстрастным голосом сенатского обер-секретаря: «Господа, мне кажется, что Камера сим единодушным – –», и вдруг несчастный Созе остановился, побледнел, как полотно – – небольшая толпа вооруженных людей и несколько человек Национальной гвардии взошли в залу и в трибуны. Ламартин предлагает закрыть заседание из уважения к национальной репрезентации и к присутствию августейшей герцогини. Герцогиня встала. Ничтожный Созе не умел или не смел ей предложить провожатых; он обернулся к народу и просил его выйти, основываясь на таких-то и таких-то параграфах узаконений! Разумеется, никто не пошел вон, толпа села, ей хотелось посмотреть, что делают эти люди тут в это время. Мари предлагает учредить Временное правительство, основываясь на необходимости взять сильные меры, он находит, что нет средств вернее остановить растущее зло и обуздать безначалие – – – Эту речь, диктованную страхом, вменили Мари в достоинство; не странно ли, что 24 февраля, когда кровь еще текла на улицах, благоразумные люди уже принимали меры против будущих победителей и хотели составить правительство не для них, а против них?И кто же этого хотел? – те самые люди, которые воспользовались победой народа, для того чтоб сесть на порожний престол, – как же им было не погубить революцию? – Кремье поддержал предложение Мари. Тут явился Одилон Барро – он слушать не хотел о Временном правительстве и своей пухлой риторикой старался подействовать на Камеру с сентиментальной стороны. – «Июльская корона, – говорит он, – покоится на голове ребенка и женщины» – это очень нравится центрам, они рукоплещут. Герцогиня, снова севшая, встает и кланяется, и дитя кланяется. Герцогиня хочет говорить, и Одилон Барро хочет говорить, остановить его невозможно – он советует сохранить трон. Ему кто-то кричит громким голосом: «Трон сломан и выброшен из окон Тюльери». Легитимист Ларошжаклен иронически замечает Камере, что рассуждать о регентстве – вовсе не ее дело, что вообще депутаты «теперь ничего не значат, совершенно ничего». – Эта выходка взбесила центры, они думали, что трон может упасть, а они все же останутся. Созе сделал замечание оратору, это был его последний rappel à l’ordre! Несколько приверженцев Орлеанского дома взошли с знаменем в залу, они хотели или поддержать герцогиню, или спасти ее – появление их ничего не сделало; в то же время взбежал на трибуну Ледрю-Роллен – он с своей стороны предлагал временное правление, но не назначенное Камерой, а народом par acclamation и немедленное созвание Конвента – его речь была уже действительно сама революция на кафедре Камеры депутатов. После Ледрю-Роллена явился Ламартин; он говорил в том же смысле, посыпая цветы своего красноречия на герцогиню и робко оговариваясь, что он предлагает Временное правительство как необходимое зло, что он этим ничего не решает в будущем – – В то самое время, как он расточал жемчужины своих слов, перед дверями Камеры происходила тоже довольно красноречивая сцена. Большая толпа вооруженного народа шла по набережной, перед нею ряд импровизированных барабанщиков. Середи толпы ехала на лошади красивая, высокая женщина с красным знаменем, провозглашая направо и налево республику. Подошедши к Камере, толпа остановилась – батальон Национальной гвардии стоял на place de la Bourgogne, барабаны умолкли. «Что они там делают?» – спросила женщина у Национальной гвардии. – «Рассуждают о регентстве». «О регентстве, – кто теперь говорит о регентстве!» – заметила она с негодованием и потом, обращаясь к своим сопутникам, сказала им: «Что вы остановились, разве мы за тем пришли сюда, чтоб слышать провозглашение регентства?» – «Барабанщики, поход – в Камеру – и vive la République!» «Vive la République!» – подхватила толпа; батальон не хотел вступить в бой – и толпа взошла в Камеру, а женщина осталась верхом перед дверьми. На этот раз это был в самом деле народ баррикад, он наводнил трибуны и залу середь речи Ламартина. Взошедшие люди могли сильно подействовать на слабые нервы депутатов: все были вооружены, запачканы порохом, многие в крови, у некоторых в виде трофеев были привязаны к ружьям кивера убитых муниципалов – энергия и возбужденные битвой страсти одушевляли их лица. Двое, взошедши, прицелились: один – в президента, другой – в Немурского герцога, на всякий случай. Созе присел и спрятался за президентским местом – его с тех пор никто не видал. Депутаты центра, испуганные, искали случая куда-нибудь спастись – они рассеялись мало-помалу и пропали без вести, народ кричал «Vive la République!» и стучал оружием. Кто-то выстрелил в портрет Людвига-Филиппа. Герцогиню спасают с детьми в президентский сад, герцога Немурского запирают в какой-то канцелярии, откуда он утром спасся, переодевшись в солдата Национальной гвардии, – все это, разумеется, было излишнее, ни по чему думать нельзя, чтоб народ их перебил, – если б он хотел, возможность была полная – герцогиня проходила по длинной Salle des pas perdus, наполненной вооруженным народом, герцог Шартрский запутался в платье матери и упал, мать, увлекаемая провожатыми, не могла остановиться – его подняли и снесли. – Люди с трибун кричали Ламартину, чтоб он провозгласил республику. Ламартин медлил. – Messieurs, – начал он. – Dites «citoyens»![321], – кричали ему, прицеливаясь из ружья – его слова терялись в шуме. Старику Дюпон de l’Eure подали записку имен членов Временного правительства, назначенных «Насионалем» и «Реформой», его свели на президентское место и заставили читать – народ подтверждал рукоплесканием – таким странным избранием назначили: Дюпон de l’Eure, Ламартина, Ледрю-Роллена, Араго, Гарнье-Пажеса, Кремье, Мари. Народ требует вести правительство в Hôtel de Ville, толпа их подхватывает, давит, толкает, ведет – – ведет их физически так, как и нравственно, толпа была выше их и, по несчастию, ни они этого не поняли, ни она сама; почтенные члены Временного правительства не смели – за исключением Ледрю-Роллена – еще произнести слово «республика». Почему им в руки попалась судьба народа, освободившегося за минуту до того? Знали ли эти люди что-нибудь о внутренних желаниях, о нуждах этого народа, была ли у них мысль новая, плодовитая, поняли, что ли, они современное зло общественного устройства, придумали ли они средства – нет, нет и нет! Они заняли место потому, что нашлись люди довольно дерзкие, чтоб выбирать не на баррикадах, а в бюро журнала; чтоб провозглашать их имена не на месте битвы, а в побитой Камере, о которой так справедливо сказал Ларошжаклен, что она теперь ровно ничего. Народу не дали опомниться, Временное правительство явилось перед ним совсем не кандидатами – а готовым правительством, – напечатанные афиши, провозглашение имен с трибуны, имена Ледрю-Роллена и Ламартина, идущие вперед, – все это было ловко рассчитано. Как могло без этой обстановки взойти в голову людям баррикад подавать голос за такие темные посредственности, как Мари, Гарнье-Пажес? Известность Кремье как адвоката и Араго как ученого – тоже не давала им никаких прав. Ламартин и Ледрю-Роллен с первой минуты представили два полюса революции. Ледрю-Роллен хотел водворить республику во что бы то ни стало, Ламартин – обуздать революцию. Ледрю-Роллен шел в правительство, для того чтоб толкать вперед, Ламартин – для того чтоб подставить ногу, чтоб затормозить колеса. Что могло из этого выйти? Ламартин был большое несчастие для революции 24 февраля, он хотел как можно скорее порядка, покоя, выйти из революции; зачем он торопился, где, с которой стороны была такая страшная опасность, я не знаю. В этом проглянуло оскорбительное недоверие к народу и чисто буржуазное направление. Париж несколько дней был во власти народа – раскройте все журналы, какого бы цвета ни были, и найдите что-нибудь чудовищное, грабеж, убийства, экспроприацию – народ себя вел удивительно. Толпа зажигателей и разбойников, ломавших мосты по железным дорогам около Парижа, составляет исключение, – она явилась гораздо позже, и кто же подавил ее, как не тот же народ? За спасибо этому великому народу люди, нашедшие себя достойными управлять им, расточая ему лесть, убаюкивая его, как льва, – втайне ковали ему оковы, заменяя королевский штемпель словом «республика» с ее девизом, который с некоторого времени я принимаю за дерзкую иронию.
Hôtel de Ville был уже занят народом, когда кортеж, провожавший членов Временного правительства, выбранных в Камере, пришел к воротам. Плотная толпа теснилась на площади – с огромным усилием, задыхаясь и работая из всех сил, взошли они на лестницу. Все залы были заняты, ораторы стояли на столах, крики, возгласы, шум – Должно думать, что народ, занявший Hôtel de Ville, имел свои имена и своих кандидатов, более законно выбранных, нежели кандидаты из Palais Bourbon. Другая часть сражавшихся и члены общества des droits de l’homme образовали, сверх того, управляющую коммуну в префектуре полиции под влиянием Собрие. Сильное одушевление оживляло граждан, собравшихся в Hôtel de Ville; они твердо решились устоять на том, чтоб республика была провозглашена, чтоб революция 24 февраля не выродилась в такой же обман, как революция 1830. Пока они собирались и толковали о назначении правительства, до них дошла весть, что правительство выбрано, – никто не спрашивает кем, когда – спрашивают имена, как будто в самом деле кто-нибудь имел право распоряжаться. Имена Ламартина и Ледрю-Роллена вселяют доверие. Правительство, составленное из депутатов и буржуази, начинало подавлять зародыш демократического избрания. Из этого ясно, что демократическая партия была настолько незрела, победа для нее была такой неожиданностью, что она не умела порядком сговориться; у ней не было ничего готового, – с другой стороны – народ до такой степени привык быть управляем другими, что он сам искал правителей в рядах парламентской и журнальной оппозиции – не сообразив, что крайняя буржуазная оппозиции против Людвига-Филиппа становилась ретроградной и консервативной в отношении к работникам и пролетариям. Народ очень долго ждал новое правительство, наконец члены его начали показываться в зале Hôtel de Ville. Первый явился Ледрю-Роллен. Случай ли это или намеренное действие – но я уверен, что появлению Ледрю-Роллена обязаны остальные члены, что народ их принял. Ему кричали со всех сторон, знает ли он, что его избрание ничего не значит, хочет ли он провозгласить республику. Ледрю-Роллен отвечал, что он не признает никакого избрания, кроме избрания народом, что он с восторгом провозгласит республику, что он всегда был республиканцем. Народ покрыл его слова рукоплесканием, и он был признан за члена Временного правительства. Вслед за тем явился Ламартин, – он начал речью длинной, цветистой – рассказал о том, что было в Камере – его выслушали, потом предложили ему те же вопросы. Ламартин смешался, отвечал, что он не думает, что теперь и тут можно обсудить такой важный вопрос, как форма правления, что следует обратиться ко всей нации, – он путался; люди, наполнявшие залу, встретили его слова негодованием и криком «Vive la République!» Адвокат Лавирон отвечал смело и дерзко на речь Ламартина. – «Какое воззвание к народу – разве мы для того подвергали грудь нашу пулям? Если возвратится король, мы воротимся на баррикады». – Эта речь удвоила крики народа – и Ламартин решился, оговариваясь и извиняясь, провозгласить республику. Его признали членом Временного правительства, потом Луи Блана и Флокона; Кремье не являлся к народу, чтоб подтвердить свое избрание, остальные тоже как-то проскользнули. Чтоб потешить работников, Временное правительство предложило Альбера – работника, дравшегося на баррикадах и известного своим чистым, преданным патриотизмом. Прежде появления Временного правительства, в Hôtel de Ville занял место мэра Гарнье-Пажес; он, не зная еще, будет ли регентство или республика, раздавал уже места и назначения приверженцам Марраста. Расчет был опять верен: не дать место тому или другому не трудно – но взять назад место уже данное вовсе не так легко. «Реформа», с своей стороны, отправила Этьена Араго завоевывать себе почту. Косидьер пришел пешком с своим ружьем на плече в префектуру, взошел в кабинет, из которого утром бежал Делессер, поставил свое ружье в угол и объявил, что он назначается именем французского народа префектом полиции. Секретарь ему поклонился, – и дело пошло своим чередом.
Несмотря на признание Временного правительства, на него многие смотрели с подозрительностию и неудовольствием, требовали как можно скорее официального провозглашения республики. Наконец явился Ламартин с прокламацией в руке, с той знаменитой прокламацией «Un gouvernement rétrograde et oligarchique vient d’être renversé» – которая так потрясла нас и в которой было сказано, что Временное правительство желает республику. Народ несколько успокоился. Но едва Ламартин успел успокоить одних – явились новые толпы, которых надобно было тоже успокоить, толпы эти наполнили наконец и ту залу, где собралось Временное правление – оно перешло в другой этаж и заперлось в небольшом кабинете. В этой маленькой комнате они написали первые декреты республики и первые прокламации – чуть ли не лучшие из всего, что они сделали. Какой-то блузник принес им ведро воды, солдатский хлеб и разбитую сахарницу вместо стакана – – они занимались всю ночь, кто изнемогал от устали, тот ложился отдохнуть на пол. Начало было недурно и чисто демократическое, особенно если вспомнить, как народ в это время пировал в Тюльери и валялся на бархатных диванах Людвига-Филиппа.
Пока Временное правительство «двигало мир» – как выразился Ламартин, который принял на себя монополь фраз для всех событий революции – весть о провозглашении республики разнеслась по всему Парижу и по окрестностям. – Город представлял к ночи удивительное зрелище – необыкновенная жизнь и необыкновенная смерть – экипажи спрятались, да и проезду еще не было, баррикады еще стояли, лавки были везде заперты; буржуази, испуганная словом «республика» и неизвестностью, спряталась, заперлась, они прислушивались к каждому крику, к каждой песне, ожидая грабежа; кой-где стояли блузники с ружьями, составляя нечто вроде городской стражи, – и вдруг являлась веселая ватага народа, раздавалась «Марсельеза», народ предавался детской радости после долгой и тяжкой неволи, он чувствовал себя господином и тратил драгоценные минуты, не замечая, как его безграничная власть утекала в другие руки – сцены ликующего народа и его шалостей повторялись везде в разных формах – там несся пушечный лафет, на котором сидела вереница молодых женщин с знаменем – – там скакали лошади без седоков, народ отворил двери королевских конюшен и выпустил лошадей на волю. Везде водружали красное знамя – на Карусельской площади жгли мебель Людвига-Филиппа. Так прошла первая ночь. На рассвете испуганные буржуа высовывали голову из окон и, не слыша ни выстрелов, ни шума, – благословляли небо, собственность осталась неприкосновенной. На другой день, 25 числа, баррикады еще были охраняемы, даже к некоторым подвезли пушки, сильнейшие бойцы были печальны и недовольны, толковали об измене. Косидьер и Собрие в первой прокламации просили народ не покидать оружия. Толпа решительных людей с ружьями и пиками окружала Hôtel de Ville, часть их взошла в залы. Ламартин снова показался, на него смотрели мрачно. Он стал говорить – – его выслушали и потребовали замены трехцветного знамени красным. Ламартин не соглашался, он говорил, что никогда не примет красного знамени, что трехцветное знамя – знамя прошлых побед, что оно обошло круг света, а красное обошло только круг Mарсова поля. Разъяренный народ принял с воплем негодования его слова, молодой человек прицелился в него из пистолета, несколько человек ринулись с обнаженными саблями. Он победил хладнокровием и личною храбростию. Сама толпа не была единодушна, часть ее, подбитая буржуазией, рукоплескала Ламартину и кричала: «Да здравствует трехцветное знамя!». Вечером 24 февраля явились на несколько баррикад люди с корзинками съестных припасов и вин, – они, угощая работников и братаясь с ними, уговаривали их положить оружие, оставить баррикады и – главное – отбросить красное знамя. Многие, напившись, согласились. Кто эти хлебосольные друзья? – Но настоящие республиканцы не поддались так скоро – они еще два дня отстаивали свое знамя. – От Hôtel de Ville они разошлись недовольные и угрожающие. Чтоб выиграть время и отделаться от этой требовательной и упрямой части народа, Временное правительство внушило им, что Венсенская крепость еще не взята, что ее необходимо взять, и храбрые люди эти, не отдыхавшие, обманутые, пошли под предводительством Флокона – брать крепость, которая могла удержаться против союзных войск! По счастью, гарнизон не очень упорствовал – и сдал крепость!
История трехцветного знамени чрезвычайно важна. Ламартин, подвергая жизнь свою опасности, отстоял его, стало быть, он придавал этому знамени огромное значение. Знамя народа, – знамя, водруженное под пулями, – знамя демократии, республики грядущей – было отринуто. – Знамя прошедшей республики, перешедшей в империю, знамя Наполеона, – знамя, обидное для всей Европы, – знамя, обагренное кровью всех народов, – знамя, семнадцать лет осенявшее Людвига-Филиппа, из-под которого стреляли муниципалы, знамя буржуази – было принято хоругвью новой республики. Новая республика объявляла себя буржуазной, чисто политической, она не разрывалась с прошедшим – а в таком случае она должна была встретиться с республикой будущей, социальной, демократической, красной, и встретиться злее, нежели монархия, потому что между монархией и социализмом именно стояла республика политическая, которая воцарялась с ниспровержением Людвига-Филиппа.
Как только буржуази узнала о трехцветном знамени – лавки открылись, у нее отлегло на сердце. За уступку она с своей стороны делала уступку – она покорилась республике, она решилась ее принять за ее умеренность. Лавки открылись, движенье в городе восстановилось. – С замены красного знамени начинается реакция, – робкая и прячущаяся сначала, она поднимает голову 17 апреля, она бросает маску с открытия Национального собрания и становится наглой, нападающей, дерзкой после 15 мая. Где она остановится?
Республика досталась легко – оттого что она была на словах. Кроме Ледрю-Роллена, я не вижу ничего революционного, ничего республиканского во Временном правлении. Луи Блана и Альбера оттерли, пользы один не сделал, другой не мог сделать. Луи Блан – дилетант социализма, он принял добрую волю за знание и общие места за новую политическую экономию. Что сказать об остальных? Араго похоронил свою славу во Временном правительстве, этот либерал – доктринер во вкусе Гизо двадцатых годов, он оказался одним из самых злых реакционеров, из самых ограниченных представителей буржуази. Он нашел себе товарищей и помощников в бездушном и бесталанном адвокате Мари, в Гарнье-Пажесе, который имеет только одно достоинство, общее, впрочем, с Каваньяком, – т. е. то, что он брат своего брата. Гарнье-Пажес как министр финансов сделал самую грубую, самую пошлую ошибку: ни один легитимист не мог придумать средства более верного, чтоб заставить ненавидеть республику, – как налог надбавочных сорока пяти сантимов. Душою этой части Временного правительства был не Араго – а Марраст. Марраст и умнее и ловчее других. Человек буржуазной республики, grand seigneur[322] из редакторов газеты, интригант и roué в высшей степени. Марраст внес с собою в Временное правление республики закулисную политику и дух правления Людвига-Филиппа, тщательно переложенные на новые нравы. Марраст умеет прятаться, умеет действовать из-за угла, наружно он не так оскорбителен, как какой-нибудь Мари, хотя он в десять раз вреднее; это человек des petits procédés, des coups de théâtre[323], – это человек, наконец, который не остановится ни на чем, лишь бы было полезно его надменному самолюбию. – Остаются Кремье и Флокон. Флокон честный республиканец, человек недальний и уж никак не годный в средоточие правления. Кремье – умный адвокат, его речи в первые дни республики прекрасны, он предложил отмену смертной казни за политические преступления, уничтожение тюремного заключения за долги, уничтожение присяги. Вообще Кремье был дельный министр, хотя и на его душе лежит страшный грех – он не понял необходимости распустить всех главных судей, чтоб заменить их людьми республиканских мнений. – В отношении к мнениям Кремье буржуа – но буржуа образованный. И вот эта-то кучка людей должна была водворить республику? Имея главой Ламартина – этого Манилова французской революции – – чему же удивляться, что все монархическое осталось, кроме названья? Точно будто король отлучился на время, Временное правительство сначала пошалило – а потом и спохватилось. Какое же, впрочем, другое правление могла дать буржуази? –
Но зачем народ допустил это правление? Может быть, это самый печальный, самый трагический из всех вопросов, возникающих по поводу революции 24 февраля. Народ не имел доверия к себе, народ не был готов, он ждал правление сверху, он искал людей между депутатами и журналистами, между литературными знаменитостями – вместо того чтоб искать его в своей здоровой и мощной среде. Если б республика не была провозглашена, я считал бы ее невозможной во Франции – но тут рассуждение должно покориться факту. Республика – fait accompli[324] – по крайней мере на словах, – может, слово приведет дело – будемте надеяться!
Париж, 20 июня 1848.
Письмо третье
28 августа 1848.
Больше двух месяцев прошло после того, как я писал мое второе письмо из Парижа. – Я не могу продолжать начатого рассказа так, как я его начал, – реки крови протекли между тем письмом и этим. Вещи, которые я никогда не считал возможными в Париже, даже в минуты ожесточенной досады и самого черного пессимизма, – сделались ежедневны, не удивительны. Глубоко оскорбленный во всех человеческих симпатиях, я остался сложа руки досматривать – преступление état de siège[325], депортации без суда, Национального собрания, которого каждый вот – злодеяние, – вероятно чем-нибудь да кончится это тяжелое состояние – кто-нибудь явится воспользоваться учрежденным порядком, Генрих V – или Марраст – или Тьер – или этот несчастный солдат, который добродушно пошел из воинов в палачи и добросовестно казнит людей, журналы, законы, учреждения – – усталый народ примет с рукоплесканием кого б то ни было, ему хочется немножко покою, чтоб залечить раны, чтоб оплакать жертвы и заработать кусок хлеба для семьи. Из моей груди он не услышит упрека. Бедный, героический народ! В какие руки попались судьбы твои – Если б вы видели, какой он стал грустный, печальный после июньских дней. Иногда страшно становится ходить по улицам – там, где кипела жизнь, где громкая «Марсельеза» раздавалась с утра до ночи, где веяло старым воздухом девяностых годов, – там тишина, разносчик газет не смеет кричать, бледный блузник сидит перед своей дверью пригорюнившись, женщина в слезах возле него – они разговаривают вполслуха и осматриваются. К ночи все исчезает, улица пуста – и мрачный патруль подозрительно и мерно обходит свой квартал с заряженными ружьями и с дерзким, вызывающим видом, – гонимые работники отходят от неравного боя, уступают. Блуза почти исчезла на больших улицах, Национальная гвардия пыталась ее не пускать в Тюльерийский сад, как было при Людвиге-Филиппе. Пораженный народ терпит – потому что никто не знает меры, до которой идет беззаконие, доселе оно ни перед чем не останавливалось – но в душе его собирается мрачная горечь и такое желание куда б то ни было выйти из этого положения, – что он просится в Алжир. А знаете ли вы, что нет народу, который бы имел больше отвращения от переселения, как французы?
Никогда террор 93 года не доходил до того, до чего дошел террор теперь. Не говоря уже о том, что характер, обстановка, причины – все розно, но я держусь за материальный факт насилия и меру его. Много голов пало на гильотине, много невинных – в этом нет сомнения, мы знаем их поименно. А кого расстреливали целую ночь на Карусельской площади да на Марсовом поле? Герман, Фукье-Тенвиль нам известны. Аэтих кто судил, сколько их было осуждено, в чем состояла необходимость? Это происходило не на месте битвы – там на многое, скрепя сердце, надобно смотреть сквозь пальцы. – Зачем эта тайна, зачем украли у народа право оплакивать своих мучеников? Разве Комитет общественного спасения скрывал свои меры? Самая резня в сентябрьские дни делалась белым днем, открыто, и недавно умерший Сержан уверял, что списки рассматривались довольно внимательно, известное происшествие с герцогиней Ламбаль подтверждает это. Ну, а в этих глухих казнях кто рассматривал, да и кто составлял списки? – Войска захватили в плен тысяч шесть, стало быть, шесть тысяч семейств должны ждать депортации, чтоб узнать, расстрелян или нет их брат, сын, отец – – или ходить из крепости в крепость искать, узнавать. Нет, почтенные мещане, полно говорить о красной республике – когда она лила кровь, она верила в невозможность поступать иначе, она обрекала себя на это, – а вы только мстили. Террор 93 года был величествен в своей мрачной беспощадности, вся Европа ломилась во Францию наказать революцию, отечество в самом деле было в опасности. Конвент завесил на время статую свободы и поставил гильотину стражей; Европа с ужасом смотрела на этот волкан и отступала перед дикой, всемощной энергией; террор хотел спасти Францию – и вместо этого победил Европу. Когда миновало его время, те, которые обрекли себя на страшную долю судей, – положили в свою очередь голову на плаху. Их надобно было казнить, это своего рода lex talionis, невинные головы их пали – и остановленный топор заржавел. Теперь нам всякую неделю префект полиции говорит, что Франция цветет, что торговля снова идет вперед, что доверенность возродилась. Кого же спасают эти эписье с своими алжирцами – со стороны Европы бояться нечего, после июньских дней цари наперерыв торопятся признать новое правительство. Лавочники Собранья спасают – монархический принцип, собственность, основанную на монополе, аристократию капитала, порядок. Какой страшный урок этот трехмесячный état de siège. Вот вам Франция, так любящая свободу, эта страна пропаганды, революции… она всего лишена в самом сердце своей жизни – в Париже – она лишена права собираться в клубах, коварный закон, позволяя их, их убил; она лишена свободы книгопечатания, журналы запрещают без суда, ее детей отправляют сотнями в депортацию, не допрашивая, – других томят сотнями в тюрьме – – и все это, как говорят, pour le salut public – – если это правда, то черт ли в самом деле в стране, которую надобно спасать такими средствами. Она все выносит, потому что тут замешан карман, тут замешан изнуренный работник, которого надобно задушить в пользу буржуа, – вот откуда ожесточенье, вот откуда шли выстрелы, вот отчего шея мещан склонилась под казарменное ярмо осадного положения, вот отчего они потеряли последний стыд и, не боясь истории, – хотят вотировать конституцию в état de siège, хотят выбирать представителей под пушками, возле которых держат зажженные фитили. Само собою разумеется, что теперешнее положение не останется, – оно слишком грубо, такое судорожное отклонение от нормального состояния не может продолжаться. Но опыт этот, его возможность, память о нем останутся – и где обеспеченье, что в будущем при первом столкновении тех же начал – не возобновятся ужасы настоящего, удесятеренные – потому что это только начало войны собственности и привилегии против социализма? – Может, Франция, может, Европа погибнут в этой борьбе, социальный элемент что-то слишком широк для обветшалых форм, от которых Европа не хочет отступиться –
Вопрос, невольно теснящийся в голову всякий раз, как думаешь обо всем, что делается здесь: как это случилось так быстро, как через четыре месяца после революции 24 февраля ничего не осталось от нее, кроме имя республики и холодный арифметический suffrage universel? Вопрос этот естественно отводит нас к самой революции, к первым дням республики, на которых мы остановились.
Революция 24 февраля сделалась слишком нечаянно. Республика была каким-то сюрпризом для всех – для тех, которые пламенно желали ее, и для тех, которые еще пламеннее ее отталкивали. «N’est-ce pas un rêve?» – спросил тронутый Кремье после прекрасной речи, сказанной им адвокатам в первые дни республики. Да, гражданин министр, да, это был сон, в том-то все и дело. Сон великий, память о котором проводит нас до гроба, – но все же сон. Теперь мы проснулись, и уж вы не спросите, сон это или нет; мы сладко спали – но проснулись, как после опиума: грудь и голова разбиты, болят, глубокое отвращение к жизни и к людям наполняет душу. Знаете ли, на что похожи эти три месяца республики – точно будто король на время уехал и бразды правления без него ослабились; но вот перед его возвращением являются снова те же люди, которые были при нем, и начинают процесс возмущенью, своеволью февральских дней, точно так, как начинали все остальные политические процессы. Люди, замешанные в дело, перепугались, – они забыли, что короля нет, они, впрочем, никогда не понимали ясно его отсутствие – они благоговейно оставили запертыми его дворцы, его сады, его отдельные парки – для чего, для кого? – так, по тому чувству, по которому слуга, отпущенный на волю, все-таки считает бывшего господина – барином. – Вы помните библейское предание о том, что в обетованную страну не мог никто взойти, испытавший египетское рабство, – даже для Моисея не было исключения – для нового вина нужны меха новые. Все люди, вышедшие на первый план после 24 февраля, были попорчены семнадцатью предшествовавшими годами, они образовались в политику оппозиции, в парламентские происки, в expédients – и не могли быть ни просты, ни откровенны. Я, собственно, не хочу обвинять лица за то, что они были ниже обстоятельств, – они были под фатумом, они вышли из негодной среды, они воспитались на гнилой почве – хвала им за то, что они сколько-нибудь отрешились от нее; люди, кроме исключительных гениев, служат органами, проводниками тех начал, которые уже есть. Общая причина – демоническое начало европейской цивилизации – одна, – это ее исключительность, ее аристократизм. Европейская жизнь так сложилась, что она все делала для меньшинства, и оно, блестящим образом развитое, перешагнуло ее собственную жизнь в то самое время, как большинство не токмо не двигалось вперед, но скорее дичало в безвыходной борьбе с нуждой. Развитая часть народа, не имея истинных корней в народе, отрешалась от него более и более и устремляла все силы на отвлеченные теории построения народной жизни, не совпадавшей, собственно, с действительной жизнию. Революционеры XVIII столетия изучали народ в римской и греческой истории, в сочинениях Руссо. Революционеры 48 года воспитались на двух искусственных и нездоровых почвах – на парламентских прениях и на литературе Реставрации. В этом общая причина зла. Но в историческом разборе нельзя останавливаться на одних общих причинах, это поведет к старому немецкому фатализму; в истории сущность дела всегда необходима, но образ развития, modus проявления зависит от множества второстепенных причин и, между прочим, на первом плане от личностей. Отклонить их ответственность, покрыть их широкой амнистией исторической необходимости – это значит лишить историю самой человеческой, самой живой, драматической стороны. Мне душевно жаль подходить с холодным разбором, с критикой к этому времени, которое дало нам столько восторгов, которое увлекло нас всех и которое так лучезарно и светло является в сравнении с безобразным настоящим, с этой беззаконной диктатурой, начавшейся по горло в крови и продолжающейся по горло в позоре. Но именно эта-то кровь, этот-то позор и вызывает беспощадную критику. Я перечитал второе письмо, я не хотел в нем ничего переменить, поправил только несколько ошибок и прибавил несколько фактов. Но я чувствую, что теперь неловко, странно продолжать в том же духе. Сколько золота оказалось мишурою с тех пор! Мы не можем теперь отказаться от знания, от обнаружившихся последствий, от раскрывшихся характеров, нам нельзя отречься от настоящего, сквозь которое это недавно прошедшее представляется иным; Временное правительство, рассматриваемое сквозь штыки état de siège, – не находит отпущения в душе нашей. Реакция началась не с 23 июня, а с 25 февраля, она вызвала 15 мая, каждый день с начала апреля уносил что-нибудь республиканское, каждый день возвращал что-нибудь монархическое. Мы сердились, досадовали – но все же была надежда, смягчавшая укор, была довольно ровная борьба и, ежели подчас мы предавались отчаянию, – упованье победы просвечивало иногда и сквозь него. Теперь ночь, ничего не просвечивает. Откуда эта ночь, кто ее привел, кто не удержал? Всякое снисхождение будет слабостью в обсуживании времени, предшествовавшего июньским дням.
Ко всему прочему присовокупились страшные обвинители для временного правительства и лиц, окружавших его, – это три тома следственной комиссии. В этом болоте грязи и гадости потонули децемвиры – одно имя спаслось, всплыло имя Ледрю-Роллена[326]. – Посмотрите на этих гордых республиканцев, так смело вышедших из рядов граждан, чтоб сделаться правителями, посмотрите, как они жалко торопятся делать доносы в свою очистку или во вред врагу – – частные разговоры, дружеские излияния, жесты – ничего не забыто. О ирония, ирония – – ретроградная Камера, знавшая, что ее презирают, хотела отмстить республиканцам и с злою насмешкой назначила председателем следственной комиссии Одилона Барро, и этот тупорожденный либерал времен Реставрации, обойденный, выброшенный революцией 24 февраля, важно развалясь на президентских креслах, позвал к ответу Ламартина – и Ламартин, как ученик, пойманный дядькой, начал фразой из хрестоматии и отвечал пункт в пункт, признался, как у них во Временном правительстве не было ладу и проч. Я не говорю о других членах, – те, кроме Ледрю-Роллена, явились с доносами, с сплетнями. И никто не смел сказать, что они не принимают такого следователя, что это открытый враг республики, и никто не пожалел великой революции 24 февраля; вместо того чтоб ужаснуться посягательству судить ее, они ее притащили перед инквизицией Одилона Барро, они позволили грязному рту Бошара прочесть ей обвинительный вердикт. Господа, это ужасно, это не имеет названья! Такие люди хотели стоять во главе республики, и в них не нашлось настолько благородства, чтоб не наушничать, чтоб не губить доносами обвиняемых, и в них не нашлось твердости, чтоб высказать за то, что их осмелились спрашивать, истину, – истину, может быть, опасную; в них не нашлось ни в ком сострадания сказать слово в пользу десяти тысяч жертв и половину их вины отбросить на Собрание. Куда! Точно в деле Роганова ожерелья: все знали, что обвиняемая – королева, и никто не смел назвать ее, – так и теперь, никто не смел заикнуться о причинах 15 мая и 23 июня; многие желали разогнать Собрание, желали победы инсургентам – но они были побеждены, и никто не остановился затем, чтоб бросить в тюрьму этих несчастных свое ругательское слово. Да как же в этих людях не нашлось хоть чувства собственного достоинства, уваженья к себе, чтоб не отвечать на дерзкие вопросы, на вопросы, предлагаемые врагом революции? Слабые, они защищаются повиновением закону. Да кто же облек Народное собрание таким самодержавием, кто дал ему право без суда осуждать, назначать инквизиции и делать следствия над революцией? А если это закон – так надобно его нарушить. Они молчали на все; испуганные, они допустили, они не протестовали – ступайте же, трусы, оправдывайтесь перед Одилоном Барро, может, он и Собрание вас помилуют.
Я останавливаюсь, рассказ об июньских днях впереди, и рапорт следственной комиссии заслуживает не нескольких строк. – Я хотел этим вступленьем показать одно – невозможность отклонить настоящее, воспоминая о февральской революции. Это был бы подлог. Перейдем теперь к тому времени, на котором мы остановились, – делать нечего –
Итак, республика была провозглашена – робко, нехотя со стороны Временного правительства, – оно уступило народу, вооруженному и готовому на бой. Самый акт провозглашения был странен и носил в себе что-то напоминающее ту дипломацию, которая должна была исчезнуть в республике – и которая теперь царит во всех внутренних и внешних делах. «Временное правительство, – сказано в первой прокламации, – желает республику, если народ французский ее утвердит». – Какая осторожность и неуверенность! Говорит ли кто-нибудь этим языком через час после битвы, после победы? В Hôtel de Ville прежде появления Временного правительства была составлена народом следующая прокламация: «Мы, воины баррикад, объявляем всей Франции, что мы нашей кровью завоевали ей республику – которую торжественно провозглашаем теперь в Hôtel de Ville»[328]. – Когда Ламартин явился исперва на словах сказал об утверждении всем народом республики, ему из толпы кричали, что это вздор, что Париж – передовая фаланга Франции и что если они подставили свою грудь пулям – то это вовсе не для того, чтоб весь плод победы отдать на обсуживание грубого населения, на которое будут действовать интриганты. – Тем не менее первая прокламация была такова. Могла ли она успокоить умы? Через день является новая прокламация; в ней объявляется, что Временное правительство «есть республиканское», вслед за нею третья прокламация, и там в первый раз от правительства сказано: «Королевская власть уничтожается, республика провозглашена» – о народном согласии ни слова.
Франция не была готова для республики, по крайней мере для республики демократической. Но Временное правительство, облеченное страшной диктатурой, опираясь на Париж, могло действительно стать во главу движения и вести народ, воспитывая его учреждениями, а не подвергая кровавым потрясениям, которыми вырабатывается сильная, хотя и незрелая сущность французского народа. Для этого надобно было иметь веру и энергию Комитета общественного спасения, и, заметьте, только веру его и его преданность; обстоятельства были таковы, что Временному правительству вовсе не нужно было обрекать себя на строгую, карающую ролю – которая окружила кровавым нимбом диктатуру 93 года. По несчастию, во Временном правительстве был один революционер – Ледрю-Роллен. Я уверен в добросовестном желании добра почти всех членов, особенно в первые дни, в которые надобно было быть уродом или извергом, чтоб не разделить общего увлеченья; более, я уверен, что, кроме Ледрю-Роллена, Луи Блан, Альбер и Флокон были в глубине души истинные республиканцы – но у них недоставало этого нерва революционного, который навел Ледрю-Роллена на посылку комиссаров, на бюллетени, на циркуляры; в нем был этот беспокойный дух, подрывающий старое, ломающий без оглядки, дерзкий в отношении к прошедшему, – словом, тот дух, который заслужил ему ненависть всей буржуази. Луи Блан радикальнее Ледрю-Роллена, но он, удалившись в Люксембург, сделался проповедником социализма, сильно действовал на работников – но серьезного политического действия не имел. Вместо помощи Ледрю-Роллен встретил противудействие в товарищах, может, он и сладил бы с ними, но в их главе стоял авторитет, – я говорю о Ламартине. Характер Ламартина по преимуществу женский, примиряющий, бегущий крайностей; он, между прочим, потому стремился примирить, соединить противуположные направления, что он ни с чем не справился внутри себя; в его уме, в его речах отсутствие всего резкого, определенного, он был рефлектёр в поэзии и сделался рефлектёром в политике, там и тут благородный и чувствительный – он нравился как личность и был совершенно негоден как деятель. Ламартин развился под страшными влияниями – и остался верен эпохе своего цветения. Тогда усталая Франция изменила собственному гению своему, ясному в отвлечениях, определенному во всем, – французская мысль и французская фраза приняли что-то туманное, не вполне высказываемое, стремящееся «все обнять, ничего не отвергая»; таинственная пустота Шатобриана и спутанный эклектизм Кузеня могут служить представителями того времени – которое разрешилось в гаерскую поэзию Гюго и его школы. В Ламартине есть именно нечто шатобриановское и нечто эклектическое. Он не догадывался, что это колебание между крайностей, эта высшая, обнимающая справедливость – без внутреннего начала, без установившейся мысли – представляют или высшее бездушие (как вся философия Кузеня), или эгоистический эпикуреизм, распущенность и juste-milieu. Ламартин как поэт находил в душе звуки и белым лилиям, и служителям алтаря, и Наполеону и – и ничему не предавался в самом деле; Ламартин-диктатор полюбил республику, народ, он на этой высоте хотел наслаждаться общим миром, находил сочувствие с голодным работником, улыбался роскоши богатого, имел слезу для герцогини Орлеанской, рыцарское великодушие к политическим врагам, – он с одним не мог сочувствовать – с революцией, он думал, что ее не нужно после провозглашения республики! И такой-то человек стоял во главе возникающей демократии, осредотворяя – так сказать – мягкостью своей души два бурные потока, уступая обоим и обессиливая тот и другой.
Провозглашение республики застало врасплох департаменты и армию. Никто ее не ожидал, все приняли. Если мы исключим два, три большие города – Лион, Руан… то можем наверное сказать, что департаменты не желали и вовсе не думали о республике; тем не менее провозглашение нового правительства не встретило нигде явного препятствия; префекты и генералы наперерыв торопились отправлять поздравительные адресы. Вот вам новое доказательство, что Франция в Париже. Департаменты не привыкли жить своим умом, армия не рассуждает[329]; Париж, опередивший в самом деле всю страну, пользовался, сверх нравственного влияния, централизацией, устроенной ему Людвигом XI, Ришелье, Людвигом XIV, Конвентом, Консульством и Империей. Главные власти в департаментах – агенты министерства – от него зависят, им назначаются. Провинциальный элемент показался впоследствии в Народном собрании – дикие буржуа явились из глуши своей с затаенной мыслию зависти, с зубом против Парижа, отсюда идет ожесточение против клубов, журналов, против всех новых идей – которые они принимают за парижские идеи. Если Франция приняла республику безучастно, то в Париже было совсем не то: он воскрес, он сделался велик, колоссален, он опять стал сердцем всего европейского движения, трибуной пропаганды, всемирным городом; буржуа притихли, народ ликовал, надеялся и, доверяя правительству, которое объявляло, что «революция, сделанная народом, должна быть сделана для него», мощной рукой своей поддерживал его и охранял порядок. Что сделал бы Косидьер, если б народ не помогал ему? – Первые декреты Временного правительства оправдывали доверие народа, каждый из них был новым освобождением и новым ударом в ветхое общественное здание. Вы их знаете. В самой редакции декретов еще чувствуется близость революции, вроде того, как особые движения морской волны напоминают недавнюю бурю. – Это был медовый месяц децемвиров – их стало недели на три. Когда они подписали 25 февраля декрет об уничтожении смертной казни – они бросились друг другу в объятия, обливаясь слезами[330]. И за это им спасибо!
Главное, сделанное Временным правительством после провозглашения республики, состояло в объявлении suffrage universel и в попытке привести в порядок вопрос об организации работ. – Оно срезалось на том и на другом вопросе; последствия принятых начал ускользнули из неискусных рук и, странным образом, от противуположных причин – от тупой добросовестности с одной стороны и от желания обойти истинное решение вопроса с другой. Временное правительство основало все надежды на suffrage universel. А что за результат мог дать suffrage universel, кого могли избрать крестьяне, первый раз подающие голос, без приготовления, без воспитания, под влиянием духовенства, богатых землевладельцев и городской буржуази? Что могли дать войска, не привыкнувшие рассуждать, что могли дать буржуа, слишком привыкнувшие к интригам и проискам, враждебные демократии по положению? Ледрю-Роллен понял опасность и нелепость таких выборов; он на скорую руку набрал комиссаров и разослал по департаментам, он писал им циркуляр за циркуляром, объясняя, что следует избирать республиканцев, – заметьте, буржуази, с начала революции молчавшая на все, восстала против циркуляров министра внутренних дел; и не одна буржуази восстала, а вся консервативная сторона Временного правительства – отсюда начинается раздор, который привел к страшным событиям и к падению исполнительной комиссии. – «Как, – кричали монархические журналы и богатые мещане, – давно ли вы наступали на горло Гизо и Дюшателю за то, что они имели влияние на выборы, а теперь хотите сами того же, вы обратились ко всей нации, дайте же ей полную свободу и ждите ее решенья, ей, по-вашему, принадлежит верховная власть», – и Ламартин успокоивал недовольных, отказываясь от ответственности за циркуляры и удостоверяя, что правительство нисколько не хочет касаться до свободы выборов. Он не понял, что в бурю, в революцию – надобно тем, которые стоят у руля, совсем иную энергию и иные распоряжения, нежели в обычном порядке вещей. Как могло правительство не мешаться в выборы в то время, когда надобно было пересоздать все общественное здание? По какому праву? По праву революции, по тому праву, по которому Временное правительство сделалось правительством и начало распоряжаться. По праву urgence[331], необходимости.
И кто же, наконец, оспоривает право убеждать, право умнейшего, право знания, даже право энергии, воли? Арифметический счет голосов, faute de mieux[332], мог бы что-нибудь выразить в стране, где образование было бы обще, – но во Франции? – Во Франции suffrage universel – тупой и неорганизованный – должен был привести к тому, к чему он привел – к толпе невежд и интригантов, в которой гибнут несколько порядочных людей, задавленные снова большинством. Парижский народ с досадой увидел, куда его приведут выборы, придвинулся к Ледрю-Роллену и начал подозрительно посматривать на остальных децемвиров. Если б выборы назначены были немедленно, можно было бы ожидать, что, под влиянием недавней революции, провозглашения республики – не посмеют выбрать реакционеров. Если б, с другой стороны, Временное правительство их отдалило на несколько месяцев и в продолжение этого времени ознакомило с республикой земледельцев – можно бы ожидать демократических представителей. Правительство не сделало ни того, ни другого, оно дало время реакции и не дало время понять, дало остыть увлеченью республиканцев и оправиться от страху роялистам. Клубы, народные демонстрации, журналы советовали отдалить выборы, правительство действительно отдалило на несколько дней. Радикальная партия ничего не ожидала путного от выборов, она надеялась на Париж. – Вместе с падением электорального ценса должно было пасть исключительно буржуазное устройство Национальной гвардии. Каждый гражданин получал голос, каждый, следственно, должен был получить от государства ружье, – так этот вопрос и был понят правительством. Вооруженный Париж представлял огромную силу, он делался не токмо столицей демократии – но ее великой дружиной. Войск в Париже не было – и не могло быть, пока народ имел голос и волю. Свобода народа в городе – несовместна с присутствием постоянных войск. Роковая неловкость Временного правительства и тут не могла не испортить в половину сделанного. Я говорю «неловкость», потому что не хочу предполагать измены, – нет, это не была измена, а последствие фальшивой методы уступать в обе стороны, во всем ставить целью уличную тишину и полицейский порядок. Вооруживши весь Париж, Временное правительство ввело новую массу в старые кадры легионов Национальной гвардии, – вновь взошедшие в легионы, естественно, подчинились прежним членам, приняли большею частию их направление и дух.
Временное правительство однако не могло не знать, что дух большей части легионов (исключая 12 и 4) был враждебен демократии и вообще республике; Национальная гвардия, так много способствовавшая к низвержению Людвига-Филиппа, в этом нисколько не виновата, – она хотела реформу и падение Гизо – больше ничего. Вторая ошибка состояла в том, что Национальной гвардии оставили ее мундир. Мундир вообще вещь превредная, но он нигде не вреден до такой степени, как во Франции. Франция с прекрасных времен Наполеона заражена солдатизмом и страстью к мундирам, галунам, эполетам, – мундир вообще отделяет человека от других, в мундире солдат, в мундире чиновник, а не гражданин. Зачем Национальной гвардии мундир, зачем эта роскошь, не может же национальный гвардеец ходить всегда в мундире – стало, он должен иметь два костюма. – Правительство дозволило вновь поступившим остаться в своем платье; ничего не может быть энергичнее и величественнее, как видеть эти тысячи людей в блузах и пальто, с белой перевязью через плечо, с ружьем и с своими барабанщиками в куртке и круглых шляпах. Масса людей не в мундирах была, разумеется, гораздо больше, нежели масса обмундированная, прежняя Национальная гвардия могла бы распуститься в ней, – но у прежней остался мундир, мундир примировал, бедный блузник желал мундира, правительство одевало их на свой счет, – демократический характер Национальной гвардии был нарушен – Вот как правительство понимало революционные меры. Не думайте, чтоб недоставало советов. Кабе десять раз говорил об этом в своем клубе.
Что касается до организации работ, правительство, по-видимому, и не думало серьезно заняться этим вопросом. Отстранить его было невозможно; работники громко напоминали о себе, они знали, что республику сделали они, и требовали теперь ежедневно, чтоб республика занялась ими. Правительство не имело никаких планов, никакой мысли об этом чуть ли не главнейшем вопросе современности; чтоб отделаться от него, оно назначило Луи Блана и Альбера президентами комиссии о работниках и отослало их на другой край Парижа в Люксембургский дворец, где прежде была Камера пэров. Сверх того, не ожидая решений люксембургской комиссии, оно основало национальные мастерские – вроде убежища для работников, лишенных работы вследствие революции. Много ли, мало ли сделала люксембургская комиссия – важность ее не подлежит сомнению. Социальный вопрос сделался признанным, государственным вопросом. Такие вещи народ не забывает, как ни расстреливай его, как ни депортируй. Временное правительство не поняло всю portée[333] открытия комиссии, – это был храм, данный христианам в древнем Риме; не было даже недостатка в увлекательном проповеднике – речи, полные любви, Луи Блана раздавались глубоко в сердцах настрадавшихся не токмо от нужды – но от оскорблений, от жесткой грубости. Слова симпатии и братства слышались ими с высоты той самой трибуны, на которой за несколько дней тому назад кашлял сгорбившийся старик Пакье, представитель и глава отходящего и дряхлого «мира привилегий». Заседания комиссии – мало делали, но оканчивались иногда всеобщим плачем, это были торжественные литургии социализма, это были дружеские беседы. Однажды перед окончанием заседания пришел Ламартин, Луи Блан закрыл заседание и вышел; вдруг он возвращается, взбегает на трибуну с одушевленным лицом и просит работников воротить выходивших и остановиться на минуту – работники возвращаются, садятся, и Луи Блан говорит им: – «Друзья мои, сейчас товарищ мой, гражданин министр иностранных дел, получил весть, что венский народ одержал победу, Меттерних бежал, революционная партия торжествует. Я вас остановил, друзья, чтоб поделиться с вами этой новостью. Да здравствует всемирная республика!» Сколько молодого в этом, и как сильно подобные вещи должны были действовать на работников! Но существенного во всем этом ничего не было, – повторяем, комиссия была важна как воспитание в социализм. Речи Луи Блана делают, когда их перечитываешь, странное и грустное впечатление. Книжная и чисто теоретическая цивилизация еще раз явилась с своими логически верными словами, но вышедшими совсем из иного мира, нежели практическое зло, против которого следовало сражаться, оттого речи его могли увлекать – но не предлагали действительных средств. Он иногда походил на тех проповедников, которые, в неведении мира, воображают, что царство божие близко к осуществлению, чуть ли не существует уже. Луи Блан думал, что достаточно сознания плачевного факта нищенства и задавленности трудящихся, чтоб помочь им. Он это думал добросовестно, так как С.-Жюст думал, что, провозгласив les droits de l’homme, Франция будет демократической республикой. – Всегда, во всех начинаниях самых лучших, двойная цивилизация европейская мешает полноте результатов: то является нелепый, грубый факт, который гнет и ломает теорию, то неприлагаемая мысль скользит бессильно по сложившемуся миру нелепостей и все планы поправить его оканчиваются абстрактными уродцами.
Если мы взглянем на другие действия Временного правительства, то увидим, с одной стороны, несколько законов, сообразных новому шагу в государственной жизни; с другой – ряд грубых и непростительных ошибок, который громко свидетельствует, что децемвиры были ниже событий и не поняли революции. Ошибками и промахами правительство обессилило или исказило все хорошее, сделанное им; и что всего хуже – все дельные законы того времени теперь отменены, уничтожены – а все ошибки расцвели, развились и принесли самый горький плод. Причина ошибок одна – правительство не было довольно революционно, оно расплывалось в какой-то добродушной слабости и давало полную волю интригантам окружить себя сетью, вовлечь в нелепости. Власть у него была безграничная, народ баррикад, дозволяя ему оставить в своих руках скипетр Людвига-Филиппа, поставил одно условие – чтоб оно надело на него фригийскую шапку; какой контроль, какое стеснение было для них, какая ответственность – одна ответственность перед историей, и она уже теперь их осудила. Что же оно делало, имея такую власть? Убаюкивало народ, ссылаясь на будущее Собрание, и оставляло монархические учреждения, совершенно противуположные возникающему порядку дел, оно не токмо не приняло меры воспитать народ, но даже не отстранило препятствий, не сняло оков, придуманных прежним правительством. И это не все. Оно оставило, где могло, лица прежней администрации, – один Ледрю-Роллен требовал смены всех префектов. С начала марта месяца радикальные журналы кричат правительству: «Берегитесь – заклятейшие враги республики, приверженцы падшей династии сидят возле вас!» Клуб Бланки советовал правительству обратить внимание на судебную власть, составленную из тех самых прокуроров и судей, которые с такой недобросовестной свирепостью осуждали на галеры и бросали в тюрьму людей – по знаку Гебера. Правительство ничего не сделало. Косидьер с первого дня управления префектурой полиции оставил почти всех комиссаров и начальников бюро. Шпионы Людвига-Филиппа явились открыто в правительство с своими начальниками предложить услуги, они жаловались, что у них нет хлеба после 24 февраля, – и правительство, вместо того чтоб депортировать это гнездо развратных и падших людей, приняло их с тем же Аларом, с тем же Карлье во главе, – с знаменитым Карлье, который изобрел ремни с кистенями, чтоб разгонять народ. Вот как правительство понимало свое революционное призвание. Ламартин 25 февраля назначил было генерала Ламорисьера военным министром – и заменил его потом генералом Бедо, услышавши о негодовании и ропоте, с которыми народ бывший в Hôtel de Ville, принял такое назначение. Ламорисьер, известный роялист, ненавидим был в Алжире за свирепость, его арабы прозвали «царем палки»; он в июньские дни дал приказ расстреливать пленных. Вот люди, которых брали себе в товарищи пересоздатели Франции. Кто такое был банкир Гудшо, консерватор Бетмон, интригант Паньер, призванные правительством в центр дел, – мы их знаем только потому, что они при первом случае отреклись от революции. В марте месяце ретроградная партия до того оправилась, что маршал Бюжо предлагал правительству свою трансноненскую шпагу, Тьер и Одилон Барро ожидали выборов. Гордясь смешным великодушием, правительство не брало никаких мер против этих министров Людвига-Филиппа и давало им полную волю работать на выборах при помощи знаменитых satisfaits Камеры депутатов, которые рассеялись с злобой и ненавистью к новому порядку дел по департаментам. Какие же после всего этого политические люди были эти децемвиры? Я в глубине души ненавижу все свирепые меры, тем более их ненавижу, что считаю их роскошью, – но в чем же состояла бы свирепость отстранить при начале устройства республики людей, явным образом вредных, лишить их на время политических прав, заставить удалиться из Франции до тех пор, пока образуется и утвердится правильное правительство? Это была бы мера простого благоразумия и государственной справедливости. Франция дорого заплатила за прекраснодушие Ламартина и его товарищей. Наконец, венцом ошибок Временного правительства является надбавочный налог сорока пяти сантимов. Нелепость этой меры превышает всякое человеческое пониманье. Она оскорбила земледельцев, она их восстановила против республики, из-за нее уже лилась кровь; сорок пять сантимов сделались знаменем роялистов. Крестьяне, собственно, через этот новый налог узнали о республике, она им рекомендовалась сорока пятью сантимами. Да откуда было взять деньги? Откуда угодно, только не от бедного класса людей, и без того задавленного налогами. Откуда брал деньги Камбон? Тогда был террор. Хорошо, а откуда Директория в конце 1795 года достала деньги – конечно, тогда не было террора, однако крайность заставила прибегнуть к насильственному займу 600 миллионов; наконец, разве Пиль без всякой революции не наложил income-tax[334]. И что же за святыня в самом деле доход и собственность, что они одни изъяты от общественных нужд[335] потому только, что в них-то и накоплены средства?
Клуб Бланки тотчас понял гибельное действие, которое произведет надбавочный налог, он послал депутацию к правительству. Гарнье-Пажес отвечал делегатам клуба, что само правительство видит неловкость этой меры и постарается поправить ее. Как же оно поправило? Оно велело не взыскивать 45 сантимов с людей, которым мэры выдадут свидетельство, что им нечем заплатить, т. е. с нищих. Если это была шуточная увертка – то Гарнье-Пажес дурной шутник, если же он это сделал по убежденью – то мы имеем право усомниться, не поврежденный ли он. Не токмо во Франции, где, по чрезвычайно развитому чувству гордости, никто не признается в бедности, но где угодно объявите налог с таким оскорбительным изъятием для неимущих – то его или никто не заплотит, или все. Так и случилось в некоторых департаментах, – там, где не заплатили, правительство приняло военные меры. Ропот был всеобщий, он продолжается до сих пор. –
Перейдите от внутренней политики к внешней – вы встретите то же самое: колебание, ошибки, риторику, – та же половинчатость, тот же Ламартин. Весть о провозглашении республики потрясла всю Европу; даже Англия покачнулась на своих твердых готических основаниях. Вы помните, месяца не прошло после 25 февраля – Берлин, Вена, Милан были в полном восстании; Германия с конца на конец, от Франкфурта до Кенигсберга, волновалась; Италия приготовлялась к войне с Австрией. Французская республика делалась естественною главою всего движения, – какая разница с республикой, провозглашенной 22 сентября 1792 года: тогда в Европе едва нашлась небольшая горсть людей, как Кант, Фихте, Форстер, опередивших свой век, которая в благоговейном удивлении смотрела на великие события, совершавшиеся во Франции; теперь все народы Европы рукоплескали Парижу, новая республика, водворявшаяся без крови, отовсюду встречала горячую симпатию. Депутация за депутацией являлась к Временному правлению с приветами от разных стран. Поляки, немцы, итальянцы, североамериканцы, ирландцы и, наконец, английские демократы и чартисты наперерыв заявляли свою дружбу и удивление. Ни в какую эпоху Империи Франция не имела такого влияния на всю Европу, как в марте месяце 1848. – Я был в Италии в это время и видел своими глазами действие магических слов «République Française». Пий девятый, один из всех монархов, которого народ любил, перепугался до полусмерти и начал снова делать уступку за уступкой, иезуиты были придавлены, кардиналы присмирели. Король неаполитанский укладывал драгоценные вещи и держал вготове пароход. Карл-Альберт, чтоб спасти корону, становился в главе итальянской войны. Савойя предлагала республике присоединиться. Правительства были деморализованы, сбиты с толку, народы – за Францию; испуг был так велик, что прусский король и австрийский император согласились на демократические конституции и обещали восстановить Польшу. Чтобы разом выразить слабость консервативной стороны и старой политики 1815 года, стоит вспомнить что маленький уголок – Монако и Невшательский кантон – сделали свои революции и никто не думал им серьезно помешать!
Как воспользовалась французская республика этим удивительным стечением обстоятельств? – Она дала время пройти страху, ободрила все правительства и убила все европейское движение.
Манифест Ламартина был уже довольно слаб и водян. Но действия его дипломации были гораздо слабее. Он говорит в манифесте, что Франции нечего искать прощения за революцию, ни упрашивать о признании республики, – на деле он именно искал, чтобы европейские государства отпустили Франции грех освобождения; в манифесте, не обещая прямой помощи, он говорит, впрочем, об освобождающихся народах, о подавленных народностях. – На деле он не сделал ни одного энергического шага в пользу Польши и тотчас стал со стороны правительств – в деле белгов и немцев, он поступал точно так, как Людвиг-Филипп. Что же за причина всех этих действий? Боялся он войны, что ли? – Откуда? Англия с самого начала сказала, что она не касается до внутренних вопросов Франции; лорд Норманби оставался в Париже, если не как официальный посланник, то как залог дружеских отношений. Или, может быть, повторяя ежедневно в газетах о движении нескольких сот тысяч русских то к прусской границе, то к Галиции, то к Дунаю, французская дипломация в самом деле поверила этим движениям пятисот тысяч русских и испугалась? Но ведь между Францией и Россией – Германия и Польша, – Германия, которая при переходе первого солдата русского объявила бы себя республикой; Польша, которая готова была вспыхнуть ежеминутно. – Жалкая и смешная политика – можно без смеха себе представить человека, который боится другого, но представьте, что они оба друг друга боятся, – и вы расхохочетесь. Старая политика и дипломация европейских дворов была догадливее и хитрее Ламартина, – она поняла очень скоро, с каким республиканским правлением имеет дело. Ей было досадно, что поддалась мнимому страху, – она отмстила народам за свою слабость; реакция, открытая и дерзкая, началась в Неаполе, Вене, Берлине. Несчастная Познань была задавлена. Польша погибла, может, навеки. Дикие кроаты – в Италия.
Временное правительство приняло за главный вопрос – успокоить среднее состояние во Франции и встревоженные правительства в Европе. Оно не верило в свое собственное дело; оно хотело как-нибудь уладить республику, как-нибудь удержать мир. Оно боялось разорваться с прежним порядком, новой государственной построяющей мысли у него не было. Отсюда это неприятное, нестройное колебание между разными направлениями – является закон, взятый из социальных учений, рядом с ним монархическое распоряжение, в одних мерах видно бедное подражание 93 году, в других повторение конституционных проделок, со всем характером двоедушья и лукавства – которое нелепо в республике. Все люди, судившие и рядившие Францию с 24 февраля, ни разу не подумали, чем, собственно, должна отличаться новая республика от старой монархии, в чем состоит темное влечение социальных учений и идеалов, волнующих душу современного человека. Провозгласивши «по воле, а вдвое того поневоле», как говорят у нас в сказках, республику, они с невероятным легкомыслием думали, что главное сделано. Ламартин в своей брошюре «Trois mois au pouvoir» говорит, что он и его товарищи хотели конституционную республику, т. е. монархию без короля, без наследственной власти, – вот эта-то конституционная или, откровеннее, монархическая республика и учредилась. Неужели, в самом деле, республика только тем и отличается от монархии, что в ней вместо короля – царствует пестрая толпа представителей, облеченная тою же властью, которую имел прогнанный король? Ничего в мире нет противуположнее, антипатичнее по внутреннему понятию, как эти две государственные формы, взятые во всей чистоте своих принципов. В монархии народом управляют, в республике народ управляет своими делами. Тип монархии – хозяин, заправляющий мастерской, отец, опекун, распоряжающийся достоянием малолетных. Тип республики – артель работников, имеющая своих распорядителей, но не имеющая хозяина. Монархия основывается на авторитете, ей необходима иерархия, религиозно-политический ритуал, ей необходимо то, что называется репрезентацией, ей нужно облачение, а не одежда, она на каждом шагу должна напоминать, что отдельное лицо несостоятельно перед властью, она должна требовать покорности. Республика требует от людей только одно – чтоб они были людьми, она основана на доверии к человеку, она естественна и потому не налагает узы, а ставит условия, до такой степени идущие из самой сущности общественной жизни, что их миновать – нелепость, безумие; если она требует больше – она не республика. Республика – это свобода вне общего дела, равенство прав и участия – в общем деле, братство – как нравственная связь, как человеческое признание лица всеми и лицом общего дела. Монархизм основан на дуализме, правительство никогда не должно совпасть с народом, правительство – провидение, дух, священный чин, народ – материя, миряне, подданные; монархизм по преимуществу теократия, он только прочен par le droit divin[336], оттого он так тесно был соединен с юдаизмом, с христианством, без понятия Иеговы – нет царя. Деизм – ставит монархию, царь земной предполагает царя небесного. Внутреннее начало республики – имманенция, а не дуализм, она ничему не поклоняется, ее религия – человек, ее бог – человек и «нету бога разве его», – республика ведет к атеизму и к анархии – и речь Робеспьера могла только остановить его на полдороге, а республику не остановила бы, если б она была возможна. В республике так, как в природе, все дух и все тело, все независимо и все в соотношении, все само по себе и все соединено, анархия не значит беспорядок, а безвластие, self-government, – дерзкая повелевающая рука правительства заменяется ясным сознанием необходимых уступок, законы вытекают из живых условий современности, народности, обстоятельств, они не токмо не вечны, но беспрерывно изменяемы, отвергаемы. Идолопоклонство перед законами в республике не нужно, благоговейная покорность – или рабство, или притворство. Кто лучше и постояннее исполняет свои законы, как не природа, а между тем она беспрерывно старается перейти, нарушить законы и, где только может переходить, явись только возможность, природа сейчас освобождается от вековых условий, от statu quo. Леверье сказал о природе то, что Прудон сказал об истории – и оба правы: c’est une révolution en permanence. В республике так, как в природе, правительство спрятано, его не видать – в монархии оно-то и выставлено au grand jour[337], и понятно почему – потому что оно представляет разум народа, его мысль о праве – это символика, мистерия, народ себя уважает в правительстве. Республика, напротив, не символика, а самое дело, никто не представляет ее разум, она сама его представляет, ставит, выражает; в республике могут быть представители, делегаты, они могут съезжаться с такой или другой целью – но совокупность их не может представлять верховной власти, народ выбирает не господ, а поверенных, они не выше народа – над головой свободных людей ничего нет, ни даже неизменного уложения и окаменелого кодекса, республика смотрит на правительство вниз, оно не цель – а необходимость, не святыня права, охраняемая левитами, а контора и канцелярия народных дел. Единство и стройность имеют другие начала в республике, нежели насильственная централизация, народ сам живой и вечный источник сознания своих общественных нужд, он связан, сверх взаимных выгод, – народностию, былым, образованием, у него единство в крови и в мысли – а если его нет, пусть различные части его распадутся; сверх того, не надобно забывать, что общественный быт человеку естественен и, следственно, легок. Посмотрите, как умно и легко складывается народная жизнь в коммунах. Чем более развито общественное начало, тем менее нужды в правительстве; мы боимся людей, мы их считаем несравненно хуже, нежели они есть, – к этому нас приучили монархии. Будьте уверены, что человеку любовь столько же естественна, как эгоизм; не мешайте его эгоизму – он будет любить; не грозите ему беспрестанно – и он будет справедлив, ибо несправедливость противна человеку, как всякая ложь, как фальшивый тон; коммуны между собой связуются высшим родством племенным, народностью, – народность есть опять любовь, опять единство – эти свободные связи, глубоко существующие в сердце при развитом общественном мнении, при общих выгодах, совершенно достаточны, чтоб была гармония в республике, чтоб она не распалась, если ее частям хорошо вместе – без всякой подавляющей власти. Конечно, внешнего порядка, наполеоновского устройства не добьешься этим путем – да он-то и не нужен, его-то и надобно уничтожить. Наши понятия до того искажены христианством и монархизмом, что, освободившись в главных основаниях, мы путаемся на последствиях, пятимся назад, боимся высказать свою мысль – оттого что она прямо становится поперек тому, что делается, к чему мы привыкли. – Позвольте для большей ясности указать на всем знакомые примеры. Франция выходит из былого, в котором она вырабатывалась, с таким центром, как Париж; Париж – решительно и ум и сердце всей страны, в него притекают различные между собою населения угловых департаментов, в нем лаборатория, в которой провинциальные пришельцы перерабатываются в тех французов, которые имеют свою цивилизацию, свой характер, общий всей стране, несмотря на вариации. Можете ли вы после этого представить, как бы вы ни ослабили централизацию, власть, чтоб Франция распалась, – все ее вены примыкают к Парижу, все артерии идут из него. Для того чтоб Париж перестал быть этою жизненною необходимостью Франции – надобно, чтобы все части Франции не токмо достигли цивилизации Парижа, – но перегнали его, чтоб их интересы сделались самобытны и разны; тогда, может, Франция и распадется – но не прежде. – Или как примется Англия за то, чтоб перестать быть Англией? Какая ей нужна правительственная сила, которая держала бы вместе ее части, – когда они связаны такой резкой народностью? С другой стороны, возьмите в пример Австрию – что Вена за центр империи, к которой притянуты на вожжах итальянцы, немцы, венгерцы, славяне? В Вене первое слово свободы – было знаком распаденья. Как там ни бейся, а искусственное единство империи лопнет, потому что оно может держаться только насилием. – Не знаю, умел ли я передать живо и ясно, как я понимаю различие монархии и республики, – но если вы его допустите, то нельзя не согласиться, что Временное правительство делало все наоборот; делало все, чтоб революция 24 февраля не принесла ни одного плода, не достигла ни до одного последствия. Мы сказали выше, что народ не был готов для республики и не мог быть готовым – воспитанный Наполеоном, Людвигом-Филиппом и монархией. Монархия интересована в вечном несовершеннолетии народа, признание народа совершеннолетним значит уничтожение монархии; но тем не менее социальные и демократические тенденции пустили глубокие корни, особенно в Париже, – самый факт революции лучшее доказательство. Развить эти тенденции, довоспитать парижский народ и начать воспитание французского народа, открыть ему сущность республиканского устройства – поставить ему примером и доказательством Париж – вот что следовало сделать Временному правительству. Республика должна была начаться диктатурой, как того требовал народ в Hôtel de Ville, диктатурой революционной, опертой на возбужденное общественное мнение, на незыблемую веру в республику; эта диктатура не должна была ни выдумывать уложения, ни создавать нового порядка – она должна была подрубить все монархическое в коммуне, в департаменте, в суде, в полку, она должна была расстричь, разоблачить всех актеров старого порядка, снять с них мантии, шапки, эполеты, весь этот prestige власти, так сильно действующий на народ. – Какая республика возможна при деспотической власти префекта, назначаемого из Парижа, при совершенной стертости коммуны, при наполеоновской централизации, при этом офицерстве и чиновничестве, не избранном, а пожалованном? Какая демократия возможна при четырехстах тысячах правильного войска, готового одинаким образом брать Константину и Париж? Свободный народ сам защитится в случае нападенья, солдаты защищают правительство, землю, а не народ. Вместо всего этого Временное правительство объявило suffrage universel и начало проповедовать идолопоклонство к результату этих выборов, сделанных детьми, дикими, чернью (не моя вина, что большинство так составлено). – Как можно было дать вдруг темной массе – всю будущность страны, зная, что арифметическое большинство не есть истинное, зная, что один Париж – virtualiter[338] полнее и лучше понимает, нежели вся Франция? Есть добросовестность коварнее всякого лукавства, – Ламартин с компанией знал, что suffrage universel приведет именно такое Собрание, и противудействовал Ледрю-Роллену, хотевшему пояснить народу, в чем дело.
Они хотели монархической республики, они хотели пасти народ и заставить его склонить свою выю под иго Собранья – им удалось. Народ вместо воспитания – отброшен назад, монархический принцип укреплен, он тверже, нежели был при Людвиге-Филиппе, потому что покрыт именем республики. И почему мы знаем, какими кровавыми испытаниями придется пройти Франции, чтоб снова попасть на путь истинного развития – если она выйдет на него!
Не думайте, что Временному правительству недоставало совета, предостережения – c 1 апреля Прудон в каждом листе своего «Représentant du Peuple», Торе и Пьер Леру в своем журнале кричали правительству, просили его, указывали ему, в какую пропасть оно идет. Правительство не слушалось. –
Мученики времен Людвига-Филиппа начали возвращаться из тюрем и ссылки, в их главе были две знаменитости: Барбес и Бланки. Барбес, этот баярд демократии, которого голова была уже обречена плахе, явился к Ламартину, дружески протягивая руку, – он попусту ее никогда не протягивал. Он хотел работать для водворения республики и приносил в помощь правительству совет закаленного демократа, огромный авторитет в радикальной партии, – авторитет, основанный на безусловной чистоте характера. Барбес, так величественно и гордо являвшийся перед судом Камеры пэров, напоминал своей самоотверженной и непреклонной натурой, своей доблестной наружностью мучеников первых веков христианства. Он беззлобен и юн душою вышел из мрачного заточения и спокойно продолжал путь, начатый с Годефруа Каваньяком. Содействие и помощь такого человека была первой важности для правительства. Но не менее важен был и Бланки.
Бланки – человек совершенно противуположный Барбесу. Сосредоточенный, нервный, угрюмый, изуродованный телесно страшным тюремным заключением, полный невероятной энергии и желчевой злобы – он имел большое влияние, опертое на проницательность, на глубокомысленный взгляд и на необыкновенный дар слова – резкий, страстный, проникающий в душу слушателей. Его меньше любили, нежели Барбеса, но не меньше слушались. Он не имел ни его теплой экспансивности, ни его настежь отворенную душу; но мысль его была и глубже и упорнее, никто не сомневался в его таланте. Он мог быть вреднее и опаснее Барбеса – но он мог также принесть величайшую пользу правительству – и он явился к Ламартину, предлагая содействие и советы. – Недели через две оба отошли, качая головой, оба увидели, что с этими людьми ничего не сделаешь, что они погубят революцию. Точно так поступил Собрие, молодой, богатый человек, душою преданный республике и демократии; Собрие, действовавший 24 февраля и завладевший сначала вместе с Косидьером префектурой полиции, пробовал остаться в сношениях с правительством, не мог и с негодованием оставил его. Он теперь вместе с Бланки и Барбесом в Венсенне. Главы социализма и не сближались с децемвирами. – Прудон, Кабе, Распайль, Пьер Леру – стояли поодаль. Все эти люди неутомимой деятельности, беспредельной преданности бросились на иную дорогу, на деятельность в клубах, на издание журналов. Сначала ни клубы, ни журналы не разрывались вполне с правительством. В речах и статьях – правительство щадили, хотели его напутствовать, мечтали, что это возможно. Правительство с своей стороны отвечало дружески на увещания клубов, не сердилось, не щетинилось за советы, за выражения – как впоследствии. Долго это не могло оставаться, надобно было иметь невероятную доверчивость или близорукость, чтоб не заметить, как правительство с каждым днем отклонялось далее и далее от всего провозглашенного в первые дни после революции. Недоставало внутреннего раздора, чтоб показать всем сомневавшимся, сколько почвы приобретено уже было реакцией. Этот раздор не замедлил явиться; поводом к нему были циркуляры Ледрю-Роллена и его бюллетени, испугавшие буржуази, а с нею вместе и консервативное большинство Временного правительства. – Прочтите эти циркуляры, эти бюллетени и подивитесь, о чем так шумели мещане. Ничего не могло быть естественнее, как посылка комиссаров в департаменты. Пославши их, еще естественнее было дать им наставления, – дух этих наставлений должен был быть революционный, он умерен, тих, но сообразен обстоятельствам, на них наклепали бог знает что, я нигде в них не вижу ни террора, ни призыва к восстанию, а вижу желание растолковать департаментам смысл переворота и логическое стремление способствовать, чтоб монархический принцип заменили республиканским, чтоб выборы пали на людей демократического образа мыслей. Ледрю-Роллен был прав, говоря, что правительство относительно выборов не должно играть роль писца, помечающего голоса, но стараться пояснить, чего оно надеется от представителей; последствия показали, что значат хаотические, бессмысленные или ретроградные выборы, последствия совершенно оправдали Ледрю-Роллена. Добросовестно, честно невозможно порицать действий министра внутренних дел, буржуази порицала их, потому что она вовсе не хотела республики или хотела одного имени. Циркуляры Ледрю-Роллена удивили среднее сословие и испугали, они видели, что министерство внутренних дел принимает республику au sérieux[339]. С своей стороны бюллетени бесили не менее циркуляров. Бюллетени представляли живой разговор правительства с народом, имионо сообщало новости, опровергало ложные слухи, делало пропаганду, поучало; некоторые из них были писаны великим пером Ж. Санд – в них веет демократический дух, они обращались к работникам. Негодование буржуази начало высказываться сильнее и сильнее и нашло поддержку – где же? В самом правительстве. Известная демонстрация по поводу отмены меховых шапок была направлена против Ледрю-Роллена. Ламартин публично говорил, что правительство не хочет иметь никакого влияния на выборы, оставляя таким образом всю ответственность Ледрю-Роллену; буржуази в ретроградных журналах превозносила Ламартина, лукаво сравнивая подкупы и грубое вмешательство власти в дела выборов при Людвиге-Филиппе с распоряжениями Ледрю-Роллена, как будто право учить, объяснять, иметь влияние убеждением открытой речью похоже на подкупы и взятки. Видя такую слабость правительства и предчувствуя, как ретроградная сторона воспользуется уступками, клубы решились с своей стороны сделать демонстрацию на другой день меховых шапок. Двести тысяч человек вооруженного народа правильными колоннами, с знаменами клубов сделали 17 марта грозную и спокойную прогулку по Парижу. Несмотря на величайший порядок, на величавую тишину, едва перерываемую выразительным пением «Марсельезы» – буржуази до того была испугана количеством людей и их видом, что опять исчезла на целый месяц и, продолжая свою темную работу, не выставлялась с своими реакционными требованиями. В этот месяц можно было наделать чудеса, – демократическая партия не умела им воспользоваться, правительство не хотело. Двести тысяч человек, вооруженных и готовых на бой, приходили ободрить правительство, поддержать его, если оно только пойдет путем революции, если оно только хочет республики. Народ и клубы – словом, Париж – подавал свой голос в этот день за циркуляры Ледрю-Роллена, за республику – правительство получало новую санкцию, становилось вдвое сильнее, второй раз облекалось диктатурой, – но оно смотрело уже в другую сторону, хотя и отвечало словами замечательными: «Proclamé sous le feu du combat, le gouvernement a eu hier ses pouvoirs confirmés par les deux c<ents> milles citoyens, qui ont apporté, par leurs acclamations à notre autorité transitoire la force morale et la majesté du souverain». Говоря это, Ламартин и Марраст копали яму этому народу, один из робости, по неловкости, другой из видов грязных, мелких, личных; им помогали пять товарищей, взятых из «Насионаля». Но, обвиняя правительство, мы не можем оправдать нисколько клубы и их вожатых, – чего они смотрели, имея такую силу в руках? Парижский народ обещал пожертвовать республике три месяца голода, он обещал дожидаться – но зато хотел демократической республики. Как же они не видали сначала, что правительство пятится и возвращается к буржуазной монархии? Когда они спохватились – было поздно. Мирная, но энергическая демонстрация 16 апреля была иначе принята правительством, нежели демонстрация 17 марта. Работники, желая снова показать реакционерам, что они не утратили энергии, собирались на Champs de Mars, они были без оружия. Вдруг раздался сбор по всему Парижу – Национальная гвардия бежала отовсюду, вооруженная с ног до головы, банльё входила во все заставы. В мэриях раздавали боевые патроны. Более ста тысяч штыков окружили Hôtel de Ville и Люксембург – все спрашивали, где восстание, где враг. Удивленные и обиженные работники, которых месяц тому назад Временное правительство благодарило и перед которыми преклонялось, желали знать, откуда вышел приказ бить сбор, и узнали, что первая мысль вышла из Hôtel de Ville, т. е. от Марраста. Марраст, спрятанный в ратуше и не выступавший особенно вперед, был душою реакции и интриг; окруженный своей тайной полицией, он стращал робких децемвиров и упрочивал свои связи. Национальная гвардия шла с криком: «Vive la République, à bas les communistes, à la mort les communistes!» Этот отвратительный крик был суфлирован Маррастом через мэров. Под словом «коммунисты» разумели теперь всех демократов, всех социалистов, всех бывших на демонстрации Champs de Mars. Весьмавероятно, что соприкосновение таких двух масс народу и с таким враждебным направлением не прошло бы даром, – были люди, которые хотели кровавой стычки, так, как они ее хотели 15 мая, так, как они ее подготовили к Июньским дням, – по счастью, Национальной гвардией командовал благородный старик, некогда легитимист, потом откровенный республиканец – генерал Курте. Работники требовали у правительства объяснения, правительство путалось, благодарило Национальную гвардию за ее готовность, благодарило работников за то зло, которое они не сделали и которого никто не хотел. Марраст уверял, что вся цель правительства «окончить эксплуатацию человека человеком». Но народ расходился мрачно, недоверие и злоба распространялись, две республики померились, – «Oh, que l’avenir est menaçant, – писал Пьер Леру, – puisqu’il y a dès aujourd’hui deux républiques en présence» (lettre à Cabet)! –
Через два дня раздался новый сбор – он собирал на смотр Национальную гвардию. Когда она выстроилась, перед ее рядами явился генерал Шангарнье. Он объявил, что несколько линейных полков готовы вступить в Париж, и спрашивал, так сказать, хочет ли Национальная гвардия с своей стороны такого помощника в деле порядка. «Vive la ligne! Vive la ligne!» – кричала Национальная гвардия, и несколько батальонов с ранцами и в походной форме взошли в Париж – первые солдаты после революции. С их вступлением революция была убита. Солдаты могут делать возмущения преторианские, янычарские, лейб-гвардейские – но с народной революцией их присутствие несовместимо.
Ввод войск в Париж был знаком открытой распри между народом и правительством. Правительство, вызванное par acclamation после баррикад, опиралось на штыки. Напрасно Эмиль Жирарден повторял: «L’armée n’a pas été vaincue le 24 Février comme l’armée, elle a été condamnée comme institution»[340]. Этого не понимали даже честные республиканцы. Подобные вещи далеко выше понятий французов. Тем не менее смелость правительства ввести войска в Париж удивила. Клуб Бланки явился требовать отчета в этой мере. Ламартин с своим красноречивым лукавством отвечал, что войска взошло тысячи четыре для того, чтоб примирить граждан-солдат с их братьями. «Мы не думаем, – говорил он, – не думаем и не будем думать, – о том, чтоб противудействовать войсками народу. Республика внутри не требует других защитников, как вооруженный народ». – «И что может сделать эта горсть людей, когда и 160 000 человек под начальством Бюжо ничего не сделали ипроч.?» – Это было великое преступление Временного правительства, и Ледрю-Роллен согласился на эту меру и той же рукой, которой подписывал свои бюллетени и циркуляры, подписал убийство республики. Власть развращает!
Глухая борьба росла; правительство удалялось далее и далее от парижан, народ, собранный в клубы, жался к этим центрам, чувствуя, что он обманут. Правительство не смело еще прямо противудействовать клубам и сборищам, но уже явно готовило себе бесславное падение, оно начинало заслуживать презрение с обеих сторон. – «Если так, то зачем вы прогнали Людвига-Филиппа, – говорили орлеанисты и демократы, – вы делаете то же, что монархические министры, только глупее, не развязнее, Гизо и Тьер ловчее вас, зовите их назад». С иронией глядя на этих оторопелых поэтов и министров, буржуази работала в департаментах; выборы шли быстро, от каждого листа кандидатов дрожь пробегала по коже у демократов. Выборы явным образом гнулись на сторону реакции и монархии. Реакция была уже до того сильна и смела, что не позволяла комиссарам исполнять своих поручений, их оскорбляли, их отлучали от обществ, как чумных; один был посажен в тюрьму, другой выгнан из города. Духовенство подало руку буржуази, чтоб противудействовать республиканским выборам. Работники, потерявши всякую надежду видеть избранными своих кандидатов, взбунтовались в Лиможе, Руане и Эльбёфе. В Лиможе работники одержали верх, и дело обошлось без убийств, в Руане победила буржуази, кровь полилась рекой. – Первая кровь после 25 февраля.
Разумеется, с точки зрения обыкновенного гражданского порядка, с точки зрения полицейского благочиния народ был неправ, возражая насилием против выборов, – но, во-первых, не надобно забывать беспокойное состояние умов после революции, и во-вторых, – что справедливость более широкая, нежели юридическая, была со стороны народа. Народ чувствовал себя обманутым – там ему мешали подавать голоса, тут выходили кандидаты, которых он не выбирал, несмотря на то, что арифметически большинство казалось с его стороны; работников притесняли, оттирали всеми подьяческими формами; глубокое сознание, что они остаются без представительства, что они обмануты, заставило их в Лиможе ворваться в избирательную залу, силою отнять урны, сжечь бюллетени. Народ вообще, когда подымается, идет помимо судейских форм, он носит в себе живую справедливость данной минуты, – народ, особенно французский, не станет убивать медленным ядом, как оппозиция, не станет справляться с статьями кодекса – а или, закусив губу, смолчит, или протестует баррикадами, как 24 февраля, или врывается в Камеру, чтоб заявить свое презрение к представительству, законно выбранному по форме, но не имеющему доверия, не заслуживающему его – как 15 мая. В такие минуты народ действительно сознает себя самодержавным – и поступает в силу этого сознания.
Какова была руанская буржуази, мы знаем. Она в первый раз выбрала Сенара, во второй Тьера. Руан – один из главных фабричных городов, ненависть между работниками и буржуази вкоренилась там не менее, как в Лионе. Электоральная борьба при такой взаимной ненависти двух сословий вскоре перешла в уличный беспорядок, в грозные демонстрации. К подобного рода беспорядкам надобно в республиках привыкать, делать нечего. В монархиях, казармах и тюрьмах в этом отношении несравненно спокойнее – там всякий шум, всякое нарушение дисциплины считается изменой, оскорблением величества – и наказывается свирепо и беспощадно. В Северо-Американских Штатах, напротив, выборы почти никогда не обходятся без шума, правительство обыкновенно исчезает в это время, и в этом его высокая честность и пониманье своего положения. От французского правительства ничего и ждать нельзя подобного: оно в Париже толковало через 2 месяца после 24 февраля – об cris séditieux, об атрупементах без оружия – – никогда не подумавши, отчего же не кричать все, что хочется, отчего не собираться вместе свободным людям. Руанская ратуша распорядилась резче, она позвала войско, она позвала всю Национальную гвардию, она поставила пушки – и покрыла кровью руанские улицы. Работники были не вооружены, ни один солдат, ни один член Национальной гвардии не был убит. Когда эти страшные вести дошли до Временного правительства, оно велело произвесть следствие и послало от себя прокурором Франк-Kappe, того самого Франк-Kappe, который заслужил себе при Людвиге-Филиппе позорную славу инквизитора и безжалостного гонителя республиканцев наряду с Эбером, Деланглем, Плугулмом и др. Что это было? Ирония, дерзость, глупость или измена? Выбирайте. Я готов думать, что тут было всего понемногу.
Между тем в Париж наезжали со всех сторон представители. Народ и республиканцы, с негодованием и краснея до ушей, смотрели на этих толстых, старых мещан, на эти ограниченные лица, на эти глупые глаза проприетеров, на эти жирные носы и узкие лбы провинциалов-стяжателей, шедших теперь перед лицом мира устроивать судьбы Франции, создавать республику – имея критериумом аршин лавочника и разновес эписье. – И вы отдали будущность вашей прекрасной Франции им. Вы их допустили – вы им позволили – несите же горький плод!
Странная судьба Франции – быть великой в болезни и пошлой в здоровье, быть великой в день переворота и ничтожной на другой день. Конечно, важно и то, что она обладает этой силой стряхивать время от времени с себя грязь – но ее невыдержка поразительна. Народ этот внезапно восстает, неотразимый и грозный, вступает в отчаянный бой с общественным злом, – противустоять ему в эти минуты невозможно – их надобно переждать; по мере того как он одолевает врага, силы его слабеют, ум тускнеет, энергия исчезает, он делается равнодушным к тому, за что проливал кровь. Пока республика и Франция висели на волоске, пока Европа, Вандея, духовенство, федералисты, претенденты, эмигранты шли войной со всех сторон, снизу, сверху, извне и изнутри – Париж и Конвент отстояли Францию и республику. Побитый неприятель не успел еще добежать до своих домов – а уж Франция слабела не по дням, а по часам. Десять лет дравшись за свободу – она обиделась, что у нее нет сильного правительства, что ее никто не теснит. Уродливая, бездушная конституция сухого аббата, искривленная солдатом, была принята с восторгом; конституция VIII года – организованный деспотизм, она в подметки не годилась конституции III года, оклеветанной в наших глазах Сиэсом и Наполеоном. А между тем вся Франция рукоплескала ей и консулу-солдату – она даже не заметила, что в новом уложенье не было упомянуто о свободе книгопечатания, что правительственная гласность была убита, что избирательная система была уничтожена. Свобода мысли, слов, права – все это у французов благородный каприз, а не истинная потребность, как у швейцарца, англичанина (в той форме, как они понимают свои права), – француз любуется ими и отдает без сожаленья, через пятнадцать лет он снова построит баррикады, усеет трупами улицы, удивит мир геройством и упустит из рук завоеванное. Этот отроческий, легкомысленный характер, эта политическая gaminerie французов, полная отваги и благородства, долго нравилась Европе, – нравилась ей, особенно пока она сама не смела открыть рта, а исподтишка перемигивалась с Парижем; теперь народы повыросли, и повторение одного и того же делается скучным и надоедает наконец. Народы после революции 1830 года уже показали свое негодование, они отпрянули с досадой от Франции после 24 февраля – которое так много обещало и так ничего не сделало. Франция может теперь резаться сколько ей угодно, европейские народы не станут ей подражать и завидовать. Это – старая басня волка и мальчика. Человечество не позволит беспрерывно надувать себя и совсем отвернется от страны, которая, как русские крестьяне до Годунова, имеет один день свободы в году и триста шестьдесят четыре дня рабства!
Париж, 18 сентября 1848. –
Письмо четвертое
Париж, 10 октября 1848. –
Какое счастие, друзья мои, что я не знал почти всего того, о чем писал к вам в прошлом письме, и не предполагал возможным сотую долю того, что случилось, когда в один превосходный апрельский день маленькая лодочка, быстро шныряя между кораблей, несла меня по синей поверхности залива из Чивиты-Веккии на почтовый пароход французской республики. Я тогда находился под влиянием 24 февраля, я забыл Париж 1847 года и верил в Париж de l’an 56[341]; у меня сердце билось так, что я не мог дышать, когда я ступил на палубу парохода и увидел везде заветный вензель R. et F.[342] – простите мне это ребяческое увлеченье, оно в другой раз не случится. Мы проучены. Ни нас, ни народы в другой раз не надуют.
Пароход ехал из Смирны, касаясь Константинополя, Мальты, Неаполя – везде забирая пассажиров. Не мудрено, что из Чивиты мы поехали нагруженные, как Ноев ковчег. Сверх обыкновенного балласта итальянских пароходов, толпы англичан всех возрастов и обоих полов, с нами ехало множество французов; они возвращались с биением сердца домой, революция была без них – все ехали волнуемые страхом, надеждой, все догадывались, предполагали – – – В числе путешественников был один почтенный старик с военным и аристократическим видом, с седыми усами и с приветливой наружностью, которая сильно располагала в его пользу. На другой день утром рано, сидя на палубе, покрытой страдавшими морской болезнью, мы разговорились с стариком. Узнавши, что я русский, он сообщил мне, что делал всю кампанию 12 года офицером старой гвардии, рассказал последние новости о битве под Малым Ярославцем, ясно доказывал мне пользу каких-то мер Нея, пожурил Ростопчина за пожар Москвы – и вдруг перешел к революции 24 февраля – – Тут мне пришлось первый раз играть роль вовсе новую для меня; защищая республику, я становился за существующий порядок, делался консерватором, а почтенный воин был недовольным фрондером, но не высказывал этого прямо, а делал намеки, улыбался – – делал все то, что нам с вами, carissimi, приходилось так часто делать. Меня это ужасно тешило. Ненавидя, в сущности, революцию, старик одушевлялся, говоря о возвращающемся влиянии Франции на Европу. «Посмотрите, два месяца после революции – и мы возвращаемся к влиянию времен императора» – это его мирило с республикой. Мило и полушутя споря друг с другом, мы доехали до Марселя, и там только я узнал что это был герцог Роган, – он имел, как видите, par droit de naissance[343] права не очень любить демократические перевороты. – Вспоминая разговоры мои с старым герцогом, мне невольно приходит в голову необъятная разница аристократов, вышедших из старой цивилизации, и тех, которых вырастили на скорую руку в служебных парниках тех стран, для которых старая цивилизация – новость. Последние не любят вступать в дальние разговоры, возражение принимают за дерзость, боятся уронить свое достоинство и не позволяют молодым людям забываться,т. е. иметь мнение и высказывать его.
При въезде в Марсель никто не спрашивал пассов, их отдали нам при отправке из Ливурны – это безделица, но от этой безделицы веяло республикой. Огромные трехцветные знамена были выставлены везде из окон с надписями «Liberté, Fraternité, Egalité»[344] – вновь посаженные деревья свободы, украшенные венками, лентами, девизами, красовались на площадях. Народ будто вырос и стал громче, шумливее; правда много лавок было заперто – но толпы блузников распевали «Марсельезу» на улицах. Не успел я переменить свое дорожное пальто, как услышал военную музыку, игравшую «Chant du départ» под самыми окнами. Национальная гвардия шла торжественной процессией и несла большой мраморный бюст свободы, точно так сделанный, как вы знаете по изображению на медных су первой революции. Я отправился за процессией, она шла в Hôtel de Ville. – Подходя к ратуше, я увидел несколько человек матросов, бежавших от набережной, они бежали в каком-то неестественном одушевлении, утирая слезы и махая шапками. Другая кучка матросов, не столько загорелых, стояла на угле – вскоре и те и другие бросились друг друга обнимать. Меня эта сцена до того заняла, что я остановился. Один из прибежавших матросов обернулся ко мне и, не дожидаясь вопроса, сказал мне «citoyen», – тут в первый раз я услышал в разговоре это республиканское слово; до Июньских дней в Париже многие говорили и писали «citoyen», теперь это считается не сообразным с хорошим тоном, – «citoyen», представьте, что мы третий месяц плывем из Южной Америки, никаких вестей не имели об Франции, сегодня утром узнали от лодочников, что было в Париже. – «Nous avons la République – sacré nom de Dieu!»[345], – и загорелый матрос плакал и кричал, повторяя «Vive la République!» – «Vive la République!» – подхватили его товарищи, и они, грянув «Марсельезу» и обнявшись, отправились хватить goutte[346]. Рядом с этой сценой мне было суждено видеть совершенно противуположную; детский восторг матросов и то, что я расскажу вам, – это два полюса французской жизни. У ратуши сделали небольшой круг, на который должны были выйти Эмиль Оливье (комиссар правительства)[347], мэр и не знаю кто; народ подступал все ближе и ближе, ряд блузников с ружьями останавливал толпу, толпа все шла вперед – – тогда несколько рассерженных блузников опустили ружья и начали прикладами давить носки тем, которые стояли впереди, они это делали с удовольствием и отчетливостью петербургского городового, который лет двадцать кряду ежедневно по обязанности бьет кого-нибудь. Народ, ругаясь, пятился. Могу вас уверить, что в Риме, в Тоскане, в Генуе – не теперь, а даже до итальянского восстания – сбиррам не пришло бы голову давить ноги ружьями, а если б пришло, то наверное штыки их ружей были бы у них же в животе; итальянец всего чаще не имеет вовсе никаких политических убеждений, он боится попов, спокойно живет под чужеземным игом – но не дозволит лично оскорблять себя, но не вынесет полицейской дерзости; если его ударят – он пырнет ножом. Дело в том, что у французов страсть к полиции, каждый француз в душе полицейский комиссар; дайте ему только какую-нибудь кокарду, пояс, галун – и он простого человека, т. е. человека без галуна, презирает. Впоследствии я много раз с горькой улыбкой смотрел на распорядителей демократических банкетов, как они помыкают гостями, кричат, распоряжаются и все попустому. В римских демонстрациях видали мы сборища народа тысяч в двадцать, тридцать, и те, которые их вели, меньше хлопотали и управлялись, нежели комиссар банкета, на котором две тысячи человек. Гости с своей стороны точно так же распоряжаются с прислужниками, и все это при криках «Vive la République démocratique et sociale!»[348] Француз любит видеть везде присутствие власти, он любит фрунт и дисциплину; все независимое, индивидуальное бесит его, он действительно равенство понимает нивелировкой, он покоряется самым произвольным полицейским распоряжениям для того только, чтоб и другие им покорялись. – Сверх того, французы придают всем мелочам полицейским[349] какую-то священную важность; état de siège, в сущности, им нравится, эта форма гражданственности – революционная и деспотическая – самая близкая к их внутреннему понятию, я смело скажу – они любят террор, они любят диктатуру – Франция похожа на женщину, которая думает, что муж ее не любит, если не колотит. Мы много раз еще воротимся к этой несчастной (и совершенно общей) черте народного характера. Ее не мешает иногда вспомнить, говоря об ужасах 93 года, для того чтоб народную вину не ставить на счет лиц.
На другой день мы отправились в Лион. Улицы кипели блузами. Работники отправлялись на земляную работу с своими знаменами и с барабанным боем. На их знаменах были написаны разные девизы вроде: «Vivre en travaillant ou mourir en combattant». Плебейская Национальная гвардия в блузах держала все караулы и ходила патрулем. Лионский работник, угрюмый и настойчивый, принял вид больше энергический и республиканский, нежели марсельцы. Лион – по всему второй город Франции. Пятнадцать лет лионский работник жил под пушками городских укреплений – это докончило его воспитание. Я имел удовольствие видеть сломанными эти отвратительные форты, о которых я, помнится, вам писал из Италии. Груды каменьев лежали еще в беспорядке, свидетельствуя, что весьма недавно народ казнил это преступное и безобразное изобретение тьеровских времен. На месте фортов были посажены деревья свободы. В Лионе я прочел страшную весть о руанском кровопролитии. – Пятого мая мы были уже в Париже.
Париж много изменился с октября месяца. Меньше пышности, меньше щегольской чистоты, богатых экипажей – и больше народного движения на улицах; в воздухе носилось что-то резкое и возбужденное, со всех сторон веяло девяностыми годами. Толпы работников стояли около своих ораторов под тенью каштанов Тюльерийского сада – – деревья свободы на всех перекрестках – часовые в блузах – Косидьеровские монтаньяры с большими красными отворотами и с лихим, военно-республиканским видом расхаживали по улицам; стены были облеплены политическими афишами, на бульварах и больших улицах толпы мальчиков и девочек продавали с криком и с разными шалостями журналы и брошюры. – Знаменитый крик: «Demandez la grrrande colère du Père Duchêne pour un sou – il est bigrement en colère le père Duchêne!» раздавался между сотнею новых возгласов. – «„La vraie république”, „La vraie république”, journal du citoyen Thoré, la séance d’aujourd’hui avec le discours du citoyen Ledru-Rollin, fameux discours – – pour un sou! – cinqcentimes!»[350]
Мелкая торговля, отталкиваемая в дальние кварталы и переулки чопорной полицией Дюшателя, рассыпалась по бульварам и Елисейским Полям, прибавляя цыганскую пестроту и <…> жизнь. При всем этом не было слышно ни о каких беспорядках и середь ночи можно было ходить по всему Парижу с величайшей безопасностью. –
Собрание открылось накануне моего приезда. Это не было торжественное, полное надежд открытие Собрания 89 года. Народ и клубы его встретили с недоверием, правительство презирало его в душе; все нюансы и различия политических партий, не соглашаясь ни в чем, – были согласны, что это Собрание ниже обстоятельств. От недоверия к представителям заставили их, по предложению генерала Курте, выйти к народу и провозгласить республику, большинство сделало это à contre cœur[351]. Республиканские журналы приняли с свистом жалкое Собрание, Косидьер хотел его выбросить за окошко, – очень жаль, что не исполнил своего желания. – Горестная судьба Собрания, которое было ненавидимо прежде, нежели успело сказать слово! Первые заседания, ожидаемые с страшным нетерпением, – поразили всех необычайной бесцветностью. Характер Собрания обозначился при этом первом приеме: оно бросилось в подробности, занялось вопросами, положим, дельными, но второстепенными; попавши на эту дорогу, можно было месяцы целые работать до поту лица и не добраться ни до одного из важных вопросов, которые дают резкий тон и обозначают целый переворот. – Время представительных собраний миновало так, как время конституций, – попавши на собрания, даже хорошие люди становятся пустыми болтунами, лишаются энергии, увлекаются большинством или духом котерий, – если парижское Собрание грубо и цинически подтверждало наши слова, то разве многим лучше франкфуртское, берлинское, венское – они везде испортили лучшие порывы народа, отклонили его от прямых путей, заменили действие речами, революцию – дебатами. Национальное собрание, следуя благородной поговорке «Charité bien ordonnée», вотировало тотчас страшную власть своему президенту, в силу которой ему дозволяли призывать Национальную гвардию не токмо парижскую, но и из департаментов на защиту Собрания. Из этого видно, что Собрание боялось; с первых дней обозначалась одна из существенных сторон его характера – трусость, от которой всегда, с одной стороны, бездушный террор, с другой – рабство, уступчивость. – Явился Ламартин на трибуне с длинным отчетом, написанным его известным напыщенным слогом; он смирялся перед Собранием, льстил ему, называл его повелителем и самодержцем. Собрание было довольно и предложило вотировать, что Временное правительство a bien merité de la patrie[352]; оно терпеть не могло Временное правительство, но ему казалось, что это – учтивость за учтивость, оно хотело на почине объявить свое спасибо правительству за его смиренный вид. Казалось, это пройдет без спора – но вышло не так. Эта учтивость дала повод к первому замечательному прению. На трибуну взошел Барбес. Его появление сделало сильное влияние, все ждали, зачем этот человек потребовал речи. Такие люди даром не говорят. Барбес, которого «Северная пчела» учтиво называет «каторжник» и «злодей», пользовался страшной привилегией людей, которых чистота выше всякого подозрения, его убеждения были ненавистны Собранию, его личность, его прошедшее, его известность внушали неловкое, досадное, но непреодолимое уважение. Барбес требовал, чтоб прежде нежели покроют благодарностию все действия правительства, надобно потребовать от него отчета во многом. «Я протестую, – говорил он, – против ряда действий, которые его лишили народности. Я напомню убийство в Руане» – – при слове убийство бешеный крик «à l’ordre!» перебил оратора, он выждал и продолжал – «я говорю об убийствах, сделанных Национальной гвардией в Руане (шум). Я напомню колонны поляков, немцев, белгов, отданные на истребление. Когда эти вопросы уяснятся, будем благодарить правительство, но не прежде. До тех пор я протестую против этой благодарности во имя народа!»
Собрание на зло Барбесу вотировало тотчас благодарность децемвирам. Барбес остался с десятком своих друзей против всего Собрания. Грустно и задумчиво качая головой, сел он на свое место и замолчал до 15 мая. Замечательно, что ему отвечал один оратор, защищая резню, и этот оратор, рекомендовавшийся Парижу такою речью, был Сенар, представитель руанский и участник в кровавом деле. Кто думал тогда, что этому Фуше, этому Карье достанется печальная слава устроить с Каваньяком и не такую резню!
Отблагодаривши Временное правительство, Собрание назначило исполнительную комиссию из пяти членов (Араго, Гарнье-Пажес, Мари, Ламартин, Ледрю-Роллен), комиссия составила министерство из журнальных поденщиков «Насионаля» и из знаменитого стенографа Флокона. Марраст остался в мэрии и оттуда передергивал людей и подсовывал своих корректоров и батырщиков. Самое жалкое и самое преступное назначение было, без сомнения, назначение Бастида министром иностранных дел – человека тупого, ленивого, без малейшего образования. Луи Блан и Альбер были отстранены от правительства – слово «социализм» делалось уже позорным клеймом в глазах мещан-представителей. Говорили об устройстве особого министерства работ, но Собрание и слушать не хотело. Все демократические клубы вотировали поздравления Луи Блану и Альберу. Члены исполнительной комиссии, напротив, потеряли последнюю популярность выбором министров – на них смотрели как на ренегатов.
Четвертое мая открылось Собрание – десятого оно было ненавидимо всем Парижем, исключая партии «Насионаля». Каждый день ронял его в общественном мнении. Так, например, упорное отвращение Беранже от звания представителя, его письма по этому предмету, исполненные вольтеровской остроты, и необходимость Собрания принять, наконец, его отставку – деморализировало Собрание всею славою любимого народного поэта. После десятого мая все ожидали чего-то, всем казалось невозможным, чтоб эта торговая баня, чтоб толкучий рынок продолжал стоять во главе Франции и Парижа. Журналы были полны укора, в кафе, на улицах все говорили с жаром против Собрания, на площадях и углах собирались всякий день группы, в клубах делались, как говорят, зажигательные предложения, произносились судорожные речи. Так подошло наконец пятнадцатое мая.
Авторские переводы
Lettres d’un Russe de l’Italie*
30 juin 1850
Nice
Me voilà encore une fois à Nice si chaude, si aromatique, si calme et maintenant complètement déserte.
…Il y a deux années et demie, j’avais entrevu Nice, je cherchais alors des hommes, les grands centres de mouvement, d’activité; beaucoup de choses étaient neuves pour moi, m’attiraient, me préoccupaient. Plein d’indignation, je pouvais encore me réconcilier. Plein de doutes, je trouvais encore des espérances au fond de mon cœur. Je me hâtai de quitter la petite ville ayant à peine jeté un coup d’œil distrait sur ses environs si pittoresques. Le bruit solennel del Risorgimento se répandait par toute la péninsule… Je ne pensai qu’à m’arracher au plus vite de Nice pour aller à Rome.
C’était vers la fin de 1847… Maintenant je reviens à Nice, la tête baissée comme le pigeon voyageur de la fable, ne cherchant qu’un peu de repos. Maintenant je m’éloigne des grandes cités, je fuis leur activité incessante, qui ne produit rien de plus en Occident que le désœuvrement nonchalant en Orient.
Après avoir cherché longtemps où m’abriter, j’ai choisi Nice, non seulement pour son air si doux, pour sa mer si bleue, mais aussi parce qu’elle n’a aucune signification politique, scientifique… ou autre. Je répugnais moins à aller à Nice que partout ailleurs. C’était comme un couvent tranquille dans lequel je pensais me retirer du monde – tant que nous serions inutiles l’un à l’autre. Il m’a beaucoup tourmenté, je ne m’en fâche pas,je sais que ce n’est pas sa faute… mais je n’ai plus ni force, ni désir de partager ni ses jeux féroces, ni ses récréations banales.
Cela ne veut pas dire que je me sois fait moine à tout jamais, que je me suis lié par un vœu indissoluble. Le genre humain et moi nous avons quitté l’âge où de pareilles plaisanteries étaient en vogue. J’ai agi beaucoup plus simplement, je me suis écarté prévoyant un long hiver et ne voyant aucun moyen d’empêcher cette morte saison.
Et c’est un bien grand bonheur qu’il y ait encore un coin de la terre – si beau, si chaud – où l’on puisse rester tranquille…
…Quand je pense à l’existence que j’ai traînée à Paris les derniers mois, une agitation pleine d’anxiété s’empare de moi. Ces souvenirs me font la même impression que le souvenir d’une opération récente. Je sens de nouveau l’approche des bistouri et de la sonde.
Depuis matin au soir toutes les fibres de l’âme étaient brutalement froissées. Un coup d’œil sur les journaux, sur les débats de l’Assemblée, sur les rues, suffisait pour empoisonner chaque vingt-quatre heures.
Non. Le royalisme, ni le conservatisme n’ont abaissé ces hommes jusqu’à une telle corruption, au contraire, ce sont les hommes qui ont dépravé le royalisme et le conservatisme à ce point de cynisme éhonté.
Le royalisme est une espèce de religion sociale, il n’exclut ni noblesse, ni dignité. C’est un anachronisme – ce n’est pas un crime. Le conservatisme est une théorie, une manière de voir, c’est le présent considéré au point de vue du passé, il est stationnaire, mais non dénué de pudeur, d’honneur, de probité. Qu’y a-t-il de commun entre les Stafford, les Malesherbe, les tories et ces intrigants ignobles qui surnagent à la surface de la société française? Les députés, les littérateurs, les journalistes du parti de l’ordre se sont tellement confondus avec les instruments les plus vils du pouvoir qu’on n’est jamais sûr, avec qui on a à faire si c’est avec un homme ou avec un espion.
La majorité de l’Assemblée, les journaux réactionnaires sont des organes fidèles non du royalisme mais bien de cette génération de Français qui, née sous le despotisme soldatesque de l’Empire, épanouit la floraison sous le parapluie du roi-citoyen. Cette génération ne croit ni à la monarchie, ni à la révolution, ni au catholicisme, ni à la république… Elle veut jouir en toute sécurité pendant quelques années encore, elle veut exploiter la position le plus longtemps possible.
C’est la doctrine d’Esaü vendant ses droits pour un mauvais potage de lentilles.
Pour exploiter, pour jouir – il leur faut l’esclavage, et ils le désirent avec frénésie, pour que le maître garantisse leur avoir et leurs bénéfices. A ce prix ils ont tendu la main aux polices de tous les gouvernements hostiles à la France, ils ont donné leurs enfants aux jésuites qu’ils détestent.
Jamais on n’a fait tant de sacrifices pour la liberté qu’on en fait maintenant pour l’esclavage!
Les journaux de l’ordre représentent les mouchards comme anges gardiens de la société. Les espions publient leurs mémoires, L’Assemblée Nationale invite l’empereur Nicolas, «cet Agamemnon, ce roi des rois» à mettre fin aux désordres de l’Europe… Le Constitutionnel, La Patrie – c’est quelque chose dans le genre de Justine politique, des élucubrations éhontées, dépravées dans le genre de De Sade et qui n’en diffèrent que par l’objet.
La civilisation n’oblige à rien les conservateurs français; de ce côté ils sont tout à fait libres, complètement émancipés. Sophistes couvrant d’une politesse banale et stéréotypée un fond de dépravation et de férocité sans bornes – ils ont très bien conservé la nature de tigre-singe dont parle Voltaire…
J’ai suivi avec horreur et curiosité… avec cette curiosité mêlée de dégoût que nous sentons lorsqu’on nourrit devant nos yeux un boa-constrictor avec des lapins vivants… les débats sur la déportation.
Je ne parle pas de l’absurdité de condamner à la prison perpétuelle pour des faits politiques accomplis quelques jours après une révolution, lorsque les esprits sont encore agités et les institutions n’ont pas encore acquis de stabilité. C’était un fait hideux, mais un fait accompli. Ce qui est colossal pour moi, c’est qu’il se soit trouvé une réunion d’hommes au nombre de 700 qui ait consenti de retourner après deux années dans les cachots, dans lesquels elle jeta ses propres adversaires, avec l’intention de déculper leur punition!
Il faut savoir ce que c’est qu’une prison française en général. La différence avec Spielberg et la forteresse de Pétersbourg, avec Spandau et Rustadt n’est pas si grande qu’on le pense. C’était une de ces erreurs, par lesquelles les libéraux de l’époque de Louis-Philippe se consolaient eux-mêmes et trompaient le peuple[353].
Mais si les prisons françaises valent bien le Castel S. Elme, la déportation à Nouka-Hiva est bien plus terrible que la Sibérie. Le climat de la Sibérie est très rigoureux, mais très salubre. Les déportés qui ne sont pas envoyés aux mines sont libres dans leur district. Les femmes et les enfants peuvent suivre leur mari, <leur> père.
Je n’ai pu comprendre les murmures des honorables législateurs lorsque Pierre Le Roux a dit que «Nouka-Hiva était une Sibérie ardente». C’était à Kisseleff, l’ambassadeur russe, à s’offenser qu’on assimilait la Sibérie à ces piombi de l’océan.
Mais Nouka-Hiva n’était pas encore suffisante pour les ministres et les représentants, ils proposèrent d’élever une prison sur cette île marécageuse, brûlée par le soleil tropical et couverte de mosquittes. Ils veulent avoir une bastille républicaine et équatoriale – pour y envoyer leurs ennemis, même ceux qui étaient déjà condamnés antérieurement.
Lorsqu’un dernier vestige de conscience de justice s’est réveillé chez Odillon Barrot contre cette absurdité juridique, lorsqu’un remord, peut-être, appela à la tribune un général pour proposer une enceinte fortifiée au lieu d’une prison, – c’est alors qu’il fallait voir les Iroquois de l’ordre! Des sons inhumains s’échappèrent pendant le scrutin des lèvres tremblantes de ces vieillards fauves, de ces avocats impitoyables! Ayant perdu les deux points, ils se cramponnèrent au troisième avec la furie d’une louve à laquelle on veut arracher ses petits, et ils le firent passer… «Les familles des condamnés n’ont pas le droit d’accompagner leurs chefs à la déportation – c’est une grâce que le ministre peut refuser. – «Les condamnés politiques, les ennemis de la société n’ont pas de famille», – a dit un des orateurs.
…Et une langue humaine a trouvé, au beau milieu du XIXe siècle, ce siècle de lumière et de civilisation – assez de force pour prononcer publiquement ces paroles! Comment a pu s’élever à cette hauteur de lâcheté le cynisme politique… Je ne le sais, c’est un mystère de l’éducation de ces gens…
Demandez-leur – ils vous répondront qu’ils sacrifient tout ce qui est humain pour défendre la société, la religion, la famille. Comment la défendre, contre qui?.. Une société qui tombe en pièces a son ennemi dans son cœur, dans son sang…
Elle doit être belle pourtant, la société défendue par Thiers.
La religion – défendue par Thiers!
La famille – défendue par Thiers!
Thierus, salvator societatis, redemptor – usurae et proprietatis defensor… ora pro nobis!
Pauvre Jésus Christ! A quels temps de misère es-tu parvenu…
Je dis Thiers… car il est le plus parfait représentant de la majorité, de cette majorité audacieuse en apparence et humble en fait, majorité joviale qui en riant et faisant des phrases déporte des milliers, qui n’a qu’un Dieu – le capital – et son prophète – la rente… n’a d’autre Dieu à côté de lui.
Thiers – causeur inépuisable, léger, superficiel, mutin et aimant l’autorité; libéral et couvert du sang de Lyon; esprit fort qui a dicté les lois de septembre – oui, c’est le type dela majorité rentière! Même son extérieur de vieillard mignon avec de petites jambes dodues, avec un ventre agréable, avec son air de majordome, de Figaro à cheveux blancs – est un idéal – représente très bien la couche grasse qui se répand comme l’huile sur toute la société moderne!
Qu’on ordonne donc au plus vite de couler une statue de Thiers, en airain, une statue avec des lunettes, avec son costume d’été et son sourire de toutes les saisons. Sa place est toute trouvée; il remplacera la danseuse d’opéra sur la colonne de Juillet. A la Place de la Bastille – Thiers; à la Place Vendôme – son empereur. L’époque héroïque de la bourgeoisie allant conquérir le monde et l’époque de floraison de la bourgeoisie jouant le monde à la bourse!
– Tout cela est bien triste, bien déplorable, – me disaient mes braves amis atteints d’une espérance chronique et d’un optimisme incurable, – mais c’est passager; il ne faut pas se méprendre… Attendez un peu; nos ennemis veulent toucher de leurs mains «sacrilèges et liberticides» au suffrage universel. Le peuple se lèvera comme un seul homme pour défendre le plus sacré de ses droits…
Je secouais la tête sans rien dire. Deux mois se sont écoulés. Le suffrage universel est aboli, et pas un homme ne s’est levé. Le peuple est resté dans le calme «majestueux et imposant» qu’on lui prêchait tant, calme, dans lequel reste un homme dévalisé au milieu d’un chemin désert, content de n’être pas assassiné ni estropié.
Mais les hommes frappés d’espérances à perpétuité me rient au nez… «Vous n’y comprenez rien, le gouvernement est tout proche de sa chute… regardez, regardez comme il se penche!..»
Je regarde… Le gouvernement devient de plus en plus stable…
– Mes amis, – leur disais-je, – il tombera, pas le moindre doute; tout passe dans ce monde, et la passion du changement est le bon génie de la France… Mais ce n’est pas par vous ni pour vous que le régime actuel tombera. Le peuple n’est ni pour le gouvernement ni pour vous. La lutte entre les formes gouvernementales ne l’intéresse pas. Il vous suffit, à vous, d’avoir les mots; le peuple ne désire que les choses,votre liberté formaliste ne le tente pas. Le peuple n’est pas avec vous parce que vous devez être avec lui. Vous devez enfin sérieusement l’étudier – non dans les livres mais dans les chaumières, – et non lui – donner son sang pour des essais de révolution expérimentale. Il faut abandonner la vieille routine… ou être prêt à passer à l’état d’anachronisme vivant, de revenants, de rareté historique, paléontologique – comme les légitimistes, les jésuites et autres fossiles.
– Il est beau d’espérer… mais il est diablement utile d’analyser!
Mais je quitte mes amis… pour ajouter encore quelques mots sur Paris.
Il est difficile de s’imaginer de loin ce qui se fait ici. Aucune de ces petites, pauvres garanties, données par le code à l’individu n’existe plus; une terreur policière domine la ville, une terreur féroce et hypocrite qui se tient dans les ténèbres, qui se cache derrière le mur, qui écoute derrière la porte. Les secrets de famille, les confidences amicales, tout tombe dans les mains sales des laquais de l’inquisition laïque. On fait des perquisitions on emporte les papiers – on ne restitue que les notes des tailleurs et des bottiers.
On craint tout le monde… On craint les portiers, les соmmissionnaires, ses domestiques et les trois quarts de ses amis. Les uns dorment ailleurs que chez eux; d’autres portent toujours un passeport visé pour quelque pays libre. Au coin des rues rôdent des figures patibulaires en redingote qui n’est pas faite à leur taille, en chapeau râpé, avec une moustache militaire. Ces êtres reconduisent les passants par leur regard, les suivent, les montrent à d’autres… Ce sont les anges gardiens de la société!
Le soir, des bandes d’espions vont à la chasse des journaux qui n’ont pas l’autorisation de la vente dans les rues. Par de petites ruses, en se parjurant, en mentant, ils parviennent à acheter un numéro de L’Evénement… Ils sifflent alors et d’autres en <…>[354] sieurs embarqués s’élancent sur la petite boutique ou sur la table d’étalage – tout est déchiré, brisé… Une vieille femme, qui perd là son dernier avoir, se lamente, pleure; on la traîne, on la bouscule, on la maltraite et on l’amène à la préfecture avec un enfant demi-nu, qui n’a rien mangé et sur lequel on a trouvé pour trois sous d’ Estafette. Les passants regardent ces scènes dégoûtantes en se taisant… et vont leur chemin, heureux de ne pas être compromis… Tout à fait comme à Varsovie après le triomphe de l’ordre ou à Pétersbourg où l’ordre triomphait toujours.
Et qui est-ce donc celui qui fait to<…>[355]
Une société anonyme d’intrigants po<litiques>[356], joueurs de bourse, s’appuyant sur la com<…>[357] <pub>lique[358], sur la sympathie de la bourgeoisie <…>[359] par les pirates de la police et les condottieri, écrase, opprime, abaisse la France et reste <…>[360] anonyme! – West-french company!
Dans une tyrannie – sans tyran – il y a quelque <chose>[361] de plus dégoûtant que dans l’oppression par<un>[362] monarque. Là, on sait au moins qui haïr – on a une mire…
Cette «Gallican-exploration company» a un chef central de la police – un commissaire des commissaires, un homme qui a obtenu 6.000.000 de votes en mémoire de ce que son oncle opprimait pendant 15 ans le même peuple et parsema les champs de
l’Europe entière de cadavres français pour faire possible la rentrée des Bourbons.
Mais le président n’est pas la cause du mal, il en est le résultat. Le principe morbifique est ailleurs, et d’abord, qui est-il, cet homme?
J’ai eu beau le regarder, je n’ai vu dans ses traits vulgaires,dans ses petits yeux torves, dans son nez d’une ignoble capacité – que des qualités négatives… et c’est ce qui m’a fait peur; c’est pour cela, pensai-je, qu’il sera grand, car il est de son temps.
L’honneur de produire ces hommes fades, effacés, négatifs, sans sexe, sans talents et jouant un rôle historique – appartient exclusivement à notre siècle. J’ai vu de mes propres yeux le roi de Prusse, Pie IX et Louis Bonaparte – ce sont des vanités de la même famille <…>[363]
Lorsque j’ai passé le pont du Var, et un carabinier piémontois m’a demandé mon passeport pour l’inscrire, – je respirai avec liberté.
J’ai honte, je rougis pour la France et pour moi-même, mais je l’avoue, le même sentiment s’empara de mon âme lorsque je passai la frontière russe.
Enfin je laissai derrière moi cette contrée de la torture morale, de l’irritation fébrile, d’indignation, de colère. De ce côté du pont je serai étranger à tous, je ne connais pas les intérêts de ces gens, je ne les partage pas; je n’ai rien à faire avec eux, ils n’auront rien à faire à moi. Ici je peux être négativement indépendant, me reposer… jusqu’à ce que la Sainte Hermandade de la police universelle ne commencera sa croisade d’épuration dans le Piémon.
Le carabinier me remit le passeport.
…«Visto da reg. carab. al Ponte Varole il 23 giugno 1850».
Je quittai donc la France le jour de l’anniversaire terrible du 23 juin. Je regardai la montre. Il était quatre heures et demie арrès-midi.
Il y a deux ans, à cette heure, une lutte immense et fatale se préparait encore; je regardais, appuyé à l’angle d’une maison sous des torrents de pluie comme on terminait une énorme barricade près de la Place Maubert.
– Le cœur battait avec force, et je pensais: «Tоbe or not to be».
Not to be – décida le sort. La révolution était vaincue. L’autorité prit le dessus de la liberté, la question qui agitait l’Europe depuis 1789 fut résolue négativement. La honte de la prise de la Bastille fut lavée sur la place même par la canonnade de Faubourg St. Antoine.
Après les journées de Juin il ne restait que d’en tirer les conséquences.
La chose principale était faite. La république monarchique sauva la monarchie absolue.
La révolution était vaincue non à Vienne, non à Berlin – mais à Paris; vaincue non par les Anglais, non par les Russes, non par les émigrants et les Bourbons – elle était vaincue par les républicains au nom de l’ordre – de quel ordre? L’ordre de la rédaction souveraine du National,l’ordre qui amena à l’élection de Louis Bonaparte, à l’état de siège, à la prise de Rome et qui amènera encore à la barbarie du despotisme. Le sang des journées de Juin a oint de nouveau tous les monarques, tous les pouvoirs!
Le caractère de l’agonie du vieux monde se détermina. Il mourra par l’esclavage, par le marasme de la stagnation, par le mal byzantin: la liberté l’aurait poussé à la tombe, elle en est indigne.
Un cosaque du Don viendra à son heure réveiller et chasser ces porphyrogénètes et ces Paléologue… Si par hasard ils ne sont pas révéillés avant par le son terrible de la trompette du dernier jugement; du jugement qui tiendra dans des assises immenses le socialisme vengeur, cette Némésis populaire. Il n’y aura pas d’appel contre la sentence, pas de refuge chez les Marrast et les Cavaignac, – il n’y aura plus ni Marrast, ni Cavaignac. Le Communisme est près de l’âme du plébéien français qui sent si profondément la grande injustice du fait social qui l’opprime – et si peu le respect dû à la liberté individuelle.
– Après les journées de Juin, pas un seul rayon d’une prochaine espérance n’est entré dans mon cœur. Que de fois j’avais des disputes sans fin avec mes amis; ils me nommaient pessimiste, ils ne voulaient pas voir ce qui s’était accompli, ils insistaient à me faire partager leur foi dans l’avenir. Je ne pouvais faire une pareille concession. J’étais prêt à partager avec eux les dangers, les persécutions, j’étais prêt à périr… non par résignation, ni par exubérance de courage – mais bien par ennui et parce que cela me plaisait de rester avec mes amis. Partager volontairement leurs erreurs, leurs illusions – cela au contraire ne m’était pas possible. Je ne pouvais me détourner de la vérité, parce qu’elle était laide, m’arrêter devant elle en la niant – parce qu’elle était accablante.
– Et où sont maintenant ceux avec qui je discutais après les journées de Juin – les uns dans la prison, les autres disséminés… l’un a déjà longtemps traversé l’Océan, un autre est au Caire, – un autre se cache en Suisse, un autre – en Angleterre.
Lequel de nous avait raison?
Mais il suffit… Devant ma fenêtre s’étend la Méditerranée, je suis sur la sainte côte de l’Italie. J’entre avec paix dans le port et je tracerai sur le seuil de ma maison l’antique pentagrammepour en éloigner tout esprit d’agitation et de démence humaine.
Traduit à Lugano
2 juillet 1852.
Nice, 1 juin 1851
J’ai tenu ma parole. J’ai passé une année entière dans mon hermitage sans avoir écrit d’épîtres éthico-politiques, sans en avoir lu d’autres publiées par nos amis et tâchant d’oublier ceux qui me tombèrent antérieurement sous main. Assis avec contrition et résignation au bord de la Méditerranée, j’attendais… le beau temps… Mais le beau temps ne venait pas, au contraire tout s’empire, se rembruni<e>.
La paix que je cherchais dans ce port tranquille, je ne l’ai pas trouvée. C’est en vain que j’avais tracé le pentagramme… peut-être il préserve des esprits impurs, mais aucun polygone ne peut préserver de l’impureté des hommes – si ce n’est le carré d’une prison cellulaire.
Temps ennuyeux, lourd… chemin fatigant, poudreux, entre les deux relais – celui de 1848 et celui de 1852… Une continuation maigre du premier… et pour toute distraction quelque malheur personnel qui vient vous achever, vous briser définitivement votre poitrine meurtrie – une roue quelconque de votre char qui vole en éclats et vous estropie.
Mais enfin, de manière ou d’autre nous sommes parvenus jusqu’au mois de juin 1851… C’est un bon petit bout de chemin; traînons-nous par ce sable profond, par cette boue argileuse… on ne peut rester au milieu.
Варианты
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В разделах «Варианты» и «Комментарии» приняты следующие условные сокращения:
1. Архивохранилища
ЛБ – Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва.
ПД – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.
ЦГАОР – Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства. Москва.
2. Печатные источники
ЛН – сборники «Литературное наследство».
ОЗ – журнал «Отечественные записки».
С – журнал «Современник».
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ
ПИСЬМА ИЗ AVENUE MARIGNY
ВАРИАНТЫ ПЕРВОПЕЧАТНОГО ТЕКСТА (С)[364]
Письмо первое
Стр. 15
1 Перед: Письмо первое – эпиграф: «Aus der Ferne…» Музыка Шуберта.
2 Дата в начале письма отсутствует.
6 После: соборов // свеженьких личик,
7 После: дебаркадеров // исторических воспоминаний, гостиниц, чувств и тринкгельдов!
11 После: хлопот… // Я наконец до того разъездился, до того обжился в вагонах, что, бывало, так и тянет, и поедешь куда-нибудь без всякой нужды, в Брюжж, в Остенд, в Антверпен; я даже, как Гизо, побывал в Генте и оттуда, как Людовик XVIII, прямо попал в Париж.
11 Вместо: Зато ничего // Ничего
14 Вместо: ехать далее // далее ехать
20 После: на Сене… // Сделайте одолжение, не бойтесь:
Стр. 16
3 После: замечательных // и достопримечательных
6 Вместо: М. П. Погодина // г. Погодина
19–20 Вместо: не сгорел бы он // он не сгорел бы
22 Вместо: окончат // сделают минденскую и
33–34 Вместо: не успеешь ~ в Ситке – // дни через два в Ситхе
Стр. 17
13 Вместо: приготовила // приготовляла
16 Перед: другие // многие
32 После: французов // освободивших их, в свою очередь, кой от чего
Стр. 18
13 Вместо: но есть же // т. е. в земле
15 После: к солнцу // Что выработает желудок, то и будет в голове и сердце.
21 Вместо: картофелем, что за // картофелем, за
22 Перед: каждый // почти
34 После: читали) // в 6 часов, – говорит он, –
Стр. 19
25 Вместо: и нераздельной // кухне, к великой
35 Вместо: И Рейн славная река // Славная река
Стр. 20
26 Слово: ограниченного // отсутствует.
29 Вместо: на Рейне // здесь
33 После: пор? // Подчас тяготят в Европе
34 Вместо: дают Европе // они дают ей
Стр. 21
1 Вместо: наследственных // завещанных
10–11 Вместо: с ее нажитым опытом и с ее нажитой мудростью // с нажитым опытом и с нажитой мудростью
14 Вместо: законно // прочно
16 Вместо: мало // меньше
20–21 Вместо: Северной Америки – высокая терраса, фундамент // Северной Америки его высокая терраса – фундамент
27 Вместо:…И вот // И вот уже
28–29 Вместо: зимою снежной // зимою, – зимою снежной
Стр. 22
15 Вместо: блинами // блинками
18 Вместо: предки их // предки
30 Вместо: амбар // дом
34 Слово: жизнь // отсутствует.
36 Вместо: Где // Где же
38 После: вопрос // археологический,
Стр. 23
8 Вместо: с введения // введения
11 Вместо: и, пока // пока
17 Вместо: от нее // ее
22 После: положении // при стоячести
34 Вместо: легость // легкости
Стр. 24
3–4 Вместо: нашей подражательности // подражательности
9 Перед: скорее // то
19 Вместо: будет // осмелится
22 Вместо: вся эта // все это и
23 Вместо: все время // время
24 Вместо: вспоминали // вспоминают
24 Вместо: наши отцы // отцы
24–25 Вместо: принадлежат // принадлежит
25 Перед: славянофилы // наши добрые
32 Вместо: русских личностей // личности
Стр. 25
4 После: наше // выработанное
13 Вместо: с их луговою // с луговою
15 После: пока // наконец
19 Вместо: белая // сальная
23 После: старичок // немец
24 После: немцам, // и
26 Вместо: советовал // посоветовал
Стр. 26
17 Вместо: знаком им, как // знакомый, впрочем,
26 После: жизни // около которого развивался букет огородных овощей
28 После: городок // Кенигсберг!
Стр. 27
5 Слово: Kellner // отсутствует.
8 После: Ну // что же
14 Вместо: Чухотского // Чукотского
27 После: пришло // Действительно, странное время. Возьмите Париж, этот город городов: он только и держится Рашелью и Гизо, да и та едет на днях в Лондон, да и тот, говорят, идет на покой.
Кстати, о театрах в Париже; но это будет еще более кстати в следующем письме.
1/12 мая 1847.
Письмо второе
Стр. 28
В С в начале письма дата отсутствует.
3 Вместо: в нашем веке // в наш век
4 После: страшная // и что Рашель едет в Лондон;
4 После: века // во-первых, что Рашель уехала, а во-вторых
5 Вместо: в нем // в наш век
13 Вместо: царств природы // царства природы и распределение искусств
14 Вместо: везде потеряны пределы // потеряли пределы между животными и растениями, между обезьянами и людьми
22 Вместо: а нашел // – нашел
24 Перед: признаки // лишь
24 Слово: прежней // отсутствует.
Стр. 29
1 После: бродить // и
1 Вместо: Возьмешь // Возьмем
2 Вместо: знаешь // знаем
3 Вместо: Мне захотелось, например // Вот, например: Рашель едет
в Лондон, – повод, по которому захотелось
7–8 Вместо: туда-то // там-то
12 Вместо: Нельзя // Уверяю вас, что нельзя
20 Вместо: Между тем // Что же это такое?
21 Вместо: «хвосты» // queues
21 Вместо: входа. Стало // входа? Ясное дело:
25 Вместо: и // или
28 Вместо: Знаете ли // Как вы думаете
30 Перед: Работники // «Тюльери, канкан?» – «Нет, нет и нет!»
30 Вместо: швеи, даже слуги // консьержи, garçon de café,швеи, слуги, даже солдаты
Стр. 30
8 Вместо: вообще нет // нет
14 Вместо: им // деньгам
16 Вместо: но не продаст // но он не продаст
19–20 После: с прислугой // Madame, voulez-vous bien me dire si M. N. est à la maison?[365] – спрашивает гость y жены консьержа. – Voulez-vous bien m’annoncer[366], – говорит он слуге в передней.
29 После: служит // только
35 Вместо: с ними // с ним
Стр. 31
7 Перед: Журналы // Повар-политик? Да это умора!
8–9 Вместо: новоприезжего помещика // иностранца
12 Вместо: их тип – это // тип
16 Вместо: «Избалованность», о которой мы говорили // Эта «избалованность», или как вам там угодно назвать
19–20 Слова: и работников // отсутствуют.
24 Перед: смирения // ложного
31 После: Франции // мать величайшая святыня для француза
32 Вместо: учители // учителя
Стр. 32
1 После: рассказы // показывались рубцы и текли слезы по щекам, опустившимся от лени, бедности и утраченных надежд.
1 Вместо: Такое воспитание должно было // Такие рассказы должны были
6 После: за // милое
6 После: к детям! // Как жаль, что народ, развивший в себе такие прекрасные свойства, должен погибнуть, а делать нечего, я это знаю из верных рук, мне это рассказывали мудрецы «Вшивой Горки» и «Плющихи»…
16 Вместо: На // Нет, на
21 После: сапожников! // Что, смешно? – Очень смешно!
24–25 Вместо: себе на плечо // на плечо
26 Вместо: с рук на руки // с плеча на плечо
Стр. 33
2–3 Вместо: выражается театром // выражает театр
8 После: выкупается // и окупается не блузниками, не дюжиною способностей
9 (и в других случаях) Вместо: буржуазия // буржуази
13 Вместо: во время Наполеона // до чего касался Наполеон
16 Вместо: тупо-рельефно // тупо-горельефно
30 Вместо: он не может сбросить ее // он ее не может сбросить
Стр. 34
16 После: Франции // особенно потому, что везде есть толпа пошлых людей, которые далее и не пойдут, которым в глаза бросится сыпь, из-за которой не сумеют разглядеть прекрасного лица.
18 Вместо: Она была // Оно было
18 Вместо: хороша // хорошо
19 Вместо: Ее сил // его сил
20–21 Вместо: она не могла: не так воспитана // оно не могло: не так воспитано
27 После: утратив // все
29 Слова: Он вольноотпущенный // отсутствуют.
Стр. 35
1 После: сыты // республика без денег, продает земли, они их скупают
1–2 Вместо: выгодно поставляют // поставляют
5 Вместо: делается // делают
11 Вместо: с площади // с негодованием
12 Вместо: у всех дверей // у дверей
12 Вместо: впускать // пускать
16 Вместо: непреклонных // непременных
20 После: Один // пресмешной
30 Вместо: том // этом
Стр. 36
3 Вместо: любил // любит
15 Вместо: француженки по bal de l’Opéra // порядочной женщины по bal Mabille
17 После: саду // по милым существам, порхающим по бульварам
20 Вместо: блеска, наслаждений // блеску, наслаждений, жизни
21 Вместо: Ей // Но ей
25 Вместо: куртизаной // куртизанкой
30 Вместо: любовница // возлюбленная
34 После: всей // этой
Стр. 37
8 После: формах // в легкости речи
12 Вместо: умел // умеет
14–15 Вместо: се quelque chose // quelque chose
17 Слова: Он же ведь лучше! – отсутствуют.
24 Вместо: только сальное остро, только // все сальное остро, все
31 Вместо: служителем // комиссаром, –
Стр. 38
2–3 Вместо: не убийство, нет, – совсем противоположное, – //…убийство, вы думаете? – о, нет, совсем нет!
3 После: люблю // подчас
5 Вместо: оскорбительное // скорбное
8 Вместо: вечер // день
13 Вместо: Ни Дежазе, ни Левассор не изъяты // Сама мадмуазель Дежазе далеко не изъята
17 После: к «словам» // нынче все акции, фонды, дороги, – и к слову «дороги» // сноска: До чего может пасть вкус публики и даже всякий смысл, всего лучше доказывает возможность давать гнусности вроде «Chevalier de Maison Rouge» А. Дюма; я ничего не знаю ни отвратительнее, ни скучнее, ни бесталантнее, – а идет!
20 После: касается // до
23–25 Вместо: он разрешил ~ что делается // ему не хотелось заменить его уродливым чакó и туникой. Нет, умоляют: «Дай чакó, да и только!» Король разрешил им носить тунику и чакó, а сам остался попрежнему в старом мундире. Зато, посмотрите
26 Перед: вопль // делается
Стр. 39
3 Перед: P. S. // дата: 3 июня/22 мая
14 Вместо: и глинистой // глинистой
27 Вместо: от 1000 фр. в месяц до 500 в год. // от 700 фр. в месяц до 700 фр. в год.
Стр. 40
9 Перед: где // но
16 Вместо: большом // средней величины
20 Вместо: министры имеют свой. // Тест имел свой. Говорят, они шпионы, я этому не совсем верю: старая полицейская уловка – застращивать везде шпионами; что он будет доносить о воровстве, убийстве – это его обязанность; более: он обязан сержанту дать об вас справку; ну, а если он начнет подслушивать ваши слова, вам до этого дела нет: такие доносы совершенно бесполезны или, лучше, безвредны, разве могут служить для украшения памяти и сердца полицейских чиновников. Что доносить дворникам, где «National», «Réforme», etc., etc., доносят и полнее и красноречивее? Портье любит своих постояльцев, печется об их делах, оказывает всякие любезности им.
31 Вместо: два // три
33 Вместо: полбутылки // целую бутылку
34 После: в доме // средней величины
35 После: месяц // 5 по 10
Стр. 41
2 Вместо: 2 фр. // 3 фр.
3 Вместо: 1 фр. 50 с. // 2 фр. 50 сан.
7 Вместо: грязно // грязь
11 После: прислуге? // Середи дня?
12 После: портье // каменного ли угля принести,
27 После: постороннего // вам
Письмо третье
Стр. 42
В С дата в начале письма отсутствует.
14 Вместо: Ф. Пиа // г. Пиа
16 Вместо: мест // места
22 Вместо: Виндзорском // Вестминстерском
25 После: ирландцы!». // Пьеса Пиа богата хорошими местами, но растянута и преглупо развязана. Пожалуй, я вас познакомлю с ней маленьким очерком.
Стр. 43
7 Вместо: он // этот
9 Вместо: будут говорить // напечатают об этом
11,12 Слова: ходить к и заведением – отсутствуют.
14 Слово: ему – отсутствует.
23 После: Вот // торжественный вход, вот
25 Вместо: копающийся // копошащийся
31 Вместо: короба. // коробкá, –
Стр. 44
12 После: не бывала… // те шумят, уговаривают, шьют маску. Да как же не ехать!
17 После: меняется // «знакомые все лица»:
17 Вместо: камин // откуда… увы! я так часто выходил рано утром: – после обеда, без вас, любезные друзья. Камин
23 Вместо: веселые, живые //: веселы, живы
26 К слову «узнаете» подстрочное примечание: Живость, ловкость подобного рода сцен на парижских театрах превосходит всякое описание. Вообще добросовестность изучения ролей здесь доведена до невероятности.
32 Вместо: маску срывают // срывают маску
Стр. 45
12 Вместо: связь // симпатию
18 После: тысяч // франков
22 Вместо: и он // он
Стр. 46
3–4 Слова: Надобно ~ Шеве)… отсутствуют.
15 Вместо: не просят // не попросят
15 После: не англичане // не итальянцы
20 Вместо: дыры // диры
21 Вместо: разные мысли; // идеи, мысли, и
Стр. 47
1 Вместо: ему // что ему
9 Вместо: на этом же // на том же
38 Вместо: до высоты // на высоту
Стр. 48
12 Вместо: с бала // тогда
32 Вместо: явится // явился
37 Вместо: мало того // и мало того
Стр. 49
11–12 Вместо: «cinq centimes! Un sou!»[367] // «Pour un sou!»[368]
22 Вместо: отчего не кончить // отчего и не кончить
34–38 Вместо: Я говорил ~ Ф. Пиа прав! (1852) // С какою тщательностью французы ставят пьесы, может служить примером появление на одну минуту шпиона к г-же Потар; он является сказать два слова, и что это за верх прелести! разодет, изукрашен цепочками, отличнейшие бобер, бакенбарды, тросточка в руке, а так и видишь, что это шпион, в каждом движении шпион! И где они изучили этот тип?
Стр. 50
8 Вместо: с Расином. // вы думаете с Гюго, Дюма, Сулье?.. Нет, все эти господа, если не так противно пишут, как Скриб, то в своем роде скучнее и неестественнее. У Скриба, по крайней мере, жизнь из-за прилавка да и на сцену; а у этих все какие-то сумасшедшие разных веков ходят растрепанные по сцене, машут руками, кричат, и все помешались на одном пункте – на риторике. «С кем же вы познакомились в Théâtre Français?» – «С Расином». –
14 Вместо: уже было // было уже
Стр. 50–51
30-1 Слова: Робеспьер возил ~ приговоров. – отсутствуют.
Стр. 51
2 Вместо: его твердить // твердить его
19 Вместо: можно тоже назвать // можно назвать
19 Перед: именно // и
25 Вместо: Вы // Но вы
27 Слово: Рембрандта – отсутствует.
28 После: остановиться // надолго остановиться
30–31 Вместо: «Севильским цирюльником»? // полькой, таять от наслаждения, когда Тальони, бывало, танцует качучу (ах, как жаль, что она потолстела и состарелась и в сорок пять лет не нажила истинного друга, который бы ее не пускал на сцену!)?
32 Вместо: смотреть // когда дают
33 Вместо: вы входите // входите
Стр. 52
1 После: таким // каков он есть, берите его на своей почве, требуйте
9 Вместо: не полно, потому что // бедно, потому что эти
13 Вместо: Мадонны Рафаэля // Магдалина Мурильо
14 Вместо: в греческом искусстве нет // не ищите в греческом искусстве
15–16 Вместо: мы находим, например, в страстных глазах, особо рассеченных и суженных к вискам, египетских изваяний. // пышет из каменных черт египетских барельефов, – вспомните эти страстные, отравляющие, опьяняющие глаза, особо рассеченные и суженные к вискам.
21 Вместо: вполне изучить // изучить
22 Вместо: делаем // сделали
23 Вместо: судим // судили
24 После: и ими. // Я не стану более говорить о Расине, потому что ни вы, вероятно, не расположены слушать о нем, ни я не чувствую лагарповского призвания, но не могу забыть минуты истинного наслаждения, доставленные мне его трагедиями, особенно «Британником». – Нерон выдержан, замышлен, исполнен удивительно, и что за смелая мысль представить медовый месяц тиранства, тирана в зародыше, тирана будущего, слагающегося, и притом еще представить его слабохарактерным, так что становится понятно, что и свирепость его и отсутствие в нем всего человеческого – частию основаны на слабой, дрянной натуре его. < К слову: его – подстрочное примечание: Очень жаль, что Бовале дурно понял роль Нерона: он ни на минуту не забывает, что Нерон тиран, и ни разу не вспомнит, что он Нерон, а еще сам сочиняет трагедии, да ведь какие!..> Рашель играла Агриппину; это шалость гениальной актрисы, шалость, основанная на глубоком знании собственной силы, такая же натяжка, какую Марс делала в последние годы, играя молоденьких девочек. Она вышла торжествующей; но имей фантазию Шведенборга, и то не представишь себе, чтобы Бовале (Нерон) был сыном Рашели.
25 Вместо: самой Рашели // ней
36 Вместо: душить // задушить
36 После: врага // и исполниться злобы, гнева, суровости;
Стр. 52–53
38-1 Вместо: Она может сделаться страшна, свирепа… до «ехидного выражения» // Я на сцене ничего не видал выше свидания ее с Елизаветой в «Марии Стюарт».
Стр. 53.
5 После: голосом // Жорж не играет больше, она заводит драматические вечера, но они еще не начинались. Я ее не видал.
6 Вместо: Сестра ее Judith очень мила. // Расставаясь с Théâtre Français, как же не сказать чего-нибудь о Юдифи? А впрочем, что сказать, не знаю: игру ее трудно видеть, потому что все смотришь на ее прекрасные глаза, на ее милое, исполненное грации лицо.
8 Вместо: имя // ее фамилия
15 Вместо: античных форм итальянок // форм античных статуй, итальянок
22 Вместо: также далека // далека
25 Вместо: целых поколений // поколений, целого
Стр. 54
1 После: не обижайтесь // моим «изредка»;
12 Перед: цинизма // всего
14 Вместо: Любовь // Эта любовь
31 Слова: или Гегель – отсутствуют.
32–33 После: «Шаривари» – // и в «Корсере»
34 Вместо: мне нравится гораздо // меня приводит в восторг
Стр. 55
3 Вместо: да нет и // да и
9 Вместо: фокусник // фокусники
12 Вместо: несущийся // несущиеся
13 Вместо: шалости // и шалости
20 После: надувают // друг другу дают пощечины
23 Вместо: Как // Только
24 Вместо<:> 10 // двенадцати
26 Вместо: опираясь притом // опираясь
27–28 Вместо: и все это в половине июня // в половине июня
29 Вместо: Ну, и выйдемте! // Прощайте.
Avenue Marigny.
Июня 20/8.
ВАРИАНТЫ ИЗДАНИЯ 1855 г.
Стр. 7
24 Вместо: был откровенен // был свято откровенен
Письмо первое
Стр. 15
23 Вместо: чтобы не знал // чтобы не знать
Стр. 16
32–33 Вместо: словом, не успеешь опомниться – и опять в Ситке, в Сибири // словом, – дни через два в Ситке, в Сибири
Стр. 17
32 После: французов; // освободивши их в свою очередь кой от чего;
Стр. 18
13 Вместо: не совсем на месте, но есть же // не совсем на месте, т. е. в земле.
Стр. 21
1–2 Вместо: наследственных богатств // завещанных богатств
16 Вместо: мало // меньше
Стр. 22
18 Вместо: предки их // предки
Стр. 24
22–25 Вместо: А ведь ~ периоду» // А ведь все это екатерининская эпоха, о которой вспоминали, покачивая головой, деды наши, и время Александра, о котором вспоминают, покачивая головой, отцы, принадлежит «к иностранному периоду»
25 Вместо: славянофилы // наши добрые славянофилы
32 Вместо: и выступление русских личностей // и выступление личности
Стр. 26
37–38 Примечание: Я из этого ~ en Russie» – отсутствует.
Письмо второе
Стр. 28
24 Вместо: прежней наукой // наукой
Стр. 29
21 Вместо: длинные «хвосты» // длинные queues
Стр. 30
14 Вместо: им // деньгам
Стр. 31
16 Вместо: «Избалованность», о которой мы говорили // Эта «избалованность», или как вам там угодно назвать,
Стр. 32
26 Вместо: с рук на руки // с плеча на плечо
Стр. 33
8–9 Вместо: выкупается не дюжиною иностранцев: // выкупается и окупается не блузниками, не дюжиною способностей, не дюжиною иностранцев
Стр. 33–35 и др.
Вместо: буржуазия // в преобладающем числе случаев: буржуази
Стр. 35
1–2 Вместо: они выгодно поставляют // они поставляют
10–11 Вместо: выгнал ее в три шеи с площади // выгнал ее в три шеи с негодованием
20 Вместо: Один лавочник // Один пресмешной лавочник
Стр. 36
5 Вместо: о положении француженки по bal de l’Opéra // о положении женщины пo bal Mabille
20 Вместо: наслаждений в француженке! // наслаждений, жизни в француженке!
Стр. 37
12 Вместо: умел // умеет
17 Слова: Он же ведь лучше! – отсутствуют.
24–25 Вместо: только сальное остро, только циническое смешно. // все сальное остро, все циническое смешно.
Стр. 38
2 Вместо: нет // о нет
3 Вместо: люблю // люблю подчас
24 Вместо: кепи // чако
Стр. 40
20 Вместо: министры имеют свой // Тест имел свой.
33 Вместо: полбутылки // целую бутылку
Письмо третье
Стр. 43
5 Вместо: в Сену // в Темзу
9 Вместо: «В газетах будут говорить и имя напечатают // – «В газетах напечатают об этом, и имя напечатают…
Стр. 45
12 Вместо: связь // симпатию
Стр. 46
3–4 Слова: Надобно уметь довольствоваться голодом, ходя мимо Шеве)… – отсутствуют.
15 Вместо: не просят // не попросят
21 Вместо: навевает разные мысли // навевает идеи, мысли
Стр. 48
12 Вместо: проводил ее с бала // проводил ее тогда
Стр. 49
11–12 Вместо: cinq centimes! Un sou! // Pour un sou!
34–38 Примечание: Я говорил ~ прав! (1852) – отсутствует.
Стр. 50
13 Вместо: лет десяти // лет девяти
Стр. 51
27 Слово: Рембрандта – отсутствует.
30–31 Вместо: увлекаться «Севильским цирюльником»? // увлекаться полькой или качучей?
Стр. 52
13 Вместо: Мадонны Рафаэля // Магдалина Мурильо
14–16 Вместо: сладострастия ~ изваяний // сладострастия, которое пышет из каменных черт египетских барельефов, – вспомните эти страстные, отравляющие, опьяняющие глаза, особо рассеченные и суженные к вискам.
36 Вместо: душить врага // задушить врага, и исполниться злобы, гнева, суровости
Стр. 52–53
38-1 Вместо: Она может ~ выражения». // Такою она является в свидании Елизаветы с Марией Стюарт.
Стр. 53
6 Вместо: Сестра ее Judith очень мила. // Расставаясь с Théâtre Français, как же не сказать слова о Judith?
8 Вместо: имя // фамилия
15 Вместо: античных форм итальянок // форм античных статуй – итальянок
25 Вместо: целых поколений // поколений
33–37 Примечание: Как бы я желал ~ Рашель, (1852) – отсутствует.
Стр. 54
30–31 Вместо: Шеллинг или Гегель // Шеллинг
35–36 Вместо: он мне нравится гораздо больше Буффе // он меня приводит в восторг больше Буфе
Письмо четвертое
Стр. 60
17 Вместо: эту пустоту // это ничто
Стр. 61
27 Вместо: наставление могли они найти в науке // наставление в науке
34 Вместо: бросили // бросили и осмеяли
Стр. 62
7–8 Вместо: много разъедающего ума и мало творческой фантазии // много ума и мало фантазии.
Стр. 63
23 Вместо: с наглостью // с роскошью цинизма
27 Вместо: делалась // становится
Стр. 64
4–5 Вместо: Революционеры ~ появления // Аристократы и народ были юноши, дети, поэты; революционеры первой революции – идеалисты. Мещане с самого начала, напротив,
12 Вместо: Те приносили выгоду // Те приносили людей…
13 Вместо: выгодам // своим выгодам
Письмо пятое
Стр. 69
27 Вместо: шоссе // дорога
Стр. 72
3 Вместо: лионские мещане // лионская буржуази
Стр. 73
16 Вместо: что они думали? // что-то они думали?
Стр. 76
22 После: так дорога // что индустрия не цветет
Стр. 84
15 Вместо: жила подаянием // жила «per la charita»[369]
Стр. 85
9 Вместо: задумчивость // задушевность
Стр. 87
23 Вместо: Грёза // Кановы
24–25 После: Аполлона Бельведерского… // и др.
Стр. 89
14 После: новостям // Мне один френолог, до боли надавивши пальцем череп, объявил, что у меня недостает la bosse de la vénération;[370] против физического недостатка и суда нет.
Письмо шестое
Стр. 97
23 Вместо: трехцветную кокарду // трехцветные кокарды
Стр. 99
25–26 Вместо: национальна, потому что она была неопределенна // национальная потому уже, что она была неопределенна
35 Вместо: сохранен // схоронен
Стр. 104
14–15 Вместо: они свидетельствовали // свидетельствовавшими
Письмо седьмое
Стр. 109
12 После: пляшут. // Как легко можно изучать характер народов по картинкам; посмотрите на робертовских жнецов, рыбаков и на крестьян Теньера.
Стр. 112
24 Вместо: граждане // добрые граждане
Стр. 113
38–39 Вместо: сказал мне: «А ведь Birbone был тогда ближе пистолетного выстрела». // сказал мне: «Как вы были правы!»
Стр. 116
35 Вместо: Это был худой, оливкового цвета, породистый лаццарони, лет 17 // Это был малый худой и оливкового цвета, лет 17, породистый лаццарони
Стр. 120
1–2 Вместо: послали его в посольство // послали его с портфелем.
19 Вместо: заметил // закричал
Письмо восьмое
Стр. 124
2 Вместо: дрожит рука // дрожат руки
Стр. 128
31 Вместо: простонародной // простодушной
34 Вместо: перебили его словами // перебивая его, сказали
Стр. 131
14 Вместо: весна // упоительная итальянская весна.
Письмо девятое
Стр. 133
31 Вместо: от надежд // от последних надежд
38 Вместо: Где я его и видел в 1851 году // <В> 1851 году он был еще в С. Пелажи.
Стр. 134
16 Вместо: un sou! // pour un sou
Стр. 135
3–4 Вместо: генерал Курте, кажется, или Косидьер заставил их // генерал Курте, кажется, заставил их
Стр. 136
25 Вместо: выждал окончание // выждал окончания
Стр. 137
31 Вместо: углах улиц // углах
38 После: убеждениям // ему принадлежит большая часть в июньских злодействах.
Стр. 140
17 Вместо: доли приобретенного // всего приобретенного
18–20° Вместо: Гизо ~ работнику // Гизо был кальвинистский поп, трезвый, желчевой, бесчувственный фанатик. Задавленному трудом и нуждой работнику, он сказал с высоты трибуны
31 Вместо: Министерство не боялось партии умеренного прогресса // Брошюра Дювержье де Горон’а выражает очень хорошо партию умеренного прогресса. Министерство ее не боялось.
Стр. 141
6 Вместо: мрачные // страшные
13–14 Вместо: воспоминания ~ великих людей 1789 и 1793 года // великих людей, 1789 и 1793 годы.
Стр. 143
29 Вместо: он сам стоял // он стоивал
Стр. 144
6 Вместо: сын короля (Монпансье) // сын короля
Стр. 149
11 После: правительство // не для них, не из них, но против них. В том же смысле предлагал временное правительство и Ламартин.
Стр. 150
33–34 Вместо: людей, известных народу, банкиров, судей, полицейских… // людей, известных народу, как Тьер, как все банкиры, как все судьи, полицейские…
Стр. 151
16 Вместо: хочет ли он провозгласить республику // «знает ли он, что его избрание ничего не значит и хочет ли он провозгласить республику?»
Письмо десятое
Стр. 156
7 Вместо: вожатых // вожатаев
Стр. 157
35–36 Вместо: которая, напротив, развилась в ней // которая развилась с тех пор
Стр. 159
2 Вместо: тяжким // тяжелым
Стр. 160
33–34 Вместо: сочувствовал голодному работнику // находил сочувствие с голодным работником
Стр. 164
6–7 Вместо: или все заплотят или никто // или никто или все заплотят
Стр. 165
18 Вместо: Речи // Речи, полные любви,
Стр. 166
17 Вместо: думал // понял
Стр. 168
34 Вместо: он многого не видал // он имел слабость многого не видать
Стр. 169
23–24 Вместо: ста тысяч человек // двухсот тысяч человек
30–31 Вместо: наполняют бульвары // занимают целый бульвар
Письмо одиннадцатое
Стр. 179
11 Вместо: имеет идеал, стремление // имеет идеал, слово, стремление
Стр. 182
27 Вместо: уложения // уложения законов
Стр. 183
7 Вместо: воля // большая воля
Стр. 185
33 Вместо: в понятии // в памяти
Стр. 186
3 После: величие // нет, этого не объяснишь стихом «что пройдет, то будет мило»
36 Вместо: Церковь // Напротив, церковь…
Письмо двенадцатое
Стр. 191
3 Вместо: игры // меры
Стр. 193
31–32 Вместо: из груди // из дрожащих губов <?>
Стр. 197
4 Вместо: бесплодных // бесполых
34 Подпись Alfieri – отсутствует.
Письмо тринадцатое
Стр. 203
35 Вместо: староверов // их
Стр. 206
16–17 Вместо: и партий, ссылаемых без суда // и партии ссылаемых, толкуют
Стр. 208
27 Вместо: сомнение // сомнение, коррозивный яд разрушения
Письмо четырнадцатое
Стр. 212
24 После: стыда // сострадания
Стр. 215
20 Вместо: коренное // основное
Стр. 216
14 Вместо: красный призрак» // красное привидение»
33–34 Вместо: явятся новые заповеди // явится новый Декалог
Стр. 217
7 Вместо: твердым // гордым
Приложение. Письмо к Ш. Риберолю…
Стр. 218
4 Вместо: Гражданин издатель // Citoyen rédacteur
10 Вместо: Мысль предложить их Вам // Мысль эта
16 Вместо: положения наши розны // положения розные
24 Вместо: сложившийся // сложенный
Стр. 221
1 Вместо: его // иго
32 Вместо: нравственному // моральному
Приложение
Варианты немецкого издания 1850 г.
Письмо пятое
Стр. 74
28–29 Вместо: Русского села в Европе нет // Eine russische ländliche Kommune mit ihren großen gemeinschaftlichen Ländereien findet man in Europa nicht. <B Европе не найдешь русской сельской общины с ее крупными общественными земельными угодьями.>
Стр. 75
5 Вместо: запрещенный иезуитами // Die Jesuiten hielten das Organ von Guizot noch für zu liberal. <Иезуиты считали орган Гизо еще слишком либеральным.>
Стр. 79
2–3 После: всего менее оскорбляет // Diese Menschen, welche bereit sind, ihre Häuser, Familien und Rechte zu verteidigen, haben in ihrer Bewaffnung einen Sinn. <Вооружение этих людей, готовых защищать свои дома, семьи и права, имеет смысл.>
Стр. 81
15–16 Вместо: так, как в Петербурге ~ необжитым. // Es bildet den vollständigsten Kontrast zu Petersburg und Berlin, wo alles so neu und uneingewohnt ist. <Это составляет полнейший контраст с Петербургом и Берлином, где все так ново и необжито.>
Стр. 84
35-36 Вместо: и на берегах Истры // auch an den Ufern der Spree und Istra <и на берегах Шпрее и Истры>
Письмо шестое
Стр. 98
14–26 Вместо: Мы легко привыкаем ~ кроме муниципальных // Die uns so bekannte Entwicklung Frankreichs, Englands und Deutschlands fällt nur in den allgemeinsten Umrissen zusammen, die Einzelheiten der Geschichte hinter den Pyrenäen und den Alpen sind ganz anders. Andere Elemente, andere Ereignisse, andere Resultate! Die Erinnerung an das alte Rom blieb die ganze Periode des Feudalismus hindurch in Italien viel tätiger und lebendiger als anderswo. Das allein gab dem italienischen Gotismus einen ganz anderen Charakter. Gegen Ende des Mittelalters erscheint Italien gar nicht als monarchisch, und als die großen Völker Europas sich um die Throne herumzentralisierten, blieb Italien durch und durch föderal. Nach der monarchischen Zentralisation kam die Entwickelung des europäischen Mittelstandes und seine Opposition zum Vorschein. In Italien entwickelte sich der Mittelstand nicht in diesem Sinne, es gelangte zu keiner blühenden Industrieperiode. <Столь нам знакомое развитие Франции, Англии и Германии совпадает только в самых общих очертаниях, частности истории за Пиренеями и Альпами совершенно различны. Иные элементы, иные события, иные результаты! Воспоминание о древнем Риме в течение всего периода феодализма сохранялось в Италии в гораздо более действенном и живом виде, чем где бы то ни было. Уже это одно придавало итальянской готике совершенно иной характер. К концу средневековья Италия предстает совсем не монархической, и когда великие народы Европы сосредоточивались вокруг тронов, Италия оставалась чисто федеральной. После монархической централизации обнаружились развитие европейского среднего сословия и его оппозиция. В Италии среднее сословие развивалось не в этом направлении, оно не достигло периода индустриального расцвета.>
Стр. 99
5–6 После: факт насилия // Von den Invasionen waren die Bevölkerungen, die zufällig unter die Herrschaft von Florenz, Genua oder Venedig fielen, jeden Augenblick bereit, sich zu befreien und ihre eigene Autonomie zu beweisen. Das beweist Ihnen, weshalb diese Städte, so gut auch ihre eigenen Verfassungen waren, die ihnen unterworfenen Gebiete so streng und oft barbarisch behandelten. Die Italiener haben gar keine Liebe zur Einheit, zu einem kräftigen Staate, zu einer mächtigen Regierung. <Население, случайно подпавшее под власть Флоренции, Генуи или Венеции, было ежеминутно готово освободиться от нашествий и доказать собственную автономию. Это доказывает вам, почему эти города, как бы ни были хороши их собственные конституции, так сурово и зачастую варварски обращались с подчиненными им владениями. Итальянцы вовсе не любят единства, мощного государства и сильного правительства.>
Стр. 104
7-10 Вместо: В задавленной литературе ~ мрачного смеха. // In der bedrängten Literatur war nur noch Ugo Foscolo und die schwarze Verzweiflung eines Leopardi bemerkenswert. <B задавленной литературе лишь Уго Фосколо и мрачное отчаяние Леопарди были еще достойны внимания.>
Письмо восьмое
Стр. 124
2 Перед: Удивительное время // Viel Zeit und noch mehr Ereignisse sind seit meinem letzten Briefe an uns vorübergegangen. Langweilig können wir die Geschichte jetzt nicht nennen. <Много времени и еще больше событий прошло мимо нас после моего последнего письма. Теперь мы не можем назвать историю скучной.>
Письмо девятое
Стр. 137
37–38 Вместо: Барбесу отвечал ~ своим убеждениям // Er empfahl sich mit dieser Rede den Parisern; er blieb seinen Prinzipien treu; ihm gehört der Löwenanteil an den Junimissetaten. <Этой речью он представился парижанам; он остался верен своим убеждениям, ему принадлежит львиная доля в июньских злодеяниях.>
Стр. 139
22 После: мало надежд // dennoch überlebte sie alle diese Schläge mit jener unerschütterlichen Hartnäckigkeit, welche von jeher die französischen politischen Parteien auszeichnete. <Тем не менее она перенесла все эти удары с той непоколебимой настойчивостью, которая издавна отличала французские политические партии.>
Стр. 140
30 После: замашки министров // Vielen schien eine Erweiterung des Wahlrechts unumgänglich. Die Broschüre von Duvergier de Hauranne drückt diese Nüancen eines gemäßigten Fortschritts ziemlich gut aus. <Многим расширение избирательного права казалось неизбежным. Брошюра Дювержье де Оранн довольно хорошо выражает оттенки этого умеренного прогресса.>
Письмо десятое
Стр. 156
12–21 Вместо: пусть не смотрит ~ Западной Европы // О, wenn es nur genug Geduld haben, wenn es gar nicht sehen könnte, was geschieht, wenn es alle Beleidigungen nicht hören, alle Schläge nicht fühlen könnte, dann hätt’es alles gewonnen! Ich weiß nicht, ob es das Banner des Sozialismus auf die Pariser Börse pflanzen wird, aber ich kann Ihnen verbürgen, daß es für die Junitage, für den Verrat des April und März, für den Betrug im Hôtel de Ville, für alles sich rächen wird, was man gegen das sich befreiende Europa unternahm. Ich weiß nicht, ob der Sozialismus Sieger bleiben wird, aber der Besiegte in den Junitagen wird den Kampf auskämpfen. Vielleicht wird Frankreich und ganz Europa in diesem Kampfe untergehen, vielleicht wird dieser Weltteil der Barbarei verfallen, um seine durch die Zivilisation verdorbenen Säfte zu erneuern. Es ist ja so schwer, den alten Adam auszuziehen. <О, если б ему хватило терпения, если б он мог совсем не видеть, что происходит, если б он мог не слышать всех оскорблений, не чувствовать всех ударов, то он бы все выиграл! Не знаю, водрузит ли он знамя социализма на парижской бирже, но я могу вам ручаться, что он отомстит за июньские дни, за апрельское и мартовское предательство, за обман в ратуше – за все, что было предпринято против освобождающейся Европы. Не знаю, останется ли социализм победителем, но побежденный в июньские дни доведет борьбу до конца. Быть может, Франция и вся Европа погибнут в этой борьбе, быть может, эта часть света впадет в варварство, чтобы обновить свои испорченные цивилизацией соки. Ведь так трудно совлечь ветхого Адама.>
Стр. 157
1–2 После: не было ладу… // Nach ihm kam auch der weißhaarige Arago, um in einer Viertelstunde seinen langjährigen physikalischen Ruhm zu untergraben und das schmachvolle Brandmal eines Denunzianten auf sich zu laden. <После него явился и седовласый Араго, чтобы за четверть часа похоронить свою долголетнюю славу физика и навлечь на себя позорное клеймо доносчика.>
Стр. 161
17 После: монархии //…sie bildeten sich mit unglaublichem Leichtsinn ein, daß die Sache mit der Proklamierung der Republik abgetan sei. Haben sie das aber nicht gedacht, so waren sie Betrüger <…они с невероятным легкомыслием вообразили, что с делом провозглашения республики покончено. Если же они этого не думали, то они были обманщиками.>
Стр. 165
35–36 После: всеобщая республика! // Die Reden von Louis Blanc machen bei wiederholter Lektüre einen traurigen Eindruck. Man sieht in ihnen eine theoretische Bücherzivilisation. Da gibt es nichts Reelles oder Praktisches, alles gehört der Literatur an. Manchmal gelingt es ihm, hinzureißen, aber nie gelingt es ihm, zu helfen. Der Prediger des Sozialismus glich denjenigen Predigern des Christentums, welche in der vollkommensten Unbekanntschaft mit der Welt lebten, die Leidenschaften nur vom Hörensagen schilderten und überzeugt waren, daß das Reich Gottes seiner Verwirklichung nahe sei. In allem unserem Beginnen verhindert die verdoppelte Zivilisation die Fülle der Resultate: bald erscheint eine grobe absurde Tatsache, welche die Theorie biegt und krümmt, bald ein unanwendbarer Gedanke, welcher ohnmächtig an der auf veraltete Gewohnheiten gegründeten Welt dahingleitet; beide führen zu Mißgeburten, die keine Lebensfähigkeit in sich tragen. <Речи Луи Блана производят при повторном чтении грустное впечатление. В них видна теоретическая книжная образованность. Там нет ничего реального, практического, все принадлежит литературе. Иногда ему удается увлечь, но никогда ему не удается помочь. Проповедник социализма походил на тех проповедников христианства, которые жили в полнейшем незнании мира, которые изображали страсти лишь понаслышке и были убеждены, что царство божие близко к своему осуществлению. Во всех наших начинаниях усиленная цивилизация препятствует полноте результатов: то появляется грубый, нелепый факт, который гнет и искажает теорию, то неприменимая мысль, бессильно скользящая по основанному на устарелых привычках миру; оба приводят к мертворождениям, которые не несут в себе способности к жизни.>
Стр. 169
12–13 После: на казнь его. // Seine krankhafte Energie und sein wirklich revolutionäres Wesen gaben ihm in den Clubs und in der Demokratie überhaupt eine außerordentliche Macht. <Его болезненная энергия и его истинно революционная сущность давали ему в клубах и вообще в демократии исключительную власть.>
Стр. 170
24–26 Вместо: В этот день ~ приказал бить сбор; // Ledru Rollin hatte an diesem Tage eine schreckliche Verantwortlichkeit auf sich genommen, von ihm ging der Befehl aus, Rappell zu schlagen. Das wissen alle, aber nicht alle wissen, daß er die Demonstration hervorgerufen, daß er und Louis Blanc sie heimlich begünstigt hatten. Ich will hier nicht richten, denn ich kenne viele Tatsachen nicht; aber ich bin sehr neugierig zu erfahren, wie z. B. Ledru Rollin und Caussidière alle sie betreffenden Partikularitäten des 16. April, 15. Mai und 23. Juni ins Reine bringen würden. Ehe sie das getan haben, halte ich es für das Beste, ihnen weder Absolution noch Kränze zu erteilen. <Ледрю-Роллен принял на себя в этот день страшную ответственность, от него исходил приказ бить отбой. Это знают все, но не все знают, что он вызвал демонстрацию, что он и Луи Блан ей втайне покровительствовали. Я не хочу здесь судить, так как я не знаю многих фактов, но мне очень любопытно было бы узнать, как, например, Ледрю-Роллен и Косидьер объяснили бы все касавшиеся их частности 16 апреля, 15 мая и 23 июня. Прежде чем они это сделают, я считаю наиболее правильным не давать им отпущения и не наделять их венками.>
Стр. 171
6 После: никто не хотел. // Das Volk ging finster und grollend nach Hause, die Nationalgardisten begleiteten es voll Haß und Tücke, die zwei Republiken maßen ihre Stärke und sahen sehr gut ein, daß, so wie die Sachen jetzt standen, der Sieg noch unentschieden bleiben konnte. <Народ мрачно и в озлоблении расходился по домам. Солдаты Национальной гвардии провожали его, исполненные ненависти и коварства, обе республики мерили свою силу и очень хорошо понимали, что при создавшемся к этому времени положении победа могла еще быть неокончательной.>
Стр. 172
32–34 Вместо: В Англии законность ~ определенных форм // Dazu muß man erstens Engländer sein und dann ist nicht zu vergessen, daß in England die strenge Gesetzlichkeit keine wesentliche Freiheit gibt, sondern die Regierung und das Volk in Ketten schlägt. Dort kann man in gesetzlicher Weise handeln, denn man kann im voraus überzeugt sein, daß die Regierung die gesetzlichen Formen auch nicht überschreitet. <Для этого надо прежде всего быть англичанином, и потомнельзя забывать, что в Англии строгая законность не дает существенной свободы, а заковывает в цепи правительство и народ. Там можно законным образом действовать, потому что можно быть заранее уверенным, что правительство тоже не перешагнет через законные формы.>
Стр. 176
8-11 Вместо: Посмотрите ~ Фейербахом // Sie müssen den Übermut sehen, mit dem man hier den einzigen freien Menschen, Proudhon, anhört, weil er sich jetzt untersteht, offene und unverschleierte Wahrheiten auszusprechen, die schon vor Jahren in Deutschland bekannt waren. <Вы бы посмотрели, с какой заносчивостью здесь слушают единственного свободного человека, Прудона, потому что он теперь позволяет себе высказывать истины, которые были известны в Германии уже годы назад.>
Письмо одиннадцатое
Стр. 177
7 После: торопится отстать. // Die zwitterartige Politik ist wie der Nationalismus in der Religion, wie der Eklektizsmus in der Wissenschaft unmöglich geworden. <Двойственная политика стала невозможна, как национализм в религии, как эклектизм в науке.>
Стр. 178
6 После: гугенотом. // Wer nach dem 24. Februar revolutionär sein will, muß Sozialist sein. Man kann das nicht oft und laut genug wiederholen, um für immer die Verwirrung unmöglich zu machen, um die Menschen, die sich in unser Lager verirrt haben, zum Rückzug zu bewegen. <Кто после 24 февраля хочет быть революционером, должен быть социалистом. Надо повторять это как можно чаще и громче, чтобы навсегда сделать невозможной путаницу, чтобы побудить к отступлению людей, случайно попавших в наш лагерь.>
28–33 Вместо: Все в Европе ~ остальные мечтания // Möge kommen, was da wolle, von zwei Dingen ist nur eines möglich: entweder wird die alte europäische Organisation sich halten und dann ist es um die europäische Revolution geschehen; oder der Sozialismus wird die Oberhand behalten und dann ist es mit der ganzen politischen, ökonomischen und religiösen Organisation Europas vorbei. Die Frage wird nicht lange offen bleiben; wir müssen uns zur Wiedergeburt oder zum Absterben, zur neuen Welt oder zur Wiederholung des byzantinischen Reiches vorbereiten. <Будь что будет, из двух вещей возможна лишь одна: либо старая европейская организация удержится и тогда с европейской революцией покончено; либо социализм возьмет верх и тогда вся политическая, экономическая и религиозная организация Европы отжила свой век. Вопрос недолго останется открытым. Мы должны подготовиться к возрождению или к умиранию, к новому миру или к повторению византийской империи.>
Стр. 179
34 После: его агентов. // All dies Unglück ist unmöglich in einer Republik, wo die monarchischen Elemente ausgemerzt sind. <Bce эти несчастия невозможны в республике, где монархические элементы истреблены.>
Стр. 182
4–8 Вместо: В природе ~ en permanence // Das ist noch nicht alles: überall, wo die Naturerscheinungen die Gesetze überschreiten und sie beschränken können, tun sie es, sie benutzen jede sich darbietende Möglichkeit, um die allgemeine Regel zu durchbrechen, und zwar derartig, daß die Natur sich im Zustande der beständigen Empörung gegen ihre Gesetze befindet. Diese Ordnung und diese Freiheit, die Natur mit einem Worte, die sich in der Welt des Bewußtseins und in der Gesellschaft fortsetzt, ist die Republik. <Это еще не все: всюду, где явления природы могут перешагнуть законы и их ограничить, они это делают; они используют каждый представляющийся случай, чтобы нарушить общее правило, и притом так, что природа находится в состоянии непрерывного возмущения против своих законов. Этот порядок и эта свобода, одним словом, природа, которая продолжается в мире сознания и в обществе, и есть республика.>
29–31 Вместо: Управление в республике ~ исполнение… // Das Gouvernement, wenn man einmal diesen Namen brauchen will, ist in einer Republik ein Bureau oder Volks-Comptoir, die Kanzlei der öffentlichen Angelegenheiten und nicht wie in einer Monarchie der Zweck der Gesellschaft. Das Regieren wird eine schwere Pflicht, ein Zugeständnis, eine Selbstverleugnung sein; man wird sich den öffentlichen Ämtern aus Notwendigkeit und Hingebung unterziehen, wie man sich jetzt für einige Jahre dem Militärdienste unterzieht. <Правительство, если уж пользоваться этим названием, является в республике бюро или народной конторой, канцелярией общественных дел, а не целью общества, как в монархии. Правление станет тяжелой обязанностью, самоотречением; брать на себя общественные должности станут по необходимости и из преданности, как теперь идут на несколько лет на военную службу.>
Стр. 183–189
Вместо: Нас пугает воля ~ первенство буржуазии не погибло. // Diese große Freiheit, dies Vertrauen zum Menschen, das er anstrebt und welches in ihm das republikanische Prinzip enthält, erregt Furcht, man fürchtet den freien Menschen, hält seine Natur nicht für gut in dem Sinne, welchen man diesem Worte beigelegt hat; aber man verg<i>ßt dabei, daß er vor allem ein politisches Tier ist, daß er den Instinkt des sozialen Lebens hat, und daß die Opposition gegen die für jede menschliche Existenz nötigen Bedürfnisse immer eine sehr seltene Ausnahme sein wird. Anstatt Zutrauen zum Menschen zu haben, schlafen wir ruhig, weil wir wissen, daß eine starke Regierung mit ihren Bajonetten für uns wacht, weil wir glauben, daß die Macht uns vor den Menschen schützt, weil wir wissen, daß die Regierung das Recht hat, sich eines jeden von uns zu bemächtigen, uns in Ketten zu werfen und uns zu füsilieren, aber sollte dies nicht noch viel triftigerer Grund sein, gar nicht zu schlafen? Man muß einiges Zutrauen zum Menschen wie zur Natur haben, der Gesellschaftstrieb ist ihm eben so natürlich wie der Egoismus; beschränkt seinen Egoismus nicht, und er wird lieben, fordert von ihm keine Tugenden, keine Selbstverleugnung, keine Hingebung, läßt ihn frei und ruhig, erschreckt ihn nicht jeden Augenblick mit Ansprüchen der Gesellschaft, und er wird ihr geben, was ihr gehört.
Nach dieser allgemeinen Charakteristik der Republik und der Monarchie frage ich Sie jetzt als ehrliche Männer, die mit mir über das republikanische Prinzip übereinstimmen, wo denn die politische Republik die Mittel finden wird, sich zu verwirklichen, ohne jedoch zur sozialen überzugehen?
Alles, was die politische Republik hat geben können, hat sie den Nordamerikanischen Staaten gegeben, die wirklich eine Republik sind, und nicht eine bittere Ironie wie die Französische Republik, wo die persönliche Freiheit nicht existiert, wo das Vereinigungsrecht unterdrückt ist, wo die Polizei allmächtiger ist als in der Türkei, wo man endlich ganze Ladungen von Menschen in die Gefängnisse wirft, um sie einige Monate nachher mit dem Wunsche: Auf Wiedersehen! vor die Tür zu werfen. In den Vereinigten Staaten finden wir eine große Verwirklichung der politischen Theorien, die sich in Europa während des 18-ten Jahrhunderts ausgebildet haben. Das Individuum ist so frei, als es in einer politischen, aufrichtigen Republik nur sein kann. Die Regierung hängt von der öffentlichen Meinung ab. Man kennt beinahe nicht die Landplage der Bureaukratie, man hat keine geheime Polizei, man verabscheut die Uniform und das Soldatenspielen, man ist reich an Ländereien und Geld, und trotz alledem sagte neulich Herr Brisbane, ein ehrenwerter Bürger der Vereinigten Staaten, öffentlich in Paris: «Eine Republik, die wie die unserige auf den bekannten Basen der politischen europäischen Gesellschaft gegründet ist, kann nichts für die arbeitenden Klassen tun, sie kann, ohne das Leben ihrer Grundlage zu überschreiten, den Menschen nicht die von uns erstrebte Gleichheit geben». Ich teile vollkommen die Ansicht des Herrn Brisbane. Die politische Republik ist nur eine vorübergehende Form, eine Einführung, eine Vorbereitung. Sobald man sie für das Endziel nimmt, fällt sie, wie in Frankreich, in den Monarchismus zurück, bleibt stehen, oder wird unfruchtbar wie in der Schweiz. Die Republik von 1793 war die kämpfende Republik, und der Konvent begriff seinen Beruf so gut, daß er befahl, die Statue der Freiheit und der Menschenrechte zu verschleiern. Als man aber einem Kampfe, einer Revolution Bestand und Gesetzlichkeit verleihen wollte, fiel man unter das Joch des Konsulats, des Kaiserreichs. Der wahre Fortschritt war nach 1793 auf Seiten Baboeufs, dieses absurden C. Gracchus der neuen Welt, und die vollständige Reaktion auf Seiten Napoleons, dieses bourgeoisen Karls des Großen, welcher den schmachvollsten, jemals existierenden sozialen Zustand befestigte.
Die gesellschaftliche Entwickelung ist ohne republikanische Form unmöglich, es ist also immer ein großer Schritt gewonnen, wenn diese erlangt ist. Es ist aber sonderbar, wenn man dann stehenbleibt, ebenso sonderbar, als hartnäckig am Protestantismus festzuhalten, nachdem man sich einmal vom Katholizismus losgemacht, oder bei der Geldherrschaft stehenzubleiben, nachdem man einmal die feudale Leibeigenschaft abgeschafft hat. Glauben Sie nicht, daß ich hier den Reformatoren und Revolutionären vergangener Zeiten undankbare Vorwürfe machen will, nicht im mindesten; nein, ich mache hier nur den Pseudo-Revolutionären der Gegenwart einen Vorwurf. Im Jahre 1789 war das bloße Wort Republik schon ein unermeßlicher Fortschritt, die Republik war die frohe Botschaft, welche der Menschheit die Revolution ankündigte, die Republik erhob sich am leuchtenden und sonnigen Horizonte, sie erschien, wie einst den Christen das Reich Gottes, als die Erfüllung aller menschlichen Wünsche, sie war die Religion, die revolutionäre Idee ihrer Zeit. Weder das von den Aposteln geträumte Reich Gottes, noch die von den Jakobinern geträumte Republik konnten sich verwirklichen, und der fanatische Glaube an diese Verwirklichung hat ihre Macht und Majestät geschaffen. Die Ereignisse sind nur dann groß, wenn sie mit denhöchsten Bestrebungen ihrer Zeit zusammenfallen; die Menschen werfen sich dann mit ihrer ganzen Kraft und Energie auf die Vollendung des Werkes, ihre Tätigkeit reibt sie auf, begeistert sie, sie vergessen alles, was jenseits der Sphäre liegt, die sie fortgerissen hat. Mögen wir auch zum zwanzigsten Mal die Ereignisse der ersten Revolution lesen, immer wieder klopft unser Herz, und immer wieder ist unsere Seele bewegt, wir stehen unter der Gewalt dieser düstern, männlichen und tatkräftigen Größe. Darum prägen sich dem Gedächtnisse eines jeden von uns auf immer die Namen dieser riesigen Individualitäten, diese plastischen Ereignisse, selbst die Worte ein, welche von diesen Männern ausgesprochen wurden, die Antwort von Mirabeau, die Einnahme der Bastille, der 10. August, Danton, Robespierre, der 21. Januar und alle diese Riesen des bürgerlichen und kriegerischen Mutes. Und zu gleicher Zeit fangen wir an, die kurzsichtigen Schwächlinge zu vergessen, welche sich am 24. Februar in den Vordergrund zu drängen wagten, die Löwen der provisorischen Regierung und der Konstituante. Diese Menschen schritten langsam vor, sie erschraken vor den Konsequenzen, sie waren von einem unruhigen Vorgefühl durchzittert, sie sahen, daß noch etwas anderes am Himmel aufstieg, sie begriffen aber dies Etwas nicht und wollten es aufhalten, sie wollten dem Rad der Geschichte den Hemmschuh anlegen. Diese Menschen von so wenig Glauben waren unserer Zeit gegenüber keine Revolutionäre, und sie haben die Revolution zugrunde gerichtet, sowohl Louis Blanc der sozialistische, als Lamartine, der politische Dilettant.
«Alle Welt hält Louis Blanc für einen Ultrasozialisten, und Sie behaupten, daß er nur Dilettant sei? Die Sozialisten verständigen sich über nichts, der Grund davon ist einfach der, daß der Sozialismus nie bestimmt und klar seine Prinzipien aufgestellt und keine festgesetzten Dogmen hat; er ist aus einem Dutzend vagen, sich widersprechenden Doktrinen zusammengesetzt». Aber wissen Sie wohl, welche Lehren sich so gut formulieren und in dem stillen Zimmer ausarbeiten? Das sind die Maximen, die Lehren, die sich nie verwirklichen, das ist die platonische Republik, die Morische Atlantis, das christliche Reich Gottes. Doch ich irre, das Reich Gottes war schon viel unbestimmter und die Entwickelung des Christentums liefert uns ein herrliches Beispiel für die Art und Weise, wie sich die sozialen Umwandlungen verwirklichen. War vielleicht die Organisation der Kirche und der katholischen Welt im Evangelium vorbereitet? Keineswegs, das Evangelium war nur eine hohe Abstraktion und eine Negation der bestehenden, vielleicht noch höhern Ordnung; erst nach einem vierhundertjährigen Kampfe gelangten die Christen dazu, sich auf dem Konzil zu Nicäa zu verständigen. Die großen Revolutionen werden nie nach einem im voraus fix und fertigen Programme durchgeführt. Das ist das Bewußtsein dessen, was man nicht will. Der Kampf ist die wahre Geburt der gesellschaftlichen Wiedergeburten; durch den Kampf und den Vergleich werden die allgemeinen und abstrakten Ideen, die unklaren Bestrebungen zu Einrichtungen, Gesetzen und Sitten. Die Embryogenie alles Lebenden ist lang und verwickelt, der Fötus geht durch verschiedene ungestalte und befremdende Zustände, seine Entwickelung ist keine abstrakte Wissenschaft, sondern Wirklichkeit, die Entwickelung eines Samenkornes und eine beständ ge Vermittlung mit den Gegensätzen. Als der Sozialismus noch ärmer an Inhalt, allgemeiner und seiner Wiege noch näher war, formulierte er sich mit viel größerer Leichtigkeit und erschien unter einer religiösen Form, in welcher jede große Idee in ihrer Kindheit auftritt; er hatte damals seine Gläubigen, seine Fanatiker, seine äußeren Zeichen – das war der St. Simonismus. Der Sozialismus erschien darauf in der Gestalt einer rationellen Doktrin, das war seine Periode der Metaphysik und abstrakten Wissenschaft, er konstruierte die Gesellschaft a priori, er machte eine soziale Аlgebra, psychologische Berechnungen, schuf für alles Rahmen, formulierte alles, und überließ nichts mehr der Entdeckung der künft<i>gen Menschen, denen er die Einreihung in ein Phantasterium anwies. Bald kam die Zeit, wo der Sozialismus in die Massen herabstieg und als Leidenschaft, als Rache, als wilde Protestation, als Nemesis erschien. Kaum hörten die Arbeiter, welche die himmelschreiende Ungerechtigkeit der bestehenden Unordnung niederdrückte, von ferne die Worte der Sympathie, kaum sahen sie die Mörgenröte des ihnen Erlösung verheißenden Tages, so übersetzten sie die sozialen Lehren in eine andere, viel rohere Sprache, sie machten den Kommunismus daraus, die Lehre von der gezwungenen Eigentumsentäußerung, die Lehre, welche das Individuum durch die Gemeinschaft aufhebt, welche an den Despotismus grenzt, indem sie vom Hunger emanzipiert. Heutzutage redet niemand vom St. Simonismus, von Fourierismus oder Kommunismus. Alle diese Systeme und Lehren und noch viele andere haben sich vor der starken Stimme der Kritik und Negation gebeugt, welche nichts im voraus beurteilte oder systematisierte, welche aber zur Vernichtung alles dessen aufrief, was die gesellschaftliche Regeneration verhindert und die Abgeschmacktheit und Heuchelei alles dessen aufdeckte, was durch die Freunde der Ordnung aufrecht erhalten wird. Ich will die Solidarität nicht in Abrede stellen, welche uns notwendigerweise an unsere Überlieferung knüpft, nein, gewiß nicht, denn warum soll der Mensch seine Jugendträume verachten? Die vorhergehenden Formen waren zu kindlich, enthielten die Wahrheit nur in einseitiger Auffassung, aber darum waren die Lehren doch nichts weniger als falsch. Derselbe große Gedanke, der eine ganze Welt in seinem Keime enthält, durchzieht alle sozialen Doktrinen, ohne selbst den fortgeschrittensten Kommunismus auszunehmen. Diesen Lehren haben wir es zu danken, daß man einzusehen anfängt, daß man nicht mit dem Abhaspeln der alten politischen Maschine zur Rettung der Welt gelangen wird; von ihnen geht der große Ruf aus nach der Rehabilitation des Fleisches, nach dem Aufhören der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen; in ihnen hat man zum ersten Male die Leidenschaften des Menschen anerkannt und den Versuch gemacht, sie zu benutzen und nicht zu unterdrücken. Die Solidarität indessen, die ich annehme, will nicht sagen, daß ich jeden Gedanken, jede Phase, die Details, die ganze Organisation jeder für sich betrachteten Lehre verantworte.
Die einen wollen nun in dem Sozialismus nur die närrischen Details sehen, in welche einige der ersten Sozialisten geraten sind, hingerissen und geblendet von der Schönheit der Ideen. Mehr Propheten als Organisatoren, blieben sie wahr in ihren vagen Bestrebungen und verkamen in ihrer Anwendung und in ihren Konsequenzen. Das leugnet niemand. Aber Sie haben gut wiederholen, daß die geschichtliche Entwickelung eine fortlaufende Metamorphose ist, in welcher jede neue Form geeigneter ist als die vorhergehende, die Wahrheit zu enthalten; man ladet uns die Überschwenglichkeiten des Vaters Enfantin, alle Maßlosigkeiten Fourriers und alle Fehler der Ikarier auf. Die andern dagegen fragen verwundert und ironisch, was denn mit Ausnahme des Wortes selbst im Sozialismus Neues sei; sie finden, daß der Sozialismus nur die Entwickelung und Fortsetzung der politischen Ökonomie ist und beschuldigen ihn des Undanks und Plagiats. Denn war nicht das Ideal von J. B. Say, wie er selbst sagt, das Nicht-Regieren?Ja. Allerdings ist der Sozialismus die Verwirklichung des Ideals der Nationalökonomie. Die politische Ökonomie ist die Frage, der Sozialismus ihre Lösung. Die politische Ökonomie ist die Beobachtung, die Beschreibung, die Statistik, die Geschichte der Erzeugung und Bewegung, der Zirkulation der Reichtümer. Der Sozialismus ist die Philosophie, die Organisation und die Wissenschaft. Die politische Ökonomie gibt die Materialien und die Dokumente, sie macht die Untersuchung – der Sozialismus spricht das Urteil. Die politische Ökonomie konstatiert die natürliche Tatsache des Reichtums und des Elends – der Sozialismus zerstört es nicht als historisches Faktum, sondern als nofwend ge Tatsache, hebt alle Schranken, alle Dämme auf, welche die Zirkulation hindern, macht das Eigentum flüssig, hebt also mit einem Worte Reichtum und Elend auf. Selbst aus diesem Antagonismus ersieht man, daß der Sozialismus in inn<i>ger Beziehung zur Nationalökonomie steht. Das ist die Analyse und Synthese eines und desselben Gedankens. Hierin liegt aber nichts Wunderbares. Seit in der Welt Doktrinen, Religionen, Systeme, seit eine geistige Bewegung existierte, hatte jede neue Lehre ihre Wurzel in einer vergangenen, sie mag sie immerhin negieren, so bleibt sie doch ihr Stützpunkt, ihr Boden, und selbst wenn sie ihre Mutter verleugnet, ihre Tochter. Auf diese Weise ging das Judentum in das Christentum über, auf diese Weise lebte das Christentum selbst in der Ethik Rousseaus fort, welche der deistischen und philanthropischen Moral des Jahrhunderts als Grundlage dient; auf diese Weise findet sich Hegel in seinem Keime schon in Spinoza und Kant, Feuerbach in Hegel. Jede neue, umgestaltende Idee beunruhigt schon, ehe sie sich als Lehre formulieren kann, die Geister und drängt sich dem Bewußtsein auf; bei dem einen erscheint sie als praktische Inspiration, beim andern als Zweifel, beim dritten als Gefühl. Plötzlich findet diese neue Idee ihr Wort, und die bisherige Morgendämmerung verschwindet vor der Sonne, die Essäer, die Therapeuten werden bei der Erscheinung Christi vergessen, weil Christus der wahre λόγος πpοϕοpιϰος war. Aus dem schöpferischen Punkte, aus welchem sich die neue Religion organisiert, wird Evangelium, aus den fragmentarischen Ideen der Kirche, aus der unsteten und sehnsüchtigen Gärung sozusagen der Befruchtungsakt. Nun wohlan! Hat wohl je ein Mensch Christus für einen Plagiator der Essäer oder selbst der Neu-Platoniker gehalten?
Die sozialen Ideen treten, wenn man will, gleichzeitig nicht allein mit der politischen Ökonomie auf, sondern selbst mit der allgemeinen Geschichte. Jeder Protest gegen die ungerechte Verteilung der Arbeitsmittel, gegen den Wucher, gegen den Mißbrauch des Eigentums – ist Sozialismus. Das Evangelium und die Apostel – um hier nur von der neuen Welt zu reden – predigen Kommunismus. Campanella, Thomas Münzer, die Wiedertäufer, teilweise die Mönche, die Quäker, die mährischen Brüder, der größere Teil der russischen Schismatiker sind Sozialisten. Aber der Sozialismus als Lehre, als Politik und als Revolution datiert erst seit den Julitagen von 1830. Die Geschichte kann sich für die frühern Bestrebungen interessieren, sie kann die Chroniken der Skandinavier durchblättern, um zu beweisen, daß die Normannen schon im 12. Jahrhundert Amerika kannten; – für uns, für das wirkliche Leben hat immer Kolumbus zuerst Amerika entdeckt. Diese frühzeitigen Bemühungen sprechen nur für den Reichtum und die Fülle der menschlichen Natur, welche schon über Dinge träumt und denkt, welche sich erst in einigen Jahrhunderten verwirklichen können.
Ist übrigens der Sozialismus jetzt nicht wie zu den Zeiten Campanellas noch zu früh und zur Unzeit erschienen? Ich bewahrte diese Bemerkung für den Nachtisch auf. Alle ausschließlich politischen Menschen, die gerade nicht erklärte Feinde des Sozialismus sind, meinen, daß er zu früh gekommen sei. Sie sagen, daß er ohne die Kraft seiner eigenen Verwirklichung in sich zu tragen, die politische Revolution gelähmt und ihr nicht die erforderliche Zeit gegönnt habe, um die Republik zu begründen, um die demokratischen Einrichtungen zu vollenden und endigen. Die Männer, welche derart<i>ge Einwendungen machen, sind mittelmäßige Geschichtskenner und schlechte Psychologen, denn sie wähnen, daß die Geschichte in der Art jener Küchökonomie verfahre, die keinen neuen Käsekuchen anfängt, als bis der angeschnittene verzehrt ist. Aber die Geschichte wie die Natur wirft sich nach allen Richtungen hin und erkennt nur die Unmöglichkeit als Grenze an. Doch das ist noch nicht alles. Die politischen Menschen haben nichts zu beendigen, nichts einzurichten, denn sie sind bei einer Grenze angekommen, nach deren Überschreitung sie mit vollen Segeln in den Sozialismus einlaufen. Wenn sie sich aufhalten, so sind sie im Gegenteil dazu verurteilt, sich in einem Ideenkreise zu drehen und zu wenden, der freilich zur Zeit der Berufung der Generalstaaten neu war, aber jetzt jedem vierzehnjährigen Kinde bekannt ist. Betrachten Sie die französische Konstitution von 48 und ze gen Sie mir nur einen neuen Gedanken, eine originelle Entwickelung, einen wirklichen Fortschritt; nehmen Sie die Sitzungen der Konstituante. – Außerhalb ihrer vier Wände die dringendsten Fragen, die zerstörendsten Zweifel, die schrecklichsten Lösungen – innerhalb derselben das ew<i>ge eintönige Wiederkäuen der fadesten und ausgehöhltesten konstitutionellen Theorien von dem Gleichgewicht der Gewalten, von den Befugnissen des Präsidenten, von der unfruchtbaren Gesetzgebung, die sich auf den abgeschmackten Code Napoleon stützt. Sie werden mir vielleicht Proudhon, Pierre Leroux, Considerant anführen… aber die sind ja selbst Fremdlinge, welche sich in diese boötische Versammlung verirrt haben, und ihre Worte werden jedesmal mit einem Schrei der Indignation von den Gesetzgebern bedeckt. «Ja, aber doch die Montagne!» Aber was wollte die Montagne des Herrn Ledru Rollin denn? Die Freiheit! Aber was ist die Freiheit? Und wie kann ein Mensch in einer Gesellschaft frei sein, die wie die französische organisiert ist, welche Garantien bieten die Montagnards für die persönliche Freiheit gegen den Staat und seine Gewalt, wie wollen sie die Unverträglichkeit aller französischen Institutionen mit der individuellen Freiheit aufheben, ohne jene selbst zu zerstören? Sie können nichts antworten; ein unbestimmtes Gefühl, eine sehr edle Sympathie für die Freiheit läßt sie handeln, sie sehen sehr gut ein, daß diese Republik abscheulich ist – aber sie kennen nicht das geringste Heilmittel. Sie sagen, daß ihre Republik noch nicht verwirklicht ist. Das ist allerdings richtig, hat seinen Grund aber darin, daß sie nicht verwirklicht werden kann. Mögen sie immerhin die wahre Freiheit wünschen, und die ersten sein, welche das salus populi suprema lex proklamieren, mögen sie immerhin die Gleichheit wollen, so wagen sie es doch nicht, an die Exploitation der duldenden und armen Majorität durch eine reiche und unterdrückende Minorität zu rühren. Nein, wir dürfen uns nicht täuschen. Die Zeit der liberalen Politiker ist vorbei, sie haben nichts zu tun oder zu sagen. Der Sozialismus hatte nach dem 24. Februar das volle Recht, sein Banner aufzupflanzen. Ich will hier gar nicht einmal von der befremdenden Anmaßung reden, welche dem menschlichen Gedanken dasselbe vorschreiben will, was Hamlet seinem Herzen sagte: «Warte, warte, schlage noch nicht, ich möchte erst wissen, was Horatio dazu sagt»; als wenn der Gedanke keine Tatsache wäre, wie alle übrigen, eine reelle, völlig autonomische Tatsache, welche ihre geschichtliche Rechtfertigung und Zeitrechnung hat. Glauben Sie vielleicht, daß das Pariser Volk sich für das Bankett des zwölften Arrondissements auf den Straßen geschlagen hätte, oder vielleicht dafür, daß es sich eine verabscheuungswürdige Republik statt einer verabscheuungswürdigen Monarchie erkämpfte? Das Volk ging geraden Schrittes auf eine soziale Republik los; aber als es sich noch einmal verraten sah, versuchte es am 15. Mai die Versammlung aufzulösen, und als ihm das nicht glückte, lieferte es seine große Junischlacht. Das Volk begriff endlich sein unbestreitbares Recht, seine meineidigen Deputierten zum Teufel zu jagen, und schloß mit dieser Erkenntnis das Zeitalter der repräsentativen Fiktion, welche Napoleon nach dem Frieden von Campo Formio der Welt ankündigte. Das Volk wollte nichts von dieser Bastard-Republik wissen, durch deren heuchlerische Züge schon die Deportationen, die hohen Gerichtshöfe, der Belagerungszustand, Cavaignac, Bonaparte und alle Leiden hervorbrachen, welche uns diese stupide und lächerliche Wirtschaft zeigt. – Das Volk ist besiegt worden! – Aber wer hat denn triumphiert? Vielleicht die Republik? Nein, sie geht alle Tage mehr rückwärts, man bedauert sie selbst nicht, die Erhaltung einer solchen Republik hat für das Volk kein Interesse mehr. Das Volk, welches seine Repräsentanten am 24. Juni vergeblich auf den Barrikaden suchte, hat sich ermüdet und ekelnd von dem politischen Schauplatz zurückgezogen, und die Montagne rief es vor einigen Tagen vergebens, es stieg diesmal nicht auf die Straßen herab, um Politik zu machen.
Jetzt, nachdem der Sozialismus besiegt und die Republik faktisch untergegangen ist, wird sie auch bald dem Namen nach zugrunde gehen. Was haben die politischen Republikaner denn eigentlich aus ihrem Siege gemacht, als sie Meister waren und alles in Händen hatten, was zu einem starken Gouvernement nötig war, von den drei, vier Polizeien an bis zu dem Henker? Sie hatten nur den tapfern Meuchelmördern par métier zu befehlen, welche im Namen der Ehre ihrer Fahne Schwestern und Eltern mordeten, sie hatten eine ungeheure Majorität von Bourgeois-Repräsentanten und von Richtern, welche verurteilten, und mit alledem kamen sie, – risum teneatis! – bei einem Louis Napoleon an. Was tat denn dieser brave, tüchtige Mann, bei dem sie anlangten, mit seinen 6 000 000 Stimmen, mit allen Schwachköpfen aus den Zeiten des Kaiserreichs, mit allen begeisterten Knechten des Onkels, die sich nicht darüber trösten konnten, während e nes Zeitraums von fünfunddreiß<i>g Jahren den Schimpf einer Soldatenwirtschaft verloren zu haben? Der Zustand Frankreichs verschlimmert sich von Tag zu Tage, eine schwierige Lage ist durch eine noch schwierigere ersetzt. Die Maschine geht nicht, das Vertrauen kehrt nicht zurück, die Arbeit nimmt ab, der Handel lebt nicht wieder auf, die Armut vergrößert sich, und in der Ferne sieht man die drohende Wolke eines allgemeinen Bankerotts aufsteigen. Die Regierung eines Bonaparte stützt sich auf eine legitimistische Kammer, und diese beiden Gewalten halten sich, wie zwei Betrunkene, welche nicht fallen, weil sie einander stoßen. Alle Aufmerksamkeit des Gouvernements läuft in dem einzigen Bestreben aus, sich zu halten, seine Stellung auszubeuten, nicht um etwas zu tun, sondern um auf seinem Platze zu bleiben. Die äußere Politik ist diesem edlen Ziele untergeordnet, die innere Politik ist in einem solchen Zustande der Zerrüttung, daß man von den Präfekten nur eine ministerielle Propaganda, die Vernichtung alles dessen, was republikanisch, und Polizeispionsdienste verlangt. Bei den Gerichten verurteilt man nur die politischen Ansichten der Angeklagten, welcher Art auch die Anschuldigung sei, man berücksichtigt nicht die Beweisstücke, sondern nur die von Herrn Carlier eingesandten Polizeiakten und die moralische Jury spricht ihr Verdikt nach dem Wunsche des Prokurators aus.
Die Generale sind im Zustande der offenen Revolte, wie Bugeaud und Changarnier es bewiesen haben. Fügen Sie zu dem allen noch den Schrecken, den die Polizei verbreitet, und das Nichtvorhandensein des Schutzes für die Personen, so haben Sie die französische Republik. Hier ist die Grenze der gesellschaftlichen Unordnung, die vollständige Zersetzung eines politischen Körpers. Regierung und Börse haben eine einz<i>ge Hoffnung. Kanonen und Bajonette, Blut und Blut – das Volk hat ebenfalls nur eine einz<i>ge Hoffnung: Aufstand und Barrikaden, Blut und Blut. Dies Chaos, diese Unfäh<i>gkeit, etwas zu organisieren, ist das sicherste Anzeichen für die Unmöglichkeit, die alte Ordnung der Dinge fortzusetzen. Glauben Sie nicht, daß es in Frankreich an fähigen Staatsmännern fehlte. Als man deren bedurfte, mangelten sie nicht. Man fand damals Richelieu, Cambon, Carnot, Mirabeau, Danton, Robespierre, Bonaparte. Aber darum handelt es sich jetzt nicht. Was würden heutzutage Chatam oder Peel in Paris anfangen? Das beste, was sie tun könnten, wäre möglichst bald ihre Entlassung einzureichen. Weder die Könige noch die Minister, noch die Kammern könnten etwas tun; der Ge<i>st hat d<i>ese Spitzen des Sozialkörpers verlassen; ihr Beruf ist niedriger geworden, sie sind auf die kleine Polizei und auf die Erhaltung der Überreste der Gewalt zurückgeführt.
Wir sind aus Gewohnheit entrüstet, wenn wir alle diese zahllosen Abgeschmacktheiten der ausübenden Gewalt und all diese unbillig erlassenen Gesetze sehen. Was macht es im Grunde, ob man ein Gesetz votiert oder nicht? Wenn diese Gesetze uns bisweilen treffen, so geschieht es nicht deshalb, weil sie Gesetze, sondern weil wir schwach sind. Wir haben noch viel zu viel Vertrauen zu den Regierungen und den Nationalversammlungen. Ihre unfruchtbare Schwachköpf<i>gkeit, ihre schamlose Torheit sind völlig geeignet, unsere Vorurteile mit der Wurzel auszurotten, die sich noch an die religiöse Erziehung halten, laut deren wir alle guten Dinge von Oben erwarten müssen.
Dies Chaos, diese soziale Auflösung beschränkt sich aber nicht bloß auf Frankreich. In Europa sinkt alles mit einer fieberhaften Geschwindigkeit, geht unter und nähert sich einem drohenden Abhange, alles brennt und verzehrt sich, Rel<i>gion, Moral, Wissenschaft, Kunst, Politik, Überlieferung, Altes und Neues. Ein einziges Jahr hat für Frankreich hingereicht, um den Traum einer politischen Republik bis in seine kleinsten Teile auszuträumen, und genügte für Deutschland, alle andern Regierungsformen abzunutzen. Die Theorien, die noch vor kurzem kühn waren, werden blaß; die Verbannten, die Flüchtlinge kehren sehr häufig in ihr Vaterland als Konservative zurück, ohne ihre Ansichten gewechselt zu haben, manche durch ihren Radikalismus so bekannte Namen stellen sich auf die Se<i>te der Ordnung, d. h. der Polizei. Und zu gleicher Zeit wird die Revolution reaktionär und die Reaktion revolutionär. Die Regierungen können keine Ministerien b<i>lden, die Völker keine Repräsentanten wählen, deren eine oder andere schon nach wenigen Tagen durch unerwartete Verwickelungen, durch neue Umstände, durch die Forderungen der öffentlichen Meinung übersprungen sind. Die Reg<i>erungsgewalt erhält sich nur durch Gewalttätigkeiten aufrecht, stützt sich nur auf die Furcht der Besitzenden und die Dummheit der Soldaten. Die Legalität ist unmöglich, und ohne Legalität g<i>bt es nichts Beständiges. Die öffentliche Macht herrscht nicht, sie kämpft und hält, indem sie einen Abgrund vor sich sieht, krampfhaft den Zügel fest, den sie in ihrem eigenen Interesse nachlassen sollte…… Der alte Feind der Gewalt, die Bourgeoisie, hat sich auf ihre Seite gestellt und ihr als Mitgift all den Haß zugebracht, den das Volk gegen sie hegt, das von ihr zu jeder Zeit in der Fabrik, im Pfluge, im Gerichte und in der Werkstatt verfolgte Volk, das Volk, in dessen Seele die kommunistischen Ideen glühen. Die Boutiquen- und Advokaten-Bourgeoisie ist zu geizig, um nur eins ihrer Rechte und Monopole aufzugeben, und hat sich mit der Monarchie verbunden, um nun mit ihr im Bunde dem Bankerott entgegenzueilen, um eines schönen Morgens den Tiger zu wecken, der noch schläft. Ja, das Volk ist Tiger – und das ist das Gesetz der Wiedervergeltung; noch einmal – das ist die Nemesis, das ist die Züchtigung, welche als eine logische Konsequenz erscheint, das ist die Sühne! Und welche Sühne! – Denken Sie an die Blindheit der Gewalt und an die Hartherzigkeit der Bourgeoisie und an alles, was sich in der wilden und gepreßten Brust des Mannes aus dem Volke konzentriert! –
Wird der verbrauchte europäische Organismus eine ähnliche Krisis aushalten können, wird er die Kraft zu seiner Wiedergeburt finden? Wer kann es wissen? Europa ist sehr alt, es hat nicht Kraft genug, um sich zur Höhe seines e genen Gedankens aufschwingen zu können, es hat nicht Haltung genug, um seinen eigenen Willen auszuführen. Europa hat übrigens nach einer langen Laufbahn das Recht, ohne Schande aus dem großen Strome der Geschichte zu treten. Es hat einst tapfer gekämpft, und wenn es jetzt fällt, so geht es wenigstens unter mit seinen Wunden auf der Brust und im Rücken. Seine Vergangenheit ist reich, es hat viel gelebt, und was die Zukunft betrifft, so kann es auf der einen Seite Amerika oder auf der andern die slawische Welt zu seinem Erben einsetzen.
<Эта большая свобода, это доверие к человеку, к которому он стремится и которое поддерживается в нем республиканским принципом, возбуждает страх; свободного человека боятся, его природу не считают хорошей в том значении, какое придано было этому слову; однако при этом забывают, что он прежде всего животное политическое, что он обладает инстинктом общественной жизни и что оппозиция против потребностей, необходимых всякому человеческому существованию, всегда будет очень редким исключением. Мы спим спокойно не потому, что имеем доверие к человеку, а потому, что мы знаем, что сильное правительство со своими штыками бодрствует за нас, потому что мы думаем, что власть охраняет нас от людей, потому что мы знаем, что правительство имеет право схватить каждого из нас, заковать нас в цепи и расстрелять нас; но не должно ли бы это быть еще гораздо более важным основанием для того, чтобы вовсе не спать? Надо иметь некоторое доверие к человеку, как и к природе; общественный инстинкт столь же естественен для него, как и эгоизм; не ограничивайте его эгоизма, и он будет любить, не требуйте от него никаких добродетелей, никакого самоотречения, никакой жертвенности, предоставьте ему свободу и спокойствие, не запугивайте его ежеминутно требованиями общества, и он даст ему то, что ему принадлежит.
После этой общей характеристики республики и монархии я спрашиваю вас как честных людей, согласных со мною в оценке республиканского принципа: где же политическая республика найдет средства осуществить себя, не переходя однако в социальную?
Все, что политическая республика могла дать, она дала Северо-Американским Штатам, которые действительно являются республикой, а не горькой иронией, как французская республика, где личная свобода не существует, где право объединения подавлено, где полиция более всемогуща, чем в Турции, где, наконец, людей толпами бросают в тюрьмы с тем, чтобы несколько месяцев спустя выкинуть их за дверь с пожеланием: «До свидания!» В Соединных Штатах мы встречаем значительное осуществление политических теорий, развившихся в Европе в течение XVIII столетия. Индивидуум так свободен, как это только может быть в политической нелицемерной республике. Правительство зависит от общественного мнения. Общественное зло бюрократии почти неизвестно, нет тайной полиции, мундиром и игрой в солдатики гнушаются, землей и деньгами богаты, и, несмотря на все это, господин Брисбен, достопочтенный гражданин Соединенных Штатов, недавно публично заявил в Париже: «Республика, которая, как наша, учреждена на известных основах политического европейского общества, ничего не может сделать для трудящихся классов, она не может, не нарушив своих жизненных основ, предоставить людям равенство, к которому мы стремимся». Я вполне разделяю мнение господина Брисбена. Политическая республика есть лишь преходящая форма, введение, подготовка. Когда ее принимают за конечную цель, она вновь впадает в монархизм, как во Франции, останавливается или оказывается бесплодной, как в Швейцарии. Республика 1793 года была воинствующей республикой, и Конвент так хорошо понимал свое призвание, что повелел завесить статую свободы и прав человека. Когда же борьбе, революции захотели придать прочность и законность, то попали под иго Консульства, Империи. Истинный прогресс был после 1793 года на стороне Бабёфа, этого вздорного Гая Гракха нового мира, а полнейшая реакция на стороне Наполеона, этого мещанского Карла Великого, который укрепил позорнейшее социальное положение, какое когда-либо существовало.
Общественное развитие невозможно без республиканской формы; всегда, стало быть, сделан большой шаг вперед, когда последняя достигнута. Странно однако, если после этого останавливаются, так же странно, как упрямо держаться за протестантизм после того, как удалось отделаться от католицизма, или остановиться на власти денег, раз уж избавились от феодального крепостного состояния. Не подумайте, что я хочу здесь бросить неблагодарные упреки реформаторам и революционерам прошедших времен, нисколько; нет, я здесь бросаю упрек лишь псевдореволюционерам современности. В 1789 году само слово «республика» уже было неизмеримым прогрессом, республика была благой вестью, которая возвещала человечеству революцию, республика поднималась на сияющем, солнечном горизонте, она являлась, как некогда царство божие христианам, как исполнение всех человеческих чаяний; она была религией, революционной идеей своего времени. Ни царство божие, о котором мечтали апостолы, ни республика, о которой мечтали якобинцы, не могли осуществиться, и фанатическая вера в это осуществление создала их могущество и величие. События лишь тогда велики, когда они совпадают с высочайшими стремлениями своего времени; люди бросают тогда всю свою силу и энергию на завершение дела, их деятельность поглощает их, воодушевляет их, они забывают все, что лежит за пределами увлекшей их сферы. Пусть мы хоть в двадцатый раз читаем о событиях первой революции, снова и снова бьется наше сердце, снова и снова взволнована наша душа, мы находимся во власти этого мрачного, мужественного и деятельного величия. Поэтому в памяти каждого навсегда запечатлеваются имена этих исполинских личностей, эти пластические события, самые слова, произнесенные этими мужами, ответ Мирабо, взятие Бастилии, 10 августа, Дантон, Робеспьер, 21 января и все эти гиганты гражданского и воинского духа. И в то же время мы начинаем забывать близоруких, слабых волей людей, которые отважились 24 февраля пробиться на передний план, львов Временного правительства и Учредительного собрания. Эти люди медленно шли вперед, они пугались последствий, они содрогались от беспокойного предчувствия, они видели, что на небе всходило еще нечто другое, но это нечто было им непонятно, и они хотели его задержать, они хотели затормозить колесо истории. Эти маловерные люди не были революционерами по мерилу нашего времени, и они погубили революцию, – как Луи Блан, социалистический дилетант, так и Ламартин, политический дилетант.
«Весь мир считает Луи Блана ультрасоциалистом, а вы утверждаете, что он лишь дилетант? Социалисты ни в чем не достигают согласия; причина тому просто в том, что социализм никогда точно и ясно не выдвигал своих принципов и не имеет определенных догм; он составлен из дюжины шатких, противоречивых доктрин». Но знаете ли вы, какие учения так хорошо формулируются и разрабатываются в тиши кабинета? Это правила, учения, никогда не осуществляемые, это Платонова республика, Морова Атлантида, христианское царство божие. Впрочем, я ошибаюсь, царство божие было уже гораздо неопределеннее, и развитие христианства представляет для нас прекрасный пример того, какими способами осуществляются социальные превращения. Быть может, организация церкви и католического мира была подготовлена евангелием? Отнюдь нет, евангелие было лишь высокой абстракцией и отрицанием существующего, быть может, еще более высокого порядка; лишь после четырехсотлетней борьбы христианам удалось достигнуть согласия на Никейском соборе. Великие революции никогда не совершаются по заранее и окончательно установленной программе. Это осознание того, чего не хотят. Борьба есть истинное рождение общественных обновлений; посредством борьбы и сравнения общие и отвлеченные идеи, неясные стремления превращаются в установления, законы и обычаи. Эмбриогенез всего живущего длителен и запутан, зародыш проходит через различные безобразные и странные состояния, его развитие – не отвлеченная наука, а действительность, развитие семенного ядра и постоянное посредничество противоположностей. Когда социализм был еще беднее содержанием, носил более общий характер и был еще ближе к своей колыбели, он формулировал себя с значительно большей легкостью и предстал в религиозной форме, в которой выступает всякая великая идея в своем младенчестве; у него были тогда свои верующие, свои фанатики, свои внешние приметы – это был сен-симонизм. Затем социализм явился в виде рациональной доктрины, это был его период метафизики и отвлеченной науки; он построил общество a priori, он предпринял социальную алгебру, психологические расчеты, для всего создал рамки, все формулировал и не оставил никаких открытий будущим людям, которым предназначил зачислиться в фантастерий. Вскоре настало время, когда социализм спустился в массы и предстал как страсть, как месть, как буйный протест, как Немезида. Едва рабочие, подавленные вопиющей несправедливостью существующего беспорядка, услышали издалека слова сочувствия, едва увидели они занимавшуюся зарю сулившего им освобождение дня, как они перевели социальные учения на иной, более суровый язык, создали из них коммунизм, учение о принудительном отчуждении собственности, учение, возвышающее индивидуум при помощи общества, граничащее с деспотизмом и освобождающее между тем от голода. В наше время никто не говорит о сен-симонизме, о фурьеризме или о коммунизме. Все эти системы и учения, и еще многие другие, склонились перед мощным голосом критики и отрицания, который ничего вперед не осуждал и не систематизировал, который однако взывал к уничтожению всего того, что препятствует общественному возрождению, и вскрывал пошлость и лицемерие всего того, что поддерживается друзьями порядка. Я не хочу отрицать солидарности, поневоле связывающей нас с нашими традициями, нет, конечно, нет, ибо почему человек должен презирать мечты своей юности? Предшествующие формы были слишком детскими, заключали истину лишь в одностороннем восприятии, но учения из-за этого вовсе не были ложными. Одна и та же великая мысль, содержащая целый мир в своем зародыше, пронизывает все социальные доктрины, не исключая даже прогрессивнейшего коммунизма. Этим учениям мы обязаны тем, что начинают сознавать, что нельзя достигнуть спасения мира, разладив старую политическую машину; от них исходит громкий призыв к реабилитации плоти, к прекращению эксплуатации человека человеком, в них впервые получили признание страсти человека и была сделана попытка использовать их, а не подавлять. Солидарность однако, признаваемая мною, не означает, что я ответственен за каждую мысль, каждую фазу, детали, всю организацию каждого рассматриваемого в отдельности учения.
Одни хотят видеть в социализме лишь странные подробности, в которые впали некоторые из первых социалистов, увлеченные и ослепленные красотой идей. Скорее пророки, чем организаторы, они оставались на верном пути в своих неопределенных стремлениях и запутывались в их применении и их последствиях. Этого никто не отрицает. Но сколько бы вы ни повторяли, что историческое развитие есть непрерывная метаморфоза, в которой каждая новая форма более пригодна к содержанию истины, чем предшествующая, – на нас взваливают преувеличения папаши Анфантэна, все чрезмерности Фурье и все ошибки икарийцев. Другие, напротив, удивленно и иронически спрашивают, что же нового в социализме, за исключением самого слова; они находят, что социализм является лишь развитием и продолжением политической экономии, и обвиняют его в неблагодарности и в плагиате. Ведь разве не было идеалом Ж. Б. Сэя, как он сам говорит, отсутствие управления? Да. Разумеется, социализм – осуществление идеала национальной экономии. Политическая экономия является вопросом, социализм его разрешением. Политическая экономия – это наблюдение, описание, статистика, история производства и оборота, обращения богатств. Социализм – это философия, организация и наука. Политическая экономия дает материалы и документы, она производит следствие – социализм выносит приговор. Политическая экономия констатирует естественную данность богатства и нищеты – социализм разрушает их не как исторический факт, а как неизбежную данность, уничтожает все границы и преграды, препятствующие обращению, сообщает собственности текучесть, т. е. одним словом уничтожает богатство и нищету. Уже в самом этом антагонизме можно усмотреть, что социализм находится в тесной связи с национальной экономией. Это анализ и синтез одной и той же мысли. В этом однако нет ничего удивительного. С тех пор, как в мире существуют доктрины, религии, системы, с тех пор, как существует умственное движение, каждое новое учение имело свои корни в каком-нибудь отошедшем. Пусть новое учение отрицает отошедшее, тем не менее последнее является его точкой опоры, его почвой, и если даже новое учение отрекается от своей матери, то остается ее дочерью. Таким образом иудейство перешло в христианство, таким образом само христианство продолжало жить в этике Руссо, которая служит основой деистской и филантропической нравственности века; таким образом Гегель в зародыше находится уже в Спинозе и Канте, Фейербах в Гегеле. Каждая новая преобразующая идея, прежде чем она может формулировать себя как учение, уже беспокоит умы и навязывается сознанию; у одного она возникает как практическое внушение, у другого как сомнение, у третьего как чувство. Внезапно эта новая идея обретает слово, и занимавшаяся заря исчезает перед солнцем; ессеи, терапевты были забыты при появлении Христа, потому что Христос был истинным λόγος πpοϕοpιϰος[371]. Творческое начало, из которого организуется новая религия, становится евангелием, отрывочные идеи церкви, беспокойное и страстное волнение – так сказать, актом оплодотворения. Пусть так! Но разве когда-нибудь хоть один человек считал Христа за плагиатора ессеев или даже неоплатоников?
Социальные идеи являются, если угодно, одновременно не только с политической экономией, но даже и со всеобщей историей. Всякий протест против несправедливого распределения средств производства, против ростовщичества, против злоупотребления собственностью – есть социализм. Евангелие и апостолы – мы имеем здесь в виду только новый мир – проповедуют коммунизм. Кампанелла, Томас Мюнцер, анабаптисты, частично монахи, квакеры, моравские братья, большая часть русских раскольников – социалисты. Но социализм как учение, как политика и как революция восходит лишь к июльским дням 1830 года. История может интересоваться прежними стремлениями, она может перелистывать хроники скандинавов, чтобы доказать, что норманнам еще в XII веке была известна Америка; для нас, для действительной жизни, Америку все-таки впервые открыл Колумб. Эти ранние усилия свидетельствуют лишь о богатстве и полноте человеческой природы, мечтающей и размышляющей уже о вещах, которые могут осуществиться лишь через несколько столетий.
Впрочем, не явился ли социализм теперь, как и во времена Кампанеллы, еще слишком рано, не во-время? Я приберег это замечание на закуску. Все исключительно политические люди, не являющиеся отъявленными врагами социализма, полагают, что он пришел слишком рано. Они говорят, что, не заключая в себе сил для собственного осуществления, он парализовал политическую революцию и не предоставил ей необходимого времени, чтобы основать республику, чтобы заключить и завершить демократические установления. Люди, выдвигающие подобные возражения, – посредственные знатоки истории и плохие психологи, так как они воображают, что история поступает на манер той кухонной экономии, которая не приступает к новой ватрушке, пока початая не доедена. Однако история, как и природа, кидается во все стороны и лишь невозможность признает пределом. Но это еще не все. Политикам нечего завершать, нечего устраивать, ибо они дошли до рубежа, после перехода которого они на всех парусах прибудут в социализм. Если они задержатся, то они, напротив, обречены вращаться в кругу идей, который, правда, был нов во времена созыва Генеральных Штатов, но теперь знаком каждому четырнадцатилетнему ребенку. Рассмотрите французскую конституцию 1848 года и укажите мне хоть одну новую мысль, одну оригинальную линию развития, какой-нибудь истинный прогресс. Возьмите заседания Учредительного собрания. Вне его четырех стен – настоятельнейшие вопросы, разрушительнейшие сомнения, страшнейшие развязки; внутри этих стен – бесконечное, однообразное пережевывание пошлейших и пустейших конституционных теорий о равновесии сил, о полномочиях президента, о бесплодном законодательстве, опирающемся на нелепый Кодекс Наполеона. Вы, может быть, сошлетесь на Прудона, Пьера Леру, Консидерана?.. Но эти ведь сами пришлецы, которые ненароком забрели в это беотийское собрание, и речи их каждый раз заглушаются криками негодования законодателей. «Да, но все-таки Гора!» Но чего же хотела Гора господина Ледрю-Роллена? Свободы! Но что такое свобода? И как может человек быть свободным в обществе, организованном подобно французскому, какими гарантиями обеспечивают монтаньяры независимость личности от государства и его власти, как хотите вы уничтожить несовместимость всех французских учреждений с индивидуальной свободой, не разрушив их самих? Вы ничего не можете ответить; неопределенное ощущение, благороднейшее сочувствие свободе понуждает вас к действию, вы очень хорошо сознаете, что эта республика отвратительна, – но вы не знаете решительно никакого средства исцеления. Вы говорите, что ваша республика еще не осуществлена. Это несомненно верно, но причина этого в том, что она не может быть осуществлена. Пусть вы даже желаете истинной свободы, пусть вы являетесь первыми, провозгласившими salus populi suprema lex[372], пусть вы даже хотите равенства, вы все-таки не решаетесь коснуться эксплуатации страдающего бедного большинства богатым и угнетающим меньшинством. Нет, мы не должны обманываться. Время либеральных политиков прошло, им нечего делать, нечего сказать. Социализм после 24 февраля имел полное право воздвигнуть свое знамя. Я не хочу даже и говорить здесь об удивительной дерзости, желающей предписать человеческой мысли то, что Гамлет говорил своему сердцу: «Погоди, погоди, не бейся пока, я желал бы сначала знать, что скажет об этом Горацио», словно мысль не факт, как все прочие, реальный, вполне автономный факт, имеющий свое историческое оправдание и летосчисление. Вы думаете, может быть, что народ Парижа стал бы биться на улицах за банкет двенадцатого округа или, может быть, за то, что он отвоевал себе презренную республику вместо презренной монархии? Народ шел прямо к социальной республике. Но когда он еще раз увидел, что его предали, он попытался 15 мая распустить Собрание, а когда это ему не удалось, он дал свое великое июньское сражение. Народ постиг наконец свое неоспоримое право прогнать к черту своих вероломных депутатов и этим уразумением заключил век представительной фикции, возвещенной Наполеоном миру после Кампоформийского договора. Народ знать ничего не хотел об этой ублюдочной республике, сквозь лицемерные черты которой уже пробивались ссылки, верховные судебные палаты, осадное положение, Каваньяк, Бонапарт и все несчастья, которые нам являет это бессмысленное и смехотворное правление. Народ был побежден! – Но кто же торжествовал? Быть может, республика? Нет, она с каждым днем все дальше отступает, о ней даже не жалеют, сохранение подобной республики не представляет больше для народа никакого интереса. Народ, тщетно искавший 24 июня своих представителей на баррикадах, утомился и с отвращением покинул политическую сцену, и Гора тщетно призывала его несколько дней тому назад; на этот раз он не спустился на улицы, чтобы делать политику.
Теперь, после того как социализм побежден и республика фактически уничтожена, скоро погибнет и самое ее имя. Что же, собственно, сделали политические республиканцы из своей победы, когда они были хозяевами и имели в руках все нужное для крепкого правительства, от трех-четырех полицейских управлений до палача? Им надо было лишь приказывать храбрым убийцам-предателям, par métier[373], во имя чести своего знамени убивавшим сестер и родителей; им принадлежало огромное большинство представителей буржуазии и судей, выносивших приговоры, и со всем тем они пришли – risum teneatis[374] – к Луи-Наполеону. Что же этот честный, дельный человек, к которому они явились, сделал со своими 6 000 000 голосов, со всеми слабоумными времен Империи, со всеми восторженными холопами его дядюшки, которые не могли утешиться тем, что в течение тридцати пяти лет они были лишены позора солдатского хозяйничанья? Состояние Франции день ото дня ухудшается, тяжелое положение сменилось еще более тяжелым. Машина бездействует, доверие не возвращается, работы становится меньше, торговля не оживляется, нищета растет, а издали надвигается грозная туча полного банкротства. Правительство Бонапарта опирается на легитимистскую палату, и обе эти власти держатся на ногах, как двое пьяных, которые не падают, потому что подталкивают друг друга. Все внимание правительства исчерпывается единственным стремлением удержаться, использовать свое положение не с тем, чтобы что-либо сделать, а с тем, чтобы остаться на своем месте. Внешняя политика подчинена этой благородной цели, внутренняя политика находится в таком состоянии расстройства, что от префектов требуют лишь министерской пропаганды, уничтожения всего республиканского и полицейско-шпионских услуг. В судах осуждают только политические взгляды обвиняемых, какого бы рода ни было обвинение, во внимание принимаются не вещественные улики, а лишь присланные господином Карлье полицейские акты, и высоконравственные присяжные произносят свой вердикт согласно желанию прокуратуры.
Генералы находятся в состоянии открытого мятежа, как это доказали Бюжо и Шангарнье. Добавьте ко всему этому еще страх, распространяемый полицией, и отсутствие охраны личности, и вы получите французскую республику. Здесь предел общественного беспорядка, полнейшее разложение политического тела. У правительства и у биржи единственная надежда: пушки и штыки, кровь и кровь – у народа также единственная надежда: восстание и баррикады, кровь и кровь. Этот хаос, эта неспособность что-либо организовать – вернейший признак невозможности длить старый порядок вещей. Не подумайте, что во Франции не хватает способных государственных людей. Когда в них была нужда, недостатка в них не было. Тогда нашлись Ришелье, Камбон, Карно, Мирабо, Дантон, Робеспьер, Бонапарт. Но не об этом теперь идет речь. Что могли бы в наши дни предпринять в Париже Чатам или Пиль? Лучшее, что они могли бы сделать, – это возможно скорее подать в отставку. Ни короли, ни министры, ни палаты ничего сделать не могут. Дух покинул эти вершины социального тела; круг их действия снизился; они сведены к ничтожной полиции и к поддержанию остатков власти. Мы по привычке возмущены, когда видим эти бесчисленные нелепости исполнительной власти и все эти несправедливо изданные законы. Что, в сущности, из того, голосуют ли за закон или нет? Если эти законы иной раз и поражают нас, то это происходит не потому, что это законы, а потому, что мы слабы. Мы еще слишком доверяем правительствам и национальным собраниям. Их бесплодное слабоумие, их бесстыдная глупость вполне способны искоренить наши предрассудки, связанные с религиозным воспитанием, согласно которым мы все хорошее должны ожидать свыше.
Этот хаос, это общественное разложение не ограничиваются одной лишь Францией. В Европе все падает с лихорадочной быстротой, гибнет и приближается к грозному обрыву, все горит и истощается – религия, нравственность, наука, искусство, политика, традиции, старое и новое. Одного лишь года хватило Франции, чтобы исчерпать в ее мельчайших частях мечту о политической республике, и хватило Германии, чтобы испошлить все другие формы правления. Теории, недавно еще дерзкие, поблекли; изгнанники, беглецы зачастую возвращаются на родину консерваторами, не изменяя своих взглядов; иные столь известные своим радикализмом имена становятся на сторону порядка, т. е. полиции. И одновременно революция становится реакционной, а реакция революционной. Правительства не могут образовать министерств, народы – избрать представителей, из которых те или другие не были бы уже через несколько дней сметены неожиданными осложнениями, новыми обстоятельствами, требованиями общественного мнения. Власть правительства поддерживается лишь насильственными действиями, опирается лишь на страх имущих и глупость солдат. Законность невозможна, а без законности не бывает ничего прочного. Общественная власть не управляет, она борется и, видя перед собою бездну, судорожно держится за поводья, которые она в собственных интересах должна была бы ослабить… Старый враг власти – буржуазия – перешла на ее сторону и принесла ей в качестве приданого всю ненависть, которую к ней испытывает народ, – ежечасно, на фабрике, на пашне, в суде, в мастерской, преследуемый ею народ, – народ, в душе которого разгораются коммунистические идеи. Буржуазия прилавка и адвокатуры слишком скупа, чтобы отдать хоть что-нибудь из своих прав и монополий, и она связалась с монархией, чтобы в союзе с ней спешить навстречу банкротству, чтобы в одно прекрасное утро разбудить еще дремлющего тигра. Да, народ это тигр – и это закон возмездия; еще раз – это Немезида! это наказание, являющееся логическим выводом, это искупление? И какое искупление! – Вспомните о слепоте власти и жестокосердии буржуазии и обо всем, что сосредоточено в неукротимой и сдавленной груди человека из народа!
Сможет ли изношенный европейский организм выдержать подобный кризис, найдет ли он силу для своего возрождения? Кто может это знать? Европа очень стара; ей недостает силы, чтобы вознестись до уровня собственной мысли, она не обладает достаточной твердостью, чтобы выполнить собственную волю. Европа имеет, впрочем, право после долгой деятельности выйти без позора из великого потока истории. Некогда она храбро сражалась, и если она теперь падает, то она по крайней мере погибает с ранами на груди и на спине. Ее прошлое богато, она много пережила, а что касается будущего, то она может назначить себе в наследники с одной стороны Америку или с другой – славянский мир.>
ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ
ПИСЬМА С VIA DEL CORSO
ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ПД)
Письмо первое
Стр. 245
12 После: с другой – было: это ужасно
30 Вместо: воспоминания – было: черты
33 После: возмужала – было: Обещаю вам со временем целую хронику последних событий в Италии – письма эти один легкий, беглый очерк
Стр. 246
8–9 Вместо: печальные ~ с Лувром – было: величавые готические стены Шатле, фасад собора и Тюльери с Лувром
20 Вместо: бульвары – было: Café Anglais
42–43 Вместо: угловатым венком своих полигонов – было: венком своих подкопов
Стр. 247
2 Вместо: идешь – было: вовсе неожиданно идешь
25 Вместо: сойти им некуда, назад двинуться невозможно – было: как они столпились там, вдруг открылся пушечный огонь из-за Соны, сойти им некуда, назад двинуться было нельзя
40–41 Вместо: это были сентябрьские дни второй Реставрации, они отрезывали – было: это были его сентябрьские дни, которые отрезывали
Стр. 248
1 Вместо: Начался суд, т. е. казни – было: Начались казни
Стр. 248–249
46-1 Вместо: замешанным в дело жителям – было: особенно замешанным жителям
Стр. 249
9 Слова: и долго переносимая – вписаны.
35–36 Вместо: Провансом начинается ~ зелень, цветы – было: Прованс – начало благодатной полосы в Европе, отсюда начинаются леса маслин, – зелень нежная, пышная
45–46 Вместо: наши слова, пение птиц необыкновенно раздавались – было: пение птиц, наши слова необычайно раздавались
Стр. 250
12 Вместо: родину – было: прекрасную родину
14 Вместо: нашего пути – было: этого пути
15 Слова: что делать – вписаны.
16 Вместо: счастливым событием – было: благородным событием
Стр. 251
32 Вместо: как пышно – было: как будто
Стр. 252
5 Слово: покорялась – вписано.
7 Вместо: уничтожила почти все – было: разом уничтожила все
16–17 Вместо: лучших упований – было: многих упований
39–40 Вместо: бедняк в Италии может просуществовать сутки на десять копеек медью – было: бедняк может просуществовать сутки на два байокка
44 Вместо: ретивым – было: слишком ретивым
47 После: так дорога – было: что индустрия не цветет
Стр. 254
24 Вместо: Коммуна – глубочайший корень – было: Этих глубочайших корней
Стр. 255
9 Вместо: известными – было: великими
13 После: музыка – было: шляпы полетели
17 После: факелами – было: в окнах
Стр. 256
4 Вместо: до улицы… – было: до Елисейских Полей
37–38 Вместо: для этого полиция стала подкупать разных мерзавцев – было: для этого они стали подкупать разных плутов
Стр. 257
1 Вместо: сообщников – было: полицейских
43 После: испытывал – было: особенно путешествуя
Стр. 258
4 Вместо: перевел дыхание – было: вздохнул
15 Вместо: понятия – было: [грандиозности] слова
20–21 Вместо: но поразительно хороши в своей небрежности; они неудобны, но величавы, – было: от небрежности, от уверенности в своей красоте; они неудобны, но широки
22–23 Вместо: Рим делает исключение – было: новый Рим не имеет и этого достоинства
Стр. 259
31 Вместо: при доблестных цезарях – было: при цезаре
43–45 Вместо: Реформация ~ все переменилось – было: Реформация нанесла Риму страшный удар – финансовый, политический, религиозный, нравственный
Стр. 260
7 Слово: цепи – вписано.
10–13 Вместо: забытые фразы ~ что в Ариосте – было: фразы – начали поститься, исполнять внешние обряды
14 Слово: политически – вписано.
20 Вместо: Отсюда начинается – было: Тогда началась
22 Вместо: преобразователей – было: реформаторов
23 Слово: войной – вписано.
26–27 Вместо: притеснение – было: и утеснение
27 Вместо: местного – было: локального
28 Слово: федеральную – вписано.
29 Вместо: В эту-то серую и глухую эпоху – было: В эту-то эпоху серую и глухую
31 Вместо: ищут – было: могут
37 Слова: кривлял линии – вписаны.
44 Вместо: лежал – было: налег
Стр. 261
3 Вместо: Но для наружности Рима он не мог ничего сделать. – было: Ко всему этому
8–9 Вместо: оставшиеся после Наполеона достояния – было: огромные достояния
12 Вместо: на царя – было: на Цезаря
34–35 Слова: располагают душу к торжественной грусти, – вписаны.
41 Слово: вдаль – вписано.
44–45 Слова: и на пропадающие акведуки, и на обломки колонн – вписаны.
Стр. 262
5 Вместо: освещенье – было: вообще
8–9 Слова: они дополняют ~ камнях – вписаны.
28 Вместо: остовом – было: святым остовом
33 Вместо: несмотря на то что и он – было: Пантеон, который так же
Стр. 263
19 Вместо: но не любил бы, чтоб эти стены были построены для картин – было: но не люблю, чтоб эти стены были для картин
20–21 Вместо: не об этом речь. Вы лучше представьте себе – было: не об этом речь, я твердо уверен, что есть много превосходных произведений, утопленных в галереях, во множестве других картин и задавленных двумя, тремя chef d’oeuvr’aми. Представьте себе
38 Вместо: соизмеримее – было: соразмернее
Стр. 264
1–3 Вместо: что я ~ капеллы – было: что я несколько раз ходил в Сикстинскую капеллу, прежде нежели сумел сколько-нибудь понять «Страшный суд» – меня ужасно рассеивали частные группы, – раз, выходя из капеллы
11–12 Вместо: и в всем существе ~ всепрощения – было: и в ее глазах видно милосердие, любовь – не желание казни грешнику, а желание несправедливости всепрощения.
15–16 Слова: и притом робкая, испуганная женщина – вписаны.
20–21 Слова: Худую ~ раскаяния – вписаны.
25 Слова: и столько физической слабости? – вписаны.
26–29 Вместо: Перейдемте ~ Risorgimento. – было: самая захватывающая внимание, самая новая сторона римской жизни – это его современное состояние, его Risorgimento.
32–33 Вместо: Об этом в следующем письме – было: В следующем письме мы поговорим об этом
Стр. 266
38–39 Вместо: Разумеется, смех смеху розь: есть смех, который только возбуждается в душе – было: Разумеется, есть предметы, которые только возбуждают смех в душе
Письмо второе
Стр. 266
32 Вместо: полное – было: новое
35 Вместо: самобытны – было: оригинальны
37 Вместо: обыкновенно – было: легко
Стр. 267
2 Вместо: по развитию – было: по историческому развитию
4 Слова: в многом – вписаны.
10 Вместо: или принимает национальный колорит – было: Ее развитие совершенно национально
28 Вместо: выражавшие – было: выражали
29–30 Вместо: Венеции, – за городскими стенами – было: Венеции, но за городскими делами они
37 Вместо: трактаты – было: педантские трактаты
Стр. 268
20–21 Вместо: в единовластии – было: в монархии
30 Вместо: феодальное устройство – было: средневековую жизнь
Стр. 269
4 Вместо: обособление – было: индивидуальность
5 Вместо: разными – было: отдельными
7 Вместо: поглощения личностей – было: поглощение личности, воли
9 Вместо: к канцелярскому и казарменному – было: к монархическому
26–27 Вместо: для всего ~ умеет наслаждаться – было: для человечества
Стр. 270
20 После: не мог – было: совсем
29 После: порядок – было: и покорить их немецкой дисциплине
36–37 После: столетии – было: Франция была сильным и великим государством, независимым и гордым, – когда ее крестьянин едва выходил из кретинизма, в которое впал от насилия и тяжкого гнета, ее буржуа едва смели поднимать голос и голову.
38–39 Вместо: итальянец потому был свободнее, что не всю жизнь связывал – было: итальянец не всю свою жизнь связывал
40 После: государства – было: обрушиваясь на каждого
Стр. 271
32 После: XVIII-гo – было: Возвратившиеся властелины из своих удалений хотели выместить все перенесенное ими в несчастные годы, они теперь распространяли ужас за долгий страх, в котором они проводили свое время.
35 Вместо: в двадцатых годах – было: теперь, т. е. с двадцатых годов
37–38 Вместо: восстала такая же не национальная оппозиция – было: восстала та же национальная оппозиция
Стр. 272
4–5 Вместо: в материализме ~ поколение, – было: материализм жизни, грубые наслаждения, суетная потеря времени овладевали молодежью
22 Вместо: иноземная демагогия – было: демагогия либерализма
30 Вместо: кротким кардиналам – было: ему
31 Вместо: римское правительство – было: он
Стр. 273
4 Вместо: к измене – было: как его предшественник
14 Слова: несмотря на толпу шпионов – вписаны.
17–19 Вместо: впрочем, Калигулой ~ быть извергом – было: впрочем, Нероном надобно родиться, так же, как Титом
25 После: Италии – было: Как народы великодушны и незлопамятны, это удивительно.
34–35 Вместо: заговор имел связи ~ итальянскими. – было: заговор, в котором участвовали австрийская дипломация, Пармский и Моденский герцоги и король Неаполитанский
37 После: девятого – было: в свою власть
40–41 Вместо: заговорщики – было: они
42 Вместо: радикальную – было: либеральную
46 После: народом – было: и разрешил составление народной гвардии
Стр. 274
8 Вместо: подружился – было: знаком
Отрывки: Но кто же этот ~ своих сограждан. и: Мудрено ли ~ посадить
Ламбрускини. – следовали в обратном порядке.
15 Вместо: после открытия заговора – было: при Пие IX
31–32 Вместо: блюстителем порядка – было: полицеймейстером
Стр. 274–275
43 Подстрочное примечание – вписано.
Стр. 275
1–2 Слова: не нарушались – вписаны.
28 Слова: особую клерикальную мясистость – вписаны.
29 Вместо: костюм и ритуал – было: надобно заметить, что костюм и весь ритуал
35–36 Вместо: и что за веющие могилой лысины! В их отживших чертах виднелась – было: и лысины, на их лицах написана
37 Вместо: дипломатов-иерофантов. Да – было: дипломатов
Стр. 276
12 После: колыбелью – было: Вообще меня удивляет
<Письмо третье>
Стр. 277
41 Вместо: с мужественной красотой – было: именно с красотой. Эти люди смеются раз в год – на карнавале
Стр. 278
5 Вместо: тысяч тридцать – было: тысяч двадцать
26–27 Вместо: и вся масса народа пошла – было: и двадцать тысяч человек пошло
33–34 Слова: Пию могло прийти в голову, что – вписаны.
39–40 Слова: люди во фраках и пальто – вписаны.
Стр. 280
16–17 Вместо: в Турине – было: в Париже
Отрывки: Минута устали ~ посла. – и: Другие ~ песен!!! – следовали в обратном порядке.
28 После: время – было: Все внимание обратилось на Неаполь
39 Вместо: десять дней – было: только девять дней.
Стр. 281
10 Вместо: чивика выстроилась – было: Национальная гвардия собралась
11–12 Вместо: римляне заменили – было: заменили римляне
15 После: распевая – было: гимн Пию девятому и
Стр. 283
45 Вместо: оставались на житье – было: жили
Стр. 285
17 Слова: Неаполь восстал – вписаны.
27–28 Вместо: В день моего приезда я отправился в San Carlo, где был назначен гимн Фердинанда II – было: Я увидел на афише, что в тот вечер, в который мы приехали в San Carlo, будут петь гимн Фердинанда II
43 После: на ногах. – было: Итальянцы чрезвычайно шумны в театре
Стр. 286
18 Вместо: недоверие – было: негодование и неверие
37 Вместо: другие – было: люди
Стр. 288
14 Вместо: пульчинеллы – было: пальясы
25–26 Вместо: праздник продолжался до глубокой ночи на Толедо, Санта-Лучии и Киайе – было: праздник на Толедо, Санта-Лучии и Киайе продолжался.
29 Вместо: на другой день – было: нынче
Стр. 289
11 Вместо: в Марсель – было: в Турин
12–13 Слова: (за что «Монитер» сильно пожурил марсельцев) – вписаны.
13–14 Вместо: товарищами по службе – Гизо и Дюшателем – было: товарища по службе – Гизо.
20–21 Вмecmo: вот вам трагикомический анекдот, случившийся со мной ~ как вдруг – было: [у меня украли портфель, я по этому случаю виделся с графом Тофано – новым префектом полиции; дело состояло в том, что мне портфель возвратили] у меня пропал портфель, в нем были разные документы, необходимые для меня – я объявил награду тому, кто доставит портфель, в котор<ом>
26–29 Вместо: принес портфель ~ дукатов – было: возвратил портфель, чтоб получить обещанную награду, но в нем недоставало двух векселей. Мне казалось, что лаццарони, повидимому, не был вор, вероятно, ему портфель подсунули – было безмерно глупо из-за двадцати пяти дукатов
31–33 Вместо: Но через него ~ префекту – было: но он мог знать, откуда взяли у него портфель. Лаццарони упорно
36 Вместо: бумаг – было: моих бумаг
36–37 Слова: по одному подозрению – вписаны.
37 Вместо: бедняка – было: того
Стр. 290
17 Вместо: наречьи – было: жаргоне
17–19 Вместо: он стал продолжать ~ для пояснения – было: он продолжал по-итальянски и прибавлял даже французские слова
22 Вместо: то самое, что я говорил ему – было: то, что я говорил
23 Слова: об одном – о том – вписаны.
27 Слово: презлую – вписано.
29 Вместо: что я не хотел бы дать – было: и был прав, что у меня в мысли не было дать
30 После: полицейский – было: если они меня не вынудят
36 Слова: что мне ваш подарок – вписаны.
39 После: кому – было: к черту
42 После: обещанных – было: двадцати
Стр. 291
18–20 Вместо: Прибавлю только ~ Чичероваккио – было: Вот вам история, как я нашел потерянные бумаги и векселя без полиции и без больших трат
21–22 Вмecmo: несется, крутится в этой изящной раме – было: умы успокоились
28–29 Вместо: страшный эгоизм в нравах – было: отчуждающийся от всего эгоизм, глубоко проникнувший в душу этого города
30 Вместо: сочувствующий – было: симпатичный
31 Вместо: в своем ликовании – было: ни
Стр. 292
14 Вместо: Напировавшись в Неаполе, мы возвратились – было: Я возвратился
25–26 Вместо: в одной из лож явился человек с какой-то бумажкой в руках и громко закричал: – было: вдруг раздался крик:
27 После: governo – было: несколько человек прокричали.
28–30 Слова: и масса ~ francese – вписаны.
Прибавление к третьему письму
Стр. 292
36 После: поездки – было<:> Теперь, оставивши ее, я еще более ценю Италию, еще более благословляю
Стр. 293
8 Вместо: была – было: могла быть совершенно
9 Вместо: а другая представляла ей свои предложения – было: низшая камера представляла свои предложения высшей
9-10 Вместо: если она соглашалась с низшей камерой, то отсылала ее предложения – было: если высшая соглашалась с ними, то отсылала их
13 Вместо: принимал или отвергал – было: утверждал
14 Вместо: Избирательный – было: Электоральный
27 Вместо: лучшая – было: самая резкая
30 Вместо: народность – было: популярность
33 Вместо: Объявление войны за Ломбардию могло все исправить – было: Одно могло возвратить его популярность – объявление войны за Ломбардию
Стр. 294
3 После: к Пию – было: даже приняла еще более энергический характер изъявлением ее
4 После: на душе – было: Пию девятому было легко скрепить на долгое время узы любви и доверия, он ничего не сделал
5 После: мог – было: слишком очевидно
13–14 Вместо: революция во Франции внезапно раздула такие политические требования – было: [которое внезапно раздуло такие требования] республика внезапно раздула такие требования
19 Слово: либеральную – вписано.
31 Вместо: негодования – было: ненависти
34 Слово: нежели – вписано.
46 После: предводительствует – было: как куколка на дышле, идущая перед лошадьми, которые ее везут
Стр. 295
27–28 Вместо: папу, что радикалы – было: его, что
Стр. 296
1 Слово: одним – вписано.
19 Вместо: несколько обойденный – было: тоже обойденный и отставший
Стр. 297
18 Вместо: раздался праздничный звон, народ – было: и праздничный звон раздался в Риме, он
20 После: Ломбардии – было: пушечными выстрелами
24 Слово: огромные – вписано.
25–26 Слова: тотчас пришло в голову и овладело всеми – вписаны.
36 Слова: все ожидали в каком-то нервном беспокойстве; – вписаны.
36–37 Вместо: и вот после долгих усилий – было: после некоторых усилий
42 После: притеснения – было: деспотизма
Стр. 298
18–20 Вместо: заспанные ~ вдруг – было: вдруг откуда-то
25–26 Слова: от восстания был один шаг, – по счастию – вписаны.
Стр. 300
17 Вместо: ветер – было: воздух
30 После: людей – было: часть Национальной гвардии и драгуны
Стр. 300–301
46-1 Вместо: шага на два, то другой влечет назад – было: то другой
Стр. 301
11–12 Слова: или уж лучше бы умер – вписаны.
23 Слово: ополченные – вписано.
33 После: памятны. – было: Весна, упоительная
Стр. 302
3 Слова: новостей не было – вписаны.
ОПЯТЬ В ПАРИЖЕ
ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ПД)
Письмо первое
Стр. 303–304
33-1 Вместо: к демонстрациям 17 марта и 16 апреля – было: к демонстрации в конце апреля.
Стр. 304
13 Вместо: на баррикады – было: люди власти
15 После: обманувших – было: ложью
20–25 Вмесmo: Заодно ~ Поверит! – было: Светлая полоса истории, начавшаяся с итальянского Risorgimento, потускла. Я был обманут 24 февраля, как и все, и только с 15 мая я понял вполне, какую республику приготовляют французскому народу, – он удивлен, он еще не верит своим глазам. Поверит! А жаль светлой весны 48 года.
29 Вместо: светлые полосы – было: дни
37 Вместо: в праздничном пире – было: в светлом празднике
Стр. 305
4 Слово: французская – вписано.
16–17 Вместо: а может быть, деспотическая – тут есть, повидимому, contradictio – было: тут есть contradictio
19 Слово: республиканская – вписано.
38 Слово: долго – вписано.
40 Вместо: власть – было: централизацию
45–46 Слова: Его перемены похожи на его моды, покрой платья другой –
человек тот же – вписаны.
46–47 Слова: в этом нет сомнений – вписаны.
Стр. 306
6 Слово: в быте – вписано.
7 Вместо: нужны не права, а – было: нужна
8 Вместо: они снесут – было: и
10–11 После: религиозный – было: Разве вы не видите, что
36 Вместо: тяжелым и мрачным – было: неволи и нравственного плена
42–43 Вместо: нынче ~ suffrage universel. Характер первой революции романтический, юношеский, героический – было: я сказал в одном из прошлых писем, что первая революция последний, романтический, юношеский, героический переворот
Стр. 307
4 После: в народ – было: тот же фанатизм в какую эпоху –
6–7 Слова: и она спасла только Францию – а не республику – вписаны.
18–19 Вместо: Нынешнее salus populi не имеет ни одного луча того времени – его фанатизм холоден – было: Мы совсем в ином положении, теперичный фанатизм холоден, это фанатизм собственности и авторитета. Но основной тон родственен
Стр. 308
4 После: билось – было: все эти
39 После: большинстве. – было: Взглянем, из кого эти партии состояли.
43 Вместо: мысль о реформе – было: оппозиция между легистами
Стр. 309
6 Слова: от предполагаемых перемен – вписаны.
29 После: французов – было: гораздо
Стр. 311
10 Вместо: быстро росла – было: росла страшным образом
Стр. 312
1 Вместо: бранил социалистов – было: и проповедовал
Стр. 313
12 Слово: оппозиционная – вписано.
27 Вместо: сидя – было: улыбаясь
28 Вместо: Революция 1830 вдвинула – было: Но 1830 вдвинул
Стр. 314
21 Слово: французский – вписано.
26–29 Слова: Поэтому что ~ statu quo – вписаны.
36 После: хлеба – было: с одной стороны
38–39 Вместо: предчувствует – было: читает
Стр. 315
8 Вместо: Толпа бедняков – было: четыре бедняка
12 Вместо: Это было во время голода 47 года. Правительство – было: Правительство в 47 году
13 Слово: тогда – вписано.
14 Вместо: беспомощном – было: безжалостном
Письмо второе
Стр. 316
9 Вместо: держаться – было: удержаться
Стр. 317
18 Вместо: борьбы – было: энергии
Стр. 318
5 Слово: семейство – вписано.
5 После: разумеют – было: под семейством,
Стр. 320
23 Слово: нравственное – вписано.
28 После: ум – было: они ближе к настоящей аристократии, нежели богатая буржуази.
41–43 Вместо: Она себя показала. Предупреждая возражение – которое я уже слыхал – прибавлю, что без сомнения – было: Мы ее видим на деле. Но предупреждая одно возражение – которое уже слыхал – прибавлю, что
Стр. 321
8 Вместо: нами высказанного – было: этого
10 Вместо: с буржуази перед глазами – это начало – было: с буржуази, начало
21 Вместо: либеральные журналы всей Европы – было: итальянские журналы
34 После: в магазине. – было: Разумеется, это дело в совершенно спокойное время не приняло бы такого оборота
Стр. 323
33 Вместо: объявляли – было: писали
Стр. 324
8–9 Вместо: сходило с рук – было: удавалось
Стр. 325
24 Слово: Один! – вписано.
Стр. 326
22 Вместо: местах – было: частях города
Стр. 327
39 Вместо: министров – было: Гизо.
Стр. 328
16 Вместо: в разных сторонах – было: там, сям
Стр. 329
27 Вместо: попятилась – было: потерялась
Стр. 330
22 После: сила – было: сами республиканцы-рефлектеры испугались
30 После: министерства – было: Король согласился
Стр. 331
15 Вместо: одни не обратили – было: никто не обратил
16 Вместо: другие – было: ему
23 После: стреляя – было: даже в нее
25 После: рукоплесканием – было: и восторгом.
34–35 Вместо: У короля не было еще никакого плана, он ни на что еще нерешался, как вдруг – было: Король растерялся, у него не было никакого плана, он ни на что не решился, стекла дрожали от сильной перестрелки; чтоб исполнить меру иронии и смешного, вдруг
44 Вместо: он держал – было: было у него в руках
Стр. 332
4–5 Вместо: не совсем чистый журналист, известный roué и интригант, он отказывал королю от места – было: подкупленный журналист, хитрый roué нашего времени, ажиотёр и спекулятор, он ему отказывал от места
7–8 Вместо: истинно – было: вот вам
9 Вместо: большого действия – было: того действия, которого от нее ждали двор и Эмиль Жирарден.
10 Вместо: Жирардену – было: Эмилю Жирардену
17 Вместо: спросил его – было: велел ему остановиться и спросил
22 Вместо: он был легко ранен, лошадь убита – было: Ламорисьер упал раненый, лошадь была убита
31–32 Вместо: он вышел из дворца подземным ходом, который выходит на place de la Concorde, к Сене – было: он поручил кому-то из приближенных взять все это в свое ведение и ожидать его приказаний. Он вышел из дворца в подземный ход, идущий под аллеей Тюльерийского сада к Сене, к маленькой двери на place de la Concorde.
38 Вместо: офицера Национальной гвардии – было: уланского офицера
Стр. 333
9 Вместо: Лишь только Людвиг-Филипп и его министры удалились, – было: Лишь только уехал Людвиг-Филипп и бежали его министры
12 Вместо: седые – было: серые
15 Вместо: короля – было: Людвига-Филиппа
40–41 Вместо: во дворце – было: тут
42–44 Вместо: и плясал ~ подвалов – было: стеклянную галерею превратил в больницу для раненых, и тут француз, верный своей живой натуре, возле пожара и возле убитых запировал – выкатили вина из палерояльских подвалов и освещенные догоравшими экипажами короля плясали карманьолу.
44 Слово: бронзы – вписано.
Стр. 334
8 После: крадут? – было: [Они расстреляли] – Напротив, я с отвращением вспоминаю, что
9-10 Вместо: расстреляли ~ видите – было: я очень далек от того, чтоб похвалить за это. Во всем этом есть
16 Вместо: излишнее поклонение ей – было: «восторги сердца».
25–26 Вместо: не увлекались – было: не дремали
28 Вместо: поскорее властью – было: каждая каким-нибудь клочком власти
28 Вместо: До сих пор – было: Доселе
33 Слова: и десятка других – вписаны.
37–38 Вместо: спрятано, известны одни официальные последствия – было: последующее спрятано, известна одна официальная сторона
41–43 Слова: Широкая и постоянная оппозиция превосходных журналов Прудона и Торе началась с половины апреля – вписаны.
43 Вместо: только – было: разве
Cтр. 334–335
44-1 Вместо: отдельные подробности подземной работы партий, – было: какую-нибудь сплетню – подземную работу
Стр. 335
7–8 Вместо: Сверх изустных рассказов, у нас есть богатый источник воочию совершающейся истории – было: за неимением источников мы берем долю из изустных рассказов, долю из превосходных журналов Прудона и Торе – а всего более из очью совершающейся истории
21 После: Косидьер – было: и Альбер
22 Вместо: что и крошечный Луи Блан не отставал, но хроника – было: что крошечный Луи Блан и Альбер – дрались, но [последние] во-первых, ни Луи Блан, ни Альбер не принадлежали ни к тому, ни к другому приходу и вообще хроника
24 Вместо: действий – было: движений
37–38 Вместо: как и всегда, за буржуазную республику, за республику монархическую – было: представитель буржуазной республики, республики монархической
Стр. 336
4 Вместо: <имел> особенно новые мысли и виды – было: особенно далеко ушел против других
Стр. 337
42–43 Слова: как покорное орудие – вписаны.
43 Слово: всегдашней – вписано.
45 После: уверял – было: что он до того нечистоплотен
Стр. 338
30–31 Вместо: перед дверями Камеры происходила – было: была перед дверями Камеры
45 Вместо: в бой – было: в драку
Стр. 338–339
46-1 Слова: а женщина осталась верхом перед дверьми – вписаны.
Стр. 339
19 Вместо: проходила – было: должна была пройти
28–29 Вместо: его свели на президентское место и заставили – было: он должен был
35–36 Вместо: по несчастию, ни они этого не поняли, ни она сама – было: не поняли этого
Стр. 340
12–18 Вместо: с первой минуты представили два полюса революции – было: торопились ухватиться за власть как за средство
13–14 Вместо: водворить республику во что бы то ни стало, – было: спасти республику
19 Вместо: как можно скорее порядка, покоя – было: скорее порядка, обуздать народ
45–46 Слова: под влиянием Собрие – вписаны.
Стр. 341
7 Вместо: право распоряжаться – было: больше право распоряжаться как воины баррикад
7–8 Слова: Имена Ламартина и Ледрю-Роллена вселяют доверие, – вписаны.
9-10 Вместо: начинало подавлять зародыш – было: подавило начатки
Стр. 342
2 Вместо: преданным – было: и высоким
16 Слово: многие – вписано.
17 Слово: официального – вписано.
20–21 Слова: и в которой было сказано, что Временное правительство желает республику – вписаны.
23 После: толпы – было: народа
Стр. 343
17–19 Слова: Косидьер ~ оружия – вписаны.
19–20 Вместо: окружала ~ в залы. – было: шла к Hôtel de Ville и взошла в него
21–22 Вместо: мрачно. Он стал говорить… его выслушали и потребовали замены – было: с мрачной злобой… он произнес речь – новые толпы вломились в залы, другие покрывали площадь – они требовали замены
26 После: поля. – было: К полной антологии фраз Ламартина надобно вспомнить: когда его вели в толпе по набережной в Hôtel de Ville, он от изнеможения попросил возле казарм стакан вина, ему принес солдат, и Ламартин, едва оправился, сказал: «Вот и банкет, который мы приготовляли»
30 После: толпа. – было: далеко
37–41 Вместо: Но настоящие ~ народа – было: Чтоб отделаться от этой части народа, которая была упорнее
Стр. 344
3 После: значение – было: [Это происшествие] Для меня этот случай – символ, выражающий весь характер Временного правительства – даже его рыцарскую сторону.
14 Слово: красной – вписано.
21–22 Слова: она решилась ~ восстановилось – вписаны.
38–41 Вместо: в бездушном ~ брата. – было: в Mари, в этом бездушном адвокате, в этом гонителе всего свободного, всего приобретенного революцией; в Гарнье-Пажесе, который имеет только одно право на уважение, – то же самое, как Каваньяк, – память о его брате, он был почтенный и искренно преданный народу человек.
45 После: сантимов. – было: Впрочем
Стр. 345
4 Слово: закулисную – вписано.
5–7 Вместо: Марраст ~ хотя он – было: Марраст наружно не так оскорбителен, как Мари, например, и оттого он
12 Вместо: средоточие правления – было: временное правление
17 Вместо: он не понял необходимости – было: как он мог не понять необходимость
20 Вместо: но буржуа – было: но умный и
22 После: революции – было: Ледрю-Роллену никто не помогал, а почти все мешали ему
23–24 Слова: кроме названья – вписаны.
24–25 Вместо: Временное правительство сначала пошалило – а потом и спохватилось – было: и поручил вместо себя править Временному правительству
Письмо третье
Стр. 347
19 Слово: узнавать – вписано.
26 После: стражей – было: права человека
37 После: правительство – было: которое в знак благодарности допустило гибель Италии
Стр. 348
2 Вместо: если это правда, то – было: не верьте
Стр. 349
14 Вместо: они вышли – было: они образовались
33 Вместо: общая причина зла – было: я нахожу их оправдание
35 Вместо: сущность дела – было: общая формула
Стр. 350
7 Слова: от раскрывшихся характеров – вписаны.
13 Вместо: апреля – было: мая
18 Вместо: Откуда эта ночь – было: Как же это случилось так вдруг
Стр. 351
22–23 Вместо: А если это закон – так надобно его нарушить – было:
Какое тут повиновение закону, это рабство, это малодушие.
23 После: все – было: на это
Стр. 353
28 Слова: juste-milieu – вписаны.
33 Вместо: улыбался роскоши – было: любил роскошь
Стр. 353–354
К большому отрывку основной рукописной редакции, публикуемому по тексту ЛБ: «Провозглашение республики ~ и за это им спасибо! – имеется параллельный текст по рукописи ПД:
Провозглашение республики застало врасплох департаменты и армию. Если мы исключим малое число городов, как Лион, никто не думал о республике в департаментах, еще менее в армии. Однако провозглашение нового правительства не встретило нигде явного препятствия, поздравительные адресы писались отовсюду. Вот новое доказательство, что Франция в Париже. Департаменты не привыкли жить своим умом, армия не рассуждала; Париж, опередивший в самом деле всю страну, пользовался, сверх нравственного влияния, централизацией, устроенной Людвигом XI, Ришелье, Людвигом XIV, Конвентом, Империей. Главные власти в департаментах, агенты министерства, префекты, супрефекты, прокуроры и пр. в полной зависимости от Парижа – так и теперь осталось. Провинциальный элемент обличился и поднял голову в Народном собрании – дикие мещане из дальних департаментов явились с затаенной завистью, с зубом против Парижа, отсюда часть их ожесточения против клубов, против журналов, против всякой человеческой мысли – они ее считают парижской. Но если провинции только потому приняли республику, что не имели силы ее отвергнуть, – совсем не то было в самом Париже. Он воскрес, он сделался велик, колоссален; буржуа притихли, народ ликовал и, доверяя правительству, которое объявляло, что «революция, сделанная народом, должна быть сделана для него», мощной рукой своей поддерживал его и в то же время хранил общественный порядок. Косидьер в два-три дни устроил полицию – потому что народ ему помогал, воины баррикад пошли в монтаньяры, в республиканскую гвардию, в gardiens de Paris, слово «полиция» на время утратило ругательное значение свое. Первые секреты Временного правительства оправдывали доверие народа, каждый из них был новым освобождением и новым ударом в ветхое общественное здание. Вы не знаете. В самой редакции[375] декретов еще чувствуется революция, мощная морская волна еще не пришла в покой и напоминала невольными движениями недавно прошедшую бурю. Это был медовый месяц Временного правительства – их стало недели на три, они были еще людьми. Когда 25 февраля они подписали декрет об уничтожении смертной казни, они бросились друг другу в объятия, обливаясь слезами – – – и за это им спасибо!
ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)
Стр. 354
13–14 Вмecmо: которые они принимают за парижские идеи – было: они считают все человеческое парижским и поэтому ополчаются против всего
28 Вместо: децемвиров – было: Временного правленья
37 После: образом – было: выпали из его рук
Стр. 355
1–2 Вместо: крестьяне, первый раз подающие голос – было: двадцать миллионов крестьян, первый раз подающих голос.
Стр. 356
26 После: стороны – было: А пуще всего
Стр. 357
1 После: Правительство – было: оставило мундиры прежней Национальной гвардии и
8-11 Вместо: но у прежней ~ нарушен – было: особенно если б догадались снять с нее мундир. Сделали обратное, ввели в прежние легионы, в каждую роту новую толпу людей и нравственно подчинили их обмундированным.
24 Вместо: Сверх того – было: Как временную меру оно
25 Слово: оно – вписано.
44 После: вышел – было: с Ламартином
Стр. 358
8-11 Слова: Сколько молодого ~ социализм – вписаны.
19 После: воображают – было: потому что они уверены в том
19 После: божие – было: сообразное началам евангелия
Стр. 361
24 Вместо: Парижу – было: Франции
45 После: года – было: в это время
Стр. 362
12–13 После: помощи – было: народам
Стр. 363
29 Вместо: ей нужно облачение, а не одежда – было: облачение, обстановка
Стр. 364
16 Вместо: не нужно – было: невозможно
Стр. 365
12 После: связи – было: но тем не менее
13–14 Вместо: при развитом общественном мнении, при общих выгодах, совершенно достаточны – было: с общественным мнением, с общими выгодами, достаточны
18 Слова: его-то и надобно уничтожить – вписаны.
23–24 Вместо: Позвольте для большей ясности указать на всем знакомые примеры – было: вот поэтому я прибавлю пример к сказанному
38 Слово: самобытны – вписано.
45 Вместо: В Вене – было: И заметьте
Стр. 366
35–36 Вместо: всего этого – было: этого, что сделано
39 Вместо: что большинство так составлено – было: что она есть!
АВТОРСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
PREMIÈRE LETTRE
ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЦГАОР)
Стр. 385
2 После: Réminiscences – было: et méditations
Стр. 391
15 После: famille – в рукописи недостает, повидимому, одной страницы; затем следует зачеркнутый текст: la masse reste muette et terrifiée et triste. En France tout sent le gouvernement à l’exception d’une minorité qui s’oppose et le mine.
Le vieux Alfiéri était dur, mais n’avait-il pas raison en disant:
– Marseille est une des villes les plus prosaïques, les plus ennuyeuses du sud de l’Europe. Lorsque le mistral ne souffle pas, soulevant des nuages de poussière – la chaleur suffoquante et une exhalaison fétide se lève des eaux stagnantes du canal et du port. Je me hâtai de quitter cette ville au plus vite – j’étais encore influencé par les quelques feuilles du lieu. Il me semblait que je rencontrerai à chaque pas des acteurs de ces scènes dégoûtantes… Voilà le vieux mendiant avec une figure sinistre… il allait probablement de maison en maison et assommait les bonapartistes; cet autre, tailleur jaune et chauve, qui réparait mon paletot, peut-être il détruisait les mamélucs… et si non – peut-être il se jettera avec rage et amour au nom de la famille et de la religion qu’il n’a pas – massacrer les socialistes…
Стр. 392
1–2 Вместо: que d’en tirer les conséquences – было: qu’à faire des répressions partielles, que de savoir tirer le plus d’avantages de la victoire, d’être hardi dans les conséquences. Rien de plus.
4 Вместо: absolue – было: et pervertit toutes les notions.
11 После: despotisme – было: Inclinons-nous devant cet ordre
13 После: pouvoirs! – было: Depuis le bombardement de Paris, depuis le guet-apens par lequel on fit mettre bas les armées des insurgés de St. Antoine, depuis la fusillade en masse, les déportations sans jugement – commence non seulement l’ère de l’ordre triomphant, mais se détermine le
14 После: détermina – было: La vieille Europe
22 После: vengeur – было: le Communisme
27 После: individuelle – было: Mais cela n’arrivera pas demain ni après-demain…
Стр. 393
Заголовок. Вместо: Treizième – было: Seconde
Комментарии
В пятый том настоящего издания вошло одно из центральных произведений Герцена эпохи революции 1848 г. – «Письма из Франции и Италии».
Кроме основного текста «Писем», приводимого по последнему прижизненному изданию 1858 г., в томе печатаются: ранняя редакция IV письма цикла «Письма из Avenue Marigny» по публикации в «Современнике» 1847 г. (отличия первых трех писем этого цикла от издания 1858 г. даются в вариантах) и ранние редакции циклов «Письма с via del Corso» и «Опять в Париже» с вариантами к ним (по рукописным материалам ПД и ЛБ), а также варианты издания 1855 г. и в приложении варианты немецкого издания 1850 г.
Впервые публикуются два рукописных отрывка из перевода «Писем» на французский язык, принадлежащего Герцену (ЦГАОР).
При общей лингвистической унификации текста одного и того же произведения в пятом и последующих томах сохраняются характерные различия в разных редакциях одного произведения, в особенности если эти редакции разделены значительным промежутком времени. Эти различия относятся: 1) к делению текста на абзацы, 2) к фонетическому оформлению одинаковых по значению слов, в том числе и имен собственных (сирокко – широкко, орфография – ортография, сюртук – сертук, С. Эльм – С. Елм и т. п.), 3) к синтаксическим конструкциям (поклонение изящному – поклонение изящного и т. п.), 4) к пунктуации, если различные знаки препинания служат для выражения различий в оттенках смысла.
Французские тексты Герцена в пятом и дальнейших томах печатаются по современной орфографии. Все русизмы Герцена, как лексические, так и грамматические, сохраняются.
Русские собственные имена пишутся в соответствии с «Grand Dictionnaire universel du XIX siècle» par Pierre Larousse; те имена, которые в данном словаре отсутствуют, приводятся в соответствии с традиционной для XIX в. передачей русских имен.
Письма из Франции и Италии*
Печатается по тексту издания: Письма из Франции и Италии Искандера (1847–1852). Издание второе Н. Трюбнера. London, 1858. Подпись под предисловием: И-р.
Первоначальная редакция (см. раздел «Другие редакции») состоит из трех циклов, которые создавались в течение 1847–1848 годов.
Цикл «Письма из Avenue Marigny» был опубликован в 1847 г. в журнале «Современник». Второй цикл – «Письма с via del Corso» – дошел до нас в виде авторизованной копии, написанной рукою М. К. Рейхель. Этот цикл также предназначался Герценом для «Современника»; на обороте пустого листа, следующего за л. 7, снизу вверх сделана запись рукою Герцена: «В редакцию „Современника”. Прошу особо напечатать экземпляров 50 или 100». Однако по цензурным условиям в тогдашней России, отразившимся и на тексте первого цикла (см. предисловие Герцена, стр. 8), «Письма с via del Corso» не были опубликованы. В третьем цикле – «Опять в Париже» – автор, как можно заключить из начала первого письма, уже в процессе создания отказался приспосабливать свои мысли к требованиям русской цензуры и обращался исключительно к своим друзьям. Правленные Герценом копии циклов «Письма с via del Corso» и «Опять в Париже» по частям пересылались московским друзьям с отъезжающими в Россию (М. Ф. Корш, П. В. Анненков и др.).
Под влиянием большого успеха, выпавшего на долю его книги «С того берега» («Vom andern Ufer»), выпущенной в 1850 г. на немецком языке гамбургским издательством «Hoffmann und Campe», Герцен предпринимает аналогичное немецкое издание своих «Писем»: «Briefe aus Italien und Frankreich (1848–1849) von einem Russen, Verfasser des «Vom andern Ufer», Hamburg, Hoffmann und Campe, 1850». В этом издании, русский оригинал которого до нас не дошел, имеются по сравнению с первоначальным текстом композиционные изменения и значительные сокращения (так, «Письма из Avenue Marigny» в него совершенно не вошли), но расширено письмо от 1 июня 1849 г. (11-е по нумерации изданий 1855 и 1858 гг.). Перевод (на основе перевода, продиктованного Герценом) принадлежит Фридриху Каппу. Из письма Герцена к Якоби от 24 апреля 1850 г. известно, что корректур этого издания Герцен не читал и перевод оценил как «довольно плохой». Поэтому важнейшие варианты немецкого издания, отличные как от первоначальной, так и от окончательной редакций, печатаются в настоящем томе в качестве приложения к вариантам основного текста (см. стр. 413–434).
Особый интерес представляет в издании 1850 г. «Предисловие» издателя, которое не могло быть написано без значительного участия Герцена. Приводим его в переводе на русский язык.
«Нижеследующие письма принадлежат одному остроумному русскому писателю, который одновременно с ними издает свое новейшее любопытное произведение «С того берега». Письма находятся с последним в теснейшей духовной и территориальной связи и вместе с тем примыкают к ряду более ранних писем из Франции, выходивших с продолжением в одном петербургском журнале.
С начала 1848 г. автор не мог более ничего сказать такого, что было бы пропущено русской цензурой. Он не испытывал также желания калечить или намеренно искажать свои сообщения с тем, чтобы они стали приемлемыми для цензуры. Прежние парижские письма, периода от марта до октября 1847 г., здесь не приведены по той причине, что они были написаны с оглядкой на русскую цензуру и поэтому содержали лишь косвенные указания и намеки. Лучшая часть их как раз та, которую читаешь между строк. Уже то обстоятельство, что они печатались при петербургской цензуре, достаточно их обрисовывает.
Что касается данных писем, то с первого римского письма времена очень изменились. Автор, конечно, уже не стал бы теперь до такой степени восторгаться величественным пробуждением Италии, после того как он видел глубокую летаргию Франции. Мне кажется тем не менее, что это определенно выраженное различие в тоне и во всей манере наблюдения представляет еще дополнительный интерес. В каждом письме биение пульса времени тем горячее, что автор, за исключением маленьких частностей, ничего не изменяет и не улучшает. Пережитое схвачено так, как оно отражалось в реальной натуре.
Женева, декабрь 1849
Издатель».
Дальнейшая работа Герцена над текстом «Писем» отчасти отразилась в его небольшой статье «Из воспоминаний о прошлом годе одного русского», напечатанной на немецком языке в лондонской газете «Der Kosmos» («Deutsche Zeitung aus London». Hrsg. v. E. Hang, 1851, №№ 1 и 2 от 17 мая и 14 июня). Эта статья представляет, с мало существенными разночтениями, первоначальную редакцию нового (12-го по нумерации изданий 1855 и 1858 гг.) письма (начиная с «Наконец я опять в Ницце…» и кончая «июньскими застрельщиками», стр. 190–192 настоящего тома). Опубликована в русском переводе в ЛН,т. 7–8, М., 1933, cтр. 57–58.
К этому же времени относятся два рукописных отрывка из перевода «Писем» на французский язык, которые хранятся в ЦГАОР («пражская коллекция») и помещаются в томе в особом разделе («Авторские переводы»). Первый отрывок представляет собой черновой автограф перевода на французский язык двенадцатого письма основной редакции (cтр. 190–200), второй – начала тринадцатого (cтр. 201–209). Перевод выполнен самим Герценом, причем двенадцатое письмо, перевод которого сохранился почти полностью, названо здесь первым. Рукопись озаглавлена: «Письма русского из Италии. Воспоминания 1850–1852 гг.»
Первое (двенадцатое) письмо датировано во французской рукописи 30 июня 1850 г., а не 10 июля, как в русском тексте. В конце этого письма пометка Герцена: «Переведено в Лугано 2 июля 1852 г.»
При переводе Герцен довольно близко держался русского подлинника, однако внес в перевод ряд более или менее значительных изменений, то сокращая текст, то, наоборот, обогащая его новыми мыслями, характеристиками, фактическими подробностями, эпитетами и т. п. Так, характеризуя консерватизм, Герцен во французском тексте добавил: «Это теория, манера рассматривать вещи, это настоящие, рассматриваемое с точки зрения прошедшего…», и противопоставил консерваторов прежнего времени, сохранявших в какой-то степени положительные качества, современным «гнусным интриганам, которые держатся на поверхности французского общества», утверждая, что они сохранили свойства «тех тигров-обезьян, о которых говорит Вольтер». Клеймя французскую буржуазию, желающую наслаждаться во что бы то ни стало и любой ценой, Герцен в своем переводе добавляет: «Это система Исава, продающего свои права за скверную чечевичную похлебку». При описании прений о депортации Герцен замечает во французском тексте: «Я не мог понять ропота почтенных законодателей, когда Пьер Леру заявил, что „Нука-Ива – это знойная Сибирь” – оскорбиться должен был Киселев, русский посланник, уподоблением Сибири этим piombi[376] океана». Возмущаясь террористическими мерами, принятыми французским правительством для своей защиты, Герцен дополняет в своем переводе соответствующее место следующей сентенцией: «Общество, распадающееся на части, имеет врага в своем сердце, в своей крови». Тьера Герцен в переводе характеризует как «типичного представителя этого живущего на проценты большинства», «того жирного слоя, который разливается, подобно маслу, по всему современному обществу». В переводе Герцен называет «страсть к переменам – добрым гением Франции», говорит, что народ надо изучать «не по книгам, а в его хижинах». Он утверждает, что президент Луи-Наполеон «не является причиной зла, а только его результатом. Болезнетворное начало находится в совсем ином месте» и т. д. Любопытно следующее указание, содержащееся во французском тексте: «Я видел собственными глазами прусского короля, Пия IX, Луи Бонапарта – это ничтожества, принадлежащие к одной и той же семье».
Французский перевод Герцена подвергся в рукописи значительной стилистической переделке неустановленным лицом. Вся эта посторонняя правка, по большей части неудачная и временами даже искажающая мысль Герцена, снята при публикации в настоящем томе. Сохранено только исправление несомненных ошибок орфографического характера.
На первой странице второго (тринадцатого) письма в левом верхнем углу надпись рукой Герцена: «Письма из Ит<алии> Ис<канде>ра, стр. 269». (Герцен указывает на соответствующую французскому тексту страницу издания 1858 г.).
В 1855[377] и 1858 гг. Герцен выпустил в Лондоне на русском языке два отдельных издания «Писем», в которых первоначальная редакция их испытала стилистическую переработку и местами была сокращена, материал отдельных писем подвергнут частичному перемещению. В частности, в отличие от немецкого издания, включен в несколько сокращенном виде текст «Писем из Avenue Marigny», а также прибавлено три новых письма из Ниццы, датированных 1850–1851 гг., и «Приложение» – письмо к Ш. Риберолю.
В текст издания 1858 г. внесены следующие исправления:
Стр. 31, строка 3: нанимающийся вместо: занимающийся (по изд. 1855 г.)
Стр. 35, строка 7: Jeu de Paume вместо: Jeu de pommes
Стр. 48, строка 14. Но что ему до нее со всем ее богатством? Он нашел ту деву, о которой мечтал, он узнал Марию, изучил ее, он вместо: Он (по изд. 1855 г. и С)
Стр. 52, строка 2: он даст вместо: он дает (по изд. 1855 г.)
Стр. 56, строка 2: 15 сентября 1847 вместо: 15 сентября 1848 (по изд. 1855 г.)
Стр. 57, строка 7: новости, вместо: повести (по С)
Стр. 66, строки 10–11: ссылаются вместо: ссылают (по изд. 1855 г.)
Стр. 94, строка 33: Климент XIV вместо: Климент XVI (по авторизованной копии ПД, см. также примеч. к стр. 94)
Стр. 99, строка 5: никогда не принимал вместо: никогда не переносил (по изд. 1855 г.)
Стр. 100, строка 14: Франциск I вместо: Франциск II (см. примеч. к стр. 100)
Стр. 102, строки 10–11: народной жизни, скрытной, вместо: народной жизни скрытной (по авторизованной копии ПД)
Стр. 109, строка 36: страны вместо: травы (по изд. 1855 г.)
Стр. 110, строки 19–20: Но самую резкую противуположность ~ составляют Рим и Неаполь вместо: Но самая резкая противоположность составляет Рим и Неаполь (по авторизованной копии ПД)
Стр. 118, строка 3: кредитивного письма вместо: кредитного письма (по контексту)
Стр. 131, строка 26: необыкновенного вместо: обыкновенного (по изд. 1855 г.)
Стр. 132, строка 17: Собрания вместо: собора (по изд. 1855 г.)
Стр. 134, строка 37: старую Францию и Францию революционную, вместо: старую Францию революционную (по изд. 1855 г.)
Стр. 138, строки 20–21: не нелепо и бедно приложенный вместо: нелепо и бедно неприложенный (по изд. 1855 г.)
Стр. 188, строка 27: слова вместо: слога (по изд. 1855 г.)
Стр. 194, строка 28: июльскую колонну, вместо: июньскую колонну (по французскому автографу ЦГАОР, см. стр. 389, строка 7)
Стр. 198, строка 7: непременно, вместо: непреметно (по изд. 1855 г.)
Стр. 204, строка 5: теоретическим, вместо: теорическим (по изд. 1855 г.)
Стр. 215, строка 31: спасется вместо: спасается (по изд. 1855 г.)
«Письма из Франции и Италии» создавались Герценом в течение четырех с лишним лет (1847–1852). В этой книге Герцен собрал написанные им в эпистолярной форме статьи о революции 1848 г. во Франции и Италии. Статьи эти писались на различных стадиях развития духовной драмы, которую пережил Герцен, живой свидетель буржуазно-демократической революции в Европе в эти годы. «Письма» являются одним из важнейших документов этого переломного периода в жизни Герцена и в развитии его мировоззрения; они дают возможность проследить процесс нарастания его духовного кризиса. Основные ступени этого процесса находят свое отражение в трех циклах писем, из которых составлялась впоследствии Герценом книга «Письма из Франции и Италии».
Первый цикл, «Письма из Avenue Marigny», написан Герценом осенью 1847 г., вскоре после его приезда в Париж. Предназначая эти статьи для русской печати, Герцен писал их, имея, как он выразился, постоянно перед глазами «красный призрак цензурных чернил».
Начинаясь шутливым описанием дорожных впечатлений о путешествии Герцена из Москвы в Париж в начале 1847 г., «Письма из Avenue Marigny» вскоре переходят к острому анализу общественных отношений во Франции в годы Июльской монархии и дают яркую обличительную характеристику ее господствующего класса – буржуазии – и французской буржуазной культуры.
Второй цикл «Писем из Франции и Италии» составили письма-статьи, написанные Герценом в Риме и Неаполе с декабря 1847 г. по март 1848 г.
В цикле «Писем с via del Corso» описывалось путешествие Герцена в Италию, обстановка в Италии перед революцией и события начальных недель революции в этой стране.
Третий цикл – «Опять в Париже» – был, по сути дела, очерком истории французской революции 1848 г., с февральских дней до середины мая 1848 г. Сам Герцен называл этот очерк «историей реакции». Заключительные письма-статьи (1850–1851 гг.) содержали размышления Герцена по поводу торжества буржуазной контрреволюции во Франции и завершающего события этой контрреволюции – бонапартистского государственного переворота 2 декабря 1851 г.
Из сказанного видно, насколько сложен состав «Писем из Франции и Италии». Различные части этой книги создавались при разных исторических обстоятельствах, под влиянием меняющихся взглядов и настроений автора, и имели разное назначение, определившее особенности стиля, в зависимости от того, задумывал ли Герцен подцензурную статью или же откровенный разговор с друзьями.
Несмотря на столь значительное разнообразие «Писем из Франции и Италии» как со стороны содержания, так и со стороны формы, им присуще определенное внутреннее тематическое единство. Оно-то и позволило Герцену осуществить издание этих «Писем» как единой, цельной книги. Шла ли в них речь о парижских театрах или парижских баррикадах, о продажных журналистах или демократах-формалистах, о «дилетантах социализма» или «дилетантах политики», о терроре буржуазных республиканцев или о терроре бонапартистском, – стержнем всего служила сквозная тема о «мире буржуазии» и борьбе с ним эксплуатируемых трудящихся масс. Эта огромная тема включила в себя разносторонний анализ буржуазных общественных отношений Западной Европы, процесса умирания революционностибуржуазной демократии и нарастания революционного возмущения пролетариата, оценку исторического выступления рабочего класса в 1848 г., его поражения и дальнейших перспектив его борьбы за социализм.
Необходимо отметить, что эта тема возникла в первых же статьях Герцена о его заграничных впечатлениях, в «Письмах из Avenue Marigny», хотя первая встреча с Европой и была, как выразился Герцен, «веселая сначала». Объясняя это, Герцен впоследствии, в предисловии к изданию «Писем» 1858 г., писал: «<…>да и как же было не веселиться, вырвавшись из николаевской России, после двух ссылок и одного полицейского надзора!». Но «веселый тон писем, – тут же отмечал Герцен, – скоро тускнет – начинается зловещее раздумие и патологический разбор. Пестрые декорации конституционной Франции ненадолго могли скрыть внутреннюю болезнь, глубоко разъедавшую ее».
Насколько быстро совершился этот переход Герцена от первого радостного чувства свободы к «зловещему раздумию» о противоречиях, разъедающих буржуазный строй Западной Европы, свидетельствуют его личные письма к друзьям на родину. Показательно в этом смысле письмо Герцена к М. С. Щепкину, датированное 23/11 апреля 1847 г. и написанное, следовательно, менее чем через месяц после приезда во Францию (Герцен приехал в Париж 25 марта). Письмо это содержало уже набросок тех мыслей, которые Герцен несколько месяцев спустя развивал в своих «Письмах из Avenue Marigny». Герцен писал знаменитому русскому актеру: «…вы можете смело определить по пьесам господствующий класс в Париже, и наоборот». Раскрывая значение этого «наоборот», Герцен выражал убеждение, что не буржуазия, а класс «работников» был движущей силой прогресса во Франции в последнее время. Герцен говорил Щепкину: «<…> чем беднее здесь человек, тем он далее от мещанина в хорошую сторону<…>».
Таким образом, перед взором Герцена быстро открылись два мира, которые он так образно назвал в «Письмах из Avenue Marigny»: «Париж, стоящий за ценс» и «Париж, стоящий за ценсом».
Ошибочно было бы думать, что разочарование в буржуазной демократии и мысли о буржуазии, как о «Фигаро», который «обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит в бедность, называя ее ленью и бродяжничеством», появились у Герцена только в результате его личного знакомства с отталкивающей действительностью Франции 1847 г., этого гниющего царства банкиров. Знакомство с этой действительностью обострило те мысли, какие зародились у Герцена еще до поездки за границу, оно помогло их быстрому созреванию и развитию.
В идейном багаже, с которым Герцен переезжал в январе 1847 г. через границу, была не только ненависть к самодержавно-крепостническому строю. В герценовском дневнике уже в 1844 г. появились следы глубоких раздумий о буржуазном строе Западной Европы. Семена разочарования в нем давно были посеяны произведениями великих социалистов-утопистов Сен-Симона и Фурье. Изучение же сочинений эпигонов утопизма, мелкобуржуазных социалистов и экономистов – Луи Блана, Пьера Леру, Прудона и др. – основательно познакомило Герцена с арсеналом идей морализирующих критиков капитализма. Герцен уезжал за границу революционером, демократом и социалистом. Его убеждения содержали большую дозу скептицизма и презрения по отношению к буржуазному общественному строю Западной Европы и горячие симпатии к западно-европейскому «работнику» и его страданиям. Но сформировавшиеся в этот период у Герцена социалистические идеи принадлежали, как указывал Ленин, к многочисленным в ту эпоху формам и разновидностям буржуазного и мелкобуржуазного социализма. Эти идеи были преисполнены иллюзий «надклассового социализма», обращающегося равно к рабочим и к буржуазии, к крестьянам и к мелким буржуа. Несмотря на свое материалистическое философское мировоззрение, Герцен не мог выйти из рамок утопического социализма, так как он остановился перед историческим материализмом.
«В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание…», – характеризовал тогдашние социалистические воззрения Герцена Ленин (В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 10). Именно этим иллюзиям, утопическим мечтаниям и суждено было разлететься в прах при столкновении с реальностью классовой борьбы в капиталистической Европе, вскоре дошедшей до своих высших форм – революции и гражданской войны.
«Письма из Франции и Италии» в полной мере раскрывают силу этих иллюзий у Герцена перед революцией и в начале революции. С особой наглядностью обнаруживают их живучесть и цепкую власть «Письма с via del Corso»<.> Восторженный тон этих писем, идеализация итальянской буржуазии и затушевывание классовых противоречий, которые Герцен так отчетливо различал во Франции, – все это не было случайным. Это можно объяснить прежде всего тем, что в Италии в значительно бóльших размерах, чем во Франции, сохранялась почва для буржуазных иллюзий Герцена. Приехав из Франции в Италию (1847 г.), Герцен увидел тогда еще революционную буржуазию, он наблюдал в действии революционную буржуазную демократию в условиях неразвитых классовых противоречий незрелого капитализма. Его иллюзии, уже пошатнувшиеся от ударов французской действительности, вновь временно окрепли на итальянской почве.
Возвращение во Францию, куда весной 1848 г. Герцен «летел на крыльях», охваченный восторгом от вестей о начавшейся всеевропейской революции, быстро рассеяло эти расцветшие было иллюзии и нанесло им смертельный удар. Герцен не понимал тогда буржуазного характера революции 1848 г. Подобно многим другим представителям домарксовского социализма, он принял установление демократической республики во Франции за начало эры торжества социализма сперва во Франции, а затем и в других западноевропейских странах. Однако приехав в Париж на другой день после открытия Учредительного собрания, Герцен проницательно разглядел обстановку развернувшегося контрнаступления буржуазии на рабочий класс. Он быстро распознал признаки готовящегося разгрома пролетариата и поражения революции. Кровавая бойня июньских дней и неистовства буржуазного террора кавеньяковских республиканцев полностью подтвердили самые мрачные предвидения Герцена и повергли его в отчаяние. Опыт революции и особенно гражданская война июньских дней произвели глубокие сдвиги в его мировоззрении. «Нечего сказать, педагогический год мы прожили!» – писал потом Герцен Грановскому, в письме от 12 мая 1849 г., метко определяя значение этого опыта. Герцен распознал фальшь формального республиканизма, придя к правильному выводу, что «даже край буржуазного радикализма реакционен по отношению к социализму и пролетариату». Он заклеймил и отверг политику мелкобуржуазных «демократов-формалистов», пытавшихся «продолжать свою невозможную несоциальную республику…». Он правильно расценил бессилие утопистов, которые были преисполнены желания общего блага, но «не знали, как навести мосты из всеобщности в действительную жизнь, из стремления в приложение». Он отдавал себе все более ясный отчет в том, что «вопрос о материальном благосостоянии», – иначе говоря, экономические интересы как пружины борьбы классов, – играет огромную роль в истории современности, что без «экономической стороны» великие слова и идеи остаются словами. Но эти страстные поиски революционной научной теории, о которых свидетельствуют многие страницы герценовских «Писем», не увенчались успехом. Хотя взгляды Герцена развивались здесь в направлении материалистического понимания истории, он все же попрежнему оставался, несмотря на свои гениальные догадки, идеалистом в понимании общественных явлений. Вследствие этого Герцен оказался не в состоянии осмыслить уроки революции 1848 г., не увидел дальнейшей революционной перспективы европейского рабочего движения и социализма. Если первое время после июньских дней Герцен «верил еще в побежденных» («Былое и думы», часть V, гл. XXXVIII), то с дальнейшим торжеством буржуазной контрреволюции он перестал в них верить и «с каким-то внутренним озлоблением убивал прежние упования и надежды» («Былое и думы», часть V, гл. XLIII). Герцен не видел неиссякаемого источника сил пролетариата и поэтому принял его поражение в первой открытой битве против буржуазного строя за свидетельство и доказательство невозможности победы социализма в Западной Европе. Отсюда его крайний пессимизм после 1848 г., его глубокий духовный кризис, завершившийся к концу этого периода обращением к утопической идее русского народнического «общинного социализма». «Письма из Франции и Италии» позволяют проследить шаг за шагом нарастание этого кризиса, измерить его мучительную остроту и глубину. Эти письма-статьи убедительно подтверждают гениальный ленинский взгляд на сущность духовной драмы Герцена. «Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848-го года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирноисторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10).
При всех своих идейных блужданиях Герцен проявлял часто замечательный реализм исторического мышления, делал глубокие наблюдения над классовой борьбой в буржуазном обществе, – наблюдения, в которых отразились большие куски жизненной правды. Многие страницы этих писем содержат оценки исторических событий революции и характеристики ее действующих лиц, поразительно перекликавшиеся с соответствующими оценками и характеристиками К. Маркса. Особый интерес в этом отношении представляет исторический очерк начального периода французской революции 1848 г., который Герцен набросал для своих русских друзей в серии писем «Опять в Париже». Встречающиеся в этом очерке следы идеалистических иллюзий Герцена и его мучительного духовного кризиса не могут заслонить содержащегося в нем превосходного анализа действующих сил февральской революции во Франции. Предпринятый Герценом «холодный разбор» февральского периода как «истории реакции», которая началась – подчеркивал он – «не с 23 июня, а с 25 февраля», разоблачение контрреволюционности внутренней и внешней политики буржуазных республиканцев, гневно-саркастическая критика демократической партии за ее «консерватизм в революционном деле» – все это во многом приближается к тому, что говорил об этом периоде в своих исторических работах К. Маркс. Разумеется, и в методе анализа исторических событий, и в самом подходе к ним между Герценом и Марксом были коренные различия, обусловленные принципиальной противоположностью утопического и научного социализма, идеалистического и материалистического понимания истории. При всем том в герценовских письмах-статьях о революции 1848 г. обнаружилось все превосходство революционного мыслителя, вплотную подошедшего к диалектическому материализму, над тогдашними представителями западноевропейского утопического социализма.
В своей критике буржуазного строя Западной Европы Герцен высказал ряд интереснейших мыслей о сущности буржуазной культуры и затронул вопросы будущей социалистической культуры. В постановке этих вопросов сказалась широта обличительной критики капитализма у Герцена, – она касалась всех сторон общественного бытия и судеб человека при господстве буржуазии. К пониманию пороков буржуазной цивилизации Герцен был подготовлен развитием своих социалистических убеждений еще до отъезда за границу. В своем дневнике 17 июня 1844 г. он отметил, например, по поводу фактов бесчеловечной эксплуатации силезских рабочих предпринимателями, насколько правы были фурьеристы, когда «обличили меркантилизм и современную индустриальность, как сифилитический шанкер, заражающий кровь и кость общества!» (см. т. II наст. изд., стр. 360). Но тогда эта критика носила у Герцена в большой мере отвлеченный характер. По приезде за границу, непосредственно соприкасаясь с буржуазной цивилизацией и наблюдая буржуазную культуру, Герцен пошел в этой критике гораздо дальше, он глубже заглянул в суть вещей. Он постигнул лицемерие буржуазной цивилизации в целом, ее уродство, ee антинародную сущность. Он понял, что буржуазная цивилизация обрекает народные массы на невежество, так как «нет образования при голоде». Охватывая взором многообразные признаки вырождения буржуазной культуры, Герцен разглядел печать идейного и морального растления, наложенную на нее буржуазией, ставшей господствующим классом. Это «мещанское растление, – передавал потом Герцен свои впечатления, – пробралось во все тайники семейной и частной жизни» («Былое и думы», часть V, «Западные арабески», Тетрадь вторая, II. Post scriptum).
Подводя итоги своим наблюдениям над французской буржуазной культурой накануне революции 1848 г., Герцен писал: «Смерть в литературе, смерть в театре, смерть в политике, смерть на трибуне<…>». Но тут же он указывал на другое – на ростки новой культуры, идущей из среды трудящихся масс, на то, что «где-то внизу» раздаются «какие-то крики титанов, что-то сильное и страшное, как будто из могучей и здоровой груди».
После поражения революции 1848 г., в наиболее острый момент своего духовного кризиса, Герцен приходит к выводу, что буржуазная цивилизация обречена на гибель, на уничтожение, так как эта цивилизация массам «ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества и унижения». Свой вывод о предстоящей гибели буржуазной цивилизации Герцен сопровождает однако оптимистическим предвидением: на смену явится новая культура и в ней «основной той будет принадлежать социализму».
Впоследствии, развивая свои мысли по данному вопросу, Герцен писал, что погибнет не вся буржуазная цивилизация, – сохранится то, что в ней «есть общечеловеческого, т. е. наука», которая «принадлежит всем, как воздух принадлежит каждому, имеющему легкие» («Mortuos plango», 1862). Этот взгляд на науку как на непреходящую основу всей человеческой культуры представлял существеннейшую черту воззрений Герцена на будущую социалистическую культуру.
Глубокие мысли об искусстве можно найти в той части «Писем с via del Corso», где Герцен говорит о великих памятниках и произведениях итальянского искусства эпохи Возрождения. Здесь выявилась основа эстетических воззрений Герцена, видевшего источник прекрасного в «мире действительности и жизни». Религиозно-мистическое искусство, оторванное от реальной жизни человека, Герцен считал лишенным подлинно эстетической ценности. В своих оценках итальянской живописи, скульптуры, архитектуры Герцен утверждал идею великого реалистического искусства, такого искусства, которое отражает развитие жизни и творческой силы человека, вовлекает народ в активную историческую деятельность, не только возвещает ему светлое будущее, но и помогает завоевывать и строить его.
«Письма из Avenue Marigny» сыграли в истории русской общественной мысли весьма значительную роль. Вокруг них в России разгорелись споры, продвинувшие вперед начавшееся размежевание демократического и либерально-буржуазного лагерей. Герценовская критика буржуазной культуры, переросшая в обличение буржуазного общества, явилась своего рода оселком, на котором испытывалось и выявлялось принципиальное отличие демократической и социалистической идеологии Герцена и Белинского от буржуазной идеологии «западников». Показывая реакционный облик господствующего класса Франции, Герцен возврашал русского читателя «Писем» к вопросу о современном состоянии России. Московские друзья Герцена сразу уловили, что мысли автора «Писем» незримо связывают анализ положения дел во Франции с размышлениями о будущем России, русского народа. Герценовская критика французской буржуазной культуры резонно представилась им своеобразным выступлением против идеализации общественных отношений Западной Европы русскими либералами. Как известно, полемику с ними Герцен вел еще до своего отъезда за границу. Неудивительно, что первые же критические замечания Герцена о французской буржуазии и ее вырождающейся культуре были встречены «западниками» в штыки. «Одни вступились, – писал Герцен в пятом письме, – за французскую буржуазию, за немецкую кухню», все упрекали его «за неуважительный тон, за легкость и поверхностность<…>». «Я читал его <Герцена> письмо к Щепкину с большим огорчением, – писал в мае 1847 г. В. П. Боткин своим друзьям – Анненкову и другим. – Он такого вздору наговорил! Bourgeois, видите, виноват в том, что на театрах играются гривуазные водевили» («П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 540). Еще более отрицательным было отношение либеральствующих «западников» к критике буржуазии в опубликованных в «Современнике» «Письмах из Avenue Marigny». Боткин, похвалив статьи Герцена за увлекательность и «игривость», возмущался тем, что «Герцен не дал себе ясного отчета<…> в значении bourgeoisie, которую он так презирает», и провозглашал: «<…> дай бог, чтоб у нас была буржуазия!» (там же, стр. 551). «Отечественные записки» устами своего критика Галахова также объявили о том, что «недовольны» «Письмами из Avenue Marigny». «Буржуазия создала силу Франции, – писал Галахов, возражая Герцену, – неужели русский путешественник XIX столетия не видит в ней ничего, кроме злоупотребления власти?» (03,1848, № 1, стр. 22). Галахов упрекал Герцена в том, что «взгляд его заимствованный. Заимствовал же он его из мнений той котерии, которая в истории видит борьбу пролетариев с буржуазиею, бедного и богатого класса народа» (там же). Значение этого спора подчеркивается тем фактом, что решительным защитником Герцена от нападок Боткина и других поклонников буржуазии выступил В. Г. Белинский. Идеи герценовских статей были известны великому русскому критику еще до появления «Писем из Avenue Marigny» в печати. Белинский побывал в Париже в конце лета и осенью 1847 г. и, как он сообщал Боткину в декабре того же года, Герцен писал свои «Письма» при нем, на его глазах.
По свидетельству В. Г. Белинского, вопросы, поставленные Герценом в его «Письмах», породили дискуссию и в кружке его русских друзей в Париже. Бакунин доказывал Белинскому, что «избави-де бог Россию от буржуазии». Сазонов и Анненков упрекали Герцена в том, что он толкует слово «буржуазия» слишком неопределенно и сбивчиво и не учитывает, что понятие это охватывает не только крупную буржуазию, но и среднюю и мелкую буржуазию. С данным упреком был, повидимому, согласен и Белинский. Он повторил его в своем отклике на «Письма из Avenue Marigny» в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.». Но либеральную апологетику капитализма и буржуазии Белинский решительно отвергал. В своем письме к Боткину Белинский дал горячую отповедь либеральным противникам герценовской критики буржуазии: «<…> не знаю, господа, – заявлял Белинский либералам-«западникам», – может быть, вы и правы, но я что-то слишком глуп, чтобы понять вас в вашей мудрости. Я не говорю, что взгляд Герцена безошибочно верен, обнял все стороны предмета, я допускаю, что вопрос о bourgeoisie – еще вопрос, и никто пока не решил его окончательно, да и никто не решит – решит его история, этот высший суд над людьми. Но я знаю, что владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором<…> Все в нем мелко, ничтожно, противоречиво; нет чувства национальной чести, национальной гордости» (В. Г. Белинский. Письма, т. III, СПб., 1914, стр. 326).
К сожалению, письма Белинского не дают ясного представления о той позиции, какой придерживался в парижских спорах о буржуазии сам Герцен. Как видно, вопрос об отношении к развитию буржуазии и капитализма в России в этом обсуждении только еще поднимался и возможные ответы на него, намечаясь, не додумывались до конца. Впрочем, одно из писем Белинского к Боткину содержит указание на то, что Герцен не был согласен с упрощенческим взглядом Бакунина на буржуазию и признавал, что «Письма из Avenue Marigny» уязвимы «с точки зрения<…> неопределенности и сбивчивости в слове буржуази<…>» (там же, стр. 328).
Последующий ход событий быстро прояснял Герцену значение его разногласий с «западниками» по вопросу о буржуазии. В конце своей первой статьи из серии «Письма с via del Corso», написанной в Риме в декабре 1847 г. в расчете на опубликование в подцензурном «Современнике», Герцен коснулся своих расхождений с теми, «кто вступился за французских буржуа», и отвечал им еще в шутливой форме. Герцен объяснял и оправдывал тон своих первых «Писем из Avenue Marigny», ссылаясь на то, что эти письма представляют лишь набросок первых впечатлений о Европе, но «не последнее слово, не весь собранный плод», что ему в них хотелось «передать первое столкновение с Европой». Но тут же Герцен подчеркивал: «<…>я не вижу никакой необходимости говорить с почтением о вещах, которые мне кажутся презрительными, хотя бы мы их и привыкли уважать издали, по старым воспитаниям. Недостаточно найти страну, в которой все еще хуже, чтоб находить хорошим то, что делается здесь. Все кумиры долой – голая, обнаженная истина лучше приведет к делу…». Он напоминал о том, что «нигде не смеялся и над Францией, стоящей за ценсом – а в плесени, покрывающей общество во Франции, все вызывало смех, все досадовало…». Дальнейшее объяснение Герцена по предмету этого спора с «западниками» можно проследить по его личным письмам к московским друзьям – Боткину, Коршу и другим, где ответ Герцена заступникам буржуазии делался более твердым, а принципиальный смысл его разногласий с ними очерчивался все более ясно. В письме к Боткину от 31 декабря 1847 г. Герцен писал: «<…> я должен откровенно сказать, что я чувствую настолько в себе самобытности, что даже ваше суждение<…> не может меня потрясти<…> В защиту внутреннего смысла писем <«Письма из Avenue Marigny»> я ставлю целый ряд убеждений и фактов. Это перчатка, которую я бросаю, это тема, которую я берусь защищать». На протяжении 1848 г., в свете опыта революции, идейная четкость ответа Герцена продолжала нарастать. После июньских дней, в письме к московским друзьям от 2 августа 1848 г., Герцен писал: «Все защитники буржуазии, как вы, хлопнулись в грязь», – и характеризовал намеком их позицию, как «последнее дикое мясо, т. е. буржуазологию». В письме к Грановскому, Е. Ф. и М. Ф. Корш от 6 сентября 1848 г. Герцен уже не делает ссылок на шутливый элемент своих писаний о Европе, а подчеркивает принципиальные основы своей критической и разоблачительной позиции по отношению к буржуазному господству во всех его формах: «<…> для меня все это не шутка, а последняя сущность, пульпа мозга, сердца, даже рук и ног».
Но и убедившись в непримиримости своих разногласий с либерально-буржуазными «западниками», Герцен не смог все же дойти до логического конца в своих спорах с апологетами буржуазии и порвать узы, связывавшие его с либеральными друзьями-«западниками». Этому помешала, прежде всего, коренная слабость идейных позиций самого Герцена, наглядно обнаруживающаяся в его «Письмах».
Как подчеркнул Ленин, Герцен «проклинал» буржуазный либерализм, «не умея понять его классовой природы» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 10). Эта идейная слабость и противоречия мировоззрения Герцена не ограждали его самого от либеральных иллюзий и впоследствии способствовали возрождению этих иллюзий и колебаний.
Кроме того большого значения, какое имели «Письма из Франции и Италии» в идейном развитии Герцена и в истории русской общественной мысли, эта книга знаменовала весьма важный этап творческого развития Герцена как художника слова, писателя. В «Письмах из Франции и Италии» Герцен впервые создал и разработал специфическую форму своего писательского творчества – жанр художественной публицистики автобиографического характера. Непревзойденным мастером этого жанра он показал себя впоследствии в мемуарах «Былое и думы». Уже книга «Письма из Франции и Италии» оправдывала позднейшее мнение Н. Г. Чернышевского, что «собственно по блеску таланта в Европе нет публициста, равного Герцену» (Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 годах, т. I. М., 1890, стр. 319).
Русскому нечего теперь здесь говорить и нельзя. – Предисловие писалось Герценом в Лондоне во время начавшейся войны Англии, Франции и Турции против России (Крымская война 1853–1856 гг.).
Мои брошюры, статьи в журнале Прудона, мои письма к Маццини и к Мишле были приняты с живым участием радикальною прессой в Европе и в Северной Америке. – Герцен имеет в виду свои книги: «Письма из Франции и Италии», «С того берега» (1850), «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» („О развитии революционных идей в России” 1851) и статьи 1848–1851 гг.: «La Russie» („Россия”), «Donoso-Cortès, marquis de Valdegamas, et Julien, empereur romain» („Донозо-Кортес, маркиз Вальдегама, и Юлиан, император римский”), напечатанные в газете Прудона «La Voix du Peuple» в 1849–1850 гг., «Lettre d’un Russe à Mazzini» („Письмо русского к Маццини”), «Русский народ и социализм» – открытое письмо историку Мишле (см. тт. VI и VII наст. изд.).
Я ~ заслужил вопль негодования, грязь неблагородных обвинений и подлых намеков. – В ряде вышеупомянутых произведений Герцен развивал мысли о превосходстве патриархального общинного строя крестьянской России над капиталистическим строем Западной Европы и о будущей великой революционной роли России в Европе. Эти идеи, высказанные к тому же в атмосфере войны капиталистической Англии против России за господство на Ближнем Востоке, вызвали злобную реакцию английской буржуазной прессы, договаривавшейся в своих клеветнических обвинениях по адресу Герцена до утверждений, будто он выступал под диктовку царского правительства.
…Николай в Петропавловской крепости, да и там под спудом… – Николай I похоронен в усыпальнице дома Романовых в соборе Петропавловской крепости.
«Nein, es sind keine leere Träume!» – Неточная цитата из стихотворения Гёте «Надежда». У Гёте: «Nein, es sind nicht leere Träume!»
…по Оригену сами себя уродовать, чтоб не согрешить. – Ориген – христианский философ, родившийся в конце II века, – оскопил себя, чтобы противостоять плотским соблазнам.
…и вовсе не плакал с Парашей Сибирячкой. – Сентиментальная, пьеса Н. Полевого «Параша Сибирячка. Русская быль, в двух действиях, с эпилогом» была написана им в 1840 г., через шесть лет после закрытия «Московского телеграфа». Официозно-патриотический сюжет пьесы был характерным для верноподданического направления писаний Полевого в этот период.
…попы крамольничали против Сиккарди. – Сиккарди был автором закона, распространившего на духовенство равную с остальными гражданами ответственность в судебных делах.
…мы расстались с вами на белом снегу в Черной Грязи… – Черная Грязь – станция на Петербургском тракте, до которой друзья Герцена провожали его в день отъезда за границу, 19 января 1847 г. Путь лежал через Тверь, Новгород, Псков, Ригу, Тауроген.
Стр. 16. С легкой руки Фонвизина ~ у нас всё рассказали о Европе в замечательных письмах русского офицера…– Герцен имеет в виду публиковавшиеся в печати письма Фонвизина к сестре и П. И. Панину о заграничном путешествии писателя в 1777–1778 гг., а также «Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806, также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год…», принадлежавшие перу Ф. Н. Глинки, известного впоследствии поэта и публициста. «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки печатались в 1814–1816 гг. в «Русском вестнике», «Сыне отечества» и «Вестнике Европы» и вскоре вышли отдельным изданием (8 частей, М., 1815–1816), которое имело большой успех у читающей публики во всех концах России.
…гражданские деловые письма его превосходительства Н. И. Греча и приходо-расходный дневник М. П. Погодина договорили последнее слово. – Имеются в виду верноподданнические «Путевые письма из Англии, Германии и Франции» Николая Греча (1839) и дневник заграничного путешествия М. П. Погодина, публиковавшийся им в 1843 г. в «Москвитянине» с подзаголовком «Из путевых записок». Иронически называя дневник путешествия Погодина «приходо-расходным дневником», Герцен намекал на то обстоятельство, что в своих записках о заграничном путешествии Погодин уделил много места перечню дорожных расходов, запугивая читателя дороговизной жизни в Западной Европе. На это произведение Погодина Герцен написал пародию «Путевые записки г. Вёдрина» (см. т. II наст. изд.).
…если б и прежний Дюмон-Дюрвиль вышел из вагона, не сгорел бы он на версальской дороге… – Во время железнодорожной катастрофы Дюмон-Дюрвиль сгорел в вагоне поезда Париж – Версаль.
…Василий Иванович с негодованием возражал Ивану Васильичу, что он не путешествует, а просто едет к себе в село Мордасы. – См. «Тарантас» В. А. Соллогуба, глава III.
…о бефреюнгскриге, в котором мы их освободили от французов… – Освободительная война, которую вела в 1813–1814 гг. Германия против наполеоновской Франции, была развязана вступлением в конце 1812 г. на территорию Германии победоносных русских войск и проходила при решающем участии России.
…Арминий недаром спас в тейтобургской грязи» германскую народность. – Битва в Тевтобургском лесу (в 9 г. н. э.), в результате которой Арминий нанес римлянам решительное поражение, происходила в топкой, болотистой местности.
…германская диета… – Союзный сейм, формально объединявший все 38 государств Германии в так называемый «германский союз».
…именно там немецкая кухня приближается к единой и нераздельной кухне… – Герцен намекает на декретированную Конвентом 25 сентября 1792 г. формулу официального названия республики, провозглашенной во Франции в ходе революций: «Французская Республика – единая и нераздельная». Во время революционных войн Франции против интервентов рейнская Германия испытала сильнейшее влияние французской революции; территория левобережья была присоединена к Франции, и на нее распространилось французское революционное законодательство.
Sie sollen ihn nicht haben… – Обращенное к французам начало «Рейнского гимна», сочиненного в 1840 г. Н. Беккером.
…дом тамплиеров – мрачных воинов-монахов… – Тамплиеры (храмовники) – духовно-рыцарский орден, основанный в Палестине в начале XII в. для защиты пилигримов. После прекращения крестовых походов тамплиеры переселились во Францию, где владели большими феодами и образовали «государство в государстве».
…вроде процессии царственных теней в «Макбете». – См. «Макбет» Шекспира (акт IV, сцена 1).
…сиживал на известном ахенском стуле… – Ахенский стул – реликвия Ахенского собора. Согласно легенде, на нем восседал император Карл Великий. До середины XVI в. этот мраморный стул служил троном во время коронационных торжеств для вновь избранного императора священной Римской империи германской нации.
…смуглая креолка – императрица французов? – Первая жена Наполеона I, Жозефина Богарнэ, родилась на о. Мартинике и была по происхождению креолкой.
Как не вспомнить опять: Dich stört nicht im Innern… – Из стихотворения Гёте «Den Vereinigten Staaten».
…бефруа – сторожевая башня.
…скучную жизнь кошихинских времен… – времен, описанных Котошихиным (или Кошихиным) – автором сочинения о России допетровских времен, написанного в середине XVII в.
…я пальцем покажу через улицу Elysée Bourbon, где жил император Александр. – Elysée Bourbon – дворец в Париже, в котором останавливался в 1814 г. Александр I, – находился на Елисейских Полях у Avenue Marigny, где жил в 1847 г. Герцен.
Эта болезнь особенно развилась во время трех-июльских дней и трех-месячной холеры. – Герцен намекает на революцию 1830 г. во Франции, решающие события которой произошли 28–30 июля («июльская революция»), и на республиканское восстание 1832 г. в Париже, вспыхнувшее в июне, во время эпидемии холеры, длившейся три месяца.
…снует челнок нашей жизни (это выражение ~ краденое, именно у Гёте…) – Очевидно, Герцен вольно перефразирует здесь слова поэта из «Пролога в театре» в «Фаусте» Гёте. У Гёте:
<Когда жизнь равнодушно наматывает на веретено бесконечно длинную нить…>.
Jardin des Plantes. – Имеется в виду Ботанический сад в Париже, который являлся одновременно и зоологическим садом.
…чтоб сказать со смыслом ~ о ~ Левассоре, мне нужно начать ~ по крайней мере с того Левассёра, который сидел в Конвенте. – Фамилия актера Левассора напоминала фамилию известного якобинца, члена Конвента Левассёра, автора знаменитых мемуаров о французской революции конца XVIII в.
…Париж, стоящий за ценс, или Париж, стоящий за ценсом… – Избирательный закон Июльской монархии предоставлял избирательное право лишь гражданам, уплачивающим не менее 200 фр. прямых налогов в год. Этот высокий имущественный ценз монополизировал власть в руках верхушки буржуазии. В стране насчитывалось всего около 220 000 избирателей, и «за ценсом» стояли не только весь пролетариат и почти все крестьянство, но и бóльшая часть мелкой буржуазии и даже часть средней буржуазии. Правящая цензовая буржуазия наотрез отказывалась уничтожить или понизить имущественный ценз для избирателей, отвечая на все такие требования циничными словами, приписывавшимися Гизо: «Обогащайтесь, и вы станете избирателями!»
…крикунов предместий св. Антония и Марсо, состарившихся трибунов des sections. – Во время буржуазной революции 1789–1794 гг. парижские предместья св. Антония (Сент-Антуанское) и св. Марсо (Сен-Марсо) были центрами революционного движения плебейских низов столицы. Выступления жителей этих предместий и трудового люда ряда «секций» (Париж делился тогда на 48 частей – «секций», центры этих «секций» служили одновременно и политическими клубами данного района) сыграли огромную роль в борьбе с внутренней контрреволюцией и интервентами.
…книжки, в которых говорили о фельдмаршале войск Людовика XVIII Буонапарте… – Герцен иронически напоминает о смехотворных стараниях дворянской контрреволюции во Франции в период реставрации замолчать события недавней революции и вытравить их из памяти народа. Так, в распространенном в эпоху реставрации учебнике истории патера Лорике Наполеон Бонапарт изображался генералом, главнокомандующим войсками его христианнейшего величества короля Людовика XVIII, якобы царствующего во Франции с 1796 г. (т. е. после смерти сына Людовика XVI).
…о кротком царствовании Людовика XVII, перенесшего столицу и двор в Кобленц… – Немецкий город Кобленц на Рейне в период французской революции конца XVIII в. стал центром деятельности бежавших сюда из Франции эмигрантов-дворян. Главой этой контрреволюционной эмиграции был брат короля Людовика XVI,граф Прованский, много лет спустя, в 1814 г., посаженный штыками победителей Наполеона на французский трон и воцарившийся под именем Людовика XVIII. Людовиком XVII эмигранты и контрреволюционеры во Франции и по всей Европе называли, после казни Людовика XVI, его малолетнего сына, который никогда не царствовал и умер ребенком во Франции в 1795 г.
…вели его признанные учители, т. е. les frères ignorantins… – В период реставрации Бурбонов во Франции (1815–1830) народные школы были в руках монашеского общества «Братьев христианской школы». Монахи этого братства именовали себя «невежественные братья», и это название было подхвачено народом и оппозиционными кругами буржуазии, выступавшими против засилья клерикалов в стране.
…правилами, почерпнутыми из скромного «Друга народа», почтенного «Отца Дюшена» и смиренного «Старого Корделье»… – Герцен иронически именует здесь «скромными», «почтенными» и «смиренными» знаменитые революционные французские газеты периода революции 1789–1794 гг. – газету Марата «L’Ami du peuple», газету Эбера «Père Duchesne» и газету Демулена «Vieux Cordelier».
Mabille, Ranelagh, «Хижина» («Chalet») – известные в середине XIX в. парижские кафешантаны.
…удивительное представление взятия Константины с пальбой и пожаром… – См. примечание к cтр. 366.
…он делит судьбу своего товарища du Palais Bourbon – Камеры. – Бурбонский дворец в Париже служил местопребыванием палаты депутатов (chambre des députés), или «Камеры».
…министр внутренних дел в прошедшем году продал в пользу «Эпохи» привилегию на театр за 100 000 франков…. – В 1847 г. Жирарден разоблачил министра внутренних дел правительства Гизо Дюшателя в том, что тот выдал в 1846 г. одному частному лицу разрешение на открытие в Париже нового оперного театра за взятку в 100 000 фр., которые были внесены в кассу газеты правительственного направления «Эпоха», яростно поддерживавшей политику Гизо и получавшей за это субсидии от правительства.
…памятник этого героизма – 4 августа 1789 г… – В ночь на 4 августа 1789 г. Учредительное собрание во Франции по предложению депутатов-дворян торжественно декларировало «уничтожение феодального режима» и повсеместное уничтожение феодальных привилегий и поборов. Однако это предложение дворянских депутатов совсем не было добровольным. Оно вносилось, по выражению Марата, «при свете пожаров подожженных замков»: в стране началась и нарастала с каждым днем аграрно-крестьянская революция. Кроме того, декларированная 4 августа «отмена» феодальных привилегий была в значительной степени иллюзорной, так как главные феодальные повинности крестьян подлежали выкупу крестьянами.
Во время ужасов второго террора, terreur blanche… – «Белым террором» называлась волна прокатившихся в 1815 г. по Франции массовых убийств и расправ с участниками революции конца XVIII в., с сочувствующими ей и даже со сторонниками Наполеона. Эти расправы осуществлялись дворянами, клерикалами и самыми реакционными элементами буржуазии.
…лучшее время его жизни после Jeu de Раите. – В зале для игры в мяч, поблизости от Версальского дворца, 20 июня 1789 г. депутаты Национального собрания от третьего сословия дали клятву не расходиться, несмотря ни на какие преследования королевской власти, пока ими не будет выработана конституция.
…он подбил чернь вступиться за себя ~ чтоб не впускать сволочь. – Герцен имеет в виду события революции 1830 г. во Франции. Буржуазные либералы, призвавшие народ к борьбе против королевского произвола, в защиту конституции, затем, после победы вооруженного восстания парижских рабочих и республиканских элементов мелкой буржуазии и студентов, не допустили провозглашения республики, а осуществили за спиной народа замену дворянской монархии Бурбонов буржуазной монархией во главе с Орлеанской династией. Новая монархия опиралась в борьбе против рабочего и республиканского движения не только на армию, но и на буржуазную национальную гвардию.
…во время барбесовского дела… – «Барбесовским делом» Герцен называет республиканское восстание 12 мая 1839 г. в Париже, организованное революционным тайным обществом «Времена года», во главе которого стояли О. Бланки и А. Барбес.
…Ж.-П. Рихтер смеется над теми людьми ~ вещь должна лежать именно на том месте. – См. роман Ж.-П. Рихтера «Отрывки о цветах, плодах, шипах, или Супружество, смерть и свадьба адвоката бедных Зибенкейза».
…bal de l’Opéra… – О знаменитых ночных маскарадах в помещении парижской Оперы см. также в «Былом и думах» (часть VIII, глава «Без связи»).
Муж свозит ее в дребезжащей ситадине ~ в Père Lachaise… – Ситадина – наемный экипаж; Père Lachaise – известное кладбище в Париже, служившее также местом для прогулок.
…Мафусаил-Веллингтон дерется с Мафусаилом-Сультом в Батиньолях, – а это еще entente cordiale! – В 1847 г. Веллингтону и Сульту было по 78 лет. В 1840–1847 гг. Сульт был номинальным главой французского правительства, фактическим руководителем которого являлся Гизо. «Сердечным согласием» именовалась настойчиво проводившаяся Июльской монархией политика сотрудничества Франции с Англией, – зачастую ценою отказа от защиты национальных интересов буржуазии и капитуляции перед Англией в ряде важнейших вопросов французской внешней политики.
…он ненавидит алчность ближнего к деньгам, он и дальнему Лондону загнул: «Марфа, Марфа, печешися о мнозе!» – Ироническое замечание Герцена о М. П. Погодине связано с тем, что в своих записках о путешествии по Западной Европе Погодин запугивал читателя алчностью населения в странах Западной Европы (см. примеч. к стр. 16). Цитата о Марфе из Евангелия (от Луки, гл. X, 41), повидимому, имеет в виду то место в путевых записках Погодина, где рассказывается о встрече с англичанином, который «ругал… английское богатство».
«…Это парижские ирландцы!» – В результате грабежа, жесточайшего гнета и колониального порабощения Ирландии со стороны Англии ирландский народ был доведен до крайней нищеты и вымирания.
Paul Niquet – известный в середине XIX в. дешевый трактир в Париже.
…несколько швей, одетых дебардерами… – т. е. грузчиками (франц. débardeur); это один из традиционных маскарадных костюмов.
Maison d’Or – название парижского ресторана.
Palais-Royal – дворец в Париже; перед революцией 1789 г. в его нижнем этаже, выходившем во внутренний сад, помещались знаменитые кафе, где собирались либеральные и демократические деятели, журналисты и т. д. Здесь 14 июля 1789 г. Камиль Демулен призвал парижан к восстанию. Впоследствии кафе были закрыты.
«Есть, – прибавляет ученый издатель, – баснословные слухи о каком-то бульваре Пуасоньер; но кто же знает о его существовании? Что же касается до бульвара Бомарше, это просто полицейская выдумка, нарочно распущенный слух». – Так сатирический журнал «Шаривари» высмеивал верхушку финансовой аристократии, для которой Париж кончался на границах кварталов города, являвшихся средоточием роскоши и увеселений. Бульвар Пуасоньер расположен неподалеку от Итальянского бульвара – центра дорогих ресторанов и самых роскошных магазинов, а бульвар Бомарше расположен далеко от него.
Сей кубок мы минувшим дням!.. – Герцен перефразирует строку из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов».
A peine nous sortions… – Из трагедии Расина «Федра» (акт V, сцена 6).
…счастие завершить начальное образование под маханье «Московского телеграфа»… – «Московский телеграф» – название журнала, издававшегося в 1825–1834 гг. Н. А. Полевым. Шутка Герцена становится понятной, если вспомнить, что до изобретения электрического телеграфа применялся телеграф оптический: сообщения передавались с одного возвышенного пункта на другой посредством «махания» (подъема и опускания) перекладины на телеграфной мачте.
Сестра ее Judith ~ имя напоминает «почтенного фельдмаршала Олоферна» и невежливый поступок с ним одной дамы. – Согласно библейскому преданию, во время карательного похода вавилонских войск против непокорных иудеев Юдифь явилась в палатку вавилонского полководца Олоферна, врага своего народа, и убила его.
Тут на первом плане модная комедия «Эмиль Жирарден и продажное пэрство». – Герцен имел в виду нашумевший в 1847 г. процесс Э. Жирардена, разоблачившего намерение министра внутренних дел Дюшателя продать одному лицу звание пэра Франции и место в палате пэров за 80 тыс. фр. Преданный палатой депутатов суду, Жирарден был оправдан палатой пэров, а обвиненные им министры были, в свою очередь, реабилитированы палатой депутатов.
…воздушным salto mortale всем телом или отчасти, смотря по тому, по которую сторону Па-де-Кале случится. – Герцен намекает на смертную казнь и ее разные способы, принятые в Англии (повешение) и во Франции (гильотинирование).
Я вам рассказывал, как один поврежденный доктор… – Герой повести Герцена «Доктор Крупов» (см. т. IV наст. изд.).
…голодная и босая армия победила Италию. – Воевавшие в 1795–1796 гг. в Северной Италии против австрийцев французские войска находились в бедственном материальном положении. После назначения Наполеона Бонапарта командующим французской армией в Италии солдаты были одеты и обуты за счет грабежа итальянских земель и городов. В кампании 1796 г. французские войска в Италии одержали полную победу над австрийской армией, что отдало Италию под французское владычество.
Сама буржуазия на днях произнесла в своем дворце страшные данииловские слова: «Rien, rien, rien!» – Герцен сравнивает события во Франции с библейской легендой о пророчестве Даниила и падении Вавилона. Ввиду нарастания глубокого революционного брожения в массах и признаков явного кризиса Июльской монархии политику правительства Гизо стали критиковать даже депутаты правительственного большинства. Один из них, Демулен де Живре, выступая в палате депутатов с оценкой деятельности правительства за 1847 г., охарактеризовал эти итоги словами, облетевшими вею Францию: «Что сделано в течение семи лет? Ничего, ничего, ничего».
…поэтическую сентенцию, что не все приглашены природой на пир жизни… – Герцен имеет в виду человеконенавистническую теорию апологета капитализма, английского экономиста Мальтуса, писавшего в своем сочинении «Опыт о законе народонаселения» (в его первом издании, вышедшем анонимно в 1798 г.; в последующих изданиях Мальтус не решился воспроизвести это место): «Человек, пришедший в занятый уже мир, если родители не в состоянии прокормить его или если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет ни малейшего права требовать какого бы то ни было пропитания, и в действительности – он лишний на земле. На великом жизненном пиру нет для него места».
…когда социальные идеи были чистой мечтой, далекой, как Атлантида Моруса… – Герцен, повидимому, имеет в виду фантастический остров «Утопия», коммунистический строй которого описывал Томас Мор. У древних греков существовало предание о легендарной Атлантиде – громадном острове в Атлантическом океане, ушедшем под воду в результате страшного землетрясения. Герцен ошибочно называет «Утопию» Мора «Атлантидой»: «Новая Атлантида» – произведение Бэкона.
…когда проповеди улицы Менильмонтань стали комментироваться лионскими и парижскими работниками ~ мрачно прогулялась по площади… – В Менильмонтане (тогда – предместье Парижа, ныне входит в черту города) в 1832 г. была организована трудовая и религиозная сен-симонистская община, которая вела пропаганду сен-симонистских идей. Публичную проповедь этих идей сен-симонисты вели также в Лионе. Лозунг «Жить, работая, или умереть, сражаясь» написали на своем знамени восставшие рабочие-ткачи во время знаменитого лионского восстания 1831 г. Во время этого восстания проявились реакционные тенденции пропаганды сен-симонистов, их враждебное отношение к рабочему движению, их попытки играть роль «братьев милосердия», примирителей борющихся классов.
Знало ли дворянство близость своих судеб, когда Сиэс спрашивал: «Что такое среднее состояние»? – Герцен имеет в виду знаменитый памфлет Сийэса «Что такое третье сословие?», появившийся в январе 1789 г., в канун революции во Франции. В этом памфлете Сийэс требовал уничтожения привилегий дворянства и перехода власти к третьему сословию, представляющему нацию.
В самое то время казнили четырех работников в Бюзенсе. – В городке Бюзансе (деп. Эндр) в 1847 г. голодающий рабочий люд напал на хлебные грузы и склады, принадлежавшие хлеботорговцам и спекулянтам. Двое спекулянтов были убиты. Экзекуция, учиненная властями над трудящимся населением Бюзансе, сопровождалась гильотинированием четырех рабочих, обвинявшихся в убийстве этих спекулянтов.
…королевство стащило его с собой на place de la Révolution, и оно принуждено было спасаться бегством. – На площади Революции 21 января 1793 г. был казнен Людовик XVI. После казни короля эмиграция дворян из Франции приняла массовый характер.
…мост, построенный из камней, наломанных при разрушении Бастилии… – Ныне мост Согласия, прилегающий к площади Революции (ныне пл. Согласия).
Quai d’Orsay – набережная на берегу Сены, между мостами Королевским и Согласия.
Консьержри… – политическая тюрьма в центре Парижа.
…величавая масса Собора… – Собора Парижской богоматери.
…Cité, врезывающееся баркой в Сену… – Остров на Сене, древнейшая часть Парижа, имеет форму барки. Отсюда герб города – корабль.
…мне показалось естественным и справедливым, что меня привезли в Шарантон за то, что я выехал из Парижа. – В Шарантоне находился дом для умалишенных.
…благодаря укреплениям, поставленным после 1832 года. – Лионские рабочие восстания произошли в 1831 и 1834 гг. В данном случае речь идет об укреплениях, построенных в Лионе после подавления восстания 1831 г.
…по другую сторону Соны в старом римском городе… – Часть древнего города Лиона, некогда входившая в состав римского города Лугдунума.
Croix Rousse – рабочее предместье Лиона, центр революционных восстаний 1831–1834 годов.
«Пятнадцать лет прошло после 32 года…» – Здесь и на стр. 71 речь идет, повидимому, о восстании 1834 г.
…бойня в Cloître St.-Merry ~ сентябрьские дни du juste-milieu… – Во время республиканского восстания 1832 г. в Париже особенно прославились своим героизмом бойцы баррикады, возведенной в районе улички Сен-Мерри и монастыря того же названия. Горстка защитников этой баррикады, менее 100 человек, почти двое суток отражала атаки 10 тысяч правительственных войск. Войска перебили почти всех повстанцев и учинили резню в соседних домах. Называя эту резню «сентябрьской резней золотой середины» (т. е. буржуазии), Герцен проводит аналогию с сентябрьскими днями 1792 г. в Париже, описанными в тогдашней буржуазной историографии (и даже в работах сочувствовавших якобинцам мелкобуржуазных историков) как «позорные» события «террористического произвола черни». В действительности, осуществленные в сентябрьские дни 1792 г. революционным народом Парижа массовые казни заключенных контрреволюционеров были актом защиты революции против угрожавшего ей в час смертельной опасности для Франции удара в спину со стороны заключенных контрреволюционеров и заговорщиков-монархистов. Характерно, что, восприняв из тогдашней историографии осуждающую оценку сентябрьских дней 1792 г., Герцен однако отказывался отождествлять революционный террор с контрреволюционным. Говоря в начале 3-го письма из цикла «Опять в Париже» о сентябрьских казнях 1792 г., он подчеркивал стремление парижских санкюлотов к правосудию и настаивал на том факте, что списки осужденных внимательно рассматривались.
…лионские мещане ~ подняли знамя междоусобной войны против Конвента. – Герцен напоминает далее факты из истории контрреволюционного восстания против Конвента, поднятого жирондистской лионской крупной и средней буржуазией в союзе с роялистами в мае-июле 1793 г., в ответ на поражение жирондистов в Конвенте и Париже. В изложении этой истории Герцен допустил неточность: уполномоченными Конвента в Лионе, после отзыва Кутона, были Фуше и Колло Д’Эрбуа, а не Карье.
…тем германским императором, который срыл до основания Милан… – Во время второго итальянского похода Фридриха Барбароссы, в 1162 г., по решению его «суда», Милан, возглавлявший сопротивление ломбардских городов и общин германским вторжениям в Италию и установлению владычества над ней германской империи, был разрушен, а место, на котором стоял город, вспахано.
…лионская чернь ~ которой фанатического представителя они казнили самым страшным образом. – Речь идет о левом якобинце Шалье – друге и единомышленнике Марата, который был руководителем якобинского клуба в Лионе и мэром Лионской Коммуны (1792–1793 гг.), где он защищал интересы бедноты и рабочих. Во время контрреволюционного мятежа, поднятого 29 мая 1793 г. в Лионе жирондистской и монархической буржуазией, Шалье был арестован мятежниками, подвергнут мучительным пыткам и казнен с большой жестокостью.
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht… – Из «Песни Миньоны» Гёте («Ученические годы Вильгельма Мейстера»). Стихотворение Гёте посвящено Италии.
…река без воды… – Под Варским мостом в Ницце в жаркое время река так пересыхает, что ее русло кажется безводным.
…девяностолетний Сержан, умерший здесь месяца три тому назад. – Антуан-Франсуа Сержан, член Конвента, якобинец, после победы контрреволюции эмигрировал в Италию и умер в Ницце 96 лет от роду. Перед смертью Сержан наотрез отказался, несмотря на все происки иезуитов, вернуться к религии. Этот эпизод использован Герценом в повести «Доктор, умирающий и мертвые» (1869), в которой Сержан представлен в образе Ральера.
…город пировал реформу и примирение. – Упоминаемые здесь и далее либеральные реформы в Пьемонте, Папской области и Тосканском герцогстве знаменовали собой попытку правящих феодальных верхов итальянских государств ослабить общественное недовольство и предотвратить нарастание революции в Италии посредством небольших уступок требованиям буржуазии и либеральных помещиков. В Пьемонте в октябре 1847 г. указом короля Карла-Альберта была объявлена реформа судопроизводства и смягчена цензура над печатью. Пьемонтским реформам предшествовали меры папы Пия IX по смягчению средневековых абсолютистско-мракобесных порядков в папском государстве: был ослаблен гнет инквизиции и духовной цензуры, была объявлена амнистия политическим заключенным, впервые было разрешено строительство железных дорог, возвещено создание государственного совета и римского муниципалитета с участием представителей буржуазии и помещиков. Вслед за тем в Папской области была разрешена национальная гвардия. Наконец, в Тосканском герцогстве были отменены ограничения свободы печати и в 1847 г. в правительство были включены умеренные либералы, а буржуазия получила право на создание национальной гвардии.
Реформа несколько примирила двух соседей, которых сочетал браком Венский конгресс. – По решению Венского конгресса 1815 г. Генуэзская республика была уничтожена; Генуя была отдана под власть Савойской монархии и присоединена к Сардинскому королевству.
…«они воскресли тоже, как говорит Фауст, из душных мастерских, из низеньких домов». – Герцен цитирует здесь слова Фауста из сцены «Vor dem Tor» (часть 1). У Гёте:
…Гейне говорил, что в письмах из Италии можно говорить обо всем, кроме Италии? – В «Путевых картинах», в разделе «От Мюнхена до Генуи», Г. Гейне перечисляет авторов описаний путешествий по Италии, давая некоторым из них краткие характеристики.
…талант Диккенса не спас его пустого рассказа. – Герцен имеет в виду «Pictures from Italy» Диккенса.
…с негодованием леди Морган ~ плоскостью Фулширона. – Имеется в виду книга леди Морган «Италия» и «Путешествие в полуденную Италию» Ж. К. Фюльширона.
– о tu, cui feo la sorte… – Из стихотворения Винченцо Филикайя «Аll’ Italia» («К Италии»). См. также «Письма с via del Corso», стр. 253.
Forum Romanum – центр общественной жизни древнего Рима. Здесь заседал сенат, происходили народные собрания; здесь же были размещены храмы, в том числе храм Весты.
Он – как Миньона: dahin dahin, у него значит – в Италию. – Герцен имеет в виду «Песнь Миньоны» Гёте. Мотив «dahin, dahin», т. е. в Италию, проходит через все стихотворение.
…он снова ринулся к светской жизни при цезаре Льве X, Юлии II. – Называя этих пап XVI в. цезарями, Герцен хотел подчеркнуть сугубо светский характер их деятельности.
Campagna di Roma – равнина, окружающая Рим между Албанскими и Сабинскими горами, любимое место прогулок Герцена (см. «Былое и думы», часть I, гл. III).
…на берегах Истры… – Герцен вспоминает свою поездку в 1829 г. с Т. П. Кучиной (Пассек) в Новый Иерусалим (под Москвой, на берегу Истры)
…зубчатую линию акведуков, идущую целые мили… – Цепь руин водопровода, построенного в I в. и доставлявшего в Рим воду с Албанских гор.
…своде терм Каракалы… – Термы Каракалы – грандиозные бани, построенные императорами Каракалой и Александром между 212 и 223 годами. Термы включали прекрасное собрание скульптуры и ценную библиотеку.
Из всех преступлений я всего дальше от идолопоклонства и против второй заповеди никогда не согрешу. – В легендарных десяти заповедях Моисея вторая заповедь гласит: «Не сотвори себе кумира».
…теплой живой карнации. – Мысль Герцена поясняет текст издания 1850 г.: «чтобы отделаться от презренного мира телесной красоты мягких, грациозных движений».
Santa Maria Maggiore – одна из древних базилик Рима, построенная, согласно легенде, в середине IV в.
Квиринал (Quirinal) – один из 7 холмов древнего Рима. В конце XVI в. здесь был построен дворец, служивший одно время резиденцией пап.
…«Scuoti il polvere»… – Из гимна «Il vesillo» («Знамя»), созданного на слова поэта П. Стербини, члена союза «Молодая Италия».
Корсо – главная улица Рима, ведущая от Piazza del Popolo (Народная площадь) к подножию Капитолия.
Консульта – Совет города Рима.
…во время moccoletti… – Moccoletti буквально: свечи (итал.), здесь имеется в виду карнавальное шествие со свечами.
Piazza Colonna – площадь, пересекаемая улицей Корсо. Свое название получила от колонны, поставленной в честь императора Марка-Аврелия.
Palazzo Madama – губернаторская резиденция, дворец, перестроенный в XVII в. из замка римского патриота Кресченция (XI в.), боровшегося с германским императором Оттоном III. Получил свое имя от «Madama» – Маргариты Пармской.
…Климент XIV, изгнавший иезуитов из Рима… – В издании 1858 г. здесь опечатка: Климент XVI. Речь идет несомненно о папе Клименте XIV, приобретшем популярность своей борьбой с орденом иезуитов.
Фидиасовы лошади – две скульптурные группы, изображающие юношей – Диоскуров (Кастора и Поллукса), ведущих вздыбленных коней; ошибочно приписывались Фидию (V в. до н. э.). Квиринальский холм, с тех пор как сюда были перенесены Диоскуры, назван Monte Саvallo (cavallo – лошадь).
В конце декабря делали демонстрацию швейцарскому послу, поздравляя его с разбитием Зондербунда. – В конце ноября 1847 г. войска швейцарского сейма нанесли окончательное поражение мятежному союзу семи католических кантонов Швейцарии («Зондербунд»), следствием чего были прогрессивные буржуазные реформы в Швейцарии и в первую очередь – изгнание из нее ордена иезуитов. Победа передовых кантонов Швейцарии над реакционно-клерикальным «Зондербундом» приветствовалась всеми прогрессивными и демократическими элементами в Европе.
Circolo Romano и Circolo Popolare – названия клубов.
…вести не токмо о восстании Палермы, но и о геройской защите города. – Революция 1848 г. в Италии была развязана народным восстанием в Сицилии, в гор. Палермо, в январе 1848 г. Неаполитанские войска безуспешно пытались подавить это героическое восстание посредством артиллерийской бомбардировки города.
…под заветными буквами S. Р. Q. R…. – Сокращенное «Senatus, Populusque Romanus» – Сенат и римский народ (лат.).
…когда Карл V и Франциск Iвыбрали прекрасные поля ее для кровавой войны… – Войны между империей Габсбургов и Францией за владычество над Италией начались еще в конце XV в. и достигли наибольших масштабов в царствование французского короля Франциска I, который вел четыре итальянские войны с Карлом V (1521–1544 гг.). Эти франко-испанские войны привели к опустошению Италии и ее порабощению более чем на два века иностранными завоевателями – французами, испанцами и австрийцами. В изд. 1858 г. и в авторизованной копии ПД Франциск I ошибочно назван Герценом Франциском II.
– …гидра лернская… – в греческой мифологии чудовище с 9 головами (на месте каждой отрубленной головы вырастала новая, благодаря чему гидра была непобедима).
…их уже ждали не апотеоза, как Петрарку, а плаха и костер. – В 1341 г. Петрарка был торжественно увенчан лавровым венком в Риме, на Капитолии. Среди гуманистов, погибших на костре, – великий философ-гуманист Джордано Бруно, сожженный в Риме в 1600 г.
Pilgrime sind wir alle… – Из «Венецианских эпиграмм» Гёте («Epigramme. Venedig»).
…по превосходному выражению Баратынского ~ шум волн… – Имеется в виду стихотворение «На смерть Гёте»:
Lebenund Weben ist hier… – Из «Венецианских эпиграмм» Гёте.
Французы поступали ~ директориального правления. – Завоевательная политика Франции в Италии развернулась в период торжества контрреволюционной французской буржуазии, когда Францией правило правительство Директории (1795–1799). После побед французских войск в Италии в 1796–1799 гг. победители создали ряд вассальных республик: Циспаданскую и Транспаданскую, объединенные затем в Цизальпинскую (главный город – Милан), Римскую, Партенопейскую (главный город – Неаполь) и др.
Отаити – Таити.
…оппозиция в духе Лафайета и Бенжамена Констана. – Лафайет и Констан возглавляли в период реставрации различные течения либеральной буржуазной оппозиции, отличавшиеся не целями, а средствами борьбы. Констан был лидером умеренно-либеральной оппозиции, добивавшейся мирными средствами утверждения во Франции конституционной парламентской монархии английского типа. Лафайет был лидером «независимых либералов», стремившихся к конституционной монархии путем смены династии и иногда прибегавших для этого к революционно-заговорщической тактике и временному союзу с республиканцами.
…Шпильберг, С.-Эльм или С.-Анджело… – названия известных австрийских и папской тюрем, служивших местом заключения итальянских революционеров и деятелей итальянского национально-освободительного движения.
…ноту в защиту романьолов… – Романьолы – жители Романьи – северо-восточной части Папской области.
Конклав – собрание кардиналов для выборов нового папы.
Мора – азартная игра, бытующая в Италии с древних времен; заключается в быстроте отгадывания количества пальцев, одновременно показываемых двумя играющими.
Самый сильный человек делается здесь Самсоном, остриженным под гребенку… – По библейскому рассказу источником силы и непобедимости Самсона были его длинные волосы; обманутый Далилой, которая сумела выведать у Самсона этот секрет и остригла его, Самсон лишился сил, был ослеплен и отдан в рабство. Стp. 110… carpe diem. – Изоды Горация (11 ода, кн. 1), обращенной к Левконое. Эпикурейский лозунг: лови момент для наслаждения, не доверяйся будущему!
Sta, viator! – Надпись на могилах римлян, погребенных у больших дорог.
«Посмотри на Неаполь – и потом умри»… Неаполитанская поговорка: «Vedi Napoli е poi mori».
Старый Рим бежал умирать в его объятия… – Виллы римских императоров и римской аристократии находились в окрестностях Неаполя. Весь императорский период Герцен считал эпохой умирания Рима.
Кастель-del’ Ovo – замок, построенный в XIII в.; впоследствии был превращен в военную тюрьму.
Толедо – главная улица Неаполя.
S. Carlo – знаменитый театр в Неаполе.
«Perchè t’engriffi сот’ un gatto»… – Народная неаполитанская песня. Она бытовала в семье Герцена. В приписке к его письму к дочерям от 7 декабря 1863 г. Огарев писал: «Pater <т. е. Герцен> старается припомнить мотив и все, что запоет, выходит „Perche quammo me vede, t’ingriffi com’ un gatto”».
…с предложением цветов (обоих царств – растительного и животного)… – Цветы животного царства, вероятно, – frutti di mare, т. е. различные морские существа.
Т. – Алексей Алексеевич Тучков. А. А. Тучков с дочерьми были спутниками Герцена в его путешествии по Италии.
…лошади с Аничкина моста… – Скульптурные группы работы Клодта, копии тех, которые были установлены в С.-Петербурге.
Кастелла-Маре – приморский городок между Помпеей и Сорренто.
…две империи с своими пернатыми Рита-Христинами на флаге. – Государственные гербы российской и австрийской империй имели изображения орлов.
…подземный хор, как в «Роберте». – В опере Мейербера «Роберт-дьявол».
Тор-ди-Нона – театр в Риме.
…неминуемое восстание Милана… – С начала 1848 г. ненависть к австрийскому гнету и революционное брожение среди населения Милана быстро нарастали. 18 марта 1848 г., после того как австрийские власти объявили город на осадном положении, в Милане вспыхнуло всенародное восстание, закончившееся после 5-дневных уличных боев населения с австрийскими войсками победой восставших. Ф. Энгельс назвал революцию в Милане «самой славной революцией из всех революций 1848 г.» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VI, часть I, 1930, Стр. 259).
Palazzo Venezia – дворец, построенный в середине XV в. из камней Колизея; в 1560 г. подарен Венеции, а в конце XVIII в. передан австрийскому посольству.
…questo ucello grifagno… – Орел – герб Австрии.
…tramontana… – название северного ветра, дующего из-за Альпийских гор; от латинских слов trans montes.
Пятнадцатого мая сняло с моих глаз повязку ~ побеждена и республика. – 15 мая 1848 г. демократические клубы Парижа организовали народную демонстрацию с целью оказать давление на Учредительное собрание, выправить его антиреволюционную линию и побудить его послать французские войска на помощь польскому национальному восстанию в Пруссии. Демонстрация приняла огромные размеры (в ней участвовало около 150 000 человек), и революционные вожаки потеряли управление движением. Часть демонстрантов ворвалась в Бурбонский дворец, где заседало Учредительное собрание; была сделана попытка роспуска Учредительного собрания и создания нового революционного правительства. Лишенная проницательного руководства, демонстрация 15 мая потерпела полное поражение, что расчистило путь к июньской бойне пролетариата. Позднейшие исследования дают основание полагать, что затея этой демонстрации и роспуска Учредительного собрания носила провокационный характер. Нити этой провокации тянулись к правительственным и полицейским органам, искавшим предлога для заблаговременной расправы с революционными вождями парижских рабочих в предвидении решительного боя с парижским пролетариатом – июньского восстания.
…«башмаков еще не успели износить»… – См. «Гамлет» Шекспира, (акт I, сцена II).
Дома я застал одного горячего республиканца… – Речь идет о близком знакомом Герцена, мелкобуржуазном демократе Жане Бокэ, который был одно время учителем его детей. О Ж. Бокэ и об этом разговоре с ним Герцена см. в письмах Герцена к московским друзьям от 2 августа и 6 сентября 1848 г. и в письме к М. Ф. Корш от 8 сентября 1848 г.
В Марселе я прочел о страшном усмирении руанского восстания ~ она пророчила дурное… – 27–28 апреля 1848 г. в Руане произошло рабочее восстание, вызванное победой на выборах в Учредительное собрание в этом городе списка реакционных буржуазных кандидатов, в числе которых были руанские фабриканты – злейшие эксплуататоры рабочих. Руанские рабочие обвиняли власти в фальсификации выборов, пытались овладеть Ратушей и, будучи отброшенными, построили баррикады. Против рабочих были направлены войска, буржуазные части национальной гвардии и пущена в ход артиллерия. При усмирении восставших было убито 11 и ранено 81 рабочих.
Косидьеровские монтаньяры – отборная часть новой полиции Парижа, созданная Коссидьером и Собрие из участников дореволюционных республиканских тайных обществ и считавшаяся оплотом «революционной демократии» в столице.
…знаменитый крик: «Demandez la grrr-ande colère du Père Duchene ~ centimes!» – раздавался между сотнею новых. – После февральской революции 1848 г. в Париже стали выходить несколько газет, подражавших своим крикливо-«революционным» языком популярнейшей народной газете времен революции конца XVIII в. – газете «Père Duchesne», издававшейся левым якобинцем Эбером.
…«charité bien ordonnée»… – Начало французской поговорки «Charité bien ordonnée commence par soi-même», соответствующей русской поговорке «Своя рубашка ближе к телу».
…упорное отвращение Беранже от звания представителя ~ поэта. – Беранже упорно отказывался от предложения выставить свою кандидатуру в депутаты Учредительного собрания, а после избрания, вопреки его желанию, депутатом категорически отказался принять мандат «представителя народа» и настоял на своем отказе.
Чего не осмелился сделать Робеспьер 8 термидора… – Герцен напоминает о том, что при свержении якобинской диктатуры 26–27 июля 1794 г. (8–9 термидора), после того как контрреволюционные заговорщики взяли верх в Конвенте и добились декрета об аресте якобинских вождей, Робеспьер не решился обратиться за помощью к народу, к плебейским низам Парижа.
По ту сторону виднелась не ламартиновская республика, а республика Бланки, т. е. республика не на словах, а на самом деле… – Данное место свидетельствует о том глубоком впечатлении, какое произвели на Герцена выступления Бланки после февральской революции. Бланки в этот период резко критиковал политику мелкобуржуазных социалистов типа Луи Блана и сеявшиеся ими в массах иллюзии насчет якобы осуществившейся «социальной республики»<.> Разоблачая фальшь формальной буржуазной демократии, Бланки доказывал, что февральская республика ничего не изменила в системе эксплуатации трудящихся – «изменилась форма, но сущность сохранилась. Тот же строй привилегий, не убавилось ни камешка, лишь прибавились фразы и флаги». Принимая, как и Герцен, февральскую революцию за начало осуществления социального переворота, Бланки противопоставлял буржуазной республике республику подлинного равенства и социального освобождения трудящихся. Мнение Герцена о «республике Бланки» как республике «не на словах, а на самом деле», переходом к которой будет служить «революционная диктатура», показывает, что осенью 1848 г. взгляды Герцена на демократическую государственность и революционную диктатуру были куда ближе к взглядам Бланки, чем к взглядам Прудона. Об этом же свидетельствует ряд мест из следующего письма Герцена.
…резню в улице Транснонен… – Резня на улице Транснонен произошла в 1834 г. во время подавления правительством Июльской монархии республиканского восстания в Париже. Поощряемый призывами Тьера к беспощадной расправе с республиканцами, отряд правительственных войск (общее командование ими принадлежало маршалу Бюжо) ворвался в один из домов по ул. Транснонен и перебил всех его жителей, в том числе женщин и детей.
…вооруженный Тьеровыми сентябрьскими законами… – В сентябре 1835 г. французский парламент принял свирепые законы, направленные против республиканского движения и ставившие целью, в частности, удушение республиканской и социалистической печати. Газетам, под страхом больших штрафов и суровых наказаний, запрещалось даже «оспаривать принципы государственного суверенитета, собственности и семьи». Автором этих террористических реакционных законов был Тьер, занимавший тогда пост министра внутренних дел.
…Париж, описанный в ямбах Барбье, в романе Сю… Герцен имеет в виду сборник стихов поэта Барбье «Ямбы», содержавший гневную, острую сатиру на буржуазный Париж, и известный роман Э. Сю «Парижские тайны», изображавший в сентиментальном и сочувственном духе парижскую бедноту, которую автор противопоставил грязному и преступному миру парижской аристократии и богачей.
…убийства в герцогских комнатах… – По всей вероятности, Герцен имеет в виду обстоятельства таинственной смерти герцога Бурбонского, последнего принца Кондэ. Дряхлый 74-летний старик, герцог в августе 1830 г. был найден мертвым в своем замке. Официальное следствие дало заключение о самоубийстве «посредством удушения», но во французском общественном мнении ходили упорные слухи и сильные подозрения в убийстве герцога. Эти подозрения подкреплялись не только обстоятельствами его смерти и довольно явственным стремлением властей замять данное дело, но и тем, что незадолго до своей смерти герцог подписал завещание, делавшее единственным наследником его огромного состояния старшего сына короля Луи-Филиппа, герцога Омальского. Подозрения в убийстве герцога Бурбонского восходили поэтому к самому Орлеанскому дому.
…кража лесов королем… – Во время царствования Луи-Филиппа в результате активных домогательств короля значительное количество государственных лесов Франции было присвоено королевским домом под видом «награждения доменом» сыновей короля, «подарков от нации» по случаю их вступления в брак и т. п.
…все симпатии народа были пожертвованы для того, чтоб простили испанские браки… – Вопрос о кандидатах в супруги испанской королеве Изабелле и ее младшей сестре Луизе-Фердинанде стал в 40-х годах XIX в. предметом острой дипломатической борьбы европейских держав и вызвал цепь сложных интриг Англии, Франции и Австрии, имевших целью утвердить господствующее влияние одной из этих держав в Испании. Эта борьба кончилась победой французского короля и Гизо, добившихся в 1846 г. успеха в Мадриде французских кандидатов. Испанские браки породили новый кризис в англо-французских отношениях. Луи-Филипп и Гизо пытались преодолеть его новым заискиванием перед Англией и реакционными европейскими державами.
…запятнать Францию явным вмешательством в дела Португалии и тайным в дела Швейцарии. – Правительство Гизо вместе с Англией осуществило открытую интервенцию в Португалию во время гражданской войны 1846–1847 гг. в пользу сил правящей в Португалии реакции и скрытно поддерживало реакционный «Зондербунд» против либеральных кантонов Швейцарии.
…Гизо семь лет не только терпел продажу мест, но брал отеческое участие в распоряжениях, условиях… – В разоблачениях, сделанных в парламенте в январе 1848 г. ораторами оппозиции, критиковавшими политику правительства Гизо, было доказано на основе фактов, что покупка-продажа государственных должностей имела место не без ведома самого Гизо, который цинично оправдывал эту практику.
…члены общества des droits de l’homme… – Герцен хорошо знал о существовании во Франции республиканско-демократического «Общества прав человека и гражданина», возникшего в первые годы Июльской монархии и ставившего своей целью установление во Франции республики, основанной на принципах якобинской «Декларации прав человека и гражданина» и конституции 1793 г. Но это общество прекратило существование после подавления республиканского восстания 1834 г. и издания террористических законов против республиканского движения; на смену ему пришли общества более пролетарские и более радикальные по своей социальной программе. Некоторые из них носили коммунистический характер. В февральской революции 1848 г. в баррикадной борьбе самое активное участие принимали члены этих революционных тайных обществ, как, например, «Общества новых времен года», «Общества работников-эгалитариев» и др.
…этот несчастный солдат ~ мысли, слова. – Герцен подразумевает генерала Кавеньяка.
Нет, почтенные мещане, полно говорить о красной республике… – «Красной республикой» буржуазные реакционеры называли французскую республику периода Конвента и якобинской диктатуры (1792–1794 гг.).
…трехмесячное осадное положение! – Осадное положение, введенное в Париже 23 июня 1848 г. в момент начала рабочего восстания, было снято лишь 19 октября того же года.
…они позволили рту Бошара прочесть ей обвинительный вердикт… – Бошар был докладчиком следственной комиссии (созданной Учредительным собранием в конце июня 1848 г.) о событиях июньского восстания и демонстрации 15 мая и об участии в этих событиях демократов и социалистов.
…в числе их нашлись два человека, которые не хотели наушничать… Герцен имеет в виду Ледрю-Роллена и Альбера. В первоначальном тексте данного письма эти имена расшифровывались (см. стр. 350 настоящего тома).
…в деле Роганова ожерелья… – В 1785 г. во Франции произошла скандальная история с приобретением мошенническим путем кардиналом Роганом бриллиантового ожерелья для королевы Марии-Антуанетты. Мошенничество было организовано с ее ведома, но суд тщательно обходил и замалчивал этот факт.
…испуганные своими связями с побежденными, горцы допустили роялистов взять страшные меры… – «Горцы» – члены демократической группы депутатов Учредительного собрания, назвавшей себя «Горой» в знак преемственности с якобинской «Горой» 1792–1794 гг. В действительности мелкобуржуазная «Гора» 1848 г. всей своей политикой и ролью в событиях резко контрастировала с якобинской «Горой» периода буржуазной революции конца XVIII в. «Гора» 1848 г. была олицетворением мелкобуржуазной трусости, колебаний и предательства трудящихся масс, прикрываемого революционной фразеологией и парламентской болтовней. В первоначальном тексте Герцен прямо клеймил этих псевдомонтаньяров «трусами» (см. стр. 351 настоящего тома).
…люди, всплывшие после 24 февраля, были попорчены египетским пленением Фараона Орлеанского… – Пояснением этой фразы может служить первоначальный текст данного места (см. стр. 349 настоящего тома). Герцен сравнивал буржуазных и мелкобуржуазных республиканцев, правивших Францией после февральской революции, с иудеями, вышедшими из Египта после долголетнего рабства и настолько им испорченными, что они уже не годились для свободной жизни.
…организация работы… – Имеется в виду идея «организации труда», пропагандировавшаяся социалистами-утопистами и, в особенности, Луи Бланом в его книге «Organisation du travail», в которой он излагал утопический план социального переустройства капиталистического общества на основе сотрудничества классов в демократической республике.
…мысль послать объясниться с народом посредников между им и революционным правительством ~ комиссаров. – Будучи министром внутренних дел Временного правительства, Ледрю-Роллен пытался подготовить успех республиканцев на выборах в Учредительное собрание. Внешне подражая примеру якобинцев XVIII в., он направил в департаменты «комиссаров» и публиковал в печати циркуляры, предписывавшие этим «комиссарам» решительные действия по очистке местной администрации от монархистов и замене их республиканцами. «Циркуляры» Ледрю-Роллена содержали весьма сбивчивую программу действий для «комиссаров»: энергичные выражения и революционная фразеология сопровождались в циркулярах заверениями в адрес буржуазии, что миссия «комиссаров» не содержит «ничего страшного», что им вменена в обязанность всяческая осторожность в мероприятиях. Несмотря на то, что «циркуляры» Ледрю-Роллена свидетельствовали фактически об отказе мелкобуржуазных демократов от решительной борьбы с монархической крупной буржуазией и помещиками, реакционная печать подняла по поводу этих «циркуляров» шум, обвиняя Временное правительство в стремлении воскресить «якобинскую диктатуру», организовать «давление на избирателей» и покуситься на «свободу выборов». Ламартин от имени правительства отмежевался от «циркуляров» Ледрю-Роллена и поспешил заверить буржуазию в том, что у правительства нет намерения «подражать ошибкам и злосчастьям прежних времен».
…надбавочный налог сорока пяти сантимов. – Введенный Временным правительством в марте 1848 г. добавочный налог, увеличивший, на 1 год, сумму четырех прямых налогов на 45 %. Основная тяжесть этого налога пала на крестьянство. 45-сантимный налог явился со стороны буржуазии провокационной мерой, весьма способствовавшей отталкиванию французского крестьянства в лагерь контрреволюции и натравливанию крестьян на пролетариат, требования которого буржуазная пропаганда старалась представить крестьянам в виде главной причины, вызвавшей необходимость повысить налоги.
…сир Робер Пиль, конечно не революционер, прибегнул же к income-tax? – Во время второго министерства Р. Пиля (1841–1846) в Англии был введен подоходный налог. Стр. 165. …с высоты той самой трибуны, на которой ~ кашлял сгорбившийся старик Пакье… – Престарелый герцог Пакье был председателем верхней палаты Июльской монархии – палаты пэров, которая заседала в Люксембургском дворце.
…это знаменитые satisfaits Камеры депутатов… – Насмешливое прозвище депутатов парламента, неуклонно поддерживавших и одобрявших политику и действия правительства Гизо. Эти депутаты правительственного большинства отвергали обвинения и предложения оппозиции, принимая всякий раз резолюции, обычной формулой которых было выражение «удовлетворения» объяснениями правительства.
…маленький уголок Монако и Невшательский кантон сделали свои революции и никто не думал им мешать! – Революция 1848 г. охватила княжество Монако, находившееся с 1815 г. под протекторатом Сардинского королевства, и подвластное прусскому королю Невшательское княжество, входившее с 1815 г. в Швейцарскую федерацию на правах кантона. В первом из них был свергнут и заключен в тюрьму князь, который вынужден был затем даровать конституцию; во втором было созвано Учредительное собрание, принявшее республиканскую конституцию. Пруссия, Сардиния и другие европейские державы не имели возможности помешать этим событиям в Монако и Невшателе, т. к. были отвлечены и поглощены борьбой с революционным движением в своих странах.
Манифест Ламартина… – Ламартин в качестве министра иностранных дел Временного правительства разослал дипломатическим представителям Франции за границей циркуляр, опубликованный 5 марта 1848 г. в печати и содержавший изложение внешнеполитической программы Временного правительства. Циркуляр (или «Манифест») Ламартина, наполненный цветистыми фразами о непризнании французской республикой венских договоров 1815 г., о ее сочувствии освободительному движению угнетенных народов Европы и т. п., имел своим реальным содержанием заверение европейских держав в отказе Временного правительства Франции от помощи революционному движению и национально-освободительной борьбе в других странах и от посягательств на их реакционные, монархические и феодальные порядки. Контрреволюционная внешняя политика Временного правительства объяснялась желанием французской буржуазии сохранить любой ценой мирные и дружеские отношения с реакционными европейскими державами, чтобы избежать дальнейшей активизации рабочего класса и нового революционного подъема во Франции и обеспечить себе возможность подавления революционных сил внутри страны.
…по поводу глупой демонстрации меховых шапок. – Так была прозвана парижским населением демонстрация нескольких буржуазных легионов Национальной гвардии, явившихся 16 марта 1848 г. протестовать перед Временным правительством против приказа Ледрю-Роллена, лишавшего привилегированные прежде роты Национальной гвардии их привилегий, в частности, особых головных уборов, отороченных мехом. На следующий день (17 марта) демократические клубы Парижа организовали огромную контрдемонстрацию протеста против выступления «меховых шапок», требуя от Временного правительства отпора поднявшей голову реакции и отсрочки выборов в Учредительное собрание. Правительство, при активной помощи мелкобуржуазных социалистов, сумело отделаться от этих требований революционного народа малозначительной, показной уступкой – отсрочкой выборов на две недели.
…банльё входила во все заставы… – В сборе батальонов Национальной гвардии 16 апреля участвовали отряды Национальной гвардии предместий Парижа (банльё – предместья, пригороды).
Работники ~ взбунтовались в Лиможе, Руане и Эльбефе. – Кроме перечисленных Герценом городов, массовые выступления рабочих в связи с исходом выборов в Учредительное собрание произошли также в Амьене, Лионе и других местах. Рабочие Лиможа разоружили буржуазные отряды Национальной гвардии и захватили префектуру; городом фактически управлял комитет из рабочих и демократов, опиравшийся на рабочие отряды Национальной гвардии. Восстановление «законных» властей произошло в Лиможе бескровно, после вступления в город правительственных войск. О руанских событиях см. примеч. к стр. 133.
Lettres de cachet – распространенные во Франции во времена абсолютизма чистые бланки с королевским приказом, на основании которого можно было то или иное лицо без следствия и суда заключить в тюрьму как государственного преступника, вписав его фамилию в бланк.
Фруктидоризация – 18 фруктидора (4 сентября 1797 г.) правительство Директории арестовало и удалило из парламента большое число монархистов, подготовлявших заговор против республики.
…расстрелянный герцог Энгиенский… – Родственник Бурбонов, активный деятель контрреволюционной дворянской эмиграции; был в 1804 г. по приказу Наполеона Бонапарта (тогда еще «пожизненного консула») схвачен французским военным отрядом на территории герцогства Баденского, увезен во Францию и расстрелян по приговору военного суда.
…Эбертовой complicité morale… – Тактика, применявшаяся прокурором Июльской монархии Эбером на политических процессах, когда он добивался привлечения к ответственности и осуждения, вместе с обвиняемыми, тех журналистов, чьи статьи якобы оказали «моральное влияние» на «преступников», – даже если эти журналисты ничего не знали об их «преступлении» и ни в какой связи с «преступниками» не находились.
…конституция VIII года – организованный деспотизм… – Конституция французской республики, принятая в декабре 1799 г., после государственного переворота, положившего начало военной диктатуре Наполеона Бонапарта. Конституция VIII года республики передавала фактически всю власть в руки «первого консула» – Наполеона, прикрывая его диктатуру карикатурной системой «выборов» мнимо-парламентских учреждений – Государственного Совета, Трибуната, Законодательного корпуса.
…как русские крестьяне до Годунова, имеет один день свободы в году и триста шестьдесят четыре дня рабства! – Здесь имеется в виду так называемый Юрьев день. Закон, распространенный в 1497 г. на все государство, ограничивал право крестьян на уход от помещика одним днем в году (точнее – неделей до и неделей после Юрьева дня). В конце XVI в. и эта возможность была уничтожена.
Зоофиты (греч. – животнорастения) – старинное название таких животных, как губки, кораллы и др., обладающих некоторыми признаками растений.
Криптогамии (греч.) – тайнобрачные растения, не имеющие цветков: мхи, грибы, водоросли и др.
…уложения, охраняемого черными левитами паркета и пестрыми кшатриасами казарм. – Левиты – служители культа иудейской религии; паркет (франц. Parquet) – судебное помещение и прокуратура. Кшатриасы (кшатрии) – индийская каста, воины.
И сбылись, мой друг, пророчества… – Видоизмененная цитата из стихотворения К. Рылеева «Стансы», обращенного к А. Бестужеву. У Рылеева:
Это было своего рода journée des dupes. – Так называется эпизод борьбы во Франции между кардиналом Ришелье и его противниками, случившийся 11 ноября 1630 г. Ришелье, проводивший политику подавления самовластья феодальной знати, нажил себе многочисленных врагов среди высшего дворянства, во главе которых стояла мать короля Людовика XIII, Мария Медичи. Королевская семья предприняла 10 ноября 1630 г. сильнейший нажим на слабохарактерного Людовика XIII и добилась его согласия дать отставку Ришелье. На следующий день массы придворных повернулись спиной к опальному министру и кинулись на поклон к партии Марии Медичи. Однако Ришелье, добившись свидания с королем, быстро вернул себе его поддержку и получил от него санкцию на расправу со своими противниками. В тот же день низкопоклонствующая придворная знать, одураченная этими внезапными переменами, бросилась снова заискивать перед Ришелье.
…с потупленной головой «голубя-путешественника»… – Герцен, очевидно, имеет в виду басню И. И. Дмитриева «Два голубя». В этой басне противопоставляется голубю-домоседу голубь-путешественник, потерпевший ряд бедствий и возвращающийся домой калекою.
…без распоряжений Бароша и Карлье. – Барош, прокурор Верховного суда, и Карлье, префект парижской полиции, были видными фигурами террористического режима преследований демократов, воцарившегося во Франции с момента прихода к власти Луи Наполеона и особенно после событий 13 июня 1849 г.
Депутаты, литераторы, журналисты «великой партии порядка» ~ власти… – В этот период «партия порядка» объединяла все монархические течения и группировки французской буржуазии – легитимистов, орлеанистов и бонапартистов. «Партии порядка» принадлежало большинство депутатских мандатов в Законодательном собрании (с мая 1849 г. по декабрь 1851 г.).
…того поколения французов, которое ~ расцвело под зонтиком короля-гражданина. – «Король-гражданин» – ходкое во времена Июльской монархии льстивое прозвище короля Луи Филиппа Орлеанского. В первые месяцы после июльской революции Луи Филипп любил рядиться под «демократа» и нередко прогуливался по улицам Парижа в штатском платье, с зонтиком в руке. Этот демагогический штатский облик короля и его зонтик стали излюбленной темой для карикатуристов.
…сноснее Шпильберга, Шпандау или Бобруйска. – Известные суровым режимом и издевательствами над заключенными каторжные тюрьмы Австрии, Пруссии и царской России.
…Нука-Ива далеко превосходит Сибирь. – Нука-Ива – принадлежавший Франции остров в Тихом океане из группы Маркизских островов. В 1850 г. Нука-Ива был правительством предложен в качестве места ссылки политических преступников. При обсуждении этого вопроса в Законодательном собрании правительство добивалось придания предлагаемому им закону обратной силы, т. е. права сослать в Нука-Иву лиц, осужденных еще в 1848–1849 гг. по делу о демонстрации 15 мая 1848 г. и по июньскому восстанию. Против предложения об обратной силе выступали О. Барро и генерал Ламорисьер, принимавший в июне 1848 г. активнейшее участие в подавлении восстания в Париже.
Отняли всеобщую подачу голосов – ни один человек не двинулся, народ остался в том «торжественном и величавом покое», о котором ему так натолковали… – Во время обсуждения в Законодательном собрании в мае 1850 г. законопроекта об отмене всеобщего избирательного права депутаты «Горы», продолжая свою гибельную трусливую тактику, отказывались от сопротивления реакции и призывали массы сохранять «торжественное и величественное спокойствие», как выразился в своей речи В. Гюго.
У этой Вест-Галльской компании есть комиссар центральной полиции, получивший шесть миллионов голосов ~ – Бурбонов! – Герцен иронически уподобляет господство во Франции в 1850–1851 гг. реакционной буржуазии, превратившей республику в полицейское государство («Вест-галльская компания»), хозяйничанию в Индии и в Америке в XVII–XVIII вв. знаменитых Ост- и Вест-Индских К0, занимавшихся жестоким грабежом колониальных стран с помощью методов полнейшего произвола и насилия. «Комиссар центральной полиции» – Луи Наполеон, собравший на президентских выборах в декабре 1848 г. 5, 6 млн. голосов.
…отставной австрийский император. – В декабре 1848 г. слабоумный австрийский император Фердинанд I отрекся от престола.
…приказания из марсанского павильона. – После реставрации во Франции Бурбонов Марсанский павильон Тюльерийского дворца, где проживал брат Людовика XVIII граф д’Артуа, стал штаб-квартирой самых крайних реакционеров-монархистов, добивавшихся восстановления во Франции всех дореволюционных порядков.
…«оставьте всякую надежду»… – Часть надписи на вратах ада в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь третья).
Schiavi or siam, si… – Последние строки сонета XVIII «Il Misogallo» Альфиери.
Германдада – Эрмандада (исп. – братство) – союз, заключенный городами Кастилии против феодалов в конце XV в. Впоследствии Германдадой назывались жандармские отряды.
…to be, or not to be… – Слова из монолога Гамлета (акт III, сцена 1).
…во имя ~ «варшавского порядка»… – После подавления польского восстания 1831 г. и кровавого усмирения царскими войсками Варшавы тогдашний французский министр иностранных дел генерал Себастиани, выступая в парламенте с оправданием безучастного отношения правительства Июльской монархии к польскому восстанию, заявил, что «в Варшаве царствует порядок». Заявление Себастиани возбудило сильнейшее негодование во французском народе, горячо сочувствовавшем польскому национально-освободительному движению. Выражение «варшавский порядок» стало нарицательным для обозначения режима кровавого реакционного террора и угнетения.
…начерчу на пороге своего дома древний пентаграмм… – Пентаграмма – знак, состоящий из двух равнобедренных треугольников (без оснований). В средние века изображался при входе в какое-либо помещение как знак, охраняющий от злых духов.
…разве какое личное несчастие доломает грудь ~ шина лопнет… – Намек Герцена на его семейную драму, которая достигла крайнего обострения в начале 1851 г. (см. «Былое и думы», ч. V).
Все то, что останавливается и оборачивается назад, каменеет, как жена Лота… – По библейской легенде, во время бегства из гибнущего города Содома, наказанного божьим возмездием за грехи его жителей, жена Лота, несмотря на запрет, обернулась назад, чтобы посмотреть на горящий город, и мгновенно окаменела.
Брошюра Ромье – крик ужаса, раздавшийся у гуляки ~ стал звать на помощь. – Герцен имеет в виду нашумевший в 1851 г. памфлет реакционного публициста, бывшего префекта Ромье «Красный призрак», содержавший открытую проповедь необходимости установления во Франции цезаристской военной диктатуры для спасения собственников от надвигающейся на них «жакерии» неимущих масс. Ромье запугивал французскую буржуазию и помещиков ужасами, якобы ожидающими их в мае 1852 г., когда настанут сроки новых президентских и парламентских выборов. Ромье доказывал буржуазии, что она может спастись от гибели лишь при условии, если отбросит «оружие слез и законов», когда за ее спасение возьмутся «солдат» и «пушка», даже если бы для этого пришлось обратиться за помощью к интервенции царской армии во Францию, как это было с Венгрией. Стр. 204. …легитимисты могли выписать своего Шамбора, орлеанисты – короновать графа Парижского… – Граф Шамбор, внук Карла X, после революции 1830 г. был претендентом на трон от династии Бурбонов; граф Парижский – внук Луи Филиппа, после февральской революции 1848 г. стал претендентом от Орлеанской династии. Оба претендента проживали в эмиграции: Бурбон – в Австрии, Орлеан – в Англии.
…парижский народ бежал за ружьем, оскорбленный приказами Полиньяка ~ приказами Дюшателя, запрещавшими банкет… – Непосредственным поводом к июльской революции 1830 г. явились нарушавшие конституцию 1814 г. королевские указы, автором которых был герцог Полиньяк, глава правительства. Поводом к февральской революции послужило запрещение правительством Гизо и его министром внутренних дел Дюшателем банкета и демонстрации сторонников парламентской реформы в XII округе Парижа.
Мы сняли нашу рясу, как Гафис, поседевши в ней ~ говорить об этом. – Знаменитый поэт-лирик Гафиз (Хафиз) был мусульманским богословом и монахом-дервишем. Однако поэзия Гафиза была исключительно жизнерадостной и чувственной и находилась в кричащем противоречии с внешним обликом самого поэта. По мысли Герцена, Гафиз, который оставался до конца жизни монахом, в своем творчестве снял с себя рясу.
…статьями ~ в том же журнале. – Герцен имеет здесь в виду немецкий журнал «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», издававшийся в 1850 г. в Штутгарте группой радикальных интеллигентов мелкобуржуазно-демократического направления. В этом журнале Герцен опубликовал статьи: «Omnia mea mecum porto» (в августовской книжке за 1850 г.) и «Эпилог 1849 г.» (в декабрьской книжке 1850 г.), добавленные им впоследствии к книге «С того берега». Книга Герцена (в немецком издании 1850 г.) и его статья «Omnia mea mecum porto» подвергались в журнале «Deutsche Monatsschrift» критике с позиций мелкобуржуазной демократии в статьях Р. Зольгера, опубликованных в трех последних книжках этого журнала за 1850 г.
«Умирающие приветствуют тебя, Кесарь!» – Имеется в виду традиционное приветствие цезарю римских гладиаторов перед состязанием.
…повторяющие с воплем «совершилось»… – Предсмертный вопль Христа (цитата из Евангелия от Иоанна, гл. 19, ст. 30).
«Le roi est mort – vive le roi!» – Церемониальное восклицание после смерти французского короля в ознаменование непрерывной преемственности королевской власти.
…то удалось Людовику-Наполеону и полицейским сыщикам темной ночью, во имя насилия. – Государственный переворот, сопровождавшийся арестом многих виднейших депутатов и роспуском парламента (Законодательного собрания), был совершен Луи Наполеоном и шайкой бонапартистов в ночь на 2 декабря 1851 г.
Гюбер (Юбер) – деятель республиканских тайных обществ периода Июльской монархии, один из главных инициаторов демонстрации 15 мая 1848 г., провозгласивший в зале заседания Учредительного собрания его роспуск и образование нового революционного правительства. Роль Юбера в этих событиях весьма подозрительна. На процессе 1849 г. над участниками демонстрации 15 мая обнаружились связи Юбера с полицией во времена Июльской монархии. Будучи осужден по процессу 1849 г., Юбер вскоре был помилован, а при второй империи имел возможность жить на широкую ногу в Париже. Вероятно предположение, что Юбер действовал 15 мая 1848 г. как тайный полицейский агент-провокатор (см. прим. к стр. 132).
…царства двух хартий. – Первой – монархии Бурбонов 1815–1830 гг., официально провозгласившей конституцию («хартию» 1814 г.), и второй – Июльской монархии 1830–1848 гг., провозгласившей новую конституцию («хартию» 1830 г.), представлявшую собой слегка видоизмененную «хартию» 1814 г.
…Вооруженный коммунизм приподнял ~ свою голову в южных департаментах… – Герцен имеет здесь в виду восстания в защиту республики против бонапартистского государственного переворота 2 декабря 1851 г., главной ареной которых были департаменты Южной Франции. С целью запугать и сплотить вокруг себя собственнические классы и развязать себе руки для террористической расправы над республиканцами и демократами, бонапартистские власти и их пропаганда изобразили эти республиканские восстания «коммунистической жакерией», раструбив по всему миру измышления о «грабежах» и «зверствах», которые якобы творят повстанцы. Характеристика этих восстаний у Герцена целиком навеяна этой лживой информацией. В действительности республиканские восстания в декабре 1851 г. ни в какой мере не были «коммунистическими»; наряду с рабочим людом мелких городов и деревень в них участвовали крестьяне и другие мелкие собственники и демократическая сельская интеллигенция. Восставшие не выдвигали каких-либо лозунгов и требований, выходивших за рамки защиты республики, и отнюдь не посягали на частную собственность.
…так смотрел Бy-Maзa на Париж из своего дома на Елисейских Полях… – Бу-Маза – один из вождей алжирских арабов, активно боровшийся против французских войск при завоевании ими Алжира. Будучи разбит, сдался в плен и в 1847 г. был отвезен в Париж.
…острогот, начитавшийся св. Августина… – Остроготы (или остготы) – восточные готы, варварские германские племена, в конце V в. завоевавшие под водительством своего короля Теодориха Италию, где ими было создано остготское государство (493–555). Остготская племенная знать начала постепенно сближаться с римской аристократией, усваивать римскую культуру и христианство.
…приложение системы Лау к нравственному миру. – «Система Лау» – спекулятивный финансовый эксперимент знаменитого шотландского авантюриста Лоу во Франции в начале XVIII в., основанный на вере в чудодейственную силу кредита. Предприятие Лоу закончилось крахом основанного им банка, разорением множества держателей его кредитных билетов и потрясением всей экономической жизни страны. Герцен уподобляет шарлатанским кредитным теориям Лоу теории и посулы западно-европейских буржуазных либералов и демократов.
…каторжников, пирующих в Тюльери. – Выразительная характеристика бонапартистской диктатуры во главе с Луи Наполеоном
Письма из Avenue Marigny*
Впервые опубликованы в С за 1847 г. Рукопись не сохранилась. Первое – третье письма – в № 10 (цензурное разрешение от 3 сентября 1847 г.), отд. I, cтр. 155–196, за подписью; И;ввиду их близкого соответствия окончательной редакции I–III писем они полностью не воспроизводятся, – в разделе «Варианты» приводятся лишь их разночтения с основным текстом. Четвертое письмо опубликовано в № 11 С (цензурное разрешение от 31 октября 1847 г.), отд. I, cтр. 119–137, за подписью: И-р и значительно отличается от основного текста. Оно печатается по тексту С со следующим исправлением:
Стр. 244, строка 1: Друг Гизо, друг Дюшателя и еще более друг лжи поехал в Италию вместо: Друг лжи поехал в Италию (цензурная купюра, восстановленная на основании письма Н. А. Некрасова к А. В. Никитенко от 21 октября 1847 г. См. Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, М., 1952, стр. 81–82. Другое указание этого письма – об исключении из фразы «официальной Франции» слова «официальной» – осталось неиспользованным ввиду неясности его приурочения к определенному месту текста).
…голодная и босая армия победила под Жемапом, Флерюсом и проч. – В битвах под Жемапом (6 ноября 1792 г.) и Флерюсом (26 июня 1794 г.) французские революционные армии одержали исторические победы над австро-прусскими войсками, ликвидировав угрозу удушения французской революции силами коалиции европейских контрреволюционных держав.
…сентябрьские законы… – См. прим. к стр. 140.
…рыцарь печального образа, квакер de l’hôtel des Capucines… – Герцен имеет в виду Гизо. По вероисповеданию Гизо был кальвинистом. Он проживал в здании министерства иностранных дел, на бульваре Капуцинов.
Corsi и ricorsi Вико… – Вико впервые сделал попытку рассмотреть историю как закономерный процесс развития человеческого общества. Однако Вико представлял совершенно неправильно это развитие как исторический круговорот, полагая, что общество и его культура проходят периоды подъема и зрелости и кончают периодом деградации, упадка, возвращаясь к первоначальному состоянию, после чего цикл развития возобновляется. Corsi и ricorsi – движение по кругу, через подъем и падение.
…какой-нибудь Морни.. – Морни – брат (по матери) Луи Бонапарта, будущего императора Наполеона III – в период Июльской монархии принадлежал к числу самых циничных приверженцев правительства Гизо и самых беззастенчивых спекулянтов. Морни был автором предложения (в палате депутатов) об отклонении требования оппозиции о расследовании деятельности министров, обвиненных Жирарденом во взяточничестве.
…улыбка римских патрициев над назареями ~ Наполеона над идеологами… – В древнем Риме назареями называли христиан. Наполеон I, стремясь искоренить прогрессивное идейное наследие только что прошедшей буржуазной революции конца XVIII в., крайне подозрительно и враждебно относился к гуманитарной интеллигенции – философам, историкам и т. д., которых он презрительно именовал «идеологами».
…rouésвремен Людовика XVи регентства. – Первоначально roués называли интимных друзей регента Филиппа Орлеанского, правившего Францией во время малолетства короля Людовика XV. В период регентства (1715–1723) и царствования короля Людовика XV (1723–1774) государственными делами часто вершили аристократические прожигатели жизни и распутники, разделявшие оргии регента и короля.
…дело о дуэли Бовалона и Дюжарье ~ большей частью греки. – Один из многочисленных скандальных судебных процессов последних лет Июльской монархии, вскрывших коррупцию всей правительственной системы. Дюжарье, редактор жирарденовской газеты «La Presse», в 1845 г. был убит на дуэли Бовалоном, близким родственником Гранье де-Кассаньяка, одного из самых продажных журналистов правительственного направления, редактора газеты «L’Époque». Уже тогда возникло подозрение, что эта дуэль была преднамеренным убийством, продиктованным стремлением Кассаньяка убрать с дороги конкурирующую газету Жирардена, также пользовавшуюся милостями Гизо. На судебном процессе 1845 г., вследствие ложных показаний секунданта Бовалона, д’Эквилье, и самого Кассаньяка, Бовалон был оправдан. Но в 1847 г. новые неопровержимые улики привели к вторичному судебному процессу, который доказал виновность Бовалона в убийстве Дюжарье и уличил Эквилье и Кассаньяка в даче ложных показаний на процессе 1845 г. Выражение «греки» употребляется по-французски также в смысле «мошенники».
…интрижки ~ Мартень дю-Нора, прокурора прокуроров… – См. об этом в первом письме из цикла «Опять в Париже» (наст. том, cтр. 310).
Письма с Via Del Corso*
Печатаются по авторизованной копии (ПД) и соответствуют письмам V–VIII окончательной редакции, где они были значительно переработаны. Подпись под первым письмом: И-р. Копия – рукою М. К. Рейхель с правкой Герцена. В первом письме отрывок «А давно ли было ~ приехали мы в Рим» (стр. 253–257) – рукою Герцена. После слов «Тридцатого ноября приехали мы в Рим» (стр. 257) в рукописи Герценом сделано примечание: NB. Сюда следует вторая тетрадь, начинающаяся со слов „Генуя, Ливурна”». Перед дальнейшим текстом пометка: «(Вторая тетрадь к 1-му письму с via del Corso)».
На рукописи, кроме правки, несомненно принадлежащей Герцену, имеется также следующая, незначительная по объему, карандашная правка, которая не внесена в текст, так как ее нельзя с достаточным основанием ни приписать Герцену, ни считать авторизованной:
Стр. 258
46 После: мохом – вычеркнуто: и
Стр. 259
33 Слово: ей – исправлено на: к ней
44 Слово: налег – исправлено на: лежал
Стр. 261
37 Слова: подгорюнившись печально – переставлены: печально подгорюнившись
38 Слова: какой-нибудь овощ – исправлены на: какие-нибудь овощи
43 Слова: дума налегла, тяжелая и мрачная – переставлены: дума, тяжелая и мрачная, налегла
Стр. 277
39–40 Слова: им придал вместе с бедствием, с неволей – переставлены: вместе с бедствием, с неволей придал им
Стр. 281
32 Слово: акведуками – исправлено на: водопроводами
Стр. 282
30 После: туча – вычеркнуто: так
Стр. 283
27 Слово: каленой – исправлено на: раскаленной
Стр. 284
16 Слово: бомбардиментом – исправлено на: бомбардировкою
25 Слово: они – исправлено на: неаполитанцы
32–33 Слова: обиды и притеснения губернатора выходили из всех границ – вычеркнуты.
Стр. 285
7 Слова: отряжено сицилианцам – исправлены на: отражено сицилианцами
В текст копии внесены в наст. изд. следующие изменения:
Стр. 261, строка 14: Рим в XIX веке вместо: Рим в IX веке (по контексту).
Стр. 267, строка 37: ученые легисты вместо: ученые, легисты
Стр. 268, строка 35: Франциск I вместо: Франциск II (см. примечание к стр. 100).
Стр. 274, строка 41: слово: «мору» – вставлено по изд. 1858 г.
…при восстании 30 апреля и 1 мая… – 30 апреля и 1 мая 1848 г. в Риме развернулось сильнейшее народное движение, вызванное отказом папы Пия IX от войны с Австрией, которой требовал народ и которая имела важное значение для дела национального освобождения Италии. Решение папы было первым шагом, сигнализировавшим переход контрреволюции в Италии в открытое наступление на силы революции. Действия Пия IX вызвали огромное возмущение в стране и в самом Риме: народные массы и демократические отряды Национальной гвардии захватили важнейшие пункты города, установили свой контроль над внешними сношениями папской столицы и вынудили папу сформировать либеральное правительство, обещавшее народу обеспечить «торжество национального дела».
…несчастный день 15 мая. – Вдохновленные папским решением об отказе от войны с Австрией, контрреволюционные силы Неаполитанского королевства во главе с королем Фердинандом II, опираясь на армию швейцарских наемников и на продажный люмпенпролетариат – «лаццарони», произвели в этот день контрреволюционный переворот, сопровождавшийся истреблением революционных и патриотических элементов, роспуском парламента и отзывом с полпути неаполитанских войск, отправленных в Ломбардию для участия в войне против Австрии.
Опять в Париже*
Печатается по авторизованной копии (ПД и ЛБ) и соответствует письмам IX–XI основной редакции, где они были значительно переработаны.
Первое письмо написано рукою Герцена и оканчивается припиской: «У меня нет списка этого письма, посему прошу после прочтения вручить М. Ф.<Корш>, мне не хотелось бы, чтоб эта тетрадь затерялась. Следующие письма или одно привезет Поль <П. В. Анненков>». Второе и третье письма, кончая словами: «Но не менее важен был и Бланки» (стр. 367), – авторизованная копия рукою М. К. Рейхель со вставками и исправлениями Герцена. Конец третьего письма со слов «Бланки – человек совершенно противуположный Барбесу» (стр. 367) и четвертое письмо – копия рукою М. К. Рейхель, не правленная Герценом.
Авторизованная копия писем I–III, кончая словами: «И за это им спасибо», хранится в ПД. Конец этой копии со слов: «Провозглашение республики» (стр. 445) дописан рукою Герцена. После текста приписка:
«(Продолжение в следующую оказию).
NB на хранение в Архив <1 нрзб., зачеркнуто>»
Ad lectorem
Можете снабдиться сильными тетрадями Поля, у него об апреле и марте много. – Мое любимое время с 15 мая».
Следующая часть третьего письма, обозначенная «(Продолжение 3-го письма)», находится в ЛБ. Ее начало (стр. 353–354) повторяет в ином изложении весь предыдущий отрывок, написанный рукою Герцена. Повторение вызвано техническими условиями пересылки рукописи в Россию по отдельным частям. Поэтому в текст включен второй из параллельных отрывков (авторизованная копия – ЛБ), как имеющий более позднюю правку, а первый (ПД) представлен в разделе вариантов. Рукопись конца III письма со слов «Бланки – человек…» (стр. 367), обозначенного «(2-е продолжение третьего письма)», и четвертого письма находится в ПД.
В текст рукописи внесены (по смыслу и контексту) следующие изменения:
Стр. 307, строка 5: свободу вместо: свобода
Стр. 310, строка 29: предававшегося вместо: предававшего
Стр. 319, строка 19: украшающие вместо: укращающие
Стр. 311, строка 37: продолжался вместо: продолжали
Стр. 325, строка 21: нескольких журналистов вместо: несколько журналистов
Стр. 332, строка 22: он был легко ранен вместо: он был легко раненый
Стр. 352, строка 30: ролю вместо: долю (по изданию 1858 г.).
Стр. 370, строка 1: souverain вместо: souvenir
Стр. 374, строка 31: имеет один день вместо: имеют один день
Стр. 448, строка 55: что так рьяно уничтожается теперь вместо: что так рьяно уничтожаемом теперь
…Ламартин на маконском празднике в 47 году. – Во время банкетной кампании 1847 г., которую проводила либеральная оппозиция против правительства Гизо, большую известность получила речь Ламартина, произнесенная им на банкете в гор. Макон. В этой речи Ламартин призывал «совершить революцию презрения к правительству».
…вводом «способностей»… – Одним из требований буржуазно-либеральной оппозиции в области избирательной реформы было требование предоставления избирательного права, независимо от имущественного ценза, «способностям» и «талантам», т. е. лицам, имеющим ученую степень, лицам с высшим образованием, офицерам Национальной гвардии, муниципальным советникам и т. п.
…известная брошюра Дювержье де-Горона… – Имеется в виду нашумевшая брошюра Дювержье де-Горанна «Парламентская реформа и избирательная реформа», вышедшая в 1846 г. и содержавшая критику системы Гизо и обоснование требований реформ, выдвинутых умеренной «династической оппозицией».
…страшное убийство герцогини Пралень ~ возбудила все умы… – Нашумевшее в 1847 г. дело о зверском убийстве герцогом Шуазель Прален его жены. После нескольких дней колебаний власти арестовали убийцу, но, чтобы избежать скандального судебного процесса и казни сиятельного убийцы, дали ему возможность покончить с собой с помощью яда.
…société des droits de l’homme, des montagnards ~ Арман Карель… – В составе республиканского «Общества прав человека и гражданина» (см. прим. к стр. 152) преобладали мелкобуржуазные демократы, но в нем участвовали и передовые рабочие элементы.
Восстание в Лионе 1832… – См. примечание к стр. 70. Здесь речь идет, повидимому, о восстании 1831 г.
…Прудоново «Contradictions de l’économie politique»… – Герцен имеет в виду известное сочинение Прудона «Система экономических противоречий или Философия нищеты» (1846). Сочинение Прудона получило уничтожающую критику в гениальном произведении К. Маркса «Нищета философии» (1847).
…роль, которую Реставрация ~ принимала на себя в 1822 относительно Испании ~ полицейского усмирения. – На состоявшемся в 1822 г. конгрессе европейских держав, объединенных в контрреволюционный Священный союз, правительство Реставрации приняло поручение Священного союза подавить революцию в Испании. В 1823 г. стотысячная французская армия осуществила интервенцию в Испанию и подавила буржуазную революцию в этой стране.
…бой Прудона со всей буржуазной журналистикой ~ взошел даже в Национальное собрание. – В 1848 г. Прудон вел резкую полемику с буржуазными либеральными и демократическими газетами, нападая на политику Временного правительства и защищая утопические проекты «реформы кредита и обращения» – организации безденежного обмена товаров и дарового кредита. В июне 1848 г., на дополнительных выборах в Париже, Прудон был избран в Учредительное собрание.
Предупреждая возражение – которое я уже слыхал… – Герцен намекает на споры о буржуазии и ее роли, которые вели с ним в Париже Бакунин, Сазонов, Анненков. Об этих спорах см. в вводной статье к комментариям.
…банкет du Château rouge. – Начало банкетной кампании либеральной оппозиции в 1847 г. было положено устроенным ею банкетом в Париже, в ресторане Шато-Руж; банкет имел большой успех и вызвал отклики по всей Франции.
Успех его книги… – Имеется в виду книга Ламартина «История жирондистов», вышедшая незадолго до революции 1848 г.
…не надобно думать, что линия охотно стреляет в народ… – Линия – линейные войска (пехота).
Одни муниципалы свирепствовали ~ водили под арест… – Муниципальная гвардия – полицейские стражники Парижа, ненавидимые населением за их усердную службу правительству и жестокость при подавлении народных движений.
…учреждением du chapitre royal de S.-Denis. – Капитул (духовенство) собора Сен-Дени, находящегося в Парижской епархии, в отличие от общего правила не было подчинено парижскому архиепископу. Такая привилегия вызывала многочисленные возражения.
…они раскланялись молча, как Миних с Бироном на Волге. – По всей вероятности, Герцен почерпнул этот исторический анекдот из заграничной литературы, посвященной описанию тайн петербургского двора и дворцовых переворотов XVIII в. в России. В частности, он мог узнать эту историческую подробность из книги Хельбига «Русские фавориты» («Russische Günstlinge» von Y. Ad. W. v. Helbig, Tübingen, 1809). См. изд. 1917, München und Berlin, S. 163.
…разделить ссылку короля, как Лас-Kaз и Бертран… – Маршал Бертран и Лас-Каз последовали за Наполеоном I в изгнание на остров св. Елены.
…оппозиция превосходных журналов Прудона и Торе… – Герцен имеет в виду газету Прудона «Le Représentant du Peuple» и газету мелкобуржуазного демократа Торе «La vraie République». Обе газеты критиковали Временное правительство и его политику с мелкобуржуазных позиций.
…Salle des pas perdus… – Так в парижском суде называется комната, предшествующая залу, где разбираются дела. Здесь имеется в виду одна из комнат Бурбонского дворца.
Толпа зажигателей и разбойников, ломавших мосты по железным дорогам… – После февральской революции возле Парижа и Руана имели место случаи нападения на железные дороги со стороны разоренного их конкуренцией люда: возчиков, лодочников, работников речных каналов и т. п.
…управляющую коммуну в префектуре полиции под влиянием Собрие. – См. примечание к стр. 133 о «косидьеровских монтаньярах».
…красное обошло только круг Марсова поля. – Во Франции при старом режиме и во время буржуазной революции конца XVIII в. красное знамя служило у властей знаком предупреждения об открытии огня при подавлении народных мятежей. 17 июля 1791 г. оно было использовано войсками и буржуазной национальной гвардией при расстреле республиканского народного сборища на Марсовом поле в Париже, собравшегося, чтобы подписать петицию, требовавшую от Учредительного собрания отрешения от власти короля Людовика XVI и суда над ним.
Nessun maggior dolore… – Из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь V).
…в деле белгов и немцев, он поступал точно так, как Людвиг-Филипп. – Правительство Июльской монархии, угождая европейским реакционным державам, часто обрушивалось полицейскими преследованиями на бельгийских, немецких и других политэмигрантов, проживавших во Франции, высылало их из Франции и т. д. Политика Ламартина и Временного правительства была, по существу, аналогичной. После февральской революции проживавшие во Франции бельгийские и немецкие мелкобуржуазные демократы стали формировать из своих соотечественников отряды, увлекаясь авантюристическими планами перейти границу и зажечь на родине пожар революции. Временное правительство спешило отделаться от революционно настроенных иностранцев; оно лицемерно выражало сочувствие их планам, а в действительности предало их, информировав соответствующие правительства и подставив отряды эмигрантов при попытке перехода границы под огонь бельгийских и немецких войск и жандармерии.
…одинаким образом брать Константину и Париж? – В период Июльской монархии Франция вела почти беспрерывную войну за завоевание Алжира, закончившуюся порабощением алжирских племен и превращением Алжира во французскую колонию. Война в Алжире, в которой участвовала значительная часть французской армии, велась французами с исключительной жестокостью. В духе этой жестокости воспитывались кадры офицерства и солдат африканских войск Франции. Город-крепость Константина в Алжире, взятый французскими войсками в 1838 г., был разграблен самым безжалостным образом; значительная часть его населения была истреблена.
…отвечало словами замечательными: «Proclamé ~ la majesté du souverain». – Эту цитату из газеты «Монитор» Герцен приводит в русском переводе в 10-м письме «Писем из Франции и Италии» (см. настоящий том, стр. 170).
…цыганскую пестроту и <…> жизнь. – Перед словом «жизнь» в рукописи пробел, оставленный М. К. Рейхель для неразобранного ею слова.
Lettres d’un Russe de l’Italie*
Печатается по черновой рукописи (ЦГАОР). Ломаными скобками обозначены места, приходящиеся на оторванные края рукописи.
Указатель имен
Абд-эль-Кадер (Абдель Кадер) (ок. 1808–1883), алжирск. шейх; руководил национально-освободительной борьбой алжирского народа против франц. завоевателей – 230
Августин Блаженный (354–430), епископ из Гиппона (Сев. Африка), христианский богослов – 221, 484
Аврелий Марк Аврелий Антонин (121–180), римский император с 161 г., философ-стоик – 281, 472
Агамемнон, персонаж поэмы «Илиада» Гомера (см.)
Агриппина Младшая (16–59), жена римского императора Клавдия, которого она отравила, чтобы доставить власть своему сыну – Нерону – 405
Адам (библ.) – 156, 414
Аделаида Орлеанская (1777–1848), сестра короля Луи Филиппа – 322
Алар – 359
Александр I (1777–1825), император – 24, 406, 464
Александр II (1818–1881), император – 13
Алибо (Alibaud) Луи (1810–1836), участник революционного движения, казнен за покушение на Луи Филиппа в 1836 г. – 139, 311
Алкивиад (ок. 451–404 до н. э.), политический деятель древних Афин – 231
Альба Фернандо Альварес де Толедо, герцог (1507–1582), исп. полководец и государственный деятель, проявивший себя жестоким правителем в Нидерландах – 12
Альбер (настоящее имя Мартен Александр) (1815–1895), франц. деятель тайных республиканских обществ 40-х гг., социалист, рабочий, участник февральской революции 1848 г., после нее – член Временного правительства – 133, 136, 137, 148, 159, 164, 165, 326, 335, 336, 341, 344, 350, 352, 357, 381, 443, 477
Альмавива, действ. лицо в комедиях Бомарше (см.)
Альфиери Витторио (1749–1803), итал. поэт, сторонник объединения Италии – 190, 197, 411, 447, 482
– «Il Misogallo» – 190, 482
Анакреонт (ок. 570–478 до н. э.), древнегреческий поэт – 110, 283
«Антон Горемыка», повесть Д. В. Григоровича (см.)
Анфантен (Enfantin) Бартелеми Проспер (1796–1864), франц. утопист-социалист, ученик Сен-Симона – 420, 428
Аполлон Бельведерский – 51, 87, 408
Аполлон (Савромах) (миф.) – 244
Араго Доминик Франсуа (1786–1853), франц. астроном, физик и политический деятель, член Временного пр-ва в 1848 г. – 336, 339, 340, 344, 380, 414
Араго Этьен (1803–1892), франц. политический деятель, один из основателей газеты «La Réforme», участник революции 1848 г. – 152, 342
Ариосто Лодовико (1474–1533) – 260, 263, 434
Аристотель (Стагирит) (384–322 до н. э.) – 183
Арминий (Армин) (17 до н. э. – 21 н. э.), вождь германского племени херусков – 18, 464
Арналь Этьен (1794–1875), франц. комический актер – 54
д’Артуа Шарль, граф – см. Карл X
Архидьякон нотрдамский (Клод Фролло), действ. лицо в романе «Собор Парижской богоматери» В. Гюго (см.)
«Атлантида» – см. Бэкон
«Аттила», опера Верди (см.)
Афина-Паллада (миф.) – 138, 303
Бабёф (Babeuf) Франсуа Ноэль Гракх (1760–1797) – 185, 313, 314, 419, 427
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) – 78, 85, 253, 262
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – 145, 461, 489
Бандьера (Бандиера), два брата, Аттилио (1810–1844) и Эмилио (1819–1844), деятели итальянского освободительного движения; казнены неаполитанским правительством за попытку поднять восстание – 93, 278
Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) – 102, 270, 473
– «На смерть Гёте» – 473
Барбаросса – прозвище Фридриха I (ок. 1123–1190), герцога швабского, императора т. н. Священной Римской империи германской нации-29, 72, 99, 248, 286, 470
Барбес Арман (1809–1870), франц. мелкобуржуазный революционер, один из руководителей тайных обществ 30-х гг., участник революции 1848 г. – 132, 136–139, 168, 169, 305, 311, 360, 367, 368, 380, 413, 467, 488
Барбье Анри Огюст (1805–1882), франц. поэт – 141, 317, 476
– «Ямбы» («Les Jambes») – 141, 476
Барош Пьер Жюль (1802–1870), франц. политический деятель, до революции 1848 г. либерал, после революции бонапартист, прокурор и министр внутренних дел в 1850–1851 гг. – 191, 481
Барро Одилон (Barrot) (1791–1873), франц. политический деятель, в период Июльской монархии умеренный либерал, позднее глава реакционного министерства, образованного Луи Бонапартом после его избрания президентом – 139, 140, 146–148, 156, 157, 193, 311, 313, 315, 323, 324, 326, 330, 331, 336–338, 350, 351, 359, 388, 481
Бастид Жюль (1800–1879), участник франц. революции 1830 г., министр иностранных дел в кабинете Кавеньяка – 381
Бедо (Bedeau) Мари Альфонс (1804–1863), франц. генерал, орлеанист, после февральской революции 1848 г. командующий войсками в Париже – 359
Беккер Николай (1809–1845), немецкий поэт – 464
– «Рейнский гимн» – 464
Беранже Пьер Жан (1780–1857) – 137, 381, 475
Бернини Лоренцо (1598–1680), итал. скульптор и архитектор – 82, 258
Бертран Анри Грасьен (1773–1844), франц. генерал, последовал за Наполеоном I в изгнание на о. св. Елены – 333, 490
Бетмон (Bethmont) Эжен (1804–1860), министр юстиции в кабинете Кавеньяка – 359
Бетховен Людвиг ван (1770–1827) – 51
Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772), временщик императрицы Анны Иоанновны – 330, 490
Бирх-Пфейфер Шарлотта (1800–1868), актриса и автор сентиментальных пьес – 19
Блазиус Вильгельм (1818–1899), нем. профессор естественной истории, в 1852–1888 гг. жил в США – 16
Блан (Blanc) Луи (1811–1882) – 133, 136, 137, 147, 151, 159, 160, 164–166, 176, 318, 335, 336, 341, 344, 352, 357, 358, 381, 415, 419, 427, 443, 457, 475, 478
– «Организация труда» («De l’organisation du travail») – 336, 478
Бланки (Blanqui) Огюст (1805–1881) – 12, 138, 139, 163, 168, 169, 171, 193, 213, 359, 360, 367, 368, 371, 467, 475, 476, 488
Бовале (Beauvallet) Пьер Франсуа (1801–1873), франц. актер-трагик – 405
Бовалон (Beauvallon), редактор реакционной франц. газеты «Globe»; убил на дуэли в 1845 г. Дюжарье, редактора газеты «La Presse» – 242–244, 486
Богарнэ Евгений (1781–1824), пасынок Наполеона I, вице-король Италии в 1805–1814 гг. – 103, 271
Богарнэ Жозефина (1763–1814), жена Наполеона I, креолка – 20, 464
«Божественная комедия», поэма Данте (см.)
Бокэ (Bocquet) Жан Батист, участник революции 1848 г., преподаватель, занимался с детьми Герцена – 133, 475
Бомарше (Beaumarchais) Пьер Огюстен Карон (1732–1799) – 33
– «Севильский цирюльник» («Le Barbier de Seville») – 51, 404, 408; Альмавива – 35; Фигаро – 33 35, 194, 254, 310, 389, 456
Бонапарт – см. Наполеон I Бонапарт
Бонапарт Жозеф (Иосиф) (1768–1844), брат Наполеона I, король неаполитанский в 1806–1808 гг., король испанский в 1808–1813 гг. – 103, 271
Бонапарт Полина (1780–1825), сестра Наполеона I – 103, 271
Борджа (Борджиа) Родриго (1431–1503), римский папа под именем Александра VI с 1492 г. – 83, 260
Бошар Александр Кентен (1809–1887), франц. монархист, докладчик следственной комиссии по делу о июньском восстании 1848 г. – 157, 351, 477
Браманте Донато (1444–1514), итал. архитектор эпохи Возрождения – 82, 83, 258, 259
Бриколен, персонаж из романа «Мельник из Анжибо» Жорж Санд (см.)
Брисбейн (Брейсбен, Brisbane) Альбер (1809–1890), основатель фурьеристского движения в США – 183, 184, 418, 426
«Британник», трагедия Расина (см.)
Брунетти Анджело, Чичероваккио (1800–1849), итал. революционер – 92–96, 106, 107, 115, 128, 273, 274, 276–279, 291, 296, 299, 438
Бруно Джордано (Иордано) (1548–1600) – 101, 269, 473
Бya-лe-Koнт (Bois-le-Comte) Шарль Жозеф (1796–1863), в 1846–1848 гг. франц. посол в Швейцарии, где активно поддерживал реакционные кантоны (Зондербунд) – 230
Буасси (Boissy) Этьен Октав (1798–1866), член франц. палаты пэров накануне революции 1848 г. – 326
Бу-Маза (Си Магомед бен Абдалла) (род. в 1820 г.), один из арабских предводителей, боровшихся в 1847 г. против французов при покорении Алжира – 220, 484
Буонарроти (Бонарроти) – см. Микеланджело
Буффе Мари (1800–1888), франц. актер – 54, 408
Бэкон (Bacon ab Verulamo) Френсис, лорд Веруламский (1561–1626) – 469
– «Новая Атлантида» («Атлантида») – 186, 419, 427, 469
Бюжо (Bugeaud) Тома Робер (1784–1849), франц. маршал – 147, 166, 172, 328, 333, 359, 371, 424, 431, 476
Валери (Valery) Антуан Клод (1789–1847), франц. писатель, автор книг о путешествиях – 253
Вальпузо Микеле, один из руководителей восстания в Неаполе – 115, 117, 291
Ван-Дейк Антонис (1599–1641) – 264
– «Мадонна» – 264
Ванини Лючилио (1585–1619), итал. философ, младший современник Джордано Бруно, казнен инквизицией – 101, 269
Ванька Каин – см. Каин И. О.
Варнер, франц. врач и публицист, разоблачал франц. чиновников в Алжире – 230, 232
Василий Иванович и Иван Васильевич, действ. лица в повести «Тарантас» В. А. Соллогуба (см.)
Вашингтон Джордж (1732–1799) – 306
Веллингтон Артур Уэлсли, герцог (1769–1852), англ. полководец – 38, 467
Венера (миф.) – 334
Венера Медицейская – 52
Венера Милосская – 51
Верди Джузеппе (1813–1901) – 285
– «Аттила» – 285
Верне (1790–1848), франц. актер – 54
Верон Луи Дезире (1798–1867), франц. реакционный публицист, после 1848 г. бонапартист – 53, 203
Виардо-Гарсиа Мишель Полина (1821–1910), певица, вокальный педагог и композитор – 245
Вико Джамбаттиста (1668–1744), итал. буржуазный философ – 240, 485
Виктория (1819–1901), королева Великобритании с 1837 г. – 42, 144, 316
Вителлий (15–69), римский император в 69 г. – 114, 292
Волабель (Vaulabelle) Ашиль (1799–1879), министр народного просвещения в кабинете Кавеньяка – 103.
– «История двух реставраций» («L’Histoire des deux Restaurations») – 103
Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694–1778) – 89, 141, 176, 242, 243, 263, 317, 318, 381, 387, 453
Вурм, действ. лицо в драме «Коварство и любовь» Шиллера (см.)
Гаварни Поль (псевдоним Гийома Сюльписа Шевалье) (1804–1866), знаменитый франц. рисовальщик-сатирик – 54
Гавацци Алессандро (pater Gavazzi) (1809–1889), итал. священник, примкнувший к революционному движению – 128–130, 298-300
Галетти Джузеппе (1793–1873), глава либерального правительства в Риме (ноябрь-декабрь 1848 г.) – 127, 298, 301
Галилей Галилео (1564–1642) – 101, 269
Гальба Сервий Сульпиций (5 до н. э. – 69 н. э.), римский император в 68–69 гг. – 114, 292
Галюше Констан, персонаж из романа «Грех господина Антуана» Жорж Санд (см.)
Ганганелли – см. Климент XIV
Гарибальди Джузеппе (1807–1882) – 129
Гарнье-Пажес (Garnier-Pagès) Луи Антуан (1803–1878), франц. буржуазный политический деятель, умеренный республиканец, участник революций 1830 и 1848 гг., министр финансов с 5 марта 1848 г. – 147, 151, 163, 336, 339, 340, 342, 344, 360, 361, 380, 444
Гарнье-Пажес Этьен Жозеф (1801–1841), франц. политический деятель эпохи реставрации и Июльской монархии, буржуазный демократ – 342, 444
Гафиз (Гафис) (1300–1389), персидский поэт – 208, 483
Гегель Георг Фридрих Вильгельм (1770–1831) – 17, 18, 54, 59, 221, 235, 265, 306, 405, 408, 421, 429
– «Философия истории» («Philosophie der Geschichte») – 265
Гейне Генрих (1797–1856) – 17, 78, 253, 471
– «Путевые картины» («Reisebilder») – 471
Генгстенберг Вильгельм (1802–1869), нем. богослов, профессор Берлинского университета, ярый реакционер – 17
Генрих V – см. Шамбор
Гёррес Якоб Иосиф (1776–1848), нем. реакционный публицист и защитник католицизма – 17
Герман (Hermann) Арман Марциал (1759–1795), друг Робеспьера, председатель революционного трибунала в 1793 г. – 154, 347
Геродот (ок. 484–425 до н. э.) – 222
Герцен Александр Иванович (1812–1870)
– «Былое и думы» – 10, 458, 459, 462, 467, 471, 482, 483
– «Доктор Крупов» – 57, 231, 468; «поврежденный доктор» – 57, 231, 468
– «Доктор, умирающий и мертвые» – 470; Ральер – 470
– «Из воспоминаний о прошлом годе одного русского» – 453
– «О развитии революционных идей в России» («Du développement des idées révolutionnaires en Russie») – 462
– «Письма к В. Линтону» – 7
– «Письмо русского к Маццини» – 462, 463
– «Путевые записки г. Вёдрина» – 463
– «Россия» («La Russie») – 462
– «Русский народ и социализм» – 463
– «С того берега» («Vom andern Ufer») – 10, 208, 223
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) – 17, 18, 27, 28, 78, 101–103, 253, 263, 270, 463, 464, 470, 471, 473
– «Венецианские эпиграммы» («Epigramme. Venedig») – 473
– «К Соединенным Штатам» («Den Vereinigten Staaten») – 464
– «Надежда» («Hoffnung») – 463
– «Ученические годы Вильгельма Мейстера» – 471; Миньона – 82, 259, 470, 471
– «Фауст»; Фауст – 78, 252, 471
Гизо (Guizot) Франсуа Пьер Гийом (1787–1874), франц. буржуазный историк и политический деятель, фактический глава правительства Июльской монархии, с 1847 г. премьер-министр – 29, 57, 68, 139, 140, 143–146, 148, 151, 166, 178, 231, 244, 245, 280, 289, 309–313, 315–317, 321, 323, 324, 326–330, 333, 336, 344, 355, 356, 371, 398, 409, 412, 438, 441, 465–468, 477, 479, 483, 485, 486, 488
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852)
– «Мертвые души»; Манилов – 345; Ноздрев – 116, 266
– «Ревизор»; Хлестаков – 116, 266
Годунов Борис Федорович (ок. 1551–1605), русский царь с 1598 г. – 176, 374, 480
Гольбах Поль Анри (1723–1789) – 318
Гомер – 263
– «Илиада»; Агамемнон – 192, 242, 387
– «Одиссея»; Улисс – 288
Гораций Флакк (65-8 до н. э.), римский поэт – 110, 283, 474
Горацио, действ. лицо в трагедии «Гамлет» Шекспира (см.)
«Гофман и Кампе», гамбургское издательство – 10
Гракх (153–121 до н. э.) – 418, 426
Грант Робер (1793–1874), англ. анатом – 18
Гранье де Кассаньяк (Granier de Cassagnac) Адольф (1806–1880), франц. реакционный публицист, после февральской революции ярый бонапартист, член крайней правой Законодательного корпуса в 1852–1870 гг. – 231, 242, 243, 486
Грёз (Greuze) Жан Батист (1725–1805), франц. живописец – 87, 408
Греч Николай Иванович (1787–1867), русский реакционный журналист и писатель – 16, 463
– «Путевые письма из Англии, Германии и Франции» – 463
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829)
– «Горе от ума»; Скалозуб – 79, 256
Григорий VII (Гильдебранд) (1020 или 1025–1085), римский папа с 1073 г. – 99, 268
Григорий XVI (1765–1846), римский папа с 1831 г. – 92, 104–106, 272, 273, 277, 298
Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899)
– «Антон Горемыка» – 265, 266; Антон Горемыка – 265
Гризи Джулия (1811–1869), итал. певица – 244
Гризи Карлотта (1821–1899), итал. балерина – 244, 246
Гроций Гуго де Гроот (1583–1645), голландский ученый-юрист, основоположник буржуазной теории международного права – 12
Гувальд Кристоф Эрнст, нем. драматург – 50
Гудшо (Goudchaux) Мишель (1797–1862), банкир, министр финансов Временного правительства и правительства Кавеньяка – 359, 360
Гумбольдт Александр (1769–1859) – 16
Гюбер – см. Юбер
Гюго Виктор Мари (1802–1885) – 229, 353, 404, 481
– «Собор Парижской богоматери»; архидьякон Клод Фролло – 229
Гюден, адъютант герцога Немурского – 310
Даниил (библ.) – 60, 236, 468
Данте Алигьери (1265–1321) – 86, 253, 482, 490
– «Божественная комедия» – 482, 490
Дантон Жорж Жак (1759–1794) – 160, 185, 419, 427, 424, 431
Дежазе Виргиния (1797–1875), франц. актриса – 38, 402
Делангль Клод Альфонс (1797–1869), франц. юрист, генеральный прокурор до февральской революции 1848 г. – 310, 373
Делессер Габриель Абрагам (1786–1858), префект парижской полиции с 1836 по 1848 г. – 146, 152, 256, 325, 342
Дель-Карретто (Del Carretto) Франческо Саверио (1777–1861), министр полиции в Неаполе в 1836–1848 гг. – 280, 285, 288, 289, 295
Демулен де Живре, член франц. палаты депутатов – 468
Демулен Камилль (1760–1794) – 466, 467
Дидона (миф.) – 337
Джоберти (Жоберти) Винченцо (1801–1852), итал. общественный деятель, премьер пьемонтского правительства (декабрь 1848 – февраль 1849) – 257, 293
Дидро Дени (1713–1784) – 318
Диккенс Чарлз (1812–1870) – 78, 471
– «Картины Италии» («Pictures from Italy») – 471
Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), русский поэт – 481
– «Два голубя» – 481
Дольчи Карло (Долчи Карл) (1616–1686), итал. живописец флорентийской школы – 87, 263
Дон Кихот, герой романа Сервантеса (см.)
Драгонетти Луиджи (1791–1871), неапол. публицист, изгнанный из Неаполя в 1821 г. – 274
«Друг народа» («L’Ami du Peuple»), газета, издававшаяся Маратом – 31, 465, 466
Дювержье де Горанн (Дювержье де-Горон, Duvergier de Hauranne) Проспер (1798–1881), франц. буржуазный либерал, деятель династической оппозиции периода Июльской монархии – 309, 410, 414, 489
– «Парламентская реформа и избирательная реформа» («La réforme parlementaire et la réforme électorale») – 414
Дюжарье (Dujarier), один из редакторов газ. «La Presse», убит в 1845 г. на дуэли с Бовалоном – 242, 486
Дюма Александр (1803–1870) – 242, 320, 402, 404
– «Кавалер красного дома» («Chevalier de Maison Rouge») – 320, 402
Дюмон-Дюрвиль Жюль Себастьен Сезар (1790–1842), франц. мореплаватель – 16, 464
Дюпен (Dupin) Андре Мари (1783–1865), орлеанист, председатель Национального собрания в 1848 г. – 149, 337, 340, 344, 345, 380, 444
Дюпле (Duplay) Элеонора, дочь столяра Мориса Дюпле, у которого жил Робеспьер в Париже в годы революции – 50
Дюпон де л’Эр (Дюпон-де-Лёр, Dupont de l’Eure) Жак Шарль (1767–1855), франц. министр юстиции в 1830 г., буржуазный республиканец, председатель Временного правительства после февральской революции 1848 г. – 135, 149, 336, 339
Дюпоти (Dupoty) Мишель Огюст (1797–1864), франц. демократический публицист; в 1841 г. был осужден за «моральное соучастие» в покушении Кенеля на герцога Омальского – 312
Дюпра Паскаль Пьер (1815–1885), умеренный республиканец, по предложению которого Кавеньяк был облечен в июне 1848 г. диктаторской властью – 188
Дюшатель Шарль Мари (1803–1867), министр внутренних дел Франции в эпоху Июльской монархии – 134, 146, 205, 244, 256, 289, 309, 310, 312, 321, 323–325, 327, 333, 355, 379, 438, 466, 468, 483, 485
Евгений – см. Богарнэ Евгений
Евгения (1826–1920), дочь испанского графа Монтихо, жена Наполеона III – 20
Екатерина II (1729–1796), императрица – 23, 24
Елизавета, действ. лицо в трагедии «Мария Стюарт» Шиллера (см.)
Еццелино – см. Эццелино
Жан (père Jean), персонаж в драме «Парижский ветошник» Ф. Пиа (см.)
Жанлис (Genlis) Стефания (1746–1830), франц. писательница – 142
Жирарден Эмиль де (1806–1881), франц. буржуазный публицист, издатель газеты «La Presse» в 1836–1866 гг. – 55, 56, 147, 148, 171, 229–232, 240, 242, 309, 331, 332, 371, 442, 466, 468, 486
Жоберти – см. Джоберти
Жорж (настоящая фамилия Веймер) Маргерит Жозефин (1787–1867), франц. актриса – 51, 405
Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван) (1804–1876) – 33, 34, 46, 176, 307, 318, 369
– «Мельник из Анжибо» («Le meunier d’Angibault»); Бриколен – 33, 34
– «Грех господина Антуана» («Le Pechè de M. Antoine»); Галюше – 33, 34
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – 467
– «Певец во стане русских воинов» – 467
Иегова (библ.) –181, 182, 364
Иеремия (библ.) – 223
Изабелла II Мария Луиза (1830–1904), королева Испании в 1833–1868 гг., дочь Фердинанда VII – 476
«Илиада», поэма Гомера (см.)
Иоахим – см. Мюрат
Иосиф – см. Бонапарт Жозеф
Исав (библ.) – 386, 454
И-р, Искандер, псевдоним А. И. Герцена (см.)
«Истинная республика» («La vraie République»), газета, изд. Торе – 378, 379, 490
Кабе Этьен (1788–1856) – 164, 168, 171, 314, 357, 368, 371
Кавеньяк (Каваньяк, Cavaignac) Луи Годфруа (1801–1845), франц. политический деятель, республиканец, участник революции 1830 г. – 139, 308, 311, 344, 367, 392, 444
Кавеньяк (Каваньяк) Луи Эжен (1802–1857), франц. генерал, буржуазный республиканец, военный диктатор в июньские дни, глава правительства (июнь-декабрь 1848 г.) – 12, 156, 171, 177, 344, 354, 380, 392, 423, 430, 477
Каин Иван Осипов (р. в 1718 г.), московский вор и сыщик – 229
Калигула Гай Цезарь (12–41), римский император – 273, 436
Камбон Пьер Жозеф (1756–1820), член Конвента, инициатор налога на богатых в 1792 г. – 163, 360, 424, 431
Кампанелла Томмазо (1568–1639) – 421, 429
Канова Антонио (1757–1822), итал. скульптор – 408
Кант Иммануил (1724–1804) – 167, 361, 421, 429
Капфиг (Capefigue) Батист Оноре (1802–1872), франц. реакционный историк и литератор, монархист – 311
Каракалла Марк Аврелий Антонин (186–217), римский император с 211 г. – 85, 472
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826)
– «Письма русского путешественника» – 16
Карель Арман (1810–1836), франц. публицист, один из основателей газ. «National», убит на дуэли Жирарденом – 139, 311, 489
Карл V (1500–1558), император т. н. Священной Римской империи в 1519–1555 гг. – 83, 100, 259, 260, 269, 472
Карл Альберт (1798–1849), король Сардинии (Пьемонта) с 1831 г. – 77, 96, 145, 252, 254, 255, 280, 294, 302, 316, 323, 361, 471
Карл Великий (ок. 742–814), франкский король с 768 г., император с 800 г. – 20, 418, 426, 464
Карл X (1757–1836), граф д’Артуа до вступления на престол, франц. король в 1824–1830 гг. – 66, 197, 214, 256, 307, 482, 483
Карлье (Carlier) Пьер (1799–1858), в 1831–1833 гг. начальник и после революции 1848 г. – префект парижской полиции – 166, 191, 359, 424, 431, 481
Карно (Carnot) Ипполит (1801–1888), франц. буржуазный республиканец, министр народного просвещения во Временном правительстве 1848 г. – 424, 431
Картуш Бургиньон (1693–1721), атаман шайки разбойников, оперировавших в окрестностях Парижа – 229
Карье Жан Батист (1756–1794), комиссар франц. Конвента в Нанте в 1793–1794 гг. – 73, 249, 380, 470
Кастор и Поллукс – Диоскуры (миф.) – 56, 229, 472
Катилина Луций Сергий (108-62 до н. э.) – политический деятель Древнего Рима – 210
Кирша Данилов, предполагаемый составитель первого сборника русских былин, записанных во второй половине XVIII в. – 24
Киселев Николай Дмитриевич (1800–1869), русский посланник в Париже в 1844–1854 гг. – 388, 454
Климент XIV Антонио Ганганелли (1705–1774), римский папа с 1769 г.; в 1773 г. издал буллу об уничтожении ордена иезуитов – 94, 279, 454, 472
Клодт фон Юргенсбург Петр Карлович (1805–1867), русский скульптор – 474
Кобден Ричард (1804–1865), англ. политический деятель, глашатай фритредерства – 146, 324
Кокле (Coclé), духовник неаполитанского короля Фердинанда II – 280
Кокошкин Сергей Александрович (1785–1861), генерал, петербургский оберполицмейстер – 322
Колло Д’Эрбуа Жан Мари (1750–1796), член Комитета общественного спасения в 1793 г. – 470
Колосс Родосский, статуя Ш в. до н. э. – 178
Колумб Христофор (1451–1506) – 421, 429
Кондэ Людовик Бурбон (1756–1830), принц, герцог Бурбонский – 476
Консидеран (Considerant) Виктор (1808–1893), социалист-утопист, ученик Фурье – 57, 188, 314, 422, 430
Констан Бенжамен (1767–1830), франц. буржуазный политический деятель, теоретик умеренного либерализма – 104, 313, 473
Корнель Пьер (1606–1684) – 29, 52
«Корсер» («Corsaire»), сатирическая газета, выходившая во Флоренции в 1823–1852 гг. – 405
Корсини Томмазо (1767–1856), член государственного совета в Риме – 76, 93, 277
Коссидьер (Caussidière) Марк (1809–1861), мелкобуржуазный демократ, деятель тайных обществ 30-40-х гг., после февральской революции 1848 г. префект полиции Парижа (до 15 мая 1848 г.) – 135, 152, 166, 169, 274, 305, 335, 342, 343, 354, 359, 368, 378, 379, 409, 415, 443, 444, 445, 475
Котошихин (Кошихин) Григорий Карпович (ок. 1630–1667) – 464
– «О России в царствование Алексея Михайловича» – 464
Кремье Исаак Адольф (1796–1880), франц. буржуазный политический деятель, министр юстиции во Временном правительстве в 1848 г. – 158, 311, 336, 338–341, 345, 348
Крупов («поврежденный доктор»), герой повести «Доктор Крупов» А. И. Герцена (см.)
Кузен (Кузень, Cousin) Виктор (1792–1867), франц. философ-идеалист, основатель эклектической школы – 18, 160, 353
Кук (Cook) Джемс (1728–1779) – 16
Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868), русский реакционный писатель, драматург – 285
Кульнев Яков Петрович (1763–1812), русский генерал; отличился в войне со шведами в 1808–1809 гг., погиб в войне 1812 г. – 11
Курте (Courtais) Гаспар Анри (1790–1877), генерал, командовал национальной гвардией в Париже в феврале-мае 1848 г. – 134, 135, 170, 370, 377, 379, 409
Курье (Courrier) Поль Луи (1772–1825) франц. писатель-публицист – 38, 312
Кутон Жорж Огюст (1755–1794), деятель франц. революции конца XVIII в., якобинец, член Комитета общественного спасения – 72, 73, 248, 249, 470
Кюбьер (Cubières) Амедей Луи (1786–1853), франц. генерал, военный министр в 1839–1840 гг. – 230, 310
Лавирон Пауль Эмиль, франц. адвокат, участник февральской революции 1848 г. – 334, 341
Лагранж Шарль (1804–1857), мелкобуржуазный демократ, участник революционного движения в Лионе в 1833–1834 гг., один из организаторов баррикадных боев в Париже в феврале 1848 г. – 329, 335
Ламартин Альфонс (1790–1869) – 132, 133, 135, 138, 141, 145, 149–152, 156, 160, 165–169, 171, 178, 186, 188, 189, 305, 307, 311, 315, 323, 324, 334, 336–345, 350, 352–355, 357, 359–363, 367–371, 380, 410, 419, 427, 443, 444, 446, 475, 478, 479, 488–490
– «История жирондистов» («L’Histoire des Girondins») – 145, 489
– «Три месяца у власти» («Trois mois au pouvoir») – 354, 363
Ламбаль Мария Тереза (1749–1792), савойская принцесса, приближенная франц. королевы Марии Антуанетты; казнена народом в сентябрьские дни 1792 г. в Париже – 347
Ламбрускини Луиджи (1776–1854), кардинал, министр папы Григория XVI – 90, 92, 104–106, 272–275, 296, 436
Ламорисьер Луи Кристоф (1806–1865), военный министр Франции в кабинете Кавеньяка – 193, 332, 359, 442, 481
Лаокоон, древнегреческая скульптура – 87
Ларошжаклен (La Rochejaquelein) Огюст (1805–1867), франц. маркиз; в феврале 1848 г. признал республику – 149, 338, 340
Лас-Каз (Las Cases) Огюст Эммануэль, граф (1766–1844), приближенный и биограф Наполеона, последовал за ним на о-в св. Елены – 333, 490
Лафайет (La Fayette) Мари Жозеф Поль, маркиз (1757–1834), деятель франц. буржуазной революции конца XVIII в. и революции 1830 г. – 104, 271, 473
Левассёр Рене (1747–1834), якобинец, участник франц. буржуазной революции 1789–1794 гг., автор известных мемуаров об этой революции – 29, 465
Левассор Пьер (1808–1870), франц. комический актер – 29, 38, 54, 55, 402, 465
Лев X (Джованни Медичи) (1475–1521), римский папа с 1513 г. – 82, 259, 471
Лев XII (1760–1829), римский папа с 1823 г. – 109
Леверье (Le Verrier) Урбен Жан Жозеф (1811–1877), франц. астроном – 364
Ледрю-Роллен (Ledru-Rollin) Александр Огюст (1808–1874) – 132–134, 136, 147, 149–151, 159, 160, 162–164, 166, 169, 170, 172, 305, 313, 324, 335, 336, 338–341, 344, 350, 352, 353, 355, 359, 367–369, 371, 377, 379, 380, 415, 422, 430, 443, 444, 477, 479
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) – 17
Леметр Антуан Луи Проспер (сценический псевдоним – Фредерик Леметр) (1800–1876), франц. актер – 29, 42, 43, 48, 49
Лео Генрих (1799–1878), нем. историк-консерватор – 76
Леопарди Джакомо (1798–1837) – 104, 413
Леопольд II (1797–1869), герцог Тосканский в 1824–1859 гг. – 254, 323
Леру (Leroux) Пьер (1797–1871), франц. социалист-утопист – 171, 176, 188, 305, 318, 367, 368, 370, 387, 422, 430, 454, 457
Линд Женни (1820–1887), шведская певица – 244
Линтон Вильям (1812–1897), англ. гравер, поэт и публицист, участник чартистского движения, основатель журнала «The English Republic» (1851–1855 гг.) – 7
Лойола Игнатий (1491–1556), основатель ордена иезуитов – 12
Лот (библ.) – 202, 482
Лоу (Лау) Джон (1671–1729), генеральный контролер финансов Франции с 1719 г.; впервые начал выпуск банкнот без их обеспечения, что привело к банкротству основанного им королевского банка во Франции – 221, 484
Луве де Куврэ Жан Батист (1760–1797), франц. писатель
– «Жизнь и любовные похождения кавалера де Фоблаза» («La vie et les amours du chevalier de Faublas»); Фоблаз – 231
Луиза, действ. лицо в драме «Коварство и любовь» Шиллера (см.)
Луи Филипп (Людовик Филипп, Людвиг Филипп) (1773–1850), франц. король в 1830–1848 гг. – 38, 96, 104, 114, 123, 139, 143, 147, 148, 152, 154, 157, 158, 163, 166, 168, 170, 196, 214, 272, 280, 292, 307–312, 314, 315, 319–321, 324, 328, 329, 331–333, 339, 341–346, 356, 358, 359, 362, 366, 367, 369, 371, 373, 387, 442, 476, 477, 481, 483, 490
Луцов (Lützow), граф, авcтр. посол в Риме в 1848 г. – 274, 275, 298
Людовик XI (Валуа) (1423–1483), король Франции с 1461 г. – 354, 445
Людовик XIV (1638–1715), король Франции с 1643 г. – 175, 305, 354, 445
Людовик XV (1710–1774), король Франции с 1715 г. – 37, 65, 239, 241, 486
Людовик XVI (1754–1793), король Франции в 1774–1792 гг. – 51, 465, 469, 490
Людовик XVII (1785–1795), франц. принц Луи Шарль, сын Людовика XVI – 31, 206, 465
Людовик XVIII, граф Прованский (1755–1824), король Франции с 1814 г. – 31, 66, 214, 398, 465
Лютер Мартин (1483–1546) – 19, 83, 259, 260
«Магдалина» – см. Мурильо
«Мадонна» – см. Рафаэль
Мадерни Карл (Мадерна Карло<)> (1556–1629), итал. архитектор – 83, 259
Мазаньелло (Masaniello, сокр. от Томазо Аньелло) (1623–1647), рыбак, неапол. народный герой, возглавлявший восстание против испанцев в 1647 г. – 114, 288
Макбет, действ. лицо в одноименной трагедии Шекспира (см.)
Макиавелли (Махиавелли) Никколо ди Бернардо (1469–1527) – 99
Малерб (Malesherbes) Кретьен Гийом (1721–1794), франц. государственный деятель – 191, 386
Мальтус (Мальтюс) Томас Роберт (1766–1834) – 63, 66, 241, 313, 468
– «Опыт о законе народонаселения» («Essay on the Principle of Population») – 468
Манилов, действ. лицо в поэме «Мертвые души» Гоголя (см.)
Манюэль Жак Антуан (1775–1827), представитель либеральной оппозиции во Франции в период реставрации Бурбонов – 313
Марат Жан Поль (1743–1793) – 87, 466, 470
Маратта (Maratta) Карло (1625–1713), итал. живописец – 263
Мари – см. Дюпен Андре Мари
Мария Антуанетта (1755–1793) – 254, 351, 477
Мария (Мария Дидье), персонаж в драме «Парижский ветошник» Ф. Пиа (см.)
«Мария Стюарт» – драма Шиллера (см.)
Марк Аврелий – см. Аврелий Марраст Арман (1801–1852), франц. политический деятель, буржуазный республиканец, с 1841 г. – редактор газеты «National», член Временного правительства в 1848 г. – 133, 137, 142, 147, 152, 154, 166, 170, 171, 199, 311–313, 320, 335, 336, 342, 344–346, 370, 381, 392, 444, 447
Марс (сценическое имя Анны Буте) (1779–1847), франц. актриса – 405
«Марсельеза» – 81, 153, 325, 329, 343, 346, 369, 376
Мартен дю Нор (Martin du Nord) Никола Фердинанд (1790–1847), прокурор парижского суда с 1834 г., министр юстиции Франции в 1840–1847 гг. – 231, 243, 310, 486
Мартен (Мартин) из Страсбурга, Эдуард (1801–1858), адвокат, буржуазный республиканец – 313, 336
Марфа (библ.) – 41, 467
Массена Андре (1756–1817), франц. маршал; участвовал в наполеоновских войнах, в 1814 г. перешел на сторону Бурбонов – 103, 271
Мастаи-Феррети – см. Пий IX
Мафусаил (библ.), по преданию жил 969 лет – 38, 467
Маццини (Мадзини) Джузеппе (1805–1872) –7, 76, 104, 124, 463
«Маяк» – ежемесячный реакционный журнал, издававшийся в Петербурге в 1840–1845 гг. – 265
Медичи Екатерина (1519–1589), франц. королева – 52
Мейербер Джакомо (1791–1864) – 474
– «Роберт-Дьявол» – 120, 474
Мельпомена (миф.) – 29
Меттерних Клеменс (1773–1859) – 104, 145, 165, 271, 272, 296, 317, 330, 358
Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – 86–88, 263, 264, 283
– «Моисей» – 86, 263
– «Страшный суд» – 87, 264, 435
Миллер Федор Иванович, московский полицмейстер – 377
Миних Бурхардт Кристоф (1683–1767), генерал-фельдмаршал русской армии, участник дворцовых переворотов 50-х гг. XVIII в. – 330, 490
Минто Жильбер, лорд (1782–1859), англ. государственный деятель – 106, 274
Миньона, действ. лицо в произведении «Ученические годы Вильгельма Мейстера» Гёте (см.)
Мирабо Оноре Габриель (1749–1791) – 160, 185, 419, 424, 427, 431
Митридат VI Евпатор (Дионис) (132-63 до н. э.), понтийский царь; кончил жизнь самоубийством – 230
Мишле Жюль (1798–1874), франц. историк демократического направления – 7, 81, 145, 176, 212, 256, 312, 317, 318, 322, 462
Моисей (библ.) – 349, 472
Моле Луи Матье (1781–1855), глава франц. правительства в 1836–1839 гг., в 1848–1849 гг. – один из главарей «партии порядка» – 328, 330
«Монитор» («Монитер», «Moniteur»), франц. правительственная газета (выходила до 1869 г.) – 170, 174, 206, 289, 327, 334, 438, 491
Монпансье (Montpensier) (1824–1890), герцог Орлеанский, младший сын Луи Филиппа; в 1848 г. бежал в Англию – 144, 310, 325, 410
Монпансье Луиза Фердинанда, сестра испанской королевы Изабеллы II, жена герцога Монпансье – 332, 338, 339, 476.
Монтескье Шарль Луи де Секонда (1689–1755) – 310
Мор (Морус) Томас (1478–1535) – 63, 186, 419, 427, 468
– «Утопия» – 468
Морган Сидней (1783–1859), ирландская писательница – 78, 253, 471
– «Италия» – 471
Морни Шарль Огюст (1811–1865), сводный брат Наполеона III, один из организаторов бонапартистского переворота 2 декабря 1851 г. – 240, 486
«Москвитянин», славянофильский лит. – худож. журнал, издававшийся М. П. Погодиным в Москве в 1841–1856 гг. – 265, 463
«Московский телеграф», журнал, издававшийся в Москве в 1825–1834 гг. Н. А. Полевым – 11, 50, 463, 468
Мурильо Бартоломе Эстеван (1617–1682) – 404, 407
– «Магдалина» – 404, 407
Мюльнер Адольф (1774–1829), нем. драматург – 50
Мюнцер Томас (ок. 1490–1525) –421, 429
Мюрат Иоахим (1771–1815), маршал Франции, муж сестры Наполеона I, неаполитанский король в 1810–1815 гг. – 80, 103, 262, 271
Наполеон I Бонапарт (Буонапарте) (1769–1821) – 31, 33, 63, 65, 73, 103, 152, 160, 164, 175, 194, 196, 213, 214, 223, 236, 239, 241, 249, 261, 271, 300, 321, 344, 353, 356, 366, 374, 401, 418, 422, 424, 426, 430, 431, 464–466, 468, 480, 486, 490
Наполеон II (1811–1832), сын Наполеона I и Марии Луизы – 103
Наполеон III Луи (Людовик, Louis Bonaparte) (1808–1873), император Франции с 1852 г. – 153, 197, 199, 204, 213–215, 389–392, 423, 430, 431, 454, 481–484
«Насьональ» («Le National»), франц. газета; выходила в Париже в 1830–1851 гг., после февральской революции 1848 г. стала реакционной – 137, 139, 140, 143, 147, 150, 152, 199, 311, 312, 314, 322, 330, 334, 336, 339, 370, 381, 392, 403
Ней (Ney) Мишель (1769–1815), маршал Франции – 80, 375
Немезида (миф.) –199, 392, 420, 427
Немурский герцог Луи Шарль (1819–1896), сын Луи Филиппа – 148, 310, 332, 333, 337, 339
Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37–68), римский император – 110, 405, 436
Николай I (1796–1855), император – 10, 115, 192, 223, 387, 463
Ноздрев, персонаж в поэме «Мертвые души» Гоголя (см.)
Ной (библ.) – 375
Норменби (Normanby) Константин Генри (1797–1863), англ. государственный деятель, посол во Франции в 1847–1848 гг. – 38, 362
Оксенбейн Ульрих (1811–1890), глава федерального правительства в Швейцарии – 316
Оливье Эмиль (1825–1913), в 1848 г. буржуазный республиканец, комиссар Временного правительства в департаментах Вар и Буш-дю-Рон – 376
Олоферн (библ.) – 53, 468
Ориген (185–254), христианский философ и богослов – 11, 463
Орлеанский герцог Фердинанд (1810–1842), старший сын Луи Филиппа – 71, 248
Орлеанская герцогиня Элен Луиза (1814–1858), вдова герцога Орлеанского, мать графа Парижского – 148, 149, 160, 332, 334, 337–339, 353
«Отец Дюшен» («Le Père Duchesne»), газета, издававшаяся Эбером – 31, 134, 378, 466, 475
«Отечественные записки», журнал, издававшийся в Петербурге в 1820–1884 гг. с перерывами – 460
Офрен (Aufresne) Жан Риваль (1720–1806), франц. актер – 51
Павел V (Камилло Боргезе) (1552–1621), римский папа с 1605 г. – 83, 259
Пакье (Pasquier) Этьен Дени (1767–1862), орлеанист, председатель палаты пэров во Франции до 1848 г. – 165, 230, 326, 337, 357, 479
Паллада – см. Афина-Паллада
Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784–1865), англ. министр иностранных дел в 1830–1841 и 1846–1851 гг., премьер-министр в 1855–1865 гг. – 144, 316
Паньер (Pagnerre) Лоран Антуан (1805–1854), франц. либеральный публицист – 359
Парижский граф Луи Филипп Альбер (1838–1894), внук Луи Филиппа – 148, 204, 483
Пельтан (Pelletan) Евгений (1813–1884), франц. журналист, сотрудник газ. «La Presse» – 334
Петрарка Франческо (1304–1374) – 101, 473
Петр I (1672–1725) – 13, 21, 23, 25
Пиа (Pyat) Феликс (1810–1889), франц. политический деятель и драматург – 42, 49, 403, 404
– «Парижский ветошник» («Chifonnier de Paris») – 42; Мария – 44–49, 404, 454; отец Жан (père Jean) – 45–48; Потар – 47–49, 404
Пий IX (Pio nono, St. Padre) Мастаи-Феррети, граф (1792–1878), римский папа с 1846 г. – 77, 80, 90–94, 96, 97, 105–107, 124–127, 130, 131, 145, 197, 254–256, 261, 269, 272–275, 277–281, 284, 285, 292–296, 298–301, 316, 322, 361, 391, 437, 439, 454, 471, 487
Пиль (Peel) Роберт (1788–1850), премьер-министр Англии в 1841–1846 гг., умеренный тори; провел при поддержке либералов отмену хлебных пошлин – 163, 360, 424, 431, 478
Пинетти, итал. фокусник – 40
Питт Вильям, граф Чатам (1708–1778), англ. политический деятель – 424, 431
Платон (427–347 до н. э.) – 186, 419, 427
Плугулм (Plougoulm) Пьер Амбруаз (1796–1863), франц. прокурор до 1846 г., в 1849 г. прокурор кассационного суда в Париже – 373
Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – 16, 17, 41, 398, 463, 467
– «Из путевых записок» – 463, 467
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), русский журналист и критик – 11, 463, 468
– «Параша Сибирячка» – 11, 463
Полина – см. Бонапарт Полина
Полиньяк (Polignac) Жюль Огюст (1780–1847), крайний роялист, глава франц. кабинета в 1829–1830 гг. – 205, 483
Потар, действ. лицо в драме «Парижский ветошник» Ф. Пиа (см.)
Прален (Praslin) Теобальд Шуазель (1805–1847), герцог; покончил самоубийством после раскрытия его преступления – убийства жены, владелицы огромного состояния – 230, 310, 321, 489
«Пресса» («La Presse»), ежедневная газета, основанная Жирарденом; выходила в Париже с 1836 до 1866 г. – 148, 171, 229, 231, 331, 486
Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – 7, 12, 36, 57, 66, 148, 176, 182, 187, 210, 214, 217, 305, 307, 314, 317, 318, 334, 336, 364, 367, 368, 416, 422, 430, 443, 462, 476, 489, 490
– «Система экономических противоречий, или философия нищеты» («Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère») – 314, 489
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – 24, 240, 263
«Пьемонтская газета» («Gazzetta Piemontese»), выходила в Турине – 254
Радецкий Иосиф Венцель (1766–1858), австр. фельдмаршал, с 1831 г. командующий армией в Италии – 131, 302
Разин Степан Тимофеевич (казнен в 1671 г.) – 229
Раньеро (Raniero), эрцгерцог Райнер (Rainer), наместник австрийского императора в Ломбардии; бежал из Милана 18 марта 1848 г. – 131, 302
Расин Жан (1639–1699) – 29, 50–52, 404, 405, 467
– «Британник» («Britannicus») – 50, 405
– «Федра» («Phèdre») – 467
Распайль (Распаль) Франсуа Венсан (1794–1878), франц. естествоиспытатель, демократ и социалист – 138, 168, 368
Рафаэль (1483–1520) – 52, 86, 283, 404, 407
– «Мадонна» – 52, 404, 407
Рашель Элиза (1821–1858), франц. драматическая актриса – 29, 50, 52–55, 244, 246, 400, 405, 408
«Рейнский гимн» – см. Беккер Рембрандт (1606–1669) – 51, 404, 407
«Реформа» («La Réforme»), орган левых республиканцев; издавался в Париже с 1843 по 1850 г. – 137, 139, 141, 143, 147, 148, 152, 171, 187, 311–313, 322, 334–336, 339, 403
Рибейроль (Рибероль, Ribeyrolles) Шарль (1812–1861), франц. демократический публицист; в 1848 г. редактор газеты «La Réforme», в 1853-56 гг. редактировал газету франц. эмигрантов в Англии «L’Homme» – 10, 218
Рихтер Жан Поль (1763–1825) – 35, 467
Ришелье Арман Жан (1585–1642), герцог – 354, 424, 431, 445, 481
Робер (Роберт) Луи Леопольд (1794–1835), франц. живописец – 109, 281
Роберт-Дьявол, герой одноименной оперы Мейербера (см.)
Робеспьер Максимилиан Мари Исидор (1758–1794) – 50, 138, 185, 313, 364, 404, 419, 424, 427, 431, 475
Роган Луи Рене Эдуард (1734–1803), франц. кардинал с 1778 г.; был замешан в деле о похищении ожерелья – 157, 351, 477
Роган, герцог, офицер наполеоновской гвардии, участник похода 1812 г. в Россию – 375
Ромео – три брата, руководившие восстанием в Неаполитанском королевстве в 1847 г. – 284, 287
Ромул и Рем (миф.) – 67, 242
Ромье (Romieu) Огюст (1800–1855), франц. писатель, при Луи Филиппе префект, впоследствии бонапартист, реакционный памфлетист – 203, 216, 482
– «Красный призрак» («Le spectre rouge») – 203, 482
Росси Луиджи (1805–1863), итал. композитор – 66, 241
Россини Джоакино Антонио (1792–1868) – 255
– «Сорока-воровка» – 80, 255
– «Севильский цирюльник» – 51, 404, 407
Ростопчин (Растопчин) Федор Васильевич (1763–1826), граф, главнокомандующий в Москве в 1812 г. – 375
Ротшильд Джемс, барон (1792–1868) банкир – 35, 61, 114, 115, 237
Рош Луи Шарль (1790–1875), франц. врач – 333
Руссо Жан Жак (1712–1778) – 39, 89, 176, 242, 243, 306, 318, 349, 421, 429
Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) – 480
– «Стансы» – 480
С. – см. Сатин
Савелли (Savelli), римский губернатор в 1848 г. – 92, 93, 95, 96, 276-280
Савонарола Джироламо (1452–1498) – 13, 83, 260
Сад Донасьен Альфонс (литературное имя – маркиз де Сад) (1740–1814), франц. порнографический писатель – 387
Салтычиха, прозвище помещицы Дарьи Салтыковой (1730–1801), известной зверским обращением со своими крепостными – 319
Самсон (библ.) – 108, 204, 473
Сантер Антуан Жозеф (1752–1809), якобинец, участник штурма Бастилии – 186
Сатин (С.) Николай Михайлович (1814–1873), русский поэт и переводчик, в 30-х годах участник кружка Герцена – Огарева – 113
Сведенборг (Шведенборг) Эммануэль (1688–1772), шведский теософ, мистик – 405
Себастиани Жан Тибурс (1786–1871), франц. генерал, командир дивизии в Париже до революции 1848 г. – 325
Себастиани Орас (1772–1851), граф, маршал Франции, министр иностранных дел в 1831–1832 гг. – 482
«Северная пчела», газета, издававшаяся в Петербурге в 1825–1864 гг.; редакторы-издатели с 1831 г. Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, с 1860 г. – П. С. Усов – 136, 380
Сенар Антуан Мари (1800–1885), франц. буржуазный республиканец, активный участник руанской бойни рабочих в апреле 1848 г., член Учредительного собрания и его председатель с 5 июня, после июньского восстания – министр внутренних дел – 137, 154, 372, 380
Сен-Жюст (Saint Just) Луи Антуан (1767–1794), якобинец, член Конвента и Комитета общественного спасения; казнен вместе с Робеспьером – 139, 313, 358
Сен-Симон Анри Клод де Рувруа (1760–1825) – 66, 185, 187, 313, 457, 469
Сент Аман (Saint Aman), участник революции 1848 г. в Париже – 334
Сент Олер (Saint Aulaire) Луи Клер, граф (1778–1854), либерал, член палаты депутатов в 1815–1829 гг., франц. посланник в Риме и Лондоне – 105
Сервантес Мигель де Сааведра (1547–1616)
– «Хитроумный гидальго Дон Кихот Ламанчский»; Дон Кихот – 206, 207
Сержан Антуан Франсуа (1751–1847), якобинец; после захвата власти Наполеоном эмигрировал в Италию – 75, 251, 347, 470
Сеттимо Руджиеро (1778–1863), один из руководителей восстания в Сицилии в марте 1849 г. – 280, 281, 284
Сибур Луи (1807–1860), священник, член Учредительного собрания во Франции в 1848 г. – 377
Сийес (Сиэс) Эммануэль Жозеф (1748–1836), аббат, деятель франц. революции конца XVIII в. – 29, 64, 175, 374, 469
– «Что такое третье сословие?» («Qu’est ce que le tiers état?») – 64, 469
Сиккарди Джузеппе (1804–1857), итал. полит. деятель – 13, 463
Симеон Богоприимец (библ.) – 261
Скалозуб, действ. лицо в комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (см.)
Скриб Огюстен Эжен (1791–(1861) – 34–37, 404
Смит Адам (1723–1790) – 238
Собрие Мари Жозеф (ум. в 1854), франц. мелкобуржуазный демократ, деятель республиканских тайных обществ в 30-х гг., активный участник февральской революции 1848 г. – 138, 168, 170, 340, 343, 368, 443, 475, 490
«Современник», литературный и политический журнал (1836–1866) – 10, 230, 451, 452, 460, 461
Созе (Sauzet) Поль (1800–1876), председатель палаты депутатов в последние годы Июльской монархии во Франции – 149, 337, 339
Соллогуб Владимир Александрович (1814–1882), русский писатель – 464
– «Тарантас» – 464;Василий Иванович и Иван Васильевич – 17, 464
Соломон (библ.) – 253
«Сорока-воровка», опера Дж. Россини (см.)
Спада, граф, итальянский банкир – 297
Спартак, предводитель восстания рабов в Древнем Риме (73–71 до н. э.) – 333
Спини Леопольд, итал. революционный демократ, редактор римской газ. «Ероса» в 1848 г. – 115, 118–120, 123
Спиноза Барух (Бенедикт) (1632–1677) – 421, 429
«Старый Кордельер» («Vieux Cordelier»), газета Камилля Демулена – 31, 466
Стателли, итальянский генерал, начальник военных сил в Неаполе в 1848 г. – 280, 292
Стербини Педро (1795–1863), итал. поэт, член союза «Молодая Италия» – 472
– «Знамя» («Il vesillo») – 285, 472
Страффорд (Стаффорд) Томас, граф (1593–1641), министр англ. короля Карла I, вдохновитель политики королевского произвола; казнен – 146, 191, 323, 386
«Страшный суд» – см. Микеланджело
Сулье (Soulié) Мельхиор Фредерик (1800–1847), франц. драматург – 404
Сульт Николà Жан (1769–1851), франц. маршал – 38, 71, 248, 310, 467
Сэй (Say) Жан Батист (1767–1832), франц. экономист, родоначальник вульгарной буржуазной политической экономии – 313, 420, 428
Сю (Sue) Эжен (1804–1857) –141, 476
– «Парижские тайны» («Mystères de Paris») – 476
T. – см. Тучков
Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord) Шарль Морис (1754–1838) – 330
Талия (миф.) – 29
Тальма Франсуа (1763–1826), франц. актер – 51, 244
Тальони Мария (1804–1884), танцовщица – 404
«Телеграф» – см. «Московский телеграф»
Теньер Давид (1610–1690), голланд. художник – 409
Терпсихора (миф.) – 29
Тест Жан Батист (1780–1852), министр Июльской монархии во Франции в 1847 г.; за взяточничество был приговорен к тюремному заключению – 230, 309, 310, 402, 407
Тиберий (Тиверий) (42 до н. э. – 37 н. э.), римский император с 14 г. – 83, 110, 260
Тинторетто Джакобо Робусти (1518–1594), итал. живописец, ученик Тициана – 264
– «Мария Магдалина» – 264
Тит Флавий Веспасиан (41–81), римский император – 436
Тома (Thomas) Клеман (1809–1871), франц. генерал, командующий национальной гвардией Парижа при подавлении июньского восстания 1848 г. – 377
Торе (Thoré) Теофиль (1807–1869), франц. мелкобуржуазный демократ, участник республиканского движения 30-40-х гг., после февральской революции редактор-издатель газеты «La vraie République» – 148, 307, 334, 367, 378, 379, 443, 490
Торлония Алессандро, князь (1800–1886), итал. банкир – 76, 297
Туфано (Тофано), граф, префект полиции Неаполя – 115, 117, 118, 289, 438
Тучков Алексей Алексеевич(1799–1878) – был близок к декабристам, а позднее к кружку Герцена – Огарева – 115, 474
Тьер (Thiers) Луи Адольф (1797–1877) – 139–142, 145–148, 166, 194, 199, 239, 323, 325, 330–332, 337, 346, 359, 371, 372, 388, 389, 410, 447, 454, 476
Тьери, франц. генерал – 332
Улисс, действ. лицо в поэме «Одиссея» Гомера (см.)
«Федра», трагедия Расина (см.)
Фейербах Людвиг (1804–1872) – 176, 221, 306, 416, 421, 429
Фердинанд I (1751–1825), король обеих Сицилий с 1815 г., ранее король неаполитанский под именем Фердинанда IV – 284
Фердинанд II (Birbone) (1810–1859), неаполитанский король, король обеих Сицилий с 1830 г. – 112, 113, 285, 287, 291, 361, 436, 437, 487
Фердинанд I (1793–1875), император австрийский в 1835–1848 гг. – 197, 361, 482
Фигаро, действ. лицо в комедиях Бомарше (см.)
Фидий (V в. до н. э.) – 472
Филикайя (Filicaia) Винченцо (1642–1707), итальянский поэт – 471
– «К Италии» («All’Italia») – 78, 253, 471
Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) – 167, 361
Флокон Фердинанд (1800–1866), редактор франц. газеты «La Réforme» в 1845–1848 гг., после февральской революции 1848 г. – член Временного правительства – 137, 147, 335, 336, 341, 343, 345, 352, 381
Флотт Поль Луи (1817–1860), франц. моряк и революционный деятель, бланкист – 312
Фоблаз, герой романа «Жизнь и любовные похождения кавалера де Фоблаза» Луве де Куврэ (см.)
Фокс (Fox) Чарльз Джемс (1749–1806), англ. политический деятель – 167
Фонвизин Денис Иванович (1745–1792) – 16, 463
Форстер Георг (1758–1794), нем. писатель, буржуазный революционер, сторонник французской революции 1789–1794 гг. – 167, 361
Фосколо Уго (1778–1827), итал. поэт – 413
Франк-Kappe (Franck-Carré) Поль Франсуа (1800–1862), франц. прокурор, обвинитель в процессах против революционеров при Июльской монархии – 373
Франклин Вениамин (1706–1790) – 306
Франц V, герцог Моденский (1846–1859) – 437
Франциск I Януарий (1777–1830), король обеих Сицилий с 1825 г., отец Фердинанда II – 100, 455, 472
Франциск II (1543–1560), король Франции с 1559 г. – 268
Фридрих Вильгельм IV (1795–1861), прусский король с 1840 г. – 361, 391, 454
Фридрих I – см. Барбаросса
Фукье-Тенвиль (Fouquier-Tinville) Антуан (1746–1795), деятель французской революции конца XVIII в., общественный обвинитель в Революционном трибунале в 1793 г. – 154, 230, 347
Фурье Шарль (1772–1837) – 66, 185, 187, 313, 420, 428, 457
Фуше Жозеф (1759–1820), якобинец, член франц. Конвента, затем министр полиции при Наполеоне – 73, 249, 380, 470
Фюльширон (Фулширон, Fulchiron) Жан Клод (1774–1859), франц. писатель – 78, 471
– «Путешествие в полуденную Италию» («Voyage dans l’Italie méridionale») – 471
Христос Иисус (библ.) – 20, 87, 194, 213, 242, 264, 299, 388, 421, 429, 483
Цезарь Гай Юлий (100-44 до н. э.) – 437
Цынский (Цинский) Лев Михайлович, генерал, московский обер-полицмейстер – 377
Чарторыйский (Чарторижский) Адам Юрий (1770–1861), председатель аристократическо-шляхстского польского «Национального правительства» во время восстания 1830–1831 г. – 145, 322
Чатам – см. Питт Вильям
Чичероваккио-см. Брунетти
Шалье, Мари Жозеф (1747–1793), левый якобинец, друг Марата; казнен – 72, 470
Шамбор, граф (герцог Бордосский) (1820–1883), внук Карла X, претендент на французский престол под именем Генриха V – 153, 163, 204, 314, 346, 483
Шангарнье (Changarnier) Николà (1793–1877), франц. генерал, орлеанист, начальник парижской национальной гвардии с конца июня 1848 г. по январь 1851 г. – 171, 371, 424, 431
«Шаривари» («Charivari»), франц. сатирический журнал (1832–1866) – 49, 54, 96, 232, 322, 337, 405, 467
Шартрский герцог Робер Филипп (1840–1910), внук Луи Филиппа – 338, 339
Шатобриан (Châteaubriand) Франсуа Огюст Рене (1768–1848) – 141, 160, 317, 353
Шведенборг – см. Сведенборг
Шеве, содержатель ресторана в Париже – 46, 403
Шевырев Степан Петрович (1806–1864), русский историк литературы, реакционер – 17
Шекспир Вильям (1564–1616) – 51, 263, 464, 475
– «Гамлет» – 475; Горацио – 187, 422, 430; Гамлет – 187, 422, 430, 482
– «Макбет» – 20, 464
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854) – 54, 408
Шельшер Виктор (1804–1893), франц. писатель и политический деятель, демократ – 209
Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) – 49
– «Коварство и любовь» – 49; Вурм – 49; Луиза – 49
– «Мария Стюарт» – 405; Елизавета – 405, 407; Мария Стюарт – 407
Штраус (Страус) Иоганн (1825–1899) – 80
Шуберт Франц Петер (1797–1828) – 398
– «Aus der Ferne» – 398
Эбер Жак (1757–1794), левый якобинец, редактор популярной газеты «Père Duschesne» – 466, 475
Эбер (Гебер, Hébert) Мишель Пьер (1799–1887), министр юстиции во Франции в 1847 г. – 146, 173, 231, 310, 312, 322, 323, 373, 480
Эзоп (Езоп) (ок. 620-ок. 560 до н. э.), греч. баснописец – 88, 265
д’Эквилье (d’Ecqucviller), секундант Бовалона (см.)
Эксельман Реми Жозеф Исидор (1775–1852), граф, франц. маршал – 186
Элеонора (Елеонора) – см. Дюпле
Энгиенский герцог (Enghien) Луи Антуан (1772–1804), сын принца Кондэ, деятель дворянско-эмигрантской контрреволюции – 173, 480
«Эпоха» («Ероса»), либеральная газета; выходила в Риме под ред. Спини (1848–1849) – 115, 123, 127, 129, 294, 296, 298
«Эпоха» («L’Epoque»), франц. газета; выходила под ред. Гранье де Кассаньяка – 33, 466, 486
Эццелино (Ецелино), наместник германского императора Фридриха II в Италии – 99
Юбер (Гюбер) Луи Алоизий (1815–1865), видный деятель тайных обществ 30-х гг., участник французской революции 1848 г. – 213, 483
Юдифь (Judith), франц. актриса, сестра Рашели – 53, 405, 407
Юдифь (библ.) – 468
Юлий II (1441–1513), римский папа с 1503 г. – 82, 259, 471
Юман, модный портной в Париже – 15
Юпитер (миф.) – 181
«L’Alba» («Рассвет»), демократическая газета, выходившая во Флоренции (1847–1849) – 285
«L’Ami du Peuple» – см. «Друг народа»
«L’Assemblée Nationale» («Национальная Ассамблея»), реакционная газета; выходила в Париже с перерывами с 1848 до 1857 г. – 192, 387
«Le Charivari» – см. «Шаривари»
«Chevalier de Maison Rouge», роман Дюма (см.)
«Corsaire» – см. «Корсер»
«Le courrier français» («Французский курьер»), ежедневная газета, основанная в 1819 г.; с 1845 г. стала органом радикально настроенной французской мелкой буржуазии – 322
«La Démocratie pacifique» («Мирная демократия»), газета; выходила в Париже (1843–1851) под ред. Консидерана – 322
«De l’organisation du travail», соч. Луи Блана (см.)
«Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben» («Немецкий ежемесячный журнал по вопросам политики, науки, искусства и жизни»), демократический журнал; издавался в 1850 г. в Штуттгарте – 483
«Den Vereinigten Staaten», соч. Гёте (см.)
«Du développement des idées révolutionnaires en Russie», соч. A. И. Герцена (см.)
«Diario di Roma», реакционная римская газета; выходила с 1814 до 1847 г. – 278
«The English Republic» («Английская республика»), журнал, основанный Линтоном; выходил с 1851 до 1855 г. – 7
«Epigramme. Venedig», соч. Гёте (см.)
«Ероса» – см. «Эпоха» (римская газета)
«Epoque» – см. «Эпоха» (франц. газета)
«Estafette» («Эстафета»), франц. «Газета газет»; перепечатывала статьи из газет различных направлений (1833–1856) – 196, 390
«L’Evénement», франц. прогрессивная литературная газета (1848–1851) – 196, 390
«Gazette de France» («Французская газета») – орган французских роялистов; выходила под различными названиями с 1631 г. – 322
«Gazette des Tribunaux» («Судебная газета»), консервативная газета; выходила в Париже с 1825 г. – 48, 315, 319, 322
«gazzetta Piemontese» – см. «Пьемонтская газета»
«Journal des Débats», консервативная газета; выходила в Париже с 1814 по 1864 г. – 175, 192, 254, 289
«L’Histoire des Girondins», соч. Ламартина (см.)
«L’Histoire des deux Restaurations», соч. Волабеля (см.)
«Der Kosmos». Deutsche Zeitung aus London – 453
«Letters to W. Linton. Esq.» – см. А. И. Герцен
«Lettre d’un Russe à Mazzini» – см. A. И. Герцен
«Lloyd» – 223
«Il Misogallo» – см. Альфиери
«Moniteur» – см. «Монитор»
«Le National» – см. «Насьональ»
«Pallade», сатирическая газета; выходила в Риме с 1847 до 1849 г. – 279, 280
«Patria» («Родина»), либеральная газета; выходила во Флоренции в 1847–1848 гг. – 285
«La Patrie» («Родина»), газета, выходившая в Париже с 1841 до 1866 г. – 387
«Le Père Duchesne» – «Отец Дюшен»
«Pictures from Italy» («Картины Италии»), соч. Диккенса (см.)
«La Presse» – см. «Пресса»
«La Réforme» – см. «Реформа»
«La réforme parlementaire et la réforme électorale», соч. Дювержье де Горанн (см.)
«La Russie», соч. А. И. Герцена (см.)
«Le Répresentant du peuple» («Представитель народа»), газ. Прудона; выходила с апреля по август 1848 г. – 367, 490
«Système des contradictions, économiques ou Philosophie de la misère», соч. Прудона (см.)
«Trois mois au pouvoir», соч. Ламартина (см.)
«Vom andern Ufer», соч. А. И. Герцена (см.)
«Il vesillo», гимн – см. Стербини «La Voix du peuple» («Голос народа»), газета Прудона – 462
«Le vieux cordelier» – см. «Старый кордельер»
«La vraie République» – см. «Истинная республика»
Иллюстрации
«Письма с via del Corso». Страница рукописи первого письма (автограф Герцена).
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.
«Письма с via del Corso». Страница рукописи второго письма (список рукою М. К. Рейхель с поправками Герцена).
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.
«Опять в Париже». Страница рукописи первого письма (автограф Герцена).
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.
Выходные данные
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
А. И. ГЕРЦЕН
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ ПЯТЫЙ
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ 1847-1852
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1955
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: В. П. ВОЛГИН (главный редактор), И. И. АНИСИМОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, Б. П. КОЗЬМИН (зам. главного редактора), С. А. МАКАШИН, В. А. ПУТИНЦЕВ, З. В. СМИРНОВА, |Е. В. ТАРЛЕ|, Д. И. ЧЕСНОКОВ, А. Б. ШАПИРО, Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ
Текст подготовили М. П. Щтокмар (основная редакция), М. А. Соколова («Письма с via del Corso» и «Опять в Париже») Л. Р. Ланский («Lettres d’un Russe de l’Italie»); перевод предисловия и вариантов немецкого издания 1850 г. – М. Г. Ашукиной.
Комментарии составил Н. Е. Застенкер при участии Н. П. Анциферова.
Лингвистическая редакция иноязычных текстов – З. Н. Липовецкой.
Переводы иноязычных текстов редактировали: Е. А. Гунст (франц.), О. Н. Михеева (нем.), Н. Г. Елина (итал.), Ф. А. Петровский (лат. и греч.).
Указатель имен составила М. Я. Бессмертная
Редактор тома – академик Е. В. ТАРЛЕ
Редактор издательства А. И. Корчагин
Переплет и титул художника А. П. Радищева
Технический редактор Е. В. Зеленкова
Корректор В. К. Гарди