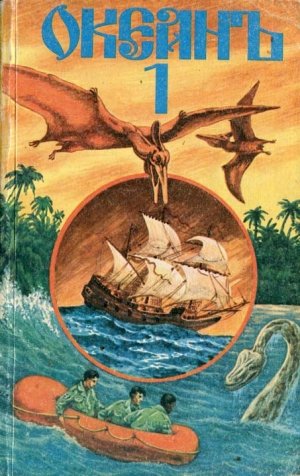
1
Капитан молча положил перед Кленкиным радиограмму. Рубка была тускло освещена. Зеленоватым светом мерцали приборы. Кленкин почесал кончик облупленного носа и стал читать, шевеля губами. Зверски хотелось спать. Строчки расплывались перед глазами. Смысл путаной радиограммы дошел не сразу. Он споткнулся о фразу: «Часть экипажа пытается покинуть судно» и с изумлением спросил капитана:
— Как покинуть?
— За борт сигануть, как. Ты просыпайся поскорей.
— Можно с ними поговорить по радио?
— Связь прекратилась, на запросы не отвечают. Выходить на УКВ бессмысленно, не достанем — свыше сорока миль…
В штурманской рубке пряно пахло табаком «Клан». Несмотря на туман в голове, Кленкин уяснил главное: в сорока милях от них дрейфует рыболовный траулер «Орфей». Не то грек, не то либериец. Несколько часов назад на судне заболел экипаж. Связь прервана, на запросы «Орфей» не отвечает…
Капитан выколотил трубку о край пепельницы и нетерпеливо сказал:
— Послушай, док, кроме нас, оказывать помощь этому «Летучему голландцу» некому. Подумай, кого возьмешь с собой. Старпома — ясно, он командир аварийной партии. Кого еще?
— Трыков?
— Это еще почему?
— Он на подводной лодке служил санинструктором.
— Верно. Может, хватит… для первой группы?
— Хватит, думаю… Если там эпидемическая вспышка, нужно предельно ограничить круг…
— М-да, скверная история, — протянул капитан.
Он взял телефонную трубку, набрал номер каюты старпома.
— Виктор Павлович, не спишь? Ну, на тебя это не похоже. Поднимись на мостик, коли так.
Кленкин спустился в каюту.
За стеклом иллюминатора переливался, струился океан. Изредка в темноте вспыхивали и гасли зеленые огоньки, оставляя после себя размытые, фосфоресцирующие пятна. Что же все-таки произошло на этом «Орфее»?
2
Веллингтон Павлович Кленкин все свои двадцать семь лет прожил в огромном доме на углу Клинского проспекта и Рузовской. Ни скучные коричневые коробки бывших семеновских казарм, ни ощутимая близость Обводного канала не мешали ему считать эту часть города одной из лучших в Ленинграде.
Кленкин с матерью жил на седьмом этаже в двухкомнатной квартире. Одна из комнат принадлежала им, другая старухе Анне Карловне Отс.
Бывшая баронесса фон Отс до самой смерти проработала гардеробщицей в оперном театре, и благодаря ей Кленкин с дошкольного возраста познакомился с замечательными произведениями русской и зарубежной классики. Мать Кленкина, костюмерша Театра юного зрителя, мечтала об артистической карьере сына. Что же касается имени — Веллингтон, то оно было просто предназначено для афиш. Имя придумал отец, художник-декоратор. Его Кленкин не помнил: отец попал под трамвай на площади Труда, когда Кленкину было полтора года.
С театром, однако, не получилось. Окна их квартиры выходили на улицу Рузовскую, как раз на общежитие слушателей Военно-медицинской академии, и это решило дело. После окончания школы Кленкин подал документы в академию с полной уверенностью, что его примут: школу закончил с золотой медалью, но его срезали на медицинской комиссии. Выяснилось, что на военную службу принимают при росте не менее один метр пятьдесят сантиметров. Кленкин был один метр сорок семь при далеко не атлетическом телосложении.
Но он не сдался. Устроился на работу санитаром в клинику хирургии, мыл полы, выносил подкладные судна, а вечерами в библиотеке читал книги по атлетической гимнастике и о том, как увеличить рост. Литературы, особенно дореволюционной, оказалось довольно много.
На кухне Кленкин устроил что-то вроде перекладины, висел по полчаса, поражая старуху Карловну своим упорством. Но упражнения не помогли. За год Кленкин вырос на полтора сантиметра.
От Военно-медицинской академии пришлось отказаться. Кленкин подал документы в медицинский институт, на экзаменах набрал полный бал и был принят.
Низкорослые люди нередко честолюбивы, задиристы, высокомерны. А Кленкин был парнем спокойным, покладистым и серьезным. Курс в основном был девчачий, и его избрали секретарем комсомольской организации, а потом и старостой курса.
С первого курса он решил стать хирургом, и все было подчинено этой идее. Вечерами допоздна сидел в анатомичке, и его одежда настолько пропиталась запахом формалина, что от него в транспорте шарахались люди.
Дело ясное — хирург должен знать анатомию. На третьем курсе переместился в клинику хирургии. Хирурги любят энтузиастов, а студент-коротышка к тому же не чурался грязной работы. Санитарок в клинике, как обычно, не хватало, он помогал перестилать койки, перекладывать больных и настолько освоил сестринскую работу, что больные именно его просили сделать «укольчик» или какую-нибудь иную деликатную процедуру.
Случалось, Кленкин и ночевал в ординаторской на жестком топчане, на котором врачи осматривали больных. В его группе был еще один «чокнутый» на почве хирургии — Роберт Круминьш, сын известного профессора-травматолога. Профессорский сынок также дневал и ночевал в клинике. В беспокойные ночи, когда бригада хирургов задерживалась до утра, они спали на топчане вдвоем, устроившись «валетом». Росточка оба были небольшого, вполне помещались, а так как их постоянно видели вместе, однокурсницы дали им прозвище — «мини-мальчики».
После окончания института Кленкин намеревался поехать года на три-четыре в глубинку, куда-нибудь на Север. Где же еще получишь настоящую практику? Но перед государственными экзаменами тяжело заболела мать, предполагали самое страшное. Кленкину пришлось остаться в Ленинграде, а на Север покатил Роберт, изъявив желание подменить товарища.
Кленкин полгода мотался на «скорой помощи», а потом устроился ординатором-хирургом в больницу водников.
Чтобы было удобно оперировать, ему пришлось сделать специальную скамеечку, которую ставили всякий раз у операционного стола.
Через год Кленкин уже уверенно удалял желчные пузыри, ушивал грыжи и ассистировал при резекции желудка. Но там, на «Орфее», его опыт хирурга вряд ли пригодится. Нужен эпидемиолог или инфекционист. Но где их взять посреди океана? Придется самому выходить из положения.
3
Когда зазвонил телефон, старший помощник капитана Виктор Павлович Каменецкий действительно не спал. Он лежал, влажный от испарины, припоминая отдельные детали сна, морщась от отвращения и страха, только что пережитого им.
Каменецкий сны видел редко и никогда их не запоминал. А это был не просто сон, а кошмар, сон во сне, с четкими деталями обстановки, придающими видению жуткую достоверность.
И то, что это произошло именно с ним, Каменецким, который гордился способностью засыпать по внутреннему приказу и просыпаться ровно за двадцать минут до заступления на вахту, было странно и унизительно.
А снилось вот что.
Будто бы он проснулся у себя в каюте, с удивлением прислушался. Судно было на ходу, его равномерно покачивало, но машины не работали. Вообще не было слышно ни звука. И тут послышались шаги, мягкие и тяжелые — так ходила, встав на задние лапы, медведица Машка, что жила на судне несколько месяцев. Но Машку Каменецкий сам ездил сдавать в Ленинградский зоопарк. Откуда ей взяться?
Дверь каюты беззвучно распахнулась, и вошла… тряпичная кукла, небольшая, но плотная, с тяжело обвисшими белыми пластмассовыми руками.
На тряпичном, размалеванном краской лице куклы застыла полуулыбка. Глаза глядели со злобой.
Кукла, тяжело ступая, приближалась все ближе и ближе. И Каменецкий вдруг с ужасом осознал, что кукла — доктор Кленкин.
— Что вам нужно, Веллингтон Павлович? — крикнул он. — Что за идиотский маскарад?
Лицо куклы исказилось гримасой, рот-присоска вытянулся вперед, как хобот, загибаясь в сторону Каменецкого, ощупью отыскивая его.
— А, вот ты как!
Каменецкий вскочил и коротко, вложив в удар тяжесть тела, двинул в размалеванное тряпичное лицо.
Кукла с мерзким звуком вылетела из каюты.
Каменецкий запер каюту на ключ. Но за дверью послышалось тяжелое сопение, возня. Дверь неожиданно подалась, в щель просунулась белая рука, пластмассовые пальцы ее медленно шевелились…
Каменецкий проснулся от собственного крика. Некоторое время лежал, прислушиваясь к гулким ударам сердца. И тут зазвонил телефон…
«Надо же такой чепухе присниться…»
Виктор Павлович пружинисто вскочил, протер лицо одеколоном «Фиджи», натянул легкие брюки, тенниску, кроссовки. Было приятно ощущать свое ладное, тренированное тело. На сборы ушло не более двух минут.
«Зачем я так срочно понадобился капитану? И голос у него был какой-то странный».
Он подошел к двери, взялся за ручку и тут поймал себя на том, что ему не хочется выходить в коридор, словно там поджидает его эта нелепая кукла, похожая на судового лекаря.
«Не нужно, дурак, за ужином переедать, тогда и не будет сниться всякая дребедень в стиле Хичкока».
В Лондоне он однажды видел фильм ужасов с монстрами и голубыми привидениями. Зрелище для психопатов и неврастеников.
Коридор был пуст. Плафоны матово светились.
Каменецкий прикрыл дверь каюты, легко взбежал по трапу.
4
Капитан стоял в любимой позе, упершись локтями в углы оконной рамы. Вот уже минут двадцать у него ныло сердце. Украдкой от рулевого он положил под язык валидол, но боль не прошла, а стала как бы глуше. И перед глазами, когда он начинал пристально вглядываться во тьму, начинали плавать радужные пятна.
Сердце его беспокоило не первый раз. И в этот рейс он ушел, упросив медицинскую комиссию дать ему одноразовое разрешение: «Годен на один рейс в связи с производственной необходимостью».
А вот удастся ли обойти эскулапов в следующий раз — трудно сказать. История с «Летучим голландцем» ему не нравилась.
За свое долгое капитанство он повидал многое. Он видел однажды, как горел бельгийский танкер, чадили, взрывались танки, по воде растекалось пламя. И когда в вязкой реке дыма и пламени вдруг вспыхивали точки, он знал — горят люди. Они пытались под водой миновать пленку горящей нефти, но, не выдержав, выныривали и, вспыхнув, уходили под воду, теперь уже навсегда. Из-за треска и рева пламени криков слышно не было. Спасти удалось только трех человек.
В другой раз в жесточайший шторм в тридцати милях от Мальвинских островов он наблюдал, как развалился пополам американский контейнеровоз и обе половинки поплыли в разные стороны.
Видел он и последствия цунами: завязанные в узлы стрелы гигантских плавкранов и перевернутый паровоз на вершине сопки — волна отбросила его метров на триста. Но это были понятные, объяснимые явления: сила волны, штормовой ветер, подводное извержение вулканов.
А тут… зараза, микроб или вирус, которых не видно и невозможно, по крайней мере ему, представить.
Капитан никогда не видел микробов, и теперь они почему-то казались ему похожими на мотыля, что он в отпуске покупал в Москве на Птичьем рынке — красная копошащаяся масса.
Всякий раз, приезжая в отпуск к матери, он отправлялся на Птичий, а оттуда рыбачить на Сенеж или Оку. Он представил ранний июньский день, ряды рынка, многоголосый гул, нестареющие дяди Васи и дяди Пети, торгующие самодельными мормышками, поплавками и тайно — браконьерской снастью. И легкий ветерок, и отдаленный визг щенков, и даже похрюкивание поросенка радостно волновали его. Надо же, в центре Москвы, в десяти минутах от Таганки…
«Черт знает, о чем думаю», — удивился капитан. Сердце немного отпустило. Он набил трубку, закурил, стараясь не затягиваться. Пожалуй, впервые в жизни он не знал, как ему поступить. Точнее, ясен был первый этап: когда они подойдут к «голландцу», он даст команду спустить спасательную шлюпку. Мотористом пойдет Буткус, матросом Афонин. При его росте ему проще дотянуться до борта. Да и ловок. Вряд ли им спустят трап. Похоже, что некому. Дальше — трое подымаются на борт «Орфея», оказывают помощь, если таковая необходима, и… А вот, что следовало за «и», капитан не знал. Если там какая-нибудь страшная зараза, то ни старпом, ни доктор, ни Трыков назад вернуться не смогут. Так оно, по-видимому, и будет. Остается одно — буксировать судно в ближайший порт. Ближайший — Мапуту. Ходу туда, с учетом буксировки, не менее суток. При хорошей погоде…
Капитан услышал легкие шаги, обернулся, дверь рубки распахнулась, возник старпом.
«Прямо по воздуху летает. Молодой», — с завистью подумал капитан.
— Извини, Виктор Павлович, что не вовремя выдернул тебя из койки. На-ка прочти.
Старпом дважды перечитал радиограмму и усмехнулся.
— Чему это ты улыбаешься? — подозрительно спросил капитан.
— Да так… Сон, как говорится, в руку. А Кленкин сию галиматью читал?
— Читал. Я его только что отпустил. Собираться.
— И что же?
— Говорит, возможна эта… эпидемия. Может, там и нет никого, все за борт повыбрасывались. Тридцать лет плаваю, и ничего подобного в моей практике не было.
Старпом погладил коротко подстриженные усики.
— Радиограмма дурацкая. Вроде, как пьяный ее сочинял или сумасшедший. Даже чье судно, не ясно.
— Идти-то придется, — капитан вздохнул.
Рулевой с любопытством прислушивался к их разговору.
— Придется. Кого доктор предложил еще взять?
— Трыкова.
— Хороший матрос. В любой ситуации не растеряется.
— Для доктора важнее, что он на подводной лодке санинструктором плавал. К медицине поближе.
— Разумно. Когда мы будем у «Орфея»?
— Часа через два.
— Прошу добро идти готовиться.
— Радиодело не забыл? С рацией управишься?
— УКВ? Элементарно. Я думаю, больше людей пока брать не следует?
— Доктор такого же мнения.
— Ладно, поглядим, что там у них стряслось.
Каменецкий вышел из рубки и у трапа столкнулся с вахтенным матросом Афониным. Тот едва успел посторониться.
— На ловца, как говорится, и зверь… — усмехнулся старпом. — Вот что, Афонин, соблаговолите вызвать доктора и Трыкова ко мне в каюту. Я вами понят?
— Есть.
— Вот и ладненько. А через час буфетчицу будите. Чай, бутерброды. Действуйте, Афонин, проявляйте трудовой энтузиазм.
5
Афонин с недоумением поглядел вслед старпому: на кой черт понадобились чифу доктор и Семка Трыков?
Он поскреб затылок и, скривив губы, пробормотал: «Соблаговолите!» Старпома Афонин не любил и побаивался. Всегда подтянутый, холодно вежливый, старпом походил на начальника курса, из-за которого, как считал Афонин, его турнули из мореходки.
Начальник курса был ни при чем, из училища Афонина исключили за дремучую неуспеваемость, и матросом на судно он пошел, чтобы не возвращаться домой. Родители думали, что он на морской практике, и, надо полагать, радовались, получая письма с красивыми заграничными марками.
На судне Афонин держался особняком, матросскую работу делал неохотно, прослыл «сачком», но ему многое прощали за искусную игру на гитаре. Афонин неплохо пел, голос у него был с хрипотцой, под Челентано, он легко подбирал музыку, пытался сам сочинять «по слуху» и мечтал устроиться в какой-нибудь рок-ансамбль.
Весной ему предстояло идти в армию. Человек легкомысленный, он считал, что и в армии не пропадет. «Лабухи нынче везде нужны, — говорил он, — даже при захудалом гарнизонном клубе свой оркестр. Перекантуюсь».
В мечтах Афонин видел себя в белом пиджаке, ярко-красных брюках, с завитой шевелюрой. «Ансамбль под управлением лауреата всесоюзного… нет, лучше международного конкурса, Владислава Афонина…»
А пока Афонин вспомнил духовитую теплоту каюты и зажмурился. Эх, еще бы пару часиков придавить! Лафа! Ничего, сейчас он их быстро из коечек повытряхивает. «Соблаговолите прибыть в каюту чифа, старшего помощника капитана».
Каюта доктора была рядом, по правому борту. Афонин без стука толкнул дверь, дверь открылась, и он замер, пораженный: доктор, совершенно голый, стоял на одной ноге и пытался натянуть плавки. Маленький, упитанный, поросший золотистыми волосами, он напоминал большого младенца, только соски-пустышки во рту не хватало.
Афонин хмыкнул.
— Что случилось, Владислав? — спокойно спросил Кленкин. — Садитесь.
— Да не-е… Старпому вы для чего-то понадобились. К себе вызывает, в каюту.
— Хорошо, сейчас иду.
Кленкин неторопливо и без смущения оделся.
— Трыкова оповестили?
— Нет… Сейчас, — с недоумением протянул Афонин.
— Давайте-ка и его к старпому.
«Черт-те что делается, — размышлял Афонин, шагая по коридору, — ну ладно, доктор, но зачем им этот заика понадобился?»
Дверь в тамбур не открывалась, Афонин толкнул ее плечом, потерял равновесие и ударился голенью о комингс.
От боли зазвенело в ушах.
— Ах, чтоб тебя, — пробормотал он, потирая ушибленное место. Вспомнил, что Трыков только что сменился с вахты, и со злорадством усмехнулся, представив, какая будет у Семена физиономия, когда он его разбудит.
6
Матрос первого класса Семен Трыков в это время старательно записывал в клеенчатую тетрадь события минувшего дня.
Зачем он это делает, он и сам толком не знал. Началось с пустяковой записи о покупках, а потом стало привычкой.
Окажись такой документ в руках какого-нибудь острослова, Трыкову пришлось бы худо, потому он пишет чаще всего ночами, после вахт и прячет тетрадь на самое дно рундука.
Трыков родом из Можайска. У него и сейчас там живут отец, мать и сестра. Но городок свой он не любит, считает, что настоящая жизнь началась, когда его призвали во флот, послали в школу санинструкторов, а оттуда на среднюю подводную лодку — «эску».
Всю житейскую мудрость Трыков почерпнул во время службы на «эске». И большинство рассказов он начинал фразой: «А у нас на лодке…»
Экипаж подлодки, со слов Трыкова, состоял сплошь из людей необыкновенных: командир — чемпион Балтийского флота по дзюдо, замполит — экстрасенс, мог видеть, что происходит в соседнем отсеке сквозь межотсечную переборку, боцман одной рукой поднимал корабельный якорь. Одним словом, что ни человек, то уникум.
С самим же Трыковым на «эске» происходили и совсем невероятные случаи. Например, однажды, отрабатывая выход из «затонувшей» подлодки, он застрял в торпедном аппарате. И оттуда его вытащил… дельфин.
— Та-тащит меня з-за шкирку, а с-сам чи-чирикает, — заикаясь, рассказывал Трыков, размахивая длинными руками.
— Ну ты даешь, доцент, — ухмыляется боцман, — дельфин и чирикает. Как воробей, что ли?
Трыков мгновенно багровел и обиженно говорил:
— Вы-вы к-книги чи-читайте, товарищ боцман, де-дельфины и-издают, как известно, з-звуки, на-напоминающие…
— Не перебивай, боцман, пусть травит.
— Да я что… Пусть. Ну и дальше что, доцент?
Несмотря на дефект речи, Трыков любит поговорить. Еще он любит писать письма девушкам. Слогом он совершенно не владеет, письма его сухи и напоминают инструкции дежурновахтенной службы. Куда улетучивается неуемная фантазия, украшающая его устные рассказы, неизвестно.
Справедливости ради следует сказать, что не все в рассказах Трыкова вымысел. Он отплавал три «автономки» в Атлантике, и на его выходном пиджаке красуются два значка: «Отличник ВМФ» и «За дальний поход».
Трыков сутул, длиннорук, узкогруд, но при этом обладает удивительной физической силой. Судовую работу знает отлично и мечтает стать боцманом.
Дверь каюты без стука распахнулась. На пороге возникла долговязая фигура Афонина.
Трыков торопливо прикрыл локтем тетрадь и хмуро сказал:
— С-стучать надо. По-понял?
Лицо Афонина выражало разочарование. Он-то рассчитывал вытащить Трыкова из теплой койки, а тот сидит, строчит.
— Конспект на родину? Или послание любимой? Люби меня, как я тебя. Целую соленым флотским поцелуем, Семен С-Приветом!
Трыков молча смотрел на него.
Афонин вдруг выпучил глаза.
— Все! Понял! Ты пишешь роман. Дай-ка взгляну. Роман «А вчерась на флоте».
Трыков побагровел и, сжимая кулаки, двинулся на Афонина.
— Т-ты зачем явился, к-козел? И-издеваться, д-да? Я тебе…
— Сема, ты что, шуток не понимаешь?
Афонин открыл ногой дверь и выскочил в коридор. И уж оттуда крикнул:
— Псих, тебя старпом к себе срочно вызывает. В каюту. Писатель!
7
На сухогрузе «Солза» Кленкин оказался из-за несчастной любви. Год он старомодно ухаживал за операционной сестрой Мариной, которая, естественно, была на полторы головы выше удачливого хирурга. И дело шло на лад: Марина перестала носить туфли на высоком каблуке и покорно посещала с Кленкиным вечера органной музыки.
Но однажды Кленкин случайно услышал, как его невеста на лестничной площадке, где сестры устроили себе курилку, весело сказала подругам: «Девки, а ведь меня Хомячок кадрит всерьез. А что, выйду за него и нарожаю вам хомячат».
В тот же день «Хомячок» пошел в отдел кадров пароходства и попросил направить его на судно.
Кадровик разглядывал Кленкина с жалостливым участием и, хотя судовые врачи требовались, спросил:
— Вы хоть представляете, что такое море? Тут ведь, понимаете, и физические данные требуются.
— Вам кто нужен, хирург или силач-эксцентрик?
— Так-то оно так, — кадровик почесал лысину. — Ну, посидите в приемной.
Через десять минут Кленкина пригласили, и видно было, что кадровик навел справки, и поглядывал теперь на посетителя с уважением.
— На сухогруз «Солза» опытный хирург требуется. Они далеко ходят. Судно серии «Ленинский комсомол», двадцать две тысячи водоизмещением. С визой, я думаю, у вас все нормально будет. Но поимейте в виду, «Солза» по нескольку месяцев плавает и чартерные рейсы делает.
— Мне, чем дальше, тем лучше, — Кленкин вздохнул. Мать уже вышла на работу, но, конечно, известие, что сын стал судовым врачом, ее не обрадует.
— Эх, росточку бы вам… сантиметров десять, — сказал кадровик.
— Ничего, я дамские сапоги на каблуках надену.
— Дамские не советую. На судах народ: ой-ей-ей! В рот водопроводную трубу не суй, враз откусят. Ну садитесь, коли так. Пишите заявленьице.
За месяц Кленкин привел довольно запущенное медицинское хозяйство на судне в образцовый порядок. Предшественник был ленив и знал только один путь: от камбуза в кают-компанию и обратно. Кленкин же потряс стармеха тем, что в первые две недели облазил судно от киля до клотика и проявил нездоровый интерес к системе биологической очистки фекальных вод. Система эта, в которой какие-то бактерии превращали естественные отходы в нечто вполне пристойное, вызывала у стармеха смутное недоумение.
Короткие ножки доктора мелькали то на трапе в машинное отделение, то в коридоре кормовых помещений. Капитан, человек суховатый, терпел его присутствие в штурманской рубке, где любознательный доктор неизвестно для чего листал лоции.
Особенно сильное впечатление на экипаж произвела дружба доктора с поварихой Агнией Михайловной по прозвищу Ага. Есть такие ядовитые лягушки в Африке.
Повариха была женщиной грубой, со сварливым неуживчивым характером. И при случае могла послать собеседника весьма далеко.
У помполита, человека бывалого, из военных моряков, стекленели глаза, когда Ага выступала на профсоюзном собрании с критическими замечаниями по поводу отсутствия на судне приборочного инвентаря и спецодежды для поваров.
Чем тронул суровое сердце поварихи доктор Кленкин, никто не знал.
И врачом доктор-коротышка оказался дельным. Во время стоянки в Адене у помполита прихватило сердце, и Кленкин без всяких там приборов поставил диагноз: «инфаркт миокарда», что, к сожалению, и подтвердили госпитальные специалисты, и помполита пришлось оставить на берегу.
Единственный, пожалуй, на судне человек, который не принял Кленкина, был старший помощник капитана Виктор Павлович Каменецкий.
Возможно, причина неприязни крылась в их поразительном внешнем несоответствии.
Старпом был красив хорошей мужской красотой, рост имел метр восемьдесят пять, светлые волосы зачесывал на изящный пробор и носил дорогую тропическую форму и фуражку, купленную в Амстердаме. Кленкин в простеньких подростковых брючках, оранжевых сандалетах, с младенчески пухлыми щечками и ранней лысиной на затылке смотрелся рядом с ним настолько комично, что, глядя на них, невозможно было сдержать улыбку.
Впрочем, Каменецкий своего отношения к доктору не проявлял, неприязнь выражалась в нарочитой вежливости и в особой тщательности, с которой старпом произносил имя и отчество Кленкина.
— Веллингтон Павлович, не сочтите за труд, передайте, пожалуйста, горчицу, — говорил он и насмешливо щурился.
8
Капитан присел на узкий диванчик, расслабил пояс на брюках. Сердце отпустило, осталось ощущение слабости. Окна ходовой рубки были черны, только на востоке, у горизонта просвечивала голубая полоска.
В эти предутренние часы капитан всегда испытывал неясное беспокойство, особенно в штиль, когда судну, казалось, ничего не угрожает. И мысли в эти часы приходили неожиданные. Сейчас, например, он думал о том, что, когда его спишут на берег, он заведет собаку. Есть такие добродушные черные терьеры с треугольной забавной мордой. У них веселый нрав, и они любят рыться в земле.
А что, будет по-стариковски возиться на садовом участке, а по утрам гулять с собакой. Такого пса можно брать и на рыбалку.
Потом, прикрыв глаза, думал, что Каменецкий все же молод для того, чтобы командовать судном. Старпом должен еще дозреть, чтобы возникло в нем особое чувство — называй его интуицией или еще как, не важно, — когда судно становится частью естества капитана, он как бы срастается с ним.
Тревога обострилась, капитан встал, зажег лампочку над столом, где лежала карта, еще раз прикинул расстояние до «Орфея». «Орфей!» Надо же так назвать рыбопромысловое судно. Сын музы Каллиопы, Орфей своим пением успокаивал штормовое море. Так, кажется, в мифологии… Оперетта есть у Оффенбаха — «Орфей в аду».
Любимым чтением капитана были всякого рода справочники и энциклопедии. Самый трудный кроссворд он расщелкивал за десять минут.
На книжной полке среди лоций, руководств по навигации, он обнаружил «Медицинское пособие для капитанов судов».
Вообще-то на судне по одному виду книги можно было судить, в чьих руках она побывала: на страницах маслянистое пятно — у механика, а если между страниц попадутся обертки от карамелек, можно без ошибки сказать, читал штурман, недавно бросивший курить…
«Медицинское пособие», изданное пять лет назад, поражало девственной чистотой страниц.
«Нелюбопытный у нас народ», — хмуро подумал капитан.
Полистал, отыскивая раздел «отравления». Таковой имелся. «При оказании первой помощи пострадавшему необходимо по возможности выяснить причину, вызвавшую отравление», — прочитал он.
Исключительно глубокая мысль. Капитан с раздражением отшвырнул пособие. Попробуй узнай причину, черт ее совсем раздери.
9
Старпом нетерпеливо прохаживался по каюте.
Глядя на его мощные, загорелые руки, Кленкин потрогал кончик облупленного носа и вздохнул. Как ни пытался он загореть, довести цвет кожи до золотистого, вот как у Каменецкого, куда там — загар не приставал. Кожа шелушилась. Загорела только круглая лысинка на затылке, и это служило лишним поводом для насмешек.
— В душике часто споласкиваетесь, Мильтон Палыч, — пояснял боцман, — а загар, он гигиены не любит.
Сам боцман не только загорел, но, пожалуй, и обуглился. Он был из Одессы, хорошо играл на гитаре, пел веселые песни с неизменным припевом: та-ра-ра-бумбия.
От того, должно быть, и прозвище он получил необычное: Бумбия. Матросов Бумбия называл «доцентами».
Появился Трыков.
— Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, — насмешливо сказал старпом.
— Н-никак нет. Д-до восхода солнца еще сорок две минуты.
— Все-то вы знаете, Трыков. Однако не будем терять время. Веллингтон Павлович, не могли бы вы в общих чертах обрисовать ситуацию на этом, с позволения сказать, «Летучем голландце»?
— К-каком голландце? — с удивлением спросил Трыков.
— Не бегите впереди паровоза. Сейчас узнаете. Итак, доктор. Только самую суть.
Кленкин коротко и суховато изложил несколько гипотез того, что могло произойти на злополучном «Орфее».
После непродолжительного молчания старпом мрачно протянул:
— Понятно, что ничего не понятно. Призраки океанов, тайна бригантины «Мария Целеста» или что-то в этом роде.
— Э-то что еще за бригантина такая?
— Вы до неприличия любопытны, Трыков. Лучше скажите, как там, на вашей подлодке, не было ли подобного прецедента?
— И-инцедентов не было. Нормально.
— Что ж, нормально так нормально. Предложения есть?
— Есть. Покимарить часок, а по-по…
— Потом выпить коньячку. Так?
— После сна предпочитаю джин…
— Чудесненько. Но перед тем, как покимарить, соблаговолите собрать все необходимое. Вы, Трыков, возьмете рацию.
— Я н-на ней ни бум-бум.
— Бум-бум буду делать я. Готовность доложить. Еще есть вопросы?
— У-у матросов нет вопросов.
— Тогда вперед, на абордаж!
10
Шагая по коридору, Кленкин думал, что, помянув недоброй памятью «Марию Целесту», Каменецкий был не так уж далек от истины.
За несколько месяцев вынужденного безделья Кленкин перечитал все книги в судовой библиотеке. Как-то попалась ему книга о тайнах морских катастроф. В семидесятых годах прошлого столетия английский бриг «Ден Грация» обнаружил в Атлантике бригантину «Мария Целеста». Судно было в полной исправности, но на борту не оказалось ни одного человека. Среди многочисленных версий была и версия о том, что на бригантине вспыхнула чума и экипаж в страхе покинул судно.
В каюте было сумрачно. Не зажигая света, Кленкин сел в кресло. На душе было неспокойно. Бодряческий тон старпома усилил тревогу. Такое же чувство тревожной неопределенности Кленкин уже испытал однажды.
После четвертого курса их с Робертом Круминьшем отправили на практику в поселковую больницу под Вологду. После дождей распогодилось. По вздувшимся лесным речкам несло ветки, сор и трупы грызунов.
Весть о неблагополучии принес больничный сторож старик Михалыч. Михалыч помаленьку браконьерил — промышлял рыбку.
«Экая напасть, — ворчал старик, — вчера сетку дохлой полевкой забило. Не к добру… Здорова-то полевка дак не потонет».
А через неделю в больницу позвонил директор леспромхоза и сообщил, что на отдаленном участке заболели рабочие. Вроде как грипп. В одночасье полегли.
Слышимость была плохая. Директор обещал за докторами прислать вертолет.
Главный врач больницы сказал:
— Вот что, мужики, поезжайте. У меня, во! — он провел ребром ладони по горлу. — Ничего, разберетесь. А я в область брякну, вдруг эпидемия?
Вертолет за ними прилетел через час. Вначале все напоминало приключенческий фильм, в котором бесстрашные врачи оказывают помощь погибающей экспедиции.
Кленкин глядел из иллюминатора вниз на ржавые, тускло отсвечивающие болота, и его не покидало восторженное чувство — вот наконец настоящее дело. В летнюю страду в больнице было скучновато, одни роженицы да старики, и он соскучился по интересной работе. Но когда вертолет, подминая бурую траву, тяжело присел на берегу лесного озера, где расположились лагерем лесорубы, Кленкину стало не по себе.
Угрюмая, хваченная палом, тайга, неподвижная черная вода озера, трактора, уткнувшиеся носами в развороченную рыжую землю, вагончики — кунги, где жили лесорубы, со слепыми тусклыми окнами и тишина, обступившая их, когда лопасти винта вертолета, замерев, тяжело обвисли в наполненном комариным звоном распаренном воздухе, — действовали угнетающе.
«Они тут, должно, все уже дубаря врезали, — сказал пилот вертолета, мрачный, похожий на уголовника парень. — Вот что, давайте-ка вытряхивайтесь, а я сматываюсь отсюда. Еще какую заразу прихватишь».
«Вы будете нас ждать столько, сколько потребуется», — сухо сказал Роберт.
«Чего-чего?» — Пилот от удивления разинул рот.
«Что слышали. Здесь больные люди. Возможно, потребуется эвакуировать тяжелых. Улетите — пойдете под суд».
И пилот притих. Роберт умел быть твердым.
Из первого, стоящего ближе к озеру кунга, с трудом выбрался худой, заросший седой щетиной мужчина лет пятидесяти.
Прикрывая ладонью красные, слезящиеся глаза, он хрипло сказал:
«Вовремя, братцы… А то мы тут совсем припухаем… Я бригадир, Карвашкин фамилия».
Он пошатнулся, ухватился за дверь, сказал растерянно:
«О-от, как приморило… Двое суток не жрамши. На связь некому было выйти…»
Роберт заставил пилота развести костер. Запустили электродвижок, и тайга наполнилась веселым стуком дизеля.
В кунгах стоял кислый запах прелой, мокрой одежды. Задрав у одного больного грязную рубаху, Роберт хмуро сказал:
«Сыпь, видишь? На брюшнотифозную не похожа. Неужели корь?!»
Кленкин недоуменно пожал плечами.
«Слишком уж полиморфные высыпания. И при кори сыпь крупнее. Потом, откуда корь у взрослых мужиков?»
«Бывает… Нужно Карвашкина попытать, что тут у них стряслось».
Карвашкин, тяжело дыша и вытирая тряпицей испарину со лба, поведал.
«Шут его разберет. Народ дак у нас крепкой… На лесоповале не первый год. А тут в два дня все полегли. И когда — летом. Вода в озере теплая. Жарко, дак, ну и купались. Неужто в парной воде застудишься?»
Их разговор оборвал треск вертолета.
«Улетел все-таки, сволочь, — сказал Роберт — Вилька, сходи посмотри, медикаменты он хоть оставил, подонок. Рация у вас в строю?»
Карвашкин растерянно глядел в окно кунга.
Вертолет некоторое время висел на одном месте. От него по воде расходились широкие круги, вода выплескивалась на низкие заболоченные берега, потом, сильно накренившись, пошел вдоль просеки, едва не задевая лопастями верхушки деревьев.
«Аккумуляторы на рации сели», — тихо сказал Карвашкин.
«Ничего, перебьемся. В больнице знают, в леспромхозе знают. Не все же такие трусы. Кстати, вы ничего особенного не замечали?» — Роберт хмуро оглядел поляну перед кунгом.
«Особенного дак? Чего такого?»
«Воду откуда пили?» — спросил Кленкин.
«Из озера».
«Сырую?»
«А то? Утром и в ужин чай, а так из озера. Да она здесь чистая. Родники бьют. — Карвашкин вдруг хлопнул себя по худому бедру. — Особенное, говоришь? Есть такое. Мыши водяной здесь навалом, у озера. И она… вялая».
«Вялая?»
«Ага. Людей не боится. Идешь, а она через тропку шкондыбачит, тихо так… Вроде брюхатая. Ночью совы собираются. Орут, точно ведьмаки. Должно, мышь жрать слетаются. Мужики из ружей палили — куда там, из вагончика ночью за нуждой выскочить страшно».
«Знаешь, что это?» — после затяжного молчания спросил Роберт.
«Ну?»
«Водяная лихорадка, лептоспироз».
Ночью сидели у костра. Хвостатые искры летели в небо. Где-то совсем рядом пронзительно вскрикивали, а то заходились в безумном хохоте ночные птицы. Над озером поднимался туман, а в самом конце черной озерной чаши скользили по воде дрожащие, серебристые тени.
Карвашкин, постукивая от озноба зубами, сказал:
«О-он, она, лихоманка-то бродит. Я там, на болотах, и огни видел. Ей-ей… Голубеньки таки. Мужики говорят — болотный газ. А вдруг што другое? Ну ее… Брошу все, домой подамся. Я здеся остался подзаработать. Срок отбыл и остался… Не-ет, никаких денег не захочешь. Ишь, как стервы заходятся. Точно малое дитя плачут…»
На другой день к обеду прилетел эпидемиолог из области и подтвердил диагноз.
И все же обстановка тогда была яснее, все укладывалось в определенную схему: больные полевки заражали своими выделениями лесное озеро, лесорубы пили из озера воду, чистили зубы, наконец, купались. Механизм заражения просматривался отчетливо, даже для студентов. А на «Орфее»?..
11
Старпом, Кленкин, Трыков и боцман Бумбия по очереди разглядывали в бинокль траулер.
Вид «Орфей» имел непривлекательный. Борта в ржавых потеках, грузовая стрела погнута. На палубе ни души.
— Плавучий сортир, — сквозь зубы сказал старпом. На нем вылинявшие джинсы, кроссовки, легкая рубашка. К поясу прикреплен фонарь, такелажный нож.
Кленкин с завистью поглядел на него. Ален Делон, черт возьми. Что ни наденет — все к лицу. На самом Кленкине шорты до колен, дурацкие оранжевые сандалии, форменная рубаха, которая к тому же узковата, не скрывает выступающий животик. Толстенькие кривоватые ножки в рыжеватом пуху.
— В-вы в этих сандалетках, доктор, за борт сыграете, — сказал Трыков. — На палубе склизко.
— Вот именно, склизко, — задумчиво повторил старпом. — Док, может, нам респираторы надеть? А вдруг там чума?
— Вряд ли.
— То-то и оно… Медицина — наука точная. По-видимому, вряд ли. Никак не пойму, что у них за флаг болтается. В удивительно скотском состоянии содержится судно. А ведь, похоже, промысловый разведчик, небось электроники от киля до клотика понатыкано.
— А в-вдруг это пираты? — неожиданно сказал Трыков.
Старпом насмешливо прищурился.
— Ты гигант, Трыков. Пираты. Да разве они посмеют напасть, если знают, что ты на борту? «У юнги Билла стиснутые зубы, он видит берег сквозь морской туман».
— A-а что, ведь были же случаи…
— Все. Дробь, — хмуро перебил старпом. — Боцман, подумай о страховке. Пираты не пираты, а что там на этом чайном клипере делается, не ясно. Не исключаю, что нам его буксировать придется. Доктор, если там какая-нибудь зараза, нам возвращаться на судно уже нельзя? А то, чего доброго, и себе заразу занесем. Так?
— Разумеется.
— Видишь, боцман: разумеется. Доктор все свои клизмы захватил, полный комплект. А что мы, извините за выражение, жрать там будем? А заодно и пить?
На этот раз обиделся боцман.
— Вы что, меня за дурака держите, Виктор Павлович? Все приготовлено, артельщики аж пуп надорвали, расстарались.
— А ракета с ракетницей?
— Э-э…
— Вот тебе и э-э-э! Трыков, возьми ракетницу. Назначаю тебя старшим по борьбе с пиратами.
— Л-ладно вам, Виктор Павлович.
Грохоча по трапу, к ним поднялся матрос. Был он молод, рыж. Физиономия выражала крайнюю степень озабоченности.
— Вот вы где. А я аж в машину шастал. Капитан приказал всех на мостик.
— Меня тоже? — Боцман глядел на него с надеждой.
— Всех, сказал.
— Занимайтесь своим делом, боцман. Пошли, флибустьеры.
Капитан не спеша раскурил трубку и оглядел стоящих перед ним спасателей.
— Значит, так. Вас трое. Двое могут отказаться. Кроме доктора. Он гиппократову клятву давал. Дело на этом «Орфее» непонятное. Пойдут только добровольцы.
— Т-товарищ капитан. Да как вы мо-мо…
От волнения Трыкова опять заклинило.
— Как я могу? — помог ему капитан. — Я все могу.
— Зачем излишне драматизировать ситуацию, Иван Степанович? — Старпом пожал плечами. — Нам все ясно.
Капитан хмуро усмехнулся.
— Ну что ж, тогда готовность номер один, выражаясь военным языком. Штурман, на всякий случай приготовьте брашпиль и лебедку. Напомните механику, старпом, чтобы отливные помпы были в готовности. Я таким ржавым коробкам не доверяю. На нее залезешь, а она вдруг тонуть начнет… Все вроде… Спустить спасательную шлюпку номер два правого борта.
— Есть.
Капитан еще раз внимательно оглядел старпома, доктора, Трыкова.
— Такие, значит, дела, мужики. Будьте там ко всему готовы.
Трыков, просияв лицом, вдруг ляпнул:
— A-а я помню… У нас в детсаде отравление было, пищевое. Молоко, что ли, испортилось. Так горшков на всех не хватило.
Старпом засмеялся.
— Ну это же недавно было, потому ты так хорошо и помнишь. У тебя на шкафчике вишенка была нарисована?
— Н-нет, грибочки. — Трыков побагровел: он мгновенно понял, что и горшки, и грибочки ему еще припомнятся.
— Выход на связь по ракете, — сказал капитан. — Как прояснится — на связь. И не тяните резину, мы — тоже люди…
12
Кленкин сидел, облокотившись на планшир. Совсем рядом раскачивалось море. Вода — удивительной прозрачности. Неподалеку на волне играла всеми цветами радуги медуза-пузырь с крыловидным выступом — «португальский кораблик». Прикоснешься рукой, и обожжет точно крапивой.
Их судно осталось за кормой, и, если не поворачивать голову, покажется, что в этом ярко расцвеченном мире только шлюпка и «Летучий голландец». Его темные, в ржавых потеках борта все ближе и ближе, видны наглухо задраенные иллюминаторы, двери, люки. Окна ходовой рубки тусклы, точно подернулись плесенью.
Страха нет, но Кленкина угнетает чувство неопределенности. Ему уже надоело перебирать всевозможные варианты того, что произошло на траулере. Да в этом и нет необходимости — сейчас все выяснится.
Студентом его потрясла книга австрийского врача Гуго Глязера «Драматическая медицина», потрясла своей будничностью. Врачи спокойно, продуманно рисковали жизнью и нередко погибали во имя постижения истины. И при этом не было никаких высоких слов. Все строго, деловито.
Ему, Кленкину, скоро двадцать семь, и он только-только становится врачом. Становится… Если ему суждено им стать.
Глядя на игру света, дробящегося на гребнях волн, Кленкин с досадой подумал, что история с Мариной — глупость, просто у него сработал комплекс неполноценности. «Хомячок!» Прямо по-гоголевски вышло. А девчонка, может, перед подружками хотела похвалиться.
Он вспомнил, с какой тщательностью Марина ела, когда он приглашал ее поужинать в кафе или ресторан, и какое строгое у нее было при этом лицо. Вспомнил, что ходила Марина всегда в одной и той же джинсовой юбке. Менялись только простенькие кофточки.
На сестринскую зарплату не зашикуешь. Мать — работница на «Красном треугольнике». Отец бросил, давно с семьей не живет.
В их однокомнатной квартире у Нарвских ворот было чисто, но бедно.
…Он ушел, даже не простившись. «Хомячок». Что же тут обидного? Комплекс, проклятый комплекс.
Голос старпома вырвал его из задумчивости.
— Доктор, уберите руку с планширя. Расшибет о борт, а ваши руки еще пригодятся.
Глаза у старпома холодны, он бледнее обычного, но спокоен.
А ведь верно, сейчас многое будет зависеть от его, Кленкина, знаний, умения. И ни старпом с его непоколебимой волей, ни десять таких старпомов, ни даже сто не заменят его. Кажется, Гомер сказал: «Тысячи воителей стоит один врачеватель искусный…»
13
— Буткус, ну-ка сбавь обороты, — приказал старпом. — Хорош. Обойди с кормы, нужно осмотреться.
— Г-глядите, шторм-трап висит.
— Вижу.
— Кто-то прогуляться решил. А м-может, бутылки пошли сдавать, как в том а-анекдоте.
— Будь моя воля, Трыков, я бы вам рот зашил.
— М-молчу.
— Буткус, к шторм-трапу. Афонин — удерживать шлюпку. Первым пойду я, затем доктор. Трыков замыкающий. С рацией осторожней, Трыков.
Шлюпка чиркнула носом о борт траулера, стала отворачивать, но Афонин успел зацепиться отпорным крюком за фальшборт. Сам едва не вывалился из шлюпки. Трыков ухватился за шторм-трап, подтянул шлюпку к борту. Мышцы на его обезьяньих руках набугрились, лицо потемнело.
— Н-нормальный аттракцион. На ковре доцент Афонин.
Старпом свирепо глянул на него, но промолчал и стал ловко подниматься по шторм-трапу.
— Доктор, за мной. Коробки с харчем и анкерок с водой Афонин подаст. Да удерживайтесь, удерживайтесь. Афонин, не спать!
— Виктор Павлович, нам пока у борта постоять? — спросил моторист Буткус, со страхом глядя на темные иллюминаторы кормовых кают.
— Пока постойте. Черт его знает, как дело повернется.
— Я мертвяков боюсь, — сказал Афонин, — вы туда… а они вас хвать.
— Т-ты ящик подавай, раззява! Че-чемоданчик доктора не забудь.
Трыков с трудом открыл дверь в тамбур, посветил фонарем.
— Ну, что там? — нетерпеливо спросил старпом.
— Б-блевотиной несет. — Трыков сплюнул.
— Посвети мне.
— Извините, Виктор Павлович, но первым должен идти я. Это мое право.
— Ладно, док, никто на ваши права не покушается. Только я на таких траулерах был, японской постройки лайба. По коридору направо, потом наверх — каюта капитана. С него, я думаю, начинать нужно.
На судне стояла зловещая тишина. Слышно было, как накатывает и опадает волна и где-то совсем рядом, над головой, с легким звоном перекатывается пустая бутылка.
Смрад стоял чудовищный. К запахам непроветриваемого помещения примешивался сладковатый запах тлена.
Дверь в каюту капитана была распахнута, оттуда слышался не то хрип, не то храп. Иллюминаторы задраены, из душной полутьмы несло запахом виски или чем-то еще спиртным. Капитан сидел, уронив голову на стол.
— Отдрай иллюминаторы, Трыков, — приказал старпом, — не то задохнемся.
Трыков раздернул шторы, торопливо отвинтил барашки иллюминаторов. В скудном свете седые кудрявые волосы капитана казались грязно-серыми. Старпом отшвырнул ногой бутылку джина, попытался приподнять капитана за плечи. Голова его безвольно свесилась. Из угла черного рта вытекла вязкая струйка слюны.
— У-уши ему потрите, с-сразу в себя придет.
Капитан вдруг открыл глаза и с ужасом уставился на Трыкова.
В распахнутый иллюминатор толчками затекал влажный воздух. Слышно было, как равномерно постукивает двигатель шлюпки.
Капитан с трудом встал и, не отрывая глаз от Трыкова, торопливо заговорил, временами звонко икая.
— Что он говорит? — спросил Кленкин.
Старпом усмехнулся.
— Говорит что аллах проклял их и послал болезнь. Аллах, понял, док? Очень просто. А его никакая зараза не возьмет — насквозь проспиртован.
— Спросите, как началось заболевание:
— Я, конечно, попробую. Только он ни черта не смыслит.
Старпом встряхнул капитана за воротник куртки, спросил сначала по-английски, затем по-французски:
— Как все началось, мастер?
Тот икнул, что-то пробормотал и закрыл глаза.
Старпом растерянно посмотрел на Кленкина.
— Бред какой-то… Говорит, с неба полился огонь, огонь поджег море. Может, я что-то не так понял. Док, ты можешь привести его в порядок? Нашатырем, что ли.
— Попробовать можно. Толку-то… Он невменяем. Его и за сутки в чувство не приведешь.
Словно в подтверждение этих слов капитан икнул и бессильно откинулся в кресле.
— Д-дохлый номер. Нужно осмотреть судно, и-ик. — Трыков прикрыл ладонью рот. — В-вот, теперь я икать буду. Как услышу — сам начинаю.
— Да хватит тебе, пошли, — поморщился старпом. — Лучше проверь, нет ли у него еще бутылки, а то мы его за двое суток в меридиан не приведем.
Кленкин взял тяжелую руку капитана, нащупал пульс — сердце билось ровно.
14
В первой же каюте на левом борту они обнаружили двоих: один, крупный, широкоплечий африканец был мертв, второй, не то малаец, не то японец, проявлял признаки жизни. Пульс был слабый, частил, зрачки на свет не реагировали.
Трыков прошелся лучом фонаря по каюте, высветил стол: на столе миски с недоеденной рыбой. Банки из-под пива.
— Обратите внимание, док, иллюминаторы в каютах задраены наглухо, прикрыты шторами. Мы ведь траулер вокруг обошли на шлюпке. Ни одного открытого иллюминатора.
— Может, ожидался шторм? Или…
— Что или?
— Или они чего-то боялись. Например, огня, который зажег море.
— Вы верите в этот бред?
— Ничего я не знаю. Пока я буду японцу вводить сердечные, вы посмотрите, что в соседней каюте. Только бога ради откройте иллюминаторы.
Трыков, продолжая икать, отдраил иллюминаторы. Стараясь не глядеть на вздувшийся труп африканца, Кленкин достал из укладки стерилизатор со шприцем, коробку с ампулами.
— Семен, заверни-ка ему рукав. Не забыл еще, как инъекции делают?
— А ч-чего сложного? Я и внутривенные делал. В океане ассистировал на операции. Аппендикс вырезали. Этот вроде трепыхается, японец. Холодный как мертвяк. Нас учили, если инфекция какая — лихорадка должна быть. Верно?
— Верно, верно.
Вернулся старпом.
— А в соседней каюте еще труп. Похоже, радист. Жуткое зрелище. Этот как?
— Тяжелый. Нужно по всем помещениям пройти. Картина пока неясная.
— Пошли.
В кормовой каюте, напоминающей пенал, не было иллюминатора. Старпом включил фонарь. На нижней койке лежал толстяк. Он был без сознания. На крюке висела поварская куртка, грязный колпак.
— Г-глядите, там в углу что-то шебуршит.
Старпом направил луч фонаря — голубоватый клин выхватил из темноты перепуганное мальчишеское лицо. Парнишка забился в угол верхней койки, завернулся в одеяло.
— Ты живой? — спросил старпом по-английски.
— Да, сэр.
— Можешь сам спуститься вниз?
— Могу… сэр. Но я боюсь.
— Не бойся, мы не причиним тебе вреда.
Парнишка, выполнявший на судне роль стюарда, оказался смышленым, свободно говорил по-английски. От него удалось узнать, что судно вышло из Кейптауна две недели назад. Ни с каким судном не встречалось. Никого из пассажиров на борт не брали. Их задача — промысловая разведка.
— А что они ели за последние сутки?
Старпом ухмыльнулся, но перевел.
Стюард с изумлением уставился на Кленкина.
— Рыбу они ели, рыбу, док. Они все время едят рыбу. Это вы требуете для команды соки, фрукты, витамины.
Стюард что-то сбивчиво заговорил. Кленкин различал лишь отдельные слова.
Старпом вытер лоб.
— Пацан говорит, что отдельно готовят только капитану. Мясо ему готовят. Но рыбу он тоже ест. Господи, ну и вонища. Что еще, спрашивайте, док.
— Переведите: как началось заболевание?
По мере того как стюард говорил, лицо у старпома мрачнело.
— Так, понятно. Теперь слушайте. Трыков, что ты мне в глаза светишь? И не икай, а то я тоже начну. Может, я не все понял, но суть такова: пацан собирался мыть посуду, но услышал в коридоре крик. Потом вбежал кок Джованни и сказал, что бросили атомную бомбу и теперь горит море. Боцман и второй штурман спускают шлюпку. Но уж лучше умереть у себя в каюте. Джованни — этот вот толстяк. Похоже, он еще жив.
— А он видел огонь?
— Кто он?
— Мальчик.
Старпом спросил стюарда. Тот отрицательно покачал головой.
— Пожалуйста, спросите у него, пусть подробнее расскажет, обедал ли он со всей командой. Наконец, горящее море… Может, он видел в иллюминатор?
— Иллюминатор… Ладно, спрошу. Но, если мы выберемся отсюда, я заставлю вас изучить язык.
Стюард быстро, как мышонок, озирался по сторонам. Личико у него снова стало жалким, испуганным.
— Т-ты, не бойся, малый, — сказал Трыков и погладил мальчика по голове. — Обойдется.
— Спасибо, Сема, — старпом коротко рассмеялся, — ты и меня заодно успокоил. Так, дайте поговорить с человеком.
Выяснилось, стюард не обедал со всеми, он вообще двое суток ничего не ел. За какую-то провинность капитан запер его в шкиперскую кладовую. Стармех выпустил после ужина — нужно было мыть посуду. Стюард успел подняться из кладовой в каюту, когда началась заваруха. В иллюминатор он смотреть не мог по той причине, что в каюте нет иллюминатора.
15
Хорошо, что он успел полистать справочники. За два года плавания литературы у доктора скопилось много, но по отравлениям, как на грех, информация была скудная.
В шестьдесят восьмом году в Японии свыше тысячи человек заболело, а девять погибло от болезни «Юсо» — результат употребления в пищу рисового масла, загрязненного полихлорированным афелином. Рисовое масло экипаж «Орфея» не ел.
В шестидесятые годы в Англии ученые столкнулись с таинственным заболеванием, от которого погибли десятки тысяч индеек. Позже удалось выяснить, что птиц кормили заплесневелыми земляными орехами. Оказалось, что плесень вырабатывает яд — афлотоксин. Опять не то!
Единственный продукт, что ела вся команда, исключая, возможно, капитана, — рыба.
Тропические рыбы, особенно иглобрюхообразные — им была посвящена глава справочника — могли подбросить любой сюрприз. В печени, икре, молоках собаки-рыбы, например, содержится сильнейший яд — тетродоксин. Смертность от отравления этим ядом составляет шестьдесят процентов.
В Японии собаку-рыбу употребляют в пищу как деликатесное блюдо под названием «фугу». Его разрешают готовить в ресторанах, имеющих специальный патент, и все равно ежегодно сотни японцев отправляются на тот свет, отведав лакомое кушанье.
Собаку-рыбу команда не ела, на ужин был приготовлен обычный промысловый окунь. Но, оказывается, существуют так называемые вторично ядовитые рыбы. Токсины, вызывающие отравления рыбами этого типа, содержатся в водорослях. Водоросли поедает промысловая рыба и…
Сигуатера… Неприятное слово. Сигва — на местном наречии назывался моллюск, вызвавший массовое отравление людей в Гаване в конце прошлого столетия.
Вот здесь симптоматика, что называется, била в «яблочко», кроме, пожалуй, горящего моря.
Утешало, что помощь при отравлении ядовитыми рыбами не требовала каких-то особых действий и медикаментов. Промывания с адсорбентом, сердечные средства, покой.
16
Они теперь уже вчетвером обошли судно. Всего в каютах, кубриках, служебных помещениях было обнаружено восемь больных, трое из них в тяжелом состоянии. Да еще два покойника.
— Значит, так, — сказал Кленкин, — пострадавших в столовую. Выкинуть к черту столы, положим на матрасы.
— Я полагаю, речь идет о живых?
— Ваша ирония неуместна, Виктор Павлович. Я разворачиваю лазарет и начинаю оказывать помощь, а вы обеспечиваете внутрисудовую транспортировку пострадавших. Переведите стюарду, чтобы тащил сюда с камбуза все тазы, ведра, словом, все емкости.
— Это вы мне? — изумленно спросил старпом.
— Вам. Трыков, живо пройдись по офицерским каютам. Может, что есть из медикаментов. У меня один шприц и две капельницы. Мало.
— Есть.
Трыков в каюте старшего помощника нашел аптечку, коробку со шприцами одноразового пользования.
Минут через пятнадцать в столовой траулера был развернут лазарет. Трыков с такой лихостью выбрасывал в коридор кресла, что старпом сказал:
— Гляди, Семен, капиталисты тебе счет предъявят.
— Н-на том свете. Вообще, свет неплохо бы зажечь, не видно ни черта. Н-на такое помещение — три иллюминатора с кулак величиной. Н-не столовая, а кандейка… Я маленько освобожусь, попытаюсь вспомогач запустить.
Больных перенесли в столовую, положили на поролоновые матрацы.
— Ты как себя чувствуешь? — спросил старпом у мальчишки-стюарда.
— Хорошо, господин.
— Тогда пройдем еще раз по судну. Доктор, я отпущу шлюпку и передам капитану, что все пока в порядке. При первой возможности выйдем на связь.
— Согласен.
— Ну-у, если уж вы согласны, лечу пулей.
Трыков быстро освоился в лазарете.
— А в-вот у нас на лодке… Операционную во втором отсеке за-за десять минут разворачивали с доктором. Я стерилизатор врублю, приготовлю доктору мыться, а моряки простынями отсек завешивают. Комплекты стерильного белья с собой брали. Вы заметили, доктор, я и-икать перестал?
— Заметил, заметил. Бери шприцы и вводи тяжелым кофеин, камфару. А я пока капельницу налажу. Остальных промывать, сифонить. Жаль активированного угля мало.
— Думаете, отравление?
— Почти уверен. Почти…
— Чем?
— Возможно, рыбой.
— А вместо активированного угля что сойдет?
— Сбитый яичный белок.
Вернулся старпом. Вид у него был мрачный. Вслед за старпомом в столовую прошмыгнул стюард.
— Слышь, м-малый, — спросил у него Трыков, — у вас в провизионке эти… ко-коки есть?
— Ко-ки? — с изумлением переспросил стюард.
— Ни бум-бум. Яйка, курка…
— Вы уж на эсперанто бы шпарили, Трыков. Все-таки международный язык. Мухамед, — обратился старпом к стюарду на английском, — есть на судне куриные яйца?
— О да, сэр, — рожица стюарда просияла.
Стюард побежал разыскивать яйца. Когда дверь за ним захлопнулась, старпом сказал:
— В машинном отделении еще четверо. Ничего, шевелятся. Одному мне их не дотащить. А как эти?
— Пока трудно сказать, — пожал плечами Кленкин. Коротко взглянул на старпома. Тот был бледен.
«А что, ситуация необычная. Это не шторм, не авария. Такое с непривычки пострашнее…»
— Док, ты готов доложить капитану?
— Минут через двадцать. Закончу вот с тяжелыми. Да и тех четверых посмотреть нужно.
— Режь, коли́ — твое дело. Но капитан там на ушах стоит. — Он вдруг прислушался.
Кто-то брел по коридору, шаря руками по стенам.
Старпом распахнул дверь, посветил фонарем.
В дверном проеме возник плотный, пожилой человек. Темное, с запавшими глазами лицо, седая шотландская бородка. Он с изумлением уставился на Кленкина, перевел взгляд на больных, лежащих на матрацах.
— Кто вы, господа? — спросил он по-английски.
— Русские. Пароход «Солза». Оказываем вам помощь. А вы?
— Бауэр. Механик.
— Почему мы не нашли вас в каюте? — удивился старпом.
Механик усмехнулся.
— Я валялся в ванной. Меня вывернуло наизнанку. Проклятая рыба.
— Проходите, доктор вас посмотрит.
— Я уже ничего, только туман перед глазами. Дайте воды.
«Черт возьми, а ведь я понимаю, о чем они говорят. С перепугу, что ли? — с удивлением подумал Кленкин. — Значит, не зря я вечерами учил английский».
Он налил механику воды в пластмассовый стаканчик.
Механик хлебнул и, выпучив глаза, прохрипел:
— Вы спятили? Это кипяток. Я обжог глотку.
— Кипяток? — удивился старпом. — Откуда у вас кипяток, док?
— Вода холодная. Ему кажется. Симптом отравления.
Старпом похлопал механика по плечу.
— Пейте. Доктор быстро поставит вас на ноги. Нужно попытаться включить вспомогательный двигатель, дать электричество на рефрижераторы и кондиционеры. Без вас нам не справиться.
— А где капитан?
Старпом пожал плечами.
— Понятно. Эта скотина, конечно, пьян. Дайте мне полежать минут десять… После того как я съел эту проклятую рыбу, у меня сразу онемел язык.
Механик тяжело опустился на матрац, лег, закрыл глаза.
17
Это был не страх, а скорее ощущение постыдной неуверенности в себе. Каменецкий испытывал его всякий раз, когда у него что-то не получалось или он терял контроль над ситуацией.
Еще курсантом мореходки он знал, что обязательно станет капитаном, и потому, когда его однокурсники отправлялись на танцы, он зубрил морское право и английский.
Капитан должен в совершенстве владеть английским, а лучше еще французским или немецким. Морское право он тоже должен знать и всякие там коммерческие штучки-дрючки.
Он шел точно по курсу. Жизнь лишь иногда отклоняла его от цели, и тогда он ложился в дрейф, как судно, потерявшее ход.
В первый раз заколодило во время учебного плавания на парусной баркентине. Выяснилось, что курсант Каменецкий боится высоты. Это было крайне неприятно, словно он обнаружил в своем совершенном, хорошо тренированном теле какое-то скрытое уродство. Нужно было срочно избавляться от страха и так, чтобы никто ничего не заметил. Он попросил, чтобы на вахту его ставили с четырех до восьми утра, в самое гнусное время. Потому охотников поменяться с ним было сколько угодно.
С той поры в памяти сохранился тревожный свет белых ночей, влажные от росы ванты и ощущение надвигающегося ужаса. По мере того, как, перебирая вялыми ногами, он поднимался по вантам, а палуба уходила вниз, от ощущения бездны под ногами леденел затылок.
Клочья утреннего тумана задевали за верхушки мачт. Несколько секунд он, скорчившись, сидел на марсовой площадке, до крови кусая губы, чтобы побороть дурноту, потом поднимался на фор-брам-рей, ставил ногу на перт… Все, что происходило дальше, скорее напоминало бред: вот он застегивает карабин страховочного пояса, ложится животом на рей и медленно, сантиметр за сантиметром, передвигается к ноку. Ноги плохо слушаются, зубы выбивают дрожь.
У нока реи, над сверкающей бездной, он, по-видимому, на мгновение терял сознание и действовал инстинктивно, ничего не помня и не понимая. И в себя приходил, только почувствовав под ногами палубу.
А к концу плавания, окончательно поборов страх, он, как обезьяна, скакал по вантам, и боцман сердито кричал на него снизу: «Курсант Каменецкий, застегните страховочный пояс!»
Курсантом-первокурсником он понял, что может преодолеть многое, нужно только собраться, сконцентрировать волю.
Каменецкий с усмешкой слушал разговоры о Бермудском треугольнике и всяких таинственных происшествиях в море — за всем этим стояли конкретные физические явления. Но то, что происходило на «Орфее», поначалу было ему непонятно, а потому и рождало чувство неуверенности в себе.
Было еще одно немаловажное обстоятельство: Каменецкий плохо переносил запахи. А в помещениях «Орфея» запах нечистот мешался со сладковатым запахом тления и еще чего-то, незнакомого и отталкивающего. Казалось, палубы, переборки, трапы, механизмы были покрыты клейкой слизью. И такая же слизь покрывала теперь и кожу Каменецкого.
То и дело подкатывала тошнота, и он устал не от действий, а скорее от борьбы с самим собой. Он мог сутками не сходить с мостика, всегда был бодр, подтянут, но сейчас…
А доктор, этот коротышка, в отвратительно липком мире «Орфея» чувствовал себя уверенно и легко. И Каменецкий впервые подумал о Кленкине с уважением.
Ситуация складывалась таким образом, что оставаться им на «Орфее» предстоит не час и не два, а в лучшем случае сутки, да и то при соответствующем раскладе: хорошая погода, удачная буксировка. И еще — если зараза не перейдет на них, на спасателей.
18
Они поднялись на верхнюю палубу. «Солза» стояла в полутора кабельтовых. После духоты корабельных помещений у Кленкина слегка закружилась голова. Старпом прислонился к надстройке, глубоко вздохнул, и его вырвало.
— Вот черт, — растерянно пробормотал он, — кажется, у меня началось. Можно так быстро заразиться?
— Ничего у вас нет. Непривычная обстановка, запахи и прочее.
— Не знаю, не знаю. Ах, чтоб тебя… Ракетница у Трыкова.
— Я схожу. Вы посидите, сейчас станет легче.
— Ну и ну. Раскис, как баба.
Старпом закрыл глаза. Но, сделав усилие над собой, полез в карман за сигаретами.
— Закурю, может, легче станет.
— Дайте и мне.
— Вы же не курите.
— Иногда балуюсь.
Кленкин зажег сигарету, затянулся. В глубине траулера что-то ухало. Механик с Трыковым пытались запустить движок.
Ватервейс был забит окурками и рыбьей чешуей. Кленкин, не докурив сигарету, швырнул ее за борт.
— Что же все-таки произошло? — спросил старпом.
— Я думаю, отравление рыбой. Сигуатера. Стопроцентной уверенности у меня нет, но судите сами: весь экипаж, кроме стюарда, ел рыбу, капитан не в счет — он алкоголик. А алкоголики мало едят. Остатки рыбы обнаружены на камбузе, в промывных водах. Заболели почти все одновременно, симптомы схожие: расстройство кишечника, рвота, зуд, нарушение зрения, параличи… Но одно меня смущает.
— Что?
— Чувство неукротимого страха, галлюцинации. Причем все видели почти одно и то же, с незначительными вариациями: огненный столб, луч, падающий с неба, пламя, растекающееся по горизонту. И все это порождало ужас, желание бежать, покинуть корабль. Галлюцинации у разных людей редко совпадают.
Старпом затянулся сигаретой.
— Это не галлюцинации. Знаете, как это явление объяснил механик Бауэр? Здесь, в этом районе океана довольно часто возникают магнитные бури. Ему не раз случалось видеть нечто подобное. Экипаж на судне сборный, народ в основном суеверный. Произошло просто совпадение по времени отравления и бури. Возникла паника. Он, кстати, тоже считает, что произошло отравление рыбой, и «горящее» море здесь ни при чем.
Кленкин принес ракетницу. Дымный след от ракеты прочертил дугу. С «Солзы» взлетела ответная ракета.
Старпом повертел ручки настройки рации, взял микрофон:
— Я «Голландец», я «Голландец». Как слышите? Прием.
— Кто? — скрипуче спросил капитан.
— Виноват, Иван Степанович.
— Вы там живы хоть?
— Живы. Судно в порядке. Механик пытается запустить вспомогательный двигатель. Остальное доктор доложит, — старпом передал Кленкину микрофон.
— Как слышите меня, доктор?
— Пять баллов. У экипажа отравление рыбой. Делаем все необходимое. Двенадцать больных, из них три тяжелых. Двое умерло. Пятерых обнаружить не удалось. Предположительно — убежали с судна на спасательной шлюпке.
— Помощь нужна?
— Пока обойдемся своими силами.
— Значит, полной уверенности нет? Прием.
— Подождем. Нужно дать радио в ближайший порт. Все пострадавшие нуждаются в госпитализации.
— Добро. Передай микрофон старпому.
— Слушаю, Иван Степанович.
Было слышно, как капитан откашливается.
— Старпом, твои предложения? Траулер буксировать придется?
— Буксировать. Другого выхода нет. Ближайший порт Мапуту?
— Да. Вы там осторожнее. Доктора слушайся. Что-нибудь нужно?
— Трыков коньячку хочет.
— Ну, раз шутишь — значит, норма. Добро. Готовьтесь принять буксирный конец.
— Есть.
19
Ночь. Кленкин и Трыков сидят в каюте второго штурмана.
Монотонно журчит кондиционер. Мухамед дежурит в лазарете. В случае необходимости позовет. Старпом в рубке, на руле. Позже его сменит Трыков.
Каюта второго штурмана рядом с каютой капитана. Сквозь переборку слышится монотонный храп.
— В-вот дает, бродяга. У него бутылки, наверное, в сейфе стоят. Пока мы кувыркались, он еще одну высосал.
— Вы бы поспали, Семен. Скоро на вахту. А я к больным пойду.
— У-уснешь здесь, хрена два. Я вот все думаю, отчего эта сигуатера взялась? Ведь жрали они обычного окуня. Промысловая рыба. Ее все едят. И мы ели.
— В том-то и сложность. Промысловая рыба поедает ядовитый планктон, водоросли, яд накапливается в печени рыбы.
— Д-да планктон-то отчего вдруг ядовитым становится, мать честная?
— Экология нарушается. Всякие отходы в океан сбрасывают, мусор, контейнеры с радиоактивными веществами.
— В-вот, едрена корень, выходит, сами себе гадим. — Трыков вздохнул. — Теперь, значит, идем в Мапуту. При таком ходе около суток топать. Капитан к утру проспится?
— Проспится, если не начнет сначала.
— З-запил с перепугу. Доктор, а вы в Мапуту бывали?
— Нет.
— Красивый город. Музей там есть. Чучела животных, птиц, гадов. Да все так сделано, как в природе. Лев с буйволом дерется. Удав кролика ж-жрет. А подсветку сделают, магнитофон врубят — джунгли. Аж жутко. Обязательно сходите.
Мапуту… До Мапуту сутки хода, и всякое может случиться. Но главное — он разобрался и оказал помощь пострадавшим. А случай необычный.
Прислушиваясь к гудению кондиционера, Кленкин подумал, что такое же чувство удовлетворения он испытал там, у лесного озера, когда они с Робертом Круминьшем ликвидировали очаг водяной лихорадки.
Где сейчас Роберт? На Севере? В Ленинграде? Ушел в море, и переписка у них оборвалась.
Трыков включил транзистор. Сквозь шипение, треск и завывание эфира пробился мелодичный перебор курантов.
На противоположной стороне планеты сработал старинный механизм часов, и тягучие, рожденные бронзой удары, огибая земную окружность, звучали теперь здесь, за тысячи миль от Москвы, посреди тревожной тропической ночи.