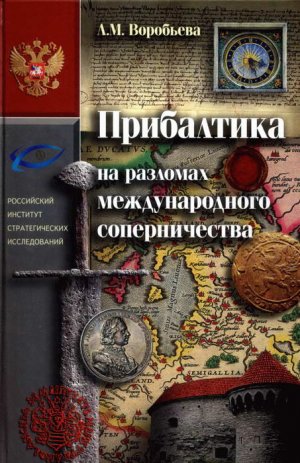
К читателю
Когда-то в далёкие времена Балтийское море называлось Венетским, т.е. Славянским или Славянолетским. По мере движения немцев на Восток славянские племена, селившиеся на Балтийском побережье, онемечивались. Об их прежнем существовании свидетельствуют лишь названия городов и рек современной ФРГ: Любек, Трава, Росток и т.д.
Восточное и северо-восточное побережье Балтики, где обосновались древние предки латышей и эстонцев, было исстари ареной жестоких столкновений мира германского (немцы, датчане, шведы) с миром славянским (поляки и русские). Никакими естественными границами этот Прибалтийский край не был отделён от коренных русских земель, земель полоцких, псковских, новгородских, и воспринимался на Руси как продолжение той огромной равнины, которая составляет русскую государственную область. К Балтике, к свободному выходу на простор океана, к торговым контактам с заморскими соседями были направлены вековые усилия русских князей и царей — Ярослава Мудрого, основавшего город Юрьев (теперь Тарту), Александра Невского, Иоаннов III и IV, Алексея Михайловича, Петра Великого и его преемников.
Потребовалось не одно столетие, прежде чем Россия отвоевала свою «дедину» и политически утвердилась на северо-восточных и восточных берегах Балтики. В борьбе за Балтику пролили свою кровь и усеяли своими костями балтийский берег представители многих поколений русских воинов. За это время одни соперники слабели (Дания, Ливонский орден) и покидали поле военного противоборства, другие, напротив, усиливались (Польша, Швеция), угрожая самому существованию русского государства.
Среди государей, поставивших на кон русского прорыва к Балтийскому морю все силы своей страны и своего народа, выделяются мощные фигуры первого русского царя Иоанна IV Грозного и первого русского императора Петра Великого. Первый царь фактически сложил основную территорию будущей империи, обеспечив сильной самодержавной властью её неделимость и определив Ливонской войной, несмотря на её несчастное окончание, стратегические интересы России на полтора столетия вперёд. Первый император, благоговевший перед Иоанном за его попытку взять под самодержавный скипетр балтийский берег, завершил дело своего предшественника длительной, но победоносной Северной войной и присоединением к России Эстляндии и Лифляндии, т.е. тех ливонских земель, за которые боролся Грозный, считая их искони принадлежащими русскому государству.
Но вот проходят двести лет со времени политического включения этих земель в состав Российской империи, и Россия снова теряет их. Почему это стало возможным? В чём причины? Сводятся они только к военному столкновению с германским миром в Первой мировой войне, предательству царя его генералитетом в чрезвычайной военной обстановке, к утрате Россией самодержавной власти как условия неделимости империи? Может быть, всё дело в лозунге права наций на самоопределение, который выдвинул Ленин в целях мобилизации национальных окраин на борьбу с самодержавием, или в «похабном» Брестском мире, при заключении которого большевики использовали исторические окраины России, включая Прибалтику, в качестве разменной монеты в сделке с германской военщиной? Или же роковую роль сыграло то обстоятельство, что советское правительство само первым признало независимость прибалтийских республик в надежде, что этот акт станет важным шагом к установлению дипломатических и торговых отношений с капиталистическим Западом в условиях краха иллюзий в отношении мировой революции?
А что же коренные народы, Прибалтийской окраины — эстонцы и латыши? Почему они не срослись с имперским цивилизаци-онным пространством так же крепко, как мордва, удмурты, мари, чуваши, казанские татары и другие народы? Почему так случилось, что к периоду тяжких испытаний империи мировой войной и революционной смутой надёжность государственного обладания Прибалтикой все ещё не была обеспечена племенными и духовными скрепами с внутренними российскими губерниями? Что предпринимало имперское правительство для интеграции местного прибалтийского населения в единую семью народов России и что мешало ему быть последовательным в решении этой задачи? Какую роль сыграл при этом германский фактор в своём внешнем и внутрироссийском проявлении? И, наконец, какое влияние оказала на менталитет, национальное самосознание и цивилизационную ориентацию местных народов многовековое международное соперничество за обладание небольшим и малонаселённым клочком земли на Балтике, игравшим, однако, далеко не маловажную роль в истории государств акватории Балтийского моря?
Все выше поставленные вопросы имеют принципиальное значение для исторического осмысления процессов, обусловивших отрыв Прибалтийского края от России.
Осмыслению этих процессов в проблемно-хронологической динамике и посвящена эта книга.
Под Прибалтийским краем в России понимали три губернии: Эстляндскую и Лифляндскую, присоединённых к России Петром I, и Курляндскую, включённую в состав Российской империи при Екатерине II. В данной работе исторические события и процессы рассматриваются применительно к Эстляндии и Северной Лифляндии, составившим территорию современной Эстонии. Основное внимание в меняющемся проблемно-историческом контексте уделено жизни и судьбе коренного населения этих областей — эстонцам. Но поскольку в Лифляндии (в её южной части, входящей в состав современной Латвии) селились и латыши, а исторические события затрагивали Лифляндию и её народы в целом, то действующими лицами данной книги выступают частично и латыши, когда речь заходит о наиболее важных периодах в жизни России и её прибалтийской окраины.
Содержание книги охватывает более восьми веков: от нашествия крестоносцев в Прибалтику и образования на её территории немецкой колонии — Ливонии до присоединения ливонских областей к России и, наконец, до признания советским правительством независимости Эстонской республики.
Анализ событий развёртывается вокруг военного, политического, цивилизационного соперничества Руси/России с северными и центральными державами за контроль Прибалтики с последующим перерастанием этого соперничества в противостояние германского протестантского и русского православного мира на территории Прибалтийского края.
Наиболее острый характер германо-российское противостояние примет в огне Первой мировой войны, подготовившей благоприятную почву для революционной смуты в обеих странах. С этого момента анализ строится в соответствии с проблематикой и логикой революции и Гражданской войны на территории бывшей Российской империи и в откалывающемся от неё Прибалтийском крае в результате Брестского мира, немецкой оккупации и вмешательства во внутренние дела России стран Антанты.
Если раньше эстонцы и латыши не были активными вершителями своей судьбы, за исключением волнений против господства прибалтийско-немецких баронов, движения в православие и наметившегося национального и гражданского самосознания под влиянием реформ Александра II, то теперь они решительно выходят на политическую сцену, становясь материальной силой двух противостоящих друг другу идейно-политических направлений: этнонационализма с программой собственного национального государства и социализма, предусматривающего выбор народов (в ходе реализации права на самоопределение) в пользу автономного вхождения в состав Советской России. Этим двум направлениям на балтийской окраине противостоит Белое движение в лице Северо-Западной армии под командованием генерала Н.Н. Юденича, безуспешно пытающееся воссоздать Единую и Неделимую Россию, несмотря на выбитый из-под неё в Феврале 1917 г. фундамент легитимной самодержавной власти. Эпилогом очередной исторической драмы, разыгравшейся на балтийском берегу при столкновении этих трёх сил, станет сделка советского правительства с представителями прагматичного эстонского этнонационализма: признание независимости Эстонии в границах, проходящих по линии фронта, в обмен на ликвидацию Северо-Западной армии, потерявшей в результате такого соглашения собственную территорию со штабом в Нарве.
Историческую судьбу Прибалтийского края и его населения автор пытался проследить не только в фактах и событиях, но и в лицах, сыгравших позитивную роль в многовековой общей истории России и её балтийской окраины. Это, конечно, Иоанн Грозный, способствовавший ликвидации Ливонского ордена и тем самым спасший эстонцев и латышей от повторения судьбы пруссов, попавших под власть немцев и от которых кроме их названия ничего не осталось. Это Пётр I, принесший мир и стабильность на балтийский берег. Это Екатерина Великая, своей унификаторской политикой расшатывавшая устои «особого остзейского порядка», так ненавидимого эстонцами и латышами. Это — Александр III, последовательно и решительно проводивший политику духовно-нравственного единения России с населением Прибалтики. Хотя политика русских государей на балтийском направлении была нередко противоречивой (ведь немцы входили в состав российской элиты), но имперская власть, следуя национальным интересам и требованиям времени, шаг за шагом стремилась ограничить корпоративные привилегии немецких баронов и улучшить положение коренного населения. В этой своей задаче она могла рассчитывать на поддержку и содействие (нередко работающие на опережение) своих подданных, принимавших близко к сердцу судьбу эстонцев и латышей, а также перспективы русского дела в Прибалтике. Среди них выделяются: эстляндский и лифляндский губернатор времён Екатерины II, ирландец по происхождению граф Юрий Юрьевич Броун, выдающийся мыслитель и один из идеологов русского славянофильства Юрий Фёдорович Самарин, предводитель лифляндского дворянства, ландрат Фридрих (или Фёдор Фёдорович) Сивере, председатель Рижской ревизионной комиссии, действительный статский советник Александр Иванович Арсеньев, преподаватели-публицисты Гартлиб Гельвиг Меркель и Иоганн Христоф Петри, прибалтийский генерал-губернатор Евгений Александрович Головин, эстляндский губернатор Сергей Владимирович Шаховской, православные епископы Иринарх и Филарет. Все они и их единомышленники появятся на страницах книги и заговорят в своих всеподданнейших донесениях, воспоминаниях, письмах, статьях и книгах.
Информационную базу книги составили исторические документы и материалы, а также монографии, сборники научных трудов, научные издания, научная и общественно-политическая периодика.
Особенно полезным и плодотворным было обращение к Сборнику материалов и статей по истории Прибалтийского края (Прибалтийский сборник) в четырех томах. Это издание появилось в 1876-1882 гг., в период реформ Александра II, и должно было, в восприятии общественности, способствовать решению остзейского вопроса в интересах русского дела на прибалтийской окраине и с учётом упований коренного населения. Сборник представляет собой богатое собрание важных исторических памятников и ценных исторических документов (немецких и русских), снабжённых переводчиками и комментаторами обстоятельными примечаниями и дополнениями на основании русских источников. Среди источников, столь же масштабных и уникальных, следует назвать фундаментальный труд Патриарха Алексия II «Православие в Эстонии», сборник документов и материалов «Имперская политика России в Прибалтике в начале XX в.», выпущенный в свет в 2000 г. Национальным архивом Эстонии и Институтом истории (составитель Тоомас Карьяхярм), и сборник «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев» в пяти томах (М.; Л., 1926,1927).
В процессе толкования фактов, оценок, подходов, представленных в документах, а также в работах российских и зарубежных учёных (преимущественно немецких) автор опирался на опыт научных исследований, накопленный в Российском институте стратегических исследований и нашедший, в частности, отражение в книжной серии РИСИ, журнале РИСИ «Проблемы национальной стратегии», научных конференциях и «круглых столах», проводимых в РИСИ.
Если читатель расширит свой исторический кругозор и станет более критично относиться к несправедливым наветам на исторический облик России и если эта книга поможет осмыслить сегодняшние тревожные процессы в Российской Федерации, то автор будет считать свою задачу выполненной.
Автор благодарит за помощь и поддержку в реализации этого проекта:
директора РИСИ Леонида Петровича Решетникова,
руководителя Центра гуманитарных исследований РИСИ Михаила Борисовича Смолина,
эксперта Отдела информационного обеспечения РИСИ Ольгу Сергеевну Ванькову.
Глава I.
Как немцы и датчане покоряли Прибалтику
I.1. Древние эстонцы и их соседи до нашествия крестоносцев
Глубок колодец прошлого{1}. Сколько бы ни обращался пытливый взор исследователя в тьму утонувшего в нём времени, он никогда не достигнет дна колодца, а только выйдет на новые глубины, за которыми снова и снова будут открываться новые уровни неизведанного. Поэтому при изучении страны и её народа обычно начинают с какой-то доступной отправной точки, когда можно опереться на археологические данные, дошедшие до нас предания, летописи, хроники.
Обращение к истории Прибалтики и её населения, в частности к прошлому эстонского народа, если начать с незапамятных времён, неизбежно приведёт в район бассейна Волги и Камы, а также в Приуралье. Согласно данным языковедов, археологов и антропологов, именно здесь изначально обитали предки современных финноугорских народов (финны, эстонцы, карелы, вепсы, марийцы, мордва, коми, удмурты, ханты, манси, венгры). Отсюда они расселились на более обширные территории и проникли также в Прибалтику, где поглотили крайне редкое туземное население.
До нашествия крестоносцев (XII в.) ни одно из племён, населявших территорию современных Эстонии и Латвии, не соединялось в государственное целое. В то же время о наметившемся процессе сложения единой эстонской территории свидетельствуют письменные источники XII — XIII вв. Так, в «Хронике Ливонии» Генриха Латышского население Эстонии фигурирует под собирательным именем «эсты», а в древнерусских летописях носит название «чудь»[1]. Соответственно в западных источниках земли, заселённые древними эстонцами, всё чаще объединяются под одним общим названием «Эстония», а в древнерусских — «Чудская земля».
Такой обобщающий взгляд соседей на заселённую предками эстонцев часть Прибалтики, конечно, не отменяет существовавших в реальности различий среди эстонских племён, которые хотя к началу XIII в. и достигли, по приблизительным подсчётам, 150 — 200 тыс. человек, но ещё не стали единым этносом и не обрели единой территории. «Эстония», или «Чудская земля», представляла собой рыхлую совокупность восьми отдельных маакондов (или земель). Они назывались: Уганда, Сакала, Ярвамаа, Вирумаа, Рявала, Харьюмаа, Ляэнемааа и Сааремаа. Мааконды распадались на более мелкие территориальные единицы — кихельконды. Территориальное размежевание определяло и особенности этнической дифференциации среди эстонцев. Они смотрели на себя и друг на друга прежде всего как на угандийцев, ярвамасцев, харьюмасцев, сааремаасцев и т.д. Во главе кихелькондов и маакондов стояли старшины, осуществлявшие управленческую функцию. Они же были предводителями на войне. Постоянного войска не было. Его заменяло народное ополчение, или «малеве». Ополчение состояло из пехоты и всадников и иногда делилось на три отряда: на главный корпус и два крыла. Конница обладала лучшим и более ценным вооружением и получала значительную часть военной добычи.
В отсутствие законов и сформировавшегося образа правления выбор старшин был очень произволен. Наследственного права у них не было. Скорее мужество и ум определяли выбор. Для решения важных дел собирались народные сходы.
Национальный характер древних эстонцев русские летописцы определяли в сравнении с другим прибалтийским племенем — латышами[2]. Так, эстонцы, по словам летописцев, были свирепее, но вместе с тем сильнее и мужественнее, чем латыши, и более способны к сопротивлению. Исследователи более позднего времени (XIX в.) находили, что эстонцы лукавы, коварны и злопамятны. У латышей же выделялись такие качества, как большее миролюбие, добродушие и кротость. В то же время если латыш, как отмечалось, менее постоянен и менее обязателен, то эстонец обычно верен своему слову, а также раз возникшим симпатиям и антипатиям. В XIX в. эстонцев, как и латышей, упрекали в лености и сонливости (мнение немецких помещиков), обращали внимание на их ограниченность и недостаток живости ума{2}. Конечно, эти качества были следствием национального порабощения этих этносов и имели преходящий характер.
Что касается внешнего вида, то латыши, как и родственные им литовцы и древние пруссы, были среднего роста, отличались свежим цветом лица, у них были светлые глаза и светлые волосы. Эстонцы, как и другие угрофинские народы, имели более смуглый оттенок кожи, носили длинные волосы, которые были обычно льняного цвета. У многих эстонцев глаза были светлые, но тёмные считались более красивыми.
Латыши жили отдельными дворами. Эстонцы — в больших многолюдных деревнях, что облегчало им защиту от неприятеля. Их построенные из дерева дома были без печей и окон, так как ни эстонцы, ни латыши не знали стекла. Защитой от неприятеля служили так называемые замки. Они строились в местах, где сама природа обеспечивала относительную безопасность: возвышенность, болотистые окрестности и т.д. Замки были окружены сначала глубоким рвом, а затем земляным валом или дощатой стеной, или валом, сооружённым из земли и дерева. В Эстонии было много камня, и потому валы часто строились из булыжника. Во время осад замков неприятель стремился подкопать валы или поджечь деревянные укрепления.
Своей железной руды в Эстонии не было. Железо получали из Новгорода и выделывали из него плуги, топоры, косы, ножи, оружие и т.д.
Основным оружием эстонцев были мечи и копья. В бою копья бросали с такой силой, что не выдерживали щиты. Жители острова Сааремаа и прибрежные эстонцы занимались мореплаванием и потому знали кораблестроение и владели мастерством изготовления канатов. За считаные дни они могли составить флот из нескольких сот разбойничьих судов. Благодаря обширным и глухим лесам недостатка в строительном материале не было.
Эстонцы и латыши занимались охотой, рыбной ловлей, скотоводством, земледелием. Хлеба для местного потребления хватало, за исключением неурожайных лет, когда требовался привоз из других мест. Оба народа занимались пчеловодством и пили мёд.
Занятия ремёслами сводились к изготовлению одежды, оружия и утвари для собственного потребления. Одежду шили из овечьих и звериных шкур и грубой шерстяной материи, светлого цвета у латышей и тёмного у эстонцев. Несколько веков спустя на эти различия в цветовых пристрастиях обратил внимание Н.М. Карамзин в письме из Риги от 31 мая 1789 г.: эстляндцы носили чёрные кафтаны, а лифляндцы — серые{3}.
В рассматриваемый период нравы туземного населения Прибалтики были очень грубы. Племена, населявшие Прибалтику (ливы, земгалы, латгалы, курши, литовцы, эстонцы), постоянно враждовали, совершали друг на друга внезапные и непрерывные набеги с целью грабежа. На войне мужчин убивали, а женщин и детей брали в плен. Широко было распространено многоженство. Это станет препятствием быстрому утверждению христианства. Невест или покупали, или похищали с оружием в руках. Если жених подходил, за ним охотно следовали, и тогда похищение носило ритуальный, мнимый характер. Привоз жены отмечался возлияниями (обычно пили пиво) и угощением. Если жених не нравился, родственники и друзья девушки, узнав о предстоящем похищении, готовились к сопротивлению, и тогда завязывались серьёзные схватки.
У всех народов Прибалтики мёртвых сжигали со всем оружием (нередко с конём) при громком оплакивании покойника и последующей попойке. В отличие от славян и германцев пепел в урны не собирали. Поздней осенью по покойникам совершалась тризна. Этот обычай сохранялся ещё многие столетия после введения христианства.
Древние эстонцы, как и другие прибалтийские племена, до нашествия крестоносцев были язычниками. Они боготворили солнце, луну, звёзды, море, лес, змей, животных (особенно медведя), птиц, камни, чурбаны. Значительно распространены были гадания и вера в колдовство. Существовало и своего рода уголовное право, по которому наказывали колдунов, если считалось, что они приносят слишком много вреда. Распознавали колдунов, обвиняемых в злодеяниях, следующим образом: им связывали крестообразно руки и ноги у большого пальца и затем бросали их в воду; кто сразу шёл ко дну, считался невиновным, кто плавал на воде, как солома, был виноват. Это испытание долго сохранялось у эстонцев, так что летописец Франц Ниенштедт, живший в XVI в., имел возможность наблюдать, как одни при таких испытаниях действительно тонули, а другие плавали. Если же возникал спор о границах земельных владений, он разрешался в пользу того, кто считался старшинами вправе владеть землёй по совести. При испытании чистой совести владелец должен был взять обеими руками раскалённое докрасна железо и пронести его на семь шагов через границу, на которой он настаивал.
Таким образом он подтверждал свою границу и ставил на ней пограничный камень{4}.
По сравнению со своими соседями эстонцы и латыши были более молодыми этносами и потому отставали от своего внешнего окружения в политическом, экономическом, военном и культурном отношении. Занимая важное стратегическое положение на Балтике, они неминуемо становились объектом контроля и поглощения более сильными народами, стремившимися к территориальным приращениям и обогащению.
В X в. важным соседом эстонцев было Древнерусское государство с центром в Киеве — самое крупное в Европе по своим размерам и важный культурно-политический центр. Древнерусская начальная летопись упоминает среди народов, плативших дань Руси, на первом месте чудь — эстонцев. В то время дань была основной формой феодальной повинности на Руси. Русские князья ограничивались требованиями дани и не вмешивались в местные дела эстонцев, не навязывали им своего уклада жизни и своей религии, как это впоследствии делали западные феодалы.
Через Эстонию пролегал важный торговый путь из древнерусских земель к Балтийскому морю. Поэтому судьба этой транзитной территории не была безразлична для русских князей. В ходе укрепления своей власти на окраинах (конец X — начало XI в.) они, естественно, обратили свои взоры к Чудской земле. В 1030 г. Ярослав Мудрый предпринял поход на эту землю и заложил на месте Тартуского городища крепость, назвав её по своему христианскому имени — Юрьевом. Здесь был оставлен военный отряд для обеспечения власти Древнерусского государства над окрестными землями.
К востоку от территории Эстонии простиралась Новгородская земля, в том числе владения Пскова, зависимого от Новгорода. Начиная с X в. эстонцы поддерживали с Новгородом и Псковом тесные политические и экономические связи.
С моря на восточное побережье Балтийского моря наседали скандинавы (в древних русских источниках их называли варягами) с целью подчинения местного населения и обложения его данью. Их пиратские набеги, впервые упоминавшиеся в VII в., особенно участились с IX в., но в X в. по мере укрепления Древней Руси стали ослабевать. Однако, начиная с XII в., когда Русь вступила в период феодальной раздробленности и стала утрачивать завоёванные позиции на окраинах, этот геополитический вакуум подвергается очередному натиску скандинавов, объединивших к этому времени свои земли в крупные государства. На этот раз скандинавы не только стремятся к сбору дани, но и преследуют цель феодальных захватов. Дания, сильнейшее из скандинавских государств, предпринимает попытки покорить эстонцев военной силой. Но они терпят провал. Тем не менее в XII в. датские короли принимают титул герцогов эстляндских. А их военные акции выступают прологом той жестокой агрессии, которая обрушилась с запада и северо-запада на прибалтийские народы в XIII в.
I.2. Немецкие купцы открывают путь в Прибалтику
У истоков агрессии и феодальных захватов в Прибалтике стояли немецкие купцы. Промежуточным опорным пунктом на пути в Прибалтику был Висби, основанный в VIII в. на острове Готланд (Швеция). Сюда в XI и XII вв. прибыло много немецких купцов, численность которых скоро достигла 10-12 тыс. человек. Кроме них на острове временно проживали русские, греки, датчане, венды, пруссы, поляки, евреи, ливы, эстонцы. Именно здесь сформировалось морское и торговое право, оказавшее влияние на право Любека и прибалтийских земель (т.е. земель, простиравшихся от реки Вислы до Финского залива и населённых раздробленными и относительно слабыми племенами: пруссами, литовцами, куршами, земгалами, латгалами, ливами и эстонцами). С одной стороны, торговля из Висби направлялась к немецким городам Любеку и Кёльну, а также к Англии, с другой же — к Прибалтике и Новгороду. Уже в 1142 г. в Новгороде поселились немецкие купцы.
Германской колонизации прибалтийских земель предшествовало покорение немцами стран и городов, преграждавших им путь на восток. Речь, в частности, идёт о падении Вендского королевства в Северной Германии (1126 г.), большого славянского города Юлина (1130 г.), построении Нового Любека (1143). Затем была подчинена, обращена в христианство и германизирована вся славянская северная Германия. На завоёванных территориях были построены немецкие приморские города, которые вскоре завладели торговлей на Балтийском море[3].
Именно купцы из Любека, узнавшие о существовавших уже сношениях между Висби и острова Сааремаа, приблизительно весной 1163 г. первыми прибыли к устью Западной Двины, проплыли вверх по её течению и вступили с местными жителями в меновую торговлю. Вернувшись осенью (до наступления штормов) в Северную Германию, купцы привезли с собой известие об открытой ими земле и её населении{5}.
Эти места были заселены ливами и подчинялись Полоцкому княжеству. Следует сказать, что внутренние междоусобицы, последовавшие на Руси после смерти великого князя Ярослава Владимировича (Мудрого), хотя и тормозили выход русских к Балтийскому морю, способствуя успехам датчан, а потом немцев, всё же не остановили совсем походы на прибалтийские земли со стороны удельных княжеств Новгорода и Пскова, а также из княжества Полоцкого. Они имело место в 1130, 1191, 1192, 1132 гг. и заканчивались взятием эстонского поселения Одепне (Медвежья Голова) и города Юрьева. С учреждением укреплённых постов (таких, как Герцике и Кокенойс) на Западной Двине владычество здесь русских было более твёрдо, чем над эстонцами, и распространялось вдоль всей Западной Двины (археологи нашли здесь камни с именами полоцких князей). Предания о господстве русских на Западной Двине сохранялись на протяжении столетий и дали повод к завоеваниям царя Иоанна Васильевича (Грозного) во второй половине XVI столетия и утверждениям его дипломатов о продолжавшейся (но никогда не исполнявшейся) обязанности всей Ливонии платить дань Московскому государству.
В 1180 г., когда вместе с купцами на немецких купеческих кораблях к устью Западной Двины двинулись монахи, Полоцком правил князь Владимир. Бременский каноник Мейнгард, начинатель обращения языческих племён в христианство, попросил у него разрешения осуществлять свою миссионерскую деятельность среди ливов. Владимир легко согласился. Впоследствии по названию этого племени, которое самым первым стало жертвой вторжения крестоносцев, все позднее захваченные немцами прибалтийские земли (территория современных Латвии и Эстонии) получат название Ливония (по латыни — Livonia, по-немецки — Livland)[4].
Планы обращения в христианство языческих племён Прибалтики получили поддержку главы католической Церкви — папы Римского. Покорение этих племён он связывал с дальнейшим увеличением числа данников и созданием новых церковно-феодальных владений. Кроме того, прибалтийские земли рассматривались в качестве будущего плацдарма наступления на Русь с целью подчинения Русской Православной Церкви папскому престолу.
Мейнгарт пришёл на землю ливов только с крестом и стремился обратить их в христианство путём убеждения, а также подкупа, в частности в обмен на строительство каменных укреплений.
В условиях межплеменной вражды, сопровождавшейся почти непрерывной борьбой всех против всех, от этого предложения трудно было отказаться. Но ливы обманули Мейнгарда. После того как прибывшие из Готланда каменщики построили замок и церковь, крещёные ливы снова вернулись в язычество. И так происходило неоднократно. Ливы не желали подчиняться непрошеным пришельцам, принимать христианство и превращаться в данников Церкви.
Хотя деятельность Мейнгарда приносила мало плодов, он как первопроходец был произведён в сан епископа и получил от папы увещание продолжить начатое дело. Вскоре миссия Мейнгарда по созданию опорных пунктов религиозной и территориальной экспансии была облегчена тем обстоятельством, что немецкие купцы начали оставаться в низовьях Западной Двины на зиму.
Преемник Мейнгарда аббат Бертольд (также родом из Бремена), получивший епископский сан перед своей отправкой в Ливонию (весна 1197 г.), не обнаружил у ливов, принявших крещение, верности христианству. Более того, ему не удалось путём убеждений и проповеди достичь каких-либо результатов. Тогда обращение языческих племён в христианство с помощью торговли и креста было дополнено мечом. Начался период крестовых походов и завоевания Прибалтики, который подробно описан в рифмованной хронике Генриха Латышского.
I.3. Подготовка и организация крестовых походов
Зимой 1197 г., заручившись буллой папы, епископ Бертольд объехал Нижнюю Саксонию, Вестфалию и Фрисландию с проповедью крестовых походов. Весной 1198 г. он возвратился в Ливонию с ополчением крестолюбивых воинов и 24 июня 1198 г. дал сражение на том месте, где впоследствии возникла Рига. Немцы победили, но епископ Бертольд погиб, став первым мучеником зарождавшейся лифляндской Церкви.
Покорение и колонизацию прибалтийских земель с помощью креста и меча продолжил умный, настойчивый и энергичный Альберт. Он был третьим ливонским епископом, который происходил из Бремена[5]. Впервые к берегам Западной Двины он прибыл в апреле 1200 г. на 23 кораблях, на которых находились крестолюбивые воины. Прежде всего он заключил договор с ливами, по которому они обязались не препятствовать его деятельности. Затем, в 1201 г. на речке Риге, рукаве Западной Двины, Альберт определил место для рынка, из которого скоро вырос город Рига — светский, духовный и военный опорный пункт немцев по подчинению Прибалтики
В течение тридцати лет Альберт являлся непосредственным организатором военного подавления ливов, земгалов, леттов, эстонцев. Он совершил 15 поездок из Германии в Ливонию и обратно, обеспечивая приток в Прибалтику крестоносцев и пилигримов (странствующих богомольцев).
Епископ Альберт взял на вооружение те же идеи, которые вызвали крестовые походы в Палестину, и применил их к новой ситуации, т.е. стал проповедовать крестовый поход не только против магометан, но и против язычников. Эта инициатива была поддержана папой Иннокентием III, который провозгласил равнозначность для отпущения грехов и искупления вины христианизацию язычников в Ливонии с походом в Азию для освобождения от неверных Святой Земли и Иерусалима. Это нововведение обеспечило устойчивый приток немецких пришельцев, которые являлись в Ливонию не только для помощи епископу, но и потому, что предпочитали войну с язычниками на берегах Западной Двины опасному походу в Азию. Другими побудительными причинами были погоня за лёгкой наживой и приключениями, что объясняет пополнение рядов крестоносцев значительным числом авантюристов.
Примечательно, что на призыв папы откликнулись не только рыцари и пилигримы, но также купцы и ремесленники. Немецкие купцы предоставляли деньги и корабли, а также принимали непосредственное участие в борьбе с язычниками с оружием в руках. Только немецкие крестьяне, избегавшие путешествия морем (тогда и ещё долгое время спустя добраться в Ливонию из Германии можно было только морем), остались в стороне и не приняли участия в колонизации Прибалтики. Таким образом, если общее германское движение (по суше) на восток осуществлялось с помощью торговли, креста, меча и плуга, то в случае с Прибалтикой плуг изначально отсутствовал. В дальнейшем это имело роковые последствия для немецкого присутствия в регионе, поскольку немцы хотя и обрели здесь господствующее положение, но всегда оставались в меньшинстве по сравнению с местным населением.
На первых порах большинство крестоносцев давали обет лишь на один год и по истечении его покидали Ливонию с захваченной добычей. Их прибытие и убытие не поддавались регулированию. Епископ Альберт хорошо понимал, что при таком волнообразном и неупорядоченном притоке и оттоке пришлого элемента невозможно удержать приобретавшиеся земли новокрещённых ливонских туземцев перед лицом серьёзных угроз: сопротивление покорённого населения, неминуемые столкновения с русскими, опустошительные вторжения литовцев. Поэтому учреждение постоянного войска, строительство укреплённых городов и привлечение в новокрещённую землю постоянного, оседлого и надёжного немецкого населения составило основную задачу Альберта. И с ней он в значительной степени успешно справился.
I.4. Орден меченосцев: назначение, структура, члены
В 1202 г. с разрешения папы Иннокентия III последовало учреждение нового рыцарского ордена, названного орденом братьев войска Христова (fratres militiae Christi) или меченосцев (gladiferi, ensiferi, Schwertbruder){6}. Особою буллою папа предписал новому ордену принять одежду и устав рыцарей Храма (тамплиеров). Правда, вместо одного красного креста (как у тамплиеров), новые рыцари должны были на белой мантии носить изображение красного меча под малым крестом также красного цвета. Этою же буллою новому ордену предписывалось признавать над собой верховную власть рижского епископа, т.е. Альберта. Епископ Альберт назначил рыцаря Вино Рорбахского (фон Рорбаха) магистром нового ордена и определил на содержание рыцарства третью часть земель, как уже завоёванных к 1202 г., так и тех, что планировалось покорить впоследствии. Эта треть уступалась ордену (в духе того времени) в виде лена. Остальные две трети имеющихся земель и будущих приобретений должны были принадлежать церкви, т.е. епископу.
Миссия ордена состояла в охране и защите учреждённых в Ливонии христианских церквей, а также в покорении и обращении в христианство её врагов. В соответствии с этими задачами орден выполнял воинскую и религиозную функции. Члены-братья ордена делились на три разряда: братья-рыцари, братья-священнослужители и братья-служащие.
Братья-рыцари, или орденские рыцари, принадлежали к элите ордена. Из них одних избирались высшие орденские сановники. Поскольку орден не был уполномочен жаловать звание рыцаря, принимаемый должен был снискать это звание заранее. При приёме в орден претендент должен был клятвенно заверить: 1) что он происходит из рыцарского рода (исключение делалось для бюргерских детей, преимущественно из Бремена и Любека); 2) что он рождён в законном браке; 3) что он не женат; 4) что он не принадлежит ни к какому другому ордену; 5) что у него нет долгов; 6) что он здоров и не заражён никакою скрытою болезнью; 7) что он никому из членов ордена не сделал и не обещал подарка, чтобы при его посредничестве сделаться членом ордена. После прохождения этой процедуры кандидат давал обязательные для всех духовных и рыцарских орденов обеты: послушания, целомудрия, бедности[6]. Эти три обета дополнялись у ордена меченосцев четвёртым: посвящать всю свою жизнь борьбе с неверными. Затем в торжественной обстановке в собранном капитуле кандидата принимали в орден. Сам магистр возлагал на него плащ брата рыцарей и перепоясывал шнурком. Каждый брат-рыцарь получал от ордена полное вооружение со всеми принадлежностями: щитом, мечом, копьём и палицей. В его распоряжении были три лошади и оруженосец.
Приём в разряд братьев-священников осуществлялся почти на тех же условиях, что и в разряд братьев-рыцарей. Только от кандидата не требовалось рыцарского происхождения, зато он должен был заранее принять духовный сан. Среди обетов опускался четвёртый: о борьбе с неверными. Торжественному посвящению предшествовало чтение соответствующих псалмов. Братья-священники имели право только на стол и одежду от ордена; носили узкий застёгнутый белый кафтан с красным крестом на груди и брили бороду. Они пользовались особым почётом. Исповедоваться и получать отпущение грехов можно было только у них и ни у кого другого. Они сидели за столом рядом с магистром, и им прислуживали первым. Братья-священники исполняли свою должность в орденских замках и домах, сопровождали членов ордена в походах. В церкви, находившиеся в орденских областях, они назначали клириков, которые не являлись орденскими братьями.
Кандидаты в корпус служащих братьев ордена меченосцев давали те же клятвенные заверения, что и рыцари, и священники. Низкий статус служащих братьев был несовместим с высоким званием рыцаря, и потому приём рыцарей в этот разряд братьев исключался. Принимавшийся в служащие должен был удостоверить, что он не является ничьим слугой или рабом, и должен был поклясться в верности ордену. В зависимости от выполнявшихся функций служащие подразделялись на братьев-оруженосцев (к ним принадлежали часто упоминавшиеся в хронике Генриха Латышского стрелки и арбалетчики) и братьев-ремесленников (кузнецы, повара, пекари, домашняя прислуга). У каждого служащего была в распоряжении лошадь, а у братьев-оруженосцев — ещё и лёгкое вооружение.
Согласно орденскому уставу братья должны были жить в мире друг с другом, но также смотреть друг за другом. Если кто заметит за другим ошибку в поведении, то должен был укорить его в ней. Если это не помогало, то после повторных увещеваний (до трёх раз) в присутствии третьего брата вопрос выносился на собрание конвента. Старых и слабых братьев следовало почитать, уважать и содержать их менее строго, насколько это позволял устав. За больными братьями следовало старательно ухаживать в особых больничных комнатах; только магистр в случае болезни мог оставаться в своей комнате.
Все братья жили под одной крышей в замках ордена, ели за общим столом, носили простую, из грубой ткани одежду, спали на такой же простой постели. Бороду стригли коротко. Поношенные платья, после того как они заменялись новыми из запасов ордена, отдавались братьям низшего разряда или бедным. Точно так же поступали и с военным снаряжением. По обету бедности братья были ограничены в удовольствиях. Устав запрещал охоту с хищными птицами.
I.5. Привлечение в Ливонию светских колонистов. Покорение ливов
Учреждение постоянной военной силы в виде ордена меченосцев осуществлялось с одновременным привлечением в Ливонию оседлого немецкого населения. Уже в 1202 г. в Ригу прибыл сводный брат Альберта монах Энгельберт фон Аппельдерн в сопровождении светских колонистов. Чтобы немецкому купцу, ремесленнику и вообще горожанину было из-за чего покидать свою родину и переселяться в неведомую страну, городу Риге были предоставлены значительные права и привилегии. А чтобы удерживать переселенцев по возможности в большом количестве от возвращения на родину, Альберт начал раздавать наиболее влиятельным и родовитым немцам, преимущественно рыцарям, завоёванные земли, но не иначе как на ленном праве и с обязанностью нести военную службу. Ленник, или вассал, получал право собирать со своих крестьян подати и за это, в случае надобности, был обязан являться на войну со своим оружием и в сопровождении определённого количества людей. Вот из этих-то пришельцев, получивших от епископа в ленное владение некоторые ливонские земли, и образовалось впоследствии сословие лифляндских вассалов, родоначальников лифляндских и курляндских дворян. Из них же формировалось и епископское войско.
Преследуя свои цели, немцы умело пользовались межплеменными распрями и всячески разжигали их. Особое значение придавалось нейтрализации местной верхушки с помощью всевозможных обещаний или даже убийств. В ряде местностей немцам удалось привлечь на свою сторону старейшин ливов и латгалов, которые надеялись на путях сотрудничества с непрошеными «железными рыцарями» укрепить свою власть над соплеменниками и нажиться на ограблении соседей. Силы завоевателей увеличивались по мере христианизации местного населения. Новокрещён-ные мужчины под угрозой страшных кар привлекались к участию в военных походах против сопротивлявшихся язычников и плечом к плечу с немцами продвигались вперёд, покоряя прибалтийские земли для немецких епископов и орденских рыцарей.
Ордену и епископскому войску пришлось бороться не только с местным населением — ливами и латгалами, но и с полоцким князем, который контролировал земли этих племён и собирал с них дань. Поскольку епископ и орден вывели из-под власти князя его данников, а сами обложили население более обременительными податями и стали насильно обращать его в христианство, полоцкий князь и местные племена стали естественными союзниками против немцев. Полоцкий князь со своим войском неоднократно предпринимал осаду немецких крепостей. В борьбе с крестоносцами особенно отличился зависимый от Полоцка кокнесский князь Вячко.
Сопротивление немцам оказывали и литовцы, хотя их земли ещё не были затронуты вторжением крестоносцев. Одновременно они продолжали осуществлять набеги на Полоцкое княжество и других соседей.
В конце 1206 г. ливы были покорены. В апреле 1207 г. епископ Альберт прибыл ко двору короля Филиппа и объявил ему о завоевании Ливонии для Священной Римской империи немецкой нации. Ливонию Альберт получил от короля обратно в виде лена и стал таким образом имперским князем. В 1208 г. князь Вячко сжёг свой замок и ушёл с дружиной на Русь, чтобы оттуда продолжить борьбу с немецкими завоевателями.
I.6. Упорное сопротивление эстонских племён натиску крестоносцев. Становление военного союза с Новгородом и Псковом
После покорения ливов крестоносцы двинули свои силы на завоевание эстонских земель, но встретили неожиданно упорное сопротивление. Борьба шла с переменным успехом. Несмотря на более передовое вооружение и постоянный приток в орденские и епископские войска всё новых и новых пополнений из германских земель, немцы не смогли одержать быстрых и убедительных побед. Сила была на стороне немцев, но эстонцам, благодаря присущей им воле к сопротивлению, удавалось довольно долго сдерживать натиск агрессоров. Например, победой на реке Юмера над орденскими войсками (1210 г.) и шестидневной обороной крепости Вильянди, закончившейся перемирием (1211 г.), эстонцы до того напугали рижских купцов, что они не отважились предпринять весной свои обычные торговые поездки в Псков и Новгород через юго-восточную Эстонию. Предпринятая зимой 1216 г. попытка овладеть через замёрзшие проливы островом Сааремаа окончилась неудачей: немцы были разбиты сааремааским ополчением и обращены в бегство. При этом многие закованные в броню рыцари, вынужденные спасаться стремительным бегством, валились замертво от изнеможения.
И всё же немцы шаг за шагом продвигались вперёд. Они оставляли после себя разграбленные и выжженные дотла деревни, обезлюдившие местности. Жестокость с обеих сторон была возмутительной. На войне по примеру туземцев немецкие рыцари убивали мужчин, а женщин и детей брали в плен. Насильственное обращение язычников в христианство вызывало среди прибалтийских племён такую духовную ломку, что она оборачивалась всплеском адской жестокости не только в отношении священников, но и собственных земляков, принявших христианскую веру. Так, в 1206 г. многих ливов-христиан их же земляки разорвали на части. В другой раз взятых в плен немцев, ливов и латгалов эстонцы-язычники частью зажарили живыми, частью распяли. В общем, борьба шла не на жизнь, а на смерть. И речь нередко шла о смерти мученической как на одной, так и на другой стороне.
В 1215—1216 гг. крестоносцам удалось подчинить своей власти ряд эстонских земель: Уганди, Сакала, Соонтага. В городище Отепя (земля Уганди) немцы создали свой первый на эстонской территории укреплённый опорный пункт. Помимо принятия христианства и уплаты церковной десятины жители Уганди были обязаны строить укрепления и нести воинскую повинность. В начале 1217 г. их ополчение уже участвовало в набегах епископского и орденского войска как на эстонские земли, так и на русскую территорию. То есть, Уганди стала первой эстонской землёй, жители которой встали в ряды крестоносцев, как это прежде сделали ливы и латгалы.
Эстонцы начали понимать, что только собственными силами, без союза с Новгородом и Псковом, им не одолеть «железных рыцарей». К этому времени произошли и существенные изменения в западной политике Новгорода и Пскова. Первоначально политика Новгорода в восточной Эстонии сводилась к мерам подтверждения своей власти (военные походы и сбор дани в 1209 и 1210 гг.). Чтобы создать политические трудности на пути продвижения крестоносцев, избравших в качестве предлога своей экспансии обращение язычников в христианство, русские князья и бояре также стали крестить население в тех местах, где собирали дань. Такая политика на первом этапе войны препятствовала развитию военно-политического сотрудничества между эстонскими землями и Новгородом и Псковом.
Объединению сил местного населения с русскими всячески препятствовали и немцы. Так, чтобы нейтрализовать князя Полоцкого, епископ и орден признали за ним право собирать дань с ливов, живших по Западной Двине. Кроме того, они пытались привлечь на свою сторону псковских бояр и купцов, используя их заинтересованность в торговле с Ригой. Епископу Альберту удалось даже через своего брата породниться с псковским князем Владимиром и удержать его на время от выступления против немцев. За политику, ущемляющую интересы Руси, Владимир был временно изгнан из Пскова.
Когда же епископские и орденские войска подчинили своей власти южную Эстонию и оттуда стали совершать набеги на новгородскую землю, Новгород и Псков активно включились в борьбу эстонцев с агрессорами. Осада и победоносный штурм немецкого укреплённого пункта Отепя, осуществлённые в феврале 1217 г. совместными усилиями новгородцев, псковичей и эстонцев (в том числе и крещёных), показали целесообразность и эффективность русско-эстонского военного сотрудничества. Немцы были выбиты не только из Отепя, но и потеряли власть над прежде завоёванными землями (Сакала, Соонтага и Ярва).
Епископ Альберт, чтобы не потерять своих завоеваний, был вынужден поспешить в Германию за новым подкреплением. Летом того же года в Ливонию прибыло большое число крестоносцев.
В ответ старейшина земли Сакала Лембиту бросил боевой клич по всей Эстонии, и к нему стали стекаться тысячи воинов. Кроме того, с богатыми дарами (в традициях того времени) эстонцы отправились в Новгород и получили обещание новгородского князя Святослава прийти к ним на помощь с большим войском.
Епископ и орден, чтобы опередить прибытие русских войск, выступили первыми и 21 сентября 1217 г. на подступах к Вильянди одержали победу. Лембиту пал в бою, а его отрубленную голову немцы увезли с собой в Ригу.
И всё же немцы чувствовали себя неуверенно на эстонской земле. На завоёванные ими территории эстонцы продолжали вторгаться и с суши, и с моря (с острова Сааремаа). Более того, самое активное участие в противодействии немецким территориальным захватам стали принимать и русские войска. Так, в 1218 г. новгородцы и псковичи дали сражение крестоносцам на берегу Вяйке-Эмайыги и вынудили войска епископа и ордена к отступлению.
К 1219 г. епископ Альберт, неуклонно покоряя земли прибалтийских племён и отражая нападения русских, распространил свои владения до северной Эстонии и Финского залива. Однако здесь он встретил со стороны эстонцев сопротивление столь сильное, что был вынужден привлечь военного союзника. Таким союзником стала Дания, в ту пору сильное государство, владения которого простирались до северной Германии (включая Любекскую гавань) и южной Швеции.
I.7. Немецкие и датские войска берут эстонские земли с юга и севера в клещи и побеждают
Воинственный датский король Вальдемар II ответил согласием на приглашение Альберта к совместным завоеваниям и летом 1219 г. во главе большого войска высадился на эстонский берег. Теперь с крестом и мечом на эстонцев наступали, с одной стороны, немцы а, с другой — датчане. При дележе захваченных земель и распределении сфер влияния между «союзниками» происходили постоянные стычки. Поскольку крещение являлось фактически признаком покорения соответствующих территорий, немцы и датчане ссорились между собой за право крещения местного населения. Нередко дело доходило до того, что датские завоеватели крестили заново уже окрещённых немцами эстонцев. Чтобы ослабить сопротивление коренного населения, завоеватели делали ставку на политическую раздробленность эстонской территории и натравливали старейшин и жителей земель друг на друга. В конечном итоге Вальдемар II овладел северной Эстонией. К 1220 г. вся материковая часть Эстонии была покорена захватчиками.
В 1222 г. настала очередь о. Сааремаа, являвшегося объектом давних стратегических устремлений датчан. Этот остров они рассматривали как важный опорный пункт для укрепления власти над всей северной Эстонией, а также для контроля торговли с русскими княжествами, которая велась по Западной Двине и через Эстонию. В 1222 г. Вальдемар II с большим войском высадился на острове и после победоносного сражения с сааремаасцами овладел им. Сюда в датский военный лагерь явился епископ Альберт и магистр ордена меченосцев для соглашения с датским королём о разделе Эстонии. Большая часть северной Эстонии (в дальнейшем Эстляндской губернии Российской империи) отошла к Дании. Южные и юго-восточные эстонские земли — к рижскому епископу и ордену. Участники соглашения поклялись совместно бороться против русских и язычников.
Ещё в ходе покорения эстонских земель Вальдемар разрушил в 1219 г. укреплённый замок эстонцев Линданисс и вместо него построил новый замок, названный Ревелем по тамошнему названию окружающей местности. Здесь он учредил епископство, зависимое от архиепископства лундского, и отдал в лен участвовавшим в походе на Эстонию немцам и датчанам завоёванные им земли. Эти лица, получившие в ленное владение эстонские земли, стали родоначальниками эстлянских вассалов, впоследствии — эстляндских дворян.
В покорённых землях были учреждены епископства, зависимые от рижского епископа: леальское, дерптское (г. Юрьев), эзельское (о. Сааремаа), семигальское и курляндское. В каждом из этих епископств орден меченосцев имел свою часть земли, определённую на его содержание.
Захват территории ещё не означал покорения народа. В 1222 — 1223 гг. эстонцы восстали. Это выступление считается самым мощным и крупным за всю эпоху феодализма в Эстонии. Начавшись на о. Сааремаа, оно быстро распространилось на материк. Вести о взятиях и разрушениях немецких и датских замков, уничтожении рыцарей и купцов подобно ураганному ветру раздували пожар восстания, который быстро перекидывался на всё новые и новые эстонские поселения. Восстание было направлено не только против завоевателей, но и против навязанной ими христианской веры, которая с ненавистью отвергалась, поскольку ассоциировалась с порабощением, грабежом, установлением господства чужаков. Даже своих покойников, похороненных по христианскому обряду, эстонцы выкапывали и сжигали в соответствии с прежними языческими обычаями.
Уже в самом начале восстания эстонцы призвали на помощь Новгород и Псков, которые разместили свои гарнизоны в Юрьеве, Вильянди и других укреплённых пунктах. Отсюда совершались походы на земли, занятые датчанами и немцами. По мере развёртывания восстания датчанам с большим трудом удалось удержаться только в Ревеле. В этой ситуации контролировавшаяся немцами территория (ливов и латгалов) стала стратегическим плацдармом для наступления на восставших. Сюда из Германии прибывали свежие войска крестоносцев.
Хотя по просьбе эстонцев Владимиро-Суздальский великий князь Юрий Всеволодович, будучи заинтересован в охране политических и торговых интересов Руси в прибалтийских землях, послал войска в Юрьев, а затем в Отепя, переломить ситуацию, несмотря на отдельные тактические успехи, всё же не удалось. Об этом свидетельствует поход русских войск и эстонских ополченцев на Ревель. Хотя это и был самый крупный поход русских войск в Эстонии, но хорошо укреплённый и имевший многочисленный гарнизон Ревель с ходу взять не удалось, а его осада затянулась. А поскольку русские войска всегда спешили вернуться домой до осенней распутицы, осаду пришлось снять и уйти.
Последним очагом сопротивления против немецких и датских завоевателей оставался Юрьев. Отсюда совершались набеги на захваченные врагом территории, сюда же стекались эстонские воины из земель, где восстание было подавлено. Чтобы усилить оборону Юрьева и закрепить здесь свою власть Новгород прислал храброго князя Вячко, прославившегося своей борьбой против епископа и ордена в Кокнесе.
Вначале епископ Альберт при посредничестве своих послов пытался уговорить князя не бороться на стороне эстонцев. Но Вячко, надеясь на помощь Новгорода и русских князей, ответил отказом. Тогда епископ двинул на Юрьев все имевшиеся в наличии силы: рыцарей ордена, епископских воинов, купцов, жителей Риги, а также отряды покорённых ливов и латгалов. 15 августа началась осада Юрьева. Когда предпринятые меры (метание в крепость из осадной башни камней, сосудов с горючей жидкостью, раскалённого железа, непрерывный шум и крики по ночам) не возымели действия, немцы вторично предложили князю Вячко прекратить борьбу взамен за свободный выход из крепости со своими людьми, лошадьми и имуществом. Русский князь и на этот раз ответил отказом. Тогда, стремясь опередить прибытие дополнительных войск из Новгорода, немцы начали штурм. Русские и эстонские защитники крепости не щадили себя. Каждая пядь отвоёванной земли доставалась неприятелю ценой больших потерь. В этих боях, сопротивляясь до последнего человека, погиб князь Вячко и пали все его воины. Немцы оставили в живых только одного суздальца, и то для того, чтобы он сообщил своему князю о поражении. Новгородское же войско узнало о падении своего опорного пункта в Эстонии по прибытии во Псков.
В 1227 г. немцы захватили острова Муху и Сааремаа. Эстонцам, несмотря на упорное сопротивление, не удалось отстоять свои земли. В ходе долголетних войн их силы были существенно подорваны, к тому же по численности населения эстонцы уступали крестоносцам, в распоряжении которых находились людские ресурсы Германии, Дании, Швеции. Эти силы католическая Церковь непрерывным потоком направляла в Прибалтику. В отсутствие целостного государственного образования не удавался всеобщий и организованный отпор неприятелю, а это позволяло агрессору покорять эстонские земли и их население поодиночке, друг за другом, используя уже покорённые племена против непокорённых. Хотя местная племенная верхушка стояла во главе борьбы с непрошеными пришельцами, однако в её среде встречались предательские элементы, вступавшие в сговор с агрессором. Безусловно, сказывались преимущества организации профессиональных воинов над эстонским ополчением. Нельзя сбрасывать со счёта и отставание в вооружениях. Хотя в 1222 г. жители о. Сааремаа построили метательные машины по образцу немецких, в целом же, по сравнению с первоклассным для того времени вооружением крестоносцев, оружие эстонцев было примитивно и малоценно. Об этом, в частности, свидетельствует Генрих Латышский. По его словам, при взятии Юрьева (Дерпта) в 1224 г. немцы на туземное оружие не обращали внимания, но русские одежды и оружие взяли с собой до сожжения замка{7}.
Союз с Русью имел важное стратегическое значение, но, ввиду феодальной раздробленности, нередко сопровождавшейся победой местных интересов над общерусскими[7], а также в связи с татаро-монгольским вторжением[8], союз этот, несмотря на впечатляющие примеры мужества и самопожертвования русских воинов, не мог в тот период существенным образом изменить расстановку сил в Прибалтике, особенно когда в борьбу вступил Тевтонский орден.
I.8. Образование Тевтонского ордена. Перенос его деятельности из Азии в Европу
Исследователи считают: как бы прочно, благодаря стараниям епископа Альберта, германские выходцы ни утвердились в прибалтийских землях, их господство было бы неминуемо сокрушено соединенными ударами литовцев, русских и самих новокрещенцев, если бы в землях пруссов не появился знаменитый Тевтонский (или Немецкий) орден.
Тевтонский орден рыцарей Богородицы был учреждён в 1190 г. на базе общества по уходу за больными во время последних усилий крестоносцев (в ходе третьего крестового похода) удержаться в Палестине. Новые рыцари носили чёрную тунику и белый плащ с чёрным крестом на левом плече. Кроме обычных монашеских обетов, они обязывались ухаживать за больными и бороться с врагами христиан. Только немец, являющийся членом старого дворянского рода, имел право на вступление в орден. Устав его был таким же строгим, как и у меченосцев. Посвящение же в члены ордена сопровождалось такими суровыми словами: «Жестоко ошибаешься, если думаешь жить у нас спокойно и весело; наш устав — когда хочешь есть, то должен поститься, когда хочешь поститься, то должен есть; когда хочешь спать, то должен бодрствовать, когда хочешь бодрствовать, должен идти спать. Для ордена ты должен отречься от отца, от матери, от брата и сестры и в награду за это орден даст тебе хлеб, воду да рубище»{8}.
Сначала сам орден был незначителен. Всё его достояние заключалось в немногих имениях в Сирии и Палестине. Однако вскоре тевтонские рыцари, по мере распространения славы об их подвигах, получили в дар от государей европейских стран значительное недвижимое имущество. Четвёртый магистр ордена Герман Зальца (избран в 1210 г.) приобрёл для ордена обширные владения в Сицилии и Германии, принял титул великого магистра и для управления замками и поместьями в Германии назначил орденских чинов, командоров и фогтов.
Орден видел всю невозможность удержаться в Палестине и потому был готов, если бы представился удобный и достойный случай, прекратить борьбу с сарацинами и оставить своё местопребывание в Азии. И такой случай действительно представился.
Вначале (в 1211-1224 гг.) по призыву венгерского короля Андрея II орден защищал немецких колонистов в Трансильвании от куманов. Затем по приглашению герцога Мазовецкого Конрада, доведённого до отчаяния хищническими набегами пруссов (племени, родственного с литовцами и латышами) на польские земли, Тевтонский орден согласился вступить в борьбу с прусскими язычниками. Обязуясь защищать польские владения от «хищников», орден взял на своё содержание землю Холмскую (или Кульмскую). Германский император Фридрих II предоставил ордену в 1226 г. владение не только этой землёй, но и всеми другими землями, которые он отнимет у пруссов, но на правах имперского лена, вне какой-либо зависимости от мазовецких герцогов. В 1228 г. в новые владения ордена явился первый областной магистр Пруссии Герман Балк с сильным отрядом рыцарей. Разгоревшаяся с пруссами война затянулась на 55 лет, но её исход не вызывал сомнения. Против сурового язычника Западная Европа выставила столь же сурового рыцаря, к тому же обладавшего преимуществами строгой дисциплины, военного искусства и религиозного одушевления. Как и другие прибалтийские племена, пруссы, территория которых делилась на 11 областей, не были связаны друг с другом никаким политическим союзом и потому не смогли оказать соединённого, дружного сопротивления. Орден покорял их область за областью. В отличие от пруссов, орден не нёс невосполнимых потерь, поскольку ряды погибших братьев быстро замещались новыми подвижниками, готовыми пролить свою кровь под хоругвью Девы Марии и святого Георгия. После покорения Пруссии перед орденом открылось новое поле деятельности, теперь уже в Ливонии.
I.9. Соединение Ордена меченосцев и Тевтонского ордена. Угрозы для Руси
Как только Тевтонский орден вступил в пределы Пруссии (1229 г.), к великому магистру Герману Зальцу в Рим прибыли послы из Ливонии от меченосцев. Они предложили соединить оба ордена, поскольку они преследовали одну и ту же цель — борьбу с язычниками на побережье Балтийского моря. Посольство это не имело успеха. Отрицательный ответ великого магистра можно объяснить неготовностью ордена вмешиваться в ливонские дела, а также тем, что репутация ливонских меченосцев, по-видимому, не была безупречной с точки зрения Тевтонского ордена. Так что меченосцы в борьбе с туземцами и русскими должны были рассчитывать только на собственные силы. А их, как показывают последующие события, было явно недостаточно.
В это время в Новгородской республике утвердился князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. В немецком натиске на земли прибалтийских народов он видел угрозу для Руси и готовился дать отпор. К 1233 г. отношения между Орденом меченосцев и Новгородом заметно обострились. С помощью изменника, новгородского боярина Бориса, немцы взяли пограничную крепость Изборск, но псковская рать отбила город. В том же году в местечке Тесово был схвачен и посажен в темницу в замке Одеп-не (Медвежья голова) некий Кирилла Синкич, по всей вероятности, новгородский лазутчик.
Весной 1234 г. князь Ярослав с суздальскими и новгородскими войсками пошёл в поход на дерптское епископство. Войдя в земли, контролируемые орденом, они вызволили из плена Синкича. Когда немцы «сели в засаду», Ярослав встал со своими полками недалеко от Дерпта (Юрьева), и отпустил людей за фуражом и хлебом (это называлось тогда «воевать на зажитие»). После ряда локальных стычек с разведывательными отрядами противника Ярославу удалось выманить немцев из их крепостей. На заснеженном поле между Дерптом и берегом реки Эмайыги (или Эмбаха) произошла решающая битва. В ней принял участие и князь Александр, в будущем Невский. Это было его первое боевое крещение. Впервые Александр увидел в деле немецких рыцарей, с латинскими шлемами на головах, в белых плащах с чёрными крестами поверх лат, с мечами и секирами, с дротиками, пиками и щитами. Многие были верхом на конях, одетых в броню. Александр сражался в качестве простого латника и был восхищённым свидетелем того, как русские добились перелома в битве и немцы, рассыпав строй, бросились бежать. Часть их пала в битве, но ещё больше рыцарей погибло, когда, будучи прижатыми к реке, они были вынуждены ступить на весенний, непрочный лёд. И тут, как свидетельствует летописец, «обломился лёд, и истопло их много, а иные, израненные, побежали в Юрьев и в Медвежью Голову»{9}. Воспользовавшись победой, русские опустошили земли дерптского епископства. Тогда немцы поклонились князю Ярославу, и он заключил с ними мир «на всей правде». Считается, что тут-то Ярослав, по-видимому, и выговорил дань с Юрьева для себя и для всех своих преемников — ту знаменитую дань, которая после послужила Иоанну Грозному поводом для начала Ливонской войны.
Успешный поход Ярослава побудил меченосцев возобновить усилия по объединению обоих духовно-рыцарских орденов. Прежде чем принять решение, Герман Зальца отправил в Ливонию двух своих командоров, чтобы те подробно разузнали и о самой Ливонии, и о деятельности ордена меченосцев. Командоры возвратились в Марбург (здесь располагалась резиденция Тевтонского ордена и великого магистра) не только с собранными сведениями, но и прихватили с собой троих представителей от меченосцев. После того как на капитуле Тевтонского ордена ливонские рыцари были обстоятельно расспрошены о принципиальных вещах, интересовавших орден (устав, правила, образ жизни, владения, отношение к рижскому епископу), слово было предоставлено командорам. Они представили поведение и образ жизни меченосцев отнюдь не в привлекательном свете, выявив тем самым существовавшие расхождения между требованиями устава и их выполнением. Ливонские рыцари были охарактеризованы как люди упрямые и крамольные, не любящие подчиняться правилам своего ордена, ищущие прежде всего личной выгоды, а не общего блага. «А эти, — прибавил один из командоров, указывая пальцем на присутствовавших меченосцев, — да ещё четверо, мне известных, хуже всех там». Воцарившееся всеобщее молчание было реакцией на всё услышанное. И на этот раз решение не было принято.
Однако военные неудачи меченосцев не оставляли времени для долгих размышлений: на кону стояли все завоевания немцев в Ливонии. Так, в 1236 г. после прибытия в Ливонию особенно большого числа крестоносцев магистр ордена меченосцев Вольквин предпринял осенний поход на Литву. Опустошая всё на своём пути, он проник в глубь её территории. На обратном пути немцы подверглись внезапному нападению литовцев и соединившихся с ними земгалов, попали в окружение и все погибли вместе со своим магистром. После этого поражения восстали курши и сааремасцы. Тогда остальные меченосцы отправили посла в Рим, который представил папе беспомощное состояние самого ордена, а также ливонской Церкви и настоятельно просил его соединить остатки ордена меченосцев с орденом Тевтонским. Признав обоснованность и целесообразность такой просьбы, папа Григорий IX утвердил слияние орденов буллою от 14 мая 1237 г. При этом были оговорены три условия такого соединения: 1) Тевтонский орден вступает во владение землями, принадлежавшими меченосцам; 2) Тевтонский орден признаёт себя вассалом местных епископов; 3) часть Эстляндии, которую меченосцы отняли у датского короля, должна быть возвращена Дании.
Таким образом, меченосцы прекратили своё существование, а все их земли перешли к Тевтонскому ордену, составив его Ливонскую провинцию (другими провинциями ордена были Сицилия, Германия и Пруссия). Шестьдесят рыцарей тевтонского ордена были отправлены в Ливонию, где учредили ливонскую ветвь Тевтонского ордена — Ливонский орден. Ливония была обустроена по образцу прусской провинции, получила своего провинциального магистра Германа Балке, свой провинциальный капитул, своих орденских командоров и фогтов.
Ливонский орден признал, по крайней мере на словах, свою зависимость от местных епископов. Но поскольку в Пруссии, одинаковое устройство с которой получила и Ливония, орден был не зависим от местной духовной власти и епископы были ему подчинены в гражданском управлении, то вскоре провинциальные ливонские магистры стали тяготиться своим подчинением епископам и захотели перенять прусский порядок и в отношениях с духовной властью. Это явилось зародышем раздора между светской и духовной властью, между орденом и епископами и впоследствии вылилось в открытую вражду.
Орден выполнил и третье условие папы. 7 июня 1238 г. магистр Герман Бальке прибыл в Стенби (Дания) и совершил, в соответствии с существовавшими трактами, уступочный акт. По нему Эстония с Ревелем (впоследствии Эстляндская губерния Российской империи) отошла к Дании.
После покорения прибалтийских племён крестоносцами территория Прибалтики становится наиболее выдвинутым аванпостом немцев, скандинавов и папы Римского против православной Руси. Обосновавшись на прибалтийских землях, немцы формируют антирусский блок вместе с Данией и Швецией, которая к этому времени покорила финские племена и жаждала захватить новгородские земли и Карелию. Под руководством папы был задуман новый крестовый поход для покорения русских земель. Надежды на успех этого предприятия связывались с татаро-монгольским фактором: русские князья были вынуждены противостоять нашествию на Русь в 1237 г. хана Батыя.
В 1240 г. шведы, немцы и датчане начали одновременно с нескольких сторон наступление на Новгород и Псков. Но 15 июля 1240 г. шведские войска были разгромлены на берегу Невы русскими дружинниками во главе с новгородским князем Александром Ярославичем, прозванным за эту победу Невским. Однако этот решительный отпор не остановил набеги захватчиков (в том числе с привлечением эстонских старшин и их войск) на Псков, Изборск, Вольскую землю. Летом 1241 г. русские войска перешли в контрнаступление, в результате которого неприятель был отброшен за реку Нарву, а в начале 1242 г. был освобождён и Псков. Затем, 5 апреля 1242 г., последовал разгром немецко-датских агрессоров войсками Александра Невского на Чудском озере. Эта победа сохранила независимость новгородско-псковского государства и приостановила натиск западных сил на Восток. В то же время превращение Ливонии в провинцию Тевтонского ордена означало поражение Руси в её борьбе за выход к Балтийскому морю, так успешно начатой Ярославом Мудрым.
Глава II. Ливония под контролем немецких колонистов
II.1. Обустройство Ливонии
Ливония никогда не была монархией, потому что не имела монарха. Она не была и республикой, поскольку в ней не было граждан. Она была не что иное, как немецкая колония, в которой колонисты, разбившись на корпорации, гораздо больше заботились о своих личных и корпорационных выгодах, чем о благе и прочности своей колонии. Утвердившись в крае огнём и мечом (на это потребовалось не более 25 лет, т.е. со дня основания Риги в 1201 г. до штурма Юрьева в августе 1224 г.), колонисты, несмотря на проповедь религии любви и монашеские обеты орденских рыцарей, вскоре своими действиями обнаружили, что главной их целью было обеспечить для себя выгодное, прочное и обильное кормление. И это показал предпринятый ими делёж земель между епископами и орденом и закабаление местного населения.
Вся Ливония делилась на две части: собственно Ливонию (впоследствии Лифляндская и Курляндская губернии Российской империи) и Эстонию (впоследствии Эстляндская губерния Российской империи). Земли собственно Ливонии были разделены на следующие области: 1) архиепископство Рижское; 2) епископство Дерптское; 3) епископство Эзельское (названо по о. Эзелю, эстонское название Сааремаа); 4) епископство Курляндское. В каждом из этих епископств ливонская отрасль Тевтонского ордена имела на своё содержание определённую часть земель: в рижском и эзельском епископствах — одну треть, в дерптском — половину, в курляндском — две трети (включая Мемель). Из этих земель составилась пятая область: Ливонская провинция Тевтонского ордена.
Эстонская часть Ливонии, состоявшая из округов Гарриен и Вирланд, первоначально находилась во власти датских королей, затем в течение непродолжительного времени контролировалась меченосцами, а после соединения орденов была возвращена датчанам. Учреждения Эстонии несколько отличались от общеливонских. Так, высшее провинциальное управление находилось в руках королевского наместника и состоявшего при нём земского совета из 12 человек (по шесть человек от каждого округа). В 1347 г. Эстония была продана Тевтонскому ордену и включена в состав его земель в виде особой области, сохранившей своё прежнее устройство и в некотором смысле отличавшейся от других областей Ливонии. Это отличие было зафиксировано шведами, когда Ливония подпала под их власть. В период их владычества Эстония фигурировала под официальным названием «Княжество эстов в Ливонии».
Вместе с Эстонией под контроль Тевтонского ордена перешло и ревельское епископство, учреждённое Вальдемаром II. Впоследствии ревельское епископство стало более независимым, а сам ревельский епископ, как и прочие ливонские епископы, был признан имперским князем и властителем обширных епископских областей.
Разделение власти между епископами и орденом отражало порядок вещей, сложившийся между папой Римским и императором Священной Римской империи немецкой нации. Согласно Генриху Латышскому, папы считали Ливонию своим достоянием по праву повелителей римско-католического мира. Посредством булл они отдавали епископам распоряжения по управлению Ливонией. Те в свою очередь действовали с предварительного согласия и утверждения пап. Для этих целей они держали в Риме своих прокураторов в качестве ходатаев перед папским престолом. На своём уровне каждый епископ управлял своей областью самостоятельно, но в делах церковных все ливонские епископы подчинялись архиепископу Рижскому, который первенствовал среди них.
Немецкие императоры считали себя наследниками древних цесарей и потому — светскими главами всего христианского мира. На этом основании они рассматривали Ливонию в качестве ленной провинции Священной Римской империи немецкой нации и присвоили себе (включая своих наследников) право верховной державной власти над Ливонией. В соответствии с таким статусом они давали епископам и ордену жалованные грамоты, подтверждали их местную державную власть в виде имперского лена, возводили архиепископов и епископов (а потом и орденских магистров) в сан имперских князей, обещая им своё покровительство.
Подобная зависимость местных властей от пап и германских императоров только способствовала раздорам между епископами и орденом и впоследствии выступила основным фактором слабости Ливонии.
Тевтонский орден недолго оставался в ленной зависимости от епископов. Сначала он присвоил себе полную державную власть над принадлежавшими ему в Ливонии землями, потом вступил в борьбу с архиепископом Рижским и, одержав победу над ним, расширил пределы своих территориальных владений, приобретя главенство над всеми ливонскими епископами.
В ходе борьбы светской и духовной властей возникла и третья власть, а именно власть городских общин.
Вся Ливония являлась ареной бесконечной борьбы партий, и потому за 350 лет своего самостоятельного существования она, не став ни монархией, ни республикой, так и не обрела внутренней устойчивости. В отсутствие политической связи между ливонскими областями роль временных скрепов играли общие съезды. На них обсуждались вопросы, касавшиеся всех областей, например меры по сохранению мира, ведение войны против общего неприятеля. С половины XV столетия помимо епископов и сановников ордена на съезды стали приглашаться вассалы. К этому времени они настолько усилились, что орден и епископы в своей междоусобной борьбе были вынуждены искать их помощи. Съезды с участием вассалов стали называться ландтаги (Landtag, Gemeiner Landes Tag, gemeine Tages Leistung, gemeiner Tag).
II.2. Население Ливонии: победители
Во всё время господства епископов и ордена население Ливонии было представлено двумя резко отличавшимися друг от друга группами. Это, с одной стороны, туземцы (ненемцы), т.е. племена эстов, ливов, латгалов, куронов, семигалов и др., — они же побеждённые (составляли не менее одного миллиона), и, с другой, пришельцы (немцы) — они же победители и колонисты (не более 200 тыс.). Туземцы образовывали состояние крестьян, а колонисты входили в четыре корпорации: духовенство, орден, вассалы и горожане (граждане). Впоследствии они образовывали состояния: духовное, дворянское и городское.
О духовенстве и ордене было подробно изложено выше. Поэтому в данном разделе представляется целесообразным сосредоточить внимание на корпорациях вассалов и горожан.
Вассалы. Непременным условием для вступления в сословие вассалов было пожалование (или инвеститура) лена. Все лица, получившие жалованную грамоту, назывались вассалами. Смотря по тому, от кого они получали эти лены, они именовались вассалами епископскими или орденскими. Своему верховному властителю они приносили присягу на верность с обязанностью личной службы на коне и содержания за свой счёт определённого числа воинов. За свою службу и верность вассал располагал пожалованным ему леном в качестве полного владельца: пользовался с него всеми доходами и чинил расправу и суд (в том числе уголовный) над крестьянами, водворёнными на землю ленного владения. Первоначально право наследования носило крайне ограниченный характер, но к концу самостоятельности Ливонии ленные имения передавались по наследству даже лицам отдалённой степени родства.
Эстонские вассалы, т.е. вассалы в округах Гарриен и Вирланд, имели те же права и обязанности, что и представители их корпорации в других частях Ливонии. Эстонские вассалы управлялись своими земскими советниками (ландратами), которые выступали для них и высшей судебной инстанцией. Вассалы Эстонии собирались на свои собственные съезды, а также посылали депутатов на общеливонские ландтаги.
Вассалы как ливонские, так и эстонские подлежали суду только равных себе. Их нельзя было взять под стражу или арестовать, а только, взяв с них рыцарское слово, призвать добровольно явиться в суд. Вассалы были свободны от всяких податей, налогов и повинностей за исключением, в случае военных действий, обязанности личной службы на коне и выделения вооружённых пеших ратников, число которых определялось в зависимости от величины лена. Вассалы не имели права вступать в торговые отношения, поскольку это занятие считалось низким. В то же время им дозволялось продавать сельскохозяйственную продукцию со своей земли иностранным купцам за наличные деньги.
Все вассалы соответствующей области подразделялись на рыцарство и людство или просто рыцарство, называвшееся земским в отличие от рыцарства орденского. На первых порах вассалы не образовывали никакого особого сословия. Но в условиях распрей и даже войн между епископами и орденом (уже с конца XIII в. они становятся обычным явлением) вассалы каждой области начинают осознавать необходимость создания общеливонской корпорации для защиты своих прав и владений. Сближение на путях образования корпорации происходило постепенно, но к середине XV в. вассалы уже являются сословием, которое участвует во всех делах Ливонии, направляя своих представителей на ландтаги и съезды. С XV в. для обозначения сословия вассалов в употребление стало входить слово «дворянство».
Горожане. Четвёртая корпорация пришельцев (или победителей), т.е. корпорация горожан (граждан), ведёт своё начало с возникновения городов, которые строились под защитой епископских и орденских замков. Первое место среди городов по числу жителей, объёму торговли, обширности принадлежащих ей земель, а также по своему весу и значению в союзе ганзейских городов занимала Рига. Она же являлась резиденцией архиепископа и его капитула. Основание Риги совпало по времени с образованием в немецких городах тесных союзов горожан, так называемых гильдий и цехов. Как только в Риге появились первые постоянные жители (прибывшие главным образом из Германии), такая практика была тотчас же перенесена и в этот город. Городские учреждения Риги стали служить образцом для других городов Ливонии.
Жители Риги, как и Ревеля, разделялись на граждан (Burger), неграждан (Beiwohner) и иноземцев (Fremden). Вот, оказывается, из какого средневековья пришло в наши дни сегодняшнее разделение на граждан и неграждан в современных Латвии и Эстонии! Примечательно, что в те времена попасть в бюргеры было трудно даже немцу (постороннему) и совершенно невозможно ненемцу.
Желающий быть принятым в городское гражданство должен был представить в суд доказательства, что происходит от честных и свободных родителей, изучал купеческое или ремесленное дело и имеет капитал на определённую сумму или же кредит на эту сумму. Если суд признает кандидата на гражданство достойным, тогда он приносит присягу на верность и подданство верховному властителю, обязуется повиноваться законам и постановлениям города и нести все городские тяготы и повинности.
Это гражданство, состоявшее из купцов, художников, учёных и ремесленников, составляло городскую общину, которая разделялась на три городские сословия, или корпорации: 1) магистрат (совет) со своими членами, или городское начальство, представлявшее отдельное правительственное сословие; 2) граждане большой гильдии, в которую входили купцы и принимались братчиками светские и духовные учёные, занимавшие общественные должности; 3) граждане малой гильдии, к которой принадлежали мастера цеховых ремёсел; эстонские ремесленники имели два союза, две малые гильдии: св. Олая и св. Канута; цеховые мастера, поселившиеся в Вышгороде Ревеля, входили в третью самостоятельную гильдию — кафедральную, состоявшую из одних вышгородских ремесленников.
Каждая гильдия имела своё управление, своих выборных старшин, свои старшинские думы.
Как большая, так и малые гильдии постоянно стремились к расширению своих прав. Во всяком случае, к концу самостоятельности Ливонии они добились того, что без членства в той или иной гильдии городской житель не допускался ни к ведению торговли, ни к деятельности ремесленника, ни к занятию каким-либо видом городской промышленности.
Колонисты-бюргеры так оградили себя от какой-либо конкуренции, что выгодами торга и промысла могли пользоваться только они сами. Они держали в своих руках наиболее доходные отрасли ремесла (например, ювелирное дело, пивоварение), а также оптовую и заморскую торговлю. Ей во многом способствовало постепенное превращение Ревеля в важную гавань по ввозу западных товаров в эстонскую часть Ливонии, Финляндию, Северо-Западную Русь и по вывозу товаров этих стран в Западную Европу[9].
Негражданами были все те лица, которых не приняли в городское гражданство. Как не доказавшие своих качеств и требуемых знаний, они не входили в состав городской общины и не принимали никакого участия в общем управлении. Как это напоминает сегодняшнюю ситуацию в Латвии и Эстонии!
Негражданам дозволялось, какой бы нации и религии они ни были, владеть в городе и его окрестностях землями и домами, а также заниматься мелкими дозволенными промыслами, продукция которых реализовывалась по низким ценам.
Представители местных племён были причислены к служителям. Эта группа росла главным образом за счёт бежавших из имений крестьян и составляла преобладающую часть населения городов. Здесь они работали домашней прислугой, ремесленниками, носильщиками, извозчиками, чернорабочими разного рода — добывали камень в каменоломнях, строили городские стены, башни, церкви, другие сооружения, мостили улицы. Им дозволялось также вести мелкую торговлю. Во время осады города они использовались в качестве рабочих в артиллерии. Следует отметить, что благодаря контактам с немцами представители местного населения получали возможность расширить технические знания и навыки, особенно в строительстве, кожевенном деле и обработке металлов. Служители входили в так называемые латышские и эстонские амты. Быть принятыми в эти амты могли лишь те лица из местного населения, которые многие годы безукоризненно служили у одного и того же господина в должности кучера, рабочего и т.п. Служители не могли рассчитывать на принципиальное улучшение своего статуса из-за сильных предрассудков в отношении их происхождения. Они подвергались жестокой эксплуатации со стороны немецких торговцев и ремесленников-мастеров. Жили в самых жалких условиях: в лачугах на окраинах города, в подвалах и башенных помещениях, в сараях и хлевах. Не удивительно, что смертность среди этой категории неграждан была чрезвычайно высокой.
Иноземцами назывались все те лица, которые прибывали из других городов Ливонии или из иностранных земель и не вписывались в местное гражданство или купечество. Они не принимали никакого участия в управлении городом, им не разрешалось владеть на правах собственности домами и землями, они не могли заниматься местной торговлей или ремеслом. Свои товары им разрешалось продавать только оптом и исключительно местным гражданам. Приобретать товары они могли только у местных граждан без права перепродажи иностранцам и гражданам. То есть бюргеры выступали посредниками, которые ограничивали свободу торговли для иностранных купцов.
Национальный состав городов, в том числе и эстонских, конечно, не был однороден. Так, помимо немцев и эстонцев в Ревеле, Дерпте (Юрьеве), Нарве проживали и русские, преимущественно купцы. Их центр поселения в Ревеле вначале находился к северу от Малых морских ворот, а в XV в. — у Никольской церкви на улице Вене. Церковные подвалы и подсобные постройки русские купцы использовали в качестве складских помещений.
В Дерпте русские жили также в особой части города внутри городских стен. Она называлась «русским концом». Новгородцы и псковичи имели здесь даже свои отдельные церкви и свою базарную площадь. Много русских проживало также в городском предместье за рекой Эмайыги.
В городах селилось небольшое количество лиц и других национальностей. Например, в Ревеле и Хаапсулу жили шведы, в Ревеле и Нарве — финны, в Нарве обрела пристанище и часть Вольского населения.
Несмотря на многообразный национальный состав, вся власть в городах принадлежала богатым немецким бюргерам. Путём всевозможных ограничений и запретов они закрывали небюргерам доступ к престижным и доходным профессиям.
Корпорации (духовенство, орден, вассалы и горожане), на которые разбились немецкие колонисты, существовали отдельно друг от друга, не чувствуя гражданской связи друг с другом и не стремясь установить такую связь, ибо не хотели ограничивать свои доходы жертвами на какое-либо общее дело, как бы полезно и необходимо оно ни было{10}.
II.3. Население Ливонии: побеждённые
В первые годы существования Ливонии император Фридрих II, папы Иннокентий III, Гопорий III и Григорий IX запрещали ордену порабощать местное население, специальными грамотами старались обеспечить ему личную свободу, право собственности и вообще владение всем тем, чем они пользовались до обращения в христианство. Но ни грамотами, ни запрещениями, ни усовещеваниями было невозможно преодолеть силу вещей, приобретшую самодовлеющий характер и явившуюся следствием двух крайностей в положении населения Ливонии: на одной стороне пришельцы-победители, представленные меньшинством, на другой — туземцы-побеждённые, образующие громадное большинство. Разумеется, отношение к побеждённым и видение их места в системе формировавшегося ливонского социума определялось интересами победителей.
Удержать в повиновении массы побеждённых и обеспечить себе кормление можно было только военной силой и раздачей покорённых земель в лены вассалам. Получив от епископов или ордена лены, вассалы кроме личной службы своему сюзерену держали местное население в должной покорности, взыскивая с него подати и налоги в пользу епископа или ордена, а также в свою пользу. Вначале подати, установленные епископом Альбертом, составляли около 20% с жатвы, потом вассалы произвольно распространили их на всё, что только имели побеждённые. Такой порядок вещей, установленный силой оружия, вызывал ропот и волнения местных племён, ещё не забывших о своём вольном состоянии. За ропотом следовали восстания, которые жестоко подавлялись. Восставших наказывали, лишали прав и собственности. Постепенно местное население, лишённое собственности, само становилось собственностью владельцев.
Закрепощение латышей и эстонцев происходило постепенно. Этот процесс завершился ко второй половине XV в. С этого времени все туземные ливонские жители стали называться бауэрами (Bauer) или наследственными людьми — Erbleute. Ленная система не только обусловила крепостное состояние, но и повлекла за собой разделение помещичьих земель на земли мызные и крестьянские. Вначале победители осмеливались селиться только в укреплённых городах и замках, не создавая самостоятельного хозяйства в своих владениях. Но по мере упрочения своей власти они стали непосредственно обосновываться в ленных владениях и создавать самостоятельные хозяйства — мызы или имения.
Мызные земли крестьяне обрабатывали для своих господ, а крестьянские — для собственного пропитания. Разделение земель на мызные и крестьянские шло в упорной борьбе. Для создания имений колонисты насилием, угрозами, откупом или каким-либо другим путём сгоняли крестьян с лучших земель, уничтожая порой целые деревни и захватывая в свои руки общинные пастбища, покосы и леса. Хотя процесс создания и расширения имений был очень длительным, однако исход его был предрешён. Он повлек за собой дифференциацию среди крестьян. Между ними стали различать: хозяев (Hakenmanner), батраков-работников или бобылей (Losbinder, Lostreiber) и дворовых людей. Хозяин пользовался крестьянским участком. За это он отбывал повинности и барщину, которые определял по своему усмотрению помещик без малейшего контроля со стороны епископа или ордена. Чем обширнее становились имения, тем тяжелее была барщина и тем неизбежнее введение всё новых и новых повинностей. Батрак не имел земли и находился на службе у крестьянина-хозяина. Дворовые люди служили и жили у помещика, в его дворе. За совершённое преступление крестьянин обращался в дрелла — полного раба своего помещика[10].
После закрепощения крестьян к крепостному состоянию причислялись все дети крепостных родителей, все добровольно вступившие в крестьянство, а также все беглые крестьяне, которые в течение тридцати лет не были востребованы обратно своими прежними владельцами.
Постепенно сформировался кодекс простых правил, определявших права крестьян и их отношения к владельцам. Во-первых, крестьяне не могли самовольно переходить от одного владельца к другому. Во-вторых, беглых крестьян следовало немедленно возвращать их законному владельцу. В-третьих, крестьянин не мог владеть недвижимым имуществом, он мог обладать только движимостью, которая в случае его бездетной кончины переходила к помещику. В-четвёртых, владелец мог налагать на крестьянина всякие повинности по своему усмотрению и бесконтрольно. В-пятых, суд над крестьянами вершил их владелец; в случае серьёзного преступления помещик мог чинить и уголовный суд, но в присутствии епископского фогта и старших крестьян в качестве присяжных.
Крепостное состояние могло быть прекращено или отпуском на волю или за давностью, если крестьянин не менее двух лет проживал в одном из городов, пользовавшихся рижским правом и в течение этого времени не был востребован от города своим владельцем.
Лишившись личной собственности, сделавшись собственностью своих помещиков и их рабочей силой, латыши и эстонцы чрезвычайно обеднели. И это обеднение, как свидетельствуют историки, сопровождалось не только огрубением, но даже одичанием всей массы крестьянского населения Ливонии{11}. Древнее изречение «Горе побеждённым!» наиболее точно передаёт положение, в котором оказались эстонцы и латыши после покорения их крестоносцами.
II.4. Крестьянская война в Эстонии в 1343 — 1345 гг. (Восстание Юрьевой ночи)
Статус побеждённых, навязанный эстонцам немецкими пришельцами, был унизителен, жесток и просто несовместим с их выживанием как народа. Земля предков уходила из-под ног эстонцев в ходе агрессивных захватов со стороны помещиков, разрушавших целые деревни и присоединявших к своим мызам крестьянские дворы и общинные угодья. В прибрежных районах эстонцы вытеснялись из мореходства, морской торговли, рыболовства. Всё это происходило на фоне постоянного роста разного рода повинностей и закрепления за рыцарством права над жизнью и смертью крестьян.
Тяжёлое и бесправное положение эстонцев в первой половине XIV в. нашло отражение в хронике Виганда Марбургского. Он, в частности, отмечает: «Рыцари и вассалы обременяли население такими большими поборами и вымогательствами… и так велико было их насилие, что они жён эстонцев позорили, дочерей насиловали, их собственность отбирали, а с ними обращались как с рабами»{12}.
Нежелание терпеть беды и унижения, обусловленные статусом побеждённых, подталкивало эстонцев к сопротивлению, высшей точкой которого стала крестьянская война. Она началась восстанием в Юрьеву ночь под 23 апреля 1343 г. в Харьюмаа. Это восстание на многие века запечатлелось в исторической памяти эстонского народа и сильно повлияло на формирование его национального самосознания.
Автор младшей рифмованной хроники Ливонии Гоннеке — современник этих событий — рассказывал о них так: «Все, кто были немецкой крови, должны были умереть. Эстонские крестьяне сжигали все дворянские мызы, исходили страну вдоль и поперёк, умерщвляя всех попадавшихся им немцев… Кто из женщин и детей спасался от мужчин, тех убивали женщины ненемецкой крови; сжигали церкви и мызы»{13}.
Важно обратить внимание на то, что церкви, замки, укрепления, мызы воспринимались эстонцами как символы религиозного и политического господства немцев и потому с остервенением разрушались.
Вначале военное счастье было на стороне восставших и созданного ими ополчения, хотя оно значительно уступало немцам в военной выучке и вооружениях. Восставшим удалось разбить ополчение ордена и нанести урон частям епископских войск и наместника датского короля. Следующим этапом войны стала осада Ревеля, потребовавшая мобилизации сил ордена для отпора восставшим. Эстонцы, осознавая ограниченность своих возможностей, обратились за поддержкой к Швеции, находившейся в состоянии войны с Данией. Они направили также послов в Псков, прося русских, как сообщает Младшая рифмованная хроника Ливонии, прислать помощь, а также взять в свои руки власть в стране{14}.
Помощь Пскова запоздала, и войскам ордена удалось снять осаду Ревеля. Восставшие понесли значительные потери. Часть оставшихся в живых эстонцев отступила, другие укрылись на острове Сааремаа (или в «Островской земле» — такое название употреблялось в Новгородской летописи).
Швеция, войска которой вошли в Ревель после поражения восставших, заключила перемирие с немцами и тем самым обеспечила им безопасность с моря.
Хотя русские воинские части не успели соединиться с главными силами восставших, однако, дав 1 июня 1343 г. крупное сражение немцам вблизи Вастселийна и нанеся им тяжёлые потери, они подняли моральный дух эстонских крестьян и побудили их к новым выступлениям в Сааремаа и Харьюмаа.
Ответные действия Тевтонского и Ливонского орденов были в духе XIV в., т.е. жестокими и беспощадными. Подавляя сопротивление восставших, объединённые и хорошо вооружённые тевтонские и ливонские войска проводили не только военные, но и карательные операции. Они шли, нагнетая страх, опустошая и сжигая всё на своём пути. Общее число убитых в Харьюмаа достигло 30 тыс. человек. Многие эстонские крестьяне спасались бегством, находя себе убежище в псковских и новгородских землях. На Сааремаа было убито 9 тыс. человек. Однако после ухода главных сил Ордена сааремасцы снова стали хозяевами на своей земле.
Карательные удары ордена были ослаблены успешным походом литовско-русских войск во главе с литовским великим князем Ольгердом на Елгаву, Ригу и Сигулду. Хотя и литовцы, и русские не думали об использовании создавшегося положения в своих интересах, однако их действия вносили изменения в расстановку сил в регионе, и это побуждало немецких рыцарей отказываться от своих планов. Например, собранное к началу 1345 г. в Пруссии большое войско крестоносцев, возглавлявшееся венгерским и чешским королями, а также некоторыми немецкими князьями, так и не отправилось в поход на Литву, чтобы снять угрозу для территорий, контролировавшихся Тевтонским орденом и его ливонской ветвью. В то же время литовско-русские походы не могли предотвратить поражения эстонцев в крестьянской войне против немецких феодалов.
Мужество эстонцев, их воля к сопротивлению, даже несмотря на неравные силы, заставили датского короля усомниться в том, что он сможет удержать эстонские земли в своих руках. В 1346 г. он продал Харьюмаа и Вирумаа Тевтонскому ордену, а тот в 1347 г. передал эти владения Ливонскому ордену, вес и влияние которого среди ливонских рыцарей и помещиков благодаря этому ещё более возросли. Определённые уроки из крестьянской войны извлекли и немцы. На какое-то время они стали проявлять большую осторожность. Так, они не решались расширять свои земельные владения, многие сожжённые эстонцами имения долгое время оставались невосстановленными, а крестьянские повинности не увеличивались. Что касается самих эстонцев, то память о Юрьевой ночи стала важным элементом их национальной гордости. Через столетия, накануне Второй мировой и Великой Отечественной войны она влияла на политическую позицию не всех, но многих эстонцев. Примечательно, что советские политические руководители, вдохновляя солдат многонационального СССР на воинские подвиги, обращались не только к памяти Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, но и к памяти Юрьевой ночи.
II.5. Внутриполитическая обстановка в Ливонии и её отношения с Польшей, Литвой и Русью в XIV — первой половине XVI в.
Внутриполитическая обстановка в Ливонии характеризовалась постоянными распрями между епископами и рыцарями, т.е. между духовной и светской властью. Изначально сан епископа был первым в стране. Именно епископы призвали орденских братьев и магистров для участия в покорении Ливонии и защиты завоеваний. Со временем орден стал выходить из-под власти епископов. Распри и противоречия, возникавшие на почве тайной ненависти и недоброжелательства сторон, были вписаны в борьбу за верховную власть в Ливонии двух главных политических игроков — Рижского архиепископства и Ливонского ордена. Между ними неоднократно вспыхивали войны, которые влекли за собой опустошения и разруху и наносили ущерб земледелию и торговле.
Для международного положения Ливонии решающее значение имели отношения Тевтонского ордена с соседями: Польшей, Литвой, Русью.
Вначале отношения с Польшей, являвшейся христианским королевством, были нейтральными, временами даже позитивными. Но начиная с XIV столетия они существенно усложнились на почве территориальных споров. Что касается языческой Литвы, то против неё Тевтонский орден год за годом предпринимал военные походы, в которых регулярно принимали участие крестоносцы из Римской империи и Западной Европы. Уния между Польским королевством и Великим княжеством Литовским (заключена в 1385 г. в Крево) основательно изменила ситуацию. Дочь польского короля Ядвига соединилась брачными узами с литовским Великим князем Ягайло, который под именем Владислав IV стал королём Польши. Согласно договору, Ягайло должен был вернуть под польскую корону потерянные территории и вместе с литовским народом принять крещение. Так, возникло государство, которое контролировало территорию от границ Священной Римской империи немецкой нации до окрестностей Руси, а на юге — до Чёрного моря. С принятием Литвой христианства крестовые походы против неё утратили легитимность. Хотя и римско-немецкий король в 1395 г. и папа в 1404 г. запрещали борьбу с язычниками, это не остановило Тевтонский орден, который продолжил крестовые походы.
Решающее сражение между войсками Тевтонского ордена и польско-литовского союза, к которому обе стороны заранее готовились, произошло 15 июля 1410 г. между деревнями Танненберг и Грюнфельде. В польской и российской историографии оно фигурирует под названием Грюнвальдская битва. Исходя из численности войск[11], она считается крупнейшим сражением европейского средневековья. В ней Тевтонский орден потерпел поражение. Хотя оно и не явилось смертельным ударом, но всё-таки означало катастрофу. В битве пал великий магистр и большинство рыцарей. Кроме того, Орден потерял треть прусских братьев. В следующие недели все орденские земли оказались в руках польско-литовских войск. Исключение составил Мариенбург (здесь находилась штаб-квартира Ордена), отразивший все атаки неприятеля. Через два месяца польский король Владислав Ягайло был вынужден снять осаду. Потерянные земли вскоре снова были возвращены под контроль Ордена. По миру, заключённому 1 февраля 1411 г. в Торне, Тевтонский орден практически не понёс территориальных потерь. Однако, финансовое бремя, связанное прежде всего с выкупом пленных, оказалось очень тяжёлым. Орден должен был заплатить 260 000 гульденов, что явилось причиной его финансовых проблем в последующие десятилетия{15}.
Поражения Тевтонского ордена в битве при Грюнвальде ослабило и Ливонский орден. Так, Дания возобновила свои попытки завладеть северной Эстонией, а Швеция захотела закрепиться на южном берегу Финского залива. Войны Ливонского ордена против Новгорода и Пскова неизменно оканчивались неудачей и необходимостью просить мира. Однако наибольшую угрозу для Ливонского ордена Русь стала представлять во времена московского великого князя Ивана III. Магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плетенберг, отнесённый историками к числу самых замечательных и самых способных магистров, каких только имел орден с самого своего учреждения, отчётливо осознавал опасность, грозившую со стороны московского великого князя. Это понимали и высокие сановники в Тевтонском ордене. Так, кёнигсбергский командор писал великому магистру следующее: «Старый государь русский вместе с внуком своим управляет один всеми землями, и сыновей своих не допускает до правления, не даёт им уделов; это для магистра ливонского и ордена очень вредно: они не могут устоять перед такою силой, сосредоточенной в одних руках»{16}.
В этой обстановке главной заботой Плетенберга стало приобретение союзников для Ливонии. Но его усилия оказались тщетными: и Тевтонский орден, и император, и папа, и ганзейские города, и Польша с Литвой сами находились в таком положении, что не могли оказать серьёзной помощи. Плетенберг должен был рассчитывать только на собственные силы.
В 1492 г., по истечении срока десятилетнего перемирия, Иван III основал Ивангород. В 1493 г. перемирие было продолжено ещё на 10 лет. Однако в том же году отношения между Ливонией и Русью обострились. Автор «Ливонской хроники» Б. Рюссов в качестве причины указывает на казнь двух русских в Ревеле. Русский же летописец говорит о разбое на море, об обидах и поруганиях, которые ревельцы чинили новгородским купцам, послам великокняжеским, которые ходили в Рим и в немецкую землю{17}. Иван III потребовал выдачи Ревельского магистрата. После отказа магистра он под предлогом «неисправления ревельцев» уничтожил в 1495 г. ганзейскую контору в Новгороде, арестовав 49 немецких купцов из 13 городов и отняв у них товары. Другой причиной таких действий были обязательства, связанные с заключённым в этом же году союзом с Данией, врагом Ганзы. Датский король, уступая Москве часть Финляндии и обещая помощь в войне против Швеции, требовал, чтобы великий князь действовал против ганзейских купцов в Новгороде.
Мирным путём конфликт уладить не удалось. Хотя арестованных ганзейских купцов и отпустили, но товар не вернули. Магистр отреагировал задержанием псковских купцов, что явилось объявлением войны. В августе 1501 г. под Изборском Плетенберг нанёс русским сильное поражение. В ноябре 1501 г. великий князь ответил опустошением всего дерптского епископства, части эстонского епископства и части рижского архиепископства. 24 ноября 1501 г. под Гельмедом русское войско вновь встретилось с орденским на поле брани. Правда, стороны не сошлись в оценках, кто кого победил. Каждый приписывал победу себе, а поражение — противнику.
В битве же под Псковом 13 сентября 1502 г., явившейся одной из самых кровопролитных и ожесточённых, военное счастье было на стороне Плетенберга. Однако эта победа ничего не меняла в соотношении сил и не оказывала принципиального влияния на общую тенденцию: орден уже не мог успешно противостоять московскому государству. Это, в частности, подтвердил великий магистр в послании к папе, когда писал: «Русские хотят или покорить всю Ливонию, или, если не смогут этого по причине крепостей, то хотят вконец опустошить её, перебивши или отведши в плен сельских жителей; они уже проникли до половины страны, магистр ливонский не в состоянии противиться таким силам, от соседей же плохая помощь; христианство в опасности, и потому святой отец должен провозгласить или крестовый поход, или юбилей[12]»{18}.
Ни того, ни другого провозглашено не было. Ливония и русское государство заключили перемирие на шесть лет по старине: епископ Дерптский (Юрьевский) должен был платить старинную дань, но пленных ливонцев русские не отпустили. Это перемирие было возобновлено 25 марта 1508 г. преемником Ивана III Василием на 14 лет. 1 сентября 1517 г. перемирие продолжили на 10 лет и наконец в 1531 г. продлили на новые 20 лет. Благодаря удачным действиям Плетенберга под Изборском и Псковом Ливония получила 50 лет мирного времени.
II.6. Реформация
О Мартине Лютере и его учении
Реформация пришла в Ливонию из Германии и Северной Европы, где под воздействием идей Лютера, направленных на борьбу с папством, была проведена церковная реформа. Однако дух свободомыслия, неприятия папства зародился всё же в Италии в эпоху Возрождения, когда расшатавшемуся авторитету католицизма был противопоставлен авторитет древнего мира с его республиканскими учреждениями, нравами, мировоззрением. В то же время свободомыслие представителей итальянской интеллигенции и буржуазии, возмущавшихся алчностью духовенства и особенно папской курии, имело скорее словесный и литературный характер, чем действенный и воинствующий. Они всё же отдавали должное папству, которое превратило Рим в крупный центр потребления стекавшихся со всей Европы богатств, часть которых тратилась на поддержку искусства[13]. Впрочем, участие в потреблении богатств Рима не мешало распространению среди значительной части образованного населения Италии идей, расшатывавших основы религиозного мировоззрения. Так, считалось признаком образованного человека не разделять мнения, совпадающего с установленными истинами христианского учения.
Эти идеи свободомыслия доходили и до Германии, поддерживавшей с Италией тесные торговые, политические и церковные связи. Но здесь не было почвы для снисходительного отношения к папству, ибо папы, пользуясь слабостью центральной власти Германии, нещадно эксплуатировали эту страну, являвшуюся для них вплоть до Реформации золотым дном. Германия несла на себе такие тяготы, от которых давно были свободны Франция, Англия и Испания, где часть церковных доходов оставалась в пределах страны. В Германии же священник, чтобы получить хлебный приход, должен был ради него несколько лет прослужить в Риме, или же направить туда крупную сумму денег для подкупа, или же купить приход через агентов-банкиров папской курии. В этой ситуации в среде многочисленной немецкой монашеской братии влияние атмосферы итальянского Возрождения трансформировалось в тягу к изучению еврейского и греческого языков, чтобы сличить первоисточники Ветхого и Нового Заветов с проповедями Рима и всей церковной иерархии{19}. Вопрос о соответствии «подлинного» вероучения и действительности волновал и августинского монаха Мартина Лютера, проводившего бессонные ночи в борьбе против «дьявольской плоти».
Мартин Лютер (1483 — 1546) — немецкий теолог и духовный отец Реформации. В 1508 г. Мартин Лютер был приглашён профессором богословия в Виттенбергский университет. В своих лекциях он проводил мысль, что богословам следует изучать преимущественно Библию, а не учение латинской Церкви, так как Основатель христианства и Его первые ученики проповедовали совсем не то, что посредством соборов, пап и схоластиков сделалось учением Церкви. В тот период Рим, защищая свою монополию на христианское вероучение и его интерпретацию, следил за тем, чтобы библейские книги были недоступны не только народу, но и священникам. Римские первосвященники требовали от королей и князей предавать смерти тех мужей, которые захотят проповедовать по Священному Писанию, а не по воле папы. Так, 6 июля 1415 г. (за сто лет до Лютера) по приговору церковного и имперского сейма был заживо сожжен на костре Ян Гус, утверждавший в своих проповедях, что не папа, а только Христос есть глава Вселенской Церкви. Сам Лютер нашёл Библию среди множества книг, прикованную цепями к стене, чтобы никто не мог брать её для чтения. Усвоив из Библии «правую единственную веру», он стал смелым и бескомпромиссным её распространителем. Однако с проповедью коренной церковной реформы он выступил лишь тогда, когда Германию захлестнула кампания продажи индульгенций (письменных отпущений грехов — как содеянных, так и будущих) с целью сбора денежных средств на постройку в Риме громадного собора Св. Петра. Продажу этих индульгенций папа сдавал за круглую сумму в оптовую аренду, а арендаторы уже от себя рассылали комиссаров по городам и деревням для розничной продажи. Одним из таких комиссаров был доминиканский монах Иоганн Тецель, устроивший торг поблизости Виттенберга. «Отдайте свои деньги, — убеждал Тецель немецкую паству, — и это будет гарантией, что ваши умершие родственники больше не находятся в чистилище». Такая грубая коммерциализация доктрины индульгенций нашла своё выражение в лозунге Тецеля: «Как только монета в сундук попадает, душа из чистилища в рай воспаряет». Лютер не остался хладнокровным наблюдателем того, как Тецель обманывает верующих. Из лона ордена августинских монахов прозвучал его вопрос, поддержанный всей страной: «Почему папа, который, несомненно, богаче Креза, строит церковь Св. Петра не на свои деньги, а на деньги нищих и бедных христиан Германии?» А 31 октября 1517 г. Лютер прибил к дверям замковой церкви в Виттенберге 95 положений (тезисов) против индульгенций и вообще против порядков папской церкви. В то время это был обычный способ приглашения к публичной дискуссии.
С этих-то 95 тезисов, распространившихся с чрезвычайной быстротой и в Германии, и в Европе, начинается история Реформации. 95 тезисов, хотя и были написаны на латыни, сразу же произвели сенсацию, вначале в академических кругах Виттенберга, затем и среди более широкой аудитории. В декабре 1517 г. печатные издания тезисов в форме памфлетов и листовок появились одновременно в Лейпциге, Нюрнберге и Базеле. Эта акция была оплачена друзьями Лютера. Последовавшие вскоре немецкие переводы тезисов сделали их содержание понятным для населения в немецкоговорящих регионах. Друг Лютера Фридрих Микониус впоследствии писал, что не прошло и 14 дней, как тезисы были известны повсюду в Германии, а по прошествии четырёх недель почти весь христианский мир был знаком с ними{20}.
В марте 1518 г. Лютер опубликовал памфлет «Проповедь индульгенций и отпущение грехов». В целях обеспечения большей доступности для населения обширной территории от Рейна до Саксонии он был написан по-немецки, с сознательным отказом от употребления диалектных слов. Считается, что этот памфлет, ставший настоящим бестселлером (в течение 1518 г. он выдержал 14 переизданий, каждый раз в количестве тысячи экземпляров), положил начало Реформации.
В отличие от книг памфлеты печатались в течение одного-двух дней. Часть экземпляров вначале расходилась среди населения города, где издание вышло в свет. Затем памфлеты распространялись с помощью последователей Лютера, при посредничестве книготорговцев, разносчиков книг, путешествующих купцов, оптовых торговцев, проповедников. Один из современников заметил, что памфлеты не столько продавались, сколько вырывались из рук продавцов.
Поскольку всё население Германии — от князей и духовенства до рыцарей и крестьян эксплуатировалось Римом и было настроено против «папы-пиявки», Лютер быстро превращается в любимейшего национального героя. Прежде холодный и схоластический буквоед становится восторженным пророком, не только языком, но и мечом своего времени{21}. Восстав первоначально лишь против торговли индульгенциями, он переходит к нападкам на авторитет самой Церкви и её высшего представителя — папы Льва X. Лютера давно и многое возмущает: участие епископов в придворных делах и распрях властей, общее падение нравов высокопоставленного духовенства, невежество низших священнослужителей, махинации с церковными бенефициями (т.е. вознаграждениями, полагающимися за исполнение церковной должности или духовное звание) и т.д. Самого же Льва X, представителя дома Медичи на папском престоле, любившего говорить о «прибыльности сказки о Христе», он сравнил с «червём, сосущим кровь и мозг немецкого народа»{22}.
Хотя Лютер был наиболее плодовитым и популярным автором, кроме него в дискуссии «за и против» участвовало много людей. Продавец индульгенций Тецель был первым, кто ответил Лютеру печатно, сформулировав свои контртезисы. Другие использовали формат памфлетов для оценки аргументов Лютера в режиме «за» и «против». Сильвестр Маззолини защитил папу против Лютера в своём «Диалоге против дерзких тезисов Мартина Лютера». Он назвал Лютера «прокажённым с мозгами из меди и носом из железа» и отверг его аргументы на основе непогрешимости папы. В ответном памфлете Лютер писал: «Сейчас я сожалею, что презирал Тецеля. Как бы он ни был смешон, он более сообразительный, чем Вы. Вы не цитируете Библию. Вы не приводите никаких доводов»{23}.
Быстро распространявшиеся памфлеты и листовки с доводами и контрдоводами оппонентов давали народу острое и беспрецедентное ощущение участия в широкой дискуссии. Люди читали памфлеты неграмотным, спорили в кругу семьи, с друзьями, в гостиницах и тавернах. В столкновении мнений участвовали представители разных сословий и профессий: от ткачей Саксонии до хлебопёков Тироля, от английского короля Генриха VIII, который за нападки на Лютера получил от папы титул «защитника веры», до Ганса Сакса, сапожника из Нюрнберга, сочинившего в защиту Лютера множество чрезвычайно популярных песен (зонтов). Помимо памфлетов, листовок, зонгов широкое распространение в качестве ещё одной разновидности пропаганды получают гравюры на дереве: комбинация смелой графики с кратким текстом. Выпускаемые в виде листовок, эти гравюры доносили идеи Лютера до неграмотных и полуграмотных и служили проповедникам в качестве наглядного материала. Аналогичные средства в информационной войне против Лютера использовали и сторонники папы.
Оппоненты Лютера связывали распространение его идей с болезнью, с раковой опухолью, которую необходимо отсечь, чтобы она не распространялась дальше. Папа Лев X своей буллой Exsurge Domine от 15 июня 1520 г. предписывает Лютеру отречься от своих взглядов, но тот отвечает отказом и сжигает буллу на виттенбергской площади. В том же 1520 г. он пишет три принципиальные работы: обращение К христианскому дворянству немецкой нации, в котором призывает власти и весь народ взять на себя ответственность за спасение родины и Церкви; О вавилонском пленении, где отвергает христианские таинства, за исключением крещения и Евхаристии (таинства Святого Причащения, воспроизводящего Тайную Вечерю); и О свободе христианина, где объявляет Священное Писание (т.е. апостолическое предание, записанное в книгах Нового Завета) единственным авторитетным источником веры в противоположность более поздним писаниям. Поскольку они появились по смерти апостолов, то, по мнению Лютера, их можно поставить под сомнение и, следовательно, при необходимости реформировать. Так, под сомнение Лютер поставил: монашество (появилось по истечении 350 лет после рождества Христова как путь к большей святости по сравнению с теми, кто пребывает в браке и исполняет свои обязанности); почитание мучеников, святых людей и Девы Марии (появилось 400 лет спустя после Христа); почитание икон и изображений Девы Марии и святых, поклонение им, как тем же самым лицам (650 лет спустя после Христа); провозглашение римскими епископами себя верховными владыками христианской Церкви и христианского народа, наместниками Христа на земле — папами (т.е. верховными отцами), слово которых народ должен слушать как самоё слово Божие (по прошествии 1000 лет после Христа); воспрещение римским архиепископом (или папой) каждому священнику вступать в брак (1074 г.); воспрещение преподавать причастие народу (в отличие от священников) из чаши, причащающийся народ получал только освящённый хлеб (1100 г.); воспрещение народу читать библейские книги, чтобы он не увидел, как далеко вероучение и распоряжения папы удалились от Священного Писания (1229 г.); распространение учения о том, что человек спасется добрыми делами; это учение становится неразлучным с практикой отпущения и прощения римским епископом грехов за деньги (в 1500 г. после Христа продавались и покупались грехоотпустительные грамоты — индульгенции){24}.
Поскольку взгляды Лютера благодаря печатному станку и социальным сетям эры Реформации с быстротой огня распространялись по империи, и их политические последствия были очевидны, папа, чтобы не допустить «инфицирования немецкой нации», заклеймил Лютера в 1521 г. как «отъявленного еретика», а германский император Карл V объявил его вне закона, что означало изгнание с территории империи. Но было уже поздно, «инфекция» овладела Германией и вышла за её пределы. Журнал «Экономист», используя современную идиому, констатировал: посыл («месседж») Лютера превратился в вирус{25}. Хотя Церковь на все писания Лютера накладывает запрет и все его печатные издания сжигаются, общественное мнение уже чётко повернулось в пользу Лютера. Памфлеты и их покупатели создали вместе впечатление несокрушимой силы. Широкая народная поддержка помогает Лютеру избежать расправы. Он находит убежище у своего покровителя князя Фридриха Саксонского, а Реформация постепенно побеждает во всей Германии.
Война, объявленная Лютером тяжёлому игу папства, привела в движение все сословия Германии. «Низы» увидели возможность свести счёты со всеми своими угнетателями и восприняли «Божье слово» Лютера (несмотря на его чёткое неодобрение) как легитимационную основу для своих действий, которые переросли в «Великую крестьянскую войну»[14]. «Верхи» желали лишь положить конец зависимости от Рима, уничтожить католическую иерархию и обогатиться за счёт конфискации церковных имуществ. Когда в ходе крестьянской войны произошло резкое размежевание сословий, Лютер без колебаний встал на сторону князей, которые организовали разгром восставших крестьян и примкнувшей к ним части бюргерства.
Касаясь выступлений «низов» против «верхов», Лютер призывал к гражданскому повиновению, в том числе и по отношению к тиранам, указывая на то, что рано или поздно несправедливые правители почувствуют гнев Божий. Он считал, пусть лучше «чернь» испытает всю несправедливость тирана, чем сама применит насилие в отношении его. Ибо «обезумевшая чернь» не знает меры и тиранию легче выносить, чем скверную гражданскую войну.
Лютер внёс вклад в теорию справедливых войн, рассмотрел случаи совместимости христианства и применения вооружённого насилия. Так, Лютер оправдывает использование «меча» Бога, для того чтобы наказать зло, защитить праведных и благочестивых, сохранить мир{26}.
Хотя Лютер часто вмешивался в политические вопросы своего времени, своей интерпретацией христианства он преследовал не политическую, а в первую очередь религиозную цель. Он требовал реформы Церкви.
По Лютеру, христианская теология должна покоиться на трёх опорах:
— Только на словах Библии. Священное Предание отвергается. Каждый христианин имеет право толковать и проповедовать Слово Божье и может быть избран пастором церковной общиной, члены которой не должны делиться на священников и мирян.
— Только на благодати (т.е. Боге). Единственным главой Церкви является Христос, институт папства отвергается как обязательное условие существования христианства.
— Только на вере (sola fide). К этой ключевой формуле своего учения Лютер пришёл через осознание своей греховности (вожделения плоти, дурные стремления, гнев, злоба), через мучительный страх перед гневом Божьим и череду тяжёлых душевных кризисов. При толковании Послания к Галатам апостола Павла он приходит к выводу, что остатки греховности не могут быть совершенно изгнаны из человеческой плоти, но отчаянье человека, тщетно пытающегося победить свою плоть, праведно в глазах Бога. Человек должен уповать на спасительную милость Иисуса Христа и праведною верой жив будет{27}. Таким образом, пассивному следованию диктату церковной иерархии Лютер противопоставил внутреннее приобщение к благодати через веру. Вопреки утверждениям, принятым Церковью в XVI в., Лютер, вслед за св. Павлом, считал, что праведник будет жив не «добрыми делами», не сомнительными религиозными уловками (различные «бесполезные» праздники, посты, монашество, паломничество к святым местам, почитание святых, священные амулеты, безбрачная жизнь и т.д.) а верой[15]. Праведник должен в миру служить Богу, честно исполняя свой долг труженика — ремесленника, земледельца, учителя, министра или монарха. То есть самым обычным человеческим действиям — семейным обязанностям, повседневному труду придаётся значение полноценных нравственно-религиозных свершений и они получают высочайший в христианской религии статус несения креста{28}. «О подлинности и крепости веры, — отмечает Э.Ю. Соловьёв в своём анализе теологии Лютера, — Бог судит по терпению и упорству, с каким человек переносит свой земной удел: по тому, является ли он хорошим семьянином, крестьянином, учителем, государем….Поскольку эффект дела косвенно свидетельствует об упорстве деятеля и, стало быть, о прочности его веры — он может теперь квалифицироваться как внешняя примета спасения. Отсюда — только один шаг до утверждения, что Бога более всего радует богатство, добытое трудом…»{29}. Эта новая ценностная установка легла в основу этики североевропейского капитализма.
Своей интерпретацией христианской веры Лютер привёл в движение общественные и политические процессы и тем самым спровоцировал в конечном итоге раскол Церкви. Наряду с католичеством и православием появилось новое христианское направление — протестантизм (от лат. protestari — «провозгласить публично» и testari — «свидетельствовать»), которое включает в себя много Церквей и течений: лютеранство, кальвинизм, реформатство, англиканство и многие другие.
Для папы и католической верхушки больше не было места в руководстве немецкой Церковью. Зародилась «независимая» немецкая Церковь, целиком оказавшаяся во власти князей. Согласно постановлению имперского сейма (рейхстага) в Шпейере (1526 г.), владетельные особы устанавливали «свою» религию в пределах «своей» земли по формуле «cujus regio, ejus religio» («чьё правление, того и вера»). Это способствовало усилению абсолютизма в маленьких немецких княжествах, из которых состояла Германия, и в то же время закрепляло раздробленность страны в целом.
Торговцы индульгенциями были изгнаны, поскольку, согласно протестантскому вероучению, никакой совершённый акт (opus operatum) при пассивности человека не может его спасти, если он сам внутренне не приобщается к благодати. Одновременно узаконивались притязания материальной жизни, т.е. плоти. Целибат был отменён, а вместе с ним исчезают благочестивое распутство и монастырские пороки. Священник становится обыкновенным человеком, берёт жену и родит детей. Во времена Реформации, особенно после значительных успехов естествознания, очень быстро исчезает вера в святых, в католические легенды и чудеса (но не вера в ухищрения сатаны, колдовство и ведовство){30}. Святых поминают, но только для того, чтобы подражать их вере и добродетелям. Их не призывают на помощь, и к ним не обращаются с молитвами. Единственным Посредником, Спасителем, Первосвященником и Ходатаем признаётся только Христос{31}.
Центральное место в литургии (всеобъемлющее и главнейшее церковное богослужение) лютеране отводят Тайной Вечере, не отказываются ни от свечей, ни от распятий, иногда даже и от крестного знамения. Церемонии происходят в строгой обстановке, практически без литургической одежды; иконы, как правило, отсутствуют, посты и монашество отвергаются. Основное время посвящается чтению Писания, проповедям и песнопениям{32}.
По мнению атеиста К. Маркса, Лютер, давая некоторый простор человеческой мысли, теснейшим образом сковывал её авторитетом Библии. «Он разбил веру в авторитет, восстановив авторитет веры. Он превратил попов в мирян, превратив мирян в попов. Он освободил человека от внешней религиозности, сделав религиозность внутренним миром человека. Он эмансипировал плоть от оков, наложив оковы на сердце человека»{33}.
Протестант Г. Гейне дал более объёмную оценку миссии Лютера. В принципе он солидарен с Марксом, когда пишет: «После того как Лютер освободил нас от традиции и возвысил Библию до степени единственного источника христианства, возникло косное служение слову и букве, и Библия воцарилась столь же тиранически, как некогда традиция»{34}. В то же время, будучи сам родом из Северной Германии, Гейне свидетельствовал, что протестантство оказало самое благое влияние, «способствуя той чистоте нравов и той строгости в исполнении долга, которую обычно называют моралью»{35}. Хотя сам Лютер в своих оценках и суждениях был подчас односторонен, прямолинеен и даже груб, Г. Гейне, воздавая славу этому человеку, даёт ему взвешенные и нередко восторженные характеристики. Он называет Лютера абсолютным человеком, в котором были неразрывны дух и плоть, способность погружаться в область чистой духовности и умение ценить прелести жизни. А слетевшее с уст Реформатора Церкви изречение «Кто к вину, женщинам и песням не тянется, тот на всю жизнь дураком останется» немецкий поэт и философ находит чудесным{36}. Сам Лютер не мог не ценить вина (немецкие монастыри славились виноделием); как многие монахи и монахини, для которых Реформация повсюду распахнула монастырские ворота, он вступил в брак, женившись в 1525 г. на бывшей монахине Катерине фон Бора; а вечерами он не только брался за флейту, но и сочинял мелодичные духовные гимны и даже написал трактат о музыке.
Лютер оставил своим ученикам заботу об организации реформаторского движения, а сам продолжил деятельность преподавателя, проповедника и писателя. Он перевёл Новый Завет (с некоторыми сознательными и бессознательными уклонениями) на немецкий язык, понятный народу. Перевод Библии и оригинальные сочинения Лютера способствовали тому, что язык Лютера в течение немногих лет распространился по всей Германии и возвысился до всеобщего литературного языка. Библия в переводе Лютера используется и сегодня. Признание Лютером прав разума при толковании Библии послужило в Германии источником свободы мысли, венцом которой стала классическая немецкая философия — один из источников марксизма, по определению В.И. Ленина.
Касаясь отношения Русской Православной Церкви (РПЦ) к учению Лютера, следует сказать, что со времён Реформации отношение РПЦ к протестантизму было более спокойным, чем к католичеству. Дело в том, что в протестантизме церковное руководство не видело угрозы для религиозного сознания народа в силу слишком больших литургических и культовых различий. К тому же непримиримая позиция протестантов в отношении католиков устраивала русское духовенство, поскольку она ослабляла притязания Римской Церкви, против которых восставала и РПЦ. На протестантов смотрели как на еретиков, «недругов целостности православия», но относились к ним терпимее, чем к католичеству. Здесь сказывалась и традиционная латинобоязнь служителей Русской Церкви.
С поворотом Петра Великого к Западу и возрастанием влияния протестантов на внутренние государственные дела Российской империи соприкосновение русского общества с протестантским миром усиливается. Богословская полемика с религиозными, политическими, экономическими воззрениями протестантов («Камень веры» Стефана Яворского, 1718 г.), с которыми отождествлялось и отечественное религиозное вольнодумство, сочетается с расширением круга взаимодействия православного духовенства с протестантами (в частности, перенимается протестантский педагогический опыт при подготовке будущих православных пастырей), хотя формально весь архиерейский корпус и тем более простые священнослужители продолжают отторгать протестантские догмы и культ как ересь{37}.
Если говорить об отношении протестантской Церкви к православию, то оно было отнюдь не терпимым, в особенности там, где шла борьба за души паствы. В Прибалтике начиная с 1840-х гг. нетерпимость протестантского духовенства к РПЦ достигнет крайних форм. На вооружение будет взят не только догматический меч Лютера, отточенный в борьбе с католичеством, но и всякого рода недостойные ухищрения: интриги, наветы, обман, очернительство, психологический террор, экономическое давление. В результате протестантская Церковь помешает цивилизационному срастанию балтийского берега с Российской империей. Но об этом речь впереди.
Реформация в Ливонии
Учение Лютера победило и в Ливонии. Оно нашло поддержку среди немецких колонистов, поскольку стало катализатором давних враждебных отношений между католическими епископами и орденом.
Мы помним, что епископ Альберт был вынужден основать духовно-рыцарский орден, чтобы удержать ливонские завоевания перед лицом угроз внутренних (восстания туземцев) и внешних (со стороны Польши, Литвы, Руси, Швеции). Однако орден, почувствовав собственную силу, не замедлил вступить в борьбу со своим господином — архиепископом. В результате в Ливонии наблюдалась такая же борьба между духовной и светской властью, какая происходила в Германии между папой и императором. К началу XVI в. орден при магистре Плеттенберге стал приобретать решающий перевес над духовной властью. Как только Лютер в Германии заговорил о вавилонском пленении латинской Церкви и необходимости коренной церковной реформы, так сразу же дала о себе знать старая вражда, тянувшаяся целые столетия между орденом и духовенством: орденские чины и сам магистр Плетенберг явились доброжелателями нового учения. Город Рига, вассалы (как епископские, так и орденские) последовали за орденом и магистром, поскольку видели на их стороне преобладание и силу и к тому же не желали подчиняться власти духовенства. Важно отметить, что успеху лютеранства способствовало и само католическое духовенство, которое дискредитировало себя: высшие его представители были одержимы наживой, а низшие отличались крайней невежественностью. Когда в Ливонию проникло учение Лютера, колонисты, видя распущенность своего духовенства, просто отвернулись от него.
Что касается латышей и эстонцев, то им церковная реформа как таковая была совершенно безразлична. Хотя они при крещении и были зачислены в католики, но, в сущности, оставались такими же язычниками, какими и были до прихода крестоносцев. Ведь священников, знавших местные языки, не было. Богослужения проходили на латинском языке, непонятном не только туземцам, но и огромной массе самих колонистов. Проповедь же велась на языке немецком, который местное население также не знало. Не было и школ, которые могли бы приобщить крестьянских детей к азам христианства. Что касается перехода в лютеранство, то о желании ливонских туземцев никто не собирался спрашивать. Да они и сами не смогли бы чётко определиться в этом вопросе. Они не чувствовали ни малейшей солидарности со своим католическим духовенством, но и лютеранство им было так же чуждо и непонятно, как и латинство.
Вместе с тем опыт Реформации и в Германии, и в Ливонии показывает: чтобы победить, интересы духовные всегда должны вступать в союз с материальными. Если сам Лютер, как принято считать, думал не о себе и руководствовался исключительно своим пониманием Божьего Промысла, то другие сторонники Реформации видели, что каждый здесь может что-нибудь выиграть, и втайне помышляли о земных выгодах.
Как и в Германии, каждый слой здесь связывал с Реформацией свои собственные интересы. Светские вассалы-колонисты (как орденские, так и епископские) радовались возможности захватить церковные земли и имущество, освободиться из-под власти папы и епископов, сократить расходы на церковь и расширить свои права. Высокие прелаты прикидывали, не смогут ли они жениться на своих «хозяйках» и передать в наследство своим отпрыскам мужского пола земельные владения. Представители городов радовались новому расширению своей независимости благодаря отречению от католических епископов. Угнетённые крестьяне были не прочь использовать «лютеранское возмущение» для отстаивания своих земных интересов.
Магистр Вольтер фон Плеттенберг хотя и был расположен к реформации, но не забывал, что орден — это католическое учреждение. К тому же переход в лютеранство означал бы для него отказ от своих духовных ценностей, выход из прежнего жизненного круга. Он был уже в летах, мало вмешивался в события, но наблюдал за ними, чтобы извлечь из них возможно большую пользу для ордена и своего значения как магистра.
Реформация началась в Риге с бегством сюда из Трептова в 1521 г. последователя Лютера и учителя Андрея Кнопа (или Кнэпкена). В Трептове его деятельность по распространению учения Лютера шла рука об руку с разоблачениями злоупотреблений католической Церкви, что вело к разгулу страстей и выливалось в фактические оскорбления католических духовных лиц. Толпа, подстрекаемая адептами Лютера, с негодованием забрасывала их грязью во время обычных процессий по улицам города. А в одну из ночей чернь, привлечённая на сторону «просветленных религиозных воззрений», вытащила из церкви Святого Духа статуи и иконы и побросала их в близлежащий колодец. Поскольку епископ Каминский Эрасм Мантейфель принял меры против повторения подобных бесчинств, равно как и против распространения учения Лютера, Кнэпкен, чтобы избежать преследования епископа, решил продолжить свою миссию в Риге. Здесь он стал давать частные уроки юношеству, действуя вначале осторожно и втихомолку, поскольку круг приверженцев Лютера в Риге был ещё узок. Вскоре число его слушателей и друзей стало быстро расти. Кнэпкен обрёл и влиятельных покровителей в лице бургомистра Конрада Дуркопа и городского секретаря М. Иоанна Ломиллера.
В то время средством улаживания научных споров служили открытые диспуты. На таком диспуте, проходившем на хорах Петровской церкви под председательством и защитой бургомистра Конрода Дуркопа, Кнэпкен решительно разбил ссылками на Евангелие своих оппонентов-монахов по дискутировавшимся отдельным вероисповедным пунктам.
Чтобы противодействовать «распространению ереси», Рижский архиепископ Каспар Линде в союзе с Дерптским и Ревельским епископом Иоанном Бланкенфельдом объявили на ландтаге в Вольмаре (1522 г.) сочинения Лютера еретическими, соблазнительными и порочными и предали их проклятию. Это проклятие никого не испугало, а, напротив, способствовало объединению всего земского рыцарства и городов (Риги, Ревеля и Дерпта) против ливонского духовенства. Такое сближение было достигнуто особенно усилиями Ломиллера.
Однако архиепископ Каспар Линде по-прежнему не только ничего не хотел слышать о реформах, но и не собирался ликвидировать самые одиозные, по мнению сторонников Лютера, злоупотребления в церковной жизни. Тогда Рижский магистрат, первоначально не желавший идти на открытый разрыв с католической Церковью, вошёл в соглашение со старшинами обеих гильдий и избрал А. Кнэпкена архидьяконом при церкви Св. Петра. 23 октября 1522 г. Кнэпкен произнёс свою вступительную проповедь и тем самым заложил первый камень в основание евангелической Церкви в Ливонии.
В Ливонии, как и в Германии, утверждение идей Лютера сопровождалось бурными сценами. Толпы людей, возбуждённые необузданными проповедниками (особенно отличался Сильвестр Тегельмейер) и усвоившие только внешнюю форму лютеранства, стали проявлять своё усердие к новому учению путём низвержения и публичного сжигания икон, уничтожения украшений церквей, могильных памятников и другими насильственными действиями. Всеобщее возбуждение не стихало.
Лютер живо интересовался распространением евангелического учения в Ливонии, состоял в переписке со своими ливонскими сторонниками, направлял городам Риге, Ревелю и Дерпту послания, в которых делился своим богословским опытом. В частности в письме от 25 июня 1525 г. он предостерегал пасторов и проповедников от раздоров в деле обрядов. Хотя внешние обряды, учил Лютер, в богослужении для блаженства ничего не значат, всё же не по-христиански начинать по их поводу раздоры и тем сбивать с толку бедный народ. Лютер посвятил христианам в Риге и Ливонии своё изложение 27-го псалма{38}.
Известие о новом религиозном учении вскоре достигло и Ревеля и вылилось в такие же волнения, как и в Риге. Плеттенберг, обеспокоенный эксцессами в Риге, в письме магистрату Ревеля приказывал запретить проповеди против католической религии. Однако всеобщее возбуждение в пользу Реформации опрокидывало все запреты. 14 сентября Иоанн Ланге и Иоанн Массиен произнесли в Николаевской церкви Ревеля первые евангелические проповеди. С этого времени лютеранское учение стало утверждаться в городе. После того как Ревель, вслед за Ригой, отказался от своего епископа, Плеттенберг принял присягу от Ревеля одному себе и подтвердил этому городу его вольности.
Всеобщее религиозное возбуждение распространилось и на сельскую местность. В деревнях часть крестьян, прослышавших о требованиях восставших немецких крестьян, прекращали работу на барщине, отказывались платить долги и подати. Неурожай и голод 1525 г. ещё более усилили брожение среди «низов».
В 1525 г. эстонские крестьяне заявили о своём желании самим избирать проповедников чистого Евангелия и отстранять их, если они придутся им не по вкусу. Содержать проповедников они намеревались на собственные добровольные взносы, а излишек направлять в пользу вдов и сирот. Со ссылкой на Библию, они требовали отмены крепостного права, гражданского равенства, которое распространяли и на занятие общественных должностей. Хотя крестьянское движение в эстонской части Ливонии было непродолжительным и вскоре стихло, оно показало (как и Великая крестьянская война в Германии), что всякое духовное движение не замыкается в себе и мощно проникает в другие отношения, прежде всего социальные{39}. Этот вывод Вильгельма Брахмана, автора статьи «Реформация в Ливонии» (1850 г.), подтверждают на широком историческом материале и современные социологи.
В Дерпте начало Реформации было связано с личностью Мельхиора Гофмана, скорняка из Швабии. Это был человек, одарённый живым умом, хорошей памятью, пламенным воображением.
Свою проповедческую деятельность он начал как сторонник Лютера, что обеспечило ему доступ в ближайшее окружение этого вероучителя. Однако с течением времени Гофман подпал под влияние воззрений Томаса Мюнцера[16] и, по мнению лютеран, вместо дельного законоучителя стал религиозным мечтателем. Исследователь истории перекрещенцев Крон писал, что «Гофман начал своё предприятие как ревнитель, продолжил его как мечтатель, а кончил вместе с жизнью как обманутый глупец»{40}.
Один или в сопровождении своих единомышленников Гофман изъездил Германию, Швабию, побывал в Стокгольме, затем отправился в Ливонию. Везде он распространял свои учения, производя волнения среди народных «низов».
Гофман прибыл в Дерпт осенью 1524 г., когда под влиянием событий в Риге и Ревеле уже произошёл поворот горожан в пользу Реформации. Поэтому, когда епископская партия решила арестовать Гофмана, чтобы как можно скорее удалить его из города, эти намерения не только встретили сопротивление горожан, но и сообщили новый импульс реформационному движению и сопровождавшим его бесчинствам. Бюргеры не только разгромили церкви, но и заняли архиепископский замок, который долгое время держали в своей власти. Гофман же удалился из Дерпта в Ригу, а затем в Виттенберг к Лютеру. В этот период его идеи круто меняют прежнее направление. Он хочет, чтобы проповедник не стоял над паствой, а избирался из народной среды. Он мечтает об обществе, где нет голода, бедствий, нищеты и призывает к борьбе за этот идеал, т.е. соединяет религиозное учение с социальным протестом и земными интересами «низов».
Весной 1526 г. Гофман снова в Дерпте. Занятие скорняжными работами ради пропитания он сочетает с проповедями, излагая свои воззрения на предопределение, исповедь, отречение от Церкви, причастие, иконы, учительскую должность, день Страшного Суда и пр. Он проповедует с такой горячностью, что страсть к разрушению овладевает наэлектризованными слушателями. Как и в других ливонских городах, всё происходит по одному и тому же сценарию. Толпы из немецкого, латышского и эстонского городского простонародья врываются в церкви и монастыри, уничтожают алтари, иконы и скульптурные изображения святых, а церковное имущество растаскивают. В Дерпте чернь громит Мариинскую и Иоанновскую церкви, штурмом берёт Дерптский собор, занимает Доминиканский и Миноритский монастыри, а также женский монастырь Францисканского ордена, изгоняя оттуда монахов и монахинь. Некоторые из монахинь вскоре выходят замуж, монахи же, снявшие монашескую одежду и принявшие лютеранское учение, получают бюргерское право. Доходами этих монастырей завладевает город, а чтобы сами монастыри впредь не могли служить местом религиозных сборищ, дерптцы превратили Доминиканский монастырь в цейхгауз, а во Францисканском монастыре стали обжигать известь. Разрушению подверглась и православная церковь, воздвигнутая для русских купцов. Впоследствии за это злодеяние дерптцам придётся горько раскаяться, потому что оно станет для царя Иоанна Васильевича Грозного одним из поводов к войне, которая долго будет опустошать Ливонию.
Вскоре после учинённого мятежа Гофман покидает Дерпт и исчезает из ливонской истории. Дерпт же принимает лютеранское учение и отказывается от духовного управления своего епископа, которому остаются ограниченные права светского князя. В своих отношениях к городу епископ выступает более покровителем, чем собственно властителем.
В конечном итоге представители ливонских корпораций договариваются между собой. Согласно решению ландтага в Вольмаре (15 июня 1526 г.), архиепископы и епископы Ливонии вместе с их капитулами и рыцарствами были подчинены орденскому магистру. Таким образом, старинный спор между орденом и духовенством пришёл к своему окончанию: светская власть одержала победу над духовной. Магистр Плеттенберг получил власть, которой до него не достигал ни один магистр: он стал покровителем всей Ливонии. К этому времени закончил своё существование Тевтонский орден в Пруссии. После того как его глава Альбрехт сложил с себя звание великого магистра, польский король пожаловал его леном — герцогством прусским, а сословия Пруссии охотно присягнули Альбрехту как светскому князю. В результате сама собой отпала и прежняя зависимость Плеттенберга от великого магистра, и он сам стал вполне самостоятельным светским князем Римской империи. Это нашло отражение и в русских официальных бумагах начала XVI века. В них ливонский магистр именовался князем-мистром.
Хотя Плеттенберг и был расположен к лютеранскому учению, он сохранил внешнюю видимость приверженности католической Церкви, зная, что католическая партия в Ливонии вовсе не была так незначительна, чтобы терпеть над собой власть лютеранского господина. В своём ответе польским послам Плеттенберг заявил, «что в этом лютеранском возмущении он явится вместе со своим орденом покорным папскому святейшеству и императорскому величеству»{41}.
На ландтаге в Вольмаре 25 февраля 1532 г. сословия согласились, чтобы всякий, высокого или низкого звания, поступал в делах веры так, как может отдать отчёт перед Богом, Императорским Величеством и всем христианством. Это решение явилось переходным к признанию свободы вероисповедания.
В 1535 г., благодаря Реформации, богослужение переводится с латыни на родной язык паствы. Возникают условия для развития языка местного населения. В 1535 г. появилось старейшее из известных печатных изданий на эстонском языке — катехизис, отпечатанный в Виттенберге в количестве 1500 экземпляров. Катехизис составлен на двух языках: текст на нижненемецком языке написан пастором церкви Нигулисте Симоном Ванрадтом, а эстонский перевод сделан пастором эстонского прихода церкви Святого Духа Иоганном Кэлем.
Дело Реформации не затормозилось, когда 28 февраля 1535 г. при богослужении перед алтарём церкви Св. Иоанна в Вендене скончался Вольтер фон Плеттенберг. Его преемником в должности орденского магистра стал Герман фон Брюггеней, по прозванию Газенкамп, известный своим благосклонным отношением к лютеранскому учению.
Последним кирпичиком в здание Реформации в Ливонии стало решение ландтага в Вольмере (17 января 1554 г.) о свободе религии. Протестантство было уравнено в правах с католичеством, и таким образом Реформация в Ливонии достигла своей цели{42}.
Земельные владения католической Церкви были сохранены. В то же время в городах была создана протестантская Церковь, а вассалы стали постепенно менять веру. Утвердился принцип: кому принадлежит земля, тот определяет и религию.
II.7. О «старом добром времени» в Ливонии. На пороге катастрофы
Ливония просуществовала три с половиной столетия. Ревельский пастор и летописец Бальтазар Рюссов (умер в 1600 г.) был свидетелем исторических событий, повлёкших за собой прекращение существования Ливонского ордена и переход ливонских земель немецких колонистов под власть других государств (Швеции и Польши). В оставленной им Ливонской хронике)[17], отпечатанной в 1584 в г. Барте (Померания), Б. Рюссов старается объяснить причины постигших Ливонию несчастий. При этом, как отмечают комментаторы, он, по всей видимости, заботился о полноте и верности своих сообщений{43}.
В своей хронике Рюссов выделяет в первую очередь нравственные причины краха Ливонского ордена, а вместе с ним и Ливонии. О них и пойдёт речь в данном разделе. Важно обратить внимание на то, что свои оценки Б. Рюссов выносит исходя из норм и ценностей протестантской этики. Мы знаем, что протестантство (или, как выражается Рюссов, «свет Божественного Евангелия») стало проникать в Ливонию начиная с 1522 г. Сравнительно в короткое время земские и городские колонисты приняли новое учение. Одновременно они автоматически перевели и крестьян (ненемцев) из католичества в лютеранство. Однако распространённая на Ливонию церковная реформа не привела к быстрому исправлению нравов, сформировавшихся в период католичества. Этим и можно объяснить обличительный пафос Рюссова, который в упадке нравственности усматривает одну из важнейших причин утраты Ливонией самостоятельности.
Успешное покорение Ливонии и обращение в христианство её населения Рюссов объясняет благоволением и милостью Божьей. Рюссов подчёркивает, что этот тяжёлый и грубый труд, который выпадает на долю первопроходцев, был совершён благочестивыми, самоотверженными епископами и грозными, аскетическими рыцарями во славу Спасителя. Своим преемникам они оставили обширные земли, крепкие замки, возведённые города и завет «заботиться единственно о славе Божьей и о душевном благосостоянии бедных, неразумных ливонцев, которые были ещё несовершенны в познаниях о Боге»{44}.
Однако потомки оказались недостойными первых «благочестивых и честных» покорителей Ливонии и погубили себя и страну. Унаследовав дела и завоевания предков, они считали, что им не о чем заботиться: местные племена были покорены, платили дань и работали на своих господ, хотя и ненавидели их. Хорошее кормление, обеспечивавшее привольную, беззаботную жизнь, вело к эпикурейству, изнеженности и распущенности. А от них недалеко и до полного разложения. Под заголовком «Доброе старое время в Ливонии» Рюссов описывает нравы и быт ливонцев накануне постигшей их катастрофы. Он отмечает распространившиеся среди них самоуверенность, праздность, тщеславие, пышность и хвастовство, сластолюбие, безмерное распутство и бесстыдство{45}.
Так, орденские сановники, епископы и каноники, будучи начальством, хранителями душ и пастырями овец, не считали стыдом иметь наложниц, которых называли хозяйками. С ними они «хозяйничали» до тех пор, пока не заменяли их другими, а других — новыми[18]. Когда этот обычай распространился повсеместно, не устояли и некоторые евангелические священники, заведя у себя, подобно другим, наложниц или хозяек.
Неудивительно, что подобную практику Рюссов отмечает и у местных крестьян, большинство которых, несмотря на обращение в христианство, ничего не знало о брачной жизни. Если у крестьянина жена была больна или постарела, или больше не нравилась, то он мог прогнать от себя эту женщину и взять другую. Одни крестьяне на укоры и увещевания отвечали, что «это старый ливонский обычай и отцы наши делали точно то же». Другие говорили: «Делают же так наши господа и дворяне, почему же бы нам того же не делать?» Часть крестьян винила помещиков, которые на факты безбрачия не обращали внимания, заботясь о своей выгоде: ведь после смерти родителей им было легче отстранить от отцовского наследства незаконнорожденных крестьянских детей и присвоить себе их землю и движимое имущество.
В изображении Рюссова вся жизнь орденских братьев, каноников и дворянства проходила в травле и охоте, в игре в кости и в других играх, в катанье верхом и разъездах с одного пира на другой, с одних знатных крестин на другие, с одной ярмарки на другую. И этим славным ленивым дням (праздникам), по свидетельству Рюссова, не виделось ни конца, ни меры.
Рюссов порицает также тягу к роскоши в одежде, которую отмечает как у правителей, так и у простых дворян. Все они, пренебрегая приличием, хотели подобно королям и князьям щеголять и хвастать золотыми цепями, трубами и драгоценными одеждами. Рюссов упоминает об одном фогте, который носил цепь в 21 фунт из венгерского золота, а также об одном ревельском командоре, который из хвастовства ходил в сопровождении трёх трубачей.
По мнению Рюссова, очень мало можно было найти людей, годных для службы где-либо вне Ливонии при королевских или княжеских дворах или на войне.
Протестантство не обновило ливонского общества. Местным же племенам было всё равно, считают ли их католиками или протестантами. Рюссов свидетельствует, что они не имели никакого понятия о вере, в которую огнём и мечом обратили их предков и которая не воспринималась ими как что-то своё и отрадное. Во многих местностях Ливонии было ничтожное число воцерков-лённых крестьян и батраков. Каждое воскресенье вместо посещения церкви один сосед за милю или за две ехал к другому выпить пива и повеселиться. Их отсутствие на церковных службах объяснялось тем, что богослужение велось на незнакомом им языке: в период господства католичества — на латинском, а с переходом в лютеранство — на немецком. И прежний католический священник, и новый протестантский были для туземцев всё равно чужими людьми: они не знали их языка. При этом в Ливонии не было ни одной школы, которая готовила бы священников со знанием местных языков. По этой причине церкви, не исключая школ, много лет стояли пустыми и распадались. Орденские братья и епископы мало думали о душах крестьян. Они говорили, что Ливония не их отечество и заботились только о том, чтобы иметь всего вдоволь на свои дни.
Хотя формально и считалось, что местные народы обращены в христианство, на самом же деле язычество оставалось в силе у большей их части. В свете вышеизложенного неудивительно, что из тысячи крестьян едва ли можно было найти одного, знавшего «Отче наш».
Во всей стране не было ни одного университета или хорошей школы, за исключением незначительных училищ только в главных городах. Хотя незадолго до падения Ливонии вопрос об учреждении хорошей школы несколько раз обсуждался на ландтагах, эта инициатива так и не была реализована. Большая часть общества, разбитого на корпорации и не заботившегося о внутренней прочности страны, не хотела платить налоги и нести убытки, неизбежно связанные с этим предприятием.
Дефицитом школ и невозможностью получить хорошее богословское и светское образование в Ливонии Рюссов объясняет, с одной стороны, упадок всей церковной дисциплины, свободных искусств, исторических хроник, а с другой — умножение безбрачия, сластолюбия и других грубых пороков.
Вместе с тем Рюссов признаёт, что в Ливонии было довольно людей, которые не находили никакого удовольствия в таком образе жизни. Считая, что в своей стране их дети могут научиться только пьянству, роскоши и другим порокам, они посылали их в университеты Германии, а также к королевским и княжеским дворам, которые считались благородными воспитательными школами. Другим было отношение и к нравственному воспитанию крестьян. Некоторые дворяне содержали при своих дворах пастырей, знающих ненемецкий язык, которые по воскресеньям обучали крестьян и дворовых катехизису. Иногда, за неимением пастора в церкви, эту роль брали на себя дворянки, которые на местном языке читали своим крестьянам катехизис и убеждали их жить в страхе Божьем. Эти люди хорошо понимали и видели риски для дальнейшего существования Ливонии, но ничего не могли поделать с большинством, взявшим верх.
Сладкая жизнь в своё удовольствие требовала больших денег. Но их, несмотря на значительные доходы, всё же не хватало. Проблема решалась усилением эксплуатации крестьян и ростом разного рода вымогательств. В результате крестьяне впадали в крайнюю нужду. В то время когда на праздниках у дворян и горожан разливалось бочками пиво, эстонцы и латыши питались скудным толокном, а в случае неурожая, грызли древесную кору и коренья трав{46}. Крайнее обеднение крестьян сопровождалось произволом и насилием со стороны большой толпы немецких притеснителей. Рюссов так описывает положение крестьян в Ливонии: «Чем щедрее ливонское дворянство было одарено привилегиями, тем скуднее были права в суде бедных крестьян этой земли. Ибо бедный крестьянин не имел никакого другого права, кроме того, которое представлял ему помещик или фогт. И бедный человек не смел жаловаться никакой высшей власти на какое бы то ни было насилие и несправедливость. И если умирали крестьянин и его жена, оставив детей, то опека над детьми учреждалась такая, что господа брали себе всё, что оставалось после родителей, а дети должны были находиться нагие и босые у очага помещика, или же побираться милостынею по городам, лишаясь всего родительского имущества. И всё, чем владел бедный крестьянин, принадлежало не ему, а господам. И если крестьянину случалось немного провиниться, то его помещик или ланд фогт, которого здесь называли ландскнехтом, без всякого милосердия и человеческого чувства, приказывал раздеть донага; не щадя возраста, его стегали длинными, острыми розгами. Только богатый крестьянин мог во всякое время откупиться приличным подарком. Бывали многие и такие дворяне, которые обменивали и выменивали своих бедных крестьян и подвластных на собак и гончих. Такое и подобные своеволия, несправедливости и тиранства должны были терпеть и переносить бедные крестьяне этого края от дворян и ландскнехтов, оставленные властями без всякого внимания»{47}.
Конечно, при таких порядках у местного населения не было никакого резона поддерживать своих господ в периоды чрезвычайной опасности для Ливонии. Мнимообращённые в христианство язычники затаили ненависть к немцам, долго выражавшуюся в страшном обычае класть топор в могилу покойнику, чтобы даже в загробной жизни он мог мстить этим орудием немецким угнетателям.
Несчастия, впоследствии обрушившиеся на Ливонию, Рюссов воспринял как выражение Божьего гнева против грехов и преступлений, которые он описал в своей хронике в пример и предостережение потомкам. Примечательно, что оценки, которые дал Рюссов ливонскому обществу в первой половине столетия, подтвердил и князь А. Курбский, участвовавший в Ливонской войне. Он был солидарен с Рюссовым и в объяснении падения Ливонии Божьим праведным возмездием. Князь Курбский, в частности, писал: «Земля там была богата и жители были в ней очень горды, они отступили от христианской веры и от добрых обычаев своих праотцев и ринулись все по широкому и пространному пути, ведущему к пьянству и прочей невоздержанности, стали привержены лени и долгому спанью, к беззаконию и кровопролитию междоусобному, следуя злым учениям и делам. И я думаю, что Бог из-за этого не допустил им быть в покое и долгое время владеть отчизнами своими»{48}. Аналогичной точки зрения придерживался и англичанин Джером Горсей. Он писал о Ливонии следующее: «Это самая прекрасная страна, текущая молоком и мёдом и всеми другими благами, ни в чём не нуждающаяся, там живут самые красивые женщины и самый приятный в общении народ, но они очень испорчены гордостью, роскошью, леностью и праздностью, за эти грехи Бог так покарал и разорил эту нацию, что большая часть её была захвачена в плен и продана в рабство в Персию, Татарию, Турцию и отдалённую часть Индии»{49}.
Глава III. Борьба царя Иоанна Васильевича (Грозного) за выход к Балтийскому морю: Ливонская война
Ливонская война явилась величайшим наступательным порывом Москвы в XVI в., одной из труднейших войн эпохи Иоанна Грозного, делом его жизни, а под конец и трагедией его царствования.
Вообще весь XVI век отмечен тягой европейцев к расширению. В то время как западные государства посылали своих самых непоседливых сынов, неутомимых «морских волков», по Атлантическому и Индийскому океанам на поиски новых земель, золота и редкостных товаров, Восточная Европа беспрерывно расширяла свои сухопутные владения. Польско-литовское государство забрало чернозёмную полосу по Днестру и Днепру, прежде принадлежавшую Киевской Руси. Московское государство, образовавшееся между Волгой и Окой, подчинило при Иоанне IV Среднее и Нижнее Поволжье, колонизировало «дикую степь», продвинув к Десне и Дону полосу казацких земледельческих поселений, достигло Кавказа и поставило крепости на Тереке, перешло за Камень (Уральский хребет), присоединило Сибирь и одновременно устремилось к морям.
В условиях развития производства и торговли на западе и на востоке Европы одним из важнейших направлений внешней политики становится открытие внешних рынков, приобретение торговых монополий и преимуществ, захват морских портов и проливов. Однако на юге выход быстро растущего Московского государства к Чёрному морю блокирует могущественный турецкий султан вместе со своим сателлитом крымским ханом, а на северо-западе путь к Балтийскому морю, а значит и к мировому рынку, преграждает ослабленная Ливония, ставшая полем соперничества Польши, Литвы, Швеции и Дании, заинтересованных в достижении торгового и военно-политического господства на Балтике.
В первой половине 1550-х гг. в дипломатической и торговой жизни России произошло важное событие. Англичане нашли северный путь в Россию. 24 августа 1553 г. английский корабль, обогнув Скандинавию, вошёл в устье Северной Двины (в 1584 г. здесь возникнет город Архангельск как морской порт для ярмарочной торговли с англичанами). Между Лондоном и Москвой завязалась выгодная для обоих государств торговля. Англичанам была открыта возможность торговых операций на всём Русском Севере, который они быстро и досконально изучили. По северному торговому пути на английских, а затем и голландских кораблях стали прибывать специалисты (рудокопы, мастера горного дела, металлурги, врачи и т.д.). С Англией завязались регулярные дипломатические отношения, произошёл обмен послами.
Однако северный торговый путь, которым можно было пользоваться лишь пять месяцев в году, не снимал необходимости обеспечить свободные торговые отношения с западными государствами более коротким путём: через присоединение Ливонии и устранение посредничества ганзейцев. Свободные сношения с Европой были необходимы не только для импорта технологических новаций и промышленной продукции (XVI век выделяется прогрессом военной техники, и в частности изобретениями в области огнестрельного оружия), но и для использования в интересах русского экспорта международной экономической конъюнктуры, в частности растущего спроса на хлеб со стороны западных промышленных государств. Разумеется, присутствовал и военно-стратегический мотив. Иоанн IV понимал, что, не обладая научно-техническими достижениями современного европейского государства, невозможно успешно бороться с мусульманским Востоком и Турцией. А чтобы получить и взять на вооружение эти достижения, нужны были свои гавани на Балтийском море, позволявшие войти в непосредственное соприкосновение с Западной Европой и беспрепятственно приглашать иностранных специалистов. Но эти гавани находились в руках соседей, подозревавших (не без основания), что Московское государство представит для них серьёзную опасность, если свои материальные ресурсы соединит с научно-техническими новшествами западных стран.
Иоанн IV, открывая балтийскую кампанию, руководствовался здравым пониманием интересов Московского государства. Одновременно он выполнял замысел и завет своего великого деда Ивана III, с которым был солидарен.
Беспрерывные войны за Казанское и Астраханское царства, оканчивавшиеся неудачами, явились причиной, заставившей Ивана III оставить Ливонию в покое. Продолжая дело своего деда и отца, Иоанн IV овладел Казанью (1552 г.). На землях Казанского ханства было освобождено до 100 тыс. русских пленных. Все они получили свою долю из военной добычи в «кипевшей богатством» Казани и были отправлены домой. В 1556 г. к Москве была присоединена Астрахань. Таким образом, две сабли против Руси (выражение Иоанна IV) — Казань и Астрахань были выбиты из рук неприятеля. Благодаря этим победам была обеспечена безопасность восточных рубежей, а Волга стала великой русской рекой от истока до устья. Завоевание всей Волги вывело русских к Каспийскому морю, к Кавказу и значительно расширило возможности для торговли с Персией. Поскольку Персия считала излишним расширять сферу своего влияния севернее Терека, то большинство народов Поволжья и Северного Кавказа, за исключением малых ногаев (занимали территорию современного Ставропольского края), подчинились Московскому государству.
Именно в период покорения Казани и Астрахани Иоанн обрёл прозвище Грозный, то есть страшный для иноверцев, врагов и ненавистников России. Об этом свидетельствует народная песня:
«Не мочно царю без грозы быти, — писал современник Иоанна. — Как конь под царём без узды, тако и царство без грозы»{50}.
После присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, на богатые земли которого немедля потянулись русские люди, взоры Иоанна IV обратились на Запад, на Ливонию. Он намеревался вернуть древние славянские земли в Прибалтике, ликвидировать западноевропейский плацдарм и стать на морском берегу твёрдой ногой. Это было намерение, которое, как пишет русский историк С.М. Соловьёв, сделалось после того постоянным, господствующим стремлением Иоанновых преемников, намерение, за которое Пётр Великий так благоговел пред Иоанном{51}.
Однако планы царя покорить Ливонию натолкнулись на сопротивление его окружения, являвшегося неофициальным правительством в начальный период царствования Иоанна (1547-1560 гг.). В состав корпуса советчиков (или «избранной рады» — термин, введённый А. Курбским, по-видимому, по аналогии с польским высшим советом (паны-радой), ограничивавшим власть польского короля) входили костромской дворянин Алексей Фёдорович Адашев, священник Сильвестр, митрополит Макарий, сам князь Андрей Михайлович Курбский, дьяк посольского приказа Иван Михайлович Висковатый и некоторые другие приближённые царя. Все они, за исключением Висковатого, советовали вместо Ливонии покорить Крым. Заметим, что выступление против вассала турецкого султана было на руку Европе, которая в середине XVI в. видела в Османской империи наиболее опасного внешнего врага. Священник Сильвестр, пользуясь доверием царя в делах религиозных и нравственных, был особенно настойчив в стремлении повлиять и на политические решения Иоанна. Его сопротивление советам Сильвестр выставлял как непослушание велениям Божьим, за которым последуют наказания. Он внушал царю: вместо того чтобы воевать с христианами, слабыми, безвредными, лучше воевать с неверными, беспрестанно опустошающими границы государства и т.п. На этот тезис Иоанн ответит в 1564 г. в знаменитом письме перешедшему на сторону врага А. Курбскому[19] следующее: «Если же ты возразишь, что мы тоже воюем с христианами — германцами и литовцами, то это совсем не то. Если бы и христиане были в тех странах, то ведь мы воюем по обычаям своих прародителей, как и прежде многократно бывало; но сейчас, как нам известно, в этих странах нет христиан, кроме мелких церковных служителей и тайных рабов Господних»{52}. В этом отрывке православный государь прямо говорит о своём отношении к католицизму и утверждавшемуся в Ливонии и Северной Европе протестантизму, который в Москве воспринимали как явное богоотступничество. Что касается войны с Крымом, за которым стояла могущественная Турция, то она была тогда не по силам Московскому государству. Поэтому Иоанн проигнорировал недовольство приближённых при подготовке рывка на Запад, к Балтике. Султана же предпочёл заверить в своей дружбе.
Прологом Ливонской войны стала война со Швецией, стремившейся утвердиться на новгородских землях и преградить Москве дорогу к Балтике. Шведский король Густав Ваза пошёл на эту войну, надеясь на помощь Ливонии. Однако ливонский магистр отказал Швеции в помощи, полагая, что Ливония только выиграет, если два соседних государства будут ослаблять друг друга в военном противоборстве, и тогда Москва забудет о своих притязаниях. Расчёт оказался недальновидным и ошибочным. Когда выяснилось, что ливонцы вовсе не собираются помогать, Густав Ваза был вынужден в 1556 г. отправить своих послов к новгородским наместникам и в соответствии с волей Иоанна IV заключить мир по старине, согласно которому границы оставались прежними.
Из-за войны со Швецией московское правительство отложило решение ливонского вопроса на полтора года. За это время ливонцы ничего не предприняли против нависшей над ними угрозы. О беспечности, в которой пребывала Ливония, могут говорить ничтожные решения, принятые на ландтаге в Пернове осенью 1555 г. Среди них объявленное по всей стране постановление: как слуга или кто-либо другой, не принадлежащий к дворянам, должен в танцах обращаться с особой дворянского происхождения{53}.
В Московском же государстве в 1555 г. было принято уложение о службе. В этом документе были изложены правовые основы поместного землевладения: все землевладельцы, независимо от размера своих владений, делались служилыми людьми государства, то есть сильные и богатые уравнивались со всеми служилыми людьми в служебной повинности перед государством. Были сформулированы и новые принципы формирования русской армии, отличавшиеся от принципов формирования военных дружин времён феодальной раздробленности.
В 1556 г., сразу же после достижения мира со Швецией, Москва возобновила дело о перемирии, достигнутом в 1554 г. в Новгороде с ливонскими послами, но не утверждённом ни магистром Галеном, ни дерптским епископом Германом. По условиям перемирия 1554 г., предполагавшемся сроком на 15 лет, ливонские власти обязались не препятствовать сношениям московской державы с другими государствами, не вступать в военный союз с Литвой и Польшей, а также покрыть задолженность Дерптского епископства по дани Москве и выплачивать её в дальнейшем ежегодно.
При заключении перемирия Иоанн IV и его приближённые показали, что умеют настойчиво и убедительно защищать права и притязания своей державы. Так, прибывшему в Москву ливонскому посольству окольничий Адашев и дьяк Михайлов показали грамоту, согласованную Иваном III с магистром Плеттенбергом в начале XVI в., которая толковалась в смысле вассального подчинения Москве дерптского епископства. Адашев, обосновывая требование «юрьевской (дерптской) дани» с Ливонии с уплатой недоимок за прежние годы, дал следующую историческую справку: «Удивительно, как это вы не хотите знать, что ваши предки пришли в Ливонию из-за моря, вторглись в отчину великих князей русских, за что много крови проливалось; не желая видеть разлития крови христианской, предки государевы позволили немцам жить в занятой вами стране, но с тем условием, чтобы они платили великим князьям; они обещание своё нарушили, дани не платили, так теперь должны заплатить все недоимки»{54}. Послам пригрозили ещё и тем, что государь сам будет собирать свою дань на всей Ливонской земле{55}.
Пункт о дани, включённый в условия перемирия, свидетельствовал о том, что русской дипломатии удалось добиться от ливонских властей формального признания государственных прав Московской державы на дерптское епископство. При этом устанавливалось, что, в случае неуплаты дани дерптским епископом, ответственность за это возлагается на всю Ливонию, которая должна принудить дерптского епископа к платежу, срок которого истекал осенью 1557 г.
Ливонские власти не только затянули вопрос об уплате дани, но и нарушили ещё один пункт договора о перемирии, заключив 14 сентября 1557 г. оборонительный и наступательный союзе Польшей. Одновременно союз с Польшей и Литвой заключила Швеция. При этом стороны обязались совместно действовать против своего «прирождённого врага» — московского государя. Эти события усилили решимость Иоанна IV покончить с Ливонией.
22 января 1558 г. русские войска перешли восточную границу Ливонии. Началась Ливонская война, которая длилась с перерывами более четверти века (1558-1583 гг.) и оказалась самой затяжной в истории России. Ливонская кампания явилась третьим большим военным столкновением русских с немцами. В 1242 г. немцы наступали, в 1501 — 1502 они вынуждены были защищаться, а в 1558 г. были сокрушены. Иоанн IV вёл войну с орденом за возвращение старинной «отчины» и «дедины», за собирание и объединение русских земель{56}. И об этом Иоанн Грозный не уставал говорить и писать в ходе Ливонской войны. Примечательно, что в полном титуле Первого Царя значилось, что он является также обладателем земли Лифляндской Немецкого чина{57}.
В начале войны русское войско, разбившись на отряды, прошло, не встречая сопротивления, полтораста вёрст вдоль ливонской границы, разоряя посады и деревни, собирая добычу (скот, хлеб и т.д.), забирая ливонцев в плен, опустошая и сжигая всё, что невозможно было захватить с собой. Навстречу наступавшим подразделениям, соединившимся в войско при подходе к Дерпту, был выставлен ничтожный отряд в 500 человек, который был разбит наголову.
Вопрос о дани приобрёл для ливонцев сразу чрезвычайную актуальность. Если раньше они беспечно полагали, что опасность невелика и не хотели расставаться с деньгами, которые легко бы нашлись у какого-нибудь дворянина или купца, то теперь неприятель у ворот укреплённого города понуждал к действиям. Потребовалось время, прежде чем Рига, Ревель и Дерпт собрали требуемую сумму в 60 тыс. талеров[20]. Однако ливонские послы, прибывшие с данью в середине мая в Москву, опоздали. Весть о неожиданном (вопреки приказаниям) взятии объятой большим пожаром Нарвы (11 мая) радикально изменила ситуацию. В честь взятия Нарвы во всех городах Московской державы пели молебны с колокольным звоном. 19 июля, после осады, сдался Дерпт. Так, русские снова овладели своей старинной отчиной — Юрьевом, находившимся в руках немцев с 1224 г. Началось поселение в Юрьевской земле детей боярских[21], а епископ и некоторые жители города были перевезены в Москву. Взятие Дерпта вызвало ужас во всей Ливонии. К осени сдалось до двадцати значительных городов. Обращение к магистрату Ревеля с требованием покорности и обещанием больших льгот оказалось безрезультатным. Ревель не покорился. В сентябре после такого блистательного похода войска, по старому обычаю, ушли на зимние квартиры в свои пределы, оставив в занятых городах и местностях небольшие гарнизоны.
В целом удачными для русских войск были и военные кампании 1559 и 1560 гг. Так, в августе 1560 г. была взята орденская крепость Феллин, считавшаяся лучшей крепостью Ливонии. Старый магистр Вильгельм Фюрстенберг был увезён в Москву, где он вместе со своими слугами получил в пожизненное кормление замок Любим, в котором он впоследствии и скончался.
Война выявила неспособность ливонских колонистов к решительной самообороне и высокий боевой дух русских. Летописец Рюссов, сравнивая воинские качества обоих противников, проявившиеся в Ливонской войне, выносит беспощадные суждения о своих соотечественниках и лестные о русских воинах. «Русские, — говорит Рюссов, — в крепостях являются сильными военными людьми. Происходит это от следующих причин. Во-первых, русские — работящий народ: русский, в случае надобности, неутомим во всякой опасности и тяжёлой работе днём и ночью и молится Богу о том, чтобы праведно умереть за своего государя. Во-вторых, русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей; если только у него есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может. В-третьих, если русские добровольно сдают крепость, как бы ничтожна она ни была, то не смеют показаться на своей земле, так как их умерщвляют с позором; в чужих же землях они держатся до последнего человека, скорее согласятся погибнуть до единого, чем идти под конвоем в чужую землю. Немцу же решительно всё равно, где бы ни жить, была бы только возможность вдоволь наедаться и напиваться. В-четвёртых, у русских считалось не только позором, но и смертным грехом сдать крепость»{58}.
Конечно, сказались и все слабые стороны устройства Ливонии, так и не сумевшей за 350 лет сложиться в прочный государственный организм: рознь корпораций, соперничество городов, придавленность сельского населения.
Эстонские крестьяне, поставленные рыцарством и духовенством в положение рабов, не хотели защищать своих угнетателей. Поскольку Московское государство воевало не с туземным населением, а с немцами, превратившими прибалтийские земли в свою колонию, эстонцы в случае насильственной мобилизации вскоре разбегались и поднимались на борьбу в тылу у рыцарства, обращенного фронтом к русским. Они оказывали русским войскам всяческую поддержку: указывали дорогу, давали сведения о передвижении орденских войск, вместе с русскими отрядами нападали на войска ордена, участвовали в захвате укреплённых замков. Например, когда один из командиров Филипп фон Бёлль, известный своей храбростью, приготовился к битве с русскими, заняв к югу от Феллина выгодную позицию, местные жители помогли русским обойти лагерь Бёлля, и весь его отряд в битве при Эрмесе был уничтожен.
В годы Ливонской войны московское правительство всячески старалось, и не без успеха, использовать ненависть эстонских и латышских крестьян к немцам в интересах расширения и укрепления своей власти в прибалтийских землях. Поскольку московский завоеватель боролся с немецким элитарным слоем, севшим на кормление в Ливонии, «низы» воспринимали его как своего покровителя. Так, при первом занятии Нарвы «лучшие люди» поспешили уехать, а «чёрный люд» охотно присягнул Иоанну. Осенью 1560 г. в северо-западных эстонских землях вспыхнуло крестьянское восстание под предводительством эстонца-кузнеца. Восставшие нападали на дворянские поместья, убивали или передавали русским их владельцев. Герцог Магнус, брат датского короля, имел все основания опасаться, что крестьяне могут подчиниться русским и выдать им всех немцев вместе с крепостями. В 1561 г. восстание было подавлено. Предводителя восставших четвертовали, других участников, попавших в плен, после изуверских пыток казнили. Однако стихийные и разрозненные выступления время от времени то набирали силу, то стихали. В отдельных областях крестьяне отказывались от уплаты податей и выполнения барщины и большими группами ходили в Вильянди, чтобы получить от русского воеводы охранные грамоты.
В то же время известны случаи выступления крестьян против русских. Во время войны крестьян беспощадно грабили и русские, и немцы. И тогда весной 1571 г. крестьяне Гарриена и Иервена (Витгенштейна) также решили поживиться в условиях нестабильной обстановки военного времени. Собравшись в отряды, они стали совершать грабительские рейды, на первых порах удачные, в Вирланд, принадлежавший русским. Узнав о готовящемся очередном набеге, русские в Везенберге и Нарве собрали войско, и, когда крестьяне, опьянённые успехами и потому больше думавшие о добыче, чем о неприятеле, действительно пришли, русские войска напали на них и при речке Муддесе убили более шестисот человек{59}.
На период Ливонской войны Восточная Эстония оказалась под властью Московской державы. Хотя война со стороны Руси не была религиозной, и православные в отвоёванных землях практически отсутствовали, обращение людей к «истинной вере» и её защита от «латин» и «лютеров» оставались в поле стратегического и религиозно-духовного видения Иоанна. Так, в Нарву, после её взятия в 1558 г., по повелению Царя были присланы архимандрит и протоиерей, чтобы они крестными ходами по городу и вокруг города «очистили его от веры латинской и Лютеровой»{60}. В Нарве, а также Юрьеве и других городах и местечках Восточной Эстонии возводились и освещались православные храмы. В Юрьеве была учреждена епископская кафедра, и на неё был возведён игумен Псково-Печёрского монастыря Корнилий, чрезвычайно много сделавший для обращения в православие местного населения — эстонцев и латов.
На занятых русскими территориях было полностью уничтожено землевладение ордена, епископов, монастырей. Их владения перешли к русскому государству. Часть поместий была передана русскому служивому дворянству. Эти меры, сопровождавшиеся взятием в плен большого числа знатных ливонцев, отправленных внутрь страны, позволяют предположить, что в случае русской победы на Ливонию был бы распространён тот порядок, который обычно устанавливался Москвой в завоёванных землях. И отец, и дед Грозного при покорении новых территорий высылали оттуда в глубь русского государства наиболее влиятельных и опасных для Москвы людей, а в завоёванные края направляли поселенцев из коренных областей. В результате завоёванный край лишался прежней руководящей среды, но получал такую среду из Москвы и начинал вместе с ней тяготеть к новому центру — Москве. Этот приём был применён, например, в Великом Новгороде при Иване III и в Казани при самом Иоанне IV{61}. Таким образом, при благоприятном для Московского государства окончании Ливонской войны сама Ливония как немецкая колония, а вместе с ней и немецкий порядок прекратили бы своё существование.
Что касается эстонских крестьян, то в их положении, безусловно, наметились бы улучшения. Во всяком случае, с поражением немцев они автоматически утрачивали прежний, столь невыносимый, статус побеждённых, который низводил их до положения рабов победителей. Все они становились наравне с другими народами Московского государства подданными царя. Крестьяне, остававшиеся на землях, перешедших к русскому государству, получали статус государственных, а это ставило их под власть закона, освобождая от произвола и самоуправства частных владельцев. Поскольку в Московском государстве крепостное право, в отличие от Ливонии, пока ещё не выступало в формах абсолютного и тотального закрепощения крестьян[22], то они могли воспользоваться правом ухода от помещиков и поселения в городах. Это открывало возможности для социальной мобильности, которые для народов в обширной Московской державе были на порядок шире, чем для аборигенов в ливонских колониальных владениях немцев. Эстонцы могли быть востребованы и на духовном, и на военном, и на купеческом поприще. Например, патриарх Никон и адмирал Ф.Ф. Ушаков были по происхождению мордвинами, т.е. принадлежали к той же угро-финской группе, что и эстонцы. Нельзя исключать и перспектив быстрого формирования национальной знати, на которую на своих огромных пространствах, как правило, опиралась власть русских монархов. В общем, в рамках позитивных сценариев эстонцы могли успешно интегрироваться в русское государство, на всех уровнях его сословной структуры, сохранив при этом, как и другие народы России (например казанские татары, удмурты, чуваши, мари и т.д.), свою национальную идентичность, свой язык и культуру. Показателен пример казанских татар. После присоединения Казанского ханства происходил их переход в русские земли, на русскую службу. Из этих казанских татар, а также из других тюркских народов, ведут свою родословную почти четверть русских дворян[23]. Примечательно, что тесные контакты русских и татар не привели к изменению их этносов, но обогатили культуры этих народов. По такому же пути могло пойти развитие эстонцев и латышей. Во всяком случае, они бы не оставались столетиями тем забитым и униженным «крестьянским народом» (выражение немцев), не имевшим своей элиты, каким их сделало немецкое корпоративное господство на правах победителей. И залогом благополучного укоренения эстонцев и латышей в составе России было не в последнюю очередь и то, что Русь после венчания Иоанна на Царство являла собой не просто государство[24]. В образе Московского Царства, которое вослед за Святой Землёй начинает именоваться Святой Русью, а Москва — Третьим Римом, нашла новое историческое воплощение идея «Вечной Империи» как формы государственно-политического служения Богу и создания для всех входящих в Империю народов «пространства спасения»{62}.
Под русской властью крупнейшим торговым центром и гаванью стала Нарва, получившая от Иоанна IV большие привилегии. Пока не удавалось овладеть Ревелем, русский царь старался привлечь на свою сторону торговое население этого города. Нарва была освобождена от военного постоя, а купцы получили право беспошлинной торговли по всему Московскому государству, а также беспрепятственных сношений с немецкими городами. В Нарве Иоанн IV быстро заводит флот на Балтике, превращая торговые суда, принадлежащие ганзейскому городу Любеку, в военные корабли и передавая управление испанским, английским и немецким командирам. Важно отметить, что Любек, являясь сторонником свободной торговли и не желая отказываться от своих выгод в пользу ливонцев, не поддержал инициатив германского императора по блокаде торговли с Москвой через Нарву. В Московское государство через Нарву ввозили в большом количестве различные товары, металл, порох, оружие. Сюда приезжали с Запада купцы, ремесленники, специалисты разного рода. Город начал быстро отстраиваться, а население — расти. За два десятилетия оно выросло с 600 до 5000 чел. Впоследствии этот уровень был достигнут только к середине XIX в.
Вторым после Нарвы важным городом, вошедшим во время Ливонской войны в состав русского государства, стал Юрьев. При Иоанне IV здесь выросла большая эстонская слобода. Когда осенью 1571 г. немцы, находившиеся на службе у русского воеводы, захотели отдать город под власть поляков, эстонцы — жители слободы помогли подавить этот мятеж. После такой измены большинство немецкого населения города было вывезено (на современном языке — депортировано) из Юрьева в глубь Московской державы.
Борьба Иоанна IV за выход к Балтийскому морю сопровождалась притоком в города Восточной Ливонии русских купцов, ремесленников и огородников. На побережье Чудского озера стали обосновываться русские рыбаки.
Несмотря на военные успехи, русские войска, однако, не сумели воспользоваться превосходством своих сил и не достигли конечной цели войны: не овладели важнейшими гаванями — Ревелем и Ригой. В то же время действия русских войск, приведшие к падению важной орденской крепости Феллина и пленению магистра Фирстенберга, ускорили самоликвидацию Ливонского ордена. Однако это не облегчило завоевания орденских владений. Магистр и орденские сановники, оставленные на произвол судьбы распадавшейся Священной Римской империей, утратившие надежду на ганзейские города (они снабжали русских всем необходимым для войны с Ливонией), видевшие неэффективность ставки на наёмников из Германии (они исправно бегали от русских и грабили своих нанимателей не хуже татар), обратили свои взоры в сторону Польши и Литвы, чтобы отдаться западным соседям на возможно выгодных условиях. Пользуясь перемирием, заключённым с Москвой с мая по ноябрь 1559 г. (формальная причина перемирия: необходимость сосредоточить русские войска на юге, чтобы отразить ожидавшееся вторжение крымских татар), магистр Кетлер вступил в торг о будущей судьбе Ливонии с польским королём, не заинтересованным в усилении Московской державы за счёт прибалтийских земель и стремившимся к балтийским гаваням с такой же энергией, что и Иоанн IV. Впоследствии в письме Курбскому, дошедшем до нас чрезвычайно важном историческом документе, Иоанн обвинит «попа-невежду» Сильвестра, Адашева, самого Курбского и их окружение в дьявольском противодействии походу в Ливонию, когда города брали после многих напоминаний и по коварному предложению короля датского дали ливонцам возможность целый год собирать силы. Иоанн же считал, что если бы не измены, недоброхотство и безрассудное нерадение, из-за которых было упущено время, то с Божьей помощью, в том же году вся Германия (т.е. Ливония) была бы под православной верой{63}.
В 1561 г. русские опять вошли в Ливонию, проникли до Пернова и опустошили немало земель. Осенью того же года рыцари, осознав невозможность собственными силами бороться с Москвой, собрались на ландтаг для принятия акта о ликвидации ордена. В этом акте они заявили, что считают невозможным дальнейшее существование ордена, и признали свою безженную жизнь грешной. В постановляющей части акта было зафиксировано решение: сложить с себя духовное звание (секуляризироваться) и отдаться Польше и Литве. Этот выбор объяснялся тем, что, во-первых, от аристократической Польши прибалтийско-немецкая аристократия могла получить огромнейшие права, во-вторых, Польша казалась государством достаточно сильным, чтобы бороться с Москвой, и в-третьих, переход под защиту польской короны совершался также для того, чтобы ненавистному «московиту» ничего не досталось. Далеко не последнюю роль сыграло и понимание политики Иоанна: то, что он смотрел на балтийский берег как на отчину своих великокняжеских предшественников и, конечно, обеспечил бы здесь такое русское и православное доминирование (за счёт ограничения привилегий и переселения в глубь страны немецких колонистов), которое явилось бы залогом устойчивого тяготения Прибалтики к Москве.
Договор о подданстве Ливонии состоялся 28 ноября 1561 г., и в тот же день польский король Сигизмунд Август подписал пожалованную грамоту для Ливонии, известную как привилегии Сигизмунда Августа. В дальнейшем эта грамота служила главным основанием всех прав и привилегий немецких дворян Лифляндии и Курляндии.
5 марта 1562 г. на общем собрании командоров и рыцарей магистр Кетлер передал Николаю Радзивилу, прибывшему в Ригу в качестве королевского ливонского наместника, печать ордена, ключи от орденских замков и города Риги. Затем, в знак сложения с себя духовного звания, рыцари сняли с себя рыцарские кресты и мантии. Хотя в добрые старые времена в Ливонии они мало дорожили своим достоинством, однако в эту печальную минуту рыцари плакали. Они не могли не понимать, что с прекращением существования ордена они лишаются и независимости.
Так окончил своё существование Ливонский орден. На тот момент Ливония распадалась на 5 частей: 1) Нарва, Дерпт, Феллин были заняты войсками Иоанна IV; 2) Ревель и не занятая русскими часть северо-востока Эстонии, не захотевшие поступать под власть Польши, отдались Швеции; 3) остров Эзель (Сааремаа) в значении епископства Эзельского перешёл под власть датского короля, который посадил там своего брата герцога Магнуса Гольштинского; 4) Кетлер получил в наследственный лен от польского короля Сигизмунда Августа некоторые земли и замки в Курляндии и в рижском епископстве, а также титул герцога курляндского и графа Семигальского; 5) сам король Сигизмунд Август овладел Южной Ливонией с городом Ригой, сохранившим некоторую независимость.
На этом борьба на ливонских полях не закончилась, а только перешла в новую фазу. Немцы отошли в сторону, а в ожесточённом противоборстве сошлись русские, поляки, литовцы, шведы и датчане. Русские — для того, чтобы пробиться к гаваням на Балтике; поляки и литовцы — для того, чтобы не допустить усиления Московского государства за счёт Ливонии; шведы — для того, чтобы быть подальше от соседства с опасною Москвой; датчане — для того, чтобы при общем крушении Ливонии удержать за собой то, что так неожиданно и легко досталось герцогу Магнусу. Теперь Московской державе приходилось иметь дело с Польшей/Литвой и Швецией — соперниками более опасными, чем Ливонский орден, прекративший своё существование под натиском русских войск.
Польша/Литва и Швеция распространили свои притязания на города, завоёванные Иоанном IV, и стали требовать, чтобы русские ушли из них. Иоанн Грозный эти требования проигнорировал, и с 1560 г. Ливонская война переросла для русского государства, по сути, в войну Польско-Литовскую и Шведскую.
Вначале успех был на стороне Московского государства. В сражениях с коалицией русские войска не раз добивались замечательных побед. В 1563 г. под личным командованием Царя был взят Полоцк, и его войска доходили до самой Вильны. Иоанн IV владел выходом к Балтийскому морю и восточной половиной Ливонии, что обеспечивало рост его военно-организационной славы и популярности. Казалось, что силы Московского государства громадны, и это поражало Среднюю Европу, и в частности, Германию. Опасность нашествия «московитов» не только обсуждалась в официальной переписке, но и определяла содержание разного рода листков и брошюр. Разрабатывались меры к тому, чтобы не допускать московитов к морю, а европейских специалистов — в Москву и, изолировав русское государство от центров европейской торговли, промышленности, культуры, воспрепятствовать его политическому усилению. В пропагандистских акциях против Москвы времён Иоанна Грозного было много тенденциозных измышлений и поверхностных суждений о московских нравах и деспотизме Грозного. В связи с этим трудно не согласиться с русским историком С.Ф. Платоновым, предупреждавшим, что серьёзный историк должен всегда иметь в виду опасность повторить политическую клевету, принять её за объективный исторический источник{64}.
Во всяком случае, последовавшее в январе 1565 г. учреждение опричнины было использовано внутренней оппозицией и внешними противниками для обесславливания Иоанна, принижения его исторической роли, непризнания за Грозным важных дел, совершённых в его царствование (приписывании вслед за Курбским славы мудрым советникам — Сильвестру и Адашеву). Слухи о лютых казнях, о жестокостях и свирепом нраве Иоанна распространялись далеко в соседних государствах и, к несчастью, были верными. В то же время измышлялось много недостоверного о жизни и порядках в Московской державе при Иоанне Грозном, и это также способствовало формированию в Европе атмосферы морально-политического отчуждения в отношении Московского государства, ставя пределы дипломатическим усилиям царя.
Как явствует из литературной полемики с Курбским, обвинявшем царя в деспотизме и беспримерной жестокости по отношению к собственным подданным, Грозный никогда не отрицал своей жестокости, но всегда пытался её объяснить. Так же поступал и ряд исследователей его царствования — С.М. Соловьёв, С.Ф. Платонов, Р.Ю. Виппер и др., отделявшие историческое объяснение действий Иоанна, который понимал интересы государства гораздо лучше и дальновиднее всех современных ему бояр, от нравственных оценок по канонам нового времени. СМ. Соловьёв, автор монументального труда «История России с древнейших времён», в своём анализе опричнины выделил необходимость ответа на важные вопросы в государственной жизни, связанные с давней борьбой древних и новых начал. Признавая, что нравы времени Грозного были суровые, а борьба между старым и новым не содействовала их смягчению, русский историк в то же время вынес и нравственный вердикт. Согласно его оценке, Иоанн не может быть оправдан, так как не осознал одного из самых высоких прав своих — права быть верховным наставником, воспитателем своего народа, не осознал нравственных, духовных средств для установления правды. В идеале всё это верно, однако идеалы либеральных историков второй половины XIX века[25] плохо вписываются в конкретную историческую обстановку средневековья, не только на Руси, но и в государствах более старших по возрасту европейских народов[26]. Свидетельства о крайней жестокости наказаний в средневековой Европе приводит современный немецкий автор Вольфганг Шильд в своей книге «Пытки, позорные столбы, костры»{65}. Он отмечает, что жестокость казней в средневековую эпоху была обычным делом и не вызывала волнения среди тогдашних жителей, потому что они были проникнуты глубоким осознанием своей греховности и по этой причине были открыты для мучений. Кроме того, господствовало убеждение в отношении очищающей силы физической боли. Считалось, что страдания, связанные с бесчеловечными пытками и казнями преступников, смягчат оскорблённого Бога, освободят их души из грешного тела и обеспечат вечную жизнь.
Возвращаясь к нравственному вердикту С.М. Соловьёва, вспомним, что крестоносцы при обращении прибалтийских язычников в христианство вначале использовали проповедь, но, когда встретили яростное сопротивление туземцев, исполнили свою миссию кровью и мечом. Вспомним утро стрелецкой казни, когда Пётр и его сподвижники собственноручно отрубали головы мятежникам. Можно вспомнить и современника С.М. Соловьёва немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, который объединил Германию не «духовными средствами», «не правдой», а «железом и кровью», поскольку в то время иначе не получалось. Однако по всем этим случаям историки не спорили и не спорят о нравственном измерении совершённых акций.
Но дадим слово самому Грозному. В послании Курбскому от 5 июля 1564 г. он писал: «Как же ты не смог понять, что властитель не должен ни зверствовать, ни бессловесно смиряться…. Пойми разницу между отшельничеством, монашеством, священничеством и царской властью. Прилично ли царю, например, если его бьют по щеке, подставлять другую? Это ли совершеннейшая заповедь; как же царь сможет управлять царством, если допустит над собой бесчестие? А священнику подобает это делать — пойми же поэтому разницу между царской и священнической властью! Даже у отрёкшихся от мира существуют многие тяжёлые наказания, хоть и не смертная казнь. Насколько же суровее должна наказывать злодеев царская власть! …Даже во времена благочестивевших царей можно встретить много случаев жесточайших наказаний. Неужели же ты, по своему безумному разуму, полагаешь, что царь всегда должен действовать одинаково, независимо от времени и обстоятельств? Неужели не следует казнить разбойников и воров? …Тогда все царства распадутся от беспорядка и междоусобных браней….Ты сам своими бесчестными очами видел, какое разорение было на Руси, когда в каждом городе были свои начальники и правители, и потому можешь понять, что это такое….Немало и иных было царей, которые спасли свои царства от беспорядка и отражали злодейские замыслы и преступления подданных. И всегда царям следует быть осмотрительными: иногда кроткими, иногда жестокими, добрым являть милосердие и кротость, злым — жестокость и расправы. Если же этого нет, то он — не царь, ибо царь заставляет трепетать не добро творящих, а зло. Хочешь не бояться власти? Делай добро; а если делаешь зло — бойся, ибо царь не напрасно меч носит — для устрашения злодеев и ободрения добродетельных…. Чтобы охотиться на зайцев, нужно множество псов, чтобы побеждать врагов — множество воинов; кто же, имея разум, будет зря казнить своих подданных….Не радостно узнать об измене подданных и казнить их за эту измену{66}. В этих продуманных и отчеканенных выражениях, снабжённых в первоисточнике примерами из Священного Писания, истории Греции, Рима, Византии, пред нами встаёт мощная фигура Первого царя, умного, образованного, волевого организатора сильной централизованной державы. В письме Курбскому Иоанн уверенно отстаивает право царской власти, данной от Бога, на единодержавное правление и вынужденное применение суровых мер в целях недопущения распада Московской державы и гибели Святой Руси от междоусобных браней, беспорядка, измен, злодейских замыслов. Установлено и число жертв борьбы Грозного против боярских козней и самовольства, ослаблявших государство особенно в условиях военного времени. По оценкам историка Р.Г. Скрынникова, эта цифра составляет от трёх до четырёх тысяч человек. Но и карая воров и изменников, Иоанн пребывал христианином. Он думал о спасении душ преступников и потому заносил имена всех казнённых в специальные синодики, которые рассылались затем по монастырям для вечного поминовения «за упокой души». Эти подробно и добросовестно составленные списки являются единственным достоверным документом, позволяющим судить о масштабах репрессий.
Следует обратить внимание и на то, что трудно найти, если не невозможно, хоть одну народную песню, в которой грозный царь выставлялся бы законченным злодеем. В песнях он может предстать и жестоким, и грозным, но всегда отступающим перед знамением высшей воли и справедливой укоризной{67}.
Примечательно и другое: в письме Курбскому Иоанн выступает не столько обвиняющей и оправдывающейся стороной, сколько воспитателем и наставником. Для него Курбский не только изменник, но и человек, погубивший свою душу, ибо, разъярившись на человека, носящего на себе царскую порфиру, он восстал на Бога и принялся разрушать Церковь. И этой душе царь стремится объяснить степень её падения. «Если ты пойдёшь вместе с ними (т.е. Литвой и Польшей, которых Иоанн считал врагами православия) воевать, — говорит Грозный, — придётся тебе и Церкви разорять, и иконы попирать, и христиан убивать; где руками не дерзнёшь, так это сотворится из-за смертоносного яда твоей мысли (т.е. совета). Представь же себе, как во время нашествия войска конские копыта будут попирать и давить нежные тела младенцев! Когда же зимой наступают, совершаются ещё большие жестокости. И разве же твой злодейский поступок не похож на неистовство Ирода, совершившего убийство младенцев?»{68}
Решение об опричнине было принято в условиях военного времени, когда нараставшие трудности, связанные с Ливонской войной, потребовали новых военно-административных решений. Иоанн понимал: если в царстве нет благого устройства, т.е. исключающего самовольство и междоусобные брани, неоткуда взяться и военной храбрости. Если предводитель недостаточно укрепляет войско, то скорее он будет побеждённым, чем победителем{69}.
Действительно, при столкновении с военным искусством европейски обученных отрядов противника обнаружился главный недостаток московских войск: отсутствие дисциплины, сплочённости, единства тактических действий. И здесь сказывались остатки самостоятельности бывших удельных князей и крупных бояр-вотчинников, которые примыкали к царскому ополчению с отрядами своих служилых людей и образовывали как бы удельные войска с известной степенью независимости. К тому же, в отличие от походов при завоевании Поволжья, некоторые старые соратники не разделяли стратегических замыслов государя и неохотно участвовали в войне на Западе. В начале 1564 г. провалился разработанный Грозным широкий план наступления в глубь Литвы. Завоеватель Дерпта, Шуйский, должен был двинуться из Полоцка, а Серебряные-Оболенские — из Вязьмы. Но Шуйский шёл «оплошася небрежно», везя доспехи в санях. При Уле он был разбит в ходе внезапного нападения Радзивилла. Другой отряд потерпел поражение при Орше{70}.
В то же время этот верхний слой родовой аристократии, стремившейся в силу местнической традиции[27] к соправительству с государем и теснившийся к должностям, препятствовал выдвижению нужных людей из родов с меньшей знатностью.
Ещё в юности Грозный столкнулся с местническими притязаниями в деятельности так называемой «избранной рады» под руководством благовещенского иерея Сильвестра и Алексея Адашева, человека относительно низкого происхождения, которых он приблизил к себе и возвысил из нерасположения к вельможам времени своего малолетства. Как только этот кружок получил влияние и «соблазнился властью», он стал расставлять своих «угодников» в волостях и возвращать князьям вотчины, города и сёла, которые были отобраны по уложению Ивана III, и даже разрешил свободное обращение княжеских земель, взятых под контроль московской властью. Этими действиями кружок составил себе сильную партию единомышленников и стал решать местнические дела в противовес единодержавию царя. Например, Адашев в угоду удельным интересам сдерживал создание единого централизованного русского войска. Сильвестр же поступился нравственными принципами, определив во время войны своего сына не в «храбрые» и «лутчие» люди, а в торговлю: ведать в казне таможенными сборами.
Важно помнить и о том, что до 1564 г. у бояр и слуг вольных существовало старинное «право отъезда», т.е. перехода по своему желанию на службу от одного русского князя к другому. Польский же король был не только великим князем литовским, но и русским (по юго-западным русским областям). В условиях войны с Польшей это вело к изменам и являлось серьёзным вызовом безопасности государства, хотя государи и стремились удержать своих подданных от пользования этим правом посредством клятвенных записей и поручительств. Курбский был не единственным отъехавшим боярином. До него «отъехали», например, двое князей Черкасских, Владимир Заболоцкий, Шашкович и с ними много детей боярских. Но более всего подействовало на Иоанна бегство князя Курбского. Он не только отъехал в Литву и встал в ряды неприятеля, но ещё и выступил с угрозами и обвинениями в адрес царя от лица партии родовой аристократии, не смирившейся с уходом со сцены «избранной рады» и замышлявшей заговоры против своего сородича московского царя. Заговоры действительно были, что подтверждает и англичанин Джером Горсей, так что Грозный боролся отнюдь не с призраками. Примечательно, что Курбский явил себя не только как изменник, но и как провокатор, поскольку, говоря от имени своих сторонников, поставил их под удар в Москве, откуда отъехать в Литву было гораздо труднее, чем из ливонских городов.
Повторяем, введение опричнины произошло не вдруг, а по мере борьбы новых требований со старыми родовыми традициями, в частности с обычаем местничества и традиционным стремлением оппозиционно настроенных князей к соправительству с государем. Речь шла о том, пойдёт ли Русь по пути развития православного самодержавия или же свернёт в накатанную западноевропейскую колею — укрепление сословно-представительной монархии, оставлявшей царю в случае успеха боярских замыслов лишь «честь председания». Грозный же говорил, что русский государь не есть царь боярский. Он не есть даже царь всесословный. Он — царь по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению. Он — Помазанник Божий. Вслед за своим дедом и отцом Иоанну пришлось решительно отстаивать идею суверенной царской власти на Руси. Это требовало поставить под контроль боярское своеволие, создать преданное царской власти сословие, которое служило бы не за страх, а за совесть, а в дальнейшем наполнить властные структуры государства, в котором царь — Помазанник Божий, новым, религиозно осмысленным содержанием. Инструментом утверждения такого взгляда на власть и стала военно-административная реформа, получившая название опричнины[28].
Суть опричнины состояла в том, что старый приём борьбы с сепаратизмом на покорённых Москвой землях, т.е. вывод местных сепаратистов с подчинённых окраин в глубь Руси[29], был применён к врагам внутренним, не подчинявшимся новому понятию о государстве и мнящих себя государями в своих уделах. На этот раз ненадёжные представители удельной знати (бояре, дворяне, дети боярские — всего около тысячи землевладельцев) принудительно выводились из старинных родовых гнёзд на новые места в государстве, носившие название земщины. В ходе такой акции дворовые слуги и особые отряды удельных владетелей распускались, а отнятые наследственные вотчины заменялись на поместья. В новых местах не было ни корней, ни связей, удобных для оппозиции.
Земли же выселенной знати (князей Ярославских, Белозерских, Ростовских, Суздальских, Стародубских, Черниговских и др.), составлявшие старую удельную Русь, объявлялись собственностью государя или опричными землями. На этих землях, разбитых на мелкопоместные участки, царь селил людей с неизвестными дотоле фамилиями, которых принимал в ведение своего нового двора на новую «опришнинскую» службу{71}. Тем самым была заложена основа новых государевых помещиков, которые со временем вольются в сословие дворян (впоследствии Иоанн вместо названия «опричнина» стал употреблять название «двор»). Московская власть деятельно умножала эти боевые силы, одаривая поместьями и переводя на государеву службу всё большее число служилых людей. Их вербовали во всех слоях московского населения, включая «поповых и мужичьих детей, холопей боярских и слуг монастырских». В привлечении на службу лиц из самых разнообразных сословий Иоанн явится предшественником Петра Великого. Земли отводились вокруг самой Москвы, а также в южных и западных частях государства, поблизости от возможного театра военных действий (с татарами, литовцами и всякого рода «немцами»). Только к исходу XVI в., когда число служилых людей в центральных районах достигнет желаемой величины, явится мысль принимать на государеву службу с большим разбором.
Изначально особый отбор проходили люди, которые должны были отвечать за безопасность царя и царской семьи. По состоянию на 20 марта 1573 г. в составе опричного двора царя Иоанна числилось 18 54 человека. Из них 654 человека составляли охранный корпус государя, «особую опричнину». Помимо охранных они выполняли также разведывательные, следственные и карательные функции. Среди них находился и молодой тогда ещё опричник Борис Фёдоров сын Годунов. Остальные 1200 опричников отвечали за быт царя и работу хозяйственных служб{72}.
Сформированное Грозным опричное войско не превышало по численности пяти-шести тысяч человек. Несмотря на малочисленность, оно сыграло выдающуюся роль в защите Московского государства{73}. Его можно считать прообразом гвардейских частей русской армии. (В России лейб-гвардия была впервые введена Петром I в 1690-е гг.)
В течение двадцати последних лет царствования Грозного прямая цель опричнины была достигнута и всякая оппозиция сломлена. Поскольку реформа осуществлялась в условиях чрезвычайно трудной войны и осложнялась столкновениями с представителями удельной Руси, то этим можно объяснить её особенно жестокий характер: опалы бояр, казни, конфискации. Свой интерес в этой борьбе, конечно, имели и новые государевы слуги, привнёсшие в опричнину много личного произвола. Но не в терроре, обусловленном обстоятельствами и временем, суть опричнины. Иоанн лишь довёл до полного развития те начала военной монархии, которые наметились во времена его деда. Он использовал развивавшуюся поместную систему для создания на основе среднего поместного землевладения нового служилого сословия — опоры и послушного орудия центральной власти[30].
Настойчивое проведение политики централизма и укрепления единодержавия позволит Иоанну, несмотря на перенапряжение сил военного времени, удержать единство страны, территория которой быстро расширялась на всех направлениях. Английский коммерсант и дипломат Джером Горсей, находившийся в России почти два десятилетия — с 1573 по 1591 г., писал по поводу формы правления Иоанна Грозного следующее: «Столь обширны и велики стали его владения, что они едва ли могли управляться одним общим правительством и должны были распасться опять на отдельные княжества и владения, однако под его единодержавной рукой монарха они остались едиными, что привело его к могуществу, превосходившему всех соседних государей. Именно это было его целью, а всё им задуманное осуществилось»{74}.
В 1565–1566 гг. Польша с Литвой были готовы на почётный для русской державы мир и уступали Москве все её приобретения. Но Земский собор 1566 г. высказался за продолжение войны, надеясь на дальнейшие территориальные приобретения: желали всей Ливонии и Полоцкого повета к г. Полоцку. Однако военные действия развивались вяло. И 1569 г. на сейме в Люблине Польша и Литва объединились в единое государство — Речь Посполитую. В 1570-е гг. стало обнаруживаться несоответствие сил Москвы с поставленной Иваном Грозным целью. Активизировалась деятельность соседних стран по созданию коалиций против Москвы. Их участниками выступила Турция, желавшая овладеть Казанью и Астраханью, и её союзник крымский хан, который в 1571 г. в ходе своего разбойничьего набега сжёг Москву и, захватив множество пленных, ушёл в Крым, никем не преследуемый. Иоанн прямо обвинил в государственной измене бояр: они послали к хану боярских детей, чтобы те провели орду через Оку. Признание князя Ивана Мстиславского в измене подтвердило обвинения царя. Мстиславский был прощён. Однако русский комментатор этого исторического эпизода, отражённого в летописи Рюссова, помня об обвинениях в адрес Грозного, не смог удержаться от восклицания: «Как же было, в самом деле, поступать с непокорными боярами человеку страстному и впечатлительному, видевшему, и не без оснований, кругом себя измену и крамолу?{75}
В июле 1572 г. крымский хан Девлет-Герей со 120-тысячным войском, состоявшим из крымских и ногайских татар и отрядов турецких янычар, снова пошёл на Москву, решив повторить успех 1571 г. Однако на реке Лопасни у села Молоди он был остановлен русскими полками. Завязалась Молодинская битва, в ходе которой было разбито войско Девлет-Гирея (в Крым вернулось, по разным оценкам, не больше 20 тысяч человек). Опричное же войско, участвовавшее в битве, полегло всё{76}. В 1572 г. террор, сопровождавший введение опричнины, был прекращён.
Угрозы с юга ещё больше заставляли Иоанна напрягать все усилия, чтобы пробиться к морю. Без овладения балтийским берегом Московское государство не могло получать из Европы сведущих специалистов (в ратном и во всяком другом деле), чтобы обезопасить свои южные рубежи от вторжений крымских и турецких войск. Напомним, что в модернизации страны путём использования квалифицированных иностранных специалистов Иоанн Грозный, по приказу которого была основана в Москве знаменитая Немецкая слобода, был предшественником Петра Первого. Например, подрывными работами ещё при взятии Казани руководил датчанин Бутлер[31].
В 1572–1577 гг. Московское государство по-прежнему удерживало всю Эстонию (кроме Ревеля и островов) и Северную Латвию (за исключением Риги). Предпринятая весной 1577 г. трёхмесячная осада Ревеля окончилась безрезультатно из-за невозможности блокировать город с моря. Здесь господствовала Швеция, организовывавшая разного рода вооружённые отряды для атак с моря на территории, занятые русскими войсками.
Картина войны стала меняться с кончиной польского короля Сигизмунда-Августа и избранием бывшего трансильванского воеводы Стефана Батория (1533–1586) на престол Речи По-сполитой (1576 г.). Баторий происходил из древнего венгерского рода, и его предки в течение 200 лет были вассалами и турок, и немцев (австрийцев). При выборе в королевское достоинство Баторий был выдвинут в качестве кандидата вместе с римским императором Максимилианом. На выборах, происходивших на открытом поле под Варшавой, тот получил большинство голосов. В избрании Максимилиана, за которого стояли самые знатные лица Речи Посполитой, а также присоединённые к Польше прусские и ливонские земли, был заинтересован и Иоанн Грозный. Он посылал к императору свои великолепные посольства с пожеланиями счастья, напоминаниями брать польскую корону и просьбами снова уступить добровольно половину Ливонии. Но, поскольку Максимилиан не спешил появляться в Польше, на какой-то период времени возникла ситуация, похожая на двоевластие. Этим воспользовался Стефан Баторий, чтобы склонить на свою сторону влиятельных представителей польских сословий. Это оказалось не так трудно, поскольку, как свидетельствует летописец, «поляки в глубине души не очень-то были склонны к немецкому народу; в те времена они больше льнули к венграм, которым подражали в одежде, оружии и нравах….К тому же Стефан обещал, а впоследствии подтвердил и присягой, что будет свято сохранять их отчасти варварские привилегии, а также, что не будет обращать внимания на проделки некоторых знатных панов, совершённых во время междуцарствия»{77}.
Затем сорокатрёхлетний Баторий поспешил со свадьбой с Анной Ягеллон, пятидесятилетней сестрой бездетного Сигизмунда-Августа, унаследовавшей после смерти брата польскую корону. В апреле 1576 г. Баторий женился на королеве Анне, а 1 мая 1576 г. короновался польским королём. Во время коронации он пообещал, что завоюет всё, отнятое Москвой, войском, которое сам поведёт, даст 800 тыс. злотых на войну, выпустит пленную шляхту и т.д.{78}
Коронование Батория, а не австрийского кандидата, как того хотел Иоанн, только усилило желание русского царя во что бы то ни стало покончить с Ливонией. Видя военные приготовления Москвы, город Данциг (по-польски Гданск) также не захотел признать Стефана королём, хотя бы по той причине, что уже присягнул императору. Неоднократные переговоры ни к чему не привели. Король Стефан объявил жителей города «врагами отечества» и приступил к его осаде. Когда же Баторию удалось заставить Данциг присягнуть польской короне, император Максимилиан, раздосадованный тем, что ничем не смог этому воспрепятствовать, стал искать союза с Москвой, чтобы свергнуть Батория. Иоанн решил, что наступило самое подходящее время, чтобы овладеть Ливонией, и предпринял против неё новый поход, заняв Ленварден, Ашераден, Кокенгаузен, Роннебург, Арле, Венден, Вольмар и другие города. Находившиеся по другую сторону Западной Двины литовцы ничего не посмели предпринять против русских сил. На этот раз, как свидетельствует летописец, всей Ливонии грозила большая опасность{79}. Однако смерть императора Максимилиана, на которого Иоанн Грозный очень надеялся, облегчила Баторию его задачи.
Как только Максимилиан умер, король Стефан собрал в Польше сейм. На нём было решено выставить всю свою силу против «московита», чтобы тот уже никогда не мог претендовать на Ливонию. В рамках запланированного похода был заключён союз с татарами, с тем чтобы они атаковали русские войска с тыла, и возобновлён прежний мир с дружественной Османской империей. Баторий заключил союз и со своим свояком шведским королём Юханом (они оба были женаты на сестрах Сигизмунда-Августа).
Иоанн считал, что война за Ливонию развернётся в Ливонии, и отправил туда большое войско. Однако Баторий в июне 1579 г. начал поход не в Ливонию, где находились русские гарнизоны. Он двинул огромную армию, в рядах которой были наёмники из Германии, Венгрии, Трансильвании, из Вильно через Литву на Полоцк, т.е. в пределы Московской державы. В числе его «главных советников» был и князь Курбский. Свой поход на Русь Баторий стремился морально легитимировать. Поэтому Иоанн был демонизирован со слов Курбского как «московский злодей», которого следовало «обуздать». Пообещав Иоанну вскоре «прибыть к нему в Москву», Баторий обратился с грамотой и к жителям Руси, призывая их восстать против царя. В успехе своей «миссии» Баторий не сомневался.
Этот сценарий демонизации лидера страны и опоры на его оппозицию в целях распространения своего влияния на непокорные страны и территории западная цивилизация воспроизведёт ещё не раз и не только в России.
Одновременно с Баторием выступили и шведы. В июле 1578 г. шведский флот обстрелял и сжёг Нарву и Ивангород — единственные на тот момент морские ворота Руси на Балтике. Затем сухопутные силы Швеции осадили Нарву.
Армия Батория, разоряя сёла и населённые пункты на своём пути, подошла к укреплениям Полоцка. Передовые отряды поляков появились и под Смоленском. Русские, вопреки польскому сценарию, не собирались перебегать на сторону новоявленных борцов с «московским злодеем». Они не только отчаянно сопротивлялись, но и разгромили авангардные отряды интервентов. Не овладев Полоцком штурмом, Баторий начал его осаду. Сюда, под стены Полоцка, прибыл и Курбский с целью уговорить русских воевод перейти на сторону «освободителей». Частично в ходе трёхмесячной осады города ему это удалось: часть воевод переметнулась к неприятелю. Отправленная Иоанном на помощь Полоцку армия во главе с Борисом Шейным опоздала, и 29 августа город, охваченный пожаром, пал. И сразу же борцы с «московским злодеем», в рядах которых очутились авантюристы и любители лёгкой наживы чуть ли не со всей Европы, сами выявили свою злодейскую сущность. В ходе вакханалии насилия и грабежа было убито, зарезано и сожжено заживо много тысяч православных{80}. Но это был, как теперь на Западе принято говорить, «коллатеральный» (т.е. побочный) ущерб, сопровождающий «правое дело». Легитимации похода Батория поспособствовал и папа Георгий III. Он прислал торжествующему польскому королю «священный меч» в знак того, что рассматривает его военные действия против Руси как новый крестовый поход и солидарен с его пропагандистским толкованием как войны «против варваров» за «дело Христово». Сразу же после захвата Полоцка Баторий закрыл православный храм и открыл Академию иезуитов.
Следует сказать, что противостояние русских с поляками и шведами на поле брани сопровождалось противостоянием морально-психологическим в ходе обмена посланиями между Иоанном, шведским королём Юханом и польским королём Баторием. К тому времени в летописях и исторических хрониках, написанных представителями западной цивилизации, Московская держава называлась уничижительно «Московией», русские — «московитами», а русский царь — или великим князем, или просто «московитом». Иоанн же, гордый своим династическим первородством («нам брат — цесарь римский и другие великие государи»), уличал в безродности короля Юхана (его отец Густав I Ваза взошёл на престол «необычным» путём, т.е. в результате восстания против датского владычества) и бывшего трансильванского воеводу Батория (его первого из рода Баториев польская шляхта посадила на трон управлять собой, но не владеть). Для династически-легитимного мировоззрения той поры уличение в безродности («в мужичьем роде», а не «государственном») было чрезвычайно оскорбительным. Важно обратить внимание на то, что свою династическую первородность и связанное с ней исключительное положение в потоке текущих и исторических событий Грозный рассматривал прежде всего сквозь призму веры: «Всемогущий Бог благоволили ко всему нашему Роду: мы государствуем от Великого Рюрика 717 лет… Всемогущая Божья десница даровала нам государство, а не кто-либо из людей, и Божьей Десницей и милостью владеем мы своим государством сами, а не от людей приемлем государство, только сын от отца отцовское по благословению приемлет самовластно и самодержавно, а своим людям мы креста не целуем»{81}. Отсюда следовал вывод, квалифицирующий действия поляков (католиков) и шведов (лютеран) с позиций Высшего Суда: кто идёт на нас вопреки воле Бога и хочет отнять, что Бог дал нам, совершает дело богопротивное.
Эти послания Иоанна своим противникам лишь усилили личную неприязнь и ожесточение со стороны польского и шведского монархов, что наложило свою печать на разворачивавшуюся борьбу.
После падения Полоцка Баторий той же осенью 1579 г. двинул свои войска на крепость Сокол, где находились лучшие ратные люди Иоанна. Те, делая вид, что хотят сдать крепость без боя, впустили несколько сот наёмников Батория, а затем, опустив крепостные ворота, всех их перебили. Услышав ужасный крик своих соплеменников, королевские ратники подожгли деревянную крепость. Чтобы не сгореть живыми, осаждённые попытались пробиться сквозь польскую армию, но были все перебиты, а самые знатные уведены в плен. Баторий решил, что уничтожил корень русской силы. Заняв ещё пару крепостей, он разместил войска на зиму в укреплённом лагере. Так завершился его первый поход.
В марте 1580 г., пользуясь затишьем в войне, Иоанн предложил императору Священной Римской империи Рудольфу II (1576–1611), являвшемуся политическим противником Батория и врагом Османской империи, заключить союз против турок. Ответом императора-католика на призыв царя-«схизматика» стал указ, запрещавший поставлять Московской державе металлы, которые ей были необходимы для производства вооружений.
В мае 1580 г. Баторий начал свой второй поход на Русь. Друг за другом пали крепости Вележ и Усвят. Затем настал черёд и Великих Лук. Город был превращен в груду пепла. Все его жители, не исключая женщин и детей, были перебиты. Эти победы можно объяснить не только несомненным воинским талантом Батория и хорошим войском, находившимся в его распоряжении, но и тем, что к данному времени, вследствие внутреннего кризиса и общего перенапряжения сил страны, у Грозного иссякли средства ведения войны сразу на нескольких фронтах: польско-литовском, шведском и южном. В то время как сильные полки должны были оставаться на юге, где мог появиться крымский хан, на протяжённом польско-литовском фронте московские силы пришлось дробить. Этой ситуацией Баторий успешно пользовался. Он собирал своё тридцатипятитысячное отборное войско в один мощный кулак и брал одну за другой русские крепости с гарнизоном в шесть-семь тысяч человек. Поэтому под Великими Луками повторилось то, что уже было под Полоцком. Иоанн IV не счёл возможным прислать войско для освобождения Великих Лук от осады. Точно так же не смогли выделить помощь из своих гарнизонов ближние к Великим Лукам крепости — Невель, Озерище, Заволочье. Все укрепления, защищаясь порознь, одно за другим переходили в руки неприятеля.
Поражениями русских сразу же воспользовались шведы, перешедшие в наступление на побережье Финского залива. В короткий срок русские потеряли Кексгольм, Падис под Ревелем, Везен-берг. Почти все эстонские земли перешли под контроль Швеции. Следует отметить, что на стороне русских в борьбу со шведами включались и эстонские крестьяне. Согласно хронике Рюссова, в Вирумаа в 1579 г. много эстонских юношей добровольно вступило в русские войска{82}.
Иоанн попытался заключить мир с Баторием, соглашаясь уступить ему Полоцк и Полоцкую землю. Но польский король, окрылённый успехами и склонный недооценивать противника, хотел принудить ненавистного царя к капитуляции. Кроме того, в условиях больших расходов на войну, опустошавших казну, и быстрого роста долгов, Баторию была необходима «большая добыча». В качестве условий заключения мира он выдвинул три ультимативных требования: передать Польше всю Ливонию, выплатить контрибуцию в 400 тыс. золотых червонцев (по тем временам сумма огромная) и «срыть» русские крепости на границе.
20 июня 1581 г. Баторий во главе стотысячной армии, с согласия всех сословий на сейме, начал свой третий поход на Русь. Все силы были направлены на Псков, сильнейшую крепость окраины Московского государства, город древний и по тем временам чрезвычайно богатый и большой, и, как показалось летописцу, «будет не меньше Парижа»{83}. В случае успешного овладения Псковом поляки двинулись бы на Новгород, а затем и на Москву. Российский историк А.Н. Боханов так описывает настроения в армии Батория: «Поляки и наёмники, вооружённые по последнему слову военной техники, двигались как на праздник.
В обозе за передовыми частями следовали музыканты, актёры и, конечно же, толпы жриц любви. Имелись и прелаты[32], воодушевлявшие святое воинство на разорение и разграбление страны Православия. Господствовала уверенность, что Русь при последнем издыхании, что борьба будет недолгой, победа — скорой, а добыча — огромной»{84}.
29 июня Баторий получил ответ от Иоанна с комментариями по каждому из пунктов ультиматума. Царь был готов уступить Полоцк, занятый к тому времени войсками Батория, и отдать Ливонию, где всё ещё находились русские гарнизоны. В то же время Иоанн, сославшись на исторические хроники, счёл необходимым снова напомнить, что Ливонская земля искони принадлежала Руси. Эта оговорка могла означать, что Москва в будущем ещё вернётся к этому вопросу. Требование контрибуции Иоанн решительно отклонил, поскольку такие вещи возможны только в «басурманских» странах. Об уничтожении крепостей также не могло быть и речи, ибо никто иной, кроме царя, не был вправе распоряжаться в Московской державе. Своё послание Баторию Иоанн завершил упованием на милость Бога. «…Ты несговорчив …и стремишься к битве. Бог в помощь! — писал он Баторию. — Мы же во всём возложили надежду на Бога — если Он захочет, то облагодетельствует нас силою Своего Животворящего Креста. Уповая на Его силу и вооружившись крестоносным оружием, ополчаемся силою Креста против своих врагов»{85}.
Послание Иоанна резко контрастировало с тем, что нашёптывало Баторию его окружение: будто Иоанн «ничтожный трус», погрязший в разврате; стоит королю только захотеть, и этот ненавистный царь будет повержен, а Русь сокрушена.
Пылавший ненавистью Баторий вызывал русского царя на личный поединок, чтобы меч решил, чьё дело справедливо и с кем Бог. «Но что бы ты ни сделал, примешь ли вызов или пустишься в бега, — пророчествовал Баторий, — Господь будет с нами, и истина и справедливость восторжествует. Ты же пойдёшь путём погибели!»{86}
Баторий, грезивший о мировой славе, планировал взять Псков сходу. Но сходу не удалось взять даже Печёрский монастырь, находившийся недалеко от Пскова. Требования сдачи монастыря, сопровождавшиеся угрозами и посулами, иноки отклонили так: «Не хотим Королева жалованья, и не страшимся от его угроз, не приемлем Канцлерова льстивого ласкания, ни его лестного обещания Латынского по Христианству, но умрём в Дому Пречистыя Богородицы, по своему иноческому обещанию»{87}. Другие православные защитники монастыря ответили так: «По крестному целованию, за отчину своего Государя царя и Великого Князя Иоанна Васильевича всея Руси и за его чада Царевича Князя Фёдора, мы такожде должны умрети, а монастыря Богом-зданные — пещеры не отдадим»{88}. У монахов был гарнизон, и они мужественно бились, звоня в колокола, крича, бросая огромные камни и открывая такую пальбу, что по всему было видно, что они не желают сдавать святой дом Божий немецкому полковнику Фаренсбаху. Тот, предвидя борьбу за Псков, предпочёл оставить монахов в покое и снять осаду монастыря, доказавшего свою способность смело противостоять мощному нападению.
Но и под Псковом войско Батория не приобрело много славы. Иоанн сосредоточил здесь лучшие воинские силы, снабдил всякими снарядами и запасами, ибо всю свою надежду и утешение, счастье и несчастье возложил на спасение или падение этого города. Так что, как свидетельствовали люди Батория, попавшие в русский плен, в противостоянии с Речью Посполитой Псков сделался Москвой, и если бы королевские войска овладели Псковом, то овладели бы и всем Московским государством{89}.
У поляков же под Псковом произошла существенная заминка, бросившая тень на авторитет главнокомандующего войском великого канцлера Яна Замойского: когда потребовалось задействовать артиллерию, то ни пороха, ни снарядов во всём королевском обозе не оказалось. Пришлось за порохом и снарядами посылать в Ригу. Если бы об этом узнали защитники Пскова, то полякам пришлось бы со значительными потерями отступить.
Штурм закончился полным провалом. Из тех, кто через пробитые артиллерией проломы в городских валах бросился штурмовать город, лишь немногие вернулись назад. Был убит и знаменитый воин Бекеш, многолетний военный соратник Стефана Батория. Эта неудача войска Батория, казавшегося непобедимым, произвела отрезвляющее впечатление на его пёструю по составу армию и воодушевила находившийся под началом князя Ивана Петровича Шуйского псковский десятитысячный гарнизон. Оборона Пскова в течение пятимесячной осады, на защиту которого поднялись все его тридцать тысяч жителей от мала до велика, явилась выдающимся фактом русской истории, убедительным примером русского патриотизма XVI в. За всё время осады не было ни одного случая измены и перехода на сторону врага. Псковичи сорвали план Батория, который намеревался не только подчинить польской короне всю Ливонию, но и разгромить Москву{90}.
Оборона Пскова потребовала направить на помощь ему часть нарвского гарнизона. Оголением русских позиций на северо-востоке Ливонии с большой выгодой для себя воспользовалась Швеция. Её смешанные наёмные войска под предводительством выходца из Франции Понтюса Делагарди поспешили занять Тольсбург, Гапсаль, Вейсенштейн и Нарву.
В то время как Понтюс так удачно вёл войну, поляки всё ещё стояли под Псковом. У польского войска не было ни соли, ни хлеба. Начались повальные болезни, так что умерло много наёмников. Ощущался и большой недостаток в порохе и снарядах. Наступала зима. Перед тем как распустить своё войско до весны, Понтюс предложил помощь полякам своими людьми, порохом, снарядами и исправною артиллерией, но те отказались, посчитав, что такая помощь обернётся для них территориальными потерями в Ливонии.
Неудача Батория под Псковом позволила Иоанну IV начать переговоры о мире. И здесь он проявил себя как искусный дипломат. Чтобы обеспечить международную поддержку русскому государству, оказавшемуся в чрезвычайно трудном положении, православный царь сыграл на давнем стремлении папства подчинить православную Москву католической Церкви: он предложил папе Григорию XIII заключить союз против ислама и оживил тем самым надежду (оказавшуюся призрачной) и на «духовное единение» Церквей, которое Рим традиционно выставлял в качестве условия антитурецкого союза. Царь пообещал также открыть свою страну для торговли с западом, когда установятся дружеские отношения с папой и христианскими государями, и попросил направить посольство в Москву, чтобы быть посредником на переговорах и защитить Московское государство против территориальных амбиций польского завоевателя, находившегося в союзе с султаном и крымским ханом. О религиозных разногласиях с Римом русский царь пока не упоминал. Папа поспешил отреагировать на послание Иоанна. Дело в том, что, теряя влияние на западе и севере Европы под натиском протестантизма, католицизм хотел обрести новое дыхание за счёт экспансии на восток. Кроме того, в условиях нараставшей угрозы со стороны турок-мусульман перспектива втягивания в борьбу с ними Московского государства представлялась Риму чрезвычайно заманчивой.
Роль «устроителя мира» выпала на долю папского посла иезуита Антония Поссевино, прибывшего к московскому двору ещё перед началом осады Пскова. Он надеялся, что поражения сделают царя более сговорчивым и понудят его к единению Церквей в духе Флорентийской унии, которую Русь решительно отвергала ещё с середины XV в.[33]
Переговоры между Поссевино и Иоанном начались 18 августа 1581 г., когда осада Пскова ещё продолжалась. Через три недели Поссевино отбыл к Баторию под Псков, так ничего и не добившись. Русский царь не взял на себя никаких обязательств в отношении создания общеевропейской коалиции для борьбы с Турцией, а вопрос о воссоединении Церквей пообещал обсудить лишь после установления мира с Польшей. Теперь вся надежда была на «славные победы» Батория. Однако мужество и самоотверженность псковичан сделали их недостижимыми.
Когда стало ясно (ноябрь 1581 г.), что город взять не удастся, а значит, не удастся захватить и «золото Пскова», наёмники стали выражать своё недовольство и требовать обещанных денег. Когда же Баторий снова бросил своих деморализованных воинов на штурм Пскова, военное счастье, как и следовало ожидать, уже было не на его стороне. Это ещё больше накалило страсти в армии: требования денег перерастали в угрозы безденежному Баторию. Бросив поле боя, он ночью бежал в своё королевство. За ним последовало и большинство наёмников с обслуживающим персоналом (музыканты, священники, представительницы древнейшей профессии). К началу 1582 г. от ста тысяч едва осталось около тридцати.
Великий гетман Ян Замойский, принявший командование от короля и осознавший безнадёжность ситуации, стал требовать немедленного заключения мира с Русью. Переговоры начались 13 декабря в городке Яме Запольском (расположен на реке Луге). Посредником на переговорах выступил Антонио Поссевино. На первых порах польские послы занимали непримиримую позицию, взяв за основу ультиматум Батория. Кроме того, они потребовали изъять из титула Московского царя упоминание о Ливонии. Однако гордость и самодовольство польских послов быстро улетучились под впечатлением присланного 8 января 1582 г. сообщения с фронта. В нём Ян Замойский предупреждал, что сможет продержаться не более восьми дней. В переговорах сразу же наступил перелом. Прежде на варшавском сейме поляки и слышать не хотели о возвращении «московитам» завоёванных земель, теперь же радовались, что возвращением можно кончить дело.
15 января 1882 г. в Запольском Яме Москва заключила с Речью Посполитой перемирие сроком на десять лет. Баторий возвращал все захваченные им русские крепости (за исключением Полоцка и Велижа) и отказывался от требования контрибуции. Московское государство уступало свои прежние завоевания в Лифляндии и Литве, выговорив для себя право забрать из оставляемых полякам замков большие и малые орудия, порох, снаряды и провиант. Так и было сделано, причём при перевозке усердно помогали эстонцы и латыши. При заключении перемирия стороны договорились ещё об одном условии: если какой-либо из договаривающихся государей умрёт раньше истечения 10 лет, то оставшийся в живых государь волен поступать с землёй и людьми умершего государя как неприятель. Таким образом, территориальные уступки делались обеими сторонами не на вечные времена.
На переговорах поляки совершенно не думали о своих союзнических отношениях с Швецией. Более того, они были раздосадованы тем, что шведы поставили под свой контроль ряд крепостей Северо-Восточной Ливонии, и прежде всего Нарву. Поэтому в Ям-Запольский договор был включён следующий пункт: если поляк или «московит» отберёт у шведов Нарву, то другому вольно пробовать своего счастья на этот город, и мир через то не будет считаться нарушенным{91}.
По мнению Л. Миллера, «московитам этот мир был очень выгоден, но полякам не принёс большой славы: они имели московита точно в мешке[34] и последуй только разумному совету военных людей, озаботься в своё время устранением недостатка в порохе, снарядах и деньгах и не отвергай из высокомерия и зависти шведской помощи, то, конечно, заключили бы мир на более почётных и выгодных для себя условиях»{92}.
Не достиг заветных целей и папский легат Поссевино, считавшийся одним из образованнейших католических богословов. Он прибыл в Москву 14 февраля 1582 г., чтобы добиться «единения веры» с русским царём. Он действовал не только богословским убеждением, но и пытался соблазнить Иоанна территориальным приращением его царства, обещая, что он будет государем не только на прародительской вотчине в Киеве (принадлежал католической Польше), но и в Царьграде (принадлежал мусульманской Османской империи). Последний посул объясняется желанием Ватикана втянуть Московскую державу в войну с Турцией, представлявшую в тот период основную угрозу для Европы.
Царь провёл с Поссевино три беседы, доказав, что владеет мастерством богословской полемики и обладает «обширными знаниями, богатством памяти, живостью ума, силой диалектики»{93}. Основное внимание было уделено пониманию правоверия[35].
Царь твёрдо и последовательно изложил свои взгляды на «римскую веру», в которой 70 вер, объявил смешными и нелепыми претензии папы, который хвастливо мнит себя сопрестольником Христу и Петру апостолу. Не оставив без ответа ни один из аргументов посланца Рима, Иоанн объяснил, почему Руси не сойтись с Римом в вере: «Если повсюду в Европе наблюдается отступление от правоверия, везде христианство с ересью смешано, то у нас на Руси этого нет, а вера процветает. Наша вера христианская с издавних лет была сама по себе, а Римская церковь сама по себе».
Православный царь не позволил самонадеянному иезуиту поучать себя в вопросах богословия и тот, не добившись перехода Москвы под покровительство папы, вскоре после заключения Ям-Запольского договора вернулся в Рим ни с чем.
Иоанн IV намеревался продолжить борьбу за Эстляндию со Швецией. Весной 1582 г. русские полки наголову разбили шведов под Ямом. В сентябре 1582 г. шведы после неудачных штурмов крепости Орешек в устье Невы (ныне Шлиссельбург) и понеся большие потери, были вынуждены отступить. В военной конфронтации один на один Швеция явно уступала Московскому государству. Но здесь снова возникла перспектива войны на нескольких фронтах. Баторий угрожал вступить в борьбу за Нарву, если Иоанн IV вернёт этот город и прорвётся к Балтике. В 1583 г. Ногайская орда предприняла наступление на территории давно завоёванных «царств» в Поволжье. Это вторжение грозило перерасти в новую войну.
В такой обстановке в мае 1583 г. на реке Плюса Москва согласилась на перемирие со Стокгольмом, которое было заключено сроком на три года. Плюсское перемирие явились завершением крупнейшей из войн русской истории — борьбы за Ливонию, осложнённую жестокими столкновениями с Крымом, Польшей и Швецией. Швеция получила Эстляндию и сверх того русские крепости по берегу Финского залива от Наровы до Ладожского озера (Иван-город, Ям, Копорье, Орешек, Корелу)[36]. Остров Сааремаа и Муху остались за Данией, но в 1645 г. по результатам датско-шведской войны Дания была вынуждена отказаться от них в пользу Швеции.
По современным меркам век Иоанна был краток. Он прожил 54 года. Через год после Ливонской войны его жизнь клонилась к закату. Он тяжело болел. Существует версия, что его отравили. Перед смертью Грозный приказал отпустить всех пленных. А в последние часы жизни он, по древнему обычаю, постригся в иноки, ибо помнил слова Христа в Святом Евангелии: «То, что для людей высоко, для Бога — мерзость». И перед Всевышним Судией предстал не преемник двух великих династий — Рюриковичей и Палеологов, гордый своей династической исключительностью в мире коронованных особ; не Первый Царь в русской истории, при котором функция Священного Царства, некогда принадлежавшая Константинополю, перешла к Москве; не выдающийся стратег и государственный деятель, превративший Русь в огромную державу и направивший её развитие по имперскому пути; не беспощадный борец с изменой боярских родовых кланов — главных разрушителей Руси в период Великой Смуты, последовавшей через 20 лет после смерти Иоанна; не убеждённый и твёрдый защитник православия перед лицом религиозной экспансии высокомерного Рима. Перед Высшим Судией предстал смиренный инок Иона. И в этом акте Иоанн явил себя как истинно русский и православный человек. «Ничем я не горжусь и не хвастаюсь, и нечем мне гордиться, ибо я исполняю свой царский долг и никого не считаю выше себя», — писал Иоанн Курбскому{94}. Он верил в Страшный Суд. Верил, что ему, как рабу Божию, предстоит суд не только за свои грехи, вольные и невольные, но и за грехи своих подданных, совершённые из-за его неосмотрительности.
Что касается суда людского, то многомерность и трагизм личности грозного царя, дерзновенные цели, сложность времени, в котором он действовал, а также рассмотрение эпохи Иоанна Грозного не изолированно, а в едином потоке исторических взаимосвязей, не допускают однозначных и поверхностных оценок. Трудно не согласиться с подходом доктора исторических наук, профессора А.Н. Боханова, выбравшего в качестве эпиграфа к своей фундаментальной и чрезвычайно интересной книге об Иоанне Грозном следующий пушкинский завет:
Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу, Своих царей великих поминают За их труды, за славу, за добро — А за грехи, за тёмные деянья, Спасителя смиренно умоляют{95}.
В ходе Ливонской войны Московскому государству, уничтожившему Ливонский орден, так и не удалось обеспечить себе выход к гаваням на Балтийском море. Эта стратегическая задача, поставленная Первым Царём России Иоанном IV Грозным, будет решена в начале XVIII столетия Петром I. Прорыв к Балтике, сопряжённый с огромными жертвами, превратит Россию в империю, а её царя Петра — в первого российского императора. Справедливость требует признать, что в подготовке этого прорыва и к морю, и к имперскому величию не последнюю роль сыграл и Иоанн IV Грозный, при котором Русь по территории стала крупнейшим в мире государством, а по облику и по сути — монолитной державой. Именно Иоанн IV в своей упорной борьбе одновременно на нескольких фронтах, в организации освоения покорённых земель способствовал формированию имперского самосознания у московских людей, укреплял их волю к покорению пространств и готовил к бескорыстным жертвам ради создания великой державы.
Глава IV.
Под властью шведов
Расчленение Ливонии на владения Речи Посполитой, Швеции и Дании не принесло мира на землю эстонцев и латышей, поскольку военное противоборство между Швецией и Польшей продолжилось. Каждая из сторон стремилась поставить под свою власть всю территорию бывших орденских владений в Прибалтике.
Примечательно, что и поляки, и шведы нашли положение местных крестьян — латышей и эстонцев чрезвычайно удручающим. Польский король Стефан Баторий, посетив в 1582 г. Ригу, обратил внимание на крайнее угнетение лифляндских крестьян и объявил лифляндскому дворянству, что необходимо облегчить участь туземного населения, угнетённого страшным образом (miris modis). Через четыре года, в 1586 г., сендомирский и мариенбургский воевода Богуславский, именем короля Стефана предложил на ландтаге лифляндскому дворянству прекратить жестокие наказания крестьян и не налагать на них повинностей свыше тех, что установлены в Польше и Литве. Характеризуя бедственное положение лифляндских крестьян, он упрекнул дворянство в том, что «во всём мире даже между варварами и язычниками ничего подобного не видано». Из этого следует, что положение польских хлопов было лучше, хотя, по свидетельству современников, Речь Посполитая была для них сущим адом. Ливонские дворяне, отвечая на претензии польских властей, заявили, что большая часть дворян оказывает своим крестьянам действительное вспоможение. Те же, кто жестоко обходится со своими крестьянами, должны за это отвечать.
Существует предание, будто Баторий хотел заменить телесные наказания крестьян штрафами, а крестьяне, жившие в страшной нищете, выступили против денежных взысканий. В другой же версии само дворянство уверило польского короля, что крестьяне так привыкли к палкам, что не соглашаются на замену их штрафами. Говорят, что король, услышав об этом, будто бы воскликнул: «Phryges non nisi plagis emendatur!» (Рабы-фригийцы только побоями исправляются.) О благих намерениях польских властей может свидетельствовать имеющееся известие о том, что в 1597 г. король Сигизмунд III запретил арендаторам казённых имений облагать крестьян новыми произвольными поборами. Однако дальше разговоров дело не пошло. Не в правилах польского правительства было заботиться о хлопах, да у него и не было времени, чтобы заняться реформами. В 1600 г. началась война со Швецией, затянувшаяся почти на тридцать лет. Борьба шла с переменным успехом. Города, сёла и местечки переходили из рук в руки, довершая разорение крестьянства, у которого отбирали последнее. В этих условиях катастрофой для эстонцев и латышей стали тяжёлый неурожай 1601–1602 гг. и последовавший за ним мор.
В результате продолжительных войн со Швецией (1600–1611, 1617–1629 гг.) польский король Сигизмунд III был вынужден в сентябре 1629 г. по Альтмаркскому трактату уступить Лифляндию. В 1660 г. в Оливе был заключён окончательный мир. По нему Польша навсегда отказалась от Лифляндии, оставив за собой только её южную часть, так называемую польскую Лифляндию, которой она владела с 1557 г.
В 1629 г. под суверенитетом Швеции Лифляндия снова соединилась с Эстляндией. В придачу шведы получили разорённое сельское хозяйство и много обезлюдевших мест. Пустовали не только крестьянские дворы, но и целые деревни, жители которых превратились в беженцев. Если в первой половине XVI в. численность сельского населения эстонской части Ливонии оценивалась в 250–280 тыс. человек, то к 20-м годам XVII века она упала до 60–70 тыс.
При шведах завоёванная территория была разделена на три части. Каждая из них была на положении особой провинции и имела известную автономию. Северная Эстония и остров Хийумаа, первыми подпавшие под власть Швеции, образовывали Эстляндскую губернию. Она делилась на уезды: Харью, Виру, Ярва и Ляэне. Южная Эстония и территория бывшей Ливонии до реки Западная Двина составляли Лифляндское генерал-губернаторство. Эстонская часть Лифляндии делилась на Тартуский и Пярнуский уезды. Острова Сааремаа и Муху представляли особую административную единицу. Уезды, в свою очередь, делились на приходы (кихельконды), а те — на мызные участки.
С наступлением продолжительного периода мирного времени численность местного населения стала быстро расти. Беженцы возвращались в родные места или оседали в новых районах. Поскольку новопришельцев шведские власти на три года освобождали от повинностей, то в заселении свободных земель участвовали не только эстонцы, но и довольно значительное число русских, латышей, финнов, шведов. Они селились среди эстонцев разрозненными группами или одиночно и с течением времени эстонизировались, влияя на процесс этнического формирования эстонского народа.
Шведы оставили частные поместья в руках их владельцев, главным образом немецких дворян. В 1640-х гг. оформился так называемый прибалтийский (остзейский) особый порядок: привилегии местного рыцарства, сословные органы помещиков, широкое право наследования поместий и т.д. Сами немцы называли остзейский порядок государством в государстве.
Епископские и орденские земли получили статус государственных. Со временем шведский король стал раздавать их в лен шведскому дворянству.
Основная ставка была сделана на производство зерна (ржи и ячменя), большая часть которого экспортировалась в Голландию. В условиях преимущественного развития зернового хозяйства за счёт других отраслей Эстляндия и Лифляндия получили название «хлебного амбара Швеции», хотя самим крестьянам хлеба (даже с мякиной) хватало далеко не всегда. Погоня властей и дворянства за прибылью требовала увеличения посевных площадей. Это происходило не только за счёт присоединения пустовавших крестьянских дворов, но и путём захвата крестьянской земли. В течение XVII века у крестьян было отнято почти такое же количество земель, что и в течение предыдущих 250 лет. Крестьян, согнанных со своих дворов, заставляли поднимать целину или переходить на маленькие участки (1/2 и менее гака). На этом фоне росло число имений. К концу XVII века оно достигло 1025 и на протяжении последующих столетий почти не изменилось. Наиболее крупными землевладельцами в Эстляндии и Лифляндии были шведские аристократы Э. Оксеншерна, М.Г. Делагарди и К. Тот.
При плохом удобрении почвы урожайность полей была низкой. Такой же низкой была и продуктивность скота. Тем не менее доходы помещиков от своих имений составляли в среднем 40–60% их общих доходов, в отдельных имениях — до 90%. Остальная часть поступала от крестьян в виде хлебной подати. После всех выплат (в виде продуктов сельского хозяйства и налогов) у крестьянина в лучшем случае оставалось 2/5 от всего урожая. При этом он должен был кормить работников, отбывавших барщину в имении, и содержать свой скот. При шведах крестьяне страдали также и от обременительной гужевой повинности, а также от возложения на Эстляндию и Лифляндию военных расходов (содержание армии, строительство укреплений).
В XVII веке продолжилось бегство крестьян от помещиков в поисках лучшей доли. Нередко они старались уйти как можно дальше. Особенно часто они подавались в Россию. Бегство крестьян особенно из восточных районов Эстонии в Россию принимало временами массовый характер. Свидетельством тому может быть заключённый в 1649 г. в Стокгольме договор, по которому Россия выплатила Швеции 190 тыс. рублей вознаграждения за сбежавших крестьян. Помещики боялись бегства крестьян в Россию не только потому, что это лишало поместья рабочей силы, но и потому, что иногда крестьяне возвращались обратно вооружёнными группами, чтобы отомстить помещикам, и вовлекали в свою борьбу других крестьян.
Время от времени недовольство крестьян своим положением перерастало в массовые волнения. Особенно угрожающий характер для властей они приняли во время русско-шведской войны 1656–1658 гг.[37] Для подавления крестьянских выступлений шведские власти использовали войска. Руководителей восставших казнили. Рядовых участников подвергали массовой порке и высылали на принудительные работы по сооружению укреплений, их избы разрушали. При шведах была введена такая форма наказания, как шпицрутены. Это был вид порки, при котором провинившихся прогоняли сквозь строй солдат, вооружённых палками.
Последние десятилетия XVII в. были отмечены укреплением абсолютизма в Швеции (во время правления Карла XI). Его интересы требовали ограничения политической власти высшей аристократии как в самой Швеции, так и в её провинциях — Эстляндии и Лифляндии, а также увеличения поступлений в государственную казну. Эта задача решалась в ходе редукции имений. Речь идёт о возвращении назад государству прежних казённых земель, которые в своё время были переданы дворянству незаконным путём. В 1680 г. шведский риксдаг принял постановление о редукции имений. Немецкие дворяне обратились к шведскому правительству с просьбами и ходатайствами не распространять закон о редукции на лифляндские и эстляндские частные имения. Но это не помогло. Выражение в грамотах о передаче дворянам казённых земель «до пятого колена мужеского и женского» шведы понимали буквально и потому не признавали вечного владения. К тому же шведские короли так и не утвердили привилегии Сигизмунда Августа 1561 г.
В Эстляндии государству отошла треть дворянских земель, на острове Сааремаа — четвёртая часть, в Лифляндии — свыше пяти шестых. Если прежние владельцы соглашались вносить в казну установленную арендную плату, то им оставляли имения; если нет — они передавались в аренду новым лицам. Во всяком случае, большинство бывших владельцев осталось в редуцированных имениях в качестве арендаторов. Одновременно всем шведским дворянам и рижским гражданам даровалось право владения земским имуществом.
В результате редукции от половины до 2/3 дохода государственных имений стало поступать в Швецию из её прибалтийских провинций, что составляло 21% от всего государственного дохода Швеции{96}. Оставшаяся часть шла на содержание административного аппарата, войск, а также на строительство укреплений.
Стремление увеличить стоимость и доходность казённых имений побудило правительство заняться и улучшением быта крестьян. Важно отметить, что все шведские короли, начиная от Эриха XIV до Карла XI, старались по возможности улучшить положение ливонских крестьян и обуздать помещичий произвол.
В 1601 г., ещё до присоединения Лифляндии к Швеции, герцог Зюдерманландский (впоследствии король Карл IX) предложил лифляндским дворянам даровать свободу своим крепостным крестьянам и позволить их детям посещать школы. Это предложение так ничем и не кончилось. В 1632 г. Густав Адольф отнял у дворян право гражданского и уголовного суда над крестьянами и оставил помещикам только право домашних наказаний (Hauszucht), в том же 1632 г. была проведена ревизия всех земель.
Самые же важные и значительные мероприятия по крестьянскому вопросу последовали во время правления Карла XI. В 1681 г. на ландтаге в Риге генерал-губернатор Лейтун снова предложил дворянству освободить крестьян в целях создания условий для экономического подъёма края. Дворянство отвергло это предложение как преждевременное. Правительство ответило рядом реформ.
Как свидетельствуют русские источники, к решению задачи по облегчению положения крестьян шведские власти приступили чрезвычайно умно и толково{97}. Было определено самое существенное и коренное зло, являвшееся причиной бедственного положения крестьян. Это произвол помещиков и арендаторов при определении повинностей и объёма работ. Чтобы искоренить это зло, шведское правительство ввело в 1680 г. оценочные правила и полную, хорошо продуманную податную систему, не оставлявшую места для «личных усмотрений» помещиков и арендаторов. Хотя крестьяне не освобождались от крепостной зависимости и домашняя расправа (Hauszucht) была отменена только в казённых имениях, зато были произведены переоценка и картографирование земель, а повинности крестьян строго регламентированы в соответствии с величиной дворов и качеством земель, что было отражено в так называемых вакенбухах. В случае нарушения условий, записанных в вакенбухах, со стороны землевладельцев, крестьяне могли жаловаться в суд. В вознаграждение за работу на барщине и за отправление других повинностей крестьянам были отведены особые крестьянские земли. Далее, помещики лишались права суда над крестьянами по уголовным делам, крестьяне получали доступ в учебные заведения, за ними признавалось право собственности на все их заработки и недвижимое имущество и, наконец, крестьянам предоставлялось право подачи жалоб на своих владельцев высшим местным инстанциям, судебным и административным. В отношении казённых крестьян шведское правительство предусмотрело ещё более глубокие нововведения. Так, были установлены высокие штрафы с арендаторов за всякий перебор в повинностях; введены ограничения на наряд подвод; предписывалось допускать вспомогательные наряды только с разрешения наместника, и притом не сверх, а в счёт барщины; воспрещалось подряжать крестьян на работу в чужие имения, урезывать крестьянские земли, отбирать без законной причины у хозяев дворы и занимать опустевшие дворы без разрешения наместника.
Шведские власти намеревались распространить все правила, принятые для казённых имений, также и на имения частные. В 1697 г. правительство повелело ландтагу принять устав, изданный для управления казёнными имениями, в качестве основы для регулирования отношений между помещиками и крестьянами. Однако упорное сопротивление аграрной реформе прибалтийско-немецкого дворянства, обрушившиеся на прибалтийские провинции неурожаи и «великий голод» 1695–1697 гг., а также Северная война с Россией поставили пределы нововведениям в области аграрных отношений.
Смертность населения от голода была огромна и приняла характер катастрофы. Один из хронистов того времени, пастор Кельх так описывает ужасы постигшего народ голода: «Среди простого народа была такая нужда в хлебе, что не было покоя от бедных — как от здоровых, так и от больных… Многие почернели от голода и так обессилели, что валились с ног… Батраков и батрачек увольняли толпами… Всю зиму напролёт не только деревенские кладбища, но и деревни, дороги, поля, кустарники были полны трупов, которых с приходом весны возили возами и хоронили по 30, 40 и 50 в одной яме».
Несмотря на голод, зерно по-прежнему вывозилось в Швецию и Финляндию. Примечательно, что в эти кризисные годы (1696–1697 гг.) доходы шведской казны с колониальных прибалтийских губерний даже выросли.
Чтобы спастись от голода, крестьяне толпами бежали в Россию, проклиная шведские власти. От голода умерло примерно 70–75 тыс. человек, что составляло 1/5–1/4 часть населения, численность которого снизилась с 350 до 280 тыс. человек.
Начавшаяся в 1700 г. Северная война заставила шведские власти искать поддержки у прибалтийско-немецкого дворянства. 13 апреля 1700 г. Карл XII объявил редукцию официально законченной. Часть государственных имений была возвращена помещикам под залог, а регламентация повинностей стала терять своё ограничивающее действие. Поскольку крестьяне использовали войну для сведения счётов с помещиками и из-за ненависти к немцам не хотели воевать против русских в составе шведских войск, некоторые шведские чины даже стали подумывать об использовании благоприятной обстановки, которую давала война, для уничтожения власти немецких помещиков и раздачи их земли крестьянам. Если бы это было сделано, то Петру, конечно, было бы труднее одолеть шведов. А в случае победы русскому царю пришлось бы договариваться не с немцами, а с эстонцами.
При шведах укрепилось влияние протестантской Церкви, которая усилила борьбу с проявлением языческих верований среди эстонцев и латышей. Борьба осуществлялась с помощью карательных мер, а также в процессе проповедческой деятельности. К карательным мерам можно отнести денежные штрафы, телесные наказания, выставление к позорному столбу, судебные процессы над «ведьмами» и сжигание на костре людей, заподозренных в «колдовстве». Суды над «колдунами» и «ведьмами» нередко использовались для расправы с непокорными элементами из крестьянской и городской среды. В конце XVII в. шведские власти издали ряд постановлений, обязывавших чиновников, помещиков и пасторов основательнее искоренять язычество в Эстляндии и Лифляндии. Им вменялось в обязанность всё, что было связано с языческими обрядами — вещи, кресты, священные рощи, деревья, камни и т.п. разрушить, изрубить на куски, места жертвоприношений выжечь, уничтожить, чтобы от всего этого не осталось ни малейшего следа{98}.
Проповедническая деятельность предусматривала борьбу словом Божиим за души паствы. О положении дел в этой области даёт представление возникшая в то время поговорка: «Пастору я должен платить, а вот о Боге и слове Божием мало знаю». Чтобы изменить такую ситуацию, пасторы встали перед необходимостью овладеть местными языками, чтобы их проповеди стали понятны пастве. Эта потребность Церкви сообщила сильный импульс развитию эстонской письменности и печатного дела при одновременном формировании инфраструктуры образования. В 1630 г. была открыта гимназия в Дерпте, а в 1631 г. — в Ревеле. Они готовили пасторов и чиновников. На базе Дерптской гимназии в 1632 г. был основан Дерптский (впоследствии Юрьевский, а затем Тартуский) университет. Преподавание в нём велось на латинском языке. Половину студентов составляли выходцы из Швеции и Финляндии, 35% — из Эстляндии и Лифляндии. Причём среди них не было ни одного эстонца.
В 1630-х гг. при Ревельской гимназии и Дерптском университете были основаны первые в Эстонии типографии. Все первые печатные издания — это книги духовного содержания (катехизисы, сборники проповедей, церковных песен и т.д.) и обычно содержат текст на двух языках.
Обращение пасторов к изучению эстонского языка и фольклора расширяло их представления об обычаях, верованиях, духовном складе эстонцев. Эти темы нашли отражение в записках некоторых пасторов XVII в., в частности, в книге Форселиуса-Беклера (вышла в Ревеле в 1684 г.), в грамматике Гезекена (1660 г.), в хронике Кельха (1695 г.).
На формировании эстонского языка сказалось разделение Эстонии на два отдельных епископства — Ревельское и Рижское, издававших духовную литературу. Это территориальное разделение обусловило развитие эстонского языка и соответственно книгопечатания на двух наречиях: ревельском и рижском (совпадало с дерптским), причём некоторый перевес получил выход печатных изданий на дерптском наречии.
Другим фактором, оказавшим влияние на становление эстонского письменного языка, стал его перевод г. Шталем на немецко-латинскую орфографию, которая, однако, не передавала всех особенностей языка угрофинской группы. С учётом этого обстоятельства и чтобы ускорить процесс обучения чтению, Б.Г. Форселиус выступил за приближение орфографии к произношению. В 1686 г. он даже издал азбуку-катехизис с использованием упрощённой орфографии. Эта инициатива была встречена в штыки эстляндской консисторией. Её представители посчитали, что в эстонском языке должно остаться прежнее правописание и тогда крестьянин скорее привыкнет говорить правильно. Если же следовать его «искажённому и грубому говору», то это ещё больше «испортит» язык. И. Горнунг не согласился с таким подходом и в 1693 г. издал учебник эстонского языка, основанный на предложениях Форселиуса. Этим учебником он заложил основу для так называемой старой орфографии, господствовавшей вплоть до середины XIX в.
В конце XVII в. были предприняты попытки основать крестьянские школы. В каждом приходе предполагалось учредить так называемую кистерскую[38] школу для обучения чтению и письму на родном языке. Создание таких школ стало для Б.Г. Форселиуса делом всей его жизни. В 1684 г. он организовал в Дерпте семинар для подготовки учителей кистерских школ. Здесь в течение четырёх лет прошли обучение 160 крестьянских юношей. Одновременно было построено несколько школьных зданий.
«Великий голод» и здесь выступил одним из главных тормозов. Поскольку школы полностью зависели от пасторов и помещиков, то после «великого голода» и резкого уменьшения населения они стали требовать, чтобы крепостные, ставшие к тому времени кистерами, поселялись с семьёй и имуществом на опустевших землях.
Тем не менее развитие книгопечатания на эстонском языке и эти первые крестьянские школы положили начало распространению грамотности среди эстонцев и формированию единого эстонского языка.
Господство шведов наложило свой отпечаток и на городское строительство в Эстляндии и Лифляндии. Шведы сосредоточивали свои усилия на создании системы укреплений, отвечавших техническому прогрессу в области военного дела. В Ревеле, Дерпте, Нарве воздвигались бастионы, равелины, земляные валы. В архитектурном отношении больше всех городов преобразилась Нарва. Это было связано не только с пожаром 1659 г., после которого началась новая застройка города, но и со стремлением шведской администрации превратить Нарву в новый торговый и военно-стратегический центр Прибалтики. В последние десятилетия XVII в. была осуществлена новая планировка центра города, стиль барокко стал господствующим. Наиболее яркое воплощение он нашёл в создании ансамбля городской ратуши. В то же время Нарва стала сильнейшей шведской крепостью в Прибалтике, которая тем не менее падёт под натиском войск Петра Первого.
Глава V. Эстляндия и Лифляндия в составе Российской империи: между немецким бароном и русским царём
V.1. Правовое оформление вхождения Эстляндии и Лифляндии в состав России. Подтверждение Петром Первым привилегий немецкого рыцарства
В России вопрос о выходе к Балтийскому морю никогда не снимался с повестки дня. Напротив, он приобретал особую остроту по мере формирования российского внутреннего рынка и консолидации российских территорий в единое целое. Морской путь через Белое море был неудобен: по нему приходилось слишком долго добираться до европейских стран, к тому же он был открыт для навигации лишь три-четыре месяца в году. Гавани же Балтийского моря и устья рек от Западной Двины до Невы находились в руках Швеции, которая всеми силами препятствовала закреплению России на Балтике и её прямым связям с Европой. Это создавало угрозы экономическому развитию России, её жизненным интересам, стратегической безопасности. Тяга России к Балтике, обусловленная её географическим положением и подготовленная всем её историческим развитием, материализовалась при Петре Первом. В результате победы над Швецией в Северной войне стратегическая и военная гегемония шведов на Балтийском море была уничтожена и Россия заняла первенствующее положение в системе северных государств. По Ништадтскому миру (30 августа 1721 г.) в состав Русского государства вошли Ингерманландия, Западная Карелия с г. Выборгом, Эстляндия, остров Эзель (Сааремаа) и Лифляндия, за исключением герцогства Курляндского. Примечательно, что не с объединением Украины и России, а именно с завоеванием жизненно необходимого выхода к Балтийскому морю Россия была в 1721 г. провозглашена империей. К ней стали относиться как к европейскому государству, а восточная граница Европы была передвинута с Дона до Урала.
Во всё время Северной войны Полтавская битва по своим последствиям была самой важной. Через год с небольшим после этой виктории был взят Ревель (29 сентября 1710 г.), и шведское господство в бывших ливонских землях закончилось. Хотя жители Лифляндии и Эстляндии присягнули на русское подданство, эти земли по первоначальному российско-польскому договору 1700 г. подлежали передаче союзнику России в Северной войне польскому королю Августу II как курфюрсту Саксонскому. Эта передача была подтверждена соответствующими пунктами договоров 1709 и 1711 гг. О согласии или несогласии дворянства и городских сословий Лифляндии и Эстляндии на такую передачу никто и никогда не спрашивал. Однако после неудачно закончившейся для России войны с Турцией (1711 г.) Пётр Первый отказался от прежних договорённостей с королём Августом, не оказавшим ему помощи, и в возмещение огромных убытков и потерь решил присоединить Лифляндию и Эстляндию к России. Потребовалось ещё десять лет борьбы, прежде чем намерение царя реализовалось в Ништадтском договоре.
Историки объясняют многое в действиях Петра по отношении к Лифляндии и Эстляндии тем, что первоначально он смотрел на эти древние ливонские земли как подлежащие передаче королю Августу. Пётр не щадил этих земель, выводил пленников во внутренние губернии не только сотнями, но и тысячами. В 1702 г., дабы «войска шведские не имели в Лифлянтах довольства», фельдмаршал Б.П. Шереметев, исполняя царское повеление, прошёл Лифляндию из конца в конец, истребляя всё встречное: остались целыми «Пернов да Ревель и меж ими сколько осталось около моря, и от Колывани к Риге около моря же, да Рига»{99}. В следующем, 1703 году Шереметев «учинил плен и разорение» Эстляндии. В те времена «плен и разорение» означало полное уничтожение движимого и недвижимого имущества жителей и увод в плен всех, кто не успел укрыться в непроходимых лесных чащах и болотах. Многие города, сотни деревень и местечек превратились в развалины и опустели.
Военная необходимость требовала и таких крутых мер, как выселение (или депортация) ненадёжного элемента во внутренние губернии России. Так было при Иоанне Грозном во время Ливонской войны, так было и при Петре Первом в период Северной войны.
Если лифляндское и эстляндское дворянство имело достаточно оснований, чтобы быть недовольным правлением шведов (закон о редукции, регламентация крестьянских повинностей) и не испытывать приверженности к шведским властям, то среди горожан и крестьян шведы могли найти доброжелателей (или пособников). Они, несмотря на строгий запрет русского правительства, были не прочь сообщить шведам такого рода сведения, которые могли быть использованы во вред русским войскам. Это явилось основной причиной, заставившей русское правительство, «вследствие нынешних конъюнктур», прибегнуть в 1708 г. к высылке подальше от границы всех взятых в плен жителей Нарвы и Дерпта (числом 1600 человек), которых подозревало в преданности Швеции. На сбор давалось восемь дней. При отъезде каждому разрешалось продать своё движимое имущество, а непроданное «оставить за своей печатью в безопасном месте». Местами назначения переселенцев были Москва, Вологда, Новгород, Воронеж, Казань, Астрахань. Мастеровые и рабочие люди, находясь в русских городах, вскоре нашли себе работу и выгодные занятия, семьи же высших сословий бедствовали и жили на вспомоществования. В 1714 г. все они получили разрешение возвратиться на родину. По сообщению Вебера, находившегося в России в 1714–1719 гг. в качестве брауншвейг-люнебергского резидента и написавшего книгу «Das veranderte Russland» («Изменённая Россия»), только шестая часть возвратилась на родину, остальные же добровольно остались в местах, куда были высланы, «потому что там могли добыть лучшие средства существования и не захотели покидать свои вновь приобретённые дома и земли»{100}.
Судьбу Нарвы и Дерпта могла разделить и Рига, если бы рижане и лифляндские помещики не были благоразумны и дали повод для сомнений в своей благонадёжности. Это явствует из ответа Петра Первого на докладную записку лифляндского губернатора князя Репнина, поднесённую царю в Петербурге 10 февраля 1720 г. Князь Репнин спрашивал, как быть, в случае вражеской атаки, с рижским купечеством разных вер и наций и уездным шляхетством, в надёжности которых он сомневается. Поводом для запроса стало положение военного устава о вооружении населения («гражданских или купецких лиц») и использовании его при отпоре врагу. Ответ царя был таков: «Кой час услышишь о прибытии неприятеля, тогда немедленно, ружья обобрав (т.е. отобрав), оставить только старых и малых, да женский пол, прочих всех выслать вон из города и сказать под смертною казнию, чтоб шли все в нашу землю, а не ино куды. Уездным велишь також удалиться внутрь, а в город не пускать»{101}. Из ответа Петра следует, что он, так же как и Репнин, не доверял перешедшим под российский суверенитет жителям Лифляндии и потому распорядился в случае алярму не выдавать, а, наоборот, отбирать ружья и затем выслать всех нестарых мужчин во внутренние губернии. Располагая таким повелением царя, Репнин, в случае какой-либо высадки шведов в Лифляндии, конечно, не затруднился бы выслать в глубь России не только всех рижан, но всё дворянство.
Вышеприведённые факты говорят о том, что интеграция в состав России отвоёванных у шведов Эстляндии и Лифляндии была делом далеко не простым и требовала известной гибкости со стороны русского правительства, для того чтобы обрести в этих землях союзника, на которого можно было бы положиться. Таким союзником стали немецкое дворянство и купечество, и, конечно, на чётко оговорённой правовой и материальной основе.
Важно сказать, что положение ливонских земель при их включении в состав России было чрезвычайно бедственное. Ещё до войны шведская редукция разорила дворянское сословие Эстляндии и Лифляндии. Война, голод (1709 г.) и чума (1710 г.) довершили беды населения — помещиков, горожан и крестьян.
Присоединение Эстляндии и Лифляндии к России совершилось силой оружия, но оформлено было по царским универсалам (воззваниям) к лифляндским и эстляндским жителям, по капитуляциям и аккордным (договорным) пунктам, заключавшимся не с Ливонией, которая не представляла никакого цельного юридического лица, а с корпорациями дворянства и горожан.
В универсалах, распространявшихся генерал-поручиком Бо-уром при вступлении русских войск в Ригу и Ревель, говорилось, что государь намерен оставить без всякого нововведения евангелическую религию и все древние привилегии, вольности, права и преимущества дворян и горожан, которые в шведское время всегда нарушались.
Крепости сдавались по капитуляциям. Например, Ревельская крепость сдалась генералу Боуру по капитуляции из 31 пункта. В 13 пунктах оговаривались права и привилегии. В девяти (12–20) обещалась свобода аугсбургского (евангелического) вероисповедания, сохранение учреждений, имуществ церквей и пасторов. По прочим четырём военные и гражданские чины, владеющие домами в городе, освобождались от постоя, караула, поставки подвод и проч. (п. 21), сохранялись в своей силе облигации, закладные и т.д. (п. 22), подтверждались права граждан, живущих в Вышгороде (п. 24), обещалось определить в губернаторы эстляндское лицо, знающее по-немецки, и сохранить немецкую канцелярию (п. 26).
Независимо от общих капитуляций дворянство и городские сословия Эстляндии и Лифляндии предложили на утверждение свои особые аккордные пункты.
Эстляндское и лифляндское дворянство добивалось полной отмены разорительных для него шведских мероприятий по редукции. Дворяне желали, чтобы, во-первых, им были возвращены имения, отобранные шведами, во-вторых, чтобы местные дворяне были единственными землевладельцами в крае, и в-третьих, чтобы казённые имения, превосходившие почти в шесть раз число частных владений, сдавались в аренду исключительно дворянам.
Горожане, в частности, Риги просили о покровительстве торговле, о сохранении употребления прежней крупной монеты, о неумножении таможенных пошлин и налогов, о разрешении свободного торга мачтами и русским лесом и особенно о том, чтобы Риге было оставлено древнее стапельное право.
Почти все просьбы и ходатайства дворян были приняты и утверждены. Закон о редукции был отменён сразу же при переходе Эстляндии и Лифляндии в русское подданство. Затем после заключения Ништадтского мира были учреждены подчинённые сенату реституционные комиссии, которые занялись возвращением имений прямым владельцам.
При возвращении имений лифляндское дворянство оспорило право рижских граждан владеть вотчинами, предоставленное шведами, хотя это право и было подтверждено гражданам при их вступлении в русское подданство. Граждане, которые при шведах купили имения, теперь были обязаны их продать представителям дворянства, поскольку только оно, согласно статье 19 аккордных пунктов, получало исключительное право на покупку и выкуп дворянских имений. Дворянство добилось и преимущественного права на аренду казённых имений, вытеснив из этой сферы хозяйственной деятельности граждан. Только с 1840 г. казённые имения будут отдаваться в арендное содержание с торгов, к которым будут допущены равномерно все сословия.
После принятия жителями Эстляндии и Лифляндии российского подданства (эти прежние шведские губернии стали образовывать Прибалтийский край Российской империи) Пётр Первый пожаловал особые грамоты: 1) лифляндскому дворянству; 2) городу Риге; 3) эстляндскому дворянству; 4) городу Ревелю.
В жалованной грамоте лифляндскому дворянству, которая была взята за основу для других жалованных грамот, Пётр за себя и за своих законных наследников подтверждал и обещал непрестанно охранять все благоприобретённые привилегии, с которыми верное наше рыцарство и земство в Лифляндии поддалось России, особенно привилегию Сигизмунда-Августа, данную в Вильно в 1561 г., статуты, рыцарские права, вольности, праведные владения и собственность, которыми они владеют и на которые справедливо претендуют. Жалованная грамота заканчивалась оговоркой: «однакож наше и наших государств высочество и права предоставляя без предосуждения и вреда». Такие же оговорки содержались в жалованных грамотах, предоставлявшихся местным рыцарям и земству предшественниками Петра — датскими, польскими, шведскими королями. После Петра Первого все русские государи, вступая на престол, подтверждали права и привилегии дворянских и городских корпораций, сопровождая их оговоркой, что дальнейшее сохранение таких прав и преимуществ зависит от усмотрения царствующего государя как монарха самодержавного.
Эта оговорка упорно оспаривалась и извращённо толковалась прибалтийско-немецким дворянством. Ю. Самарин[39] свидетельствовал, что немецкое население края построило ложную, исторически и юридически, доктрину неприкосновенности данных краю привилегий{102}. Согласно этой доктрине, привилегии немецкого дворянства и бюргерства считались закреплёнными двусторонними договорами 1710 г. о шведской капитуляции с последующим подтверждением их Петром I. Отстаивая договорной характер капитуляций, прибалтийско-немецкие политические деятели, историки и правоведы делали вывод, что русское правительство не правомочно их расторгнуть односторонним актом без согласия прибалтийско-немецких представительских учреждений и не может осуществить реформы, затрагивающие остзейские привилегии. Ю.Ф. Самарин был первым, кто заявил, что рыцарство и бюргерство как подданные России не правомочны вступать в договорные отношения с царём — носителем государственного суверенитета. Отсюда следовало, что договоры 1710 г. являются обыкновенными жалованными грамотами (именно в форме жалованных грамот они были подтверждены Петром). Их юридическая сила зависит от волеизъявления монарха. И потому привилегии имеют законную силу лишь до тех пор, пока они признаются русскими царями. Точку зрения Самарина поддерживали И.С. Аксаков, М.П. Погодин, М.Н. Катков и другие русские публицисты, противники остзейского порядка на Прибалтийской окраине. Следует сказать, что из русских монархов оговоркой в жалованных грамотах воспользовались прежде всего Екатерина Великая и Александр III, хотя в целом их реформы не разрушали сословно-корпоративный порядок в крае.
Русское правительство сохранило прежнее административное деление и прежние границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Во главе каждой губернии был поставлен генерал-губернатор (из числа приближённых царского двора) с резиденцией соответственно в Ревеле и Риге. Он являлся высшим представителем царской власти, отвечал за внутренний порядок и безопасность, следил за взиманием податей и решал вопросы, касавшиеся содержания крепостей и войсковых частей.
Генерал-губернаторы действовали в полном согласии с немцами, так как в Эстляндии и Лифляндии Пётр I в основном сохранил порядок управления и судопроизводства, сложившийся в предыдущие столетия. Это средневековые привилегии дворянства и городов, сословные органы самоуправления, господство лютеранской Церкви, патронат[40], немецкий язык в качестве официального, различия в обложении податями (государственные подати взимались только с крестьянских хозяйств, помещичьи имения налогами не облагались). Всё это и составляло сущность так называемого особого остзейского порядка. Он препятствовал сближению прибалтийских губерний с Россией и обеспечивал неограниченную власть прибалтийско-немецких помещиков и бюргеров.
Так, заместителями губернатора и чиновниками в административном аппарате края назначались, как правило, лица, знакомые с «местными условиями», т.е. прибалтийско-немецкие дворяне. Ввиду наделения немецкого языка статусом официального они даже переписку губернских учреждений с коллегиями в Петербурге вели на немецком языке. (Исключение составляли только бумаги, поступавшие в имперский центр из так называемых «русских канцелярий» лифляндских и эстляндских генерал-губернаторов.) Поскольку далеко не все русские чиновники владели немецким в требуемом объёме, чтобы разобраться с подготовленными на этом языке документами, то дела, связанные с Прибалтийским краем, обычно попадали к чиновникам немецкого происхождения соответствующих департаментов в центральных государственных учреждениях. Таким образом, получалось, что вплоть до самых высших инстанций управлением Лифляндией и Эстляндией ведали чиновники преимущественно немецкой национальности. Это не было предусмотрено никакими привилегиями, но, несомненно, благоприятствовало сохранению остзейского порядка.
Свои интересы прибалтийско-немецкое дворянство отстаивало, опираясь на систему сословно-представительных органов. Все вопросы, касающиеся жизни губернии, избрания чиновников местного самоуправления, суда, полиции обсуждались на ландтагах (лифляндском, эстляндском и эзельском), собиравшихся раз в три года. Их постановления имели силу закона для местного населения.
Членами ландтага с правом полного голоса могли быть только представители привилегированных дворянских семей, которые владели землями в Прибалтике ещё во времена Ливонского ордена, польского и шведского владычества. В середине XVIII в. их фамилии были занесены в особую привилегированную дворянскую матрикулу (список дворянских родов), составленную для Лифляндии (172 дворянские фамилии), Эстляндии (127 фамилий) и Эзеля (25 фамилий)[41]. С этих пор, точнее с 1747 г., начинает обозначаться разделение дворян на два разряда: на вписанных в матрикулу, т.е. имматрикулированных (это собственно рыцарство) и на дворян, не вписанных в матрикулу, которых стали называть или земством (Landschaft) вообще или земскими владельцами (Landsassen). Такое разделение на рыцарство и ландзассов нередко давало повод для пререканий между ними, поскольку последние пользовались меньшими правами.
В перерывах между ландтагами губерниями руководили ландраты (земские советники), избиравшиеся из представителей наиболее родовитых семей. Власть помещиков не распространялась на города. Там господствовал магистрат, представлявший интересы городского дворянства и купечества.
Если правительство или губернаторы, видя злоупотребления, считали необходимым вмешаться в деятельность местных немецких властей, это далеко не всегда приносило желаемый эффект.
Дело в том, что прибалтийско-немецкое дворянство и бюргерство края приобрело среди своих представителей в Петербурге могущественных защитников и покровителей. Частично это было достигнуто путём отстаивания доктрины о договорном характере привилегий вкупе с заверениями в своей особой лояльности и преданности консервативным началам, частично — обыкновенным подкупом. Как свидетельствует Я. Зутис, одни из покровителей, как, например, князь Меншиков, оказывали единовременные услуги, другие были на постоянном подкупе. Так, всегдашними ходатаями по делам рижского магистрата являлись барон Шафиров и Остерман. Постоянным адвокатом рыцарства выступал Левенвольде{103}. В случае необходимости прибалтийское дворянство противодействовало вмешательству в местные дела также встречным обращением к царю.
И всё же это была оборона слабых против сильного. Поэтому важно было всячески беречь то настроение русской власти, которое позволяло сохранять привилегии. Это значило: избегать резких конфликтов, по возможности вести дело без шума, в тиши канцелярий и кабинетов, с опорой на соплеменников, достигших высокого положения в Петербурге.
Хотя центральная власть и сохранила особый остзейский порядок, всё же имперско-российский отпечаток, изменявший немецкие ландшафты края, с каждым десятилетием ощущался всё сильнее. Например, при Петре Первом Нарва превратилась в крупный торговый город Эстляндии. После 1710 г. развернулось большое строительство и в Ревеле. Здесь была построена новая гавань, а в районе Ласнамяги, где находились сенокосы и выгоны, был разбит парк, украшенный скульптурами и известный ныне под называнием парк Кдцриорг. Со второй четверти XVIII в. Ревель стал превращаться в аванпорт Петербурга в начале и в конце навигационного периода, когда лёд препятствовал судоходству в восточной части Финского залива.
V.2. Крестьянский вопрос в Прибалтийском крае. Как мельник Яан из деревни Вохнья боролся за справедливость
Прибалтийско-немецкое дворянство, хлопоча о своих выгодах и приобретя в 1710 г. обширные права на владение имениями и деревнями, а также на аренду казённых земель, совершенно не позаботилось о своих крестьянах. Воспользовавшись щедростью русского правительства, оно не проявило щедрости к своим крестьянам — эстонцам и латышам. О них вспомнили только в 21-й статье аккордных пунктов. В ней, в частности, сказано: «Такожде и во время войны с Россией отвезённое крестьянство оттуда отпущается и каждый из оных в прежнее место безопасно отправляется, дабы земля крестьян имела, и чтоб не осталась она в явный вред отчасти не обработана» (Прибалтийский сборник. Т.Н. С. 533). То есть речь шла лишь о возвращении рабочей силы при полном забвении прав, которыми латыши и эстонцы пользовались, находясь под шведским суверенитетом. Шведские правила определения повинностей и барщинных работ больше не применялись. Дворянство вернулось назад к временам Сигизмунда — Августа. Одновременно обычным делом стал и старый произвол. Он заходил так далеко, что русское правительств, возмутившись «остзейскими» злоупотреблениями, потребовало от помещиков, чтобы они не препятствовали свободе браков между крестьянами. А через некоторое время русские власти запретили арендаторам казённых имений самовольно определять повинности крестьян, брать их к себе в услужение или отдавать в наём другим хозяевам.
Однако правительству было трудно бороться с помещичьим произволом, которого оно, конечно, не желало. Помещики, опираясь на жалованные грамоты, твёрдо стояли на своём. В результате крепостнический гнёт в прибалтийских губерниях был более тяжёлым, чем во внутренних губерниях России.
В целях восстановления имений, пострадавших от войны, и обеспечения роста доходов помещики стремились увеличить объём сельскохозяйственной продукции. Как и прежде, они шли по пути экстенсивного земледелия. Для расширения запашки использовался старый испытанный метод: захват крестьянских земель. Большое количество дворов, опустевших во время эпидемии чумы, просто присоединялось к имениям. Бывали случаи, когда крестьян выгоняли даже из деревень и поселяли на такой земле, где прокормиться было крайне сложно.
Крестьянам запрещалось продавать свою продукцию на городских рынках. Они могли продавать её только помещику, который сам назначал цену, конечно, крайне низкую. В то же время помещики, с большой выгодой для себя, продавали крестьянам товары, которые они гораздо дешевле могли бы купить в городе: соль, железо, табак, сельди. Крестьянам запрещалось также заниматься винокурением, которое являлось привилегией помещиков.
Несмотря на гнёт, пассионарные и бунтарские элементы в эстонском народе не переводились. История сохранила память о несгибаемом мужестве и твёрдости мельника Яана из деревни Вохнья. Помещик отобрал у него весь скот, непрерывно увеличивал повинности, заставил его отца поселиться на разорённом дворе, жестоко избивал обоих, топтал ногами, когда отец и сын протестовали против его самодурства, деспотизма, грабежа.
И это был не какой-то единственный и исключительный случай. В одинаковом с Яаном положении были все эстонские крестьяне. Не случайно в одной эстонской песне поётся:
Мельник Яан, не желая мириться с таким положением, неоднократно подавал жалобы на своего помещика в суды и другие учреждения. В 1737 г. Яан приехал в Санкт-Петербург и обратился с жалобами в юстиц-коллегию и даже лично к императрице Анне Иоановне. Отсюда его отправили в Ревель, где выпороли и приговорили к тюремному заключению за то, что он «осмелился приблизиться к высокому трону её величества императрицы» и «подал необоснованную жалобу на своего господина». Но эти репрессии не подавили волю эстонского крестьянина к сопротивлению. Он бежал из тюрьмы через печную трубу и снова явился в Петербург с требованием справедливости и возмещения убытков.
Петербургская юстиц-коллегия, видимо, поражённая настойчивостью эстонского крестьянина, сделала запрос в высшие административные и судебные органы Эстляндии и Лифляндии. Он касался прав помещиков на собственность и имущество крестьян, на обложение их повинностями и применение телесных наказаний. Немцы сразу же не только заняли круговую оборону, но и перешли в наступление. Было составлено официальное разъяснение, которое в 1739 г. лифляндский ландрат барон Розен от имени дворянства довёл до сведения юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел. В историю оно вошло как «Декларация Розена». В нём утверждалось, что всякое имущество, приобретённое крепостным, принадлежит помещику как accessorium; нельзя не только уменьшить, но даже определить меру исправительных наказаний; следует воспретить приём жалоб от крестьян на помещиков, так как злоупотреблений власти нет и быть не может, ибо разорение крестьян влечёт за собой и разорение помещиков; следовательно, помещик уже в своих интересах не может угнетать и разорять крепостных{105}. Ответ юстиц-коллегии на это заявление неизвестен. И это неудивительно, ведь серьёзные меры по улучшению положения крестьян в Лифляндии и Эстляндии начнут применяться гораздо позднее, только к концу XVIII столетия, но они, несмотря на оговорку в жалованных грамотах, не пошатнут сколько-нибудь значительно привилегии немецких пришельцев и в конечном итоге обернутся во вред России.
Что касается Яана из Вохнья, то его всё-таки осудили и отправили на поселения. Но таких Яанов в Эстляндии и Лифляндии было, по-видимому, немало. Ведь не на пустом же месте возникли высказывания немцев о том, что у эстонцев скверный национальный характер и что только с помощью крепостного права их можно держать в узде.
Но и крепостное право не помогало. Крестьяне ненавидели своих господ и при всяком удобном случае старались чем-либо отомстить им. Они не считали за зло воровать у немцев, ведь они пришли в Прибалтику как воры и поработители, отобрали землю и превратили коренное население в своих рабов. В судебных делах имеется множество сведений о расправе крестьян над помещиками и мызными служащими.
Столь же страстно ненавидели крестьяне и немецких пасторов, жадность которых вошла у них в поговорку: «Поповской мошны ввек не наполнишь». Барщинные повинности на землях, принадлежащих пасторам, были нисколько не меньше, чем на помещичьих.
Крестьяне, доведённые до отчаяния непосильными поборами, насилием и произволом помещиков, нередко убивали своих мучителей, поджигали их имения, а затем пускались в бега за границу, а из северо-восточных и восточных областей — в русские внутренние губернии. В середине XVIII в. число эстонцев, бежавших в русские губернии, возросло до нескольких тысяч. Русские помещики, а также Печерский и Псковский монастыри, будучи заинтересованы в притоке рабочей силы, не выдавали бежавших крестьян. Никакие жестокие меры и запреты (например, за содействие беглецам у виновного отрезали нос и уши, к розыску беглых привлекали воинские части) не могли остановить бегства крестьян, поскольку не было даже попыток устранить причины побегов. О них можно узнать в эстонских народных песнях. В одной из них — такой текст:
Поскольку побеги удавались и бежавшие крестьяне верили в свою удачу, песня заканчивается оптимистически:
Что же выиграли эстонские и латышские крестьяне при включении Прибалтики в состав России? Во-первых, это дивиденды мира. Будучи в составе Российской империи, Эстляндия и Лифляндия в течение почти двух столетий не становились театром военных действий. Во-вторых, несмотря на немецкий гнёт, нахождение в составе многонационального государства обеспечивало национальное выживание (Россия, в отличие, например, от Германии, сохранила все свои малые народы, их язык и обычаи.) В общем, если бы Иоанн Грозный в ходе Ливонской войны (в целом неудачной для Руси) не способствовал ликвидации Ливонского ордена, а Пётр Первый по результатам Северной войны не присоединил бы Прибалтику, то латышей и эстонцев ожидала бы судьба древнего прибалтийского племени пруссов, которое исчезло в условиях безраздельного господства немецкого элемента{107}. И, в-третьих, открывалась возможность формирования национальных элит с их последующей интеграцией в общеимперские элиты. Правда, этой возможностью эстонцы и латыши смогут воспользоваться только в результате реформ Александра II по модернизации России. Этим трём положительным моментам противостоял один отрицательный, и притом чрезвычайно весомый фактор. С победой России в Северной войне было ликвидировано шведское господство в Прибалтике, однако исторический враг эстонского и латышского крестьянства никуда не делся, ловко приспособился к новым обстоятельствам и укрепил при попустительстве России свои прежние позиции «победителя» по отношению к эстонцам и латышам. Это позволило прибалтийско-немецкому дворянству в рамках «особого остзейского порядка» проводить политику жёсткого национального гнёта местного населения вплоть до Первой мировой войны, обернувшейся для России и её национальных окраин революционными потрясениями. В ходе трёх революций по разные стороны военно-политического и гражданского противостояния займут своё место также представители эстонцев и латышей. Неприятие ими своего положения выплеснется наружу в слившихся воедино социальном и национальном протестах, чтобы затем идеологически дифференцироваться и выступить в противостоящих друг другу политических явлениях — большевизме и национал-шовинизме.
Приходится констатировать, что Россия вошла в Прибалтику не как безусловный победитель, чётко осознающий свои права и интересы. Так хотел войти в Ливонию Иоанн Грозный, считавший её исторической вотчиной Московской державы. В случае победы никаких привилегий от Иоанна, уничтожившего Ливонский орден, немецкие рыцари, конечно же, не получили бы. Так вошли в Ливонию шведы: они не допустили усиления политических и экономических позиций местной немецкой аристократии, прагматично осуществили редукцию помещичьих имений и в целях увеличения доходов казны приняли меры по улучшению положения эстонских и латышских крестьян.
Уступки Петра прибалтийско-немецкому дворянству можно объяснить многими причинами. Это и прежняя договорённость с польским королём Августом II о передаче ему Эстляндии и Лифляндии (не случайно царь подтвердил привилегию Сигизмунда-Августа), это и необходимость быстрейшего закрепления за Россией Прибалтики, для чего было важно умиротворить местных дворян и горожан. Это и следование прежним традициям, согласно которым Россия в процессе своего территориального расширения никогда не уничтожала и не сгоняла с земель коренные народы, а их элиты, как правило, интегрировала в высшие политические и экономические слои российского общества. Правда, в Прибалтике Россия столкнулась с ситуацией, когда элиту представлял пришлый немецкий элемент, который не только уничтожил элиту коренного населения, но и превратил туземцев в своих рабов, существенно замедлив национальное развитие покорённых народов и формирование национальных элит из числа коренного населения.
Россия интегрировала те элиты, какие были, вместе с их привилегиями и правами. Конечно, можно было бы передать владения немецкого рыцарства и казённые земли русским служилым людям, как это намеревался сделать Иоанн Грозный. Частично это было сделано при Петре Первом. Но в данном случае действовали ограничения, связанные с подтверждёнными самим Петром привилегиями рыцарства, в частности, быть единственными землевладельцами в крае и иметь преимущественное право на аренду казённых имений.
Таким образом, Пётр Первый, хотя и реализовал многовековые стремления России к Балтийскому морю, но одновременно обесценил победу в Северной войне, доставшуюся беспрецедентным перенапряжением народных сил, ибо допустил, чтобы викторией воспользовались немецкие феодалы для укрепления своих позиций в Прибалтике. Это, безусловно, противоречило национальным интересам России, состоящим в прочной привязке Прибалтийского края к России и превращения его в неотъемлемую часть русской цивилизации. Согласившись на сохранение «особого остзейского порядка» в Прибалтике или государства в государстве, Пётр, несмотря на оговорку, заложил мину замедленного действия в фундамент Российской империи.
V.3. Реформаторская деятельность Екатерины II
Ко времени вступления на престол императрицы Екатерины II всё то, к чему стремились в 1710 г. прибалтийско-немецкие привилегированные сословия в Эстляндии и Лифляндии, уже было реальностью.
Дворяне хотели быть единственными землевладельцами, а также единственными арендаторами (посессорами) казённых имений и достигли желаемого. Они составили корпорацию, недоступную ни для каких дворян, кроме коренных, и сделались действительными господами Land (земства). В их руках находились земские суды, полиция и почти неограниченная власть над своими крестьянами. От шведских законов не сохранилось ничего, что ограждало бы крестьянина от произвола владельца. Всё пошло по-старому.
Во второй половине XVIII в. помещики открыли для себя новый способ обогащения. Это переработка зерна на водку, которую разрешалось беспошлинно вывозить во внутренние губернии России. Для крестьян этот вид помещичьего предпринимательства обернулся новой тяжёлой повинностью — «винокуренной барщиной». Крестьяне должны были не только работать на винокурнях, но и на своём гужевом транспорте отвозить готовую продукцию на рынок, нередко на дальние расстояния, например в Петербург. Помещики, не будучи разборчивыми в средствах обогащения, продавали водку и своим крестьянам, часть которых спивалась и нищала.
Вырученные деньги от продажи сельскохозяйственной продукции и водки помещики тратили на постройку особняков, разбивку парков, покупку предметов роскоши. Чтобы поддерживать уровень жизни, приличествующий статусу господ, помещики залезали в долги, закладывали имения, сдавали их в аренду или перепродавали.
В погоне за деньгами, которых обычно не хватало, помещики продолжали массовый захват крестьянских земель, увеличивали количество барщинных дней и размеры крестьянских повинностей. Это оказывало разрушительное влияние на крестьянское хозяйство. Крестьянские земли обрабатывались всё хуже и хуже. Это вело к низким урожаям и частым недородам. Голод был обыденным явлением даже при среднем урожае, а в неурожайные годы и в случае падежа скота он становился массовым явлением.
В городах власть принадлежала немецким бюргерам. Их корпорации были недоступны ни для кого из посторонних, имели своё управление, свои суды, свои старинные вольности. Они уединились и замкнулись в цехах и корпорациях, с тем чтобы выгоды от городского торга и промыслов не перепадали на сторону — не только небюргерам (это было вообще немыслимо и недопустимо), но даже другим цехам.
Stadt и Land (город и земство) всегда старались отмежеваться друг от друга и достигли в этом стремлении максимума возможного. Произошло чёткое разграничение прав. Земство не мешало городу в его пользовании торгом и промыслом. А город не покушался на доходы с частных и казённых имений, пользование которыми являлось привилегий земства.
Однако закрепление за собой городом и земством исключительных прав на доходы через культивирование замкнутости и кастовых преимуществ не способствовало богатству ни бюргеров, ни помещиков. Исключительность и нетерпимость обнаруживали себя как плохие союзники истинного успеха.
В условиях возвращения к временам Сигизмунда Августа крестьяне становились не только ненадёжной рабочей силой, но и беднели. А вместе с ними беднели и помещики.
Не особенно богатели и привилегированные городские сословия. Например, торговля в Риге падала из года в год, и притом настолько сильно, что Екатерина II сразу же при вступлении на престол сочла необходимым вмешаться, чтобы не допустить деградации рижской торговли. Она распорядилась подготовить новый устав о рижской коммерции и подчинить апелляционные дела по Эстляндии и Лифляндии ведомству 2-го департамента сената. В июне 1764 г. она лично побывала в Прибалтийском крае и посетила важнейшие его города: Ревель, Пернов (Пярну), Ригу и Дерпт. До неё ни один из преемников Петра Первого не был ни в Эстляндии, ни в Лифляндии.
Благополучие Прибалтийского края и интересы России требовали воли к переменам со стороны русского правительства и готовности их принять со стороны прибалтийско-немецких помещиков и бюргеров.
Екатерина II подтвердила права и преимущества дворянских и городских сословий в Эстляндии и Лифляндии в том объёме и с теми же оговорками, как это было утверждено Петром Первым. В то же время императрица понимала, что отчуждённость и обособленность окраин не соответствует выгодам и пользе русского государства. Свои взгляды на этот счёт она ясно и твёрдо высказала в Наставлении князю Вяземскому при его вступлении в должность генерал-прокурора. В пункте 9 Наставления она указала, как следует поступать в отношении окраин государства. Вот этот текст: «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями; нарушать оные отрешением всех вдруг непристойно бы было, однако же и называть их чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть более нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью глупостью. Сии провинции, также и смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть как волки к лесу. К тому приступ весьма лёгкий, если разумные люди избраны будут начальниками в тех провинциях; когда же Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб и имя гетмана исчезло, не токмо бы персона какая была произведена в оное достоинство»{108}. Следует обратить внимание на то, что под обрусением Екатерина II понимала унификацию, т.е. адаптацию окраин к правовым, статусным и управленческим нормам, принятым во внутренних российских губерниях.
Важно сказать и о том, что Екатерина не сомневалась в законности территориальных приобретений России. «Ливония или Лифляндия вся исстари к Руси принадлежала»{109}, — говорила императрица. И эти слова свидетельствуют о том, что она хорошо знала историю борьбы Руси, а затем и России за балтийский берег.
Закономерно, что особое внимание Екатерина уделяла статусу государственного языка на прибалтийской окраине. В одном из рескриптов на имя рижского и ревельского генерал-губернатора Броуна, по поводу ревизии этих губерний графом Воронцовым и князем Долгоруковым, на первый план ставилось наблюдение, «чтобы в училищах тамошних преподаваем был российский язык, яко необходимо нужный и без которого знание и употребление в должности весьма неудобно»{110}.
Прозорливость Екатерины II тем более достойна внимания, что в середине XVIII в. проблема языка преподавания остро стояла и для России. Русский как язык науки только формировался. Знаком дворянской образованности был французский язык, обязательным признаком учёности считалась латынь. С учреждением Московского университета 12 (25) января 1755 г. и открытием при нём двух гимназий, готовивших дворян и разночинцев к поступлению в университет, помимо французского и латыни языком преподавания становится и немецкий язык, поскольку среди приглашённых профессоров были также ученые из Гёттингена, Вены, Лейпцига, Тюбингена и других университетских городов Германии и Австрии{111}. Большой заслугой М.В. Ломоносова было создание в младших классах гимназий так называемой «русской школы», то есть с русским языком обучения. По окончании первой ступени — «русской школы» гимназисты направлялись в немецкую или французскую школу. Внедрение русского языка в практику преподавания было продолжено учениками и последователями Ломоносова[42].
В Прибалтийском же крае в последующие после правления Екатерины времена и «наблюдатели», и «наблюдаемые» нашли возможным неудобство, на которое указывала императрица, благополучно обойти, и знание «необходимо нужного» русского языка при «употреблении в должности» не считалось уже обязательным. Такое стало возможным в связи с засильем немцев не только в Прибалтике, но и в Российской империи в целом — немцы занимали важные посты в управлении, армии, науке, образовании и т.д. и успешно отстаивали свои интересы перед русскими по вероисповеданию, но немецкими по крови монархами.
Иначе было при Екатерине II. Иноземцы были беспрекословными исполнителями её воли, в том числе и по управлению Прибалтийским краем. Примером может служить деятельность графа Юрия Юрьевича Броуна[43]. В 1760-х гг., исполняя высочайшее повеление императрицы, он осуществил реформы, направленные на укрепление имперской власти в Прибалтийском крае и упорядочение отношений прибалтийских помещиков с крепостными крестьянами.
Важно отметить, что облегчение положения крепостных крестьян являлось частью широкой либеральной программы реформ, которые Екатерина старалась осуществить в России. В Наказе, составленном императрицей для созванной ею Законодательной комиссии, крестьянский вопрос упоминается наряду с другими проектами, а именно: дать законное обоснование религиозной терпимости, сделать уголовное право более гуманным, открыть пути для частной инициативы в экономической жизни, укрепить путём законов личную свободу дворян, расширить право собственности дворян и городов, усилить роль органов самоуправления отдельных сословий в рамках устройства и развития всей административной системы, полностью провести в жизнь принцип разделения власти при устройстве местного управления и самоуправления.
Екатерина не высказывалась открыто за отмену крепостного права, зная, что дворяне к этому не готовы. Приходилось учитывать и то обстоятельства, что зависимость крепостных от дворян соответствовало существовавшему в то время общественному праву. И чтобы формально освобождённый крестьянин стал действительно свободным, были необходимы постепенные изменения в общественных и экономических отношениях. «Если просто разрушать существующее, ничем его не заменяя, — пишет Виктор Леонтович в своей статье о Екатерине II, — это неизбежно приведёт к его возрождению, но только в гораздо более грубой, упрощённой форме, потому что это будет форма первоначальная, не усовершенствованная временем»{112}.
Екатерина, размышляя о том, чем заменить существующий порядок вещей в отношениях помещиков и крепостных, придавала первоочередное значение тому, чтобы «состояние сил подвластных облегчать, сколько здравое рассуждение дозволяет». При достижении этой цели она считала возможным и необходимым: обеспечить права собственности крестьян на движимое имущество и личные приобретения, определять повинности в соответствии с силами и возможностям отдельного крестьянина, укрепить за крестьянином пользование предоставленной ему землёй так, чтобы это право приближалось к настоящему праву собственности (пользование землёй до тех пор, пока крестьянин и его потомки её обрабатывают согласно заключённому с помещиком договору за определённую цену или за постепенную выплату того, что соответствует урожаю этой земли){113}. Такое видение императрицей возможностей облегчения судьбы крепостных крестьян будет положено в основу реформаторской деятельности Ю. Броуна в Прибалтийском крае.
Свой вклад в решение проблем крепостного состояния в Российской империи внёс и государственный деятель «золотого екатерининского века» Григорий Александрович Потёмкин. Изучая документы следствия по делу Пугачёва, интересуясь не столько главарями, сколько рядовыми участниками, он определил две главные причины восстания: крепостное право и плохое управление инородцами. Под впечатлением этих событий Потёмкин, считавший крепостное право позорным явлением, много внимания уделял расселению населения в приобретённых областях на юге России. В Новороссии, в краях, управлявшихся Потёмкиным, крепостного права практически не было. Об отношении Григория Александровича к крепостному праву можно судить по его действиям, приказам, ордерам, письмам и другим документам. Например, 31 августа 1775 г. в секретном ордере генералу Муромцеву он писал: «Являющимся к вам разного звания помещикам с прошениями о возврате бежавших в бывшую Сечь Запорожскую крестьян, объявить, что как живущие в пределах того войска вступили по Высочайшей воле в военное правление и общество, то и не может ни один из них возвращён быть»{114}. Примечательно, что переселение в Новороссию, в «тёплую землю», станет к середине XIX в. предметом желаний многих обездоленных эстонских и латышских крестьян.
Следует сказать, что Екатерина II первая среди самодержцев, после включения Прибалтики в состав России, обратила внимание на положение коренного населения края. Поводом для обращения русского правительства к крестьянскому вопросу в Прибалтике стали непрекращавшиеся жалобы крестьян Северной Лифляндии на своих помещиков, а также низкая доходность государственных имений и образование большой задолженности Лифляндии и о-ва Сааремаа по государственным налогам.
Екатерина предложила лифляндскому ландтагу изыскать меры для улучшения крестьянского быта. Дворянство же заявило, что считает крестьянина за самую существенную часть дворянского имущества, и потребовало, чтобы всякий дворянин, обвиняемый в угнетении крестьян, преследовался законом не иначе как за расточительность. Один лишь барон Шульц фон Ашераден в 1761 г. признал за своими крестьянами личные права, а также право наследственного пользования арендой. В тот период он возбудил против себя сильную ненависть лифляндского дворянства. Лишь спустя полстолетия была отдана справедливость поступку этого человека: его портрет был помещён в зале дворянского собрания в Риге{115}.
В 1765 г. генерал-губернатор Ю. Броун внёс в лифляндский ландтаг предложение, в котором после правдивого изображения положения крестьян были изложены меры для улучшения их быта. Эти меры сводились, в частности, к следующему: не допускать продажи с торгов за границу мужей без жён, жён без мужей, родителей без детей; признать за крестьянином право собственности на все его заработки и приобретённую им самим движимость; определить в точности те случаи, в которых владельцу могло быть разрешено сгонять неисправных хозяев с земли и упразднять крестьянские дворы; положить раз навсегда законный предел вспомогательным повинностям, ограничив в особенности подводную и винокуренную; определить виды и меры наказаний, отменив вовсе забивку в кандалы и арест на продолжительный срок в холодных помещениях. По сути, это было возвращение к шведским крестьянским законам, которые с 1710 г. перестали исполняться немецкими помещиками.
Предложение Броуна вызвало в ландтаге бурный протест. Рыцарство всеми силами отстаивало свои права в духе «декларации Розена». Броун был вынужден пригрозить, что, в случае непринятия строго обязательных мер, сама императрица предпишет дворянству закон. Угроза подействовала, и дворяне приступили к обсуждению предложенных мер. После длительных переговоров были вынесены четыре определения: 1) о праве крестьян свободно распоряжаться своим благоприобретённым или наследственным имуществом, в случае отсутствия долгов; 2) о размере барщины и оброков; 3) о неувеличении этого размера в будущем; 4) о праве крестьян подавать жалобы на своих владельцев.
Все эти определения были переведены на местные языки и вывешены в церквах. Они не изменяли существенно положение крестьян к лучшему, но долго служили единственной правовой основой, регулирующей отношения крестьян и помещиков. Когда же выяснилось, что помещики не выполняют разработанных ими самими определений, Броун в 1777 г. внёс новое предложение в ландтаг, согласно которому помещики должны были разработать механизм соблюдения правил 1765 г. Долгое время это предложение будет оставаться без движения, пока среди лифляндского дворянства не найдутся люди, готовые вступиться за угнетённых крестьян.
Между тем напряжение среди крестьян не спадало. Достаточно было любого повода — и копившаяся столетиями ярость выплёскивалась наружу в крестьянских волнениях. В 1784 г. поводом для волнений в Лифляндии послужило введение подушной подати. Во внутренних губерниях России она была введена ещё при Петре I, но на западные губернии была распространена только в мае 1783 г. Каждый крестьянин мужского пола должен был платить 70 копеек в год, при этом сбор подати возлагался на помещика.
Среди крестьян широко распространилось мнение, что с введением подушной подати они избавятся от власти помещиков и перейдут «под казну», т.е. приобретут статус государственных крестьян, с которым связывали улучшение своего положения. Крестьяне и слышать не хотели о том, что помещик станет сборщиком подати, и хотели платить только уполномоченным государства.
Помещики же стремились использовать подушную подать для увеличения барщины, используя разницу в оплате труда наёмных батраков и барщинных крестьян: батрак получал летом 50 копеек в неделю, а барщинный крестьянин вдвое меньше.
С началом полевых работ весной 1784 г. возмущение крестьян переросло в открытый бунт против помещиков. В июне 1784 г. крестьяне как латышской, так и эстонской части Лифляндии в течение нескольких недель отказывались выполнять барщинные работы и требовали отмены всякой барщины[44]. Помещики, суд и полиция были бессильны и не могли сломить сопротивления крестьян. Один из судей Дерптского уезда писал по этому поводу: «Наши крестьяне и рабы в этой окрестности совсем взбесились; нет более никакого повиновения, и даже в тех местах, куда выезжал нижний земский суд, после его отъезда крестьяне неистовствуют, беснуются ещё больше, чем перед этим … На меня самого мои взбесившиеся рабы напали с большими кольями, так что я совсем не осмеливаюсь возвратиться в своё имение, чтобы присматривать за хозяйством»{116}.
Среди прибалтийско-немецких помещиков началась паника. Генерал-губернатор Броун вызвал три полка и направил их в центр волнений, отдав приказ безжалостно расстреливать восставших. 4 июля в Ряпина и 18 августа 1784 г. в Карула дело дошло до столкновений крестьян с войсками. Крестьяне с кольями, дубинами и камнями шли на солдат. Те отвечали ружейным огнём.
Русский писатель Д.И. Фонвизин, проезжавший в 1784 г. через Эстляндию и Лифляндию, писал своим родственникам в Петербург: «…Мужики крепко воинским командам сопротивляются и, желая свергнуть с себя рабство, смерть ставят ни во что. Многих из них перестреляли, а раненые не дают перевязывать ран своих, решаясь лучше умереть, нежели возвратиться в рабство… Мужики против господ и господа против них так остервенились, что ищут погибели друг друга»{117}.
Выступления в Лифляндии были подавлены силой оружия. Бунтари были наказаны шпицрутенами, а затем многие из них были направлены на каторжные работы. Вместе с тем протест, вылившийся в открытый бунт, и последовавшая затем расплата были не совсем напрасными. Правительство, хорошо осознавая риски, связанные с крестьянским вопросом в Прибалтийском крае, потребовало, чтобы помещики не увеличивали повинности по своему усмотрению.
1780-е гг. были не только отмечены крестьянскими волнениями, но и стали временем продолжения екатерининских реформ. Императрица старалась теснее привязать прибалтийские губернии к России через введение общегосударственной системы административного управления, единого суда, единых налогов и пошлин, через уравнение в правах дворян и горожан Прибалтики с соответствующими сословиями во внутренних губерниях России.
Губернская реформа 1775 г. (или учреждение о губерниях) вводилась в России постепенно. Создавалось впечатление, что Екатерина II не торопится преобразовывать управление в Эстляндской и Лифляндской губерниях. Это давало пищу надеждам, что земство и город останутся при своих привилегиях. Хотя Екатерина уже высказалась, что для подъёма Эстляндии и Лифляндии не видит другого средства, кроме введения наместничеств, предпринимались попытки убедить государыню, что привилегированные сословия довольны старинным управлением и не хотят перемен. В период с 1781 по 1783 г. генерал-губернатор Броун делал представления императрице аналогичного содержания. Но Екатерину, как оказалось, было невозможно смутить глухой оппозицией приверженцев средневековых порядков. Она не сделала никаких исключений для Прибалтийского края. Генерал-прокурор князь Вяземский вызвал графа Броуна, своего личного друга, в Петербург и дал ему наставления в отношении введения наместничеств. Поскольку князь Вяземский поспешил принять меры к скорейшему введению наместничеств, прибалтийско-немецкие авторы, в частности Нейендаль, заподозрили в нём врага немцев вообще и лифляндцев в особенности. Более того, Нейендаль высокомерно возмущался тем, что Вяземский желает «сравнять немцев и лифляндцев с русскими». Досталось и Броуну, ведь «этот старый солдат» не воспрепятствовал реализации реформы, так как вообще считал «слепое повиновение высшим нравственным качеством всякого и первым качеством в подчинённом»{118}. На самом же деле князь Вяземский руководствовался лишь п. 9 Наставления, полученного от императрицы в 1764 г. при назначении его на должность генерал-прокурора для содействия нуждам и пользе государства. Что касается графа Броуна то он, действительно был точным исполнителем воли Екатерины и не терпел, если распоряжения правительства не претворялись в жизнь. Правда, в противном случае он едва ли остался бы на своём месте.
Прежде чем обрусить Прибалтийский край, т.е. ввести наместничества, Екатерина распорядилась в 1782 г. объединить прибалтийские губернии вместе с внутренними русскими губерниями в единой таможенной системе. Эта мера способствовала укреплению экономических связей Прибалтики и российских регионов. Доходы же казны увеличились на 70%. Из них 40–65% уходило на содержание местных учреждений и жалованье чиновникам, остальная часть шла в распоряжение центрального правительства.
Кроме того, манифестом от 3 мая 1783 г. все ленные поместья Прибалтийского края были объявлены собственностью их держателей[45]. Эта мера укрепила помещиков экономически и несколько успокоила в преддверии новых реформ. Одновременно вводилась подушная подать: 1 рубль 20 копеек с горожан (мещан) и 70 копеек — с крестьян. Для учёта душ (налогоплательщиков) стали периодически проводиться ревизии (переписи). Первая такая ревизия была проведена в Эстляндии и Лифляндии в 1782 г. Купцы были обязаны платить налоги в размере одного процента с объявленного ими капитала.
Губернская реформа была распространена и на Прибалтийский край. По высочайшему указу 3 июля 1783 г. были открыты Рижское (Лифляндия) и Ревельское (Эстляндия) наместничества. Таким образом, власть в Эстляндии и Лифляндии подпадала под контроль наместника, и такой порядок управления стал называться наместническим.
В апреле 1785 г. Екатерина II в рамках общей административной реформы обнародовала Жалованную грамоту дворянству. В ней постановлялось, что нельзя отобрать у дворянина его имение без судебного дела и что дворянин имеет право свободно распоряжаться своими имениями, за исключением унаследованных. Тем самым впервые в России была введена частная собственность на землю как привилегия дворянства и устранены последствия революции Иоанна Грозного с практикой «отписать на государя», т.е. конфисковать, земли, принадлежавшие частному собственнику. Были учреждены губернские и уездные дворянские собрания для выбора должностных лиц местной администрации и суда. Для управления сословными делами учреждалась должность предводителя дворянства, созывались дворянские депутатские собрания и создавались опекунские советы. Одновременно ликвидировалась прежняя кастовая замкнутость прибалтийских рыцарств и низшее дворянство становилось равноправным участником ландтага.
В апреле того же 1785 г. была обнародована Жалованная грамота городам, или «городовая грамота». Она явилась важным шагом вперёд, поскольку расширяла право общественного представительства и регламентировала статус городских жителей.
Этот документ определил полномочия новых выборных городских учреждений и расширил круг избирателей. По имущественным и социальным признакам устанавливалось шесть категорий горожан: «настоящие городские обыватели», т.е. владельцы недвижимости из дворян, чиновников и духовенства; купцы трёх гильдий; ремесленники, записанные в цехи; иностранцы и иногородние; именитые граждане; посадские, т.е. все прочие граждане, занимавшиеся промыслом и мелким ремеслом. В городах раз в три года созывалось собрание «градского общества», в которое входили наиболее состоятельные горожане. Постоянно действующим городским органом была «общая градская дума». Судебными выборными учреждениями в городах являлись магистраты{119}.
Следуя своим взглядам на отношение государства к окраинам, императрица ввела городовое положение и в прибалтийских городах. В результате реформы городского управления были ликвидированы самоуправство магистратской клики и такой порядок вещей, когда отсутствовала свобода промыслов и ремёсел, а чрезмерные выгоды одной части населения (т.е. граждан) оборачивались явным ущербом для другой (неграждан, иностранцев и т.д.). Реформа в городском управлении ввела действительное представительство общины. Как и повсюду в Российской империи, все горожане были разделены по имущественному признаку на шесть разрядов, причём более зажиточные и, следовательно, платящие большие по размеру налоги получали и большие права. Теперь зажиточные русские и эстонские купцы могли стать членами преобразованных гильдий и называться мещанами (бюргерами). По мнению Меркеля, Рига, со своей ганзейской стариной, кончила бы непременно тем, что в конце концов измельчала бы и обеднела, если бы императрица Екатерина II не поспешила на помощь падающему городу с коренной реформой городского управления{120}. С этой реформой только немногие теряли очень много[46]. И потому представители лагеря немногих отнеслись к ней критически. Вот как противник реформы Нейендаль прокомментировал её результаты: «Новое городовое положение внесло в Ригу множество новых стихий; оно дозволяло каждому записаться в какое угодно сословие, так что если он только платил подать с доходов, то пользовался всеми правами и преимуществами граждан… Тут то появились целые толпы различных личностей, записываясь в то или другое сословие, и число рабочего народа значительно уменьшилось. Почти везде можно было наткнуться на так называемого рижского купца. Последствия этого порядка дел оказались вредными в двух отношениях. Во-первых, гражданское население (т.е. так называемые граждане) потеряло свой вес и почёт, которыми до сих пор пользовалось, и, во-вторых, из превратившихся в граждан крестьян и им подобных образовались ленивцы и ненадёжные люди, даже и разная сволочь».
30 декабря 1785 г. рижский магистрат поднёс на высочайшее имя меморандум, в котором просил о следящих переменах в городовом положении:
1. Сохранить прежнее разделение городового общества на магистрат, большую и малую гильдии, а также прежний порядок в городских собраниях.
2. Членов магистрата избирать не на три года, а на всю жизнь, городского головы вовсе не выбирать.
3. В большую гильдию принимать не всякого, кто капитал объявит, а по рассмотрении его способностей и поведения.
4. Сохранить прежний порядок управления городским имуществом и цеховое устройство.
5. Не учреждать в Риге ни общей, ни шестигласной городской думы.
6. Освободить город от рекрутской повинности: денежной и натуральной{121}.
Поскольку принятие этих пунктов вступило бы в противоречие с «городовой грамотой» и означало бы отход от принципов окраинной политики императрицы, ходатайство приверженцев средневекового сословного городского управления «было оставлено без уважения». В 1786 г. во исполнение высочайшего повеления городовое положение в Риге было введено без всяких изменений.
Спустя более полувека екатерининскую реформу городского управления высоко оценил Ю. Самарин, считавший, что корпоративные права несовместимы с государственным началом, которое одно способно спасти низшие классы от гнёта высших. В своём труде «История г. Риги» (1852 г.) он так писал о введении в городе императрицей Екатериной II общерусского городового положения: «…в этом акте проявилось окончательно государственное начало во всей полноте его прав….преобразование шло и должно было идти сверху, от самого правительства, ибо задача заключалась …в организации управления на основании новых принципов и в обеспечении класса простых обывателей, не имеющих дотоле никаких прав и, как доказал вековой опыт, никакого повода надеяться на добровольные уступки со стороны граждан (т.е. лиц со статусом граждан). Преобразование Екатерины II могло казаться насильственным, но последствия оправдали его…»{122}
Одновременно в городах было введено новое полицейское управление и полицейские суды по аналогии с внутренними русскими губерниями. Города были разделены на части и кварталы. За порядком в них следили частные приставы и квартальные надзиратели. Новая полиция была напрямую подчинена наместническому управлению.
В общем, в царствование Екатерины II с реализацией учреждения о губерниях и общего городового положения суды, порядки, учреждения в Эстляндии и Лифляндии стали те же самые, что и на пространстве всей тогдашней России. Чиновники получали жалованье от казны, а суд и администрация ничем не отличались от соответствующих учреждений в других губерниях.
Местные прибалтийско-немецкие элиты были вынуждены временно примириться с реформами Екатерины II. Что касается положения крестьян, то облегчения их участи в период царствования Екатерины не произошло. Напротив, крепостная зависимость значительно усилилась. Это было неизбежным следствием Жалованной грамоты дворянству.
После смерти императрицы в 1796 г. Павел I, по вступлении своём на престол, повелел восстановить управление Эстляндией и Лифляндией в том виде, в каком оно существовало до введения института наместничества в 1783 г. Таким образом, старые порядки в области администрации, судопроизводства, городского управления и рыцарства восстанавливались в прежнем, дореформенном виде. Павел сделал несколько исключений, в частности: взнос податей продолжался по прежде изданным указам, изменения не затронули и ряд присутственных мест — губернское правление и казённую палату с казначейством{123}. В то же время император распространил на Прибалтику рекрутскую повинность. Военная служба длилась 25 лет и была возложена помещиками на бобылей. Примечательно, что впоследствии военный опыт возвращавшихся домой отставных солдат выдвинет отдельных их представителей в руководители крестьянских волнений в XIX в.
V.4. Регулирование аграрных отношений в Прибалтике при Александре I, борьба сторонников реформ (из числа немцев и русских) за облегчение положения эстляндских и лифляндских крестьян
В рамках проводившихся при Александре I государственных преобразований особое внимание было обращено на положение крестьян в Эстляндии и Лифляндии. По сути, Александр следовал заветам своей великой бабки, взгляды которой он безусловно разделял и, так же как и она, искал компромисс между желаемым и возможным, не проявляя, впрочем, той воли и последовательности при обеспечении интересов России на её окраинах, которые были свойственны Екатерине Великой. При нём было принято крестьянское положение 1804 г., ограничивавшее крепостное право в Прибалтике, и проведены реформы 1816 и 1819 гг., обеспечившие личное освобождение крестьян от крепостной зависимости без закрепления за ними земельных наделов. Из либерального лагеря России было много справедливой критики в адрес этих реформ. Однако в условиях сложившегося остзейского порядка, который Александр не решился «обрусить», даже такие реформы не дались легко их инициаторам и исполнителям. Об этом, в частности, свидетельствуют неотделимые от поражений победы предводителя лифляндского дворянства, ландрата Фридриха (или Фёдора Фёдоровича) Сиверса и председателя рижской ревизионной комиссии, действительного статского советника Александра Ивановича Арсеньева, о которых речь пойдёт позже. Сейчас эти имена забыты. Но когда-то они были очень известны в Прибалтийском крае. «Не гремели они ни славою, — пишет биограф, — ни огромными связями, ни богатством, ни роскошью, но Сивере и Арсеньев были истинно честные люди, которых давай Бог больше всякой стране и всякому государству»{124}.
Три фактора определили поворот правительства к крестьянскому вопросу в Прибалтике.
Первый фактор — внешнеполитический. Крестьянские волнения на западных границах империи воспринимались как вызов безопасности, особенно в условиях начавшихся наполеоновских войн.
Второй — экономический. Неэффективность барщинного помещичьего хозяйства становилась всё более очевидной. Ввиду резко возросших долгов эстляндских и лифляндских помещиков Александр I был вынужден удовлетворить их просьбу о предоставлении беспроцентной ссуды.
Третий фактор — морально-этический. По мере роста образованности имущих слоев российского общества, включая прибалтийские губернии, а также в условиях влияния идей французских просветителей и Великой французской революции на духовное развитие Европы крепостное право всё более воспринималось как исторический анахронизм, попрание справедливости и прав человека.
Главным препятствием на пути подготовки и проведения крестьянских реформ явилось глухое и упорное сопротивление немецких помещиков, крепко державшихся за свои средневековые привилегии. Это осложняло задачу Александра, поскольку он не считал возможным игнорировать настроения среди немецкого дворянства, пополнявшего в Российской империи корпус военных, администраторов, учёных, специалистов разного профиля и прочно интегрировавшегося в российскую элиту. В то же время, как показывает ход реформ, всегда на службе у государя находились люди (и среди немцев, и среди русских), которые, следуя своим убеждениям, настойчиво защищали права крестьян, не страшась ненависти и козней со стороны «ретроградной» оппозиции, как они сами называли своих противников. Хотя император и поддерживал честную и самоотверженную деятельность этих крестьянских заступников, но поддержка эта имела свои пределы.
Следует сказать, что крепостное право в Прибалтике утвердилось почти на полтора столетия раньше (вторая половина XV в.), чем в России (конец XVI в.). При этом изначально отношения между помещиками и крестьянами в Прибалтике принципиально отличались от таковых в России. Это была власть иностранных пришельцев, установленная силой оружия. Власть победителя-тевтона, осознающего своё цивилизационное превосходство над национально, культурно и ментально чуждым ему коренным населением. Власть тотальная, высокомерная, немилостивая. Здесь, в отличие от России, не могло быть осознания принадлежности к одному народу, единство которого крепилось исторической памятью, одним языком, веками складывавшимися обычаями, традициями, бытом. Здесь не могло быть тех патриархальных отношений между помещиком и крестьянином, между хозяином и работником, которые существовали на Руси и в силу которых в восприятии крестьянина плохому (злому) помещику всегда противостоял хороший (добрый)[47]. Достаточно вспомнить повесть А.С. Пушкина «Дубровский», в которой отец и сын Дубровские предстают как «добрые» и справедливые помещики, в противоположность властному и деспотичному Троекурову. Но и у «злых» помещиков не было хлыста надсмотрщика, понуждающего к непосильному труду на барщине, не было того произвола, приправленного, если говорить словами Ю. Самарина, «безграничным презрением цивилизованного рыцарского племени к отверженному племени холопов». Вынужденное пение девушек во время сбора ягод, «чтоб барской ягоды тайком уста лукавые не ели», А. С. Пушкин в романе «Евгений Онегин» («энциклопедии русской жизни», по выражению В. Белинского) насмешливо относит к «затеям сельской простоты» и, по-видимому, одобряет Онегина за то, что «ярём он барщины старинной оброком лёгким заменил». Конечно, эти поэтические зарисовки не дают исчерпывающих представлений об отношениях между крепостными и помещиками. Ведь тот же Пушкин написал стихотворение «Деревня» и обратился к теме Пугачёвского бунта, показав, что крестьяне далеко не всегда мирились с несправедливыми сторонами своего социально-экономического положения. Однако положение это не усугублялось унизительным подчинением чужаку и завоевателю.
В Прибалтике же социально-экономический гнёт был воедино слит с национальным и достигал таких возмутительных форм, которые вызывали протест также и у самих немцев. Среди немецких критиков крепостного строя в Прибалтике особенно выделяются преподаватели-публицисты Гартлиб Гельвиг Меркель и Иоганн Христоф Петри. Они были вынуждены публиковать свои работы в Германии, поскольку там были более свободные условия для издания книг.
Основным трудом Меркеля стала книга «Латыши, особенно в Лифляндии, в конце философского века» (1796 г.). Своих соплеменников он назвал потерявшими совесть палачами, которые превратили ливонских крестьян в безжизненное орудие своего корыстолюбия. Ужасающее положение, в котором пребывали ливонские крестьяне, сделало их рабски пугливыми и недоверчивыми. Меркель не раз был свидетелем, как «за 30 шагов, проходя мимо помещичьего дома, латышский крестьянин снимает шляпу и приседает (нельзя сказать кланяется) при всяком взгляде на помещика. Потом он крадётся, понурив голову, чтобы поцеловать у него кафтан или ногу. Если тот заговорит с ним, он подозревает при всяком вопросе своекорыстную хитрость и отвечает двусмысленно»{125}. Однако рабская пугливость вовсе не исключала копившейся столетиями ненависти и отвращения к угнетателям, которые проявлялись даже в мелочах: ненавистным словом «немец» пугали непослушных детей, называли бодливую корову. Меркель не сомневался, что «в случае общего восстания ни одна немецкая нога не уйдёт отсюда». В своих трудах Меркель обосновывал необходимость освобождения крестьян от крепостной зависимости и выступал за тесное единение Прибалтийского края с Россией. За передовые для того времени взгляды по крестьянскому вопросу и русофильскую позицию Александр I наградил состарившегося Меркеля пожизненной пенсией. Остзейцы же (из числа «ретроградов») увидели в нём только «русского льстеца»{126}.
К числу наиболее известных произведений Петри принадлежит книга «Эстляндия и эстонцы». Петри назвал прибалтийско-немецких помещиков всемогущим сборищем кровопийц, «которые откармливаются, пожирая за обильным столом мясо, кровь и пот крестьян». Петри писал, что крепостное право «ни в одной стране не является таким тяжким и не сопряжено с таким угнетением и мучениями, как в Эстляндии. Лица, побывавшие в Африке и Америке, утверждают, что даже самое страшное негритянское рабство не отличатся большей жестокостью и варварством, чем здесь, в этой стране»{127}. Комментируя крестьянские волнения, Петри заявлял, что эстонцы вполне созрели для свободы, и требовал их полного освобождения от гнёта помещиков.
Взгляды Меркеля и Петри не были чужды и должностным лицам в Эстляндии и Лифляндии, в частности ландрату Сиверсу и его соратникам — ландратам Меллину и Герсдорфу. Гуманное направление их мировоззрения, вылившееся в желание способствовать улучшению быта крестьян, сложилось на основе сравнения неблагоприятного положения эстонцев и латышей с идеальными воззрениями философии тогдашнего времени о достоинстве и счастье человека. Обращение старого Меллина, приверженца Вольтера и Руссо, к своему сыну графу Августу Людвигу Меллину передаёт настроения среди просвещённой части прибалтийско-немецкого дворянства. А старый Меллин говаривал молодому следующее: «Дитя моё, отдадим добровольно нашим кормильцам крестьянам те права, которые мы со временем вынуждены будем отдать; придёт же время, когда это окажется необходимым, иначе пришлось бы отчаяться в божеской справедливости»{128}.
На ландтаге 1803 г., благодаря усилиям и красноречию «старого дуба» Сиверса, сумевшего уговорить пассивную часть помещиков, были приняты первые крестьянские законы (или крестьянское положение) в Лифляндии. Хотя они были подготовлены по настоянию центрального правительства в специально созданном в Петербурге комитете из высокопоставленных государственных чиновников и представителей лифляндского рыцарства (или лифляндском комитете), победа либеральной партии в ландтаге над «ретроградной» далась не без борьбы и создала для Сиверса и его активных сторонников много врагов. Меллин младший, участвовавший в этой борьбе, так объяснял свою позицию: я ландрат (земский советник), а не адельсрат (дворянский советник). Такой подход, безусловно, встретил бы одобрение старого графа Меллина — просвещённого филантропа. Активные же защитники рыцарских привилегий, уязвлённые наступлением на их «исторические права», насторожились и ощетинились.
Между тем в 1804 г. Александр I утвердил крестьянские законы для Лифляндии и Эстляндии. Они предусматривали льготы главным образом для крестьян-дворохозяев и оставляли без внимания более многочисленный слой безземельных батраков и бобылей, совмещавших батрачество и содержание себя работой на ничтожном клочке земли. Что касается крестьянина-дворохозяина, то он приобретал право собственности на движимое имущество (определённое количество рабочего скота, орудия труда, все постройки, огороды, семенное зерно и т.д.). Он мог передать свой двор по наследству, был избавлен от телесных наказаний, его нельзя было отдать в рекруты. Формально за ними признавалось даже право покупки земли.
Был учреждён волостной суд из трёх человек во главе с помещиком. Один из судей назначался помещиком, другой выбирался дворохозяевами, третий — батраками.
В приходском суде, занимавшемся разбором жалоб крестьян, председательствовал помещик, а три заседателя избирались крестьянами.
Помещик имел право направлять бобылей батраками к крестьянам-дворохозяевам, посылать их на работу в имения или отпускать на заработки в город за соответствующий оброк. Дворовых крестьян помещик мог дарить, передавать по наследству и продавать. В отношении дворовых и крестьян-барщинников помещик имел право применять телесные наказания — до 15 палочных ударов. Более тяжёлые наказания требовали решения крестьянских судов.
Крестьянский закон затронул и главный нерв аграрных отношений: крестьянские повинности. Их надлежало устанавливать в зависимости от размеров и качества земли, как это было принято ещё при шведах. В целях обеспечения справедливости при определении крестьянских повинностей были созданы ревизионные комиссии. Поскольку реализация закона шла медленно, а ревизионные комиссии, если и работали, то крайне вяло и нерешительно, то в народе стали возникать толки об обмане, об укрывательстве чиновниками, помещиками и пасторами царской бумаги, содержание которой увязывалось крестьянами со своими давними мечтами, выходившими за пределы дарованных льгот. В результате, вопреки ожиданиям, крестьянские законы только усилили волнения среди эстонцев и латышей. Они выплеснулись наружу при принятии так называемых вакенбухов, т.е. документов, вводившихся ещё при шведах и фиксировавших размер повинностей. Помещики, чтобы увеличить размер повинностей, нередко шли на обман, завышая качество и количество земли. Председатель рижской ревизионной комиссии А.И. Арсеньев квалифицировал обмер земель в Лифляндии как «чистое шарлатанство», а оценку земель как «педантичный обман». В результате при проведении закона в жизнь барщина не сократилась. В народе говорили: «Не следует нам брать ни вакенбухов, ни выбирать судей. Государь этого не хочет, вакенбухи-то не от государя идут и не то в них написано, что Государем обещано». В некоторых уездах, преимущественно в Рижском и Дерптском, крестьяне действительно отказались принимать новые вакенбухи. Гражданское начальство тотчас же прибегло к военной силе, начались усмирения, присылка казаков и пр. Тем не менее волнения по деревням не утихали с августа по конец октября 1805 г., вспыхивая то в одном, то в другом месте. В противостоянии с регулярными войсками погиб один из крестьянских вождей оясооский барщинник Харми Эварт — по определению местных властей, человек с «подлинно пугачёвской душой».
В этот трудный для властей период на сцену снова выступил ландрат Сивере. Разъезжая без устали из деревни в деревню и неутомимо толкуя смысл нового положения, он успокоил крестьян и показал центральному правительству всю «неуместность строгих мер против возникших недоразумений». Примечательно, что, как только крестьяне Венденского уезда, где вёл разъяснительную работу Сивере, поняли, что регулирование повинностей и вакенбухи исходят действительно от Государя, а не от немецких помещиков, которым они не доверяли, почва для конфликта сразу исчезла. Сам факт распространения на эстонцев и латышей имперской власти воспринимался ими как перспектива освобождения из-под ненавистного немецкого владычества и мирил их с обременительными повинностями, которые до этого являлись причиной волнений. То есть налицо была тяга к «обрусению» в екатерининском понимании: к верховенству государственных начал над правовой гегемонии немецкого меньшинства. По свидетельству председателя вольмарской ревизионной комиссии, везде и все крестьяне говорили одно: пусть нам будет хуже, но по воле государя. В подтверждение искренности таких заявлений вольмарскии председатель комиссии приводит следующий случай: когда помещик Лилиенфельд из гуманных соображений предложил крестьянам более выгодный, чем зафиксированный в вакенбухах, контракт, те отказались, заявив, что хотят исполнить волю Государя, даже если бы их положение стало хуже нынешнего. Такой ответ, по-видимому, растрогал председателя ревизионной комиссии. В своём донесении начальству в Петербург он, несмотря на крестьянские волнения, писал: «Народ вообще разумен и добр, но угнетён…»{129}
Следует сказать, что благородное, деятельное и бескомпромиссное заступничество за угнетённых крестьян со стороны высокопоставленных представителей прибалтийско-немецкого дворянства было по достоинству оценено Александром I. В случае с Сиверсом император отменил распоряжение тогдашнего генерал-губернатора графа Буксгевдена об отстранении Сиверса от должности главного церковного старосты, отдал ему в аренду одно из курляндских казённых имений, пожаловал кавалером св. Анны 1-й степени и назначил курляндским гражданским губернатором. Этот поток монаршей милости, излившийся на Сиверса, произвёл сильное впечатление в прибалтийских губерниях и затронул чувствительную струну в душах честолюбивых немецких рыцарей. С тех пор, как свидетельствует в своих записках граф Меллин, нередко случалось, что записные угнетатели крестьян и «ретрограды» притворялись либеральными друзьями крестьян, лишь бы только получить орден.
То, при каких обстоятельствах умер Сиверс, характеризует его так же, как и прожитая жизнь. По свидетельству современников, это был человек необыкновенно пылкий, резкий в выражениях, неспособный смущаться препятствиями, но вместе с тем человек вполне честный, отъявленный враг всякой «фальши» и «рассчитанного двумыслия», не стеснявшийся при всех говорить в глаза правду. Вспыльчивость соединялась в нём с благородством души. Так вот, как рассказывает в своей книге граф Меллин{130}, во время ревизии в одной из губерний Сиверс вскрыл значительные злоупотребления. Виновные, видя совершенную невозможность подкупить Сиверса, подсыпали ему яду. Хотя своевременно принятые меры предупредили скоропостижную смерть, Сиверс так и не смог вполне оправиться от отравления и умер 25 декабря 1823 г., на 77-м году жизни.
Соратник Сиверса граф Меллин, своим заступничеством за крестьян возбудивший против себя ненависть «ретроградной» партии, также пользовался поддержкой и благоволением императора. В 1814 г. он был, по высочайшему повелению, назначен членом рижского отделения лифляндского комитета по крестьянским делам. Защищая дело крестьян, он снова показал себя как земский, а не дворянский советник. Например, в вопросе по развёрстке взносов при постройке церквей он настаивал, чтобы крестьяне занимались лишь подвозкой материалов, а в вопросе об издержках по снаряжению рекрутов он требовал, чтобы все расходы падали прямо на дворянство, а не на крестьян, несущих личную воинскую повинность. Реакция представителей дворянского сословия не заставила себя ждать. Меллин был объявлен врагом дворянства и изменником корпорационных привилегий. Ландтаг 1815 г. резко обвинил Меллина в том, что он вместо защиты дворянских прав хочет обременить лишь дворянство новыми расходами. В результате неравной борьбы Меллин был вынужден отказаться от должности ландрата, которую занимал в течение 21 года, а также от должности члена крестьянского комитета. Хотя Александр I не вмешивался во внутренние дела прибалтийского дворянства, своё отношение к произошедшему он всё-таки выразил, наградив Меллина за оказанные услуги Прибалтийскому краю табакеркою и пенсией в 1000 рублей в год. Кроме того, он оставил должность дворянского члена в крестьянском комитете, которую занимал Меллин, вакантною, не утвердив кандидатуры, предложенные из стана противников Меллина и приверженцев исторического права{131}.
По воле Государя в мае 1805 г. на должность председателя рижской ревизионной комиссии был назначен действительный статский советник Александр Иванович Арсеньев. Он нисколько не уступал просвещённым и честным представителям немецкого дворянства в ревностном исполнении служебного долга и имеет не меньшие заслуги в деле облегчения положения прибалтийских крестьян. Если Сиверс и Меллин способствовали подготовке и принятию Крестьянского положения 1804 г., то Арсеньев внёс значительный вклад в его реализацию и усовершенствование.
При вступлении в должность Арсеньев узнал, что его предшественник генерал-майор Веригин при раздаче вакенбухов едва не был убит крестьянами и спасся только благодаря быстрому прибытию военной команды. Заподозрив, что такое ожесточение кроется в несовершенстве самих вакенбухов, составленных по шведской таксе, он во всех подробностях изучил шведскую таксационную систему (поземельную и податную). В результате он пришёл к выводу, что многие ссылки на шведское законодательство неверны и что многие принципиально важные постановления шведского правительства или совершенно забыты, или преднамеренно скрыты. В своём донесении в Петербург министру внутренних дел графу Кочубею Арсеньев сообщил, что комитет, разрабатывавший лифляндское крестьянское положение, упустил из виду целую страницу шведского законодательства, благоприятную для крестьян. «Если держаться шведской таксы, — заключил Арсеньев, — то следует держаться её во всей её силе».
Затем Арсеньев совершил поездку по деревням Лифляндии. Свои наблюдения он изложил в докладных записках министру внутренних дел графу Кочубею. Эти записки являются ценнейшим свидетельством тогдашней жизни эстонских и латышских крестьян в Лифляндии.
Прежде всего, Арсеньева удивила малочисленность сельского населения при огромности поместий. На 20–30 тысячах десятин едва насчитывалось 500–600 душ. При этом пропорция между взрослыми и малолетними (т.е. между взрослыми или тягловыми рабочими, с одной стороны, и нетягловыми, с другой) отличалась от таковой в России. Так, в России тягловые рабочие составляли 2/5 всего населения, а у добрых помещиков, у однодворцев и во многих казённых селениях — даже 1/2, что указывало на высокую рождаемость и как следствие этого большое число малолетних. В Лифляндии же число тягловых превышало число малолетних и иногда доходило до 3/5 населения. Такое положение дел Арсеньев объясняет коренным притеснением, мешающим народу умножаться при таком множестве земли и способов к пропитанию.
В связи с этим Арсеньев особо указывал на бедственное состояние батраков, погружённых, как он писал Кочубею, в глубину нищеты, да ещё нищеты страдательной, измученной работами. Зато, не редкость, продолжает Арсеньев, увидеть девку лет семидесяти и седых холостяков, ибо «народ распложается по мере безопасности пропитания детей, а здесь есть нечего и народ принуждён монашествовать».
Донесения аналогичного содержания направлял Кочубею и Сиверс. Вот его слова: «Главнейшую причину малолюдства в Лифляндской губернии должно приписать бедному состоянию батраков, которые век свой, с жёнами и детьми, голод терпели и в нужде страдали, хотя они все работы как на помещика, так и на хозяина (т.е. крестьянина-дворохозяина) отправляли. Голод и нужда принуждали их бежать в соседние губернии, и оттого Курляндская, Литовская и Псковские губернии наполнены лифляндскими крестьянами, даже и в Швецию многие бежали, на лодках переплавляясь через море. Теперь значительно улучшилось состояние крестьян-хозяев, но бесконечно ухудшилась горькая участь батраков»{132}.
В 1806 г., когда в рижской ревизионной комиссии председательствовал Арсеньев, в Лифляндской губернии насчитывалось не более двадцати пяти тысяч крестьян-хозяев, а число батраков доходило до трёхсот тысяч человек. В своих многочисленных докладах министру Арсеньев ходатайствовал, чтобы правительство, улучшив быт лифляндских крестьян-хозяев, не медлило с улучшением быта и крестьян-батраков.
Важно отметить, что для обоснования такого ходатайства не нужно было никаких уловок, никакого сгущения красок. Нужно было просто говорить правду. И эта правда в подробном и обстоятельном изложении Арсеньева потрясает.
В своих записках, многие из которых представляли собой обширные и многосторонние доклады, Арсеньев фиксирует расслоение внутри крестьянского сословия, противопоставившего крестьянина-хозяина и батрака, и анализирует отношения между помещиками и крестьянами сквозь призму такого расслоения.
Крестьянин-хозяин имеет часть господского поместья, отмежёванного и отданного ему во владение. Он называется гакнером, полугакнером и т.д. в зависимости от размера участка. Батрак же ничего не имеет, в отдельных местностях крестьянин-дворохозяин отводит ему крошечный клочок земли, с которого он должен себя содержать.
Хозяин и батраки живут в одном большом строении, большую часть которого занимает хозяин с семьёй. Батраки ютятся в чёрной избе, отделённой глухой стеной от хозяйских покоев. Например, в холопьей избе у гакнера помещалось 20 человек, не считая детей. Они скучены без всякого различия пола, мужья и жёны, девушки и парни.
Хозяин, являясь крепостным своего господина, в то же время выступает главой и повелителем на отведённой ему земле. Он решает, кого из батраков направить на барщину, остальные же все работают на него. На барщину он стремится послать худших работников, оставляя лучших себе, из-за чего между барином и хозяином возникают беспрестанные распри. При этом барщина для батрака — отдых, если сравнивать её с работой на хозяина, которой нет ни меры, ни пределов. Жена, дети хозяина мучают его или посылками, или работою, или побоями. Он слышит только брань и попрёки. Если положение холостого батрака сравнительно сносно, то женатого — самое отчаянное. Особенно страдали дети батраков, которые, подросши, становились игрушкой хозяйских детей, терпели побои своих несчастных, выбивающихся из сил матерей, являлись причиной скорби и слёз горемычных родителей, переживавших за их будущее. Арсеньев указывает на множество случаев, когда хозяева выгоняли малых и осиротевших детей, не хотели их кормить. В результате некоторые из них умирали с голоду.
Из собранных справок Арсеньев установил, что батраки, за 365-дневную и ночную работу, получают крайне скудное пропитание и крайне жалкую одежду. Участь их до того несчастна, что, как бы они ни трудились, им никогда не выбраться из бедственного состояния. По этой причине многие из батраков не женились. Они стремились попасть в милость к жене хозяина. И после смерти мужа старуха, прельщённая работником, выходила за него замуж и делала хозяином.
Арсеньев не уставал убеждать правительство, что в целях утверждения благосостояния народа предметом законодательства должны быть батраки. В их поступках и поведении он видел, прежде всего, проявления того, как они стеснены и как вредно такое рабство для государства.
Арсеньев был свидетелем, как ранним утром работники конные и пешие приходят на барскую мызу, чтобы остаться на всю неделю. Обычно это толпа из ста или двухсот человек, разного возраста и пола. Это оборванные, запачканные, испитые люди, вынужденные бродить, как цыгане, без жилья и крова, укрываться от непогоды в хлевах и сараях, а от холода зимой — в ригах, поскольку для них не предусмотрено никакого помещения. Они должны приходить со своим хлебом и своим кормом для лошадей. Некоторые помещики отпускают харчи от себя. Это даёт повод работникам требовать того же и от своих врагов — крестьян-хозяев.
Нужда и голод учат красть. Батраки пробираются на барскую кухню, в огороды, где приворовывают хлебца и разные плохо лежащие вещи. Таким путём некоторым удаётся нажить лошадь или корову.
Утром староста или кубайс выгоняет батраков на разные работы и следит, чтобы барщина отправлялась исправно. Но батраки не спешат, зная: сделаешь одну работу, дадут другую. Помещик в наказание увеличивает работу, а батрак лукавит и увиливает, стараясь работать для виду. Староста бегает с плетью или палкой, бьёт то того, то другого. Битый берётся за работу, а небитый отлынивает. Примечательно, что староста и приказчик научились извлекать наживу из своего положения надсмотрщика даже среди практически неимущих. Тех, кто ублажил их подарком, они щадили. И, напротив, налегали на тех, кто пришёл с пустыми руками. Прийти же с подарком можно было не иначе, как отняв кусок хлеба у своего ребёнка.
В своих донесениях министру Арсеньев не только подробно описывал быт батраков и излагал невыгоды обязательной барщины, но и делал предложения по улучшению ситуации в Прибалтийском крае. В конечном итоге он представил графу Кочубею полный проект переделки крестьянского положения 1804 г. В основу проекта было положено три общих положения.
Во-первых, по закону совести и правды, человек, ничего не получающий, не обязан ничего уделять из своей собственности тому, кто ничего ему не даёт. Отсюда делался вывод, что нет правомерного основания дозволять помещику распоряжаться рабочими силами сельского пролетариата, т.е. батраков.
Во-вторых, правительство в праве требовать от помещика, чтобы он обеспечил средства к безбедному существованию не одному какому-либо классу, а всем крестьянам, прикреплённым к его имению. Эту обязанность он должен исполнять отводом поземельного надела в определённом размере.
В-третьих, все крестьяне, приписанные к одному имению, имеют право на получение одинакового надела, за который должны отбывать одинаковую повинность{133}.
Для уравнения в наделе и повинностях крестьян между собой (хозяев и батраков без различия) Арсеньев предлагал принять за единицу тягло, под которым понимал взрослого женатого или могущего жениться работника. С каждого тягла и отведённого на него от восьми до шестнадцати десятин земли полагалось работать на помещика два дня в неделю, или 104 дня в году.
По сути, Арсеньев выступал за перенос в Лифляндию великорусской системы развёрстки земли и повинностей[48]. Хотя Арсеньев, согласно его критикам, упустил из виду, что тягло в великорусских губерниях было неразрывно связано с общинной формой землевладения и потому его было практически невозможно применить к установившейся в Лифляндии форме личного, наследственного владения, всё же многие из лифляндских помещиков (например, Криднер, Гапзель, граф Миних) выступили сторонниками проекта о введении тяглового надела.
Министр внутренних дел вынес проект Арсеньева на обсуждение лифляндского комитета, который не останавливал свою деятельность вплоть до окончательного введения в Лифляндии и Эстляндии крестьянского положения 1804 г. 6 сентября 1805 г. комитет, на заседании которого лично присутствовал отпросившийся в Петербург Арсеньев, не принял предложенный проект, посчитав неудобным отступление от положений, которые уже были высочайше утверждены. При этом комитет указал на то, что целью крестьянского положения было только уничтожение злоупотреблений, а не введение чего-либо совершенно нового.
В то же время комитет обратил внимание на то, что параграф 18 положения допускает определённый простор для деятельности ревизионных комиссий, которые могут рассматривать и определять способы надёжного и достаточного содержания батраков в соответствии со сложившимся порядком вещей на каждой мызе (т.е. назначение на содержание батраков денежной платы и одежды или земли).
Хотя проект был отклонён и положение батраков осталось прежним, Арсеньев не сложил рук. Со ссылкой на параграф 18 положения он разработал устав о содержании батраков и ввёл его в Рижском уезде. По этому уставу хозяевам в многоземельных местностях вменялось в обязанность выделять батракам из своего надела определённое количество пахотной земли, а в местностях, где отвод земли из хозяйских участков был невозможен, вознаграждать батраков за их труд харчами, одеждой и жалованьем.
Устав Арсеньева был поддержан и другими председателями ревизионных комиссий. В результате он постепенно распространился на всю Лифляндию, немного облегчив положение батраков.
В ходе изучения отношений между помещиками и крестьянами, которые проявлялись в составлявшихся новых вакенбухах, Арсеньев наталкивался на новые вопросы и, пытаясь решить их, выступал с новыми распоряжениями, регулирующими повинности в интересах крестьян. Многие из них, касавшиеся, например, таких видов повинностей, как винокуренная, льняной пряжи, издельная, не могли нравиться помещикам. Так что своей деятельностью Арсеньев не только снискал себе уважение в крае, но и, как и Сиверс, нажил себе кучу врагов. По настоянию прибалтийских помещиков он был отозван в Петербург.
После принятия крестьянских законов 1804 г. помещики стали задумываться о продолжении реформ, но сообразно своим интересам. Положение 1804 г., несмотря на многие его несовершенства, всё же ограждало крестьян от притеснений и чётко определяло их права и обязанности. Тем не менее крестьяне не могли выбирать себе занятия сообразно своим способностям и наклонностям, поскольку оставались прикреплёнными к месту своего рождения, к неизменным барщинным работам. Такое положение дел перестало устраивать и помещиков, ибо они были вынуждены довольствоваться работой весьма посредственной, производимой небрежно с помощью плохих орудий труда и лошадей, превратившихся в заезженных кляч. Это ставило преграды рачительной обработке земли и рациональному ведению хозяйства в соответствии с опытом Германии, с которым прибалтийские помещики уже познакомились. Появляются статьи (например, статья г. Меркеля), в которых доказывается, что труд свободных крестьян намного производительнее барщинного труда крепостных. Некоторые наиболее предприимчивые помещики даже пошли в своих имениях на рационализацию сельскохозяйственного производства в соответствии с достижениями современной науки и шире стали использовать труд наёмных рабочих, которых наделяли участком земли.
Поэтому спустя несколько лет после утверждения положения 1804 г. дворянство стало хлопотать о его преобразовании на новых началах. Весной 1811 г. эстляндское дворянство первым заявило правительству о своём согласии освободить крестьян от крепостной зависимости при условии сохранения за собой владения землёй на полном праве собственности. При этом единственной основой отношений землевладельцев и лично свободных крестьян должно было стать обоюдное соглашение между ними. Это-то предложение и было принято за основу при составлении новых крестьянских законов. В окончательном варианте Александр I утвердил их для Эстлявдии 23 мая 1816 г., а для Лифляндии — 26 марта 1819 г.
Крестьянин получал личную свободу и фамилию (до этого времени крестьян называли по месту жительства или по имени отца). В то же время освобождение от крепостной зависимости произошло без земли, и это обесценило дарованную свободу, делало её в отсутствие экономического фундамента условной.
Вся крестьянская земля объявлялась полной собственностью помещика. Крестьяне утрачивали всякое право на неё. Вакенбухи, несмотря на сохранение барщины, заменялись «свободным» соглашением между помещиком и крестьянином. Такое соглашение не регулировалось никакими установленными законом правилами. И это-то ставило крестьян в гораздо большую зависимость от землевладельцев, чем в прежние времена. Они превращались в арендаторов земли по цене и на условиях, которые диктовал помещик.
Кроме того, крестьяне, становясь лично свободными, теряли право на поддержку и пособия со стороны помещиков. Те теперь относились к своим бывшим крестьянам как лицам совершенно посторонним, но в то же время сохраняли огромное влияние на весь ход крестьянских дел.
Согласно новым законам, крестьянин мог заниматься только земледелием и был ограничен в выборе места жительства. Получение паспорта зависело от решения помещика.
В имениях было создано крестьянское самоуправление — волостная община. В Эстляндии во главе общины стоял выбранный из числа дворохозяев старшина, в Лифляндии — двое старшин. Их назначение, деятельность и решения находились под контролем помещиков, которые по-прежнему господствовали во всех судебных инстанциях. В их руках осталась полицейская власть и весьма широкие средства принуждения крестьян, включая право домашней расправы.
В то же время взимание государственных податей, выполнение общественных повинностей, рекрутский набор, содержание нетрудоспособных и т.д. теперь перешли от помещика к волостному правлению.
Законы претворялись в жизнь постепенно. Освобождение, распространявшееся на крестьян от одной группы к другой, растянулось до 1826 г. Право передвижения в пределах губернии (с разрешения помещика и волостного суда) эстляндские крестьяне получили в 1831 г., а лифляндские — в 1832 г. Выселение из пределов губерний было запрещено вовсе, за исключением отдельных случаев, по которым разрешение выдавалось ландратской коллегией. Это запрещение было связано с тем, что во внутренних губерниях ещё существовало крепостное право. Поэтому ввиду неодинаковости гражданских отношений, определяющих положение крестьян по всей России, правительство запретило вольные переходы прибалтийских крестьян за пределы края впредь до особого высочайшего повеления.
Следствием новых крестьянских законов было обеднение крестьян и недовольство своим положением, которое воспринималось как не соответствующее статусу вольного человека.
И на этот раз теперь уже при принятии арендных договоров крестьяне оказывали сопротивление, ведь в этих договорах предусматривалось выполнение прежних крепостнических повинностей. Снова были вызваны воинские части как средство убеждения «строптивых». Многих крестьян как «подстрекателей» и «злоумышленников» (среди них были и бывшие отставные солдаты) публично наказывали, выселяли из дворов и отдавали под суд с последующей отправкой части арестованных на каторгу. Таким образом с помощью понуждения формально свободных крестьян к принятию арендных договоров имения обеспечивались дешёвой рабочей силой.
Следует сказать, что в России дворянская оппозиция Александру I, известная впоследствии как «декабристы», крайне критически воспринимала господство немецкого элемента в Прибалтийском крае и была целиком на стороне эстонцев и латышей, беспощадно угнетаемых прибалтийскими помещиками.
Вильгельм Кюхельбекер, проведший детство в Авинурме и Виру, опубликовал в 1824 г. историческую повесть «Адо», в которой описал совместную борьбу эстонцев и русских против крестоносцев в первой половине XIII в.
Писатель-декабрист А. Бестужев (Марлинский) оставил свои впечатления от путешествия в Ревель в вышедшей в свет в 1821 г. публикации «Поездка в Ревель». Остзейский порядок он охарактеризовал так: «Вечные празднества царили в городах и замках, вечные слёзы — в деревне».
Другой писатель-декабрист Н. Бестужев характеризует немецких рыцарей как захватчиков, разоблачает лживость теорий культуртрегерства. В повести «Гуго фон Брахт» (1823 г.) он показал непримиримую борьбу эстонцев против рыцарей.
Примечательно, что П. Пестель в своём проекте конституции «Русская Правда» требовал не только окончательного искоренения крепостничества в России, включая прибалтийские губернии, но и настаивал на ликвидации в Прибалтике власти пришлого немецкого дворянства.
Через двадцать с лишним лет Ю. Самарин в своих «Письмах из Риги» (датированы маем и июнем 1848 г.) потребует от правительства коренной реформы в Прибалтийском крае, поскольку по его глубокому убеждению, вынесенному из изучения балтийского вопроса, современное устройство Прибалтийского края противоречит началам государственности, достоинству и выгодам России и правильно понятым интересам самого края. Не будь поддержки русской власти, считал Ю. Самарин, этот порядок с его привкусом сословности и плутовства высших классов в ущерб низшим рухнул бы немедленно от собственной ветхости и обременительной многосложности.
Достижение законного порядка, основанного на справедливости и вытекающего из условий российского исторического развития, Самарин видел на путях реформ. Для него коренная реформа в Прибалтийском крае, которая, по сути, предполагала восстановление екатерининской политики обрусения окраин и снятие формальных ограничений верховной власти, была неразлучна с освобождением крестьян. Из своего балтийского опыта он, так же как и Арсеньев, вынес убеждение, что прочная земельная реформа может быть осуществлена только при условии восстановления исторического права крестьян на землю и наделения освобождённых крестьян землёй. Эту задачу он рассматривает как главный вопрос не только прибалтийской, но и в целом русской жизни.
С этих позиций Самарин дал оценку крестьянских законов 1804 г. и 1816–1819 гг. в Лифляндии и Эстляндии в специально подготовленной для одного из остзейских комитетов записке по истории уничтожения крепостного состояния в Лифляндии.
Самарин исходит из того, что освобождение сельского сословия не может быть делом свободного соглашения между дворянством и народом. Верховная власть должна заступиться за народ и вынудить у помещиков признание его прав. Вначале при разрешении этого вопроса в Лифляндии правительство, считает Самарин, шло правильным путём. Разрабатывая и принимая крестьянское положение 1804 г., верховная власть понимала, что для крестьянина ценна не отвлечённая свобода, а его право на землю, которую он обрабатывал при крепостном праве, и это право за ним законодательно признавало. В крестьянских же законах 1816–1819 гг. верховная власть изменила своей заступнической миссии, и эстляндское и лифляндское «расчётливое дворянство» сумело вместе с провозглашением полной свободы крестьян добиться от высшей власти признания за ним прав на крестьянскую землю. В результате был нарушен принцип о нераздельности крестьянина с землёй, которому предшествующее законодательство (по крайней мере, в отношении крестьян-дворохозяев) всегда следовало и которое лежало в основании всего сельского быта. Теперь свободный договор между дворянином-землевладельцем и освобождённым крестьянином в сущности лишь освещает подневольное положение последнего. Далее Самарин делает вывод: правительство должно вернуться к основам своей прежней законодательной работы в интересах крестьянства, т.е. признать право крестьянина на землю и восстановить его связь с землёй{134}.
Эти рекомендации Ю. Самарина не были востребованы многие десятилетия, поскольку «расчётливое» прибалтийско-немецкое дворянство при попустительстве верховной власти оказалось в долгосрочной перспективе всё-таки чрезвычайно нерасчётливым: отказав крестьянину в праве на землю, оно дало зелёный свет революционной России и её революционным окраинам, т.е. развитию тех процессов, против которых восставал Самарин и которые являлись предметом его спора с Герценом.
V.5. Социально-экономические и культурные процессы в пореформенных Эстляндии и Лифляндии (первая половина XIX в.)
Безземельное освобождение крестьян не уничтожило сразу барщинную систему хозяйства. В силу инерции помещики ещё какое-то время вели хозяйство по старинке, то есть использовали принудительный труд крестьян, которые обрабатывали помещичьи поля своим тяглом (измученным рабочим скотом) и своим инвентарём (убогими орудиями труда). В этих условиях снижалась урожайность и, как следствие, росла задолженность имений с последующей сменой собственника.
В то же время безземельное освобождение крестьян явилось фактором первоначального накопления капитала и формирования нового типа землевладельца: помещика-предпринимателя. Предприимчивые помещики переводили свои имения на капиталистические методы хозяйствования. Это предполагало отказ от отработок, переход к наёмному труду, приобретение более совершенных орудий труда, использование достижений сельскохозяйственной науки.
Переход к наёмному труду означал отделение непосредственного производителя от средств производства, которые сосредотачивались в руках помещиков и зажиточных крестьян-дворохозяев и превращались в капитал.
На этом фоне происходит быстрое расслоение крестьянства. Из их массы выделяется слой крупных арендаторов, мельников, скупщиков, трактирщиков. С отменой в 1810 г. запрета на сельскую торговлю и с оживлением вследствие этого внутренней торговли укрепляются позиции крестьян-дворохозяев. В страдную пору они всё активнее используют труд бобылей, вознаграждая их небольшим клочком земли на своих окраинных владениях. Из числа дворохозяев выбирались волостные старшины и волостные судьи. Им предоставлялось право домашней расправы над батраками. Наступают перемены и в быте крестьян-дворохозяев. В холодных каморках риг, служивших для них жилищем в течение столетий, появляются печи с трубами, а кое-где вместо отверстий для света, закрываемых задвижками, — застеклённые окна.
На другом полюсе растёт армия батраков и бобылей. Эта армия, составившая к середине XIX в., например, в Эстляндии 64% сельского населения этой губернии{135}, постоянно пополняется разоряющимися арендаторами.
В этих условиях в пореформенный период в Эстляндии и Лифляндии формируется взрывоопасная атмосфера. Она отмечена не только непрекращающейся борьбой между помещиками и крестьянами (в ней воедино слиты социальный и национальный протесты крестьян), но и зарождающимися противоречиями между формирующейся деревенской буржуазией и обездоленным крестьянством. В народном творчестве того времени говорится о беспощадном угнетении батрака и сироты не только помещиком, но и зажиточным крестьянином, а также разными помещичьими прихвостнями — кубьясами и другими надсмотрщиками.
С увеличением в 1820-е гг. ёмкости русского внутреннего рынка и усилением связей между коренными и прибалтийскими губерниями Российской империи значительный импульс к развитию получает промышленность. Основателями крупных предприятий в Прибалтийском крае явились петербургские, московские и рижские купцы. Они вкладывали средства в развитие и современное техническое оснащение стекольной, зеркальной, писчебумажной, текстильной промышленности, а также производства земледельческих орудий (плуги, бороны и т.д.). С проникновением капиталистических отношений в рыбный промысел Эстляндии, в котором значительную роль играли русские рыбацкие артели, стала развиваться рыбная промышленность. В 1831 г. русские купцы основали в Ревеле первый консервный завод.
К концу 1840-х гг. подавляющая часть всей промышленной продукции производилась на предприятиях, оснащенных паровыми машинами. Здесь работали только вольнонаёмные рабочие, контингент которых формировался за счёт безземельных крестьян и русских рабочих. Широко применялся женский и детский труд. Рабочий день длился 14–15 часов. На крупных предприятиях, с тем чтобы техника не простаивала, практиковались и ночные смены.
С развитием промышленности быстро увеличивается городское население. Города превращаются в экономические и культурные центры. Возникают новые рабочие посёлки, слободы, посады.
Хотя города растут за счёт притока эстонцев, власть здесь по-прежнему остаётся в руках тонкой прослойки немецких бюргеров, которые, пользуясь своими привилегиями, всячески стремятся оградить себя от конкуренции сельских торговцев и русских купцов. И всё же из среды эстонских ремесленников и даже крестьян выдвигаются отдельные предприниматели и владельцы недвижимого имущества. Например, хозяин магазина фортепьяно в Ревеле X. Фальк, владелец бумажной мельницы в Клоога К. Верревсон. Основным источником формирования эстонской национальной буржуазии становится торговля, содержание питейных заведений, сдача в аренду домов на окраинах городов и извозный промысел. О трудностях противостояния немецкому элементу свидетельствует тот факт, что большинство предпринимателей эстонского происхождения позднее онемечилось.
Вместе с тем развитие просвещения и науки на прибалтийской окраине в первой половине XIX в. создавало условия для укрепления зачатков эстонской национальной самобытности как противовеса немецкой социально-экономической и культурной гегемонии в крае.
Хотя народные школы находились под влиянием помещиков и пасторов, само по себе распространение грамотности среди населения позволяло делать первые робкие шаги в направлении формирования национальной элиты. Ведь при покорении Прибалтики крестоносцы истребили элиты коренных этносов (это старый германский приём «обезглавливания» народа, применённый с успехом к саксам, чехам и западным славянам) и столетиями препятствовали её формированию среди «побеждённого» населения.
Путь эстонца от народной школы до гимназии и университета был, разумеется, не для всех. Его проходили лишь единицы. Они-то и образовывали тонкий слой неформальной национальной элиты, которая наряду с неравнодушными немцами и русскими (чиновники, писатели, учёные) вставала на защиту своего народа от несправедливостей остзейского порядка.
Долгое время база учащихся для последующей подготовки образованных эстонцев и латышей была очень узкой. В 1834 г. в Эстляндии и Лифляндии учащиеся составляли 0,8–0,9% общей численности населения. К 1856 г. в Лифляндской губернии произошёл заметный рост до 4,62%, в Эстляндской же губернии — падение до 0, 56%.
Занятия в школе обычно продолжались с 10 ноября по 10 марта и проводились от двух до шести дней в неделю. Основным предметом как в волостных, так и в приходских школах был Закон Божий. В волостных школах до середины столетия обучали только чтению, позже — также письму и арифметике. Большинство детей проходило обучение на дому.
Важную роль в подготовке учительских кадров для народных школ сыграли открывшиеся в первой половине XIX в. специализированные учебные заведения: училища в Ярвамаа. Ядивере и Ляэнемаа, семинарии в Дерпте и Ванге.
В 1802 г. начал свою деятельность Дерптский университет (ныне Тартуский) с преподаванием на официальном языке Прибалтийского края, т.е. немецком — языке меньшинства. Благодаря подчинению министерству народного образования университет был обеспечен материальными средствами для постройки учебных корпусов и создания научно-исследовательской базы.
С момента открытия университета его профессорско-преподавательский состав стал принимать самое активное участие в обсуждении острейших вопросов развития Прибалтийского края, в частности крестьянского. Разброс мнений, обнаружившийся в дискуссии по этому вопросу, позволяет говорить о том, что профессорский корпус был представлен как либеральными противниками особого остзейского порядка (например, в области аграрных отношений), так его консервативными сторонниками. Так, в 1806 г. профессор А. Кайсаров опубликовал диссертацию, в которой подверг критике крестьянскую политику прибалтийских помещиков и пришёл к выводу о необходимости отмены крепостного права. В 1809 г. граф Б. Стройновский рекомендовал освободить крестьян от крепостной зависимости, но без земли. В поддержку такой позиции, отражавшей интересы прибалтийско-немецких землевладельцев, высказались профессора Л.Г. Якоб, г.Г. Меркель и Шредер{136}.
Через несколько десятилетий Дерптский университет превратится в один из крупнейших научных и образовательных центров Российской империи, кузницу кадров для всей страны. Наиболее значительными успехами его деятельность будет отмечена в области естественных наук и медицины. Престиж университета поднимут такие учёные с мировым именем, как астроном В.Я. Струве, хирург Н.И. Пирогов, физик Б.С. Якоби и др.
Университет готовил также педагогические кадры для уездных школ и гимназий. Помимо представителей местного населения, главным образом прибалтийских немцев, здесь получали высшее образование также жители из других российских губерний. Если в 1806 г. контингент учащихся из коренных российских губерний составлял 15,9% от общего числа студентов, то в середине XIX в. — примерно 1/3.
Из числа эстонских крестьян здесь получили высшее образование поэт К.Я. Петерсон, а также писатели-просветители Ф.Р. Фельман и Ф.Р. Крейцвальд (оба окончили медицинский факультет).
В 1838 г. по инициативе Фельмана при Дерптском университете было основано Учёное эстонское общество. Оно содействовало изучению эстонского языка, собиранию фольклора и археологических материалов. Своей литературной деятельностью Фельман и Крейцвальд способствовали развитию эстонского литературного языка, обогащению его живой народной речью. Начиная с 1840-х гг. Крейцвальд издаёт календарь, получивший широкую популярность в народе благодаря своей информационной насыщенности.
И Фельман, и Крейцвальд привнесли социальное звучание в художественную литературу и публицистику. Оба критиковали особый остзейский порядок.
Фельман требовал улучшения положения крестьян. Он считал, что под личиной христианства немцы принесли эстонскому народу не культуру, а рабство и духовное невежество. За это они должны нести ответственность.
Крейцвальд использовал печатное слово для защиты интересов крестьян. Он называл сословный остзейский порядок бедствием страны и стоял на том, что только представители, избранные самими крестьянами, в состоянии отстаивать права и интересы народа в судах и учреждениях.
Статьи Фельмана и Крейцвальда, даже подвергнутые цензуре, вызывали недовольство и раздражение среди прибалтийско-немецкого дворянства. Когда вспыхивали крестьянские волнения, немцы связывали их с «подстрекательской» деятельностью этих эстонцев.
В первой четверти XIX в. видное место в развитии эстонской литературы занял Отто Мазинг — писатель и издатель «Эстонской еженедельной газеты» (в 1821–1823 и в 1825 гг.).
Следует сказать, что эта немногочисленная когорта образованных и говорящих на немецком языке эстонцев с симпатией и надеждой, так же как и эстонские крестьяне, смотрела в сторону России. Так, Крейцвальд, Мазинг, учитель Ю. Соммер (Суве Яан) положительно оценивали присоединение Прибалтики к России. Мазинг в своих газетных публикациях посвящал истории и культуре России целые разделы. А Соммер опубликовал рассказы «Русское сердце и русская душа» (1841 г.) и «Луйге Лаос» (1843 г.). Написанные под влиянием творчества А. Бестужева (Марлинского), они проникнуты симпатией к русским и ратуют за дружбу русских и эстонцев.
В первой половине XIX в. продолжился процесс имперского влияния на изменение средневековых ливонских ландшафтов. В духе господствовавшего в России классицизма возводятся важные общественные постройки в Дерпте — главный корпус Дерптского университета, анатомический театр, обсерватория, здание клиники и ботанического сада, ветеринарный институт, гимназия на улице Рюютли, гостиный двор, некоторые гостиницы. Осуществляется даже перестройка фасадов многих средневековых домов, с тем чтобы они соответствовали требованиям классицизма. Значимым образцом архитектуры классицизма в Ревеле явилось здание по улице Кохту, 8 (в советский период — министерство финансов).
Глава VI. Противостояние православного и немецко-лютеранского миров в Прибалтийском крае: русский Государь между коренным населением и его господином — немецким бароном
VI. 1. Стихийное движение крестьян за переход в «царскую веру» (1841 г.). Подвижническая деятельность епископа Рижского Иринарха
При присоединении Эстляндии и Лифляндии к России Пётр I признал лютеранское (евангелическое) вероисповедание немецких дворян, бюргеров, а также местного эстонского и латышского населения (крестьянин был обязан исповедовать веру того помещика, на земле которого он жил) в качестве одной из законных скреп особого остзейского порядка. Поэтому Православная Церковь практически не вела миссионерской деятельности в Прибалтийском крае. Эта уступка немцам явилась важным геополитическим и цивилизационным просчётом. История свидетельствует, что все цивилизации использовали религию на первых порах в целях упорядочения собственного пространства. Это делало его геополитическим, т.е. организованным особым образом{137}. Пётр же позволил немцам организовать завоёванный русским солдатом балтийский берег таким образом, что он стал тяготеть к западной цивилизации, искони враждебной по отношению к цивилизации русской[49].
Православные церкви в Лифляндии и Эстляндии всё же строились (можно назвать церковь во имя св. вмц. Екатерины в Пернове, собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Дерпте, церковь во имя свт. Николая в Ревеле и др.), но они предназначались для окормления русских, православных по рождению. Это были офицеры и солдаты русских гарнизонов, русские чиновники с семьями, а также русские купцы и ремесленники, которым с 1711 г. было разрешено селиться в Прибалтике.
Другой заботой Православной Церкви была деятельность старообрядческих общин, или беспоповцев. Старообрядцы с отвращением отступили от закона и обрядов православия, женились по добровольному согласию, без венчания священника, наравне с мужчинами признавали женщин в качестве священников. Наибольшее распространение старообрядчество получило в Риге и окрестных уездах, а также на западном берегу Чудского озера, где проживало русское население. Основной причиной распространения раскола считается то обстоятельство, что русские рыбаки, ремесленники, торговые люди жили в местах, удалённых от православных церквей, куда православным пастырям было трудно добраться. При императоре Николае I с открытием в 1836 г. викариатства Псковской епархии в Риге (первым викарием был епископ Старицкий Иринарх) стали предприниматься меры для обращения раскольников в православие или единоверие. Несмотря на отдельные успехи по выведению раскольников из заблуждений, старообрядческие общины в Эстляндии и Лифляндии сохранятся. Примечательно, что старообрядцы устоят и перед лютеранским влиянием и со временем станут опорой русской власти в Прибалтике.
Что касается эстонского населения, то случаи принятия местными эстонцами православия долгое время были сравнительно немногочисленны из-за ожесточённого сопротивления лютеранских пасторов и помещиков, которые настаивали на гегемонии лютеранской Церкви в крае как особой привилегии носителей остзейского порядка. В то же время известны случаи, когда православные, прибывшие в прибалтийские губернии на заработки (плотники и другие работники) в условиях отсутствия в данной местности православного священника обращались за исполнением треб (в частности, крещения) к лютеранским пасторам. Те не отказывали просителям, тем более что крещение детей чужих вероисповеданий по просьбе родителей дозволялось догматами лютеранской веры. После того как в 1748 г. Главная лифляндская лютеранская консистория обратилась к Святейшему Синоду с запросом, как поступать в подобных случаях, в своём ответе Синод запретил лютеранским священникам крестить детей православных родителей. Одновременно было сделано распоряжение, чтобы русские работники, прибывающие на заработки в Прибалтику, селились в местах, где имелись православные приходы или вблизи них. Православным же священникам было указано, чтобы детей, крещённых лютеранскими пасторами, помазать святым миром и впредь лютеранских пасторов до крещения рождающихся детей православной веры не допускать{138}.
Этот эпизод высветил активную, наступательную позицию лютеранской Церкви в крае. Примечательно, что в Синод обратились не возмущённые православные батюшки, а сами лютеранские священники, и притом только после случаев состоявшегося крещения, по-видимому, в надежде узаконить эти прецеденты. Нельзя исключать, что и просьбы родителей могли быть организованы в ходе пасторских бесед и наставлений. Во всяком случае, жёсткий тон Святейшего Синода свидетельствует об осознании опасности, исходящей от миссионерской деятельности лютеран для русских православных интересов в Прибалтике.
Если поведение лютеранских пасторов в вышеописанном случае было формально корректным (они ведь обратились за разъяснениями в Синод), то ситуация резко изменилась, когда в условиях деятельности рижского викариатства эстонцы и латыши стихийно потянулись к Русской Православной Церкви и посягнули тем самым на религиозное и цивилизационное господство немецкой корпоративной касты в прибалтийских губерниях. Россия получала шанс втянуть в своё цивилизационное пространство отвоёванную у шведов, но организованную немцами под себя Прибалтику. Однако этот шанс был осознан с большим опозданием и не был использован в полной мере, в том числе и по причине жёсткого отстаивания немецким элементом своих привилегий, включая использование установившихся связей с высокопоставленными соплеменниками в Петербурге и очернение в глазах правительства деятельности православных священников в крае. Безусловно, сказалось и незнание православными священниками языка местного населения.
В то время в условиях неизжитой отработочной системы и связанных с ней недородов неизбежным спутником жизни эстонских и латышских крестьян были нищета, голод и эпидемии. В 1838, в 1839 и 1840 гг. Лифляндскую губернию постигло подряд три больших неурожая. Их следствием стало страшное бедствие — голод, охвативший всю губернию. Из-за крайней нужды крестьяне начали обращаться за помощью к землевладельцам. Но эти обращения оказались напрасными. Во-первых, у самих помещиков не было достаточных запасов (неурожаи в течение нескольких лет расстроили многие хозяйства). Во-вторых, крестьянское положение 1819г. освобождало помещиков от всяких забот и ответственности по обеспечению продовольствием лично освобождённых от крепостной зависимости крестьян. Тогда крестьяне стали обращаться к местному начальству. Поскольку своевременных мер по предотвращению голода генерал-губернатором Паленом предпринято не было, то и общественные магазины оказались без хлебных запасов. Между тем крестьяне умирали с голоду, распространялись повальные болезни. Местные власти рассылали медикаменты, но лекарства не помогали от голода. Один доктор рассказывал, что родители одного юноши, возвращённого им к жизни, вместо благодарности осыпали его горькими упрёками, говоря, что их сыну было бы лучше умереть сразу, чем остаться в живых и опять медленно умирать от голода{139}.
Крестьяне, застигнутые таким несчастьем и брошенные на произвол судьбы баронами и местными лютеранско-немецкими властями, стали искать выход из создавшегося положения. Чтобы спастись от ужасов голодной смерти, они решили, что надо переселиться туда, где нет голода, где можно получить личный участок земли. А где можно было получить землю? Конечно, не у скаредного немецкого барона. А скорее всего, у русского царя, на обширных, малозаселённых и неосвоенных пространствах России, где и живётся не так, как в Лифляндии, а как-то иначе, потому что в «русской земле добро живо». Мечта о земле, неразлучная со стремлением бежать от притеснений немецких баронов, очень быстро трансформировалась в слух о якобы изданном указе, дозволяющем бесплатную раздачу земли переселенцам на юге России — в «тёплых краях». Чего хочется, тому и верится. К весне 1841 г., ввиду плохих видов на урожай, слух усиливается, тем более что он получает подкрепление фактом переселения, по распоряжению правительства, 2530 курляндских евреев в Херсонскую губернию. Это оказывает мобилизующее влияние на крестьян, пожелавших стать переселенцами. С мая 1841 г. начинается хождение крестьян в Ригу за справками и одновременно с целью объявить о своём желании переселиться. Несмотря на разъяснение чиновников губернского правления в отношении необоснованности дошедших до крестьян сведений, местным властям они не верят. Не верят и пасторам, озвучивавшим заявления чиновников в кирках. После бурных крестьянских сходов, решивших, что местные власти и пасторы говорят неправду, заботясь о выгоде своей и помещиков, хождение в Ригу приобретает характер массового паломничества. Несколько тысяч истомлённого, обессиленного голодом народа являются в Ригу, частично с просьбами о подаянии, а большей частью с прошениями о выселении из Лифляндии. Они переполняют постоялые дворы, располагаются на улицах, площадях. Жалуются, что помещики их не кормят, и обращаются с просьбами о переселении ко всем, кто, по их мнению, облечён властью. Беспаспортных отправляют на место жительства, к сопротивляющимся применяют силу. Но на место высылаемых являются новые толпы.
9 июня 1841 г. несколько латышских крестьян из имения помещика Виттенгофа, кочуя по улицам Риги, случайно забрели за подаянием на архиерейское подворье к епископу Рижскому Иринарху (в миру Яков Дмитриевич Попов). Его преосвященство, твёрдо помня свою архиерейскую присягу — заступать немощны, принял крестьян, выслушал горький и несвязный рассказ об их бедственном положении, раздал каждому по нескольку копеек, по куску хлеба и подарил каждому для утешения православный катехизис. Как выразился преосвященный Вениамин, епископ Рижский и Митавский, это было зерно, брошенное в жадную землю{140}.
Своей приветливостью, состраданием, оказанной помощью Иринарх вызвал в душах крестьян не только симпатию, но и заронил надежду, что, будучи единственным подлинным представителем царя в Прибалтике, он способен выступить ходатаем крестьян в переселенческом вопросе. Следует сказать, что Иринарх ни в коей мере не поощрял такие иллюзии, повторяя, что удовлетворение просьбы о переселении не входит в его компетенцию, советовал идти домой, приняться за работу и слушаться помещиков (всё это засвидетельствовал гражданский губернатор барон Фелькерзам). Эти иллюзии в отношении преосвященного Иринарха возникли так же стихийно, как и слух о выделении земли правительством. Между тем благоприятная весть о русском епископе, который не отказывал в посильной помощи и милостыне, быстро распространялась, и он сделался популярной фигурой среди крестьян. Теперь крестьяне со своими прошениями шли не в губернское правление, а к Иринарху. Они просили ходатайства о дозволении выселиться из Лифляндии (это был главный пункт), а затем заявляли о своём желании присоединиться к православию. При этом они лелеяли надежду, что, записавшись у епископа в «царскую веру» (православие), можно будет получить и землю во внутренних российских губерниях. Тот, в свою очередь, считая себя не в праве отказывать гонимым просителям и полагая, что правительство должно иметь своевременные сведения о движении крестьян, принимал эти прошения, но только с той целью, чтобы препроводить их к обер-прокурору Святейшего Синода графу Н.А. Протасову. При этом он руководствовался законом, разрешавшим официальным лицам принимать прошения, не входящие в круг их компетенций, с тем чтобы передавать их вверх по инстанциям{141}.
Хотя основное содержание прошений на имя Иринарха по-прежнему составляли жалобы на помещиков и просьбы о переселении, однако включение в них пожелания присоединиться к Православной Церкви свидетельствовали о том, что переселенческое движение стало принимать религиозную окраску. По этому поводу епископ Иринарх 6 августа 1841 г. писал Псковскому архиепископу следующее: «Если правительство захочет воспользоваться настоящим происшествием, то легко может умножить здесь число православных, облегчить участь крестьян даже без переселения в другие губернии и положить прочное основание быстрому преобразованию здешнего края в религиозном отношении»{142}. На продолжавшиеся паломничества крестьян в Ригу местные власти ответили применением строгих мер: заключение в тюрьму, наказание палками, бритьё головы как арестантам. Одновременно по распоряжению генерал-губернатора М.И. Палена, немецкого дворянина и помещика, чиновники и полиция начинают допрашивать всех являющихся в Ригу крестьян. Хотя с самого начала паломничества было совершенно очевидно, что тяга к переселению в Россию возникла в условиях беспросветной нужды и нескончаемых лишений тяглового населения Прибалтийского края, генерал-губернатор Пален в своих донесениях в Петербург связал «крестьянские волнения» (поскольку помещики не кормили крестьян, то они, обессиленные голодом, упорно отказывались ходить на барщину) в первую очередь с деструктивной деятельностью православного духовенства в крае, которое якобы подсылало к крестьянам «скрытых советодателей» из своих рядов. Это был удар лютеранина по православию, нанесённый расчётливо и изощрённо. Затем Пален начинает преследовать епископа Иринарха и православных священников, обвиняя их в подрывной пропаганде. По этому поводу Ю. Ф. Самарин (Окраины. III, 83) писал: «Точно — это была своего рода пропаганда, и небезопасная; но виновата ли была Православная Церковь и Россия, виноват ли был преосвященный Иринарх или любой русский человек, которого судьба в то время заносила в Лифляндию, будь он солдат, торгаш или извозчик, виноваты ли они были в том, что, благодаря порядку вещей, существовавшему в этом крае, всякая встреча с русским, всякий взгляд, брошенный на латыша, наводили народ на сравнения для многих невыгодные и возбуждали в нём фантастические, положим, даже опасные надежды»{143}.
Между тем генерал-губернатор барон Пален энергично добивался на допросах у задержанных ходоков к Иринарху показаний о том, что православные священники обещали помочь с переселением в обмен на принятие крестьянами православия и даже сами участвовали в составлении прошений. Документально подтвердить такие домыслы не удавалось, пока в губернское правление добровольно не явился бывший причетник Спасский, который дал компрометирующие показания против православных священников, клеветнический характер которых впоследствии был установлен.
Генерал-губернатор Пален, получив показания Спасского, поспешил сообщить о своей версии событий в Петербург шефу жандармов Бенкендорфу, покровительством которого пользовался, и министру внутренних дел Строганову.
Между тем поток ходоков (в основном из Веросского, Феллинского и Дерптского уездов) к епископу Иринарху не оскудевал. И здесь в полную силу проявилась воля лютеранско-немецкого элемента к тому, чтобы устоять на балтийском берегу и отстоять свои интересы. В целях недопущения контактов местного населения с православными священниками на дорогах были расставлены полицейские посты. Задержанных под конвоем отправляли домой, где их пороли перед всем приходом. Таким способом защищалась теперь лютеранская религия в крае, а с ней заодно и цивилизационная ориентация этого региона.
Более того, генерал-губернатору Палену удалось поставить на службу интересам узкой прибалтийско-немецкой корпорации высшие круги официального Петербурга, убедив их, что православные священники своим добрым отношением и задушевными беседами заманивали в свои сети эстонских и латышских крестьян, усиливали их и без того имеющее место недоверие к помещику, купцу, судье, пасторам и даже к гражданским губернаторам и тем самым провоцировали на непослушание и волнения. То есть стихийное движение крестьян за переход в православную или «царскую веру» подавалось (на территории Российской империи!) как возмущение, нарушающее спокойствие в крае.
Вначале Пален организовал обращение Бенкендорфа к епископу Иринарху, в котором шеф жандармов запрещал принимать просьбы крестьян до восстановления спокойствия в крае и требовал отсылать их к гражданскому начальству. Затем через Бенкендорфа и с использованием сфабрикованных документов о «подстрекательской» деятельности православных священников генерал-губернатор добился того, что 29 июля 1841 г. сам император Николай I запретил епископу принимать от крестьян просьбы по вопросам, не касающимся веры. Однако в августе местные власти уже не допускали к епископу Иринарху также и ходоков с коллективными прошениями крестьян о присоединении к православию. В письме от 12 августа 1841 г. обер-прокурор Святейшего Синода граф Н.А. Протасов счёл своим долгом просить епископа Рижского Иринарха не принимать прошения от крестьян, какого бы содержания они ни были, впредь до прекращения волнений и получения особого Высочайшего разрешения на счёт их желания присоединиться к православию. Свою просьбу обер-прокурор мотивировал обвинениями генерал-лейтенанта барона Палена в адрес епископа Иринарха, согласно которым православное духовенство якобы постоянным приёмом прошений и даже участием в их составлении поддерживает заблуждения крестьян о возможности их переселения, которые чреваты опасностью явного возмущения{144}.
Епископ Иринарх прекратил принятие прошений по собственной воле ещё 10 августа, т.е. до получения письма графа Протасова. Такое решение он принял на основе достоверных фактов, свидетельствовавших о том, что желающие присоединиться к православию преследуются без всякой пощады, особенно по месту своего проживания. По этому поводу преосвященный Иринарх писал в Синод следующее: «…я не видел ничего опасного в деле, столь правом и благочестивом, и никак не мог ожидать дурных последствий. Одни строгие меры, предпринимаемые гражданским начальством против изъявляющих желание присоединиться к православию, заставляли предполагать, что крестьяне выйдут из терпения, о чём я писал… Но я никак не думал, чтобы сии строгости были простёрты до такой жестокости! Доколе дело было только гражданским, губернское начальство почти не обращало на него внимания. Но как скоро приняло оно вид религиозный, дух гонения и жестокости простёрл до того, что породил мучеников…»{145} При этом, важно отметить, мученики (точнее, страдальцы, поскольку мученичество по христианским канонам предполагает смерть за веру) были и на стороне крестьян, и на стороне оболганного православного духовенства.
Поскольку тяга эстонцев и латышей к православию не убывала, барон Пален действовал сразу в двух направлениях: с одной стороны, устрашающие меры против крестьян, якобы готовых взбунтоваться (в Венден была отправлена команда казаков, в Вольмарском и Валкском округах был дислоцирован пехотный полк) и, с другой, дискредитация православного духовенства с нанесением главного удара по репутации епископа Иринарха. Правда, во время объезда Венденского, Веросского, Вольмарского и Дерптского уездов (с 13-го по 30 августа 1841 г.) барон Пален пришёл к выводу, что главной причиной «крестьянских волнений» были всё-таки неудовлетворительные хозяйственные отношения между крестьянами и помещиками, которые подталкивали к реформам. В то же время в основе стремления лифляндских крестьян к православию он по-прежнему видел тайные происки и подговоры, обнаружить которые, однако, не удавалось.
Во всяком случае барон, Пален поддержал ходатайство дворянства, обеспокоенного крестьянским движением, о разрешении правительством создать комиссию для разработки проекта по улучшению крестьянского быта. В таком желании лифляндского дворянства Николай I увидел доказательство того, что источник «волнений» заключается всё-таки не в действиях православного духовенства, а в хозяйственном положении крестьян.
Реакция Николая I на происходящее в Лифляндии была следующей. Генерал-губернатору Палену было поставлено на вид и велено обратить внимание на предмет жалоб крестьян — недостаток продовольствия. А по делу об обвинении православного духовенства в агитации было отдано распоряжение провести следствие.
Однако вместо хлеба крестьяне получили карательные экспедиции. Поводом к одной из них, известной как война в Пюхаярве, послужил отказ крестьян выполнять барщинные повинности. «Горячая битва» на мызных полях запомнилась и крестьянам и солдатам. Последние были вынуждены вернуться в Дерпт. После дознаний и выявления зачинщиков беспорядков 42 крестьянина были пропущены через строй в 500 солдат. А. Воротин в своей книге «Принципы прибалтийской жизни» рассказал о подробностях этого наказания, высветивших первобытную жестокость и бессердечие немецких помещиков, готовых на всё в своей борьбе за жизнь по остзейским канонам{146}. Так, помещик Штрик приготовил для порки толстые суковатые палки и позаботился о трёх телегах для мёртвых. Это вызвало возмущение полковника, командовавшего экзекуцией. Он приказал солдатам нарезать тонкие прутья и бить не сильно. Хотя мёртвых крестьян после прогона через строй солдат не было, но и 500 ударов, даже тихих, немалая вещь. Наказанные были в крови, на спине и боках висели куски мяса. Полковник сильно ругал пюхаярского барона Штрика, не пошёл к нему на обед и не позволил также солдатам что-либо брать у него. В 1842 г. господа судьи в сопровождении 200 солдат рыскали по многим местам и мызам Лифляндской губернии. Они приказывали сечь крестьянских уполномоченных, которые составляли списки желающих перейти в православие.
Приходиться констатировать, что за семьсот лет господства немецкого элемента в Прибалтике мало что изменилось: в XII в. немцы насаждали свою религию мечом и кровью, в XIX в. они отстаивали её тем же способом — с помощью военной силы и жестоких порок, «…если гражданское начальство нашло нужным прибегнуть к употреблению военной силы, — писал преосвященный Иринарх в Синод, — то это не для утешения возмущения, которого не было и нет, сколько известно здесь по слухам, а для истребления возродившегося в крестьянах сильного и решительного желания принять православие»{147}.
Когда же в край по повелению государя прибыли его флигель-адъютанты полковник Бутурлин и князь Урусов, местным властям удалось ввести их в заблуждение, убедив в том, что причина волнений кроется не в бедственном положении и голоде, а в деятельности православных священников, которые выступали как «тайные политические агенты» и подстрекали крестьян. В рапорте Николаю I флигель-адъютанты подтвердили желание крестьян принять православие и процитировали твёрдые ответы на вопросы о перемене веры — «Ничего другого не хотим, как быть с государем одной веры, и так будем совсем под ним». В то же время в рапорте отмечалось, что «весьма было заметно, что оные слова им были наистрожайше внушены»{148}.
На помощь барону Палену прибыл его единомышленник и покровитель Бенкендорф, в ведение которого из министерства внутренних дел были переданы все дела о движении среди лифляндских крестьян. Хотя расследование ещё не было закончено, Николай I, прислушавшись к мнению генерал-губернатора Палена, посчитал неудобным оставлять епископа Иринарха в дальнейшем управлении Рижским викариатством. По высочайшему повелению Синод отстранил его от обязанностей рижского викария и отправил в Псково-Печерский монастырь. Отсюда преосвященный Иринарх отправлял письменные ответы на запросы следствия, которое в конечном итоге отклонило все пункты обвинения, как построенные на ложных показаниях и клевете, и признало действия и поведение преосвященного безукоризненными. В октябре 1841 г. преосвященный Иринарх был назначен епископом Острогожским, викарием Воронежской епархии. После всего пережитого епископу Иринарху оставалось утешать себя тем, что «семя Православия посеяно и что рано или поздно оно прозябнет и возрастёт»{149}.
В конце 1841 г. была создана особая дворянская комиссия для обсуждения крестьянского вопроса. Во время бурных дебатов в ландтаге в защиту крестьян выступил известный своим красноречием старый ландрат Рейнгольд Самсон фон Химмельстерна. Опираясь на статистические данные, он доказал, что со времени личного освобождения положение крестьян постоянно ухудшалось. Поэтому в освобождении крестьян он увидел не акт великодушия лифляндского дворянства, а выгодную сделку. Энергичного старика Самсона поддержали некоторые молодые либерально настроенные дворяне во главе с Гамилькаром Фелькерзамом. В результате ландтаг признал неотъемлемое право крестьянского сословия на арендное пользование 2/3 всего пространства, занимаемого в Лифляндии крестьянскими участками. Помещикам же дозволялось присоединять к своим полям не более одной трети. Труд комиссии, исправленный ландтагом и пересмотренный генерал-губернатором, поступил на рассмотрение правительства и в мае 1842 г. был высочайше утверждён в виде 77 дополнительных пунктов к положению о крестьянах 1819 г., но эти пункты оглашены не были{150}. По мнению преосвященного Вениамина, епископа Рижского и Митавского, пункты эти могли бы облегчить положение крестьян, если бы были приведены в исполнение. Но дворянство, вполне уверенное, что всякая попытка крестьян к улучшению своего быта будет подавлена силою правительства, не спешило обнародовать новое законоположение, а местное начальство к тому не побуждало: 77 пунктов остались для крестьян тайной{151}.
Поскольку расследование по делу Иринарха не только выявило безукоризненное поведение православных священников, но и подтвердило искренность стремления крестьян к православию, Николай I в своей прибалтийской политике стал исходить из реальностей, позволявших предвидеть новую волну движения за присоединение к православию. Чтобы подготовить Церковь к принятию новых чад из коренного населения Прибалтики, он распорядился перевести на эстонский и латышский языки молитвослов, краткий катехизис и литургию Иоанна Златоуста. Одновременно он повелел активизировать преподавание эстонского и латышского языков в Псковской духовной семинарии, введённое ещё в 1840 г.
Разумеется, и после вынужденной отставки епископа Иринарха судьба православия в Прибалтийском крае продолжала волновать русское духовенство. В условиях, когда бароны и пасторы всеми силами старались отстоять свою религиозную монополию в крае, хотя каждая пядь земли здесь была куплена ценой русской крови, первостепенное значение придавалось выдвижению наиболее оптимальной кандидатуры на должность викария. Этот человек должен был сочетать осторожность и волю, рассудительность и смелость, чтобы, будучи связанным по рукам и ногам противодействием немецкого рыцарства и духовенства и находясь под бдительным и недоверчивым оком германофильских властных элит Петербурга, сохранить и преумножить всходы православия на лифляндской почве. Этим качествам отвечал архимандрит Филарет (в миру Димитрий Григорьевич Гумилевский), который к тому же при глубоком понимании истин веры и всех заблуждений протестантства владел немецким языком и был хорошо знаком с немецким богословием. Филарет был назначен викарием Рижским. «И лучшего выбора сделать было нельзя», — пишет И. Листовский в своей книге о преосвященном Филарете{152}.
VI.2. Распространение православия в Прибалтийском крае при епископе Филарете (1842–1848 гг.). Реакция местных лютеранско-немецких властей: «Русских нам не нужно»
20 июня 1842 г. преосвященный Филарет прибыл в Ригу на место епископа Иринарха и застал состояние епархии в крайне тяжёлом состоянии. К этому времени к православию присоединились 12 тыс. латышей и эстонцев, и положение их было самое плачевное. Эта паства епископа Филарета не только находилась во враждебном лютеранско-немецком окружении, но и была лишена утешения молиться в храме, поскольку не было ни церквей, ни священников. Рассеянные по всей Лифляндии, православные не имели никакой компактной связи и находились на положении изгоев. В тяжёлых жизненных ситуациях никто не только не хотел, но и не смел подать им руку помощи. Да и сам епископ Филарет прибыл в Ригу с ограничивающей его свободу инструкцией Николая I: действовать с согласия гражданского начальства края и быть разборчивым в деле присоединения крестьян к православию. Не случайно он сравнил православие с бедной пташкой, кроющейся в грозную бурю в углах немецкой Лифляндии. Из обращенных епископом Иринархом более половины отпало от православия.
Поистине удивительные вещи происходили в прибалтийских губерниях Российской империи! Прибывавшие сюда священники с намерением отстоять государственные интересы вопреки несправедливым притязаниям немецких баронов, возродить православие, утвердить духовное единство края с Россией сталкивались на этой части суверенной имперской территории с бесконечными испытаниями и муками, когда каждый шаг служения делу святой веры и интересам Отечества требовал самоотверженной борьбы.
Происходило это по двум основным причинам.
Во-первых, сказывалась противоречивая позиция верховной власти, которая стремилась примирить государственные интересы с особым остзейским порядком, перспективу распространения государственной религии в крае — с привилегиями прибалтийско-немецкого дворянства, подтверждавшимися со времён Петра всеми российскими императорами при своём восшествии на престол. В конфликте преосвященного Иринарха и генерал-губернатора Палена власть повела себя так, что корпоративные немецкие интересы восторжествовали над общероссийскими, и крестьянское движение 1841 г. в сторону России и православия закончилось унизительной отставкой Иринарха и победой лютеранства
Во-вторых, прибалтийское дворянство и духовенство оказало жёсткое противодействие русскому влиянию в крае. Неспешной, вялой, осторожной политике имперского центра, нередко наносившего непоправимый вред русскому делу, противостоял объективно слабый, но ощетинившийся осколок Священной Римской империи немецкой нации, для которого борьба за сохранение позиций лютеранства в крае была равнозначна борьбе за жизнь. Тревоги лютеранских священников были понятны: с переходом паствы в другую веру они теряли землю вместе с крестьянами (т.е. основу повинностей пасторам), переходивших теперь в пользу помещиков; в результате пасторы, теряя свои выгоды, оказывались перед перспективой довольствоваться жалованьем или содержанием, которое определят им помещики за обычное исправление треб для себя и своего семейства. Помещики, в свою очередь, боялись потерять ту безраздельную власть над крестьянами, которую обеспечивали лютеранские пасторы. Им было также важно сохранить обособленность Прибалтийского края от России, не допустить сюда ничего русского. В такой ситуации и для помещиков, и для пасторов все средства были хороши. И они применялись изощрённо, жестоко и оперативно. При этом все притязания немцев на безраздельное господство в крае группировались вокруг основного довода: остзейский особый порядок необходим русскому самодержавию как сила, сдерживающая крестьянские волнения в крае.
В общем, епископу Филарету выпала крайне трудная миссия, которую он сам сравнивал с хождением по пожару среди пламени. В этих условиях ему было важно не повторить судьбу Иринарха, ставшего жертвою интриг и клеветы немецкого губернского начальства, и в то же время отстоять интересы православия в крае, по мере сил удовлетворяя тягу коренного населения к «царской вере».
Преосвященный Филарет приступил к епископскому служению в Прибалтике, обладая чёткой программой действий. Она включала: создание приходов и строительство церквей; учреждение духовных училищ для подготовки пастырей, знающих язык местного населения; введение богослужений на языке новообращённых; открытие церковно-приходских школ в целях образования эстонцев и латышей в духе русского православия; облегчение перехода в православие при ограждении населения от преследований и притязаний баронов и пасторов; обеспечение материального содержания духовенства и привлечение к служению в крае людей с высшим образованием; защита православия от порицаний и оскорбления со стороны протестантов{153}.
Реализация этой программы оказалось делом чрезвычайно трудным и из-за сопротивления немецких пасторов и помещиков, и из-за противоречивых решений верховной власти и губернского начальства, и по причине дефицита православных священников с необходимым уровнем подготовки для работы с паствой в Прибалтийском крае.
Основная же трудность заключалась в том, что немцы были хозяевами в крае и обладали широким набором инструментов, чтобы блокировать распоряжения центральных властей, нейтрализовывать миссионерскую деятельность православных священников и оказывать сильнейшее давление на крестьян, пожелавших присоединиться к православию.
Важно обратить внимание и на то, что, в отличие от католичества с его крестовыми походами, а также в отличие от протестантства с его социально-экономическим и силовым принуждением паствы к покорности, православие изначально занимало оборонительные позиции в Прибалтийском крае. Будь на месте православных священников католики или протестанты, они бы наверняка сделали стихийное движение крестьян прологом к установлению своей религиозной монополии в крае. Такую возможность для православия увидел епископ Иринарх, но он не только не получил необходимой поддержки из Петербурга, но и был существенно ограничен в своём рвении приумножить стадо Православной Церкви. Одним из основных ограничителей стало распоряжение, согласно которому желающий из лютеранства присоединиться к православию делает это безусловно и только для спасения души, не связывая перемену веры с видами корысти или переменою отношений с помещиками. Эта установка явно выпадала из практики распространения католичества, а затем и лютеранства среди туземного населения Ливонии. Она вступала в противоречие не только с историческим опытом, но и с действительным положением вещей в Прибалтийском крае.
Интерес и земные причины в движении за перемену веры, конечно, присутствовали.
Во-первых, изначально своей для эстонцев и латышей была их народная вера — древнее язычество, за которую они бились с сильным упорством и остатки которой очень долго берегли. Формальными католиками их сделали немецкие пришельцы, чтобы затем так же формально перевести их в лютеранство. К автоматической смене католичества лютеранством крестьяне отнеслись равнодушно, поскольку это ничего не меняло ни в их жизни, ни в их отношении к христианскому вероучению, в котором они по-прежнему оставались малосведущими. Но и с течением времени немецкая вера для многих крестьян так и не стала близкой. В горестях и страданиях, которых выпадало немало на долю эстонцев и латышей особенно в неурожайные годы, лютеранская паства не находила утешений в навязанной ей религии. Отчасти это происходило из-за небрежения пасторов своими обязанностями, по причине их холодной отстранённости от крестьян и образования между прихожанами и пасторами института посредников, так называемых форминдеров (церковнослужителей низшего разряда, причетников), передававших крестьянам приказания духовного начальства и даже совершавших требы[50]. Главным же было то, что пасторы, по сути, являлись вторыми помещиками, зачастую более взыскательными в отношении оброка и других повинностей и совершенно неотзывчивыми на жалобы крестьян, касавшихся несправедливых вымогательств помещиков. Хозяйственное положение сельского духовенства было разработано до самых мельчайших подробностей и позволяло говорить о том, что именно эта сторона отношений пастырей к пасомым составляла главный предмет их забот. Образовалась целая система обязательных сборов и повинностей, а с нею утвердился особый взгляд пасторов на прихожан как на свою оброчную статью. Переход же в православие означал освобождение от всех приходских повинностей в отношении пасторов[51] при одновременном принятии на себя обязательств в отношении Православной Церкви. И такая перемена виделась желательной, поскольку сердечное общение православных батюшек с паствой было более располагающим и внушающим доверие. К тому же они не являлись землевладельцами-эксплуататорами и были такими же гонимыми немецко-лютеранской властью, как и их прихожане. Во всяком случае, удаление епископа Иринарха, завоевавшего своей симпатией к угнетённым безграничное доверие крестьян, было воспринято ими с горечью и сожалением.
Во-вторых, тяга простого и бедного человека к Православной Церкви выступала следствием давнишней потребности народа в вероисповедании, соединённом с большей обрядностью, с той величественностью для глаза и для слуха и тем внушаемым Православной Церковью религиозным чувством, которое не может дать простому и малообразованному человеку умозрительное и холодное лютеранское вероисповедание, основанное на одном умствовании. В пользу православия располагало и никогда не исчезавшее среди ливонских крестьян предание о том, что это более старая и строгая вера. При этом, по-видимому, имело значение и то, что праздников у православных гораздо больше, чем у лютеран.
В-третьих, присоединение к православию было естественным, поскольку оно никогда не было чуждо латышам и эстонцам. Исторические документы свидетельствуют, что первые семена православной ветви христианства были занесены в Прибалтийский край из Полоцкого княжества, задолго до прибытия немцев, так что в некоторых местах католические проповедники застали туземцев уже православными. В орденские времена православные церкви были в ливонских городах, например в Юрьеве (Дерпте) и Риге, а магистр ордена неоднократно (в 1509,1534 гг.) брал на себя обязательство перед великим князем московским блюсти церкви и жилища русские в своих городах. Латыши и эстонцы никогда не забывали, что православие некогда существовало между ними, и никогда не прерывали своих сношений с пограничными приходами. Согласно неопровержимым фактам, латыши с древнейших времён имели обыкновение присутствовать на молебнах в православных приходах (например, Якобштатском) в важную для крестьян пору года (посев, сенокос, жатва и т.д.) и обеспечивали православным священникам значительный доход. Латыши и эстонцы целыми партиями хаживали ежегодно на богомолье в Печёрский монастырь на границе Псковской губернии и Лифляндии. Кроме того, много эстонцев около Печор издревле принадлежали к Православной Церкви. В простонародье их называли полуверцами, потому что они, не зная по-русски, исповедовались и читали молитвы на эстонском языке. Около Пернова крестьяне хаживали в православную церковь за святой водой, служили там заздравные молебны, покупали свечи. Профессор Дерптского университета Розенберг как очевидец свидетельствовал, что в воскресенье и праздничные дни латыши и эстонцы в 1830-х гг. приходили в православную церковь в Дерпте, ставили перед иконами свечи, молились, совершали поминовения по усопшим, некоторые даже соблюдали посты. Бывали и присоединения. Особенно часто они происходили в начале XIX в. в окрестностях Чудского озера. На поданное в 1813 г. обращение Лифляндской духовной консистории не допускать «несовершеннолетних и незаконнорожденных, а паче непокорных Церкви молодых людей протестантского вероисповедания к принятию православной веры» Синод ответил отказом, ибо решил, что воспрещать соединение с Православной Церковью тем из иноверцев, которые руководствуются истинным расположением, а не другим, самой церковью отвергаемым видом, было бы противно евангельскому духу{154}.
В-четвёртых, религиозное движение к православию не было бы таким сильным и устойчивым, если бы лифляндские крестьяне при всех тяготах, лишениях и унижениях, выпавших на их долю, тянулись к нему только для спасения души. Силу и устойчивость этому движению, конечно, придавало соединение с социальным протестом, который выступил в крайней форме — желании переменить религию и выселиться из Лифляндии. Основой этого протеста явилось неприятие крестьянами своих отношений с немецкими землевладельцами, которые воспринимались как не соответствующие обретённому положению вольных людей и несовместимые с физическим выживанием. Лифляндские крестьяне, заявляя о своём желании присоединиться к православию, инстинктивно стремились подорвать несправедливое немецко-лютеранское господство, обрести наконец хозяина в лице русского царя, стать его непосредственным подданным, т.е. русским, и тем самым хоть как-то облегчить себе жизнь. Это был мирный протест против лютеранства, освящавшего несправедливости остзейского порядка, и желание ослабить немецкое ярмо, перейдя под суверенитет государя там, где это было возможно и позволительно. При этом латыши и эстонцы стихийно и безотчётно работали на русские интересы, создавая базу для расширения присутствия государственной религии в Прибалтийском крае.
Поскольку в Российской империи быть православным означало ещё и быть русским, отпад от лютеранства означал бегство от многовекового засилья тевтонов-победителей, обретение новой цивилизационной идентичности и приобщение к народу, не побеждённому немцами и являющемуся государствообразующим. Представления о русских и их вере лифляндское простонародье черпало из контактов с такими же простыми русскими людьми — кирпичниками, пильщиками, извозчиками, хотя и проживавшими в городах, но являвшимися по своему промыслу в лифляндскую деревню. Не скрывая имевшихся предрассудков в отношении русских, латыши и эстонцы обращались к ним с расспросами. Те, в свою очередь, не затруднялись ответами[52]. И в лице русского простолюдина, душевно преданного православию и любящего беседу «по душе» с воспоминанием угодников Божиих, вся Россия, как свидетельствовал латыш Индрик Страумит, пропагандировала за себя. В этих условиях формировалась молва: «Русский народ хороший!.. У них и вера… та самая, какая и у Царя. Значит, их вера царская и в эту веру можно перекреститься когда угодно, а из их веры в нашу нельзя… Русский народ добрый, и вера их святая, самая старая и трудная: у них посты»{155}. В этой связи весьма показательны свидетельства действительного статского советника Ивана Петровича Липранди. В своей записке министру внутренних дел Л.А. Перовскому он, в частности, пишет: «Внутреннее состояние души лифляндского поселянина хорошо выражается в некоторых частных случаях, например, присоединённые, возвращаясь домой и встречая русских, крестятся, показывают на груди крест и с восторгом говорят: “Смотри, теперь и мы русские”. В Риге проходящий латыш, которого позвали: “Эй, латыш!” — с гордостью, показывая крест, сказал: “Я не латыш, а русский!”»{156}
Если в статусе православного, а значит, и русского человека униженные и оскорблённые видели надежду на земные перемены к лучшему, разве можно их порицать за это и отказывать в присоединении к государственной религии и к государствообразующему народу? А ведь высшая власть, с оглядкой на прибалтийских немцев, порицала и требовала показания, что с переменой веры они не связывают никаких выгод от правительства.
И такие показания смиренно давались, тем более что в условиях особого остзейского порядка ни на какие земные выгоды рассчитывать не приходилось. Вместе с тем сам факт поддержки правительством движения крестьян к православию, пусть и обставленный множеством оговорок, всё же был вызовом монопольному господству немцев в Прибалтике. Кроме того, по сопротивлению немцев крестьяне чувствовали, что с их переходом в православие немцам будет хуже, и уже в одном этом видели выгоду для себя. Всё это укрепляло эстонцев и латышей в их чаяниях и стремлениях и объективно облегчало миссионерскую деятельность православного духовенства. С другой стороны, опасения правительства дать повод для несправедливых упрёков в усиленном склонении к православию латышей и эстонцев и пищу для сомнений в святости действий Православной Церкви явились причиной многих перестраховок, нарочитой корректности и осторожности центральной власти. И это позволяло немцам перехватывать инициативу и ставить пределы стихийному движению крестьян к православию, нисколько не смущаясь, в отличие от правительства, выбором средств для отстаивания своих позиций в крае. Такие расхождения в подходах к одному и тому же явлению со стороны верховной русской власти и обосновавшихся в Прибалтике немцев не только осложняли миссию православных священников, но и требовали от них, как выразился епископ Филарет, «мудрости змеиной». Эстонцам же и латышам, пожелавшим в таких обстоятельствах присоединиться к православию, нередко был уготован крест страдальцев.
Епископ Филарет по прибытии на место своего епископского служения в Прибалтийском крае сразу же попал в атмосферу дознаний, шпионажа, клеветы и угроз со стороны местных немецких властей. Однако своими донесениями в Петербург, в которых смирение сочеталось с убедительностью аргументаций и точностью описания событий, он постепенно добился доверия и Николая I, и обер-прокурора синода графа Протасова. В первые три года пребывания преосвященного Филарета в Риге случаев присоединения к православию не было. Движение началось со стороны гернгутеров[53].
В то время громкой славой в среде гернгутеров, несмотря на свою молодость, пользовался Давид Баллод. Никто не мог так утешить крестьян в их скорбях, болезнях и несчастьях, как он. В то же время это был человек твёрдый, решительный и смелый. Небольшого роста, с тёмной бородой, он говорил уверенно, зычным голосом, и крестьяне ему доверяли. В результате происков недоброжелателей и врагов он лишился своей усадьбы, служившей местом собраний гернгутеров. Перебравшись в Ригу, Баллод открыл в 1844 г. вблизи православной Покровской церкви молитвенный дом. Сюда по субботам и воскресеньям потянулись гернгутеры для молитв и поучений. Лютеранское духовенство не осталось безучастным к этим собраниям, и вскоре Баллод приобрёл оппонента в лице пастора Трея, редактора и издателя газеты «Друг латышей». Между ними завязалась полемика, не приведшая ни к какому соглашению. А за неделю до Рождества молитвенный дом Баллода был закрыт по распоряжению полиции. 24 января 1845 г. Баллод и с ним 120 гернгутеров обратились к преосвященному Филарету с просьбой присоединить их к православию. Они попросили также, чтобы для них была построена особая церковь с богослужением на латышском языке, с органом, скамьями для сидения и с разрешением общего пения молитв. Преосвященный, убедившись, что подавшие просьбу не рассчитывают ни на малейшие земные выгоды, не отказал в присоединении и отвечал, что богослужение на латышском языке не запрещается, но по правилам древней Православной Церкви орган иметь не позволяется вовсе, скамьи же могут быть допущены по сторонам для слабых и больных, как и пение молитв. После обсуждения такого ответа в течение месяца гернгутеры во главе с Баллодом заявили о готовности принять православие, не требуя ни органа, ни скамей. Присоединение состоялось, и в Покровской церкви было открыто богослужение на латышском языке.
Весть о присоединении Баллода быстро распространилась по всей Лифляндии, проникла даже в самые отдалённые и глухие медвежьи углы. В народе только и было разговоров, что о «перекрещении» Баллода и тех фактах, которые принесли из Риги ходоки, узнавшие всё из первых уст, т.е. от самого Баллода. Ходоки свидетельствовали, что «он и крест на груди носит, и крестное знамение творит не так, как мы, всею рукой, а тремя перстами, и не по-нашему, а прежде кладёт на правое плечо, потом на левое, и икона в комнате и лампадка горит». И снова в Ригу потянулись латыши и эстонцы с заявлениями о присоединении.
К этому времени новые назначения ослабили позиции прибалтийско-немецкого дворянства при дворе. Министром внутренних дел стал Лев Алексеевич Перовский, принявший близко к сердцу дело православия в Прибалтийском крае. Шефом корпуса жандармов и начальником III отделения на место скончавшегося Бенкендорфа, единомышленника и покровителя Палена, был назначен князь, генерал-адъютант Алексей Фёдорович Орлов. По докладам Орлова и Перовского в мае 1845 г. барон Пален, не оставлявший преследования православия в крае, был смещён с должности генерал-губернатора, а на его место назначен генерал от инфантерии Евгений Александрович Головин, «более человеколюбивый», согласно оценке местного священника Андрея Петровича Полякова. В мае 1845 г. генерал Головин прибыл в Ригу. Он стал свидетелем огромного движения и устроителем первых сельских православных приходов.
С назначением русского генерал-губернатора движение за присоединение к православию только усилилось. Хотя изначально тяга к православию была связана с аграрным вопросом (наряду с новой верой народу были нужны и средства к жизни), теперь же крестьяне, помня об условиях государя, просили только веры, спеша воспользоваться тем, что было дозволено. Конечно, часть народа надеялась и на некоторые земные выгоды (например, получение работы и выделение хлеба, освобождение от долгов и от обязанностей по отношению к лютеранским учреждениям и обществам и т.д.). И это было так по-человечески! Другая часть также думала об улучшении своего быта, но в силу законности и справедливости, которые, как многие надеялись, скорее восторжествуют в окормлении «царской веры», чем лютеранства. Поэтому, несмотря на голодные зиму и весну 1845 г. и по-прежнему плохие виды на урожай, народ смиренно сносил все тяготы жизни, чтобы ничто не помешало ему обрести государственную веру. Не было ни «бунтовщиков», ни «агитаторов», ни «беспорядков», о которых немцы неустанно предупреждали правительство. Движение носило исключительно мирный и чисто религиозный характер.
В инструкции генерал-губернатору Головину Николай I определил отношение центральной власти к делу православия в Прибалтийском крае. В частности, генерал-губернатор должен был наблюдать за тем, чтобы присоединение иноверцев к православию было свободным, а со стороны православного духовенства не допускались средства понуждения. Изъявившим желание присоединиться к православию государь повелевал объяснять, чтобы они поступали по своему убеждению и совести и не ожидали никаких особых земных благ. С другой стороны, в инструкции содержалось требование объяснять в первую очередь помещикам, что никакое местное начальство не вправе запрещать кому-либо принятие господствующего в империи исповедания. Кроме того, подчёркивалось, что принявших православие надлежало ограждать от всяких преследований и притеснений и строго наблюдать, чтобы никто из принявших православие не лишался тех прав и преимуществ, которыми по состоянию своему пользовался, находясь в иноверчестве, поскольку перемена вероисповедания не переменяет отношений гражданских{157}.
Следует сказать, что первая часть инструкции, касающаяся свободного, без упования на земные блага, присоединения к православию, выполнялась точно. Правда, и здесь немцы выискивали поводы для жалоб. По свидетельству генерал-губернатора Головина, даже милостыня, поданная русской рукой эстонцу или латышу, не только лютеранину, но и уже принявшему православие, бывала поводом к доносу в умысле склонить крестьян к православию подкупом{158}.
Исполнение других положений инструкции (о непризнании за местным начальством полномочий запрещать принятие кому-либо государственной религии, об ограждении православных от преследований и притеснений и т.д.) игнорировалось и блокировалось немецкими помещиками, пасторами и местной властью, представлявшей их интересы. В донесениях генерал-губернатору сообщалось о «признаках назревающего мятежа» в движении крестьян к православию. Местная власть заявляла, что складывает с себя ответственность за сохранение спокойствия в крае, и требовала прислать войска. Чтобы засвидетельствовать бунт, помещики и пасторы всячески пытались спровоцировать беспорядки: стали наказывать крестьян, лишали их арендных участков, вопреки распоряжениям центральной власти не отводили на лютеранском кладбище участков для православных и отказывали им в погребении.
Русский генерал-губернатор Головин под впечатлением такого напора стал отдавать противоречивые распоряжения, которые существенно затрудняли присоединение крестьян к православной церкви и играли на руку немцам. Так, он отдал приказ, запрещавший крестьянам являться в город без паспорта, а ведь получить паспорт у помещика было очень непросто. Он разрешал священникам совершать обряд присоединения в имениях, но лишь в сопровождении губернского чиновника, а их было всего четыре и потому они не могли сопровождать священника всякий раз, когда это требовалось. Когда же епископ Филарет добился, чтобы функции губернских чиновников по засвидетельствованию присоединения выполняли мызные судьи, те стали всячески уклоняться от этой обязанности. С противодействием столкнулось и распоряжение епископа, согласно которому желающий стать православным мог отправиться для этой цели в ближайший город, имея на руках направление от мызного управления (т.е. мызной конторы протестанта-помещика). Такое направление крестьянину выдавалось, но зачастую с указанием города, где православного священника не было. О мытарствах, которые местные немецкие власти искусственно создавали для крестьян на пути к православию, И.С. Листовский пишет следующие пронзительные строки: «Приходит туда (т.е. в город, указанный в направлении) крестьянин, ему вымажут лицо и голову дёгтем. Он идёт в другой город; но, не допуская до священника, его выпорют и засадят в тюрьму, где он три или четыре месяца просидит, прежде чем Филарету удастся упросить генерал-губернатора распорядиться о его освобождении. А семья 3–4 месяца без работника, что вызывает несостоятельность к платежу за землю, и его потом выгоняют из усадьбы. И выпустят-то его из тюрьмы не в его одежде, а арестантской, с чёрным треугольником на спине, да кому обреют лоб, кому правую или левую стороны головы. Отправляют же домой целою толпою связанными не прямым путём, а заставят исколесить всю Лифляндию, преимущественно те места, где было движение к присоединению, для вразумления, что то-де будет и вам.
Где было движение к присоединению, там, доносили, бунт и посылали войска. Иных прогоняли сквозь 1500 шпицрутенов по два раза, а депутат дворянский фон Нумере приговаривал: “Так будет наказан всякий, кто только пожелает в тёплую землю, в русскую веру, не будет слушать помещиков и пасторов, а будет слушать обманщиков, возмутителей”»{159}. Поистине, испытания, которые претерпевали крестьяне, стремившиеся к православию, делали из них страдальцев. И этот крест страдания, выпавший на их долю в XIX в., был, по-видимому, не менее тяжёл, чем тот, который несли последователи Христа в эпоху раннего христианства. И в такой ситуации епископ Филарет, не уклонявшийся, по собственному признанию, от битв из страха, ничего не мог изменить, поскольку достойной защиты верховной властью дела православия в Прибалтийском крае не было.
А между тем одно распоряжение генерал-губернатора Головина, несмотря на сопровождавшие его оговорки и ограничения, сообщило новый импульс религиозному движению в крае. С 1 сентября 1845 г. крестьянам дозволялось являться к ближайшим православным священникам, имея при себе разрешение от мызного управления. Это распоряжение не только упрощало переход в православие, но и являлось для крестьян официальным свидетельством того, что принятие православной веры официально не запрещается. В этой ситуации вновь возродились прежние надежды, снова поползли слухи о выделении земельных наделов присоединяющимся к православию.
Однако в конце 1845 г. под влиянием немецких помещиков появилось постановление Николая I о введении срока не менее 6 месяцев между изъявлением желания перейти в православие и действительным присоединением к Православной Церкви через святое миропомазание. Согласно официальному разъяснению, установление такого срока должно было дать крестьянам возможность «зрело размыслить о своём намерении». На практике же затягивание процесса перехода в православие позволяло помещикам в течение 6 месяцев применять в отношении крестьянина всевозможные меры материального, физического, психологического воздействия, чтобы не допустить его отпада от лютеранства. Не удивительно, что такое постановление императора было встречено с восторгом его немецкими подданными.
В то же время дело утверждения православия в Прибалтийском крае всё же продвигалось вперёд: высочайшим повелением были подтверждены имущественные права Православной Церкви в Прибалтийском крае и обеспечивалось участие в приходских судах заседателя от православных; строились православные храмы (общим числом 25, из них — 10 в эстонской части края), при которых предусматривалось открытие церковно-приходских школ; православные крестьяне освобождались от всяких повинностей в пользу лютеранских пасторов и церквей, им дозволялось перемещаться без паспортов в пределах территории своих приходов; для них осуществлялись церковные службы на родном языке; формально был решён вопрос об отведении мест (за вознаграждение владельцам) для православных кладбищ при новых приходах и беспрепятственном погребении православных в прочих местах на особо отведённых участках на лютеранских кладбищах. Для подготовки православных священников был разработан проект духовного училища (открыто в Риге в 1847 г., ректор протоирей Вл.Г. Назаревский), в основу деятельности которого была положена мысль преосвященного Филарета о взаимном сближении разноплемённых воспитанников (эстонцев, латышей, русских) в условиях преподавания на русском языке. Одновременно, ввиду того, что православные священники не владели местными языками, осуществлялся поиск подходящих людей для священнослужения из числа эстонцев и латышей. Первыми такими священниками стали эстонцы Иоанн (Яан) Колон (приход Харгла — Мынисте) и Киприан Сарнет (приход Халлисте-Каркси).
Всё это свидетельствовало о нараставшем вмешательстве центральной власти в остзейские дела, и потому ожесточение помещиков и пасторов только усиливалось. Теперь генерал-губернатор Головин, разумеется, вместе с православным духовенством, стал объектом жалоб и обвинений, сопровождавшихся просьбами отменить все его распоряжения и запретить на некоторое время вообще всякий приём заявлений о переходе в православие. Расследования специально учрежденной комиссии во главе с генерал-майором Н. Крузенштерном, продолжавшиеся 5 месяцев, не подтвердили выдвигавшихся обвинений. Не удалось найти ни так называемых агитаторов, ни зачинщиков беспорядков. Не были засвидетельствованы и сами беспорядки.
В своём противодействии православию духовенство, помещики, местные власти нередко доходили до неистовства. Они не только чинили препятствия в отводе участков земли для постройки православных храмов, не уставая обвинять священников в недостаточном испытании искренности намерений крестьян при переходе в православие, но и направляли в Петербург просьбы, неуместность и непристойность которых вызывала отрицательную реакцию правительства. Так, в конце 1845 г. предводитель лифляндского дворянства граф фон Лилиенфельд передал министру внутренних дел Л.А. Перовскому «род жалобы или протеста дворянства», где, «в довольно неуместных выражениях, с неосновательною ссылкою на древние права дворянства, испрашивал отмены распоряжений правительства, и в особенности распоряжений генерал-губернатора», по обращению крестьян в православие»{160}. А в январе 1846 г. магистрат Риги, минуя генерал-губернатора, направил на имя императора просьбу протестантского духовенства оградить его от предстоящей опасности, связанной якобы с присоединением крестьян к православию. В этой просьбе не только указывалось «на тайные обольщения и обман народа» (обвинения, совершенно неприемлемые для власти), но и говорилось даже об обете духовенства противодействовать угрожающей погибели и воззвать к соединению под хоругвию веры, потому что на лифляндское духовенство будто бы смотрит вся лютеранская Европа. По сути, эта просьба свидетельствовала о нежелании лютеранского духовенства подчиняться приказам правительства и готовности перейти к проповеди крестового похода. Магистрат за принятие просьбы такого неуместного содержания, подкрепление её собственным ходатайством и представление в Петербург, игнорируя порядок подачи бумаг на высочайшее имя, был предупреждён Николаем I, что при повторении подобного инцидента он будет отвечать перед судом{161}.
Такие одёргивания сверху местных властей и лютеранского духовенства, действующих вразрез с линией правительства, подтверждали правоту и законность движения по присоединению к православию. Оно стало набирать силу и шириться, по-прежнему сохраняя мирный, тихий и благоговейный характер. Начавшись в Риге среди гернгутеров в 1845 г., это движение сначала распространилось в Рижском и Вольмарском уездах, затем обнаружилось в Венденском и Валкском, потом — в Дерптском, Веросском, Феллинском, Перновском и, наконец, на острове Эзель.
Дальнейшие события показали, что жалоба-протест лифляндского дворянства, а также просьба лифляндского лютеранского духовенства, квалифицированные министром внутренних дел Л.А. Перовским как неуместные, неосновательные и непристойные, не были случайными и явились прологом к принятию контрмер и ведению необъявленной войны.
Совершенно очевидно, что массовое движение лифляндских крестьян к православию образумило протестантское духовенство. Оно поняло, что жить кирхенгерром, высокомерно относясь к своей пастве, чревато той опасностью, что лютеранство останется только в ливонских городах. Поэтому предпринимаются усилия, для того чтобы ликвидировать прежние упущения в религиозном влиянии на крестьян. Их стараются удержать в лютеранстве проповедью, поучением. Появляются отдельные книги и брошюры на местных языках с объяснением сущности и правоты евангелического учения. К числу таких сочинений принадлежит изданная в 1846 г. в Пернове брошюра «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Брошюра адресована «любезным эстам к утверждению в правой вере»{162}. Одновременно пасторы и помещики переходят к открытой агитации против государственной религии. И эта агитация ведётся по правилам информационно-психологической войны[54].
В своих проповедях пасторы приклеивали православию такие ярлыки, как «власть тьмы», «религиозная нетерпимость, не останавливающаяся ни перед каким способом, даже перед обманом». Лютеранство же преподносилось как «яркое сияние Слова Божия», «самое дорогое сокровище, унаследованное от отцов по благословению Божиему». Переход же в православие подавался как грехопадение, за которым последует Божие наказание «паршивых овец», «любителей подушных наделов», «новоиспечённых русских», «полуверников», «русских змей», «дураков».
Нападки на Православную Церковь, как правило, сопровождались руганью в адрес русских и репрессиями в отношении желающих присоединиться к православию и стать русскими. «Русских нам не нужно, наш хлеб пригодится и нашему народу» — с такими словами, выказывающими крайнюю степень раздражения, прогоняли батраков с работы за одно желание стать православными.
Поскольку переход в православие преподносился как что-то грязное и недостойное, то православные или желающие ими стать не допускались в кирку, поскольку «лютеранская церковь должна быть чистой». В условиях медленного строительства православных храмов крестьян с крестами на шее выгоняли, а тем, кто не принёс справку от мызного управления, заверенную в приходском суде, о том, что не хочет переходить в православную веру, отказывали в крещении и погребении. Школьных учителей пасторы обязывали следить за настроениями детей и составлять списки желающих перейти в православие.
Известны случаи, когда помещики заставляли православных крестьян (под угрозой штрафа в размере 1 руб. 50 коп. или порки розгами по 40 ударов) каждое воскресенье за 80 вёрст ходить к православному священнику за наставлениями. Тем самым они вынуждали крестьян, в надежде сломить их волю, тратить дорогое время и силы на дорогу, когда пастор был рядом, а батюшек ставили в затруднение, поскольку с одной мызы к нему являлось по 60–100 человек.
Чтобы возбудить крестьян на беспорядки и тем самым обеспечить хоть какую-то достоверность своим регулярным донесениям генерал-губернатору о могущих вспыхнуть волнениях, помещики не выполняли распоряжения центральных властей, благоприятные для крестьян. Например, многие помещики заставляли православных крестьян погасить долг за хлеб, взятый голодающими в 1845 г., уже в 1846 г., хотя правительство разрешило погасить его в течение 12 лет.
Нередко игнорировалось предписание генерал-губернатора не наказывать крестьян, даже если они пришли в город для принятия православия без увольнительных билетов от сельского управления. Например, в ноябре 1845 г. 20 таких крестьян, пришедших в Дерпт, не только наказали 60 ударами розог, но и взыскали с них ещё по 15 коп. серебром за использование этих розог.
Чтобы остановить движение по присоединению к православию, немцы-переводчики сознательно искажали просьбы крестьян к православному священнику, не знавшему местных языков. В их переводе крестьяне якобы мотивировали своё желание стать православными надеждой получить земельный участок. В таких случаях священник был вынужден отказывать в присоединении, вызывая недоумение и горечь у пришедших к нему крестьян. Такая практика была вскрыта и пресечена начальником районного отделения канцелярии генерал-губернатора графом Д.Н. Толстым на острове Эзель.
Для устрашения желающих переменить веру помещики своими паническими донесениями генерал-губернатору о неповиновении крестьян и о якобы готовых вспыхнуть волнениях нередко добивались присылки казаков. Однако всякий раз усмирять было некого. Хотя по распоряжению Николая I за ложные донесения местным властям объявлялся выговор, немцы не отказывались от этого средства психологического воздействия и на крестьян, и на верховную власть.
Борьба шла и на церковно-богословском направлении. Поскольку в это время в Прибалтийском крае в огромных количествах распространялась лютеранская духовная литература на латышском и эстонском языках, то по настоянию епископа Филарета была ускорена работа по переводу православных духовных книг на местные языки и по их последующему изданию. Кроме того, в помощь православным священникам, вынужденным окормлять свою новокрещённую паству во враждебном окружении, преосвященный Филарет подготовил руководство для борьбы с ожесточёнными пасторами. В 1847 г. это руководство было разослано священникам под заглавием «Сличение лютеранства с православием». Оно сразу же было переведено на немецкий язык, чтобы подготовить контраргументы лютеран для отстаивания своей веры в крае. Примечательно, что такие контраргументы далеко не всегда были чисто богословского характера. Так, по представлению попечителя Дерптского учебного округа Евстафия Крафстрема обер-прокурор граф Н.А. Протасов распорядился приостановить продажу изданных на латышском и эстонском языках молитвословов, катехизисов и текстов литургии ввиду очевидной опасности скупки всех экземпляров пасторами для уничтожения{163}. С этого времени епископ Филарет должен был через Е. Крафстрема испрашивать разрешение Н.А. Протасова на выдачу ему православной литературы на местных языках.
В свою войну с православием пасторы и помещики вовлекли и газеты лютеранской Европы. Те, чтобы очернить и скомпрометировать движение крестьян, утверждали, что их якобы склоняют к православию обещаниями, подкупают за 50 рублей. При этом предложения переменить веру будто бы делаются пьяным в кабаках.
Следует подчеркнуть, что все эти ухищрения, угрозы, притеснения и преследования со стороны пасторов и помещиков только укрепляли крестьян в надежде на улучшение положения с принятием православия, ибо они осознавали, что с успехами православия будет сопряжено нечто, неприятное для землевладельцев, а следовательно, полезное для крестьян{164}. Согласно отчёту генерал-губернатора Головина, 100 462 латышских и эстонских крестьянина стали православными, из них 38 282 латыша и 68 180 эстонцев. При этом было разрешено с присоединением к Православной Церкви отца присоединять, по просьбе родителей, и несовершеннолетних детей до шестимесячного срока. К 1 января 1848 г. на средства правительства было создано 72 православных прихода, в том числе 33 латышских и 39 эстонских. Земля для храма, жилища священника и причта отводилась преимущественно в казённых имениях, а при необходимости — из городских и помещичьих дач за вознаграждение владельцам. Хотя помещики нередко противились избранию властями места для храма, однако некоторые из них (Грот, граф Ферзен и барон Менгден) безвозмездно пожертвовали нужную для церкви землю. Десять церквей построено, Три находится в стадии строительства. В 53 приходах, где нет постоянных храмов, учреждены временные церкви. Под них по высочайшему повелению бесплатно заняты дома, построенные для воинского постоя. В казённых имениях отведено по одной десятине под православные кладбища, в отношении нарезки участков для кладбищ в помещичьих дачах сделано представление в правительство. Из-за недостатка помещений открыто только 15 православных сельских школ. Содержание православного духовенства отнесено на счёт правительства{165}. Генерал-губернатор Головин был абсолютно прав, когда, заканчивая свой отчёт, назвал переход латышей и эстонцев в православие событием радостным для Православной Церкви, важным не для одного Прибалтийского края, но и в государственном отношении. Он не погрешил против истины, назвав присоединение одной из замечательных и едва ли не беспримерных страниц в истории, ибо оно совершалось без всяких подстрекательств, при строгом соблюдении законности и без нарушения общественного спокойствия. Всё это так, если вспомнить, как эстонцы и латыши стали католиками, а потом протестантами. В то же время за скобками остались проблемы в лице привилегированного немецко-лютеранского меньшинства, с которыми столкнулась государственная религия в Прибалтийском крае и которые не исчезли сами собой. Из отчёта всё же видно, что действия имперской власти были неоперативны, неадекватны размаху движения и скорее сковывали его, чем развивали. Ввиду того, что власть не смела пересмотреть привилегии немецкого рыцарства, хотя их соблюдение противоречило государственным интересам, она сталкивалась и с нехваткой казённых земель под православные храмы и кладбища, и с дефицитом помещений под временные церкви и крестьянские православные школы. Всё это искусственно ограничивало свободу движения и вело, выражаясь шахматным языком, к потере темпа, а значит, и к утрате шансов на долговременный успех. Тем более что немецкий элемент, обогащенный опытом насаждения католичества, а затем и лютеранства в крае, прочно укоренившийся в имперской элите, вовсе не собирался уходить с завоёванных позиций.
Уже весной 1848 г. немцы могли торжествовать. На место генерал-губернатора Головина был назначен князь Александр Аркадьевич Суворов, внук прославленного полководца и, в отличие от своего деда, германофил управлял Прибалтийским краем с 1848 по 1861 г. В короткий срок он добился популярности среди немецкого господствующего меньшинства, потакая их ненависти и ожесточению против русского языка и православия и резко обозначив изменения в линии губернской администрации. В письме М.П. Погодину из Риги (апрель 1848 г.) Ю.Ф. Самарин с грустью и горечью описывал, как преемник одного из славнейших русских имён, которое в сердце каждого русского неразлучно с чувствами приверженности православию и народности, покупал популярность остзейцев бесполезными и полудикими оскорблениями всего того, что не может не быть дорого русскому сердцу[55].
Последствия поступков и речей нового генерал-губернатора не замедлили обнаружиться. Остзейское дворянство возобновило обвинения русских священников в намерении бунтовать крестьян и в приманивании их к переходу в православие обещанием мирских выгод. Эти обвинения были официально поданы князю Суворову предводителем лифляндского дворянства, ландратом и даже гражданским губернатором. Не потребовав от представителей дворянства фактических доказательств их жалоб, князь Суворов обратился к епископу с настоятельным требованием подтвердить православному духовенству, чтобы оно не вмешивалось в светские дела и не делало крестьянам никаких обещаний. Ю.Ф. Самарин расценил эту меру как оскорбление нашего духовенства, нанесённое по просьбе и ввиду протестантов, и как признание со стороны правительства обвинений, возводимых остзейским дворянством на наших священников{166}.
Тем временем при генерал-губернаторе Суворове прибалтийские немцы постепенно приходят в себя. По свидетельству профессора Дерптского университета М.А. Розберга, они теперь неустанно действуют: все перья скрипят, все страсти в движении, все уста изрыгают хулу{167}.
Преосвященный Филарет просит обер-прокурора Святейшего Синода о переводе из Риги. Эту просьбу он мотивирует своим здоровьем, которое «изорвано скорбями и страхами», и добавляет: «…самые дела показывают, что при таком положении нет, по крайней мере, у меня, немощного, возможности бороться с ними»{168}. Получив перевод в Харьков, он выехал из Риги 30 ноября 1848 г. В письме архиепископу Рязанскому Гавриилу (Городкову) он снова обращается к положению дел в Прибалтике: «Благодарение Богу за то, что меня, грешного, не вывезли точно так же, как вывезли предшественника….Всё дело в том, что не хотят, ни за что не хотят, чтобы было здесь православие. Отселе чего не делают?»{169}
В 1848 г. движение спало. Точнее сказать, действительные хозяева в Прибалтийском крае — немецкие пасторы и помещики сделали максимум возможного, чтобы оно пошло на спад. Русская же власть, оказавшаяся застигнутой врасплох этим движением, не оградила крестьян, несмотря на формальные распоряжения, от репрессий со стороны помещиков и пасторов. Такие репрессии были возможны и осуществлялись повсеместно, потому что противодействие им не было безоговорочным и решительным. Верховная власть не доверяла этому движению, потому что оно шло снизу и было крестьянским. В то же время мер, призванных перенаправить его сверху, было явно недостаточно. Сказывались и сословная солидарность помещиков, и связи местных остзейцев с соплеменниками, занимавшими высокие посты в Петербурге. В этих условиях в прибалтийских губерниях Российской империи, ориентирующихся на просвещённую Европу, эстонцы и латыши столкнулись с такой религиозной нетерпимостью, с таким остервенелым отстаиванием единства и неделимости лютеранско-немецкого геополитического пространства, что их переход в государственную религию можно сравнить с героическим хождением по кругам ада. При этом государственная власть настаивала, чтобы крестьяне, побеждённые крестоносцами, а затем ограбленные и обездоленные немецкими рыцарями и пасторами, не связывали со статусом православных и русских никаких надежд на земные блага, чтобы они просто страдали за веру ради спасения души согласно православным догматам и искали утешения у унижаемых и преследуемых немцами православных батюшек. Исторический опыт показывает, что всякое движение (религиозное, политическое или национальное) сильно своей социальной составляющей. Отпадает или ослабевает социальный фактор, хиреет и движение.
Верховная власть позволила латышам и эстонцам прийти к убеждению, что немец остаётся хозяином в крае и ничего в своём бедственном положении им не изменить. Переход же в православие лишь добавляет новые мучения к уже имеющимся. Поэтому лучше договариваться с немцем, тем более что он готов ради сохранения монополии лютеранства в крае идти хоть на какие-то культурные и экономические уступки.
В общем, в 1848 г. число перешедших в православие в эстонской части Лифляндской губернии составило 63 858 человек (или 17% всего населения эстонских уездов губернии, составлявшего 375 091 чел.), в том числе: в Веросском уезде — 7236 (при кол-ве населения 65 844), в Дерптском — 14 204 (кол-во населения — 114 746), Феллинском — 104 04 (кол-во населения — 82 675), Перновском — 18 127 (кол-во населения — 65 185), Эзельском — 13 887 (кол-во населения — 46 641){170}.
Нет данных, скольким эстонцам не удалось перейти в православие из-за организационной и кадровой неготовности Церкви справиться с массовым наплывом желающих присоединиться. Как отмечает патриарх Алексий II, «жатва была обильной, но жнецов на ниве православия мало: епископ Филарет и не более десяти священников, из которых местным языком владели только ряпинский и чернопосадский»{171}. Приходили тысячи, но Церковь могла присоединить в среднем 50 человек в день.
Нет данных, сколько эстонцев было отважено от православия мерами правительства, осложняющими присоединение (в частности, ограничения в передвижении крестьян по территории викариатства, что затрудняло доступ к православным священникам; обязательность показаний, что с переменой веры присоединяющийся не связывает никаких выгод и льгот; введение полугодового испытательного срока, который помещики и пасторы использовали для запугивания крестьян и агитации против православия и русских).
Неизвестно, насколько уменьшилось число готовых отпасть от лютеранства под воздействием таких факторов, как информационно-психологическая война, развязанная пасторами против православия и русских; утрата крестьянами всякой надежды на получение земли; применение мер физического, экономического и психологического воздействия на желающих стать православными; затянувшееся во времени создание инфраструктуры Православной Церкви в Лифляндии.
Во всяком случае, шанс обеспечить в прибалтийских губерниях культурно-цивилизационное влияние России всё же существовал, но был упущен. А ведь М.А. Розберг, профессор Дерптского университета и лютеранин по вероисповеданию, наблюдая, как толпы добродушных и мирных крестьян направляются к дому протоиерея Василия Березского в Дерпте, чтобы принять русскую веру, прогнозировал, что раньше или позже весь эстонский народ примет русскую веру{172}. Но этого не произойдёт. Немцы извлекут уроки из допущенных ошибок и попытаются сделать своё религиозное и цивилизационное господство в крае необратимым. Это в полной мере прочувствует Александр III, когда попытается наверстать то, что было упущено его дедом в чрезвычайно благоприятных обстоятельствах.
VI.3. Законодательное закрепление обособленности Прибалтийского края: торжество немецких интересов над общероссийскими
Неосторожным и непродуманным по своим последствиям решением императора Николая Павловича явилось его согласие на предоставление Прибалтийскому краю самостоятельного законодательства. Благодаря такой уступке местные узаконения прибалтийских губерний вошли в качестве особого свода в общий свод законов Российской империи. В результате старинные привилегии немецких рыцарей были признаны на имперском уровне при одновременном закреплении обособленности Прибалтийской окраины.
История этого вопроса небезынтересна и с точки зрения противоборства имперских и эгоистичных немецких интересов.
Дело в том, что 10-й пункт аккордных пунктов лифляндского дворянства предусматривал решать дела в судах по древним правам до тех пор, пока не будет принято полное земское уложение. Петр I не успел приступить к этой работе. Ввиду того, что от смешения и неопределённости местных законов возникали всякого рода неудобства, в 1728 г. в царствование императора Петра II в ответ на просьбу лифляндских дворян упорядочить местные законы была учреждена особая комиссия из «добрых и искусных в ливонских правах» людей. К 1741 г. этот, по сути дела, первый комитет по составлению свода законов разработал проект местных законов в пяти книгах под названием «нового рыцарского и земского права». Но в юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел проект встретил много сомнений. Потребовались дополнения и изменения. Дело затянулось, а потом и застопорилось. Когда же в 1754 г. было создана комиссия по подготовке общего законодательства Российской империи (последнее собрание законов, имевшее силу, относилось к 1649 г.), в неё по решению правительствующего сената был передан и лифляндский проект. Тем самым был подан сигнал, что правительство не считает возможным рассматривать местные остзейские законы обособленно от общероссийских. Поэтому лифляндский проект так и не получил никакого движения. Вопрос о местном своде законов не прояснила и знаменитая екатерининская комиссия, состоявшая из 565 депутатов от всех губерний и сословий и занимавшаяся в 1767–1777 гг. разработкой общего уложения, не доведя, впрочем, эту работу до конца.
С вступлением на престол императора Александра I, объявившего екатерининские грамоты городам основным правом всех городов, в истории местных узаконений возникла новая интрига. В Риге русские купцы и мещане стали настойчиво требовать восстановления городового положения, введённого Екатериной II и отменённого Павлом I. Немцы же настаивали на сохранении старины. Сильное противоборство этих двух партий побудило правительство учредить в 1803 г. в Риге особую комиссию по составлению городового положения г. Риги. Однако результаты её работы, законченной к 1805 г., так и не были утверждены министерством внутренних дел. В марте 1818 г. снова были образованы комитеты из сведущих людей в Риге, Митаве и Ревеле, которые повторили судьбу прежних комиссий. Безуспешной оказалась работа и учреждённой Александром комиссии по имперскому законодательству во главе с Розенкампфом.
Дело составления свода имперских законов, а также свода местных узаконений прибалтийских губерний решительно продвинул вперёд, а затем и завершил император Николай I. В 1826 г. по его повелению комиссия Розенкампфа была преобразована во 2-е отделение собственной его величества канцелярии. Директором этого отделения государь назначил своего бывшего учителя Балугьянского, а работу по кодификации всего законодательства империи поручил тайному советнику Сперанскому, впоследствии получившему графский титул. В том же 1826 г. во время коронования императора в Москве прибалтийское дворянство, следуя традиции, попросило подтвердить свои привилегии. При рассмотрении этой просьбы государственный совет счёл необходимым удостовериться в силе и широте этих привилегий. Ведь под ними, сверх преимуществ, дарованных Прибалтийскому краю верховной властью, подразумевались также возникшие в разное время и никем не утверждённые обычаи, постановления ландтагов, магистратов, губернских правлений, которые подтверждали случайные привычки и нередко противоречили существующим законам. По поручению государственного совета тогдашний прибалтийский генерал-губернатор маркиз Паулучи собрал соответствующие документы (на это потребовалось два года) общим объёмом в 23 книги на немецком, латинском и шведском языках. В 1829 г. по высочайшему повелению составление свода местных узаконений было передано во 2-е отделение собственной его величества канцелярии, куда и были сданы все документы, представленные генерал-губернатором Паулучи. В том же году тайный советник Сперанский вызвал в Петербург лифляндского ландрата Рейнгольда Самсона фон Химмельстерна для разработки свода местных узаконений для Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерний. Ландрат Самсон, в распоряжение которого были переданы все материалы, собранные в течение почти 100 лет прежними комиссиями и комитетами, был издавна известен в прибалтийских губерниях как учёный, юрист, писатель, а также как замечательный оратор, способный силой красноречия переубеждать своих оппонентов. К сожалению, под влияние его красноречия подпал и Сперанский, который пошёл на поводу немецких интересов в ущерб интересам общероссийским. Ведь в рамках подготавливавшегося имперского законодательства можно было снять все аккордные пункты, принятые Петром I, можно было успешно завершить дело Екатерины Великой по «обрусению» западных окраин империи. Сперанский долго колебался, не распространить ли действие общего свода законов на всю империю, поставив лишь в примечаниях остзейские местные уклонения. Именно так и произошло с законодательством для бывших польских провинций. Однако, доверившись красноречивым внушениям Самсона, Сперанский решился выделить Ливонию из общего имперского законодательства. Тем самым он совершил ошибку, имевшую самые негативные последствия для территориальной целостности российского государства, исправить которую, хотя такие попытки и были при Александре III, в полной мере всё же не удалось. Зато Самсон оказал большую услугу своим соплеменникам. Вот как пишет об этом ландрат Гринвальд: «Первая и, может быть, самая важная заслуга Самсона состояла в том, что он содействовал решению дать особое самостоятельное законодательство нашей немецкой земле… Распространение действия общего свода законов на прибалтийские губернии нанесло бы немецкому строю страшный удар, а введение русского управления, языка и русского права разрушило бы основы древнего германского здания. Но посредством влияния Самсона, много значившего в то время у Сперанского, этого не было»{173}. Затем работа была продолжена на уровне прибалтийских губерний, в ревизионных комиссиях, но это была чисто техническая работа в рамках заданного Самсоном и поддержанного Сперанским стратегического направления. Хотя местные узаконения и рассматривались под углом зрения, не противоречат ли они самодержавию и основным законам империи, они всё же противоречили интересам российской государственности. Балтийский берег, завоёванный русским солдатом, вместо того чтобы намертво срастись с имперской территорией, остался немецким. В 1845 г. после окончательной редакции свод местных узаконений был представлен в государственный совет, а затем на высочайшее утверждение. Так немец, осознающий свою ответственность перед узким сословным кланом соплеменников, и попустительствующий ему чиновник высокого ранга, злоупотребивший доверием государя, решили в ущерб России принципиальный стратегический вопрос. Этот вопрос был решён и в ущерб многочисленного коренного населения — латышей и эстонцев (общим числом в 1 млн. 400 тыс. человек), желавших сбросить с себя оковы особого остзейского порядка, перейти под защиту русского законодательства и обрести русскую веру.
Важно отметить, что проведённые ревизия и систематизация местных узаконений и последующее их включение в качестве особого свода в общее имперское законодательство всё же ставили определённые границы административному произволу в прибалтийских губерниях. Теперь местные власти, всегда обладавшие лишь исполнительными функциями, но посягавшие на законодательную самостоятельность, должны были остерегаться принимать, как это было нередко в прошлом, законодательные постановления, отменяющие или ограничивающие силу имперских законов и указов.
Примечательно, что немецкий элемент всё же не оценил уступки правительства, выразившейся в согласии на законодательное обособление Прибалтийского края, и не хотел принимать даже тех ограничений, которые были следствием упорядочения местных узаконений и включения их в общий свод имперских законов.
В присутственных местах прибалтийских губерний немцы посмели ложно трактовать именной высочайший указ, данный сенату 1 июля 1845 г. при обнародовании Свода местных узаконений. Сопротивляясь реализации цели местного свода — служить заменой прежних привилегий, немецкие чиновники стали настаивать, что местные постановления, в сущности, лишь приведены в систему, и потому ни местный свод, ни общее законодательство империи ничего не меняют в их прежней силе и действии. Отсюда делался вывод, что местный свод не обязателен в тех случаях, когда он противоречит укоренившимся обычаям и постановлениям местных властей.
К счастью, на тот момент генерал-губернатором в Прибалтийском крае оказался не немец вроде барона Палена и не германофил вроде князя Суворова, а русский генерал Головин. В именном указе он увидел возможность отстоять те ограничения, которые Свод местных узаконений и общеимперское законодательство всё-таки накладывали на немецкие привилегии. В своём рапорте от 31 октября значение именного указа и обнародования Свода местных узаконений Головин свёл к следующим основным положениям.
1. Эта мера определяет настоящий смысл и объём привилегий, что даёт возможность проверять законность действий административных и сословных учреждений в крае.
2. Прекращает обычное и противозаконное присвоение губернскими властями законодательных прав.
3 Русский текст свода, как подлинный и обязательный, обеспечивает постоянные, с Петра Великого, старания правительства о распространении между немецким народонаселением знания русского языка.
4. Вводит в общую систему законодательства империи край, при сохранении местных прав и преимуществ его{174}.
Зная по опыту недоверчивость и нерасположение высших сословий края ко всем преобразованиям правительства и враждебное отношение ко всему ненемецкому, Головин понимал, что реализация Свода местных узаконений в духе выделенных им пунктов требует контроля. Поэтому он обратился в сенат с просьбой подтвердить указом, в частности, следующие предложения:
1. Все статьи местного свода прибалтийских губерний имеют, безусловно, обязательную силу закона.
2. Во всех случаях, не вошедших в Свод местных узаконений, действуют одни общие законы империи.
3. Во всех решениях и распоряжениях делаются ссылки только на статьи общего и местного сводов, с устранением всех предшествующих постановлений{175}.
Это представление было утверждено указом сената 27 января 1848 г. Все дела об отступлениях от местного свода было решено рассматривать в сенате, министерствах и главных управлениях без очереди, подвергая виновных взысканиям по уложению о наказаниях. Таким образом были заложены основы для контроля административного управления краем в духе указов императора и сената. Но поскольку свод местных узаконений не отменял особого остзейского порядка, а, напротив, благодаря своему включению в общее законодательство империи, укреплял его позиции, то контроль в таких условиях в значительной степени подпадал под действие субъективного фактора, т.е. зависел от того, кто занимал пост генерал-губернатора и назначался на коронные должности в крае: носители общегосударственных интересов или же защитники особых остзейских привилегий. Во всяком случае, сопротивление немецких привилегированных сословий распространению православия в Прибалтике со всей очевидностью продемонстрировало, как легко немецкий элемент, следующий своим эгоистическим интересам, пренебрегает общегосударственными интересами, закреплёнными в имперском законодательстве.
VI.4. Балтийский опыт генерал-губернатора Е.А. Головина
Е.А. Головин служил генерал-губернатором в Прибалтийском крае менее трёх лет: с мая 1845 г. по февраль 1848 г. Его назначение последовало в год высочайшего утверждения Свода местных узаконений для Прибалтийского края, обеспечившего обособленность края от общего законодательства Российской империи. Это было время, когда новый мощный всплеск движения лифляндского лютеранского крестьянства к православию со всей очевидностью показывал, что коренные народности Прибалтики не хотят обособления от России и торжества немецкого элемента в крае. Правительство оказалось в чрезвычайно трудном положении. С одной стороны, утвердив Свод местных узаконений, оно согласилось с гегемонией лютеранства на прибалтийской окраине империи, с другой стороны, интересы государственной религии и политические выгоды её утверждения в крае на добровольной основе требовали внесения коррективов в практическую политику на балтийском направлении. В конечном итоге правительство оказалось в положении политического шпагата между коренным населением края, чаяния которого совпадали с государственными интересами России, и немцами, водворившимися в крае силой оружия и отстаивавшими своё господствующее положение ссылками на приобретённые сословные права и укоренившиеся со временем обычаи. Хотя Свод местных узаконений ставил пределы желанию немецкого элемента жить и управлять по старине, однако эти ограничения не меняли сути особого остзейского порядка, который по-прежнему функционировал в режиме противостояния особых прибалтийско-немецких и общих российских интересов.
В сложившейся ситуации политика имперского центра не могла не быть противоречивой. Это выражалось и в чехарде кадровых назначений, когда представители проостзейской и пророссийской партий сменяли поочерёдно друг друга, и в спускавшихся сверху противоречивых инструкциях по управлению краем.
Так, в 1845 г. новое и притом обширное движение к православию лифляндского лютеранского крестьянства побудило Николая I сменить генерал-губернатора барона Палена и назначить на его место генерала Е.А. Головина. В то же время в 6-м пункте инструкции Головину предписывалось: принять меры, дабы, с одной стороны, не было допускаемо подстрекательство к переходу лютеран в православие, а с другой, устранено всякое противодействие сему, равно как притеснение перешедших. Как мы видели в параграфе 5.8, первая часть 6-го пункта была выполнена по максимуму, т.е. для отклонения от православия было сделано гораздо больше, чем допускает закон, и употреблены все средства, кроме решительного запрещения, вторая же часть по причине жёсткого сопротивления немцев была реализована крайне неудовлетворительно. И это при том, что Головин, как русский, не мог, по собственному признанию, не желать соединения эстонцев и латышей в вероисповедании с русским народом. Однако, стеснённый рамками противоречивых инструкций и отчаянным противодействием немцев, он был не в состоянии обеспечить адекватность управленческих решений масштабам и потенциалу движения. Более того, его попытки взять под защиту гонимых и притесняемых крестьян и проводить независимые расследования по фактам их жалоб порождали вначале негодование среди господствующего немецкого сословия, затем ненависть и интриги. Последовавшее затем освобождение Головина от управления Лифляндской губернией явилось для тамошнего дворянства и бюргерства полным торжеством, которому они открыто предавались.
Во всеподданнейшем отчёте от 10 февраля 1848 г. Головин попытался ответить на им же самим поставленный вопрос: «Следует ли допустить, в видах государственных, переход этот (т.е. в православие) или же остановить оный, как потрясение, нарушающее спокойствие всего немецкого в балтийских наших губерниях сословия, — сословия, в котором сосредоточивается общественная и умственная деятельность края?»{176}
По мнению Головина, стремление эстонцев и латышей к перемене веры представляет замечательное событие в истории Прибалтийского края. Хорошо зная отношение крестьян в этом крае к своим немецким помещикам, он видел настоящие причины такого движения и потому допускал, что не чисто религиозное чувство побуждало лифляндских крестьян переменить веру{177}. В его понимании это был акт национального самосознания туземных племён, которое наконец пробудилось в стремлении слиться с русской национальностью в русско-религиозном элементе, чтобы покончить со своим многовековым уничижением, перейдя к мощному корню русского племени. Поэтому Головин был убеждён, что, стоит устранить условия, затрудняющие переход в православие (отрицание житейских выгод, шестимесячный срок и т.д.), и тогда крестьяне не только Лифляндской губернии, но и Эстляндской, и даже Курляндской захотели бы перейти в русскую веру. Было ли б справедливо возбранять им это? — спрашивает в своём отчёте Головин, хотя для него самого ответ очевиден.
Головин не скрывает иронии, когда отмечает, что, конечно, «не усердие к своему вероисповеданию», заставляет немецкое сословие столь упорно противиться движению крестьян. Немецкому дворянству, как пишет он в своём всеподданнейшем отчёте, недостаточно занимать высшие посты в Российской империи, служить на военном и гражданском поприще сравнительно в гораздо большем числе, а весьма часто и с большим отличием, нежели русское дворянство. Оно хочет, чтобы и весь Балтийский край сохранил немецкий характер. Поэтому им важно не допустить, чтобы крестьяне, ничего общего не имеющие с германским происхождением, переменой веры не расторгли единственную связь, соединяющую их с немецкими жителями края, которые составляют едва 11-ю часть всего населения. Конечно, такой переворот изменил бы положение целого края. Немцы из господствующего элемента оказались бы на положении малочисленных пришельцев между инородными и совершенно чуждыми им племенами. Лютеранские церкви пришли бы в упадок, ибо нельзя допустить, считает Головин, чтобы крестьяне, принявшие православие, продолжали исполнять повинности в пользу лютеранских церквей. С другой стороны, с распространением русской веры одноплеменное с Западной Европой дворянство оказалось бы окружённым религиозно-русским элементом, со всеми учреждениями и обрядами Православной Церкви, отвергаемыми протестантством. Поэтому лифляндское дворянство употребило все средства и усилия, чтобы подавить переход коренного населения в русскую веру. Головин с горечью констатировал: «Одним словом, в эту эпоху народного колебания Церковь Православная в Лифляндии подверглась почти такому же гонению, какое она терпела в XVI и XVII веках от поляков под влиянием римско-католического духовенства, с тою только разницей, что там заставляли русский народ силою переходить из православного вероисповедания в римско-католическое, а здесь не допускают его принимать православие и заставляют поневоле оставаться в лютеранстве. Но поляки побуждались тогда подлинным чувством религиозного фанатизма, и притом действовали согласно с видами правительства, тогда как в Лифляндии дворянство открыто противится силе закона, не воспрещающего латышам и эстам добровольно переходить в лоно нашей Церкви, и употребляет лютеранство как средство только, дабы удержать тех и других под господством немецкой своей национальности».
Приводя свои доводы в пользу «обрусения» края, Головин пытается играть на тех же чувствительных струнах верховной власти, что и немцы. Это стабильность и спокойствие на прибалтийской окраине, крепкие позиции самодержавной власти. Ведь не случайно пасторы, помещики и местные немецкие власти в своих донесениях в Петербург и в просьбах прислать войска называли движение крестьян к православию бунтом, обвиняли православных епископов в подстрекательстве, а сами клялись в верности государю. В их интерпретации перемена веры дестабилизирует край, тогда как сохранение позиций лютеранства и верного царю остзейского привилегированного сословия явится фактором защиты прибалтийских губерний от всякого рода потрясений.
В своём всеподданнейшем отчёте Головин осторожно полемизирует с немецким подходом. Он обращает внимание на то, что остзейские дворяне и бюргеры благодаря своей немецкой национальности являются членами многочисленного германского семейства в Европе и с давнего времени участниками в западноевропейских умственных и материальных успехах. Однако в этом Головин усматривает не только выгоды, но и опасность для России. Ведь помимо успехов образования и науки, комфортной устроенности быта, так восхищающих русских путешественников, с Запада проникали в Россию атеизм, социалистические учения, пропаганда революции и антигосударственного террора, то есть всё то, от чего Николай I хотел бы оградить империю, приняв национальную идею: самодержавие, православие, народность. Намекая на революционные события в Европе в 1848 г., Головин подчёркивает, что именно русский элемент составляет могущество России: в русском народе, в который ещё не проникли с Запада «демагогические начала», теплится непритворное чувство преданности самодержавной власти и благоговения к священному лицу земного царя, тогда как прикосновение к европейскому элементу более образованных классов не осталось и в России безвредным.
Затем Головин предлагает лицам, более опытным в науке государственного управления, решить, что в видах государственных и политических, а также для единства империи в настоящем и будущем полезнее: предоставить латышам и эстонцам свободно переходить в лоно Православной Церкви и через это соединить их с русским элементом или же, затрудняя этот переход, удержать их в протестантском вероисповедании, к которому они более чем равнодушны, а через религию удержать и под господством чужеземного элемента, России постоянно не благоприятствующего. Своё заключение Головин делает в сноске к всеподданнейшему отчёту: «Если принять в рассуждение, что единство религии сближает между собой народы разноплеменные, тогда как различие вероисповеданий разделяет народы даже одноплеменные, как, например, поляков с русскими, тогда уже не всё равно, будут ли коренные жители Балтийского нашего края, латыши и эстонцы, всего числом до 1 400 000, одной веры с русскими или останутся лютеранами»{178}.
На балтийский опыт генерал-губернатора Головина, который в секретном отчёте был доложен правительству всеподданнейше, честно и с нескрываемой горечью, наложился опыт Ю.Ф. Самарина, который был доведён до сведения общественности в виде открытой и страстной критики русской политики в Прибалтийском крае. В течение двух лет (с июля 1846 г. по июль 1848 г.) Самарин по поручению министерства внутренних дел работал в Риге в составе ревизионной комиссии. Занятый подготовкой исторического обзора рижского городского устройства, он по собственной инициативе расширил круг своих исследований и изучил положение края в целом. Кроме того, он имел возможность наблюдать деятельность двух генерал-губернаторов: Головина и Суворова. Выстраданные оценки, накопившиеся впечатления и чувства он отразил в своём первом публицистическом сочинении «Письма из Риги», датированном маем — июнем 1848 г.{179}
Осенью 1848 г. Ю.Ф. Самарин передаёт на прочтение влиятельным лицам Москвы и Петербурга (в частности, всему либеральному крылу петербургского чиновничества — от Киселёва и Милютина до министра внутренних дел Перовского, симпатизировавшему Самарину) рукописный вариант своих «Писем из Риги» (ввиду содержащейся в них резкой критики правительства они не могли быть напечатаны). Лифляндский генерал-губернатор князь Суворов (известен своей фразой — «Признаюсь, я не понимаю, к чему эта заботливость о православии, о распространении здесь русской народности. Остзейцы преданы Государю — к чему же более?») почувствовал себя прямо затронутым натиском Самарина и, поддержанный петербургскими влиятельными остзейцами, подал жалобу государю. Министр внутренних дел Перовский сделал всё, что мог, чтобы замять дело. Николай I хотя и счёл Самарина неправым, но не предал его суду, а посадил на двенадцать дней в Петропавловскую крепость и посылал к нему для беседы своего духовника протопресвитора Бажанова. Затем 17 марта 1849 г. состоялся разговор Николая I и Самарина, в котором царь противопоставил традицию русской окраинной политики и идею консервативной государственности аргументам полемического выступления автора «Писем из Риги». Николай I посоветовал Самарину служить верою и правдою, а не нападать на правительство. Сочинение же Самарина император всё же оставил у себя. Через три десятка лет внимательным читателем и почитателем Самарина станет внук Николая I император Александр III.
VI.5. Вторая фаза аграрной реформы «на остзейский манер»: новые крестьянские законы и их социально-политические последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Поводом к принятию новых остзейских крестьянских законов послужил протест крестьян, выразившийся в переселенческом движении, а затем и в готовности переменить «немецкую» веру на «русскую». Но дело было ещё и в другом: с восшествием на престол Александра II (1855 г.) во всей империи развернулась подготовительная работа по отмене крепостного права. Поскольку в ходе дискуссии высказывались мнения, неприемлемые для немецких помещиков, в частности об освобождении крестьян с земельным наделом, остзейцам было важно опередить центральную власть, с тем чтобы её решения, касавшиеся империи в целом, не были распространены на Прибалтийский край{180}.
Немецкий элемент вовсе не собирался поступаться своими сословными интересами и привилегиями ради обеспечения унификации аграрного законодательства в рамках всей Российской державы. Аграрные реформы в Лифляндии и Эстляндии были продолжены, но принципиальных изменений в отношении собственности и, соответственно, в жизнь крестьян они не привнесли. Новые крестьянские законы были высочайше утверждены: для Лифляндии — в 1849 г. (и почти в том же виде снова в 1860 г.), для Эстляндии — в 1856 г. и для о-ва Сааремаа — в 1865 г. Эти законы в очередной раз подтверждали право собственности помещиков на принадлежавшую им землю. Основное нововведение заключалось в том, что теперь помещику запрещалось присоединять по своему усмотрению к имению ту землю, которой крестьяне непосредственно пользовались как арендаторы. Речь идёт о так называемой ваковой земле в Лифляндии и крестьянской арендной земле в Эстляндии. Её помещик мог только сдавать в аренду или продавать крестьянам. Таким образом, в законодательном порядке был поставлен предел своевольному уничтожению помещиком крестьянских дворов. Помимо помещичьей и крестьянской (или податной) была предусмотрена так называемая квотная земля в Лифляндии (занимала пятую часть крестьянской земли) и так называемая шестидольная в Эстляндии (занимала шестую часть крестьянской земли). Она служила для помещика земельным резервом и обеспечивала ему даровую рабочую силу: эту землю крестьяне были обязаны обрабатывать для помещиков. Доходы от этой части земли могли идти на оплату наёмной рабочей силы и на осуществление разного рода инноваций. Согласно реформам, помещики сохраняли право неограниченного использования как своей, так и квотной (шестидольной) земли.
С учётом превращения помещиков и зажиточных крестьян в капиталистических предпринимателей, использовавших наёмный труд и нуждавшихся в капитале, отработочная, барщинная аренда заменялась арендой денежной. Сохранение барщинной аренды допускалось только как временное явление. Барщинная аренда исчезла с окончательной отменой барщины только в 1868 г.
Не вызывает сомнений, что проведённая кодификация, утвердившая остзейскую сословную структуру в качестве особого элемента общегосударственной системы, во многом определила ограниченный характер аграрной реформы в прибалтийских губерниях. Так, рыцарские поместья могли покупать только представители остзейского дворянства, в Эстляндии — только матрикулированного дворянства. Тем самым был закрыт доступ к землевладению в крае не только помещикам и предпринимателям из внутренних губерний России, но и представителям зажиточных слоев сельского и городского населения края.
Не были поставлены пределы и вопиющей обездоленности основной массы крестьян. Когда в случае непредвиденных хозяйственных затруднений (неурожай, околела лошадь, произвольное повышение помещиком платы за аренду и т.д.) крестьянину нечем было расплачиваться с помещиком, он в конце концов лишался своего хозяйства и превращался в барщинника или бобыля. Так формировался резерв рабочей силы для помещиков и зажиточных крестьян-дворохозяев. Чтобы заставить бобылей идти батраками в имения и крестьянские усадьбы, в Лифляндии запрещалось крестьянам-арендаторам выделять землю бобылям. Тот, кто не находил работы, объявлялся бродягой и в принудительном порядке посылался на работу в волость, в имения или на фабрику.
В 1858 г., с началом полевых работ, по всей Эстляндской губернии прокатилась волна крестьянских выступлений. Дело в том, что здешние помещики не только потребовали таких же отработок и повинностей, какие существовали до вступления в силу нового крестьянского закона, но и ввели в дополнение к ним вспомогательную барщину, которая приходилась как раз на пору самых напряжённых работ. Крестьяне стали отказываться от выполнения вспомогательной барщины. В имении Махтра (южная часть Харьюского уезда), куда были вызваны воинские отряды, дело дошло до столкновений крестьян с солдатами. В историю крестьянских волнений это выступление крестьян вошло как «война в Махтра». Собралось 700–800 вооружённых кольями крестьян, включая подкрепление из соседних волостей. Окружив прибывший воинский отряд, крестьяне потребовали выдачи «господ и офицеров», а также ухода солдат. После короткой ожесточённой схватки солдаты были обращены в бегство. Из числа крестьян 10 человек было убито, 11 ранено. Со стороны карательного отряда один офицер убит, 13 солдат ранено. Когда из Ревеля в Махтра прибыли дополнительные отряды, число солдат в которых равнялось тысяче, имение к тому времени уже опустело.
Другие волнения, охватившие 75 поместий Эстляндии, гасились так же, как и в Махтра: посылкой войск, публичными наказаниями шпицрутенами, арестами, отправкой на каторжные работы в рудники. Беспорядки были окончательно подавлены только осенью.
Публичные порки крестьян заклеймил «Колокол» Герцена, опубликовавший в конце 1858 г. присланную из Ревеля статью «Германские рыцари XIX столетия в Эстляндии». Вообще «Колокол» уделял большое внимание выступлениям эстонских крестьян весной — летом 1858 г. и призывал их надеяться только на себя: «Заострите топоры да за дело — отменяйте крепостное право»{181}.
Примечательно, что массовые выступления крестьян, особенно летом 1858 г., и развёрнутая по «свежим следам» этих событий агитация «Колокола» нашли отклик в среде ревельской интеллигенции. В конце 1850-х — начале 1860-х гг. здесь сложился небольшой кружок единомышленников. Его цель: доступными средствами способствовать улучшению экономического и правового положения крестьян. В кружок входили: чиновник Эстляндского губернского правления, поэт и публицист Ф. Руссов; педагог и цензор иностранной литературы В.Т. Благовещенский; педагог Я. Нокс; фольклорист А.Г. Нейс и др. Тесные связи с этой группой поддерживал и Ф.Р. Крейцвальд.
В 1858 г. по инициативе Ф. Руссова была подготовлена и отправлена министру внутренних дел записка по крестьянскому вопросу в прибалтийских губерниях. В ней доказывалось, что истинной причиной народных волнений является невыносимое положение крестьян и жестокость прибалтийско-немецких помещиков. Об этом же писала и газета «Ревальше цайтунг», основанная в 1860 г. Руссовым. В 1861 г. в Берлине была издана на немецком языке книга «Эстонец и его господин. Для объяснения экономического положения крестьян и вообще их состояния в Эстонии». Хотя на титульном листе вместо имени автора стояло «не эстонец, да и не его господин», современники считали, что автором был В.Т. Благовещенский. Автор книги оправдывает выступления эстонских крестьян в 1858 г., показывая их отчаянное положение и хищнический, несправедливый характер новых крестьянских законов. Он не обходит вниманием и так называемое культуртрегерство немецких баронов и пасторов, которые, как показано в книге, в действительности делали всё для того, чтобы эстонцы не получили образования.
Не удивительно, что в ходе развернувшейся полемики немецкие бароны в сильном ожесточении набросились на книгу и на её анонимного автора. В защиту сочинения выступила редакция газеты «Ревальше цайтунг» во главе с Руссовым, а также немецкий журнал «Гартенлаубе», опубликовавший в 1862 г. статью, схожую по содержанию и выводам с книгой «Эстонец и его господин». В русской публицистике к сторонникам этого произведения присоединился морской офицер В.В. Иванов. Из-за интриг рыцарства и Руссову, и Иванову пришлось покинуть Ревель и переселиться в Петербург. На русском языке книга вышла десять лет спустя в переводе А.Н. Шемякина.
В свете вышеизложенного неудивительно, что при обсуждении вопроса об отмене крепостного права в России наиболее рьяными сторонниками освобождения крестьян без земельного надела выступали прибалтийско-немецкие помещики. Они ссылались на крестьянские реформы, проведённые в Лифляндии и Эстляндии, как на образец и всячески приукрашивали положение эстонского и латышского крестьянства.
Примечательно, что не только российские революционные демократы А.И. Герцен, Н.П. Огарёв[56], Н.Г. Чернышевский, но и русские консерваторы в лице Ю.Ф. Самарина выступали против попыток освободить русское крестьянство на «остзейский манер».
Что говорить об отношении самого латышского и эстонского крестьянства к этой «образцовой» остзейской аграрной реформе! Оно выразилось не в реализации подстрекательских призывов Герцена, а в петиционном и переселенческом движении.
С 1864 г. крестьяне стали обращаться к центральному правительству с коллективными прошениями, в которых жаловались на острое безземелье, принудительную продажу своих хозяйств, повышение помещиками арендной платы и рост цен на землю.
Альтернативой такому положению дел в Прибалтийском крае стало переселенческое движение. Поскольку с освобождением крестьян в России пали и юридические препоны для крестьянской миграции с прибалтийской окраины во внутренние губернии, переселенческое движение стало приобретать массовый характер. Вначале в Россию (Самарская губерния, Крым) потянулись лифляндские крестьяне, за ними последовали эстляндские, которые, например, приняли участие в земледельческой колонизации в Северо-Западном регионе, включавшем Петербургскую, Новгородскую и Псковскую губернии{182}. Касаясь масштабов этого движения, важно отметить, что в одной только Эстляндской губернии в него включилось 20–30% крестьян. Русские дворяне без особых проблем сдавали в аренду и даже продавали землю прибалтийским мигрантам, поскольку, в отличие от остзейского рыцарства, у них не было причин придавать землевладению исключительное властно-политическое значение. Так что прибалтийским крестьянам удалось довольно прочно осесть на землях в русских губерниях либо в качестве колонистов-арендаторов, либо как полноправные хозяева. Примечательно, что открытость русских территорий для земледельческой миграции побудила не только крестьян, но также остзейских дворян и разночинное городское население принять участие в земледельческой колонизации русских земель. Это свидетельствует о безвыходности ситуации и отсутствии перспектив, которые для представителей многих социальных слоев явились оборотной стороной особого остзейского порядка. Отсюда и готовность к перемене мест, где не титул, а труд и предпринимательская жилка становятся гарантией успеха.
В этих движениях, и в петиционном, и в переселенческом можно увидеть всё ещё сохранявшееся комплиментарное отношение латышей и эстонцев к русской верховной власти, которая воспринималась как альтернатива произволу немецких баронов. В то же время не последнюю роль играло и осознание того факта, что в пореформенной России гораздо больше возможностей для достижения благосостояния и связанной с ним социальной мобильности, чем в Прибалтийском крае, где узкая группа немецкого рыцарства по-прежнему крепко держалась за свои средневековые привилегии.
Важно подчеркнуть, что вплоть до революционных потрясений начала XX в. в аграрных отношениях в Прибалтийском крае по существу ничего не менялось. По-прежнему в общей структуре земельной собственности здесь доминировало частное землевладение. Если по переписи 1877–1878 гг. доля частных земель по Европейской России составляла 23,8%, то для Эстляндии этот показатель достигал 55,3%, а для Лифляндии — 45,7%.{183} К 1905 г.
доля частного землевладения преодолела 70% в Эстляндии (первое место в России) и 54,3% — в Лифляндии{184}. При этом прослеживалась тенденция сокращения доли крестьянских земель: в Эстляндии с 42,9% в 1877–1878 гг. до 23,7% в 1905 г., а в Лифляндии в этот же период с 44% до 34,8%{185}. Важно обратить внимание на то, что только небольшая часть так называемых крестьянских земель находилась в собственности крестьян, остальную им приходилось арендовать.
Касаясь специфических особенностей частного личного землевладения в Эстляндской и Лифляндской губерниях, исследователи{186} обращают внимание на следующее.
— Преобладание крупных владений (свыше 1 тысячи десятин). Так, в 1877–1878 гг. на Эстляндию и Лифляндию приходилось по 62,5% крупных землевладельцев{187}.
— Львиную долю всех землевладений составляли дворянские: согласно переписи 1877–1878 гг., в Эстляндии — 81,7% (первое место в России), в Лифляндии — 79,3%. По количеству земли в имениях доля дворян составляла (при среднероссийских 79,8%): в Лифляндии 95% (первое место), в Эстляндии 92,7%{188}. Таким образом, крупнопоместному эстляндскому и лифляндскому дворянству удалось почти полностью сохранить свои владения.
— Крайне незначительная доля личных владений крестьян. Число крестьян-землевладельцев, учтённых переписью 1877–1878 гг., просто обескураживает: в Лифляндии — 10, в Эстляндии — 22{189}. Доля крестьян от числа всех частных личных собственников (при среднероссийском показателе в 56,7%) составила для Лифляндии 1,5% (минимальный показатель), для Эстляндии — 5,2%.Ещё ниже доля крестьян-собственников в общесословном земельном фонде: в Лифляндии — 0,3%, в Эстляндии — 0,9% (при общероссийском уровне в 5,5%){190}.
Эстонцы и латыши никогда не забывали, что искони земля в Прибалтике принадлежала им. Они не отказывались от исторических прав на неё и ждали случая, чтобы об этом заявить.
VI.6. Реформы Александра II. Самарин против Герцена
Александр Николаевич Романов уважал, ценил и любил своего отца. В то же время он видел, что приёмы николаевского управления страной больше не работают. Время и общество требовали реформ, и прежде всего самой главной реформы — освобождения крестьян.
Следует сказать, что освобождение крестьян было искренним желанием императора Николая I. Одно из свидетельств этого можно найти у русского адвоката А.Ф. Кони. Он пишет: «Император в разговоре с Пушкиным, по рассказу А.О. Смирновой[57], упрекал Бориса Годунова за прикрепление крестьян к земле и Лейбница за то, что, совещаясь с Петром Великим относительно “табели о рангах”, немецкий учёный не указал ему на несправедливость крепостного права. Бюрократическая и законодательная рутина, опиравшаяся на упорную неподвижность общества и на страхи, создаваемые “пугливым воображением”, ставила постоянные препятствия для решительных шагов государя»{191}.
Теперь эти решительные шаги предстояло сделать Александру II. Император испытывал давление разных общественных сил. Прежде всего, это было его окружение, где, как и при отце, преобладали ревнители старого порядка, мало сочувствовавшие реформам.
Далее, это были представители оппозиционных сил, требовавшие быстрых и решительных перемен. В России их возглавлял «революционер» Н.Г. Чернышевский, а за рубежом — «неисправимый социалист» А.И. Герцен. В своём послании императору за март 1855 г. Герцен, в частности, писал: «Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братии… Торопитесь! Спасите крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить!»{192} По сути, это был ультиматум монарху: или освобождение крестьян с землёй без выкупа — или кровопролитие, необходимость которого уже была решена вместо крестьян. Двумя годами раньше (т.е. в 1853 г.) в обращении к русскому дворянству Герцен прямо заявил, что станет делать, если требование оппозиции не будет удовлетворено. Он, в частности, писал: «Учитесь, пока ещё есть время. Мы ещё верим в вас… вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим для того, чтобы сосчитать им их силы, которых они не знают, указать им средства, о которых они не догадываются, растолковать им вашу слабость, которую они не подозревают, для того, чтоб сказать им: “Ну, братцы, к топорам теперь….Ну-тка, детушки, соломы, соломы к господскому дому, пусть баричи погреются в последний раз!”»{193}
И наконец, это были сторонники реформ, готовые ради блага России принять в их подготовке и реализации деятельное участие. В первый ряд идеологов реформ выдвинулся Ю.Ф. Самарин. Во время памятной встречи с Николаем I по поводу «Писем из Риги» Самарин испытал, как он писал позднее, «строгую и благородную простоту обаятельного величия» личного облика государя. Однако это благоприятное личное впечатление всё же плохо уживалось с тяжёлым гнётом николаевских порядков, который Самарин вместе с другими с особой горечью ощущал в последние годы царствования «Незабвенного», отмеченные поражением в Крымской войне. Самарин предчувствовал, что в царствование Александра возникнут условия для настоящей политической деятельности по осуществлению крестьянской реформы и обновлению народной жизни. И такое настроение преобладало, хотя первое впечатление от личности наследника вызвало у Самарина скорее недоумение, чем симпатию: в апреле 1849 г. автор «Писем из Риги» был представлен Александру Николаевичу в Москве, и тот пытался убедить его оказывать влияние на московское общество для искоренения распространённого там духа неприязни к немцам.
Следует сказать, что надежды Самарина в отношении императора Александра II оправдались в полной мере. В качестве эксперта, известного своими статьями по крестьянскому вопросу, а также записками в высшие инстанции, он был привлечён к работе всех редакционных комиссий по подготовке законопроекта об освобождении крестьян. Как свидетельствует Нольде, «в основных линиях крестьянская реформа 19 февраля 1861 г. была осуществлением именно самаринской её концепции»{194}. Самарин был убеждён, что решение крестьянского вопроса должно быть решением национальным, т.е. как в интересах помещиков, которые, как считал Самарин, приносили тяжёлые жертвы на алтарь общественного идеала, так и в интересах народа, за которым признавалось историческое право на землю. При этом социальный вопрос первой величины состоял в том, чтобы улучшение быта крестьян не разорило помещиков. Поэтому Самарин выступал за постепенность в деле освобождения крестьян. Это предполагало введение переходного периода при одновременном обозначении конечной точки, к которой реформа приведёт крестьянство последовательными этапами. Таким образом, реформа обнимала сразу весь предстоящий путь: от первого приступа к делу до полного прекращения обязательных отношений между помещиком и крестьянином посредством выкупа земли. С точки зрения Самарина, эта постепенность как основная черта русской реформы представляла собой громадное благо. Видя перед собой конечную цель, крестьянин, путём упорного труда и строгой бережливости, приблизит её осуществление. Разбуженные силы народа получат правильное направление, и опасность потрясений будет избегнута.
Именно так, медленно и постепенно, рекомендует проводить реформы современная экономическая и историческая наука{195}. Современные исследователи справедливо считают все Великие реформы 1860–1870-х гг. более эффективными, чем, например, реформы 1990-х гг., когда использовалась шоковая стратегия, без тщательной подготовки и предвидения последствий реформирования{196}.
На основе статистики того периода Е. Шмурло пришёл к выводу, что «крестьянская реформа, несмотря на её несовершенства, была колоссальным шагом вперёд; она явилась и крупнейшей заслугой самого Александра, в годы её разработки выдержавшего натиск крепостнических и реакционных стремлений»{197}.
Неизбежным следствием крестьянской эмансипации стали другие реформы — земская, городская, судебная. Высочайшим указом от 17 апреля 1863 г. телесные наказания были отменены, но с некоторыми ограничениями (например, сохранялись розги для ссыльных, для крестьян по приговору волостных судов). Запрещались всякие иные болезненные добавления к уголовным наказаниям, типа наложения клейм. Была проведена реформа армии. Вначале срок службы солдат был сокращён с 25 до 15 лет, а затем Высочайшим указом от 1 января 1874 г. введена всеобщая воинская повинность. Была проведена структурная перестройка вооружённых сил. Значительное развитие получило народное образование, включая создание в Петербурге, а затем и в других городах воскресных школ для рабочих. Было положено начало высшему образованию женщин. С 1862 г. государственная роспись доходов и расходов, прежде составлявшая государственную тайну, стала публиковаться в открытой печати.
Одновременно русская империя неуклонно расширяла свои пределы. По Айгунскому договору Россия распространила свой суверенитет на огромную Амурскую область. С присоединением через два года Уссурийского края империя овладела устьем Амура. Продолжалась колонизация Средней Азии. В 1860-х гг. генерал Черняев завоевал Коканд. В 1870-х гг. генерал Скобелев своими военными победами успешно завершил имперскую политику на среднеазиатском направлении. В 1864 г., после упорной борьбы с Шамилем, был окончательно замирён Кавказ. Россия обнаружила стремление оказать влияние и на разрешение так называемого «восточного вопроса». Она не осталась равнодушной к судьбе балканских народов, делавших отчаянные попытки освободиться из-под власти Турции. В ходе трудной, потребовавшей огромных жертв, но победоносной русско-турецкой войны (1877–1978 гг.) реформированная русская армия вплотную подошла к Константинополю, о котором мечтали Пётр I и Екатерина II. По условиям Сан-Стефанского мира с Турцией народы Болгарии, Сербии, Черногории, Румынии получали гарантии независимости, а к России были присоединены Ардаган, Каре и Эрзрум. Но на Берлинском конгрессе, созванном по требованию Англии и Австро-Венгрии, прусские родственники Александра II в лице «честного маклера» Бисмарка поглумились над пролитой русской кровью и вырвали у России плоды её побед. Не заинтересованная в новой войне, Россия была вынуждена сдать ряд позиций сначала Англии, а затем Австро-Венгрии. Поддержка Бисмарком этих держав вызвала сильные разочарования в русском обществе и рост антигерманских настроений.
В период модернизационных реформ и военных побед о себе заявили не только внешние враги Российской империи, но и враги внутренние: либерал-радикалы и стоявшая за ними подпольная Россия, разбуженная политической агитацией Герцена и познакомившаяся в европейских университетах не только с новыми социальными учениями, но и с методами террора{198}. Хотя реформы Александра II коренным образом меняли все прежние уклады жизни, они нисколько не повлияли на взволнованные умы радикалов, которые хотели «всего или ничего», республики, социализма или революции.
Эти силы способствовали формированию завышенных ожиданий у части крестьянства, т.е. «полная свобода» сразу и земля без выкупа. На деле же оказалось, что даже барщина и оброк сохраняются на неопределённое время, что требуется выкуп, что даже земельный надел в иных местах меньше того, каким крестьяне пользовались при крепостном праве. Поэтому после оглашения в 1861 г. в церквах манифеста о свободе среди крестьян началось брожение. Быстро стали распространяться слухи о том, что манифест подложный. В Пензенской губернии даже пришлось усмирять бунт, который стал поводом для серьёзной размолвки между царём и интеллигенцией, ориентированной на быструю вестернизацию страны. Появились прокламации «К молодому поколению», «К барским крестьянам», «Что нужно народу», «Молодая Россия». Авторы этих прокламаций, нисколько не смущаясь тем, что имеют дело с полуосвобождённой, вчера ещё крепостной, неграмотной мужицкой Россией, требовали республики, социализма, национализации земли. Наиболее радикальные требования содержались в прокламации «Молодая Россия», которая призывала «затопить дворцы кровью коронованных злодеев». В ней было сказано ясно и точно: «Выход из этого гнетущего страшного положения… один — революция, революция кровавая, неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все, без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся её, хотя и знаем, что прольются реки крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы»{199}.
Затем начались непонятные пожары в Петербурге. Большинство считало, что поджигателями были сочинители кровожадных прокламаций и поляки.
Начало Великих реформ было омрачено также польским мятежом, который был поддержан великими державами и особенно Англией, обеспокоенной «безмерностью» русской военной колонизации на востоке, «лондонским сидельцем» Герценом[58], подпольной Россией, но не нашёл сочувственного отклика среди населения империи. Влияние «Колокола» в России упало, а русские генералы, несмотря на угрозы великих держав, усмирили восстание. Польское шляхетство, руководившее восстанием, было наказано тем, что крестьяне Западного края были освобождены на лучших условиях, чем в центральных губерниях.
4 апреля 1866 г. Каракозов, один из тех подпольных людей, которые не хотели больше ждать, посмел выстрелить в императора. Мещанин Осип Комиссаров, ударив убийцу по руке, предотвратил гибель Александра II. Россия, а вместе с ней и Фёдор Михайлович Достоевский, была потрясена самим фактом покушения на императора: подпольная Россия заявляла, что теперь всё позволено.
После второго выстрела поляка Березовского 6 июня 1867 г. в Париже Александр понял, что лично для него события приобретают чрезвычайно серьёзный и, возможно, трагический оборот. А вот что пишет русский писатель Георгий Иванович Чулков: «Он был охотник, чувствовал зверя, и теперь ему казалось, что его самого травят, как волка, что сейчас облава, лают собаки, улюлюкают псари… Вот сейчас увидит он перед собой чёрное дуло ружья. Это смерть»{200}. После серии неудачных терактов смерть настигнет Императора-Освободителя 1 марта 1881 г.
Александр II стал жертвой противостояния двух России: России традиционной, но постепенно обновляющейся в ходе реформ, и России революции и революционного террора с культом маузера, монополизацией права представлять волю народа и готовностью силой навязывать своё видение счастливого будущего. Ярким выражением спора этих двух России явилось мировоззренческое столкновение между Герценом и Самариным.
Для Герцена Самарин был представителем всего того, с чем он боролся с такой страстностью в далёкой и делавшейся ему понемногу чужой России. Для Самарина Герцен воплощал явление русской жизни, которое он больше всего ненавидел, — он воплощал русскую революцию, и русскую революцию, благословившую в 1863 г. польское восстание. По признанию самого Самарина, едва ли кто-нибудь строже осуждал всю деятельность Герцена и искреннее жалел о том вреде, который Герцен сделал в России.
В годы юности Самарин был близок с Герценом. Они тогда много спорили и в конце концов теоретически разошлись, сохранив личную симпатию друг к другу. Последний раз они встретились в 1864 г. в Лондоне, когда «Колокол» уже терял свою силу, поскольку поддержал польское восстание. Между идейными противниками состоялся крупный и злой, по выражению Герцена, разговор, который длился 3 дня (21–23 июля). При обсуждении польского вопроса, действий революционных кружков в России (подпольные издания «Земля и Воля», «Великоросс»[59]), политики правительства снова выявились диаметрально противоположные мировоззренческие позиции. Через десять дней в длинном, грубоватом, но искреннем письме Самарин выступил в качестве обвинителя. Он сказал Герцену, в частности, следующее: «Повторяю вам опять то, что я говорил Вам в Лондоне: Ваша пропаганда подействовала на целое поколение как гибельная, противоестественная привычка, привитая к молодому организму, ещё не успевшему сложиться и окрепнуть. Вы иссушили в нём мозг, ослабили всю нервную систему и сделали его совершенно неспособным к сосредоточению, выдержке и энергической деятельности. Да и могло ли быть иначе? Почвы под Вами нет: содержание Вашей проповеди испарилось; от многих и многих крушений не уцелело ни одного твёрдого убеждения; остались одни революционные приёмы, один революционный навык, какая-то болезнь, которой я иначе назвать не могу, как революционною чесоткою…
В последние годы два явления в нашем русском мире выдались особенно ярко, Это, во-первых, попытка привести в исполнение безумную программу, кем-то продиктованную нашей неучащейся молодёжи; я разумею разные подпольные издания (“Земля и воля”, “Великоросс” и т.п.), в которых проповедовались поджоги и бунт, воровская прививка грубого безбожия к мальчикам и девочкам, отданным на веру в распоряжение преподавателей воскресных школ, подложные манифесты, которыми надеялись обмануть крестьян, и т.д. Во-вторых, польский мятеж с его атрибутами: верёвкою для подлой черни, отравленным стилетом для польских журналистов и русских офицеров и заказной ложью, по стольку-то за строку, для общественного мнения Европы. Как же отнеслись вы к этим явлениям? Вы спасовали перед обоими… Отчего же вы спасовали перед русской молодёжью и перед польскою шляхтою? А вот отчего….Положительные цели одна за другою исчезли из виду, формулы стушевались и обратились в нуль.
Осталось обычное средство: революция как цель для самой себя, революция революции ради. Её знакомые приёмы вы увидали в проповедях польских ксендзов, в подложных грамотах, в “Великороссе”, и вы не посмели ослушаться её призыва. Как кабальному человеку революции, вам всё равно, откуда бы она ни шла, из университета, села, костёла или дворянского замка. Вы у неё не спрашиваете, куда она идёт и какие побуждения она поднимает на своём пути…»{201} Говоря о реакции Герцена на эти резкие обвинения, Б. Нольде отмечал, что в его письмах к Огарёву и в ответных письмах к Самарину чувствуется какая-то внутренняя робкая неуверенность, проявляющаяся то в нервных и эпизодических возгласах о жестокости подавления польского мятежа, о политических преследованиях в России, о её «немецком» правительстве, то в примирительных и грустных интонациях, а в целом — в моральной невозможности противопоставить целостному мировоззрению Самарина одинаково целостный и одинаково твёрдый положительный идеал{202}.
Конечно, стареющему Герцену было уже поздно перечёркивать свою прежнюю жизнь и под влиянием бесед и переписки с Самариным сворачивать со старой накатанной дороги революционной агитации. Ему не надо было предугадывать, как его слово отзовётся. Он это видел и назвал героями русских офицеров, изменивших своему долгу во время польского восстания, а также подпольную недоучившуюся молодёжь, которая после серии неудачных терактов всё-таки убьёт Царя-Освободителя. От Герцена героизация террористов проникнет в русскую литературу и живопись[60], публикации российских либералов[61], а затем и в советскую литературу. Оппонентами такой героизации выступят Достоевский в «Бесах», Крестовский в «Красном пуфе», Гончаров в «Обрыве», Лесков в «Некуда». Их правоту подтвердят и материалы следствий по делам террористов{203}.
VI.7. Реформы Александра II в Прибалтийском крае
На фоне польского восстания, а также революционного брожения и террористической активности подпольной молодёжи во внутренних губерниях России Прибалтийский край с его верным государю дворянством и отсутствием революционной крамолы производил впечатление относительно стабильного и благополучного региона. У эстонцев и латышей ещё не было своих герценов и Чернышевских, желябовых и перовских, как не было литераторов и живописцев, героизировавших борьбу с «самодержавием» и «царизмом». Немецкое рыцарство, играя на текущих внутриполитических последствиях модернизационных реформ в России, в очередной раз без особого труда убедило влиятельных чиновников в высших эшелонах российской власти, что панацеей от всякого рода потрясений на Прибалтийской окраине является особый остзейский порядок. Применительно к реформам это предполагало, что и проводиться в жизнь они будут по-особому, с учётом местных реальностей и интересов.
Мы помним, как немецкое рыцарство освободило крестьян без земли, т.е. в голод и бродяжничество, а затем, испуганное подъёмом движения в православие, было вынуждено выделить часть помещичьих земель для сдачи в аренду крестьянам и тем самым поставить пределы уничтожению крестьянских дворов. Если в России реформа была нацелена на создание института частной собственности на землю в среде крестьянства (этот процесс начался с сохранения действующей общинной собственности, которая должна была трансформироваться в личную, а затем в частную собственность), то в Прибалтике крестьянство в основной своей массе должно было оставаться лишь арендаторами.
Что касается других реформ, осуществлявшихся в царствование Александра II, то они были перенесены на остзейскую почву с запозданием и в урезанном виде.
В 1863 г. был установлен новый порядок выдачи паспортов, который позволил крестьянам переселяться в города и другие губернии без разрешения помещика.
В 1865 г. помещики отказались от права домашней расправы. Правда, телесные наказания по приговорам волостных судов и помещичьих полицейских учреждений ещё сохранялись.
В 1866 г. был издан закон о волостной общине. Он давал зажиточным крестьянам право решающего голоса на волостных сходах, где избирались волостные должностные лица и решались важные для крестьянства вопросы.
В 1868 г. была отменена барщинная аренда на крестьянской земле. Однако на помещичьей, квотной и шестидольной землях помещик мог по-прежнему требовать выполнения отработок.
В 1866 г. были окончательно отменены все цеховые ограничения и устанавливалась свобода ремёсел. Ремесленникам предоставлялось право содержать наёмных рабочих.
Городская реформа была проведена лишь в 1877 г., т.е. с запозданием в 7 лет. Благодаря реформе управление перешло от замкнутых по своему составу магистратов к городским думам, избиравшимся на основе цензов. В результате немецкое бюргерство утрачивало прежнее единовластие в городах, а политические позиции эстонской городской буржуазии укреплялись.
Из-за противодействия немецких баронов распространение на Прибалтику «Судебных уставов» 1864 г., где последовательно проводился принцип равенства перед законом, затянулось на десятки лет, а «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г., предусматривавшее, несмотря на несовершенство избирательной системы, формирование «всесословных» учреждений, так и не было претворено в жизнь. В целом же реформы были проведены так, что они не затронули существенно привилегии немецкого рыцарства.
VI.8. Курс немецко-лютеранского меньшинства на обособление края с опорой на коренное население
Крестьянское движение в Лифляндии в сторону православия, запоздалая и колеблющаяся поддержка этого движения (но всё-таки поддержка) со стороны правительства были не без основания восприняты немецким рыцарством и лютеранским духовенством как вызов привилегиям немецкого элемента в крае. Хотя правительство наступало на эти привилегии очень медленно и непоследовательно, но устойчивая тенденция такого наступления, хотя и неспешного, всё же обозначилась и не давала поводов надеяться, что она заглохнет сама собой. Тем более что на отношение центра к прибалтийской окраине влияли значимые и набирающие силу внутриполитические и международно-политические факторы (модернизационные реформы, несогласие общества с прибалтийской политикой, обеспечивающей господство немецкого элемента в Прибалтике вопреки российским интересам, усложняющиеся отношения с Пруссией, а затем и с объединившейся Германий и т.д.). А это означало, что «обрусительная» политика, завещанная Екатериной II, и требующая унификации управления прибалтийскими губерниями в соответствии с порядком, принятом во внутренних губерниях, не снята с повестки дня и будет претворяться в жизнь.
Следует сказать, что немецкое рыцарство вкупе с лютеранскими пасторами обладало к середине XIX в. значительным арсеналом зарекомендовавших себя средств отстаивания обособленности прибалтийской окраины от основной территории Российской империи. Однако движение лифляндских крестьян показало, что в этом арсенале антироссийских инструментов остались без внимания настроения туземного населения, с которыми немцы не привыкли считаться. События же 1840-х гг. дали понять, что с переменой веры местного населения, в котором немцы видели лишь побеждённых и рабов, может рухнуть многовековой остзейский порядок. Поэтому к арсеналу уже опробованных средств был добавлен важный элемент, сводящийся к целенаправленной политике по привлечению на свою сторону аборигенов при отстаивании обособленности края от всего исходящего из России и от русских. Таким образом, инородческий вал, продолжавший опоясывать восточное побережье Балтики с момента его присоединения к России, должен был работать на немецкие интересы. И это было в принципе достижимо, поскольку российская сторона не спешила утвердить государственное обладание краем с помощью племенных и духовных скреп и благодаря этому сделать свою верховную политическую власть в Прибалтике более надёжной.
При развороте инородческого вала против России большое значение придавалось укреплению монопольных позиций лютеранства в крае. В качестве основных инструментов использовались Церковь и школа и, конечно, связи с влиятельными остзейцами в Санкт-Петербурге, германофильским и либеральным окружением императора.
Наиболее сильный удар по православию в Прибалтийском крае помещики и пасторы нанесли путём понуждения православных крестьян нести повинности в пользу лютеранской Церкви. Этот вопрос возник сразу же с учреждением первых православных приходов и стал новым полем противостояния эгоистичных немецких и общегосударственных интересов.
Поскольку к православию присоединились не тысячи, а десятки тысяч, то в вопросе о доходах пасторы заняли далеко не равнодушную позицию. Требование платы за требы отпадало, поскольку за ними православные крестьяне не могли обращаться к лютеранскому священнику. Не могло быть спора и в отношении платы за аренду пасторской земли, так как в этом случае пастор выступал не духовным лицом, а как землевладелец. Спор же возник из-за постоянных (натуральных и барщинных) повинностей с арендаторов помещичьих земель. Хотя, согласно Высочайше утверждённой инструкции генерал-губернатору Головину от 25 апреля 1845 г., крестьяне, переходящие из лютеранства в православие, освобождались от лютеранских повинностей{204}, дворяне и пасторы всё же нашли, как им казалось, правовую лазейку. Они начали утверждать, что постоянные повинности с арендаторов помещичьих земель есть не что иное, как уступка помещиками части своего поземельного дохода в пользу лютеранской Церкви и потому эти повинности не могут и не должны быть слагаемы с крестьян при перемене их вероисповедания. Православное духовенство, напротив, доказывало, что новоприсоединившиеся должны содействовать содержанию своей Церкви и, следовательно, было бы крайне несправедливо и даже неблаговидно требовать с крестьян исполнения повинностей и платежей в пользу своей и в пользу иноверной Церкви. Комитет по устройству духовной части в Лифляндии предложил перевести на деньги материальные повинности, чтобы в усадьбах, где крестьяне принадлежат к разным вероисповеданиям, каждое лицо смогло платить причитающуюся ему долю по своей конфессиональной принадлежности. Такое положение комитета было высочайше утверждено 14 декабря 1846 г. и получило силу закона. С этого времени с православных крестьян перестали требовать исполнения каких бы то ни было повинностей или платежей в пользу пасторов и в арендные контракты, заключавшиеся между помещиками и православными крестьянами, не включались условия о повинностях и данях в пользу пасторов. Дворяне и пасторы не смели противодействовать резолюции Николая I губернатору Головину по этому вопросу: «Глядеть в оба глаза, нового не затевать и слепо держаться данных мною разрешений на все случаи, а с не повинующимися моей воле поступать, кто бы ни был, как с бунтовщиками. Аминь»{205}.
Если бы Головин оставался генерал-губернатором более продолжительное время, то он, безусловно, довёл бы до конца дело о переводе постоянных повинностей на деньги. Однако сменивший его на посту генерал-губернатора князь Суворов отложил этот вопрос в сторону, хотя во всё царствование Николая I нигде повинностей и даней с православных в пользу пасторов не требовали.
Ситуация изменилась в 1856 г. К этому времени истекал срок действия лифляндского крестьянского положения 1849 г., в котором вопрос о повинностях с православных крестьян был решён в соответствии с Высочайшим повелением от 14 декабря 1846 г. При подготовке крестьянского положения к новому утверждению помещики и пасторы, поддержанные князем Суворовым, стали настаивать на возвращении к ситуации до 14 декабря 1846 г. Для этого предлагалось все повинности в пользу лютеранской Церкви перевести с крестьян-арендаторов на помещиков, которые сами будут взимать эти повинности с арендаторов, фиксируя их в арендных контрактах. Не дожидаясь решения по этому вопросу, часть помещиков начала совершенно произвольно и вопреки закону от 14 декабря 1846 г. взыскивать со всех своих православных арендаторов дани и повинности в пользу пасторов. Это произвело неблагоприятное впечатление на православных крестьян, ведь им приходилось нести вдвое большие повинности по сравнению с лютеранскими арендаторами, т.е. работать на свою Церковь и чужую. При этом отказаться православному арендатору от помещичьих требований в пользу иноверческой Церкви было невозможно, потому что отказ неминуемо повлёк бы за собой немедленное изгнание православного крестьянина с арендуемого участка. Найти же управу на такого помещика было невозможно, тем более что тогдашний генерал-губернатор Суворов находил помещичьи требования правильными{206}.
Известны случаи, когда православных хозяев изгоняли с их участков за православную веру, а на их места селили лютеран. Ввиду того, что по закону православные освобождались от повинностей в пользу лютеранского духовенства, кирок и школ, мызникам было невыгодно предоставлять таким лицам пользование землёй, и им отказывали под каким-нибудь предлогом. А когда они, изгнанные, искали где-либо себе хозяйства, то их спрашивали, какой они веры. И когда узнавали, что православный, отказывали, говоря: «Нет у нас земли для тебя»{207}.
После рассмотрения вопроса в разных инстанциях — от комитета остзейских дел (утверждён в 1805 г.) до общего собрании Государственного совета император Александр II, повелел разрешить спор следующим образом: «Так как православное духовенство в Лифляндии обеспечивается в своём существовании назначенным для него жалованьем, то все реальные повинности в пользу Церквей отменить и предоставить содержание лютеранских церквей попечению тамошнего дворянства»{208}. Однако Александр II не смог настоять на своём решении так же самодержавно, как это сделал 14 декабря 1846 г. его отец. Последовали новые прошения со стороны лифляндского дворянства и новые рассмотрения. В июне 1862 г. перед представлением Государственному совету вопрос рассматривался на заседании соединённых департаментов, на которое были приглашены обер-прокурор Синода граф Толстой, бывший лифляндский генерал-губернатор князь Суворов и сменивший его на этом посту барон Ливен. Десять членов, а именно гг. барон Корф, Литке, Брок, Метлин, Ковалевский, Княжевич, князь Суворов, Толстой, барон Ливен и Валуев, встали на лифляндскую дворянско-немецкую точку зрения, и только два члена — князь Гагарин и Ахматов заняли позицию покойного императора Николая I и бывшего генерал-губернатора Головина{209}. В царствование императора Александра II этот вопрос так и не был решён, что, однако, не мешало немецким помещикам действовать по своему усмотрению и, конечно, в интересах лютеранской церкви, а значит, в ущерб православию.
В частности, всё делалось для того, чтобы православные на своём горьком опыте постоянно убеждались, что православие очень невыгодно. Практика своевольного взыскивания с православных лютеранских повинностей продолжалась довольно долго: по свидетельству протоирея Николая Лейсмана, в некоторых уездах — вплоть до 1910 г.{210} Залогом же такого положения вещей являлось, прежде всего, дворянское землевладение в крае, позволявшее помещику диктовать свою волю православным дворохозяевам и арендаторам. Неудивительно, что неоднократные обращения епархиальных властей в Санкт-Петербург по поводу лютеранских повинностей с православных лишь демонстрировали бессилие верховной власти, что имело, конечно, негативный морально-психологический эффект в крестьянской среде. В связи с этим Е.М. Крыжановский отмечал: «Ничто так чувствительно не задевало новоправославных в этом крае, как повинности в пользу пасторов. Ничто так ярко не представляло в глазах их бессилия правительственных распоряжений и бесплодности православия для быта их и душевного покоя, ничто так не ставило их во внутренние противоречия с самими собой, как обязанность работать на пасторов, содержать кирки, кистеров, органистов, давать им дань от каждого прибытка и исполнять всё это, несмотря на ясные повеления верховной власти, на уверения со стороны православных священников, на собственную веру в силу русского царя»{211}.
Одновременно велась непримиримая информационно-психологическая война против государственной религии. Отличия православной религии от лютеранства становились объектами разнузданной, непотребной хулы, оскорбительной для православных. Недостойное поношение православия происходило в кирках, находило отражение в местных и зарубежных печатных изданиях. Например, в Германии вышла книга «Немецко-протестантская борьба в Балтийских провинциях России», которая, как водится, сочувствовала делу «защиты» лютеранства в крае. Особо рьяные обличители государственной религии подвергались судебным разбирательствам, но эти меры не снижали накала борьбы, которую вёл немецкий элемент.
Логическим следствием возведения хулы на православие стала агитация за возвращение в лютеранство. Поскольку российские законы запрещали отпадение от православия, немецкие дворяне стали добиваться разрешения на возврат «заблудших овец» в лютеранство. Им на помощь, как и следовало ожидать, пришёл русский остзеец генерал-губернатор Суворов, выступивший против «стеснения свободы совести» в Прибалтийском крае. В 1857 г. поступили первые заявления от 98 человек с просьбой разрешить вернуться в лютеранство. В основном это были люди из числа дворовых (кучеры, кузнецы, прислуга), испытывавшие наиболее сильное давление господ, а также лица, состоявшие в смешанных браках. После того как правительственно благосклонно удовлетворило прошения 44 человек, прецедент был создан. Под быстро распространявшие слухи о скором исчезновении «русской веры» в Прибалтийском крае и с опорой на информационную поддержку заграничных газет, оплакивавших судьбу лютеран в Прибалтике, пасторы стали составлять новые списки «обманутых» эстонцев и латышей. Толпы крестьян снова потянулись в Ригу, однако теперь для того, чтобы, как утверждали пасторы, выйти из «полона греко-российской Церкви». Примечательно, что эти стремления уже никто не считал бунтом. Более того, в мае 1864 г. лифляндское дворянство направило Александру II петицию в защиту местного населения, страдавшего «под гнётом принуждения совести».
Согласно данным за 1865 г. по крестьянам-хозяевам православного вероисповедания, из нескольких десятков приходов только в трёх число православных хозяев немного увеличилось, в остальных же — резко сократилось: в двух, где было по 26 православных хозяев, осталось в одном шесть, в другом — четыре; во многих приходах их число уменьшилось с 30–40 до 12–6 и даже до одного{212}. Важно отметить, что эти данные свидетельствуют не столько о масштабах отхода от православия, сколько о беспрецедентном характере притеснений православных, выразившемся в потере хозяевами своих дворов и арендных участков и передаче их лютеранам.
Архиепископ Рижский и Митавский Платон (в миру Николай Иванович Городецкий), с декабря 1848 г. продолжавший в Прибалтийских губерниях самоотверженную деятельность епископов Иринарха и Филарета I, предпринимал всё возможное, чтобы труды его предшественников, направленные на духовное сращивание балтийского берега с Российской империей, не пропали даром. 18 августа 1864 г. он писал одному из министров в Санкт-Петербург: «Если вы и другие правительственные лица будете равнодушны к православию в сем крае и допустите из угождения немцам, чтобы оно ослабло и даже вовсе истребилось в нём, то на вас будет лежать тяжкий грех перед Богом и великая ответственность перед Россией …Я говорю это в полном сознании, что мои слова помянутся на Суде Божием»{213}. В подготовленном для правительства докладе архиепископ Платон изложил основные причины отхода от православия: давление и угрозы мызного начальства, притеснения помещиков, поношение православной веры. Он предложил и меры по защите государственной религии в крае: наделить православных крестьян землёй[62] и запретить пасторам публично поносить православную веру, особенно в кирках.
Следует сказать, что обращения Платона к правительству имели в целом ограниченный эффект, как и выступления в печати протоирея НА. Лейсмана, публицистов Ю.Ф. Самарина, М.П. Погодина и др., которые вызвали вал опровергающих публикаций из немецко-лютеранского лагеря. В 1865 г. правительство сделало ряд распоряжений в пользу обеспечения свободы совести, что, однако, открывало возможности для вероотступничества. Так, согласно указанию от 19 марта 1865 г., при совершении браков между лицами православного и протестантского вероисповедания больше не требовались предбрачные подписки о крещении и воспитании будущих детей в правилах православия. В то же время инструкция от 13 июля 1865 г. привносила в этот процесс элементы государственного контроля: новый генерал-губернатор Эстляндии, Лифляндии и Курляндии граф П.А. Шувалов получил право решать вопросы об обратном переходе в лютеранство по своему усмотрению. Вместе с тем пасторы в декабре того же года добились разрешения крестить подкидышей и незаконнорожденных детей. Кроме того, законы, обеспечивавшие свободу совести, они перетолковывали в пользу узкой немецкой касты.
Так, Высочайшее повеление об отмене для лиц, вступающих в смешанные браки, подписки крестить и воспитывать своих детей в православии развязало руки лютеранским пасторам и позволило им нанести сильнейший удар по позициям православия в Прибалтийском крае. По всем волостям были немедленно созваны сходы крестьян, и от местной власти им было объявлено, что теперь всякий имеет право крестить своих детей в той вере, в какой сам пожелает. Одновременно пасторы развернули пропаганду против православия и стали совращать православных к переходу в лютеранство. Как свидетельствует священник Поляков, православные, утомлённые гонениями и насмешками иноверцев, воспользовались таким предписанием и стали крестить своих детей в лютеранство не только от смешанных, но и от простых браков, где оба родителя принадлежали к православному вероисповеданию. Крещение младенцев в православие стало снижаться. Год от году всё меньше прихожан стало являться к исполнению христианского долга исповеди и Св. Причастия.
Священник Поляков отмечает, что лютеранская пропаганда употребляла всевозможные способы к совращению православных в иноверие. Православные приходы с каждым годом сокращались в числе, поскольку протестантские священники под разными предлогами стали побуждать православных обращаться к ним за исполнением треб (крещение, венчание, причащение, исповедь, конфирмация), одновременно заманивая православных детей в лютеранские школы. При этом никем не сдерживаемая пропаганда распространялась не только на коренных латышей и эстонцев, но и на коренных русских — православных. Несмотря на протесты священников против таких беззаконных действий со стороны лютеранской пропаганды, несмотря на жалобы в инстанции, благих результатов православное духовенство так и не увидело и совращение православных продолжилось{214}.
Особенно активно процесс уклонения от православия протекал в период 1865–1870-х гг., то есть в эпоху быстрого осуществления либеральных реформ, скорость которых нередко оборачивалась издержками для государственных интересов. Затем этот процесс стал стихать, а к середине 1880-х гг. прекратился. Согласно оценкам протоиерея Н. Лейсмана, уклонилась 1/4 часть православных, 3/4 остались верными ему{215}. Хотя это и был «элемент несовратимый, у которого религиозные интересы стояли несравненно выше земных видов», всё же его было явно недостаточно для обеспечения духовной близости Прибалтийского края с внутренними губерниями России.
Чтобы сохранить лютеранско-немецкий характер края, помещики и пасторы стали уделять повышенное внимание народному образованию и школам. В течение семи веков они держали эстонцев и латышей в самом грубом невежестве, ставя жёсткие препоны формированию национальной интеллигенции. Движение же крестьян к православию, а значит и к России, показало им, что местное население, которое они долгое время считали своими рабами, может легко изменить духовную и этнопсихологическую ориентацию края. Чтобы не допустить развития такого неблагоприятного для немецкой гегемонии сценария, помещики перестали скупиться на средства в сферу народного образования, а пасторы стали усердно заботиться о том, чтобы из учебных заведений выходили поборники всего лютеранского и немецкого. К 1860-м гг. в Лифляндии было открыто около 300 народных лютеранских училищ. Этот процесс воспитания лютеранина через школу в полной мере был распространён и на Эстляндию: лютеранских училищ здесь было лишь ненамного меньше.
Значение школы для срастания Прибалтийской окраины с Россией понимали не только православные священники края, но и государственно мыслящие чиновники в Петербурге. 1 мая 1850 г. император Николай I утвердил правила для православных школ, составленные на основании проекта епископа Филарета и генерал — губернатора Е.А. Головина. Православные школы, подобно лютеранским, разделялись на приходские (должны были быть по одной в каждом приходе при церкви) и волостные (вспомогательные), входящие в состав прихода. Обучение в приходских школах осуществлялось священниками и псаломщиками безвозмездно. Вспомогательные школы открывались в волостях по мере возможности и на средства крестьян. Преподавали в них учителя под руководством и надзором священника.
В программу приходских школ в качестве предметов обучения входили: катехизис, Священная история, русский язык, начала арифметики, церковное пение, чистописание.
В волостных школах обучали молитвам, чтению и письму на русском и на родном языке, четырём действиям арифметики. Образование было обязательным для всех здоровых детей в возрасте от 8 до 12 лет.
Значительный вклад в создание сети православных школ внёс архиепископ Платон. Его усилиями к уже имевшимся 28 школам были открыты ещё 79 новых приходских школ и 252 вспомогательные. В 1867 г. в этих школах обучались 9500 детей.
Важно подчеркнуть, что православные школы по многим позициям уступали школам лютеранским. Они размещались в тесных и убогих помещениях, не вмещавших всех желающих учиться. По этой причине многим крестьянским детям было отказано в приёме. Содержание и качество преподавательского персонала в лютеранских школах было на порядок выше, чем в православных. Учителя православных сельских школ постоянно бедствовали и, видя, как обеспечены лютеранские учителя (кроме хлеба от хозяев, они получали ещё и жалование от мыз), они отказывались от своих должностей. Когда же на их место не удавалось подыскать замену, школа закрывалась. Хотя Святейший Синод ассигновал из своего духовно-учебного капитала ежегодное пособие школам в размере 1000 рублей, этих средств явно не хватало. Поскольку православная паства, по сравнению с лютеранской, была относительно малочисленной, бедной, и к тому же ещё несла и лютеранские повинности, её силами было невозможно поправить положение православной школы в крае. Оставалось надеяться на благотворительность.
Для активизации деятельности по изданию книг, строительству храмов, организации приходских школ и благотворительных мероприятий по инициативе архиепископа Платона в январе 1867 г. было учреждено Рижское Петропавловское братство. При открытии братства архиепископ Платон обратился к собравшимся со следующими проникновенными словами: «Ужели вы откажитесь принять участие в том, что может улучшить быт ваших братии по вере и племени и вместе возвысить нашу народность в здешнем крае и принести различную пользу вашей Святой Церкви? О, если между вами найдутся равнодушные к этому, то я с прискорбием скажу: они плохие православные и недостойны имени русского!.. Многие из вас ропщут, что здесь русские в уничижении и без всякого значения; позвольте же спросить: что вы доселе сделали, чтобы здешние туземцы уважали вас? Многие из вас, как я слышу, винят начальство за то, будто оно мало заботится о православии и русских интересах в здешнем крае… а что вы сами делаете для них, и в особенности для православия? Вы тоже должны пещись о пользе их, потому что вы чада православной Церкви, члены русской семьи»{216}. Эти увещевания преосвященного Платона, безусловно, справедливы и актуальны по сей день. Но поскольку он так горячо взывает к благотворительности русских прихожан, которая относительно эффективна лишь тогда, когда развивается в рамках правительственного курса, а сама по себе едва ли может переломить ситуацию в крае, то в его словах трудно не почувствовать разочарованности политикой верховной власти в прибалтийских губерниях, которая (т.е. политика), судя по всему, оказалась ниже ожиданий, упований и просьб архиепископа.
VI.9. Условия формирования эстонской интеллигенции во второй половине XIX в. Идейно-политическое размежевание среди зарождающейся эстонской элиты
Покорение народов немцы всегда начинали с уничтожения элит. Так они поступили и с эстонским народом, который в течение многих веков не имел образованной прослойки, способной влиять на национальное самосознание соплеменников. Жестоко уничтожался и всякий смелый и непокорный элемент, способный поднять народ на борьбу. В то же время из среды местного населения немцы рекрутировали подручных (или, выражаясь современным языком, коллаборационистов) для исполнения роли кубьясов (надсмотрщиков), кильтеров (мызных надсмотрщиков), доносчиков, агентов влияния, с опорой на которых было легче управлять покорённым народом. Но эти подручные на службе у немецких рыцарей до такой степени себя дискредитировали и стали объектами такой ненависти и презрения народа, что сфера их использования всё больше ограничивалась текущими потребностями в исполнителях «грязной работы». А между тем время ставило новые задачи перед хранителями остзейского порядка. Движение эстонских и латышских крестьян к православию показало, что стихийно народ тянется к единению с Россией и не хочет обособления Прибалтийского края от России. Чтобы перенаправить это движение в условиях хоть и неспешного, но последовательного наступления России на привилегии немецкого меньшинства, одних репрессивных мер со стороны немецкого элемента было явно недостаточно. К тому же такие меры могли вызвать неудовольствие имперского центра с нежелательными для немецких господ последствиями. Требовались новые, более изощрённые технологии обеспечения обособленности Прибалтийского края. Нужно было, чтобы сам народ захотел такого обособления. А для этого были нужны национальные вожаки, являющиеся лютеранами по убеждению и способные оказывать влияние на народ в нужном направлении, т.е. в антиправославном, антирусском, антиимперском.
Реформы Александра II сообщили мощный импульс формированию национальной интеллигенции в Прибалтийском крае. Однако Россия не поспешила своевременно направить этот процесс в нужное русло и взять его под свой контроль путём утверждения через государственную Церковь, государственный язык и народное образование православно-русских начал в Прибалтийском крае.
Немцам удалось не только остановить движение к православию в крае, не только добиться возвращения назад в лютеранство части крестьян, принявших православную веру, но и оказать через лютеранскую Церковь и школу влияние на национальную самоидентификацию формирующейся эстонской интеллигенции (при всей ненависти эстонцев к своим поработителям). И это влияние оказалось настойчивее и мощнее православно-русского воздействия.
Со второй половина XIX в. немцы уже не могли сдерживать развития национальной эстонской культуры, народно-просветительской деятельности эстонской интеллигенции (пока ещё малочисленной), национального эстонского движения. Но они сделали всё от них зависящее, чтобы этот процесс, несмотря на нередко сопутствовавшие ему антинемецкие настроения, всё же развивался вокруг твёрдого лютеранского ядра. И это ядро подспудно тянуло в сторону от православной России, задавало пробуждавшемуся национальному движению антироссийский и антиимперский вектор.
Ещё в 1840-е гг. епископы Иринарх и Филарет, генерал-губернатор Головин разглядели в движении крестьян к православию акт стихийной массовой национальной самоидентификации коренного населения края с русским народом и российской государственностью. Но это движение не было поддержано своевременно и должным образом. В результате лютеранско-немецкий элемент перехватил инициативу и там, где это было возможно, наложил свою печать на мировоззрение формирующейся эстонской интеллигенции, а следовательно, и на формулируемые ею цели национального движения.
Поскольку эстонский народ в основной своей массе оставался крестьянским народом, то многовековые чаяния крестьян, испытывавших национальный и социальный гнёт немецких помещиков, не могли не влиять на повестку дня национального движения. Поэтому вопрос, как вывести крестьян из угнетённого состояния, улучшить их быт, сделать хозяином на своей земле, был стержневым для эстонских интеллигентов.
С другой стороны, так как немцам удалось утвердить практически монопольные позиции лютеранской религии в крае, а вместе с ней и немецкий характер региона с тяготением к Германии, то это обстоятельство не могло в дальнейшем не привнести в повестку дня элементы вестернизации, равнения на политические, социальные, экономические процессы, развивающиеся на Западе.
На первых же порах основное внимание было уделено развитию этнокультурной самоидентификации эстонцев. И здесь выдающуюся роль сыграл Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, врач из Выру и основоположник эстонской национальной литературы. Он явился составителем народного эпоса «Калевипоэг», впервые изданного в 1857–1861 гг. и оказавшего большое влияние на самосознание эстонцев. За этот труд Крейцвальд был награждён Демидовской премией Российской академии наук. Широкую популярность в народе завоевали и «Старинные эстонские народные сказки» Крейцвальда, а также редактировавшийся им «Полезный народный календарь», расходившийся огромным для того времени тиражом — до 25 тысяч экземпляров.
Вслед за Крейцвальдом, считавшим наследие предков славой и красой эстонского народа, собиранием и изучением народного творчества стали заниматься почти все виднейшие эстонские писатели и деятели культуры второй половины XIX в. Центром этой работы стало открытое в 1872 г. Общество эстонских литераторов, зарегистрированное под названием Общества грамотных эстонцев. Наиболее усердными собирателями народного фольклора были М. Веске, Я. Хурт, М. Эйзен, Я. Кырва, Ю. Кундер, П. Сюдда. Нередко они объединяли вокруг себя широкую сеть таких же увлечённых корреспондентов: учителей, ремесленников, крестьян, студентов.
Однако далеко не все виды народного творчества могли быть пропущены прибалтийско-немецкой цензурой и опубликованы. Прежде всего это касается цикла песен «Жалоба эстонца», получивших широкое распространение во второй половине ХГХ в. в устной форме и в рукописях и представлявших как бы подпольную народную литературу. В этих и других политических народных песнях различимо сильное неприятие 700-летнего угнетения эстонского народа немецкими баронами. И потому жалоба воспринимается не как бессильное причитание по несчастной судьбе, а скорее как готовность и призыв к борьбе. Вот как в одной из песен характеризуется историческая миссия немецких пришельцев:
Не меньше достаётся и пасторам, которые также причисляются к угнетателям и грабителям народа:
Народное творчество отражало и социальное расслоение в деревне. Наряду с продолжавшими бытовать бобыльими и пастушьими песнями появляются рифмованные батрацкие песни, направленные против крестьянина-дворохозяина — серого барона. Народ осмеивал и так называемых «можжевеловых немцев», т.е. эстонцев, стремившихся подражать всему немецкому.
Прежде основным народным развлечением были качели. Теперь к ним добавились деревенские гуляния с хороводами и хороводным пением. В основном это были любовные песни, большей частью заимствованные у немцев.
Одним из народных инструментов становится гармонь. Большую популярность получают русские народные песни, особенно привились песни узников, бродяг, солдатские песни.
Примечательно, что народ сохранил благоговейное отношение к русскому государю, которое всегда так умиляло и обезоруживало русских чиновников, заставляя сочувствовать простым эстонцам в их распрях с баронами и пасторами. Вплоть до революции 1905 г. эстонцы в своих песнях возносили хвалу русскому царю, показывая тем самым, что свои надежды они связывают с верховной российской властью.
В 1869 г. состоялся первый всеэстонский певческий праздник, положивший начало национальной традиции эстонского народа, живущей и поныне. Он прошёл под общим руководством германофила И.В. Яннсена и покровительством лютеранских пасторов. Репертуар праздника состоял в основном из немецких песен религиозного содержания. И всё же это было событие, сообщившее импульс образованию местных певческих обществ, например «Ванемуйне» в Дерпте, «Ильмарине» в Нарве, «Койт» в Вильянди, и вместе с ними — дальнейшему развитию эстонской песенной культуры и певческих хоров, сыгравших значительную роль в укреплении национального самосознания эстонского народа. Первые эстонские композиторы формировались в процессе обработки народных мелодий и создания хоровой музыки. Подлинно народными стали песни А. Томсона и Кунилейд-Зебельмана, приобретшие популярность по всей Эстонии. В последнюю четверть века выдвинулись композиторы, окончившие Петербургскую консерваторию: И. Капель, М. Хярма, К. Тюрпну.
Народное творчество стало источником вдохновения и богатым материалом для целой плеяды эстонских писателей, которые, в свою очередь, стремились просвещать и образовывать народ, пробуждать в нём национальное самосознание. К этой плеяде литераторов, безусловно, принадлежит первая эстонская поэтесса, драматург и организатор эстонского театра Лидия Койдула, дочь газетного издателя И.В. Яннсена. Современниками был высоко оценён её сборник патриотической лирики «Соловей с берегов Эмайыги» (1967 г.). Как и в эстонских народных песнях, остриё помещённых в нём стихов было направлено против немецких помещиков. 24 июня 1870 г. в Дерпте состоялось первое открытое театральное представление общества «Ванемуйне». Автором пьесы и постановщиком была Койдула, считавшая, что сцена, снабжённая подходящим репертуаром, может стать неоценимым средством воспитания народа. Среди драматургических произведений Койдулы наибольшей известностью пользовалась пьеса из жизни крестьян «Этакий мульк, или Сто пур соли» (1871 г.).
Основы исторической повести, пробуждающей историческую память эстонского народа, заложил Эдуард Борнхёэ своей вышедшей в 1880 г. книгой «Тазуя» («Мститель»), действие в которой разворачивается на фоне восстания Юрьевой ночи. Повесть была очень популярна в народе, особенно среди студентов, благодаря чётко выраженному в ней призыву отомстить немецким угнетателям. Следующую свою повесть «Князь Гавриил» Борнхёэ посвятил событиям Ливонской войны, показав сотрудничество эстонцев с русскими воинами.
Во второй половине XIX в. сложилась эстонская национальная периодическая печать. Её основы были заложены в 1857 г. с выходом еженедельной газеты «Пярну Постимээс» («Пярнуский почтальон»). С 1864 г. И.В. Яннсен стал издавать в Дерпте газету «Ээсти Постимээс» («Эстонский почтальон»). В дальнейшем газеты превращаются в идейно-политические центры объединения представителей национальной интеллигенции.
Формами объединения служили и культурные кружки. Например, в Петербурге местные эстонские интеллигенты образовали кружок «Петербургских патриотов», или «Друзей народа», в котором виднейшую роль играл художник Иохан Келер, выпускник Петербургской академии художеств. Он же вместе с местными интеллигентами (П. Петерсон, А. Петерсон, Я. Адамсон) в середине 1860-х гг. поддержал петиционную кампанию крестьян Вильяндиского уезда, которые обращались к правительству с жалобами на помещичий гнёт и прошениями по улучшению своего быта. В ходе этой кампании быстро росло национальное самосознание эстонцев, которое, однако, оставалось в пределах монархического мировосприятия: социально-экономические проблемы доводились до верховной власти в форме прошений.
В Вильяндиском уезде зародилась и идея создания средней школы с преподаванием на родном языке — Эстонского Александровского училища. В 1871 г. в Эстляндии и эстонской части Лифляндии был начат сбор средств для реализации этого проекта. Сбором средств руководил специально созданный комитет, опиравшийся на сеть подкомитетов на местах, которые были превращены в центры культурно-просветительной работы среди эстонского населения.
Во второй половине 1860-х гг. началась общественная деятельность Карла Роберта Якобсона. Он начинал как учитель лютеранской приходской школы и кистер в Торма. Из-за конфликта с местным помещиком и пастором он переехал в Петербург, где продолжил учительскую карьеру и ближе познакомился с русской школой и достижениями русской педагогики. Здесь же Якобсон примкнул к кружку «Петербургских патриотов», поскольку решил посвятить свою жизнь освобождению эстонского крестьянства от прибалтийско-немецкого помещичьего гнёта. С 1865 г. он публикует на страницах «Ээсти Постимээс» статьи, в которых обличает помещиков и пасторов как угнетателей и виновников духовного невежества эстонского народа. Противопоставляя деятельность русской школы ведению школьного дела в Эстонии, он требует улучшить положение лютеранских народных школ. Сам же Якобсон внёс вклад в становление школьной литературы на эстонском языке, написав ряд учебников, которыми пользовались ещё в первые десятилетия XX в. В конце 1860-х гг. он всё чаще выступает публично. Особую известность приобрели его «Три патриотические речи», произнесённые в 1868 и 1870 гг. и затем изданные отдельной брошюрой. В них, а также в последующих своих публичных выступлениях он проводит мысль, что до прихода чужеземных захватчиков эстонцы были сильным и культурным народом, что немецкие пришельцы ввергли эстонский народ в рабство и нищету и до сих пор угнетают его. Обращаясь к славным страницам истории своего народа, Якобсон нередко прибегал к идеализации, с тем чтобы вселить в соотечественников веру в свои силы. Он говорил об упорном сопротивлении эстонцев своим поработителям и подводил к мысли о необходимости продолжения такой борьбы в современных условиях. Благодаря своим статьям Якобсон выдвигается в лидеры эстонского национального движения. Однако общественно-политическая программа Якобсона оказалась слишком радикальной для газеты «Ээсти Постимээс», которая с 1871 г. стала получать дотации от немецких помещиков. Поддерживаемый «Петербургскими патриотами», Якобсон решил основать новую газету. Её основную задачу он видел в развёртывании всесторонней критики остзейских порядков, в повышении культурного уровня народа, высвобождении его из-под влияния лютеранской Церкви и в пробуждении к активной общественной жизни. В 1878 г. вышел первый номер газеты Якобсона «Сакала». Сеть её корреспондентов охватила все уголки Эстляндии и эстонской части Лифляндии. За короткий срок число подписчиков достигло небывало высокой по тем временам величины — 4600 человек. На самом же деле количество читателей было на порядок больше, поскольку один и тот же экземпляр газеты читало, как правило, много людей.
В последующие три года был учреждён ещё ряд эстонских газет: «Тарту Ээсти Сейтунг» (1879 г.), «Валгус» (1880 г.), «Олевик» (1881). Первая же ежедневная газета («Постимээс», Дерпт/Юрьев) появилась в 1891 г.
Эстонская интеллигенция, сходясь в задачах пробуждения национального самосознания эстонского народа, облегчения его социально-экономического положения, реализации его вековой мечты о земле, вскоре разошлась в видении путей реализации этих задач, т.е. с кем ей быть и на чью помощь рассчитывать. Так эстонское национальное движение раскололось на два направления: русофильское и немецко-балтийское (терминология губернатора Эстляндии, князя Сергея Владимировича Шаховского).
Представители русофильского направления — публицист К.Р. Якобсон, художник И. Келер, писатель Ф.Р. Крейцвальд, поэт и языковед Михкель Веске, писатели Адо Рейнвальд и Юхан Кундер, редактор газеты «Вирулане» Яак Ярв и др. видели национальное, культурное и экономическое освобождение крестьян от пут остзейского порядка в более тесном единении с Россией и возлагали все надежды на центральное правительство.
Целью русофильского направления являлось создание свободного крестьянского землевладения и полная ликвидация всех феодально-сословных пережитков особого остзейского порядка. К.Р. Якобсон, называвший помещиков кровопийцами и паразитами, которые «впились, как пауки, в жилы эстонского народа», считал, что эстонец снова должен стать хозяином на своей земле. И. Келер, воспринимавший помещиков как рыцарей-разбойников, поскольку они продолжали грабить крестьян, придерживался мнения, что эстонские крестьяне имеют право безвозмездно получить обратно землю своих отцов. Помещикам же, как считал Келер, следует оставить в пользование такой процент земли, какой они сами составляют от общей численности населения.
Русофильски настроенные эстонские интеллигенты, несмотря на известный радикализм в высказываниях в отношении прибалтийско-немецких помещиков, не были революционерами и стояли на довольно умеренной политической платформе. Большая часть их требований была выработана в 1860-х гг. в ходе петиционного движения крестьян Южной Эстонии и носила форму коллективных прошений к высшей государственной власти. В более полном виде эти прошения были сформулированы К.Р. Якобсоном на страницах газеты «Сакала» и сводились, в частности, к следующему: запретить помещикам отнимать у крестьян землю, включать в крестьянские земли леса и торфяные болота, ликвидировать все формы отработочной ренты и прочие кабальные арендные договора, равномерно распределять налоги между мызными и крестьянскими землями, отменить телесные наказания, ликвидировать средневековые привилегии рыцарства и лютеранской Церкви, распространить на Прибалтийский край российскую земскую и судебную реформу, сделать школу светской с преподаванием на родном языке. Как видим, эти прошения в целом вписывались в реформы Александра II и не подрывали государственных устоев. Напротив, ослабляя позиции немецко-лютеранского элемента в крае, они объективно способствовали срастанию прибалтийской окраины с внутренними губерниями России. В то же время, как и во всяком национальном движении, существовала опасность, что на смену прибалтийско-немецкой обособленности края от России может прийти эстонский сепаратизм. По крайней мере, в 1860-е и 1870-е гг. такая опасность не обнаруживала себя явно, поскольку в борьбе за освобождение эстонского крестьянства от национального и социального гнёта немецких помещиков эстонцы-русофилы искали союзников в русском обществе, в среде русских либералов и славянофилов и пытались использовать трения, время от времени возникавшие в отношениях между немецким элементом в Прибалтийском крае и верховной российской властью, в интересах эстонского национального движения. Так, Якобсон развивал мысль о дружеском сотрудничестве славянских и финских народов. Он, в частности, писал: «Я всё более и более сознаю, что только в дружбе с русскими мы можем достигнуть тех целей, к которым стремятся лучшие люди нашего народа»{218}.
Русофильство эстонской интеллигенции подпитывал ось также их поездками в Петербург, получением образования в русских учебных заведениях, обращением в своём творчестве к достижениям русской литературы, музыки, живописи. Многие эстонские писатели (Веске, Кундер, Тамм и др.) были одновременно и переводчиками русской литературы. С конца 1870-х гг. благодаря их переводческой деятельности начинается интенсивное издание на эстонском языке произведений Пушкина, Гоголя, Крылова, Лермонтова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Л. Толстого. Таким образом, русская литература становится одним из источников формирования эстонской национальной литературы. О связи эстонских интеллигентов с русской литературой и вообще с Россией писал В. Веске к И. Келлеру в 1883 г. Огорчённый смертью И.С. Тургенева, В. Веске высказал такое откровение: «Русская слава — это и эстонская слава. Русская радость и русская боль — это также эстонская радость и эстонская боль»{219}.
В то же время Якобсон, Келер и их сподвижники стремились к сближению с деятелями культуры Финляндии. А там сепаратизм становился неотъемлемой частью национальной идеологии. Как могут трансформироваться цели эстонских русофилов, вероятно, в том числе и под влиянием интеллигенции родственного народа, свидетельствует эволюция взглядов А. Дидо (Тийдо), корреспондента газеты «Сакала» и единомышленника Якобсона и Веске. Так, в 1882 г. в одном рукописном стихотворении он высказал мысль об эстонской республике, показав тем самым, что Россия и русские, по крайней мере для части идеологов эстонского национального движения, могут оказаться лишь временными попутчиками.
Однако стремление к культурному и политическому обособлению края от России, составляющее вековое вожделение прибалтийских немцев, было более характерно для немецко-балтийского направления в национальном движении эстонской интеллигенции. Представители этого направления — редактор газеты «Ээсти Постимээс» И.В. Яннсен, лютеранский пастор Якоб Хурт и ряд других пасторов-эстонцев надеялись облегчить положение эстонского народа путём единения с прибалтийскими немцами. Хотя они и выступали за обучение на родном языке и за развитие национальной культуры народа, всё же стержнем национальной самоидентификации эстонцев они считали лютеранскую веру, всячески защищали авторитет лютеранской Церкви и тянули тем самым народ в сторону от России. Представители немецко-балтийского направления поддерживали наиболее благополучный элемент эстонской деревни — крестьян-дворохозяев, и особенно ту его прослойку, которая была тесно связана с дворянскими имениями и лютеранской Церковью. Они стремились содействовать развитию крестьянского хозяйства, пропагандируя сельскохозяйственные нововведения, выступая за денежную аренду, покупку крестьянами-дворохозяевами своих дворов в собственность. Их критика особого остзейского порядка и привилегий помещиков всегда носила умеренный и в целом примиренческий характер и не шла дальше просьб учитывать интересы крестьян-дворохозяев. Народу же рекомендовалось сохранять терпение и уповать на Бога. Русофильское и немецко-балтийское направления в среде эстонской интеллигенции не сразу приобрели характер политических партий. Поэтому губернатор Эстляндии князь Сергей Владимирович Шаховской[63] называл их партиями лишь условно. Во всяком случае, он обратил внимание на крайнюю непримиримость немецко-балтийской партии в отношении своего русофильского контрагента. Он отмечал, что вожаки немецко-балтийской партии — дворяне и пасторы пытаются всеми способами скомпрометировать первую партию. «Всегда неразборчивые в средствах, — свидетельствует Шаховской, — они не задумываются ни перед клеветой, ни перед инсинуациями, чтобы напугать правительство и выставить в его глазах приверженцев первой партии в качестве социалистов, революционеров, бунтовщиков, и даже рискуют, чтобы затемнить истину, приписывать этой партии специфические тенденции, т.е. такие, какие преследуются только ими одними»{220}. Такое свидетельство не удивляет, ведь все эти качества немецкие дворяне и лютеранские пасторы продемонстрировали во время гонений на православную Церковь и всё русское в Прибалтийском крае. «Можжевеловые» же «немцы» из числа эстонских интеллигентов доказали на направлении борьбы с инакомыслящими соплеменниками свою обучаемость по немецко-лютеранским канонам.
С.В. Шаховской считал «необходимым в видах установления более тесной связи местного края с Россией поддерживать первую партию»{221}. К концу своего губернаторства ему придётся столкнуться и с третьей партией, которую он назовёт патриотической или партией эстонских сепаратистов.
VI. 10. Политика духовно-нравственного единения России с прибалтийской окраиной при императоре Александре III и губернаторе Эстляндии князе Шаховском. Конфликт целей и возможностей
В лице Александра III на царский трон взошёл действительно русский человек, пусть не по крови, но по своим взглядам, пристрастиям и поступкам. Его любимым поэтом был М.Ю. Лермонтов, любимым писателем — Ф.М. Достоевский, любимым композитором — П.И. Чайковский{222}. Александр III был внимательным читателем известного славянофила и издателя газеты «Русь» И.С. Аксакова. Считал его честным и правдивым человеком, а главное, настоящим русским, каких, как полагал император, к несчастью, мало. В отличие от своего отца Александра II, в котором ещё была жива унаследованная от Николая I традиция покровительственного отношения к «самобытному правопорядку» в Прибалтийском крае, Александр III не только признал правоту Ю.Ф. Самарина, отстаивавшего суверенные права Российского государства в остзейских губерниях, но и в своей политике на прибалтийском направлении во многом осуществил его программу.
Конечно, основой для пересмотра императором отношения России к своей прибалтийской окраине служили не только труды Самарина и его единомышленников из лагеря славянофилов. К периоду царствования Александра III был опубликован большой объём материалов по балтийской проблематике, позволявших не только проследить историю становления и упрочения особого остзейского порядка, но и выявить прежние ошибки и упущения верховной власти, создающие риски русским интересам в крае.
В первую очередь речь идёт о сборнике материалов и статей по истории Прибалтийского края (Прибалтийский сборник) в четырёх томах — богатом собрании важных исторических памятников и ценных исторических документов, снабжённых переводчиками обстоятельными примечаниями и дополнениями на основании русских источников. Это издание появилось в 1877–1880 гг., в период реформ Александра II в крае, когда в городах края вводилось русское городовое положение и обсуждались в законодательном порядке проекты земской и судебной реформ. Эти реформы были встречены в штыки так называемыми приверженцами «прибалтийской старины», отстаивавшими «заповедные права», «автономные своеобразности», какие-то особенные условия существования Прибалтийского края. Российская же общественность высоко оценила Сборник, поскольку понимала, что он может сослужить добрую службу русскому делу на прибалтийской окраине: Сборник давал основу для серьёзной исторической проверки прибалтийско-немецких претензий, без которой было немыслимо разрешить вопросы будущего и возникавших проблем с положением государственного языка и государственной религии в крае.
По сути, Александр III продолжил унификаторскую линию Екатерины Великой в Прибалтийском крае и снял наиболее принципиальные отклонения от неё, допущенные русскими монархами в период после екатерининского правления.
Однако то, что в XVIII в. и даже в первой половине XIX в. могло быть ещё осуществлено без особых проблем, встретило сильное информационно-психологическое сопротивление немецкого элемента в последние декады века девятнадцатого. Прибалтийское дворянство, привыкшее задействовать свои старые связи среди петербургского высокопоставленного чиновничества, теперь апеллировало к общественному мнению Европы и в особенности Германии, которая с победой над Францией в 1870 г. и после своего объединения становилась опасной для России. Именно с немецкой подачи на нравственный облик Царя-Миротворца легла тень «шовиниста», «русификатора» и «реакционера».
Такой пропагандистский натиск, конечно, был поддержан вестернизирующейся российской интеллигенцией, не простившей императору, что он, несмотря на ходатайства Льва Толстого и Виктора Гюго, не помиловал убийц своего отца, а затем якобы отошёл от либеральных реформ 1860–70-х гг. Впоследствии к негативным оценкам деятельности Александра III присоединится и зарождающаяся российская социал-демократия, которая для мобилизации национальных окраин на борьбу с самодержавием сделает ставку на миф о «России — тюрьме народов», а также на требование права наций на самоопределение.
Однако самым опасным для русских интересов в Прибалтике явится солидарность представителей эстонской интеллигенции, а через неё и простых эстонцев с немецкой интерпретацией политики Александра III. Дело в том, что за сорок лет, с 1840 по 1880 г., когда верховная власть попустительствовала антиправославным (а по сути, антигосударственным) акциям баронов и пасторов, в лютеранских школах в духе неприятия и дискредитации всего русского было воспитано не одно поколение эстонцев и латышей. То есть инородческий вал на балтийском берегу был превращен в потенциально враждебный вал для России. И в этом немалая «заслуга» богословского факультета Дерптского университета, во время обучения на котором будущие пасторы (немецкого и эстонского происхождения) получали подготовку политических агитаторов против России. Здесь же созревали семена прибалтийско-немецкого и эстонского сепаратизма.
Что же такого реакционного совершил Александр III? В своей книге «Александр III» современный русский историк А.Н. Боханов убедительно показывает, что Царь-Миротворец не перечеркнул реформы отца, а только скорректировал их, сообразуясь с возможностями общества их принять, не дискредитируя смысл нововведений и не нанося ущерба государственным интересам{223}. По оценкам великого русского учёного Д.И. Менделеева, при Александре III были осуществлены чрезвычайно важные социальные и экономические преобразования, способствовавшие адаптации российского общества к набиравшим силу капиталистическим отношениям; значительно укрепилось могущество России, достигнуты выдающиеся успехи в развитии отечественной науки и культуры. Д.И. Менделеев объясняет и причину успехов. «Люди, прожившие царствование Александра III, — подчёркивает русский учёный, — ясно сознавали, что тогда наступила известная степень сдержанной сосредоточенности и собирания сил, направленных к простой объединённой мирной внутренней деятельности…»{224} Важно обратить внимание и на ёмкую сравнительную характеристику времён царствования Александра II и Александра III, которую дал философ К.Н. Леонтьев. Он, в частности, отмечал: «Те, кто пережил лично времена Александра III, не могут себе представить резкой разницы его с эпохой Александра П. Это были как будто две различные страны. В эпоху Александра II весь прогресс, всё благо в представлении русского общества неразрывно соединялись с разрушением исторических основ страны. При Александре III вспыхнуло национальное чувство, которое указывало прогресс и благо в укреплении и развитии исторических основ. Остатки прежнего антинационального, европейского, какими оно себя считало, были ещё очень могущественны, но, казалось, шаг за шагом отступали перед новым, национальным»{225}.
В чём же проявили себя на прибалтийской окраине так называемые «шовинизм» и «русификаторство, приписываемые Александру III? Он просто сделал то, что задолго до его царствования стояло на повестке дня ещё Екатерины Великой. 14 сентября 1885 г. Александр III утвердил закон, предписывавший всем присутственным местам и должностным лицам вести делопроизводство на русском языке, т.е. государственный язык в качестве обязательного был распространён на прибалтийские губернии Российской империи. А ведь дело доходило до того, что местные чиновники, ввиду незнания государственного языка, а также защищая остзейские особые устои, отказывались принимать документы на русском языке. В судах, казённых учреждениях, в учебных заведениях — повсюду господствовал немецкий язык.
Закономерно, что статус русского языка как государственного, а также потребность в подготовке кадров чиновников, служащих, специалистов со знанием государственного языка потребовал перевода учебных заведений с немецким языком преподавания на русский. Средних учебных заведений с преподаванием на языках коренного населения местные остзейские культуртрегеры так и не создали. Преподавание в Дерптском университете также осуществлялось на немецком языке. Поэтому подготовка эстонской и латышской интеллигенции проходила в немецко-лютеранской культурной и идеологической среде. Таким образом, когда немецкий язык заменялся государственным, никакого ущемления национальных языков просто не могло быть, и говорить в этом контексте о «русификации» коренного населения значит ступать на тропу элементарного жульничества. К тому же среднее и высшее образование и в конце XIX в. сохраняло сословный характер и оставалось недоступным основной массе эстонцев и латышей. В те времена в средней и высшей школе учились всего лишь сотни человек и коренное население там отнюдь не преобладало.
Введением в политический оборот пропагандистского термина «русификация» прибалтийские немцы выражали своё несогласие с упрочением за русским языком статуса государственного в Прибалтийском крае и с ослаблением своих собственных позиций в контексте противостояния лютеранско-немецкого и православно-русского начал. Правда, им удалось убедить часть национальной интеллигенции, воспитанной в лютеранско-немецком духе, что перемены в политике имперского центра являются наступлением и на этническую самоидентификацию коренных народов. При этом умалчивалось, что эта самоидентификация мыслилась только в контексте процесса онемечивания местных этносов.
Особо следует сказать о приходских народных школах, вызволявших из темноты неграмотности тысячи крестьянских детей. Долгое время немецкое дворянство относилось равнодушно к образованию туземцев и как только могло препятствовало появлению лютеранских народных школ. Закон 1819 г. о создании волостных школ, принятый центральным правительством, ввёл обязательность начального обучения и заложил основу развития системы народных школ в прибалтийских губерниях. Поначалу процесс создания народных школ развивался медленно. Тем не менее за 40 лет (с 1801 по 1840 г.) была открыта 241 школа{226}. Однако наиболее быстрый количественный рост пришёлся на 1840-е и 1850-е гг.: за 20 лет (с 1841 по 1860 г.) были дополнительно открыты 322 школы. Такое резкое повышение внимания местных остзейских властей к народному образованию явилось реакцией на массовый переход латышей и эстонцев в православие и открытие при православных церквах приходских школ, чтобы, согласно инструкции Николая 1, «дети новоприсоединившихся не были лишены тех средств к изучению Закона Божия, которыми они уже пользовались, состоя в лютеранстве»{227}. Вместе с тем выделения каких-либо средств из казны на содержание православных школ не предусматривалось. В то время как лютеранские школы строились и содержались господствующим элементом края — помещиками, пасторами и зажиточной частью крестьян, бедность православных прихожан не позволяла привлекать их к финансированию школьного дела. Православная сельская школа существовала на скромные средства Церкви и случайные пожертвования.
Заметим, что программы православных школ были значительно шире программ лютеранских. Если по положению 1819 г. в лютеранских школах обучали только чтению на родном языке[64], катехизису и пению основных церковных молитв, то православные школы — приходские и вспомогательные (расположенные далеко от церкви) обучали Закону Божию, чтению и письму на родном и русском языке, начальным правилам арифметики и церковному пению.
Первоначально руководство и контроль обучения в православных школах осуществлялся только православной Церковью (местные помещики были устранены от управления православными школами). Затем с 17 декабря 1869 г. к общему руководству был подключён специально созданный Совет по делам православных народных училищ Дерптского учебного округа, а для надзора на местном уровне были задействованы учреждённые в этих целях приходские попечительства. С июня 1873 г. надзор стал осуществляться министерством народного просвещения через кураторов — инспекторов народных училищ для эстонских и латышских школ.
Что касается финансирования, то в 1870 г. министерство народного просвещения и Святейший Синод стали отпускать в год 22 190 рублей на наём и содержание школьных помещений. В 1879 г. эта сумма была увеличена до 40 000–45 000 рублей и оставалась на таком же уровне до 1914 г. Этих средств не хватало, и дефицит время от времени частично покрывался за счёт поступлений от железнодорожного ведомства, различных жертвователей и т.п. Согласно докладу протоиерея В.П. Березского, зачитанному 29 марта 1914 г. в доме духовного ведомства в Петербурге, на содержание православных школ требовалось не менее 250 000 рублей в год{228}, т.е. на порядок больше тех сумм, которыми школы должны были обходиться.
Немалые материальные трудности, с которыми сталкивались православные школы с начала своего возникновения, объясняют и крайне неудовлетворительное состояние мест обучения, и низкое вознаграждение (или даже отсутствие такового) за преподавательский труд, и недостаток квалифицированных учителей.
Однако сам факт появления православных школ даже в таком неудовлетворительном состоянии очень встревожил местное рыцарство, ибо, столкнувшись со стихийным движением эстонцев и латышей к духовному единению с Россией, оно осознало опасность утраты немецкого характера края. Одновременно в сельской лютеранской школе, контролируемой местными учреждениями, они увидели важный инструмент отстаивания своих позиций через воздействие на крестьянских детей в нужном направлении в духе балтийского сепаратизма и вражды к России{229}. Достижение этих целей виделось в процессе онемечивания крестьян.
Лифляндский гофгерихт фон Бокк в своей книге «Вклады Лифляндии в распространение основательных знаний о местной протестантской Церкви и немецкой администрации в Остзейских провинциях России, об их правоте и борьбе за свободу совести» (впервые издана в Лейпциге в 1867 г., затем неоднократно переиздавалась в Прибалтийском крае) чётко обозначил взаимосвязь между пережитой немцами «бурей» — движением крестьян в православие в 1841–1845 гг. и оживлением деятельности лютеранских школ. Он подвёл и промежуточные итоги школьного образования по-остзейски. «Правда, онемечение поселян латышского и эстонского племени, — констатировал фон Бокк, — ещё не доведено до конца, но между ними есть уже так называемые полунемцы, т.е. переживающие процесс онемечения … И если б можно было добиться, чтобы русские, хотя бы в продолжение нескольких десятилетий, не тревожили, не подстрекали их и не расшатывали бы беспрестанно крестьянских учреждений, то начавшееся развитие при нынешних общественных отношениях пошло бы наилучшим, быстрым, здоровым немецким ходом….Кто сколько-нибудь способен понимать кризис, переживаемый немецкими Остзейскими провинциями России, тот должен признать, что, в сущности, и на практике он сводится к одному: останется ли направление сельских народных школ в руках местного рыцарства или перейдёт к так называемому Министерству народного просвещения»{230}.
Суждениям фон Бокка вторили остзейские единомышленники на местах. «Наша немецкая школа процветает, — ликовали они. — Согласитесь, что это настоящий шаг вперёд к германизму». Вслед за Бокком главным препятствием на этом пути они считали намерение верховной власти «осчастливить» Прибалтийский край «православным языком»{231}.
Растущее обособление от России Прибалтийского края с втягиванием через народную школу в этот процесс коренного населения не могло не вступить в резкое противоречие не только с национально-государственным курсом Александра III и национально-религиозным характером его политики, но и соображениями безопасности и территориальной целостности страны перед лицом пангерманских настроений в набиравшей экономическую и политическую мощь Германии. А потому 19 февраля 1886 г. лютеранские сельские школы, находившиеся в управлении местного дворянства и лютеранского духовенства, были переданы в Министерство народного просвещения. В ведении пасторов оставалось только преподавание религии. По закону от 17 мая 1887 г. в низших училищах края было введено преподавание на государственном языке, за исключением занятий по родному языку и религии и с отсрочкой исполнения закона до 1992 г. для первого и второго года обучения. Таким образом был положен предел безраздельному господству прибалтийского дворянства над крестьянской школой.
Александр III придавал большое значение широкому развитию в империи сети церковно-приходских школ, считая просвещение ума одновременно с религиозным просветлением важным залогом нравственного здоровья народа и непременным условием дальнейшего уверенного существования России. При нём значительно увеличилось число церковно-приходских школ в империи. Этот процесс был распространён и на Прибалтийский край. Сравнение лютеранских приходских школ с православными позволяет определить различие между немецким «культуртрегерством» и миссией православной школы. В первом случае сельская школа работала на разрыв с Россией, на идеологию пангерманизма, на втягивание крестьянских детей в раздуваемый конфликт западной и православной цивилизаций. Православная же школа создавала условия для приобщения инородцев к русской государственности путём «живого и сердечного усвоения православно-христианской религии» на их родном языке. И в этом виделся залог мира и спокойствия в крае. Православные церковно-приходские школы организовывались не с целью «русификации» эстонцев и латышей, а для их религиозно-нравственного образования Русской Православной Церковью, утверждения в православии, а также обучению русскому языку как средству государственного общения{232}. При этом православная Церковь, испытавшая в Прибалтийском крае несправедливые гонения со стороны лютеранства, никогда не вступала на путь вражды с немецко-лютеранским окружением и, участвуя в решении вопроса о просвещении прибалтийских народов, не привносила дух религиозной нетерпимости в православную школу. Не произошло это и тогда, когда русский император решительно встал на защиту государственного языка и государственной религии в крае.
Поскольку прибалтийско-немецкая аристократия воспрепятствовала осуществлению земской реформы в крае, то не был реализован и такой её важный элемент, как земская школа, ставшая в России, благодаря приходу в неё в 1860–1880 гг. нового поколения педагогов, начальной школой нового типа. Здесь была возрождена практика объяснения учителем нового материала, разъяснения всего непонятного для ученика, внедрён принцип объяснительного чтения, способствовавший расширению элементарной программы за счёт включения сведений из предметов, выходящих за её рамки. Всё это развивало интерес к учению, прививало навыки работы с книгой, подготавливало к дальнейшему самообразованию. Морально-психологическая атмосфера жизни земской школы определялась уважением к личности ученика, приоритетом моральных и нравственных мер воздействия, отсутствием принуждения и физического наказания{233}. По признанию министра народного просвещения И.И. Толстого, из опыта работы земской школы правительственная школа позаимствовала много хорошего{234}.
Конечно, земская школа, если бы она была создана по российскому образцу, потребовала бы прилива новых учительских кадров и преподавание в ней и родного, и государственного языка было бы поставлено лучше. Кроме того, привнесение в учебный процесс опыта российских преподавателей явилось бы одним из факторов повышения общеобразовательного уровня эстонских и латышских крестьян, сломало бы остзейские рамки их самовосприятия и способствовало бы сближению прибалтийской окраины с Россией. Поэтому немецкие культуртрегеры не допустили в Прибалтийский край ни земскую реформу, ни земскую школу.
Вместе с тем необходимость хорошего владения государственным языком всё же осознавалась прибалтийским крестьянством, как православным, так и лютеранским. До 1860 г. русский язык преподавался лишь в шести приходских школах Лифляндии. В 1866 г. в ответ на крестьянские петиции, поддержанные представителями русофильского крыла эстонской интеллигенции (в частности, К.Р. Якобсоном) и содержавшие просьбу ввести русский язык в программу сельской школы, министерство внутренних дел выступило с распоряжением, согласно которому крестьянские общества при желании и наличии необходимых условий могут начать преподавание русского языка в сельских школах. Стремление к изучению русского языка объяснялось не только поддержкой унификаторских мер правительства, постепенно разрушавших особый остзейский порядок, но и чисто прагматическими мотивами, определявшимися включённостью прибалтийских губерний в общероссийский товарообмен, а также переселенческим движением крестьян во внутренние губернии России. Поскольку качество преподавания русского языка в большинстве лютеранских школ было крайне низким (чаще всего сводилось к заучиванию букв, чтению простых слов и в лучшем случае к попыткам научить письму по-русски{235}, эстонские крестьяне, в том числе и лютеранского вероисповедания, стремились отдать своих детей в православные школы, в особенности если они были хорошо обустроены и русский преподавался уже с 1-го класса, а не с 3-го{236}. Таким образом, коренное крестьянское население, в отличие от своих немецких господ, вовсе не сопротивлялось так называемой «русификации», а руководствовалось той пользой, которую можно было извлечь из знания государственного языка, независимо от вероисповедания. Ведь в Советском Союзе, а затем и в России родители поступали точно так же, как и те эстонские крестьяне, когда отдавали своих детей в школы с преподаванием на английском, немецком, французском и других языках. И это не являлось и не является угрозой национальной самобытности, но расширяет кругозор ребёнка и возможности выбора профессии в будущем. Приобщение к государственному языку в сельской школе открывало путь в среднюю школу, а затем и в университеты, которые при Александре III были также подчинены общей цели осуществлявшихся преобразований: созданию условий для обретения Россией покоя и уверенности.
Ещё в 1884 г. был принят новый университетский устав, ликвидировавший автономию университетов, точнее, их обособленность от государства. Дело в том, что университеты, существуя на государственные средства, превращались в центры антиправительственной агитации[65]. Особые нарекания вызывал Дерптский университет. В русской прессе, защищавшей национально-государственные интересы России в Прибалтийском крае, он назывался оплотом враждебности к России. Озвучивались требования даже его закрытия. В 1889 г., т.е. через пять лет после внутрироссийской реформы организации высшего образования, Дерптский университет также потерял свою автономию: ректор, деканы и профессора теперь не избирались, а назначались министерством народного просвещения. В 1890 г. 37 профессоров выразили готовность вести занятия на государственном языке, который стал языком преподавания. В 1892 г. все факультеты перешли на русский язык, за исключением теологического. В результате произошедших перемен снизилось число немецких студентов, зато выросла доля эстонцев, латышей и особенно русских и евреев. Так, в 1916 г. русские составляли четверть студентов, на втором месте шли евреи (22,6%), затем немцы (15,7%), эстонцы (14,5%), поляки (6,8%) и латыши (6,3%){237}. В 1893 г. Дерпт был переименован в Юрьев, а Дерптский университет — в императорский Юрьевский университет. Знание русского (и немецкого) языков раздвинуло для представителей эстонских и латышских элит границы остзейских провинций и открыло возможности профессионального и социального подъёма на всей обширной территории империи. И этим они сумели успешно воспользоваться.
При Александре III стали возможны такие губернаторы, как князь Сергей Владимирович Шаховской в Эстляндии и Михаил Александрович Зиновьев в Лифляндии. Однако и здесь проявилась половинчатая политика центральной власти. Оба губернатора отстаивали русские интересы в Прибалтике, но каждый — со своих позиций. Шаховской принадлежал к кругу убеждённых славянофилов и стремился к объединению Прибалтийского края с империей не только в формально-административном, но и духовно-нравственном смысле, что предполагало опору на русофильскую эстонскую интеллигенцию, а через неё — и на народ, стремившийся к равноправию с немцами. Зиновьев был западником и считал, что правительству следует опираться в крае на консервативные дворянские элементы. Руководствуясь обширной программой по реализации политики Александра III на балтийском направлении, он, в случае обострения отношений с немецкой оппозицией, был всё же готов пойти на уступки там, где ему казалось это возможным. Шаховской же полностью исключал для себя как представителя государственной власти всякую торговлю с местным немецким элементом и настаивал на обязательности исполнения требований правительства. Видя, как немцы искусно и ловко опутали Зиновьева, этого, несомненно, русского и честного человека, Шаховской констатировал, что политика уступок в крае облегчает прибалтийским немцам борьбу с правительственными мероприятиями, и правительство в таком случае оказывается в заговоре против самого себя{238}.
Сам же Шаховской в период своего губернаторства в Эстляндии, прерванного скоропостижной смертью, выступил убеждённым борцом за утверждение православно-русских начал в крае и ни на шаг не отступил там, где спасовали его многие предшественники. За самоотверженную службу на благо России и противопоставление многовековому немецкому влиянию в крае решительных мер по сдерживанию процесса онемечивания этого стратегически важного региона прибалтийско-немецкие историки приклеили к его личности ярлыки «русификатора» и «русского шовиниста». Такие негативные оценки деятельности Шаховского были верноподданнически подхвачены «можжевеловыми немцами» из числа расколовшейся эстонской национальной интеллигенции, перекочевали в обличительную литературу революционной социал-демократии, боровшейся с подачи Ленина с «великодержавным русским шовинизмом» так же непримиримо, как и с самодержавием, а затем утвердились и в советской исторической литературе и, конечно, в современной эстонской историографии, в том числе и русскоязычной.
Чем же так не угодил князь Шаховской своим немецким, советским и эстонским критикам?
Будучи не только убеждённым христианином, но и дальновидным администратором, он выступил радетелем православия в Эстляндии{239}, ибо в присоединении местного населения к православию, в котором национальность сглаживается или вовсе исчезает, видел важнейшую предпосылку объединения Прибалтийского края с Россией и снятия так называемого остзейского вопроса. Эту позицию он неоднократно отстаивал в своих письмах 1886–1887 гг. к высшим государственным чиновникам. Обращаясь к обер-прокурору Святейшего Синода К.П. Победоносцеву, Шаховской так аргументировал свой подход, сложившийся в чёткое убеждение: «Суть дела заключается в уничтожении единственной политической связи между иноплеменными здешними господами и их рабами, заключающейся в общности религии. Ни для кого не секрет, что в здешнем крае протестантство есть политическое орудие, и притом весьма сильное, в руках балтов, преследующих в этом крае свои идеалы и цели, противоположные целям правительства… Протестантство продолжает быть чуждым природе населения, не удовлетворяет его духовной жажды, чем и объясняется лёгкость перехода крестьян не только в православие, но и в сектантство… Эсты и латыши могут стать русским людям близкими, считаться своими и действительно объединиться с великой русской семьёй, скорее всего сделавшись православными. Посему в основу объединительной политики должно быть прямо и откровенно поставлено православие. С падением протестантства падёт и так называемый остзейский вопрос»{240}.
Однако такая постановка вопроса, хотя в корне и верная, всё же была запоздалой, а потому и нереалистичной даже в условиях «обрусительной» политики Александра III. Дело в том, что такого же мощного движения снизу к православию, как в 1840-е гг., уже не было. Немцы через Церковь, школу, экономические репрессии, привлечение на свою сторону части национальной интеллигенции сделали максимум возможного, чтобы так напугавшая их «буря», вызванная переменой вероисповедания недавними рабами, не повторялась. Кроме того, прямой и откровенный упор на православие в процессе объединительной политики требовал больших денег на строительство православных церквей, церковноприходских школ, недопущение экономического притеснения новообращённых немецкими помещиками и пасторами. Достать таких денег в крае, хотя он и находился под суверенитетом России, было невозможно, поскольку экономические рычаги управления краем (прежде всего собственность на землю и доходы с неё) были по-прежнему в руках немцев. Привлечение же денег извне, например по линии государственного бюджета, пожертвований и т.д., никогда не достигало объёмов, способных принципиально решить проблему. Выделение ассигнований на нужды православной Церкви в крае всегда сопровождалось ссылкой правительственных чиновников на нехватку средств, было ниже потребности и гораздо ниже того финансирования культурной и религиозной инфраструктуры особого остзейского порядка, которое могли себе позволить немецкие дворяне и пасторы, опираясь на экономический потенциал Прибалтийского края. И это различие в финансовом и кадровом обеспечении не в пользу русского и православного дела в Прибалтике с годами только увеличивалось.
И всё же Шаховской во время своего девятилетнего правления в Эстляндии показал, как много может достигнуть администратор, честно служащий интересам России.
В 1883 г. в Прибалтийском крае началось третье массовое движение лютеран к православию. Если первые два движения (в 1841 г. при епископе Иринархе и в 1845 г. при епископе Филарете) разворачивались в Лифляндии, то третье происходило, главным образом, в Эстляндской губернии. Как и в первых двух случаях, это движение было вызвано тяжёлым социально-экономическим положением крестьянства, неприятием господства баронов, нравственно-религиозными исканиями крестьян, не находившими опоры в лютеранской Церкви, которая воспринималась как церковь господ.
На этот раз переход в православие был менее интенсивным. Его конкурентом явилось наступавшее с запада, с островов сильное сектантское религиозное движение: гернгутеры, субботники, ирвингиане (особенно пиетисты, или молитвенники), скакуны (или квакеры), баптисты и т.д. Православная Церковь ответила на вызов сектантов встречным движением с востока. И там, где эстонцы соприкасались с православными русскими (на границах с Лифляндией), сектантское движение не принимало таких болезненных форм, как на западном поморье Эстляндии.
Первоначально новая тенденция присоединения к православию заявила о себе в юго-западной части Эстонии. Крестьяне Леальского лютеранского прихода возмутились высокими ценами за церковные требы (в частности, за конфирмацию), и сразу же поползли слухи о том, что переходящие в православие освобождаются от церковных сборов, а земли имений помещиков будут разделены между православными крестьянами. 25 апреля 1883 г. первым принял православие портной Адам Пябо. За ним последовали другие, причём не только крестьяне, но и местный ремесленный и торговый люд. Из Леаля движение постепенно распространялось на окрестные волости и деревни. В 1883 г. в Эстляндии приняли православие 2469 лютеран и более 500 человек подали письменное заявление о своём желании перейти в православную веру. Пасторы и помещики, поддержанные немецкой периодической печатью, ответили не только информационно-психологическими акциями по компрометации движения, но и требованиями в судебном порядке от присоединившихся ликвидировать задолженности по лютеранским повинностям. А это могло привести к разорению крестьян. Никакие жалобы православных местным властям не помогали, поскольку те смотрели на сбор лютеранских повинностей как на законный акт.
Князь Шаховской, назначенный в 1885 г. губернатором Эстляндской губернии, вмешался в разбирательство подобных дел. Реализуя политику Александра III по защите православных верующих и православных общин, он подтвердил оспаривавшийся немцами указ от 13 ноября 1860 г. (ст. 587 и 588), запрещавший взимание с православных крестьян повинностей в пользу лютеранской Церкви, и запретил помещикам вносить в договорные контракты на аренду земли пункты, обязывающие православных нести лютеранские повинности. Крестьянин же получал право заявлять претензии при нарушении помещиками и пасторами закона о лютеранских повинностях.
Позиция Шаховского создала благоприятную атмосферу для новообращённых и ослабила сопротивление помещиков и пасторов. Немалую роль в этом отношении сыграли и решения Александра III, которые Шаховской неукоснительно выполнял.
Так, лютеранские консистории (территориальные церковно-административные управления) были поставлены под контроль центральной власти, а лютеранские проповедники, препятствовавшие принятию православия местным населением и осложнявшие деятельность православных приходов, теперь отрешались от должности. Если бы такие решения были приняты в 1840-х гг., вопрос о цивилизационном единении прибалтийской окраины с Россией не стоял бы так остро при Александре III. Теперь же за период 1883–1887 гг. (при архиепископах Донате и Арсении) к православию в Эстляндии присоединилось 12 500 крестьян{241}. В 1888 г. движение стало спадать, но не прекратилось, а вошло в более умеренное русло.
Рост числа новообращённых потребовал создания новых приходов. До 1883 г. в Эстляндии действовало 13 церквей. В период 1883–1893 гг. было открыто 19 приходов. На первых порах богослужение, как это имело место и раньше, совершалось в тесных крестьянских избах, специально нанятых помещениях, не вмещавших всех желающих молиться. Прежний опыт показывал, что долгое оставление приходов в таком жалком состоянии чревато отпадением новообращённых чад, ещё не утвердившихся в православии. В этих условиях князь Шаховской выступил оперативным и настойчивым ходатаем правительственной помощи. Поскольку в Империи при Александре III развернулось невиданное прежде строительство церквей и часовен, правительство удовлетворило ходатайство эстляндского губернатора, выделив на строительство церквей, приходских училищ и причтовых зданий 420 000 рублей с рассрочкой на 6 лет.
Помимо обеспечения финансирования строительных работ Шаховской решил вопрос и с приобретением земельных участков под церкви и церковные здания. Долгое время создание православной инфраструктуры в крае заметно тормозилось неуступчивостью большинства помещиков, наотрез отказывавшихся в вопросе о земле вступать в какие-либо соглашения с православной Церковью или же запрашивавших чрезмерно высокую цену, что было равносильно отказу. По этой причине православные храмы часто строились вдалеке от населённых пунктов (на расстоянии 3–4 км), на бросовой земле или даже в лесу, куда доступ прихожан был неудобен и затруднён. Князь Шаховской решительно изменил такое положение вещей, приступив к безусловному и безотлагательному исполнению Указа Александра III от 10 февраля 1886 г. «Правила о порядке отчуждения и занятия частных недвижимых имуществ для надобностей православных церквей, молитвенных собраний, кладбищ, причтов и школ в прибалтийских губерниях». Теперь, в случае невозможности достичь добровольного соглашения с местной властью и собственниками недвижимости, требуемый земельный участок принудительно отчуждался с уплатой владельцу соответствующего вознаграждения. Применение «Правил отчуждения» отрезвило местных землевладельцев и облегчило задачи православной Церкви.
Губернатор Шаховской считал, что стремление к переходу в православную веру, проявившееся среди эстонского населения губернии, имеет важное государственное значение, поскольку оно позволяет не ограничиваться введением единообразных учреждений, а стремиться к более широкой цели — внутреннему слиянию края с империей в исповедании единой веры. Имея в виду эту более широкую цель, Шаховской предложил создать в Ревеле епископскую кафедру и назначить на неё архиерея-эстонца, с тем чтобы он, благодаря знанию местного языка, стал деятельным миссионером православия в Эстляндии. В качестве кандидатуры на этот пост Шаховской предложил протоиерея Дионисия Тамма. Однако противники назначения эстонца на должность Ревельского епископа, в том числе и Рижское епархиальное ведомство, обращали внимание на то, что «представители православного духовенства эстонского происхождения относятся враждебно и с недоверием к своим сослуживцам русского происхождения». Отсюда следовал вывод, что назначение эстонца на должность епископа, хотя бы и не самостоятельного, а только викария Рижской кафедры, приведёт не к объединению и примирению племенной розни, а, напротив, к образованию среди местного духовенства крепко сплочённой эстонской партии, которая будет действительно стремиться к угнетению своих русских собратий{242}. Такую точку зрения разделял и обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, считавший, что знание епископом народного языка является весьма желательным, но при наличии остальных качеств, необходимых для его звания. В конфиденциальном письме он убеждал Шаховского: «Необходима большая осторожность в отношении к инородческому элементу: горькие опыты у нас на виду на всех наших окраинах….Верьте: покуда русская власть не стала в этом крае твёрдою ногою и русский элемент не приобрёл там решительного авторитета, неблагоразумно пускать эстонцев и латышей в высшие должности, особливо в Церкви»{243}. Касаясь миссии православия в Прибалтийском крае, Победоносцев советовал эстляндскому губернатору проводить благоразумную политику, т.е. действовать последовательно, двигаясь мерными шагами, но ничего не уступая из пройденного. Увлечение же мыслью о пропаганде, считал Победоносцев, может привести на ложный путь и испортить государственное дело. Чтобы не допустить этого, он писал Шаховскому: «Достаточно нам принимать искренно к нам идущих и наблюдать, чтобы было, куда принять их, т.е. к церкви, к пастырю и школе. Если этих устроим, остальное придёт само собой, но если заберём столько, сколько не можем устроить, то, несомненно, последуют отпадения. Важнее всего, чтобы то, что приобретено, оставалось за нами крепко»{244}.
Шаховской был вынужден признать реалистичность такого совета, поскольку на собственном опыте столкнулся с существованием пределов для расширения православно-миссионерской деятельности. Эти пределы ставило, в частности, действующее в крае особое остзейское законодательство, в котором закреплены политические и экономические права прибалтийско-немецкого дворянства. С опорой на свои права немцы препятствовали и распространению православия, и объединению края с Россией. Понимая, что сила всегда на стороне действующего закона, каким бы несовершенным и несправедливым он ни был, Шаховской, чтобы подорвать эту силу, утвердил государственный статус русского языка в крае. Кроме того, он настоял на проведении административных реформ суда и полиции, функции которых были изъяты из компетенции помещиков. При губернаторе Шаховском рождённых от смешанных браков стали крестить по православному обряду, а православные крестьяне больше не платили налогов лютеранской Церкви, которые прежде включались помещиками в арендные договора. Правда, все эти меры, хотя и способствовали размыванию языковых границ в империи и улучшали правовое положение крестьян, но всё же не решали остзейский вопрос во всей его полноте. Поэтому Шаховской, руководствовавшийся во всех своих начинаниях и делах интересами государства, считал необходимым осуществить пересмотр статей 2-й части Свода местных узаконений, касавшихся устройства прибалтийского рыцарского сословия, с первоочередным исключением всех статей, дававших рыцарству политические права. Кроме того, он выдвинул проекты полной отмены повинностей в пользу лютеранской Церкви и установления строгой нормы арендной платы за крестьянские участки. С помощью последней меры он хотел вырвать из рук помещиков и Церкви такой мощный рычаг давления, как право неограниченно повышать арендную плату. Однако в условиях, когда реформы суда и полиции проходили в крае с большим скрипом, предложения и проекты Шаховского не встретили в министерстве внутренних дел ни понимания, ни одобрения, и оно, согласно оценкам губернатора Эстляндии, продолжало проводить «недостойную политику», «способную убить самую закалённую энергию»{245}.
В таких условиях ничего другого не оставалось, как сосредоточиться на реализации совета Победоносцева: закреплять и делать необратимым уже достигнутое, т.е. продолжить формирование православной инфраструктуры в Эстляндии, создавая православные храмы и приходы. Во все девять лет своего губернаторства Шаховской отдавался этому делу с любовью и интересом.
Он стал председателем особого комитета для сбора по всей империи пожертвований на строительство Александра-Невского кафедрального собора на Вышгороде в Ревеле[66]. Комитет обратился с воззванием к православным россиянам помочь совершить святое дело — построить соборный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. К 15 сентября 1899 г. сумма пожертвований достигла 434 623 рубля. 30 апреля 1900 г. состоялось торжество освящения построенного собора.
Шаховскому не удалось дожить до освящения Александро-Невского храма. Зато в 1891 г. при исключительном содействии губернатора и в дни его жизни был открыт Пюхтицкий Успенский женский монастырь. Устройство монастыря князь Шаховской считал делом своей жизни и смотрел на него как на связующее звено между русскими и эстонцами в процессе утверждения православия в Эстляндии. В монастыре было образовано два хора. Один пел на церковнославянском языке, другой — на эстонском. Проповеди и богослужение также были на двух языках. Князь Шаховской, согласно своему завещанию, был похоронен в Пюхтице. Вдова губернатора Е.Д. Шаховская, оставшаяся жить в монастыре, построила над могилой своего супруга храм во имя преподобного Сергия Радонежского.
После смерти князя Шаховского достойного продолжателя его дела на посту губернатора Эстляндии не оказалось. Процессы и явления, которые вызывали тревогу Шаховского, только усилились. Это видно из решений епархиального съезда духовенства Рижской епархии, состоявшегося 28 октября — 13 ноября 1908 г. в Риге{246}.
В числе вопросов, обсуждавшихся на съезде, первым в программе стоял вопрос о мерах к утверждению прихожан церквей в православии и предохранению их от перехода в иноверие. Были названы и причины такого перехода. Они не новы и вылились в очередные упрёки правительству, не поддержавшему своевременно массовое движение в православие, не выделившему необходимых средств на православные приходы и школы и не оградившему прозелитов от антиправославной пропаганды, репрессий и преследований лютеран. Депутаты констатировали: если бы движение было понято своевременно, если бы прозелиты были поддержаны, то православных в настоящее время в крае было бы не 200 тысяч, а миллион. Тогда местное население в себе самом бы имело силу, которую было бы трудно поколебать. Теперь же, отмечали депутаты, в православии осталась незначительная и к тому же беднейшая часть населения, не могущая составить более или менее значительной силы.
Съезд обратил внимание и на новую тенденцию. Она выразилась в привлечении пасторами к антиправославной пропаганде местной эсто-латышской печати, которая сосредоточилась исключительно на сообщении сведений, унижающих православие. При этом нередко использовались нападки на православие со стороны российских левых печатных органов. Так, были подхвачены и переиначены на разные лады вздорные слухи относительно отца Иоанна Кронштадтского, распространявшиеся в одно время петербургскими газетами[67], и никакие объяснения или письма в редакции не помогали. Их просто не печатали. На просьбу протоирея А.В. поместить его отзыв о духовном журнале «Waimulik Sonumitooja» редакция одной эстонской газеты ответила, что не может этого сделать, боясь прослыть за обрусителей. Главную побудительную причину враждебности эсто-латышской печати к православию депутаты съезда увидели в узконационалистической тенденции, усердно раздуваемой местными близорукими политиками. Дело в том, в стремлении создать свою независимую национальную культуру эти политики, учитывая связь между культурой и вероисповеданием, сделали ставку на Церковь большинства, т.е. Церковь лютеранскую, которую стали трактовать в печати как особую национальную Церковь. При этом делались ссылки на Финляндию, родственную эстонцам, где лютеранство действительно стало национальной верой, восприняв особенности характера финского народа.
Эстонцам же и латышам в качестве национальной навязывалась церковь их угнетателей, всё ещё державших две трети местного населения в экономической кабале. Таким образом, местные народные деятели играли на руку немецкой политике, направленной на удержание первенствующего значения за лютеранской Церковью как условия немецкого духовного господства над местными народностями. Наиболее активными проводниками восприятия лютеранства как национальной религии эстонцев и латышей явились представители городского населения, наиболее подпавшие под немецкое влияние. На селе же на руку немецким вожделениям играли главным образом лица, находившиеся в тесном общении с немецким элементом или же зависевшие от него: деревенские лавочники, корчмари, мызные управляющие и т.д.
Хотя историческая память эстонцев и латышей оставалась пронизанной ненавистью к немецким поработителям, однако, будучи в течение семисот лет рабами и холопами тевтонов, эти народы всё же смотрели на своих господ снизу вверх и втайне преклонялись перед ними, их властью и богатством. Более того, они по-лакейски переняли у своих господ пренебрежительное отношение ко всему русскому. Иначе и не могло быть в условиях попустительства центральной власти остзейскому особому порядку в крае и слабому культурному и экономическому влиянию России и русских. Император Александр III своей политикой указал путь преобразований и перемен в крае. Но эти преобразования опоздали на целое столетие и потому силы оказались неравными, хотя при желании и средствах много можно было бы сделать. Говоря о том, что силы совершенно неравные, 27-й Епархиальный съезд духовенства Рижской епархии обращал внимание на следующее: «Как православные, сравнительно с лютеранами, представляют меньшинство, так и лютеранских деятелей несравненно более, чем православных….На одной стороне — масса, отличающаяся и богатством, и влиянием, на другой — в большинстве случаев одни бедняки; с одной стороны всяческая поддержка, с другой — надежда на собственные слабые силы; на одной стороне работают сотни и тысячи, на другой — число их ограничивается единицами и десятками. Сюда можно присоединить и то обстоятельство, что наши лучшие силы, получившие высшее образование и могущие быть полезными работниками как на ниве Христовой, так и на поприще гражданской службы, обыкновенно получают назначение внутрь России, а не в наш край, тогда как лютеранство старается сгруппировать и выдвинуть все наличные силы, не ставя им при их деятельности никаких преград»{247}.
Можно ли удивляться, что представители национальной эстонской и латышской интеллигенции так и не захотели понять, что Православие (и об этом говорилось на епархиальном съезде) не есть религия одного какого-либо народа, а действительно мировая религия, объединившая и возродившая многие народности, и поэтому как национальная религия более пригодна для местного населения, чем лютеранство, представляющее собой продукт немецкого духа. Местная же пресса старалась представить всё русское, а вместе и с тем и православие, как нечто тёмное, отсталое и не стоящее внимания. Если в 1840-е годы латыши и эстонцы желали присоединиться к православию, потому что воспринимали его как «царскую веру», то в первой декаде века двадцатого православие стало для них просто «русской верой», на которую они перенесли скептическое и даже враждебное отношение ко всему русскому, внушённое немцами и собственной национальной интеллигенцией, обслуживающей немецкие интересы.
Согласно данным 27-го Епархиального съезда, к 1908 г. от православной Церкви отпало почти 10 тыс. человек. По этому поводу временный прибалтийский генерал-губернатор А.Н. Меллер-Закомельский сообщал председателю Совета министров П.А. Столыпину следующее: «В недавнее время немало латышей и эстонцев перешло из православия в лютеранство, чем порвана последняя связь их с русскими. Причины этого печального явления — слабый состав русского духовенства, в особенности сельского, бездеятельность, лень и недостаток умственного развития его, причём некоторые, предаваясь даже порочной и предосудительной жизни, отталкивают таким образом прихожан от православия. Трудно бороться с пасторами, более развитыми и лучше обеспеченными материально, да и мало рвения. Например, сам архиепископ Рижский не посещает епархию и обыкновенно, кроме Митавы, нигде не бывает»{248}. Такие нелицеприятные оценки православного духовенства в Прибалтийском крае — это, конечно, ещё и упрёк в адрес центральной власти, не позаботившейся своевременно о том, чтобы укрепить духовные, интеллектуальные и материальные позиции русских людей и православной Церкви в крае в той мере, в какой это необходимо для обеспечения стратегических интересов Российской империи на балтийском берегу.
В своём письме Столыпину Меллер-Закомельский обратил внимание ещё на одно важное обстоятельство. Он писал: «Как немцы, так латыши и эстонцы одинаково враждебно относятся к русским, причём латыши и эстонцы — или националисты, или социал-революционеры»{249}.
Глава VII.
Накануне великих потрясений
VII. 1. Завет Царя-Миротворца
Александр III перед своей кончиной дал последние наставления своему сыну и наследнику престола Николаю Александровичу. Один из советов навсегда запечатлелся в истории. «Помни, — сказал Александр III, — у России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн»{250}. Такой опыт Александр III, заслуженно названный Царём-Миротворцем, вынес из русско-турецкой войны 1877–78 гг., которая велась за освобождение балканских славян от турецкого владычества и в которой он сам участвовал. Безусловная победа русского оружия была «украдена» на Берлинском конгрессе «честным маклером» Бисмарком, с помощью которого восторжествовали интересы Англии, а также Австро-Венгрии, которую Бисмарк втайне поддерживал и с которой Германия в 1879 г. заключила союз. Так что «слава, политая кровью», вылилась для России в ничтожный внешнеполитический итог. Отрезвляюще подействовала и «неблагодарность» Болгарии, которая после освобождения русской армией встала на путь прогерманской ориентации. Это обнаружилось со всей очевидностью после избрания болгарским князем Фердинанда Кобурга — ставленника Германии и Австро-Венгрии. Александр III отказался признать Ф. Кобурга и на 8 лет прервал отношения с Болгарией. Несмотря на победоносную войну с Турцией, путь России к Проливам с севера, вопреки прежним ожиданиям, был закрыт. Кроме того, эта Балканская война имела разрушительные последствия для страны. Она не только истощила силы государства, потребовав огромных жертв от населения, но и стала на фоне унизительных дипломатических поражений России одной из причин внутренней нестабильности, обеспечившей благоприятную среду для деятельности деструктивных сил, которые убили Александра II.
Осмысление такого опыта определило переход к новой тактике в российской внешней политике. Это: осторожность, избегание новых конфликтов и осложнений, сведение к минимуму влияния внешних факторов на внутриполитическую ситуацию в России. В царствование Александра-Миротворца именно такую политику на правах исполнителя царской воли проводил министр иностранных дел Н.К. Гире — человек осторожный и убеждённый монархист. Причины миролюбивой внешней политики России германский представитель в Петербурге Б. Бюлов свёл к инстинктивному стремлению сохранить монархию, монарха и самодержавный порядок. Б. Бюлов, в частности, писал: «Гире прекрасно знает, что в России в случае военного поражения вспыхнет революция, по сравнению с которой Парижская коммуна покажется детской забавой»{251}.
Следует признать, что завет миролюбия и миротворчества, переданный Александром III своему преемнику, был чрезвычайно актуален. Он, конечно, не сводился к инстинкту личного самосохранения, а имел в виду благо России. Об этом же сказал и сам император: «Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я стремился дать внутренний и внешний мир, чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться, нормально крепнуть, богатеть и благоденствовать»{252}.
Действительно, в конце XIX — начале XX в. русские самодержцы были заинтересованы прежде всего и больше всего в мире. Философ и религиозный мыслитель И.А. Ильин писал: «По точному исчислению генерала Сухотина и историка Ключевского, русский народ провоевал буквально две трети своей жизни — за свою национальную независимость и за своё место под солнцем, которое оспаривали у него все соседи. Эти войны столетиями растрачивали его лучшие силы: гибли самые верные, самые храбрые, самые сильные духом, волею и телом. Эти войны задержали его культурный и хозяйственный рост. Им надо было положить конец….В общем, много славы, очень много ненужного бремени и огромные потери….Оставалось одно — мудрое и верное: неуклонно и искусно поддерживать в Европе и Азии равновесие сил и длительное замирение»{253}. Поэтому, как отмечал И.А. Ильин, ограждение России от ненужных войн и революционных безумий, которые шли из Европы и препятствовали проведению реформ, становилось важной задачей русских царей[68]. Россия как никогда нуждалась во внутренней и внешней стабильности, чтобы продолжить начатый Александром II процесс модернизации страны и вступить в новый век мощным, конкурентоспособным и, конечно, единым государством.
Важно подчеркнуть, что завет избегать войн вовсе не означал беспринципного капитулянтства перед противником или прямым агрессором. Когда пути Германии и России стали расходиться, Александр III пошёл на заключение русско-французского союза (конец 1893 г.). Согласно секретным положениям русско-французской военной конвенции, в случае нападения Германии или её союзников, поддержанных Германией, на одну из договаривающихся сторон, Франция должна была выставить против Германии армию в 1300 тыс. человек, Россия — от 700 до 800 тыс. При этом обе стороны обязывались ввести эти силы в действие «полностью и со всей быстротой», с тем чтобы Германия была вынуждена воевать сразу на двух фронтах{254}. Так Александр III ответил на сложившийся в 1879–1882 гг. Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) во главе с Германией. Этот шаг высветил подспудно развивавшийся процесс раскола Европы на два противостоящих блока, которые в дальнейшем сойдутся в жесточайшей многолетней схватке Первой мировой войны.
Николай II, вступив на престол, оставил союзный договор с республиканской Францией в силе, сохранив тем самым внешнеполитическую и военно-стратегическую ориентацию России на формирующуюся Антанту (Англия, Франция, Россия). Европа медленно, но неуклонно скатывалась в пучину войны.
На переломном этапе мировой и российской истории на царском престоле в лице Николая II оказался человек, оценки которого как государственного деятеля неоднозначны и чрезвычайно противоречивы: от осуждения и очернения — до идеализации. Достаточно вспомнить роман Пикуля «У последней черты» и поставленный по его мотивам фильм Э. Климова «Агония», являющиеся квинтэссенцией тенденциозных и идеологизированных оценок царствования Николая II.
Вместе с тем в советский период интерес к личности царя, к узнаванию всей неудобной для власти правды о его трагическом финале не удалось заглушить официальными трактовками совершённого злодеяния. Для того чтобы войти в музей «Ипатьевский дом» в Свердловске (теперь Екатеринбурге), где произошло убийство царя и его семьи, выстраивались очереди людей — местных, приезжих и просто следовавших через Свердловск дальше на восток. Например, по свидетельству одного очевидца, студенты-комсомольцы Казанского медицинского института, добровольно отправившиеся летом 1956 г. на освоение целинных и залежных земель в Павлодарскую область (Майский район, совхоз Ворошиловградский), во время длительной остановки их поезда в Свердловске, все, без исключения, пошли на организованную для них экскурсию в Ипатьевский дом. Они, точнее весь комсомольский поезд, отстояли очередь, чтобы выслушать рассказ женщины-экскурсовода и содрогнуться от жестокой правды, которую она донесла до них, воспроизведя пронзительные слова последнего Царя, обращенные к его убийцам: «И в детей стрелять будете?» Позднее Б.Н. Ельцин, будучи секретарём Свердловского обкома КПСС, отдаст приказ взорвать музей «Ипатьевский дом». На месте преступления останется лежать несколько брёвен. Затем здесь будет построена часовня. О пересмотре властью своего отношения к трагедии царской семьи может свидетельствовать организованное президентом РФ Ельциным торжественное перезахоронение останков царя и его семьи, которые, однако, не признаются подлинными Русской Православной Церковью, канонизировавшей Николая II как Государя-Великомученика. Тем временем один из убийц царя и его семьи спокойно умрёт в Центральной клинической больнице (бывшей Кремлёвской), не будучи привлечённым к ответу и нисколько не раскаявшись в содеянном.
Не вызывает сомнений, что на исторический облик Николая II легла длинная тень информационно-психологической войны, развязанной против царя внешними ненавистниками России и внутренними борцами с самодержавием всех мастей — от либералов до большевиков. Приходится констатировать и то, что и последний царь, и его окружение, и правительство эту войну проиграли. И это имело самые негативные последствия для судьбы Российской империи.
Современники отмечали в Николае II застенчивость, какую-то отстранённость от происходящих событий. Министр иностранных дел А.П. Извольский в своих воспоминаниях приводит следующие слова императора: «Если Вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею твёрдую и полную уверенность, что судьба России, точно так же как судьба моя и моей семьи, находится в руках Бога, Который поставил меня на моё место»{255}.
По мнению российского историка и дипломата М.В. Майорова, Николай II не обладал ни сокрушающей энергией Петра I, ни прозорливым умом Екатерины II. Как считает Майоров, последний император не соответствовал требованиям времени: образцом правителя для него был царь Алексей Михайлович (отец Петра I), хранивший традиции старины и самодержавия как основы могущества и благосостояния России{256}.
Такие характеристики легко вписываются в русло информационно-психологической войны, поскольку страдают односторонностью и не дают реалистичного представления о трагической личности последнего русского венценосца и его деяниях на благо России. Современный историк П.В. Мультатули в своём очередном исследовании, посвященном царствованию Николая II, развенчивает тенденциозные и несправедливые наветы на Государя, показывая, что и в помыслах, и в делах он был достойным преемником лучших российских самодержцев{257}.
Николай II, как и все российские императоры, с упованием на Бога и убеждённостью в божественной легитимности самодержавной власти совмещал активную деятельность по укреплению международных позиций России не только как великой державы, но и как части света. С могуществом империи он связывал и свою личную славу, и своё место в истории.
На западе он, помня завет отца, поначалу старался избегать открытых конфликтов, хотя равновесие на европейском континенте грозил нарушить германский рейх, озабоченный расширением для немцев «места под солнцем» и связанный узами «нибелунговой верности» с Австро-Венгрией, выступавшей соперником России на Балканах.
Однако на востоке российская политика не могла исключать возможность конфликтов, ибо планы на этом направлении были особенно дерзновенны. Здесь Николай II намеревался достойно завершить многовековой труд наших казаков, этих «красивейших своей отвагой из всех рыскавших по ещё молодой и просторной земле человеческих хищников», которые «с крестом на шее, несколькими зарядами за пазухой» и в сопровождении купеческой братии протоптали России путь через Сибирь к открытому ими Амурскому краю{258}. Николай II хотел исправить геостратегические промахи прежних самодержцев, не сумевших своевременно (в отсутствие конкуренции со стороны великих держав) воспользоваться подвигами русской вольницы, и обеспечить России выход через Манчжурию и Корею к тёплому Жёлтому морю, т.е. к тому востоку (или южноазиатским странам), для отыскания которого западные европейцы в XV и XVI столетиях предприняли целый ряд морских походов, открыв путь на юг Азии вокруг мыса Доброй Надежды. Этому великому геостратегическому замыслу отвечал и великий инфраструктурный проект: соединить железной дорогой военный порт Порт-Артур и город Дальний на Ляодунском полуострове через Маньчжурию, потом через всю Сибирь и Россию с Балтикой. Но в XX в. этому плану Николая II, поддерживаемому Германией, уже противостояли интересы Великобритании, а также США, которые, овладев Кубой, Гуамом и Филиппинами, «в несколько скачков оказались в самом центре великой восточной арены».
Уже с первого дня постройки Транссибирской железной дороги (строительство началось в 1891 г.) американские советники при японском министерстве иностранных дел убедили Японию в том, что Россия никоим образом не может удовлетвориться замерзающим на 100 дней в году и лежащим на закрытом море Владивостоком как конечной станцией своего грандиозного пути и будет искать нового, более удобного выхода на Корейском полуострове. В результате, как утверждали американские советники, Япония окажется на краю гибели, а потому ей следует предупредить Россию и самой занять Корею{259}. Поддерживаемая Великобританией и США, Япония стала готовиться к войне с Россией. Тем самым она добровольно взяла на себя роль «англосаксонского караульщика» при выходе России в Азию. Чтобы нейтрализовать Россию как конкурента в Азиатско-Тихоокеанском регионе, английским и американским стратегам было важно уничтожить торговый и военный флоты России, ослабить её до пределов возможного и оттеснить от Тихого океана в глубь Сибири{260}. Решение этой задачи виделось не только на путях сотрудничества с Японией в борьбе против России, но и в поддержке тех организаций и движений, которые направляли свои усилия на разложение Российской империи изнутри.
Как бы ни был миролюбив русский царь и как бы твёрдо ни следовал завету отца, геостратегическая обстановка не позволяла избежать войн. Япония, а затем и Германия хотели военной победы над Россией, которую воспринимали как помеху реализации своих жизненно важных интересов. При подготовке к военным действиям в расчёт принимался не только оборонный потенциал страны и боеготовность русской армии, но и внутриполитические факторы, активизируя которые можно было повлиять на ход военных действий в неблагоприятном для России направлении. Речь идёт о факторах, определявших внутриполитическую уязвимость России. К ним можно отнести следующие.
Во-первых, формирование в условиях начавшейся индустриализации нового социального слоя фабрично-заводских рабочих, ведущих стачечную борьбу за улучшение своего социально-экономического положения, восприимчивых к социалистической пропаганде и способных сыграть отведённую им Марксом роль гегемона в буржуазных и пролетарских революциях.
Во-вторых, нерешённость земельного вопроса в Российской империи на условиях, устраивающих крестьянское сословие; нарастание антагонизма между крестьянами и помещиками с перспективой их разрешения в массовых крестьянских волнениях с сожжением и разорением помещичьих усадеб, самозахватом земли и т.д.
В-третьих, обострение противоречий между либеральной интеллигенцией, связывающей будущее России с её вестернизацией (в первую очередь с парламентаризмом), и традиционной самодержавной властью.
В-четвёртых, распространение марксизма в Российской империи и формирование партии революционной социал-демократии, стремившейся переустроить мир по Марксу, но прежде, как и учил Маркс, поставивших перед собой цель разобраться с классом эксплуататоров в своей собственной стране[69].
В-пятых, рост этнонационалистических настроений на окраинах Российской империи, грозящих подорвать политическое единство и территориальную целостность страны.
Все эти факторы внутриполитической уязвимости России заявили о себе в период революционных событий 1905–1907 гг., детонатором которых стали поражения в русско-японский войне 1904–1905 гг.
VII.2. Провокация 9 января 1905 г. как спусковой крючок революции
Историки и политики не раз отмечали двойственный характер революции 1905–1907 гг.{261} С одной стороны, это была «революция извне», поскольку вызывалась внешним западным влиянием и отражала процесс распространения модернизации и вестернизации на Россию[70]. Проводником вестернизации выступала интеллигенция — русская и национальных окраин, стремившаяся перенять культурные, социальные и политические достижения Запада в привязке их к местным условиям. В этой своей роли она пользовалась идеологической, политической и финансовой поддержкой извне.
С другой стороны, это была революция «низов», не доверявших интеллигентам и боровшихся за улучшение своего социально-экономического положения.
Интеллигенция была слишком малочисленна, чтобы осуществить перемены в стране собственными силами. Поэтому она делала ставку на возбуждение и революционизирование «низов» и включение в их требования своих лозунгов и наиболее важных пунктов своей политической программы.
Историк С.А. Нефёдов в процессе анализа механизма революции 1905 г. выявил некоторые детали сходства революционных выступлений в России с первыми «революциями извне», которыми были европейские революции 1848 г., идеологически подготовленные распространением в Европе в 1840-х гг. либеральных идей английских и французских философов. К таким общим деталям он относит: роль либеральной интеллигенции как инициатора и организатора революционных событий; использование социальных конфликтов традиционного общества для привлечения на свою сторону рабочих; «банкетные кампании» с составлением петиций правительству; организацию шествий к правительственным учреждениям; использование приёмов политической провокации, например стрельбы из толпы по полиции, с целью спровоцировать кровопролитие и использовать его как повод, чтобы поднять на вооружённую борьбу с традиционной властью политически активное население{262}.
Бесспорно, события 9 января 1905 г. явились провокацией в духе «революций извне». Подготовка к ним велась по отработанным европейскими либералами сценариям. События развивались следующим образом.
Российская интеллигенция, не скрывавшая своей радости по поводу военных успехов японцев и неудач русской армии, выбрала для атаки на самодержавный порядок наиболее «благоприятный» с её точки зрения момент: недовольство народа в связи с поражениями в русско-японской войне.
Стратегия и тактика наступления на «царизм» была разработана на конференции в Париже (сентябрь 1904 г.). Деньги на её проведение были переданы японским военным атташе полковником Акаши Мотоиро через посредничество лидера финских сепаратистов К. Циллиакуса. На этой конференции главная партия либеральной интеллигенции «Союз освобождения»[71] договорилась с партией социалистов-революционеров (эсерами)[72] о совместных действиях. Было принято решение о развёртывании в России пропагандистской кампании с целью «возбуждения стачек и беспорядков» и «ниспровержения самодержавной власти». При этом не исключались и теракты. Для руководства такими подрывными действиями был создан особый комитет со штаб-квартирой в Петербурге. В него, в частности, вошли: писатели М. Горький, Н.Ф. Анненский, публицисты-народники А.В. Пешехонов и В.А. Мякотин, историк В.И. Семевский, либеральный адвокат Е.И. Кедрин и др.
Затем в соответствии с технологиями, опробованными во времена Французской революции 1848 г., начались «банкетные кампании». Примечательно, что правительство в надежде привлечь либеральную интеллигенцию на свою сторону разрешило ей осенью 1904 г. устраивать совещания и банкеты. Союз освобождения и Союз земцев-конституционалистов воспользовались открывшимися легальными возможностями для своей деятельности и в ходе банкетных кампаний показали свою способность организации массовых действий. Центральным звеном кампании стал Петербургский общеземский съезд (6–9 ноября 1904 г.) с участием 32 председателей губернских управ, семи предводителей дворянства, семи князей, нескольких графов и баронов. В ходе работы съезда делегаты выработали программу политических реформ: создание народного представительства с законодательными правами, введение гражданских свобод, равноправия сословий и расширение полномочий местного самоуправления. Эта программа послужила основой для многочисленных адресов и петиций земских собраний и банкетов интеллигенции. За короткий срок «митинг-банкеты» прошли в 34 городах. В конце ноября 1904 г. состоявшийся в Москве съезд предводителей дворянства солидаризовался с требованием земцев.
Хотя общеземский съезд считал возможным осуществление реформ только по почину монарха, однако главный пункт его программы был озвучен как угроза правительству. От имени съезда М.В. Родзянко заявил министру внутренних дел П.Д. Святополк-Мирскому: «Не будет представительства — будет кровь»{263}.
Святополк-Мирский счёл необходимым пойти на уступки либеральной части сословия, к которому принадлежал сам. В начале декабря он обратился к царю с предложением ввести выборных представителей в Государственный совет, чтобы избежать революционных потрясений. Николай II отклонил предложение Мирского, считая, что «власть должна быть тверда» и видя во всех разговорах земцев «только эгоистическое желание приобрести права при пренебрежении к нуждам народа»{264}.
Между тем либеральная оппозиция, будучи не в состоянии реализовать своё требование собственными силами, стала искать союзников в массах. Первыми откликнулись студенты. После нескольких неудачных попыток 5 декабря удалось организовать многотысячное шествие к резиденции московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича. На провокационные выстрелы из толпы полиция, пытавшаяся остановить демонстрантов, открыла ответную стрельбу. В результате несколько человек было убито, многие ранены. Но эта пролитая кровь не стала сигналом к революции. Союз со студенчеством не обеспечивал перевеса сил над традиционной властью. В то же время осуждение разгона демонстрации, высказанное Святополк-Мирским, свидетельствовало об отсутствии единства в правящих кругах в отношении реакции на происходившие и готовившиеся события. Великий князь Сергей Александрович обвинил Мирского в покровительстве оппозиции, и тот был вынужден подать в отставку, которую царь отсрочил на месяц. Николай II надеялся на поддержку традиционалистски настроенного народа и издал указы, которые простым людям были ближе требования созыва Учредительного собрания, в частности указов с обещанием ввести государственное страхование рабочих, разработать меры по устроению крестьянской жизни и т.д.
Какое-то время казалось, что традиционалисты одержат верх над вестернизаторами. Экономическая ситуация в стране (хороший урожай, оживление в промышленности) были явно не на руку оппозиции. Их попытки заманить в свои агитационные сети рабочих успеха не имели. Оппозиционеры недоумевали: где же тот пролетариат, о котором писал Маркс, и когда он появится на политической сцене, чтобы выполнить свою революционную миссию?
Чтобы обрести опору для своих требований среди рабочего движения, которое по своему содержанию было экономическим, интеллигенты-атеисты из Союза освобождения (В.Я. Богучарский, С.Н. Прокопович, Е.Д. Кускова) разработали инфернальный план: с помощью демагогических уловок перетянуть на свою сторону политически неопытного священника Георгия Гапона — поклонника творчества М. Горького и руководителя «Петербургского собрания русских фабрично-заводских рабочих», организованного властью, чтобы взять под контроль рабочее движение и не дать ему уйти в руки революционеров.
План удался. Гапон, прежде успешно воспитывавший рабочих в верноподданническом духе, переметнулся на сторону оппозиции (довольно частое явление в периоды политической смуты). Он стал, выражаясь современным языком, агентом влияния «освобожденцев», эсеров и социал-демократов в рабочем движении и помог использовать рабочих для провокации 9 января 1905 г.
Прологом к событиям 9 января явилась забастовка путиловских рабочих, в ходе которой планировалось передать петицию царю. Забастовка началась по согласованию с Гапоном 3 января в обстановке общего недовольства сдачей Порт-Артура. Поводом послужило увольнение четырех рабочих — членов гапоновской организации. Хотя трое из них были сразу же восстановлены в прежних правах, стачка была продолжена и сопровождалась новым витком экономических требований (повышение зарплаты для чернорабочих, согласование расценок и т.д.) Администрация не только отвергла новые требования, но и обратилась к властям, обвинив Собрание рабочих в нарушении принятого устава. Когда Гапон узнал о неминуемом закрытии своей организации, он пошёл на расширение забастовки, обратившись за поддержкой к вожакам оппозиционных партий. Поддержку он получил, но потерял свободу в принятии решений. К вечеру 7 января 1905 г. забастовка стала всеобщей: бастовали 130 тысяч рабочих. Это было достигнуто путём посылки агитаторов на предприятия. Там, где агитация не помогала, рабочих понуждали прекращать работу силой, а также обещаниями компенсаций (которые выполнялись) за потери в зарплате — 70 копеек в день. (Конечно, это были деньги не из бюджета полиции, которая прежде финансировала гапоновскую организацию.)
Крестный ход с челобитной батюшке-царю, который хотел провести Союз рабочих, вписывался в планы вестернизированной интеллигенции. Но старые традиционные меха ей удалось, используя Гапона, наполнить неудобоваримой и сомнительной для самодержавного порядка революционной настойкой. Прежняя петиция, с которой рабочие хотели обратиться к царю, пережила несколько редакционных поправок со стороны «советников» Гапона. В неё без согласования с рабочими были включены требования о созыве Учредительного собрания, об отделении Церкви от государства, о прекращении войны по воле народа, отвечавшем стратегическим интересам Японии и её союзников. Кроме того, категоричность некоторых формулировок нарушала прежний верноподданнический тон петиции и вызывала сомнения, что эти требования могут исходить от рабочих. На это указали три помощника Гапона, не согласные с окончательным текстом, но священник приказал им молчать. Что касается шествия, то внешне оно должно было сохранить характер крестного хода, в действительности же эсеры планировали провокации, вплоть до покушения на царя, если он выйдет к народу.
А что же власть? В тот решающий момент она обнаружила все те качества, которые в дальнейшем позволят революции достигнуть такого размаха, который потребует использования войск. Это: неспособность работать на опережение и перехватывать инициативу, попустительство либералам, безволие, ожидание приказов сверху, пассивность, позволявшая событиям свободно развиваться до опасных пределов, когда без применения вооружённой силы уже нельзя было обойтись.
Возникают вопросы: почему полиция не использовала имеющиеся у неё рычаги влияния на своего агента в рабочем движении Гапона и не воспрепятствовала его контактам и сотрудничеству с оппозицией? Непонятно, почему не были предприняты меры, чтобы «перевербовать» Гапона любыми средствами, ведь полиция знала и о новом содержании петиции, и о готовящейся провокации. К тому же Гапон был отнюдь не герой, легко поддавался внушению и, судя по всему, обладал качествами политического флюгера. Ведь вплоть до 5 января он рекомендовал рабочим листовок «не читать и жечь, разбрасывателей гнать, никаких политических вопросов не затрагивать»{265}. Не проходит и несколько дней, и вечером 8 января он озвучивает позицию, на которую его перетянули либеральные «советники»: «За один завтрашний день, благодаря расстрелу, рабочий народ революционизируется так, как другим путём нет возможности это сделать и в десять лет и затратив тысячи жизней{266}.
Почему же министр юстиции Н.В. Муравьёв, пригласивший к себе Гапона утром 7 января для объяснений, не арестовал запутавшегося священника, а закончил аудиенцию угрозой, что он выполнит свой долг, т.е. использует войска для разгона шествия, — по сути, сделает то, чего так жаждала оппозиция? Действительно, 8 января в столице было введено военное положение, по городу были расклеены объявления, запрещающие под угрозой применения силы любых шествий. Но почему, после того как власть продемонстрировала свою твёрдость, Святополк-Мирский всё же не принял депутацию от оппозиции (редактор журнала «Право», видный либерал Гессен, члены «особого комитета» Анненский, Горький, Пешехонов, Мякотин, Кедрин, Семевский, Арсеньев, Кареев) хотя бы для того, чтобы затянуть переговоры, выиграть время и постараться не допустить ни шествия, ни его расстрела? Почему, наконец, Мирский не принял и растерявшегося Гапона, который, по некоторым сведениям, пытался встретиться с ним, рискуя быть арестованным? И почему Гапон, несмотря на приказ царя, отданный после ознакомления с содержанием петиции, так и не был арестован? Почему власть сделала ставку на устрашение, а не на убеждение, а листки с разъяснениями рабочим (это сделал новый генерал-губернатор Петербурга Трёпов) о том, что они введены в заблуждение, что их нужды близки сердцу императора и будут рассмотрены, были вывешены только после кровопролития? Почему власть откликнулась на требования рабочих о страховании и сокращении рабочего времени опять-таки только после разгона шествия? А ведь этих обещаний оказалось достаточно, чтобы через три-четыре дня после событий 9 января рабочие вернулись на предприятия, их «религиозный энтузиазм», вызванный «пророком» Талоном, испарился, а в городе стали фиксироваться случаи избиения рабочими «интеллигентов-обманщиков» На все эти «почему» сегодня нет ответа. Очевидно одно, что представители власти не воспрепятствовали развитию событий 9 января по сценарию «революций извне», взятого на вооружение российской либеральной интеллигенцией.
Рабочих, большинство которых не знало о содержании петиции, с хоругвями, царскими портретами, пением молитв либералы вели на заклание, потому что буржуазной революции и их планам вестернизации России нужна была пролитая кровь. В пропагандистском раскручивании событий 9 января акцент делался на мирный характер шествия. Со стороны рабочих оно было действительно мирным. Они хотели принести царю челобитную о своих нуждах и малом заработке. Но в колонны влились представители оппозиции всех мастей (от либералов до большевиков), которые позаботились о том, чтобы власти увидели в шествии вызов и угрозу, связанные не только с содержанием петиции, но и с поведением демонстрантов. Горький и большевики ещё до начала столкновения стали выкрикивать лозунг «Долой самодержавие!» и подняли красный флаг. Вооружённые эсеры устраивали по пути беспорядки, рвали телеграфные провода, рубили телеграфные столбы. На Васильевском острове началось строительство баррикады, на которой был водружён красный флаг. Эти приёмы будут взяты на вооружение повсеместно по мере разрастания революции.
Рабочих вели якобы к царю, хотя царя в городе не было. Первоначально Николай II хотел выйти к народу, но его отговорили родственники. Впоследствии слухи о готовящемся на него покушении подтвердились. Кроме того, деструктивный, вызывающий текст петиции с требованием ограничения самодержавия, составленный «советниками» Гапона, делал для него такой выход невозможным.
На самом же деле на плечах рабочих, введённых в заблуждение о действительных целях шествия, оппозиционеры рвались к символу царской власти — Зимнему дворцу, взятие которого явилось бы торжеством революции. На этот случай уже имелся список кандидатов во «временное правительство» из числа депутации, которую не принял Святополк-Мирский. Войска, выполняя приказ, не подпустили толпу к Зимнему дворцу, которая, не понимая, что происходит, как заворожённая шла прямо в стреляющие шеренги. Только после пятого залпа, который дала стоявшая на мосту рота семёновцев, толпа отступила. По официальным данным, было убито 130 человек, с учётом жертв в последующие дни число убитых оценивалось в 150–200 человек.
Либеральная интеллигенция постаралась, чтобы события 9 января вошли в историю под провокационным названием «Кровавое воскресенье», а царь получил к своему имени одиозную приставку Кровавый.
Священный Синод осудил демонстрацию 9 января. Петербургское духовенство выступило с проповедями и беседами, изобличавшими провокационный характер шествия и оправдывавшими действия властей. При этом обращалось внимание на то, что выдача из церквей крестов, икон и хоругвей происходила без согласия священников, что это делали революционеры, переодевшиеся в священническое платье{267}. Несмотря на проведённые разъяснения, Церкви не удалось избежать утраты части своего влияния среди рабочих. Этому во многом способствовала оппозиционные издания, усилившие свои нападки на Церковь, обвиняя её в том, что она «покрывает своим высоким званием всё, что делает правительство»{268}.
Что касается организаторов провокации, то за собой они никакой вины не чувствовали, пролитая кровь их нисколько не смущала, ведь она вписывалась в их планы. Об этих планах красноречиво свидетельствует Горький: «Настроение — растёт, престиж царя здесь убит — вот значение дня. Итак, началась русская революция… Убитые — да не смущают — история перекрашивается в новые цвета только кровью. Завтра ждём новых событий более ярких и героизма бойцов»{269}.
О том, какого рода будут эти новые события, заявил в стихотворной форме член РСДРП А.В. Луначарский. Вот его слова:
Так начиналась в России буржуазная революция 1905–1907 гг., в ходе которой революционное движение «извне» соединилось с бунтом «низов», недовольных своим положением, и обрело в этом бунте опору и силу. Смута охватила всю страну. Но особенно сильно её пламя бушевало в Прибалтийском крае.
VII.3. Причины и движущие силы революционной смуты в Эстляндии
Революционное возбуждение, охватившее всю Россию, в Эстляндской губернии проявилось несколько позднее, чем в остальных прибалтийских губерниях. Вместе с тем в некоторых местностях Эстляндии антиправительственное направление сохраняло свою силу в течение довольно продолжительного времени.
Революционные события в Эстляндии были вызваны целым комплексом общих (т.е. типичных для всей Российской империи) и местных причин
К общим причинам можно отнести:
— Общие трудности положения государства в переходную эпоху, связанные с постепенной трансформацией аграрной страны в индустриальное общество и нарастанием противоречий между сторонниками традиционных начал и адептами вестернизации страны, между рабочими и буржуазией, между крестьянами, испытывавшими «земельный голод», и помещиками-землевладельцами, между центральной властью и национальными окраинами.
— Тяготы военного времени с наслоённым на них общим недовольством поражениями в русско-японской войне.
— Влияние извне, в частности заграничная пропаганда, которую русские сторонники традиционных начал, анализируя события 1905–1907 гг., связывали то с активностью агентов Японии и Англии, то с влиянием революционных партий Европы и Америки, то с деятельностью всемирного синдиката евреев в союзе с масонами и подрывными акциями других сил, которых воспринимали как врагов православной и самодержавной России.
— Агитация российских «освободителей», отразившаяся в постановлениях запрещённых квазиземских съездов, петициях «банкетных кампаний», заявлениях бесчисленных российских союзов — адвокатов, врачей, инженеров, профессоров, учителей, студентов, а впоследствии и их общего органа — союза союзов с примкнувшими к нему стачечными комитетами.
— Успехи социал-демократической пропаганды среди рабочих, держащей их сторону и сулящей им всякие блага.
— Формирование этнонационализма среди образованной прослойки инородцев, связывавших реализацию своих этносепаратистских вожделений с ослаблением Российской империи войной и революционной смутой.
— Деятельность союза русских инородцев, в котором наряду с поляками, евреями, армянами, шведами принимали, по-видимому, некоторое участие и финны, эстонцы, латыши, литовцы.
Местные причины совпадают с факторами общего недовольства эстонцев своим положением в течение семи веков: со времён порабощения их немецкими крестоносцами до периода революций в России. Это:
— Сохраняющийся национальный, экономический и социальный гнёт со стороны малочисленной немецкой касты (не больше 3,8% в Эстляндии), эксплуатировавшей труд эстонцев и смотревшей на них только как на рабочую силу, едва заслуживающих название людей. Это не только открыто заявлялось, но и самым унизительным для эстонцев образом подтверждалось на практике, питая их глубокую ненависть к немецким господам.
— Земельный вопрос в Эстляндии: с одной стороны, сосредоточение значительной массы земель в руках немецких помещиков, а с другой, практически непреодолимые препятствия для приобретения земли в собственность эстонскими крестьянами ввиду отсутствия кредитных учреждений; правовая необеспеченность пользования крестьянской арендной землёй, цена за которую могла быть в любое время повышена владельцем, в том числе и с целью разрыва арендного договора; неточное разграничение крестьянских арендных земель и помещичьих, что создавало основу для противозаконного своеволия немецких землевладельцев в ущерб интересам крестьян; формирование армии батраков, вообще не имеющих земли; односторонность узаконений и распоряжений правительства России, ставящих большинство эстонцев в полную материальную зависимость от крупных немецких землевладельцев.
На возможность катастрофы как неизбежного следствия ненормальных взаимных отношений привилегированного немецкого дворянства и латышского и эстонского населения указал в своём докладе сенатор Н.А. Манассеин, производивший в 1882–1883 гг. ревизию в Прибалтийском крае. Командированные сенатором чиновники разъезжали также по волостям, собирая данные в доказательство бесправного положения латышей и эстонцев. В докладе прямо говорится, что неблагоприятные для крестьян условия землевладения могут сопровождаться в будущем весьма нежелательными последствиями. Однако никаких выводов из материалов, собранных комиссией, сделано не было. Крестьянское население, связывавшее с деятельностью комиссии преувеличенные надежды на коренное изменение условий своего быта, так и не дождалось каких-либо результатов.
— Исторически сложившиеся приёмы управления российскими окраинами. Вместо того, как пишет А.С. Будилович, чтобы вступить в завоёванную в бесчисленных боях область под своим собственным боевым и культурным знаменем, как это делали в старину наши князья и цари, русские государственные люди с Петровской эпохи больше всего хлопочут о сохранении и утверждении в таких областях прежнего культурного слоя: немецкого — в Прибалтийском крае, польского — в Литве, шведского — в Финляндии. Главные заботы русских правителей обращены здесь не на укрепление русского обаяния или элемента, а на поддержание и усиление местных сепаратизмов. При этом интересы коренного большинства (в частности, эстонцев и латышей) приносятся в жертву материальным, культурным и религиозным привилегиям малочисленной местной знати другой национальности (т.е. немцев){271}.
Такая окраинная политика имела два основных последствия, обернувшихся во вред России. Во-первых, коренное население Прибалтики, направившее в своё время в комиссию Манассеина множество петиций с жалобами и просьбами, обманулось в своих ожиданиях и перестало с доверием относиться к центральной власти. Во-вторых, потакание верховной властью немецким привилегиям привело к культурной и ментальной отчуждённости этих областей от России. Мы помним, как, не без вины русского правительства, было насильственно задержано движение эстонцев и латышей к православию, что привело к господству лютеранства и немецкой культурной гегемонии в крае. Немцы, в свою очередь, привыкнув считать Россию страной варваров и будучи правящим классом в Прибалтике, вместе с культурой и религией вливали в сознание эстонцев и латышей неприязнь ко всему русскому. Превосходство немцев перед русскими и обособленность края по отношению к России открыто проповедовалось в обществе, с кафедр лютеранских церквей и Дерптского (затем Юрьевского) университета. В результате, как свидетельствует помощник уездного начальника тайный советник П. Кошкин, большая часть эстонской интеллигенции, по причине полнейшего незнания России и усвоения немецкого взгляда на неё как на страну варварскую, относится к русским столь же отчуждённо, как и сами немцы{272}.
Примечательно, что эстляндский губернатор Н.Г. Бютинг, характеризуя обстановку, в которой созревало крестьянское движение в Эстляндии в 1905–1907 гг., фиксирует, с одной стороны, постоянную вражду трёх национальностей: русской, немецкой и эстонской, а с другой — неустойчивость и непоследовательность русской политики в Эстляндии. Он отмечает, что русская правительственная власть на окраине, какой является Эстляндская губерния, во многих случаях совершенно беспомощна и не обладает не только материальной, но и нравственной силой, чтобы подавить исторически развивающуюся борьбу двух народностей, борьбу, одинаково опасную для борющихся партий и для русского обладания краем. Не раз уступая, продолжает Бютинг, из соображений политики партийным интересам той или другой народности, правительственная власть в Эстляндии осталась обособленной, лишённой доверия и той и другой партии. Что касается восприятия ситуации эстонцами, то они считали, что, несмотря на законоположения правительства, направленные к улучшению быта крестьян и укреплению за ними земли, политика верховной власти в конечном итоге слагалась в духе немецкой партии, а они оставались по-прежнему безземельными и в полной власти помещиков-немцев. Воспользовавшись непоследовательностью политики правительства на прибалтийской окраине и допущенными ошибками, газета эстонских националистов «Театая» развернула агитацию среди своих соплеменников, посвятив себя исключительно возбуждению национальной вражды не только ко всему немецкому, но и ко всему русскому через опорочение действий правительства{273}.
Если прежде эстонские крестьяне, выступая против немцев, обращались к русской власти, искали непосредственного подчинения царю через веру, через переселение во внутренние губернии, через русские учреждения в крае, то теперь они поднимались на борьбу во имя своей собственной национальности. Эстонская смута носила ярко выраженный национальный характер. Она была направлена не только против немецкого господсва, но и взяла на вооружение лозунг «Долой самодержавие!».
Основной движущей силой революции выступил эстонский промышленный пролетариат, руководимый Российской социал-демократической рабочей партией (РСДРП) и опиравшийся на широкие массы эстонского безземельного крестьянства. Союз с крестьянством был особенно важен потому, что Эстляндия и эстонские уезды Лифляндии оставались аграрным регионом. К 1897 г. их население составляло 986 тыс. человек, в том числе городское население — 176 тыс. человек, или около 18%.{274} В то же время начавшаяся индустриализация, развитие всероссийского рынка, возросшее значением Ревельской гавани во внешнеторговом обороте (третье место в России после Петербурга и Одессы), открытие Балтийской железной дороги определяли быстрый рост экономики и промышленности, сопровождавшийся увеличением числа промышленных предприятий и, соответственно, числа занятых на них рабочих — выходцев из пролетарских слоев села. Среди наиболее крупных предприятий можно назвать Кренгольмскую мануфактуру в Нарве (Нарва входила в состав Петербургской губернии), машиностроительные заводы «Вольта», «Франц Крулль», завод Виганда, вагоностроительный завод «Двигатель», фанерную фабрику Лютера в Ревеле, целлюлозную фабрику Вальдгоф в Пернове, цементный завод в Кунда и т.д. Само собой разумеется, что в условиях господства остзейского порядка ключевые позиции в промышленности, а также в торговле и финансах занимали прибалтийско-немецкие предприниматели, тесно связанные с дворянами-землевладельцами. Поэтому рабочее движение в Эстляндии впитало в себя не только социальный протест, но и вековые антинемецкие настроения эстонского народа.
К 1905 г. эстонские рабочие не только окрепли в стачечной борьбе, но и познакомились с марксизмом, что позволяет говорить о начавшемся процессе соединения рабочего движения с революционной теорией.
В Эстляндии марксистская литература впервые появилась в начале 1880-х гг. Часть её попала сюда из Германии, через порты Ревеля и Риги. После объявления марксистских книг и брошюр запрещённой литературой их доставка из-за границы сделалась более сложной и потому вскоре запрещённая литература стала приходить сюда из российских центров революционного движения{275}.
Первые марксистские кружки и группы были организованы в Юрьеве в конце 1880-х г. студентами, прибывшими из внутренних губерний России, где они были исключены из местных вузов за участие в студенческих волнениях и революционную деятельность. В силу действовавших в Юрьевском университете условий они могли продолжить здесь курс обучения.
История сохранила имена первых юрьевских марксистов. Это П. Лесник, Ф. Кистяковский, Е. Адамович, И. Давыдов, К. Левицкий, В. Шанцер. Интерес к изучению марксизма проявили и эстонцы. Среди них Э. Вильде (в дальнейшем писатель), Э. Сыпрус (в дальнейшем известный скрипач).
В Нарве с 1895 г. также действовал марксистский кружок, объединивший 15 человек из числа рабочих Кренгольмской мануфактуры, суконной и других фабрик.
В 1899 г. сформировался марксистский кружок в Пернове. Его членами были строительные рабочие и служащие железнодорожной строительной конторы{276}.
Представители национальной интеллигенции и буржуазии, взгляды которых отражали газеты «Сакала», «Олевик», «Ээсти Постимээс», «Валгус», выступили противниками распространения марксизма среди эстонских рабочих. Они объявили социал-демократов и вообще всех революционеров опасными врагами эстонского народа, стремящимися внести в его сознание чуждую идеологию, пробудить классовые антагонизмы и расколоть «единство» эстонской нации.
Позднее им ответит один из видных руководителей Коммунистической партии Эстонии X. Пегельман, получивший образование в университете Лейпцига и поддерживавший во время своего обучения связи с немецкой социал-демократией. Он напишет, что эстонская буржуазия тщилась доказать, «будто «у нас» не может прорасти корень социал-демократии, ибо в «наших» условиях нет для этого почвы»{277}, с чем Пегельман, основываясь на своём опыте, не мог согласиться.
Примечательно, что заметный вклад в организацию и развитие социал-демократического движения в Эстляндии внёс агент газеты «Искра» (печатный орган РСДРП) М.И. Калинин — в последующем председатель Верховного Совета СССР, или «всесоюзный староста». Высланный из Тифлиса, он прибыл в Ревель в апреле 1901 г. и устроился токарем на завод «Вольта». В 1902 г. он объединил все ревельские марксистские кружки в социал-демократическую организацию и тем самым заложил основание Ревельской организации РСДРП. Ближайшими соратниками Калинина были эстонские рабочие Г. Калласс, К. Рохтма, Э. Пярди, А. Тирвельт, М. Блумберг, П. Карилайд. В числе участников социал-демократического движения были не только студенты и рабочие, но и гимназисты.
В 1904 г. М. Калинин был арестован и сослан в Олонецкую губернию. Его последователи создали в конце 1904 г. Ревельский комитет РСДРП (РК РСДРП).
К началу революции 1905 г. социал-демократические организации Эстляндии и эстонской части Лифляндии объединяли около 250 человек. Большинство социал-демократов проживали и действовали в крупных городах: Ревель, Юрьев, Нарва, Пернов. Самой большой и дееспособной была Ревельская организация РСДРП. В неё входило немало людей, высланных из Петербурга за революционную деятельность. Часть членов Ревельской организации — рабочие К. Рейндорф и Ф. Леберехт, интеллигенты А. Лурье, М. Блумберг работали ещё вместе с Калининым. Однако опытных революционеров в Эстляндии было ещё мало. Видимо, поэтому в состав РК РСДРП, сформированный в конце 1904 г., по-прежнему входили интеллигенты из числа инженеров и публицистов: А. Лурье, А. Дюбуа, Ю. Лилиенбах, М. Блумберг. В ходе революции дефицит профессионалов будет прёодолён с помощью Петербургской и Рижской организаций РСДРП, которые направят в Эстляндию своих работников и большевистскую литературу.
В Прибалтийском крае, в отличие от событий во внутренних губерниях России, представители либеральной интеллигенции, т.е. немцы, придерживавшиеся либеральных взглядов, участия в движении не принимали, поскольку оно было направлено прежде всего против немецкого господства в крае как такового, а затем уже против верховной власти, не обеспечившей разумное равновесие интересов между пришлым элементом и коренным населением. Напротив, прибалтийские немцы искали защиты у самодержавия и были готовы взаимодействовать с ним в целях подавления революции. Правда, и здесь они обнаружили местнический национальный эгоизм, пытаясь довести до правительства свою точку зрения, согласно которой причиной революционной смуты в Прибалтике явилась «русификаторская» политика центральной власти, ослабившая гегемонию «остзейского порядка», который прежде успешно сдерживал бунтарские поползновения «низов». Критике была подвергнута и работа комиссии Манассеина, якобы пробудившая среди местного населения беспочвенные надежды.
Что касается эстонской национальной буржуазии, то на рубеже XIX и XX вв. она оставалась как экономически, так и политически оттеснённой на задний план. Объясняется это тем, что она сформировалась относительно поздно, и к тому же в дискриминационных условиях особого остзейского порядка. Основную силу эстонской буржуазии составляли крупные дворохозяева, корчмари, мельники, торговцы, ростовщики, владельцы мелких промышленных предприятий в городах. В то же время прослеживается тенденция формирования собственно городской буржуазии за счёт выходцев из среды городских ремесленников, подрядчиков, мелких домовладельцев и лавочников. В общем, будучи в экономическом отношении слабой, а в политическом — трусливой, нарождающаяся эстонская буржуазия не помышляла о борьбе против немецкого засилья в Прибалтийском крае, а в самодержавии видела оплот порядка и прочную защиту от социальных потрясений.
Подстрекателями революционной смуты в Эстляндии выступили местные социал-демократические вожаки, добившиеся значительного влияния в среде фабрично-заводских рабочих, а также революционная национальная интеллигенция, имевшая опору среди крестьян благодаря своей просветительской и пропагандистской деятельности, направленной на подчёркивание языковой и культурной самобытности эстонцев и формирование на этой основе этнонационального самосознания.
На этапе буржуазной революции социал-демократы и этнонационалисты выступали союзниками. До поры до времени их совместной борьбе против самодержавного порядка не препятствовали фундаментальные идеологические расхождения. Социал-демократы мечтали о мировой революции, стремились к созданию справедливого социалистического общества, выступали сторонниками пролетарского интернационализма и видели будущую социалистическую Эстонию в рамках федеративных связей с обновлённой Россией.
Представители национальной интеллигенции и мелкой национальной буржуазии исходили из единства эстонской нации, якобы чуждой классовым противоречиям, и всеми способами культивировали этнонационализм. Наиболее радикальная их часть, готовая использовать в своих целях рабочее движение, группировалась в Ревеле вокруг газеты «Театая», а умеренная, считавшая необходимым ограничиться петициями к верховной власти, — вокруг газеты «Постимээс» в Юрьеве. И те и другие представители этнонационального крыла в политической жизни Эстляндии стремились отвоевать часть экономических и политических позиций у прибалтийских немцев, с тем чтобы «сравняться» с ними. В долгосрочном плане их вожделения были направлены на создание собственного национального государства, отрыв от «варварской» России, вхождение, конечно же, в европейскую цивилизацию, составной частью которой они себя видели, впитав антироссийский высокомерный дух остзейского порядка.
Такие антагонистические подходы к будущему Эстонии и России приведут через 10 лет к непримиримому противостоянию этих политических сил. В годы же революции 1905–1907 гг. и социал-демократы, и представители националистической интеллигенции и буржуазии сообща занимались жатвой того, что им удалось посеять в душах и умах эстонцев: социалисты пробудили классовое сознание, националисты — этнонациональное.
Значительное влияние на развитие революции в Эстляндии оказали события в этнически близкой Финляндии, а также в Лифляндии, четыре уезда которой были эстонскими.
В Великом княжестве Финляндском, так же как и в Прибалтийском крае, социальное движение тесно переплелось с национальным. Причём в Финляндии национальный сепаратизм проявлялся жёстче и был более открытым. Реализация цели отложения от России виделась на путях революции. Поэтому взаимодействие с российскими революционерами, боровшимися против важной скрепы империи — самодержавия, стало настолько естественным для финских националистических сил, что Финляндия, по выражению самих российских оппозиционеров, превратилась в «красный тыл революции». Здесь при попустительстве местных властей революционеры скрывались от преследований, проводили партийные конференции, издавали нелегальную литературу, хранили оружие{278}.
Поводом для выступлений в Финляндии стало известие о беспорядках 9 января в Петербурге. И как по сигналу, на улицы Гельсингфорса и других финских городов стали выходить толпы рабочих, интеллигенции, учащейся молодёжи с лозунгами «Да здравствует революция! Долой самодержавие! Долой Россию!». Затем пошли остававшиеся безнаказанными нападения на русских чиновников и тех финнов, которые считались сторонниками России. Весной началась перевозка в Финляндию, главным образом на английских кораблях, оружия, пороха, динамита. Целью быстро набиравшего силу мятежа было политическое самоопределение Финляндии, связанной в тот период в силу конституции, основы которой были заложены Александром I, лишь персональной унией с Россией[73].
Вторым после Финляндии очагом смуты на Балтике стала Лифляндия. Здесь беспорядки начались также вслед за событиями 9 января в Петербурге. Они вылились в забастовки на фабриках и заводах, принявших затяжной характер и сопровождавшихся, особенно в Риге, вооружёнными нападениями на должностных лиц, в первую очередь полицейских и военных. С распространением движения на сельскую местность городские агитаторы в союзе с мелкими арендаторами и батраками начинают разгромы и поджоги помещичьих усадеб и замков. Разрушаются винные лавки немцев, обладавших монополией на винокурение, совершаются бесчинства в церквах, происходит глумление над царскими портретами, рубятся телефонные и телеграфные столбы, прерывается железнодорожное сообщение, активизируются преступность и террор. По мере овладения вооружёнными толпами волостями, уездами и даже некоторыми городами создаются параллельные властные структуры, которые объявляются подчинёнными латышскому федеральному правительству{279}.
По аналогичному сценарию развивались события и в Эстляндии. На фоне первоначальных успехов финнов и латышей эстонцы легко поддались убеждению агитаторов, что наконец наступил и для них благоприятный момент, чтобы расквитаться со своими немецкими угнетателями и сбросить бремя верховной власти.
В отличие от внутренних губерний России здесь, как и в Финляндии и Лифляндии, национальное движение обрело особую силу благодаря опоре на социальный протест[74].
VII.4. Ход революции в Эстляндии
Поначалу революция началась в городах Эстляндии. Сигналом к революционным выступлениям, как и везде, послужили события 9 января 1905 г.
Главным очагом революционной смуты стал Ревель, где из 80 тыс. жителей 15 тыс. составляли фабричные рабочие. Здесь ещё зимой 1904 г. происходили забастовки и волнения.
Член РК РСДРП А. Лурье, по-видимому, будучи в курсе о готовящейся провокации в Петербурге, 8 января выехал в северную столицу «в целях изучения российского опыта организации стачечной борьбы». 12 января 1905 г. он уже выступал на рабочем митинге на так называемом Лаусманском лугу — возле металлического завода Лаусмана, рассказывая о событиях в Петербурге.
Началась массовая стачечная борьба, сопровождавшаяся демонстрациями. Рабочие настаивали на установлении 8-часового рабочего дня, введения двойной оплаты сверхурочных работ, отмены штрафов и т.д. РК РСДРП, перенимая российский опыт, добивался перехода от экономических требований к политическим, одновременных выступлений против фабрикантов и против правительства. В листовках, распространявшихся среди рабочих, экономические требования (например, введение 8-часового рабочего дня) дополнялись политическими — свержение царского самодержавия, создание республики, окончание кровавой войны{280}.
Поскольку волнения не получили должного отпора со стороны губернатора Лопухина, который, как впоследствии констатировали его преемники, оказался не на высоте требований момента и занял выжидательную позицию, граничившую с потворством, забастовки и митинги приняли перманентный характер. В феврале и марте 1905 г. было проведено 18 забастовок, а с марта по сентябрь — 62 митинга{281}. Стачки заканчивались частичной победой рабочих: сокращением рабочего дня до 9–10 часов, повышением зарплаты на 10% и т.д. В ходе стачечной борьбы на предприятиях стали выбирать рабочих старост, из которых впоследствии был образован Ревельский совет рабочих старост.
Митинги и сходки проводились обычно за городом. Возвращение в город проходило в виде шествия и зачастую сопровождалось столкновением с полицией и войсками. Такая тактика применялась для того, чтобы держать расквартированные в Ревеле войска в состоянии постоянного напряжения и не допустить их переброски в Петербург, где ожидались важные события.
9 июля полицейские власти арестовали в Ревеле около 20 членов заводских организаций и городского комитета РСДРП, в том числе В. Сауэмяги, Ф. Леберехта, М. Полевого, А. Лурье и др. 15 июля последовал арест нескольких членов заводского комитета «Двигатель». На эти действия властей рабочие ответили требованием освобождения заключённых и организацией шествия к Вышгородской тюрьме с целью вызволения своих товарищей. В схватке с преградившими им дорогу солдатами и полицейскими многие рабочие получили ранения.
Фабрично-заводские беспорядки в Ревеле принимали всё более и более широкий размах. Под давлением рабочих власти были вынуждены освободить часть политзаключённых, среди них М. Полевого и Ф. Леберехта.
Позже движение перенеслось в Юрьев, где актовый зал университета, с разрешения ректора, стал излюбленным местом эстонских социалистических митингов и съездов.
В ходе революции заявили о себе и лидеры эстонских этнонационалистов. В обзоре деятельности управления временного прибалтийского генерал-губернатора за 1905–1908 гг., посвященном, в частности, смуте в Эстляндии, указывается на неблагонадёжность Ревельского городского общественного управления. Здесь, как сообщается в обзоре, ещё в 1904 г., вследствие непредусмотрительности и попустительства губернской администрации, добилась преобладания группа «из неблагонадёжных в политическом отношении» членов эстонской национальной партии. Главари этой группы вытеснили из городского общественного управления господствовавших там прежде немцев и забрали всё в свои руки. Среди таких деятелей особо были выделены: Ревельский городской голова Гиацинтов[75], далее Лендер, заст. место Ревельского городского головы Пяте, секретарь городской управы Пунг (адвокат), гласные думы Темант, Штрандман и Поска. По мнению составителей обзора, в своих действиях они руководствовались отнюдь не соображениями пользы населения, а исключительно личными видами и революционными целями. В качестве подтверждения такого вывода сообщается, что Константин Пяте, бывший редактор революционной газеты «Театая», при содействии старшего фабричного инспектора Эстляндской губернии Николая Шевелёва и присяжного поверенного Андрея Булата разработал программу Эстонской конституционно-демократической партии. Прикрываясь этой партией, а равно служебным положением, Пяте вместе с Темантом, Пунгом и Штрандманом проявляли деятельность совершенно революционного характера, выражавшуюся в совместных действиях с членами РК РСДРП и в участии в тайном комитете, задавшемся целью путём восстания добиться автономных прав для Эстляндии, подобно Финляндии{282}.
По мере разрастания антиправительственного движения в Эстляндии остро ощущался недостаток войск. Гарнизон Ревеля составляли части пехотных полков (около 600 штыков) и сотня казаков, выполнявшая охранную службу. Этими силами всё же удалось обеспечить охрану Ревеля и Ревельского порта, овладение которыми входило в планы революционеров, открыто призывавших матросов и солдат к восстанию по примеру Севастополя. Восстание удалось предотвратить увольнением запасных нижних чинов из эстонцев в пехотных частях и рассылкой матросов из Ревеля в разные порты.
В некоторых городах и уездах бьии расположены команды драгун (всего один эскадрон). Кроме того, были выставлены небольшие пехотные заставы (в 15–20 человек) на путях, идущих из Ревеля в уезды, чтобы не допустить движения агитаторов в глубь губернии.
16 октября, накануне получения из Петербурга известия о готовящемся издании важного правительственного акта (Манифеста 17 октября, провозглашавшего свободу слова, собраний, организации обществ и союзов, а также объявлявшего о созыве Государственной думы с законодательными функциями), оппозиционеры организовали на Лаусманском лугу митинг, на котором среди прочих ораторов выступали и освобождённые из тюрьмы. Участники митинга настаивали на освобождении всех политзаключённых и удалении военных патрулей с улиц. От городского управления потребовали вооружить рабочих, чтобы они имели возможность осуществить охрану порядка в городе. Следует сказать, что во время революционного брожения преступность (убийства и покушение на убийство, ограбления учреждений и казённых винных лавок, ограбления частных жилищ) в Эстляндской губернии выросла более чем в три раза: с 119 преступлений в декабре 1904 г. до 375 в августе 1905 г.
С Лаусманского луга митингующие направились к центру города, к Ревельскому городскому рынку. Собравшиеся решили не расходиться, пока их требования не будут приняты. Полиция была не в состоянии разогнать собравшиеся толпы народа. Тогда направленные губернатором к месту сборища две роты солдат местного гарнизона рассеяли волновавшиеся скопления людей применением оружия. 90 человек были убиты и более 200 ранены. Большевики обвинили во всём царское правительство и в своих прокламациях призвали солдат выступать вместе с рабочими за свержение самодержавия{283}.
С точки зрения губернских властей, эта решительная мера имела большое значение для будущего, предотвратив дальнейшие массовые выступления в Ревеле.
После обнародования Манифеста 17 октября Ревельская городская дума приняла воззвание в его поддержку. Она призвала народ «покончить с мятежом» и «с прежним усердием выполнять свои обязанности в обновлённом государстве».
Манифест дал зелёный свет формированию национальных партий на прибалтийской окраине. Прибалтийские немцы учредили Балтийскую конституционную партию (БКП). В её руководство вошли в основном крупные землевладельцы и промышленники, которые БКП и финансировали.
По инициативе редактора газеты «Постимээс» Я. Тыниссона была основана Эстонская народная партия прогресса. «Прогрессисты» вместе с лидерами БКП сразу же взялись за организацию «Бюргервера» (Гражданской обороны) для поддержки властей в борьбе с революционной смутой. Эту организацию большевики окрестили «чёрной сотней».
Революционное крыло эстонского национального движения, возглавляемое Пятсом и Темантом, политически оформилось как Эстонская конституционно-демократическая партия. Если «прогрессисты» удовлетворились царским манифестом, то эстонские кадеты стремились продолжить борьбу в новых условиях.
Не собирался сворачивать свои действия и РК РСДРП. В течение «дней свободы» (т.е. в период между изданием манифеста 17 октября и объявлением военного положения) местные организации РСДРП быстро росли. К концу 1905 г. число членов организаций РСДРП увеличилось почти в четыре раза; к середине декабря они объединяли свыше тысячи человек. Причём масса сочувствующих превышала это число в несколько раз{284}.
РК РСДРП сделал всё для того, чтобы похороны убитых на Ревельском городском рынке вылились в мощную политическую демонстрацию, в которой приняли участие около 40 тыс. человек. В речах выступавших звучали призывы «продолжить борьбу павших товарищей». Была принята резолюция, включавшая следующие требования: роспуск городской думы, не принявшей мер для привлечения к ответственности «виновников злодеяния» на Ревельском городском рынке, выборы новой думы на началах всеобщего, равного, прямого избирательного права с тайной подачей голосов, а также суровое наказание тех, «чьи руки обагрены кровью жертв».
26 октября по инициативе РК РСДРП было созвано собрание рабочих старост, которое потребовало от городских властей выдать создаваемой добровольческой дружине (рабочей милиции) оружие и довольствие. В принятой резолюции подчёркивалось: поскольку войска не только не препятствуют деятельности «чёрной сотни», но даже часто оказывают ей помощь, ревельские рабочие требуют от городской думы, чтобы она предприняла шаги к выводу войск из города, так как их пребывание здесь представляет постоянную опасность для жителей. В своей прокламации «К рабочим и работницам г. Ревеля» РК РСДРП призвал трудящихся всеми силами бороться против «чёрной сотни»{285}.
Ленин откликнулся на эти события статьёй «Первая победа революции». В требовании удалить войска из города как единственное средство восстановления спокойствия он усмотрел невиданное явление, ясно свидетельствующее о военном бессилии самодержавия. По его мнению, это показывало лучше всяких рассуждений, что военные власти чувствовали себя до последней степени шатко{286}.
На самом же деле всё было далеко не так. Беспорядки в Ревеле всё-таки остановились под впечатлением решительного отпора властей 16 октября на Ревельском городском рынке. Рабочие, бунтовавшие под руководством революционных деятелей, больше не решались действовать в Ревеле. Тогда они при поддержке революционного крыла эстонских националистов устремились в сельскую местность. Поскольку был отдан приказ о сосредоточении войск в Ревеле с отзывом пехотных застав и драгун из уездных городов, то движению агитаторов в глубь губернии больше ничего не мешало.
Эстонские революционеры, играя на национальном сознании своих соплеменников, сумели в короткий срок возбудить большинство крестьянского населения обещаниями освобождения от немецкого господства и русской верховной власти. Напоминая об отсутствии каких-либо благоприятных последствий для крестьян по результатам ревизии Манессеина, агитаторы внушали народу, что ему следует рассчитывать лишь на себя и самому добиваться своих прав. Они убеждали крестьян, что царское правительство для них такой же враг, как и немецкие помещики, и, чтобы получить землю и облегчить себе жизнь, они должны включиться в революцию и вместе с рабочими бороться за свержение самодержавия и власти помещиков. Под влиянием событий в Финляндии, а также в латышских уездах Прибалтийского края, под впечатлением дерзких антиправительственных выступлений в прессе эстонское крестьянство поверило в слабость верховной власти и отозвалось на настойчивое убеждение и заманчивые обещания революционеров. Полицейские власти доносили: «Приехавшие из города рабочие ведут в уездах агитацию и подстрекают сельских рабочих к забастовкам, причём революционная пропаганда развивается в деревне с большим успехом»{287}.
Начавшиеся ещё летом в незначительных количествах поджоги и разгромы имений стали в ноябре 1905 г. набирать силу.
Грабёж, насилие, поджоги осуществляли в основном бедствующие категории эстонского крестьянства — батраки, малоземельные крестьяне, мелкие арендаторы. Земельные крестьяне (полные собственники и собственники, ещё не погасившие стоимость участка), а также часть арендаторов оставались безучастными зрителями такого сведения счётов с многовековыми угнетателями. В то же время они охотно присоединялись к постановлениям всевозможных митингов и незаконных волостных сходов. На митингах звучали призывы к ниспровержению правительственной власти, отказу от платежей по податям и повинностям, к уклонению от воинской повинности, отмене помещичьих привилегий (курение спирта, рубка леса, содержание корчем и винных лавок и т.д.), переводу земель в собственность крестьян, к покупке на волостные средства оружия и взятию вкладов из сберегательных касс. На волостных сходах принимались решения о выборе новых должностных лиц, формулировались требования об участии на сходах всех членов волости обоего пола, о преподавании на эстонском языке, о замене русского языка в официальной переписке эстонским.
Все эти местные постановления и требования выльются в программу действий на Всеэстонском собрании народных представителей в г. Юрьеве. Каждый город послал на собрание по два представителя от домовладельцев и торговцев и по два — от рабочих; каждая волость — одного от хозяев и одного от безземельных; каждое общество — по одному делегату. Поскольку среди участников собрания были и представители проправительственно настроенных буржуазных слоев, то сразу же произошёл раскол. Революционное большинство (500 из 800 делегатов) отделилось от сторонников сохранения порядка в Прибалтийском крае и 27–29 ноября провело своё собрание в актовом зале («ауле») Юрьевского университета. Отсюда и название съезда — Ауласский. Он сыграет серьёзную роль в деле революционизирования крестьянского населения. Помимо представителей РК РСДРП работу съезда направляли также ревельские революционные националисты во главе с Темантом.
Съезд принял резолюцию, получившую всеобщую известность и популярность среди эстонского народа.
В констатирующей части резолюции утверждалось, что в России происходит революция, в которую она вовлечена самодержавным правительственным строем. Участники съезда решили вступить в борьбу с правительством и продолжать её до тех пор, пока не будет избрано учредительное собрание путём всеобщего, равного и тайного голосования, невзирая на пол и народность.
В постановляющей части резолюции утверждались следующие методы борьбы.
— Учреждение как в городах, так и в уездах революционных самоуправлений.
— Объявление бойкота всем представителям властей, производство впредь всех дел при помощи новых соответствующих учреждений.
— Принудительное закрытие всех пивных и винных лавок, корчем, пивоваренных и винокуренных заводов.
— Безусловное уклонение населения от исполнения воинской повинности, отказ в выдаче войскам подвод корма, продовольствия и отвода квартир, а также недопущение перевозки войск по железным дорогам.
— Изъятие из банков и государственных сберегательных касс всех сбережений и обмен бумажных денег на золото.
— Прекращение всех платежей и сборов, следуемых казне и дворянским учреждениям, раскладка волостных общественных сборов по новой системе, устанавливаемой новым самоуправлением.
— Передача руководства школами учреждениям нового самоуправления, с обязательным преподаванием всех предметов на родном языке.
— При наступлении общеимперской забастовки поддержка таковой всеми средствами{288}.
Эти методы не были каким-то особым эстонским изобретением, они обобщали практические шаги революции в России и на её национальных окраинах.
Делегаты, представлявшие слои эстонской национальной буржуазии, на своём заседании в зале «Бюргермюссе», примут решение в духе Манифеста 17 октября.
Произошедший на Юрьевском съезде раскол внутри всеэстонского народного представительства закрепит начавшийся переход революционной смуты в новую стадию: противостояние с немецкой местной властью и центральным правительством дополняется внутригражданским противостоянием. Обе стороны этого противостояния (эстонская буржузия в союзе с немецкими землевладельцами и предпринимателями против эстонских «низов») продолжат лихорадочно готовиться к вооружённому противоборству.
«Господам помещикам пришлось до того туго, — писал Ленин в конце октября 1905 г., — что они решительно взялись за организацию вооружённой охраны своих имений, не полагаясь на правительство, которое не может ничего поделать ни с крестьянами, ни с рабочими, ни со студентами. Остзейские бароны организуют гражданскую войну всерьёз: они прямо нанимают целые отряды, вооружают их хорошими магазинками и размещают по своим обширным имениям»{289}.
У «низов» же ощущался острый дефицит оружия. Призывая рабочих и крестьян готовиться к вооружённому восстанию, юрьевские революционеры давали такие рекомендации: «Оружие в руки! Вставайте на борьбу! Врывайтесь в склады оружия и оружейные магазины, добывайте себе силой оружие, коли вам его добром не дают… Да здравствует вооружённое восстание!»{290}
В конце ноября в Ревеле был организован сбор средств для покупки оружия. Рабочие собирали деньги, ходя из дома в дом, и постепенно вооружались. Сознавая малочисленность Ревельского гарнизона, они готовились вступить в открытую борьбу в единении с крестьянским бунтом.
7 декабря в Москве началась всеобщая политическая стачка, которая 10 декабря переросла в вооружённое восстание. По призыву РК РСДРП и Совета рабочих депутатов к стачке в Москве присоединился Ревель и другие промышленные и железнодорожные центры Эстляндии, в общей сложности 20 тыс. человек. Замерло железнодорожное движение.
Кульминацией этого нового фазиса смуты должен был стать Ревельский съезд депутатов всех волостей, назначенный на 11 декабря 1905 г. На нём один из лидеров революционных националистов Темант собирался вынести резолюцию об отложении Эстляндии от России и провозглашении Эстонской республики. Резолюция содержала призыв добиваться этого с оружием в руках.
10 декабря в Ревеле и Харьюском уезде было введено военное положение. В ночь на 11 декабря полиция провела в Ревеле массовые аресты. Были арестованы делегаты съезда и большинство членов РК РСДРП. Такие действия застали мятежников врасплох. По мнению эстлянского губернатора Бюнтинга, смута пошла бы на убыль, если бы бежавшие из Ревеля революционные националисты Темант, Пяте и другие, а также не арестованные члены РК РСДРП во главе с X. Пегельманом не успели направить рабочих из Ревеля в уезды и с их помощью поднять население{291}.
Свыше 600 рабочих разошлись из города по разным направлениям. Их путь был отмечен новым подъёмом мятежных выступлений крестьян, которые охватывали уезд за уездом. На этот раз к рабочим присоединилось значительно большее число крестьян. Многие шли, убеждённые в полной победе революции. Под руководством рабочих крестьяне конфисковывали оружие, взрывали железнодорожные мосты, обрывали телефонные провода, громили полицейские и другие учреждения местной власти, предавали огню и разрушению помещичьи гнёзда. Бароны и пасторы в панике бежали в города и даже за границу.
В эстонских уездах Лифляндии было уничтожено 47 замков и имений, в Эстляндии — 144.{292} Впечатление от таких массовых разгромов и поджогов было ошеломляющим. Древние здания замков, хозяйственные усовершенствования, дорогая мебель, библиотеки и картинные галереи, коллекции оружия и изящных искусств — всё это грабилось и предавалось огню.
Прибытие войск остановило мятежные выступления. Усмирение волнений проходило с особой суровостью. Лиц, оказывавших сопротивление, пытавшихся бежать, хранивших прокламации и оружие, убивали на месте. Их запрещалось хоронить на кладбищах. В качестве меры устрашения сжигались усадьбы крестьян, если они участвовали в незаконных органах самоуправления, отказывались выдавать зачинщиков, прятали оружие или же вызывали у помещиков подозрение в неблагонадёжности.
Участников беспорядков судили по законам военного времени. Всего по Прибалтийскому краю с декабря 1905 г. по 1 мая 1908 г. временными военно-окружными судами был осужден 1491 человек. Из них казнено 595 человек (всего же в крае по судебным приговорам было казнено 690 человек), в том числе: по Лифляндской губернии — 315, по Курляндской — 112 и по Эстляндской — 168 человек. Для остальных смертная казнь была заменена каторгой, ссылкой в Сибирь на поселение, тюремным заключением. Примечательно, что военные суды выносили и оправдательные приговоры. Так, в целом по Прибалтийскому краю 183 человека оправдано{293}.
В отношении участников беспорядков, которых нельзя было привлечь к суду за недостатком улик[76], применялась административная высылка или же вводился запрет на пребывание в крае.
Так, высылке (в Архангельскую, Вятскую, Пермскую, Астраханскую губернии) было подвергнуто по Лифляндской губернии 160 человек, по Эстляндской 101 человек. Воспрещено пребывание в крае на срок действия военного положения в Лифляндской губернии — 457, в Эстляндской губернии — 80 лицам. В ходе очистки городов от неблагонадёжных элементов воспрещение пребывания затронуло главным образом рабочих{294}.
Больше всех пострадали крестьяне, поскольку карательные меры верховной власти были дополнены репрессиями со стороны помещиков, которые спешили свести с крестьянами личные счёты.
Зачинщики революционной смуты ушли в подполье, эмигрировали или перебрались в Финляндию. Обосновавшиеся в Финляндии многие участники Декабрьского восстания 1905 года и других революционных выступлений в Российской империи занялись антиправительственной агитацией в войсках и на флоте. Эсеры и большевики планировали подготовить и начать восстание одновременно в Свеаборге, Кронштадте, Ревеле и на Балтийском флоте, корабли которого затем должны были направиться в Петербург, чтобы поднять восстание в столице. Этот план в полном объёме реализовать не удалось. В июле 1906 г. восстал только гарнизон крепости Свеаборг. Этот мятеж, поддержанный финскими рабочими отрядами общей численностью 20 тыс. человек (или финской Красной гвардией), был подавлен правительственными войсками. Ни Кронштадт, ни Ревель, ни Балтфлот к свеаборжцам не присоединились. Однако вплоть до 1917 г. Финляндия продолжала оставаться «красным тылом» российской революции{295} или «очагом измены» с точки зрения русских государственников[77].
Революция, как того и хотели японские, английские и американские стратеги, заставила Николая II преждевременно выйти из войны с Японией, хотя ни правительство, ни рядовые солдаты не считали Россию побеждённой и были уверены, что японцы, в случае продолжения военных действий, долго бы не продержались (особенно зимой) и под напором русского оружия не смогли бы закрепить первоначальный успех. Но такое развитие событий не входило в планы англосаксонских геостратегов, которые не хотели усиления ни одной из воюющих сторон. Поэтому российские революционеры получили поддержку извне, а Японии было отказано в экономической помощи для продолжения войны.
Кто-то из великих сказал, что революции пробуждают в людях не только звериную сущность, но и глупость. Недовольство народа поражениями в русско-японской войне позволило деструктивным силам (от революционных либералов до большевиков) в условиях военного времени поднять «низы» против правительства и с их помощью сделать то, чего «низы» не хотели: оформить поражения в отдельных сражениях как поражение всей военной кампании. Хотя Портсмутский мир с Японией не стал унизительным для России, однако последствия не проигранной, но незаконченной войны обернулись для России утратой геостратегической инициативы на Востоке, и это можно считать поражением. Ведь Николаю II пришлось отказаться от того, что он считал главной задачей своего царствования: в наступательном порыве через Манчжурию обеспечить для России свободный выход от «тёплой реки» Амура к «тёплому» Жёлтому морю, а из него к «тёплым морям» и к югу Азии как естественному дополнению севера. Кроме того, согласно оценкам министерства иностранных дел, безопасность России к 1906 г. оказалась под угрозой на всём протяжении её восточных границ{296}. Пострадал и международный авторитет империи. С поражением в войне наступил «звёздный час» для внешних и внутренних организаторов информационно-пропагандистской кампании против самодержавной России и её самодержца. Отзвуки этой кампании найдут отражение в учебниках истории советского периода, в которых говорилось о прогнившем царском режиме, о слабой боеспособности русской армии, бездарности командования, огромных, неоправданных жертвах и, конечно, о неизбежности победы социалистической революции в России как наиболее слабом звене империализма.
Ситуация повторится в 1917 г. Революции заставят Россию преждевременно выйти из войны с почти обессилевшей Германией, пережить трагедию крушения империи и потери исторических территорий, собиравшихся в течение веков кровью, трудами и лишениями прежних поколений.
VII.5. Инородческий вызов
В начале XX в. немцы вышли на 10-е место по численности среди народов Российской империи. К 1917 г. их количество приблизилось к 2,5 млн. человек{297}.
За исключением остзейских немцев, предки которых пришли на балтийских берег как агрессоры, большинство выходцев из Германии влилось в население империи в рамках массового иммиграционного движения. Начало этому движению положили московские великие князья, приглашавшие к себе на службу из германских княжеств медиков, военных, ремесленников. Во времена Иоанна IV, помимо приглашённых немцев, на Руси осели военнопленные, захваченные в ходе Ливонской войны (1558–1583). Многие из них селились в окрестностях Москвы, в основанной Иоанном Грозным Немецкой слободе.
Немцы стояли у истоков интереса Петра Первого к Европе. В годы своей юности Пётр был частым гостем Немецкой слободы. Здесь он обрёл друзей и советчиков. Здесь встретил и полюбил немецкую девушку Анну Монс. Отсюда он начал свой трудный путь реформатора России. Поворот Петра I к Европе, победа России в Северной войне, включение в состав России прежней Ливонии на благоприятных для её немецкого населения условиях, установление династических связей России с германскими княжествами, обучение русских дворян за рубежом, приём иностранных учёных и специалистов в России — всё это способствовало тому, что старая Европа стала смотреть на Россию как на свою часть. Европейские учёные отказались от прежнего видения восточной границы Европы (проходила по Дону) и пришли к соглашению, что теперь она проходит по Уральскому хребту.
Превращение Московского государства в Российскую империю и влиятельную европейскую державу, богатство царского двора, масштабность задач, стоявших перед российским государством в области освоения огромных территорий, привлекали в Россию множество иностранцев, и в частности немцев. Многие немцы предпочитали селиться в Петербурге, чему способствовал специальный царский манифест от 16 апреля 1702 г. Поскольку немцы и другие иностранцы, как правило, оказывались в условиях наибольшего благоприятствования, то русские стали говорить о засилье иностранцев, и в первую очередь немцев, в науке, государственном управлении, армии[78].
В то же время Россия, начав играть всё более активную роль в европейской политике, всё чаще стала приходить в дипломатическое и военное соприкосновение с германскими государствами. Так, во время Северной войны русские войска вводились в Померанию, Мекленбург и Гольштейн. С Бранденбургом Россией был заключён союз против Швеции. Во время Семилетней войны русская армия, нанося поражения Фридриху II, оккупировала Восточную Пруссию, а в 1760 г. заняла Берлин. На короткое время (с 1758 по 1762 г.) Северо-Восточная Пруссия с Кенигсбергом (теперь Калининградская область) была включена в состав России. Пётр III, почитатель Фридриха II, возвратил эти земли Пруссии.
Россия вмешивалась также в длительный прусско-австрийский конфликт и войну за Баварское наследство. Екатерина II выступила посредником при заключении Тешенского мира в 1779 г. и гарантом порядка в германских землях, что давало ей возможность вмешиваться в дела Пруссии и других германских государств. Для продвижения русского влияния в Германии при Коллегии иностранных дел в Петербурге было учреждено немецкое отделение{298}.
Екатерина II, решая проблемы Российской империи, уверенно использовала немецкий фактор. Чтобы заселить неосвоенные восточные и южные окраины империи, она специальными манифестами от 22 июля 1763 г. и 4 декабря 1768 г. положила начало немецкой земледельческой миграции в Россию, пригласив немецких крестьян из Гессена, Пфальца, Баден-Вюртемберга. Этот проект Екатерины II отвечал интересам обеих сторон: и России с её огромными неосвоенными территориями, и немцев, которых гнала с родины материальная нужда, безземелье, произвол феодалов{299}.
В первый этап немецкого переселенческого движения (1763–1774 гг.) подавляющая часть прибывших немцев осела в Саратовской губернии. Во второй этап (1801–1820 гг.) основная масса немецких колоний возникла в Херсонской, Екатеринославской, Таврической губерниях, в Бессарабии и Закавказье.
Приток в Россию немецких крестьян объяснялся привлекательными условиями приёма. Так, колонисты пользовались в Российской империи свободой вероисповедания, имели внутреннее самоуправление, освобождались на определённый срок от налогов, от рекрутских наборов[79], имели кредиты на обзаведение, располагали большими земельными наделами (в среднем 60 десятин на семью), находившимися в удобных для проведения торговых операций местах.
Указом Александра I от 5 августа 1819 г. всякая земледельческая иммиграция из Германии была запрещена, и весьма ограниченный приток новых земледельческих переселенцев регулировался специальными разрешениями.
Однако обычная иммиграция не прерывалась. Российская империя действительно была привлекательной для немцев иммиграционной страной. В период 1861–1900 гг. превышение притока мигрантов из Германии в Россию над оттоком составило 1,1 млн. человек. Немцы селились в Царстве Польском, Прибалтийском крае, Нижнем Поволжье, Новороссии, Петербурге. В небольших количествах они разместились, в сущности, во всех губерниях и районах Российской империи. Многие из них обрели в России родину. Одни обеспечили себе в России спокойную и зажиточную жизнь в качестве земледельцев, ремесленников, врачей, аптекарей, булочников, кондитеров, предпринимателей. Другие оставили заметный след в истории России как государственные деятели, политики, военачальники, учёные, врачи, люди искусства. Достаточно назвать такие фамилии: Бенкендорф, Нессельроде, Беннигсен, Клаузевиц, Тотлебен, Дибич, Врангель, Витте, Эйлер, Крафт, Крузенштерн, Беллинггаузен, Миллер, Цепелин, Клодт, Фонвизин, Грот, Даль, Греч, Корш, Коцебу, Рерих и др.
Вся Россия знала доброго доктора Гааза — тюремного врача, истратившего все свои личные сбережения на помощь заключённым и каторжникам. О докторе Гаазе с особым теплом вспоминал Ф.М. Достоевский в своих «Записках из мёртвого дома». Вообще, немцы были довольно частыми героями и персонажами произведений русской литературы. Это свидетельствует об их роли в русской жизни, а также о значительной численности их диаспоры.
Когда возникла необходимость заселить неосвоенные регионы Западной Сибири, а также интегрированные в состав Российского государства пустующие земли казахских степей и Туркестана, новая переселенческая волна втянула в себя и немецких колонистов, осевших в европейской России. Покидать старые колонии большинство немцев заставлял земельный кризис, возникший в связи с ростом рождаемости. Во всяком случае, немецкие колонисты займут заметное место в переселенческой истории и экономическом освоении Западной Сибири и Казахстана[80].
В исторически сложившихся местах компактного поселения немцев колонисты жили в относительной изоляции не только от других народов, но и от других немецких переселенцев, что объясняет сохранение ими религиозных, культурных, диалектных особенностей тех немецких княжеств, из которых они в своё время иммигрировали в Россию. Там, где немцы жили численно небольшими группами в контакте с другими народами, прежде всего русским, усиливался процесс их языковой и этнической ассимиляции. В особенности это относится к городским немцам. Важным фактором приобщения немцев к русскому языку стало распространение на них в 1874 г. всеобщей воинской повинности.
Переселение немцев в Россию, на русскую почву дало в итоге такой самобытный этнический феномен, как российские немцы, которые синтезировали в себе качества русского и немецкого народов. В основной своей массе российские немцы принадлежали к крестьянскому и мещанскому сословиям, входили в качестве важного качественного компонента в трудовые ресурсы России и серьёзной угрозы для территориальной целостности империи не представляли.
Иначе обстояло дело с остзейскими немцами, завоевавшими в начале XII в. Прибалтику, согнавшими туземцев с занимаемой ими земли и сохранившими свой средневековый статус победителей и господ до начала XX в. Бароны-землевладельцы принадлежали к дворянскому сословию и благодаря этому входили в состав имперской элиты. В большинстве своём они служили лично царю, а на прибалтийские земли смотрели сквозь призму средневековой традиции, т.е. как на своего рода лен, полученный от государя за верную службу. Конечно, многие из них, служа царю, служили и России, но до известных пределов, т.е. если это не затрагивало их привилегий и немецкого характера края. Прибалтику они считали немецкой землёй, хотя находились там в меньшинстве (по переписи 1897 г. немцы в Эстляндии и эстонских уездах Лифляндии составляли 3,5%), и столетиями работали на обособление её (культурное, языковое, религиозное, политическое) от России. Этим духом обособления от России и даже презрения к ней они стремились отравить души своих прежних рабов — эстонцев и латышей, сделав их своими союзниками в борьбе против «обрусительной» политики центра. Хотя каждая из сторон, т.е. и немцы, и туземцы, выросшие на немецкой почве, играла свою собственную игру, однако в любом случае она была во вред России.
Первым забил тревогу Юрий Самарин ещё в 1848 г. («Письма из Риги»), а затем в 1868–69 гг. (серия выпусков «Окраины России», статьи в газете «Москва», в которых, в частности, указывалось «на неминуемые последствия постепенного упадка доверия к России в тамошнем простонародии»).
Главным оппонентом с остзейской стороны выступил профессор русской истории в Дерптском университете Карл Ширрен, читавший свои лекции по-немецки, превозносивший всё немецкое в России и считавшийся в своей среде «публицистом, не имевшим себе среди остзейцев равных». В своём ответе Самарину{300} он, в частности, заявил: «Почва, на которой мы стоим, принадлежит Царю, Империи и нам, но отнюдь не народу Вашему… Временно и условно российское господство в Прибалтике, а не привилегии балтийских немцев». (Примечательно, что в современной ФРГ действует общество Карла Ширрена, которое ежегодно проводит День Карла Ширрена как День прибалтийской культуры.)
Вслед за Самариным в спор с остзейцами включились редактор «Московских ведомостей» Михаил Катков и представители славянофильского направления в русском общественном движении во главе с Аксаковым[81].
Под впечатлением революционной смуты 1905 г. в Прибалтийском крае профессор А.С. Будилович произнёс следующие полные отчаяния и надежды слова: «На заре европейской истории всё Балтийское море называлось Венетским, т.е. Славянским или Славянолетским. Ещё в XIII в. даже южные побережья его, на протяжении от Гданска до Любека, заселены были славянами. Теперь они онемечены. Осталась в руках славян лишь небольшая восточная часть Балтийского побережья, по линии от Торнео до Полангена. Ужели мы не приложим всех усилий, чтобы обеспечить за Россией, за Славянством хотя этот клочок его заветного достояния? Не для Петербурга лишь, но и для всей Империи это побережье необходимо как свет и воздух, как единственный свободный выход на простор океана. Ужели мы дозволим отрезать этот выход, станом ли то вооружённых союзников или системой инородческих автономий?»
«Нет, этого не может быть, — заключает А.С. Будилович, — не должно быть. Порукой в том всё наше прошлое, величие нашего народа, его высокие культурные идеалы, его неисполненное мировое призвание. Соединёнными силами государства и общества, науки и литературы, наконец возрастающим напором своей колонизационной волны Россия сумеет обеспечить своё державное положение на этих побережьях, пока не завершатся её судьбы как представительницы Славянства и носительницы восточно-христианской образованности»{301}.
Профессор Будилович не мог знать, что у Российской империи почти не оставалось исторического времени, чтобы реализовать такую программу. Ведь надо было пересматривать всю политику правительства в отношении окраин.
Пример Прибалтийского края свидетельствует, что традиционная политика не помогала раскрытию ни высоких культурных идеалов, ни величия нашего народа. О катастрофических упущениях в этой области может свидетельствовать следующее требование профессора Будиловича: «Наряду с государственным значением русского языка должно быть обеспечено основным законом и право русского человека жить и служить в любой из окраин созданного его предками государства, не поступаясь при этом ни одним из политических или гражданских прав российского гражданина»{302}.
О том, как обстояли дела на самом деле, явствует из записки помощника уездного начальника (Юрьевский уезд). Примечательно, что содержание записки строится в контексте определения и формулирования угрозы для русского дела в Прибалтике. Это: немецкая колонизация, связанная с наплывом в уезд немецких иммигрантов из Германии[82], которые как «элемент неблагонадёжный», принимая русское подданство, могут захватить в свои руки весь край. Будучи убеждённым, что это «немецкое нашествие» следует предупредить и парализовать, автор записки начинает считать русские силы и приходит к неутешительным результатам. Он, в частности, пишет: «Известно в общем, каково положение эстонского народа в Юрьевском уезде, но ещё хуже положение проживающих здесь русских». Далее следует повествование о горькой судьбе 10 тысяч человек, предки которых бежали сюда зимой по льду Чудского озера ещё во второй половине XVIII в. и укрывались эстонцами в лесах от розыска властей. Это были раскольники и беглецы от помещичьего произвола и рекрутчины. Чтобы узаконить их пребывание в крае и спасти от возвращения на родину, лифляндские власти приписали их в мещане городов прибалтийских губерний, хотя беглецы продолжали жить по западному берегу Чудского озера в основанных ими деревнях. Тогда земли были свободны, и русским жить было хорошо. О землепашестве никто не думал, так как озеро давало в изобилии рыбу не только для пищи, но и для продажи и обмена. С начавшимся в 1840-е гг. межеванием земель большинство русского населения[83]оказалось на землях частных владельцев-баронов и попало к ним в кабалу в результате постоянно повышаемой арендной платы за те сажени земли, где русские построили свои жалкие лачуги. И вырваться из этой кабалы в условиях остзейского особого порядка не было никакой возможности.
В зимнее время — рыбный промысел. Отсюда по всему краю направлялись торговцы снетками, сигами, лещами и разными русскими товарами (например, изделия, сплетённые из камыша). Для рыболовства юрьевские русские снимали у немецких помещиков рыбные ловли и в других местностях края, но иногда встречали сопротивление со стороны эстонцев, которые под угрозой убийства[84]требовали прекращения ловли, заставляя русских отказываться от приобретённого права в ущерб себе. И это при том, что рыбный промысел не давал средств к существованию из-за естественного прироста населения и хищнического способа ловли рыбы.
С ранней весны и до глубокой осени — полукочевой образ жизни в поисках пропитания работами иного рода, дающих от 29 до 90 рублей. Из них: 11 руб. — податный и паспортный сбор в год на человека, до 12 руб. — аренда земли под дом и огород, 1 руб. 50 коп. — за право ловли рыбы в озере, 20–30 дней работы на мызе барона — за сбор хвороста для топлива в лесу хозяина. Большинство мещан были постоянно обременено недоимками, и это препятствовало их переходу в крестьянское сословие, который удался лишь немногим счастливчикам.
Говоря о старообрядцах, автор записки с уважением отмечает, что этот могучий отпрыск народа, создавшего наше государство, несмотря на оторванность в течение более века от своей Родины, сохранил свою национальность, а также верования и обычаи и, обладая колонизаторскими наклонностями, сумел повлиять на эстонцев, сделать их солидарными с собою и отчасти обратить их в свою веру[85].
Далее помощник уездного начальника, имея в виду наплыв немецких иммигрантов в уезд и опасности, с ним связанные, делает следующие выводы политического характера.
— Если нельзя сделать, чтобы русские были господами в старинной вотчине русских царей, то следует позаботиться, чтобы они не были и слугами инородцев (т.е. немцев). Для этого необходимо, помимо организации и применения на практике целой системы мер к выкупу крестьянами земель у баронов, устроить и наделить землёй 10 тысяч русских, проживающих в Юрьевском уезде и представляющих самый благонадёжный и стойкий элемент, на который правительство в минуту опасности смело может опереться.
— Только поднятием русской народности, в связи с прочими мерами, можно ожидать успехов в проведении русского дела в здешнем крае.
— С поднятием русской народности, устройством экономического положения 10 тысяч русских мещан и избавлением эстонского народа от земельной зависимости от баронов здешний уезд будет иметь все условия для роста и правильного развития и, несомненно, будет всегда представлять собою часть земли русской{303}.
Приходится констатировать, что вышеописанная ситуация в Юрьевском уезде явилась тем частным случаем, в котором проявилось общее положение русских на прибалтийской окраине, а выводы, сделанные автором записки, были актуальны для всего Прибалтийского края. И это подтверждает ответ временного прибалтийского генерал-губернатора А.Н. Меллер-Закомельского на запрос председателя Совета министров П.А. Столыпина о русском населении в Прибалтийском крае.
Согласно данным местных губернаторов, в эстонских уездах (вместе с городами) Лифлянской губернии (Верроском, Перновском, Юрьевском, Феллинском, Аренсбурском, Эзельском) по состоянию на 11 октября 1908 г. насчитывалось 16 050 русских обоего пола, в уездах (вместе с городами) Эстляндской губернии (Ревельском, Балтийском порту, Везенбергском, Гапсальском, Вейсенштейнском) — 15 211 русских. Итого 31 261 человек. Согласно переписи 1897 г., обошедшей вопрос о национальности и ставившей вопрос о родном языке, в эстонской части Прибалтийского края русские составляли 4,5%. Правда, в Нарве их проживало 43,9%{304}, но Нарва входила в состав Петербургской губернии.
По данным Меллер-Закомельского, русское население края (т.е. Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерний) насчитывало около 100 тыс. человек. То есть русские в крае составляли ничтожное меньшинство. Примечательно, что нигде, за исключением деревень Юрьевского уезда, они не представляли сплошного населения и повсюду жили среди других народностей, рискуя быть ассимированными, заключив смешанные браки или же вследствие беспросветной нужды.
По материалам переписи 1897 г., 74 365 мужчин и 67 302 женщины, или в целом 141 667 человек, проживавших в трёх прибалтийских губерниях, назвали русский язык своим родным языком. При этом грамотными были 55,5% мужчин и 32,2% женщин, мужчин с образованием выше начального насчитывалось 7286 человек, а женщин — 4061 человек{305}. В то же время всё окружающее русских население было поголовно грамотным. Трудно не согласиться с русскими должностными лицами, пришедшими к выводу, что культурное развитие русских в крае, за исключением ничтожного процента лиц интеллигентного слоя, стоит на низкой ступени{306}.
В экономическом и имущественно отношении русские также оказались отодвинутыми на последние роли. Из предпринимателей, никто не владел крупными торговыми фирмами. Были лишь купцы, торговавшие в розницу. Из них наиболее выделялись только торгующие колониальными товарами, в частности: Дёмин, председатель Ревельского купеческого общества, Белягин, товарищ Ревельского городского головы, Горбачёв и Виноградов, члены учётного комитета в Ревельском отделении государственного банка.
Русский землевладельческий класс в крае был представлен скудно и составлял 21/2% немецкого землевладения. Из русских поместий в Эстляндии и эстонских уездах Лифляндии наиболее известны: в Ревельском уезде имение «Фаль» князя Волконского, имение в Везенбергском уезде графа Мусина-Пушкина (русский вице-консул в Берлине), в Юрьевском уезде имение «Газелау» графа Шереметьева, в Юрьевском уезде имение «Каваст» Н. Терещенко, в Юрьевском уезде имения «Руэнталь» и «Карлова» наследников Булгарина, в Феллинском уезде замок Оберпален наследников князя Гагарина, в Веросском уезде имение «Ново-Койкюль» Маркова, в Перновском уезде имение «Таммаст» Кузнецовой.
За весьма редкими исключениями русские землевладельцы не жили в своих имениях, и только некоторые приезжали на лето, как на дачу[86]. Управляющие в имениях — немцы, а рабочие — эстонцы.
Слабо представленное в крае русское помещичье землевладение дополнялось острой нуждой в земле русского простонародья, особенно в восточных частях Везенбергского и Юрьевского уездов, около Чудского озера.
Таким образом, на присоединённых Петром I стратегически важных землях Прибалтики государствообразующий народ оказался представлен малочисленным, малокультурным, малоимущим и едва заметным социальным слоем, окружённым населением, чуждым по вере, языку и интересам. Общественное влияние русского населения временный генерал-губернатор Меллер-Закомельский признал равным нулю.
В условиях пережитых страной революционных потрясений, надвигавшейся мировой войны, возникновения этнонационалистических движений на окраинах Столыпин увидел в этой приниженности могучего народа на завоёванных его предками территориях такие серьёзные вызовы для российской государственности и целостности империи, что счёл необходимым принять комплекс мер, адекватных осознававшейся им опасности.
И в этом стремлении П.А. Столыпин был не одинок. Например, автор статьи «Прибалтийские юбилеи», помещённой в газете «Окраины России» за 18–25 сентября 1910 г., писал: «…дикий, грубый и жестокий разгул эстонского революционизма показал, что немецкая культура не была способна нравственно поднять массы, дисциплинировать их, поддержать авторитет русской государственности, которую балтийские немцы обыкновенно оценивают лишь с точки зрения личной выгоды. России предстоит приобщить этот край к русской культуре, сохраняя его этнографические особенности. Как урегулировать отношения старых прав немецкого высшего класса, имеющего, несомненно, свои заслуги перед русской государственностью, с условиями новой жизни России, окраину которой представляет Эстляндия, — вопрос, на который ответить придётся русской внутренней политике. Впрочем, путь к решению был указан политикой императора Александра III в отношении Прибалтийского края, и временные уклонения с него или остановки на нём могут лишь повредить, временно задержать, но едва ли могут остановить ряд тогда уже намеченных преобразований и перемен».
В 1908 г. правительство разработало меры к утверждению и поддержанию русского влияния в Прибалтийском крае. Они сводились к обеспечению приоритета русской национальности при подготовке, отборе и назначении кадров. Конечно, эти меры носили чрезвычайный характер и были вызваны вековыми упущениями в деле срастания прибалтийской окраины с внутренними губерниями России, выросшими в серьёзную угрозу целостности страны.
Если раньше борьба за Прибалтику носила международно-политический характер: Россия отвоёвывала себе выход к Балтийскому морю в противостоянии с внешним противником — ливонцами, поляками, шведами, то теперь эта борьба приобретала внутриполитическое измерение, поскольку помимо остзейских немцев с их вековыми германизаторскими устремлениями, в спор с Россией включились этнонационалистические силы из числа местного населения. Как следует из книги анонимного автора «Прибалтийская смута»{307}, «представители последних довольно откровенно высказывали, что Прибалтийский край не немецкий, но, конечно, и не русский, а эстонско-латышский; что местное население очень благодарно русским за своё освобождение от немецкого ига, но вовсе не расположено менять его на русское; что оно должно добиваться для края известной автономии, и прежде всего путём назначения на местные коронные должности в школе, суде, администрации природных эстонцев и латышей; что латышским и эстонским должно быть местное духовенство, не только лютеранское, но и православное и что даже православным епископом должен здесь быть эстонец или латыш и т.д.»{308}
С учётом внутриполитических вызовов целостности России разработанные контрмеры предусматривали следующее.
Православие
Ввиду склонности православного духовенства из эстонцев и латышей к проведению узконационалистических (т.е. антирусских, хотя и не противогосударственных) мечтаний в жизнь в своей пастырской практике, испросить у Святейшего Синода постановление (пока секретное, чтобы не раздражать туземцев) о возможно строгой фильтрации и постепенном сокращении приёма в Рижское духовное училище и семинарию на казённый счёт эстонцев и латышей и о привлечении в эти учебные заведения детей русских прибалтийцев, при условии основательного изучения ими местных языков.
С целью приобщения местного населения к русской культуре обратить внимание духовной иерархии на необходимость постепенной подготовки к замене в проповедях и богослужении эстонского и латышского языков языками церковнославянским в богослужении и русским в проповедях.
Школа
Основать необходимое число низших и средних школ специально для русского населения. Одновременно предусматривалось: организация общественной благотворительной помощи неимущим ученикам (а таких среди русских в крае большинство), создание учебно-просветительной и культурной инфраструктуры (русские публичные библиотеки, музеи изящных искусств, русские народные дома с постоянными курсами распространения высшего образования), правительственная поддержка русской прессы, русских научных и просветительных учреждений, правительственное поощрение русского театрального, музыкального и скульптурно-живописного дела в Прибалтийском крае, организация русскими народными домами гастролей выдающихся русских музыкантов, императорских театров (оперы и драмы), устройство выставок художественных произведений, имея при этом в виду, что ничто так легко и незаметно не завоёвывает симпатии инородцев к русской культуре, как обаяние русского искусства.
Чтобы русская школа выполняла функцию носительницы русских общегосударственных идеалов, проводить в жизнь следующие принципы кадровой политики: 1) назначение в русских средних учебных заведениях на должности директоров, инспекторов и преподавателей лиц нерусского происхождения считать преступлением; 2) лиц учебной администрации, так или иначе проявляющих тенденцию к поддержанию инородческих элементов в ущерб русским, немедленно удалять; 3) в русских школах все предметы, кроме иностранных языков, должны преподаваться природными русскими учителями.
Содействие русским в покупке земли
Основать особый «Русский колонизационный банк» в г. Риге с отделениями в других городах и конторами в сельских местностях. В функции этого банка должна входить также покупка земельных участков в городских местностях и выдача ссуд для русских домовладельцев.
Для предоставления русским торговцам, ремесленникам и промышленникам ссуд на более льготных условиях, чем в других банках, преобразовать один из существующих русских банков в Русский торгово-промышленный банк, кредитуемый Государственным банком.
Переселенческая политика
Для организации переселения русских в Прибалтийский край основать Русское колонизационное общество, наподобие существующего в Познани Прусского колонизационного общества, с возможно большим привлечением общественных сил.
В качестве первоочередных шагов предлагались следующие.
— Немедленно принять меры к расселению по побережью Балтийского моря желающих переселиться сюда русских рыбаков из других приморских областей с учётом того, что кроме естественной береговой охраны русские рыбаки дадут опытных моряков как для военного, так и для коммерческих флотов.
— Ввиду важного государственного значения железных дорог[87] возбудить вопрос о принудительном отчуждении земли, прилегающей к рельсовым путям, и устройстве на этих землях русских посёлков с привлечением сюда русских людей из центральных губерний. Из их числа набирать служащих для охраны, ремонта и очистки пути, а также служащих для охраны казённых лесов. Главная цель создания таких посёлков — колонизаторская.
— Для обеспечения русского влияния в крае учредить в новообразовавшихся русских посёлках сельскохозяйственные школы и образцовые фермы, участки для которых могут быть получены путём отчуждения земли на государственные надобности. При этом подчёркивалось, что громадное значение для русского дела имела бы усиленная выдача денежных премий, медалей, улучшенных орудий, племенного скота и т.п. лучшим русским хозяевам за их успехи в области земледелия, маслоделия, пчеловодства, скотоводства, травосеяния, сыроварения и кустарных промыслов.
Городские управления
Принять за общее правило: где в пределах города имеется не менее 10% русских, там должно быть избираемо из числа русских не менее 25% гласных думы и не менее 20% служащих в разных учреждениях, подведомственных городским управлениям. Если городской голова нерусский, то его товарищ (т.е. заместитель) должен быть обязательно русский. Если секретарь думы нерусский, то секретарь управы должен быть русский.
Русским детям должно быть обеспечено городами получение образования на родном языке. Если это не исполнено, город не имеет право открывать на городские средства школы с нерусским языком преподавания. В городских школах русский язык и русскую историю должны преподавать только русские по рождению.
Усиление позиций русского чиновничества в крае
Чтобы парализовать при назначении на высшие чины исключительное влияние немецко-дворянских кругов, безусловно враждебных усилению в крае русской государственности, замещать административные, судебные и педагогические посты коренными русскими, проникнутыми высокими идеалами Августейшего Преобразователя края Императора Александра III.
Под главным руководством генерал-губернатора, который является не только представителем власти на окраине, но и носителем русских общегосударственных идеалов, проводить в жизнь русскую государственную программу при согласовании действий всех административных органов.
Борьба с сепаратизмом и инородческим национализмом
Учредить строгий контроль за действиями немецких, латышских, эстонских просветительных, благотворительных и финансово-экономических обществ с целью предупреждения действий и предприятий, направленных к подрыву русского культурного и государственного влияния.
Инородческую прессу и литературу всеми мерами сдерживать от проповеди обособления и противодействия русским в деле объединения Прибалтийского края с остальной Россией.
«Дейчферейны» и «Шульферейны», ввиду доказанной связи с антирусскими организациями в Германии, закрыть и вновь не разрешать.
Административное деление края
Для упрощения и облегчения деятельности губернаторов и губернских учреждений, а также в видах громадной экономии вместо существующего деления края на три губернии разделить край по племенному составу туземцев на две губернии: Ревельскую (с подчинением всех эстонцев ревельскому губернатору) и Рижскую (с подчинением всех латышей рижскому губернатору). При таком делении упраздняются и названия «Эстляндия», «Лифляндия» и «Курляндия», много говорящие только сердцам немецких сепаратистов{309}.
Все назревшие реформы предполагалось, по возможности, провести до 10 июня 1910 г., т.е. ко дню 200-летия воссоединения Прибалтийского края с Россией. Правительство намеревалось осуществить эти реформы во благо населения края, во славу Русского Царя и Русского Народа. Однако то, что упущено за двести лет, трудно наверстать за два года. Законные и справедливые намерения верховной власти наконец-то уравнять русских в правах с инородческим населением, наделить их землёй, за которую их предки со времён Ярослава Мудрого, основавшего город Юрьев, проливали кровь, сделать их, как это и подобает могучему народу, демографическим, культурным, экономическим и политическим фактором в жизни края, чтобы обеспечить срастание этой окраины с Россией во благо всего населения, — всё это теперь приходилось осуществлять, преодолевая сильное сопротивление местных сил торможения. Ситуация осложнялась тем, что эстонцы и латыши, прежде так стремившиеся сбросить с себя немецкое иго путём непосредственного подчинения русскому царю и русским учреждениям, теперь, переживая пришествие этнонационализма, смотрели в сторону от России и тем самым выступали временными союзниками немцев, взяв на вооружение пропагандистские тезисы о России — «тюрьме народов», о её имперской политике, о практике русификации окраин и т.д. Националистическая интеллигенция исключала для своих соплеменников выбор других коренных народов (например, мордвы), которые, интегрировавшись в Россию и сохранив своё этническое своеобразие, стали русскими патриотами и остаются ими до сегодняшнего дня{310}.
Примечательно, что временный генерал-губернатор Прибалтийского края барон Меллер-Закомельский, признавая в письме к Столыпину, что каждому русскому дорого, чтобы его национальность являлась в крае действительно господствующей, в то же время отмечал, что возбуждённый премьер-министром вопрос о культурном и экономическом подъёме русского населения в крае слишком обширен, а потому для правильного его разрешения требуется наивозможно детальное местное его исследование. Такой образчик детального исследования он явил в представленной в Совет министров записке по поводу статьи об ослаблении русского влияния в крае, опубликованной в газете «Окраины России» и привлёкшей внимание Николая II. В своей записке Меллер-Закомельский утверждал, что данная статья «представляет пример обычных сетований русских людей, попавших на окраину и не успевших устроиться в ней согласно своим широким обыкновенно вожделениям». «Подобные неудачники, — продолжал генерал-губернатор, — большею частию люди без воспитания и образования, не принимаются в местное немецкое общество, а потому, тая в себе чувства зависти и личной обиды, объясняют свою неприязнь к немцам соображениями о предпочтении их русским и о наносимом чрез это ущербе нашей государственности»{311}. Докладывая 22 февраля 1908 г. императору о положении дел в Прибалтийском крае, Меллер-Закомельский отказался осуществлять предложенные Столыпиным меры по увеличению числа русских чиновников. Подробно характеризуя личный состав местной администрации, временный генерал-губернатор настаивал на том, что все губернаторы Прибалтийского края признают немцев незаменимыми в качестве уездных начальников и их помощников, во-первых, в силу знания ими не только немецкого и русского, но и латышского и эстонского, а иногда литовского и польского языков, а во-вторых, «вследствие известной корректности немцев, отсутствия между служащими из них взяточничества и других недостатков, свойственных лицам, из коих комплектуются полицейские места во внутренних губерниях империи»{312}. Правда, о главном требовании Столыпина к чиновникам на имперских окраинах — отстаивании интересов русской государственности и о том, насколько немцы соответствуют этому требованию, барон не проронил ни слова. Летом 1909 г., после ликвидации института временного генерал-губернаторства, учреждённого в связи с революционными событиями 1905–1907 гг., Меллер-Закомельский был введён в состав Государственного совета, пополнив представленный в нём корпус «незаменимых» и «корректных» немцев.
Младолатыш Кришьян Валдемар, будучи активным сторонником русификации Прибалтийского края и немало пострадавший от остзейцев за свою позицию, не счёл за труд подсчитать в 1865 г. процент немцев во властных структурах империи и подготовить на основе выявленных им фактов статью для «Московских ведомостей» Каткова под заглавием «Кто правит Россией: сами русские или немцы?». В статье приведены следующие данные: «Среди министров — 15% немцев, среди членов Государственного совета — 25%, среди сенаторов — 40%, генералов — 50%, губернаторов — 60%». «А поскольку губернаторы управляют Россией, — делает вывод Ваддемар, — то это и будет ответом на поставленный вопрос. Поскольку все императрицы — немки, естественно, что по их протекции немцы просачиваются в высшую администрацию»{313}. Катков, отнёсшийся недоверчиво к данным Валдемара, поручил своему секретарю перепроверить некоторые цифры. И эта проверка поразила его ещё больше: оказалось, что число сенаторов не 40%, как у Валдемара, а все 63%.
Впечатления от этой унизительной для русских информации нашли отражение в передовице «Московских ведомостей». В ней, в частности, говорилось: «Мы, русские, терпеливее китайцев, более 10 лет терпели во главе русской юстиции безмозглого немца, который не был способен пять слов правильно произнести, и ещё терпим другого немца на таком важном посту, как председателя юридического отделения Государственного совета. Разве не настало время нам стать на свои ноги»{314}.
Правда, вскоре граф Пален будет отправлен в отставку. Но, конечно, не только этот единичный случай имел в виду Катков, взявший на себя миссию «стража империи». Встать русским на свои ноги в том смысле, в каком этого хотел Катков, помешает Первая мировая война и её следствия: Февральская и Октябрьская революции.
VII.6. Германский фактор в британском контексте
Казалось бы, наличие в России многочисленной и преуспевающей немецкой диаспоры, значительный процент немцев в составе российской элиты, заслуги немцев перед царём и Российской империей и, наконец, российско-германские династические узы должны были благоприятствовать развитию позитивных российско-германских отношений и блокировать разрешение противоречий на путях войны. Однако всё было не так просто. Реальности германо-российских отношений были и сложнее, и драматичнее.
В период средневековья немцы, проживавшие в многочисленных княжествах на территории Священной Римской империи германской нации, смотрели на Россию и русских сквозь призму впечатлений Герберштейна, посла германского императора Сигизмунда. Свои наблюдения от двухразового посещения Москвы Герберштейн изложил в записках, в которых критически отозвался и об укладе жизни в России, и о деспотизме царя, и о покорности населения. Именно под неблагоприятным углом зрения, выбранным Герберштейном, немцы, в том числе и немецкие авторы, столетиями смотрели на Россию.
С вступлением России на европейскую политическую сцену актуализировался вопрос о будущей роли и месте России в европейской истории. Первые попытки предвосхитить будущее России были предприняты немецкими просветителями XVIII в. Готфридом Лейбницем и Иоганном Готфридом Гердером[88]. Они заложили основы русофильской традиции в политической мысли Германии, которые впоследствии были развиты в трудах консервативных историков и политиков. Лейбниц и Гердер имели о России, конечно, поверхностные представления и смотрели на неё с позиций своих философско-исторических концепций, в которых важное место уделялось деятельности просвещённых правителей. По их мнению, монархи в союзе с философами путём политико-гуманистического и религиозного воспитания народов могли построить новый мир, который вобрал бы в себя всё полезное и лучшее, чем располагает Европа, но был бы избавлен от пороков, порождаемых кризисными явлениями в старых европейских государствах. На начавшую европеизироваться Россию смотрели как на «чистую доску» (tabula rasa), как на наиболее подходящее поле для реализации своих философских концепций. В государях ранга Петра I и Екатерины II они видели властителей, которые способны вывести свой народ к «новому Эдему» из «мрака скифских степей».
Однако будни огромной империи плохо вписывались в теорию об идеальном Царстве Просвещения. Гердер, будучи не только философом, но и учёным-славистом, был глубоко разочарован, когда в конце XVIII столетия близкая его сердцу Польша была трижды поделена как военная добыча России, Пруссии и Австрии. В восприятии Гердера Россия предстала уже иной: исполином, несущим с собой опасность.
Конечно, в условиях каждодневных столкновений идеалистических схем с действительностью русофильский подход немецких просветителей не мог быть однозначным. Наравне с авансами, выдававшимися России в контексте философских идей и гипотез, присутствовал и недоверчивый, критический взгляд на огромную страну на Востоке.
Двойственное отношение к России можно проследить на примере литературного Веймара (Гёте, Гердер, Шиллер), связанного династическими узами с Петербургом. Здесь интерес к русской культуре, любопытство к возрастающему значению России в современной истории сочетались с настороженностью по поводу военной мощи и военных побед России. Чётко прослеживалась также неприязненность к «жестоким и косным формам российской государственности»{315}.
В результате наполеоновских войн прекратила своё существование Священная Римская империя германской нации (926—1806 гг.), которую впоследствии немцы назовут Первым рейхом. Зимой 1807–1808 гг., ещё в период наполеонского господства, немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте обнародовал свои «Речи к немецкой нации». Они не только подняли немецкий национальный дух, но и стали манифестом к объединению Германии после разгрома Наполеона.
Условия для германского единства были созданы Россией, которая не только изгнала французов[89] с собственной территории, но и, несмотря на разорение страны и усталость войск, перенесла войну за границу для освобождения Западной Европы от ига Наполеона[90]. В результате своей заграничной кампании Россия отстояла государственные и территориальные интересы Пруссии и обеспечила тем самым базу для движения за создание Второго рейха. Однако освободительная миссия России была воспринята двояко. С одной стороны, национальное спасение при помощи огромной «северной» империи явилось фактором массового сближения двух народов. С другой стороны, усиление влияния Российской империи в центре Европы, создание Священного союза, в котором русский император играл определяющую роль, вызывали опасения у немецких либералов и националистов.
На этом фоне в первой половине XIX в. сформировалось два направления в общественном сознании Германии: прорусское — консервативное и антирусское — либерально-демократическое{316}.
Представители прорусски настроенных консервативных кругов смотрели на Россию как на сакральное воплощение единства царя и народа, считали, что она способна противостоять «язвам» современной Европы: революции, хаосу, пролетаризации, капитализму и увиденным Марксом «призракам коммунизма». Немецкие консерваторы восхищались религиозностью русского народа, его патриархальной жизнью, испытывали интерес к мифу о загадочной русской душе, связывали с «не испорченным» цивилизацией Востоком большие надежды.
Для немецких либералов и демократов, напротив, Россия стала символом реакции и деспотизма. Резко негативное восприятие России сложилось под информационно-пропагандистским влиянием польских эмигрантов, которые после поражения польского восстания 1830 г. осели в Европе и оттуда продолжили свои споры с Россией. Российская империя подавалась ими не просто как политический противник, а скорее как воплощение зла. Поляки предостерегали Европу от отношения к России как к обычной великой державе, ибо, как они утверждали, этот «деспотический гигант» стремится не только к тотальному подчинению своих собственных подданных, но и к порабощению всего свободного мира{317}.
Немецкие либералы сочувствовали польскому движению, как и вообще всем «угнетённым народам» Российской империи, поскольку видели в России главное препятствие для объединения Германии. В то же самое время они не желали ради Польши жертвовать немецкими национальными интересами, в частности территориальными приращениями, полученными в результате участия в разделах этого государства.
Поскольку Россия выступала за сохранение сложившихся в Европе политических режимов, государственных образований и границ, то краха «русской гегемонии» в Европе желали представители широкого спектра как умеренных, так и революционных политических сил. Все они говорили о необходимости войны с Россией. Одни преследовали цель объединения Германии, другие (например, К. Маркс и Ф. Энгельс) в поражении России в общеевропейской войне видели условие возрождения революционного процесса, временно приостановленного после революции 1848 г.{318}
Как и консерваторы, немецкие либерал-демократы и социалисты не отделяли царя от русского народа, но смотрели на это единство с позиций политических и националистических предубеждений, называя русских контрреволюционной нацией, обладающей к тому же всеми пороками примитивных народов. Отрицательное отношение к русским, которые рассматривались как продукт татаро-монгольского ига и самодержавного деспотизма, они переносили на всех славян, из которых обычно исключались поляки, которые свою принадлежность к римско-католическому миру ставили выше принадлежности к славянству. Впоследствии идеи социалистов и революционных либерал-демократов о необходимости войны романо-германских народов против славян будут взяты на вооружение и по-своему интерпретированы вначале пангерманцами, затем Гитлером.
В период между Венским конгрессом и Крымской войной отношение Европы к России приняло опасные формы. Европейская и немецкая общественность призывали к крестовому походу против России, называя её «деспотическим гигантом», «восточным тираном», «угрозой европейской цивилизации», «самым мощным оплотом контрреволюции». Материал для таких оценок давала прежде всего русофобская французская и немецкая публицистика, развернувшая против России информационно-психологическую войну. Благодаря усилиям российской дипломатии до глобальной военной конфронтации Европы и России дело не дошло. Конфликт вылился в локальную Крымскую войну, в которой германские государства участия не приняли, хотя представители либерального и демократического движения выступали с требованиями поддержать войну против русского самодержавия.
Потребовались почти 20 лет после Крымской войны, чтобы российская дипломатия, возглавлявшаяся A.M. Горчаковым, добилась упразднения значительной части унизительных для России условий Парижского мира 1856 г., прежде всего отмены нейтрального статуса Чёрного моря.
Нужно сказать, что предубеждения представителей немецкой либерально-демократической и националистической среды в отношении России как помехи свободы и единства нации, а также создания единого германского государства были далеко не всегда обоснованными. По мнению русского философа И.А. Ильина, Россия, выступая в течение века (с 1815 до 1914 г.) «великой силой равновесия в Европе», прямо и косвенно помогала усилению влияния германских государств, и в первую очередь Пруссии. Бисмарк смог объединить Германию и создать империю потому, что российское правительство давало ему свободу, если не прямо поощряло его, видя в объединяющейся Германии противовес Англии и Франции, врагам России по Крымской войне{319}. В то же время А.М. Горчаков, стремившийся уберечь империю от новых внешних потрясений, считал объединение Германии невыгодным для России и исходил из того, что решительное противодействие русской дипломатии объединительным поползновениям немцев могло бы сыграть огромную роль{320}. Однако Александр II, руководствуясь также и династическими пристрастиями, поддержал курс Бисмарка на объединение Германии вокруг Пруссии. Он обеспечил также нейтралитет России во время франко-прусской войны 1870 г., за что Вильгельм I благодарил русского императора.
18 января 1871 г. в Версальском дворце, богато украшенном картинами былых побед французов над немцами, Вильгельм I был провозглашён императором единой Германии, или Второго рейха. Бисмарк был пожалован титулом князя. Россия же получила на своей западной границе в лице единой Германии в несколько раз увеличенную Пруссию, которая по мере превращения в могущественную военную державу будет привлекать три четверти российского внимания и сил.
В 1875 г. Россия помешала Германии напасть на Францию. В 1878 г. политика Германии, проявившаяся в неблагоприятной для России позиции Бисмарка на Берлинском конгрессе, вызвала взрыв антигерманских настроений в российском обществе. Отношения с Германией начинают давать трещину, и Россия постепенно переходит в лагерь своих бывших противников — Англии и Франции. Они образуют коалицию, получившую название «Тройственное согласие», или Антанта. Этот союз был скреплён, конечно, не проснувшейся любовью друг к другу, а осознанием потенциальной опасности, исходившей от Германии и возглавлявшегося ею Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия).
Между тем Германия, зажатая со всех сторон такими же, как она сама, многонаселёнными государствами, быстро растущая численно (с 40 до 65 млн. человек), сотрясаемая забастовками рабочих, требовавших улучшения своего быта при убывающей, как тогда считалось, возможности прокормиться за счёт хлебопашества на собственной территории, искала выход из создавшегося положения. «Будущее Германии лежит на морях», — объявил в 1991 г. император Вильгельм II. И это явилось вызовом не России, а владычице морей Великобритании, окружившей европейский материк своим могущественным флотом, «точно насыщенной электричеством изгородью». В короткий срок немцы, воодушевлённые звучным кличем императора, достигли удивительных результатов. Создав превосходный коммерческий флот, оборудовав морские побережья, они с «безудержной дерзостью» устремились за море для добывания дополнительных средств к жизни. Превращение, хоть и запоздалое, Германии в морскую державу было воспринято Великобританией как посягательство на свои жизненные интересы как океанской империи, покрывшей водную поверхность земного шара британскими судоходными линиями, занявшей все морские проходы и захватившей лучшие земли всех частей света[91].
Решение «германского вопроса», остро вставшего перед Великобританией, была найдено с обращением к давно опробованной и доказавшей свою эффективность англосаксонской стратегии «равновесия сил в Европе»[92] — основе всех союзов и соглашений европейских держав, с помощью которых Англия проводила в жизнь своё решение не допускать на европейском континенте сколько-нибудь опасного преобладания какой бы то ни было державы, способной бросить вызов британцам. Заинтересованная в глубоком военном поражении Германии не только на море, но и на суше, Великобритания, не имевшая значительной сухопутной армии, была готова начать войну лишь в том случае, если удастся вовлечь в неё Россию и Францию, и при том условии, если Россия возложит на себя основную тяжесть войны.
Сам факт раскола Европы на коалиции ещё не означал неминуемого скатывания к мировой войне. Но этой войны хотела Англия, главная цель которой состояла в том, чтобы отбить наступление Германии на Атлантическом океане, как было отбито наступление России на Тихом{321}. Что касается Франции, вынужденной вращаться в орбите британского деспотического честолюбия, то и у неё, помимо необходимости защиты своих колоний, было достаточно мотивов, чтобы стремиться к реваншу на путях победоносной войны. Не забыты были унижения на международном суде в Вене, к которому она после поражений Наполеона была привлечена в качестве виновницы всех беспорядков в Европе. Не забыто торжество Вильгельма I в Версальском дворце после победы немцев в франко-прусской войне 1870 г., по результатам которой Франция была не только отодвинута к границам 1552 г., но и должна была выплатить своему «заклятому врагу» огромную по тем временам контрибуцию (в рублях — два миллиарда).
Следует сказать и о том, что в течение нескольких лет, предшествовавших схватке «империалистических хищников», в английской печати открыто обсуждалась расстановка сил на театрах военных действий с участием Франции и России. Чтобы эти силы действительно пришли в военное столкновение, для англосаксов было лишь делом времени и техники.
Англии с помощью газетных статей удалось перевести стрелку от «жёлтой опасности» (после того как русский флот был потоплен в Жёлтом море) к германской и внушить России такое безотчётное недоверие к Германии, что в русской прессе широко распространилось мнение, будто именно Берлин подтолкнул Россию к дальневосточной авантюре и тем самым к войне с Японией, чтобы, воспользовавшись тяжёлым положением России, навязать ей «разорительный» торговый договор 1904 г. При этом в немецком содействии нашему транссибирскому товарному «отводу» на Дальний Восток начали усматривать геостратегический подвох. В результате, как заключил в своих «Итогах войны» генерал-адъютант А.Н. Куропаткин, мы не решились тронуть сосредоточенные на западной границе российские сухопутные и морские силы и оставили почти без защиты грандиозное государственное сооружение, все вновь приобретённые, и со страшными затратами, благоустроенные земли и всю с изумительной быстротой развивающуюся предприимчивость нашу{322}.
С точки зрения русского геополитика генерал-майора А.Е. Ван-дама, Германия, поддерживая Россию в обеспечении наилучшего выхода дорогостоящей Сибирской железной дороги к Тихому океану, хотела ослабить давление России на свой правый фланг, чтобы она не тормозила её марш на запад (Drang nach Westen), к Атлантическому океану, который был выгоден и России, ведь она не хотела и боялась войны с Германией. Вышло же всё наоборот. Как только закончилась тихоокеанская трагедия России, организованная англосаксами, «Англия, надев на себя маску приветливости и дружелюбия, сейчас же подхватила нас под руку и повлекла из Портсмута в Алхезирас[93], чтобы, начав с этого пункта, общими усилиями теснить Германию из Атлантического океана и постепенно отбрасывать её к востоку, в сферу интересов России»{323}, готовя марш на восток (Drang nach Osten).
В такой ситуации Германия не могла воспринять «тройственное соглашение» иначе как направленное против себя. Таким восприятием можно объяснить обнаружившуюся у немцев ещё со времён Бисмарка и высмеянную министром иностранных дел С.Д. Сазоновым «манию преследования», т.е. уверование во враждебные поползновения со стороны западных и восточных соседей, которые якобы проводят «политику окружения» Германии. Как свидетельствует С.Д. Сазонов, в эту политику уверовала решительно вся Германия, начиная с самого императора и его ближайших сотрудников{324}. При этом наиболее злостные замыслы приписывались Англии и Франции. Россию же подозревали в сочувствии этим замыслам.
Как бы то ни было, но своей политической программой Германия действительно провоцировала Антанту, в первую очередь, конечно, Великобританию, которая в своей печати (откуда, по меткому замечанию Вандама, европейцы черпали свои суждения) проводила мысль о неизбежности столкновения со Вторым рейхом. И это было нетрудно, поскольку экстремистские силы в Германии, активизировавшиеся на волне немецкого национализма, давали достаточно поводов, чтобы амбиции Второго рейха воспринимались как угроза.
За год до дерзкого клича Вильгельма II «Наше будущее — на море» образовался Пангерманский союз (1890 г.). Он стал проводником пангерманизма в массы и обратился к немцам с лозунгом «Германия, пробудись!».
Пангерманцы явились рупором тех сил в немецком обществе, которые хотели наверстать упущенное за долгий период политической раздробленности страны и осуществить передел уже поделённого мира. Пангерманцы ставили вопрос об увеличении численности германской армии, создании военного флота, призывали к территориальной экспансии, к ведению наступательных войн, расширению жизненного пространства немецкой нации, к реализации права Германии на «место под солнцем».
В раннюю пору своего существования Пангерманский союз требовал, чтобы германская экспансия распространилась от Северного и Балтийского морей до Персидского залива, захватив Голландию, Люксембург, Бельгию, Швейцарию, все Балканы и Малую Азию. В дальнейшем союз включил в свою экспансионистскую программу Северную и Восточную Францию, Финляндию, Прибалтику, Белоруссию, Украину, Крым, Кавказ{325}.
Германские власти, включая чиновников МИДа, как правило, дистанцировались от заявлений и программ пангерманцев и время от времени выступали с опровержениями, которые, однако, воспринимались в Европе как вялые и неубедительные.
В одной из своих речей в Государственной думе министр иностранных дел С.Д. Сазонов назвал грандиозный проект немцев Берлинским халифатом[94], ибо в задачи Германии, как утверждал глава российского МИДа, входило не только установление германского владычества над Европейским континентом, но и создание фантастической империи от берегов Рейна до устьев Тигра и Евфрата{326}. При этом за скобками осталось, что Германия, вытолкнутая (в ходе реализации английской стратегии) из безразличных для России марокканских портов Танжера и Агадира, усилила свою деятельность в Азиатской Турции, а потерпев неудачу в других попытках выйти к Атлантике, начала глубже проникать в Персию.
Конечно, действия Германии, которые она предпринимала в «борьбе за жизнь», нарушали равновесие в Европе и напрямую затрагивали интересы Англии, которая хотела нейтрализовать немцев с помощью континентальной войны и с непременным участием России — крупнейшей сухопутной державы, чтобы, с одной стороны, бросить на алтарь войны весь её потенциал, а с другой — не позволить остаться сторонним наблюдателем схватки и усилиться за счёт ослабления воюющих государств.
Для России же, в отличие от британцев, германский военный вызов был не столь очевиден, как не была очевидна и выгода решения «германского вопроса» по англосаксонскому сценарию.
В управлении Россией немцы по-прежнему занимали заметное место и потенциально работали на российско-германские союзнические отношения. Кроме того, в начале XX в. у России ни с какой другой страной не было таких обширных торговых связей, как с Германией. С 1895 г. по 1910 г. доля Германии во всём российском экспорте возросла с 42 до 48%, а ввоз из Германии и через Германию в Россию за этот период увеличился с 33 до 40% от всего объёма российского импорта{327}. Россия поставляла в Германию сырьё и сельскохозяйственные продукты, получая из этой страны машины и другую высокотехнологичную продукцию. При этом ежегодно увеличивался приток в Россию немецких промышленников, так что профессор правоведения В.В. Есипов в период Первой мировой войны, когда развернулась борьба с «немецким засильем», задним числом отмечал, что целые торгово-промышленные районы в России едва не погибли для неё, будучи «заедены» немцами. Его беспокоило и то, что «все более или менее сложные отрасли городского хозяйства в России также мало-помалу переходили в руки тевтонов: мостовые мостили у нас немцы, электрические трамваи и телефоны устанавливали немцы, электрическое освещение — немцы и т.п. и т.п.»{328}
Правда, обеспокоенность в отношении асимметричного развития российско-германских торгово-экономических отношений высказывалась в российской прессе и до войны. Так, летом 1912 г. развернулась дискуссия вокруг утверждений профессора Московского университета И.М. Гольштейна о превращении России в сырьевой придаток империи Гогенцоллернов, об опасности сильной экономической зависимости от страны, находящейся в конкурирующей группировке держав (Тройственный союз) и о необходимости приоритетного развития торговли, в первую очередь, с Великобританией. Гольштейну ответил Г.Я. Рохович на страницах газеты «Речь» (рупор партии кадетов). Он квалифицировал взгляды сторонников экономической независимости от Берлина не просто бессмысленными, а весьма опасными для устойчивого развития российской экономики, поскольку они направлены на подрыв налаженных в течение столетий торговых связей и похожи на авантюру, так как нет гарантий, что с уходом с давно освоенных рынков российские товары будут востребованы на рынках других стран. По мнению Роховича, цель России только одна: по возможности расширить наш товарообмен с Германией и сделать его возможно для нас более выгодным. Против названия России колонией Германии выступил и член Академии наук, профессор И.И. Янжул. Он согласился, что экономическая зависимость действительно существует, но подчеркнул, что она взаимна, а потому «конфликты невыгодны Германии не менее чем нам». Дискуссия продолжалась на страницах российской прессы вплоть до начала войны, вылившись в общественное движение за пересмотр условий торгового договора 1904 г., который истекал в 1917 г. Берлин же недвусмысленно давал понять, что не намерен ослаблять аграрный протекционизм, зафиксированный в договоре 1904 г. В целом же трудно не согласиться с современным историком Б. Котовым, сделавшим вывод, что дискуссия отражала растущую неуверенность русского общества перед лицом мощной, экономически развитой Германии{329}. И эта неуверенность могла заставить бояться, а не желать войны с Германией, осознать необходимость модернизации (разумеется, в условиях мирного времени), чтобы изменением структуры экспорта в пользу продукции высокотехнологичных отраслей и интенсивного земледелия ответить на экономический вызов немцев.
Что касается стратегов Второго рейха, то они, конечно, хорошо знали мнение объединителя Германии князя Бисмарка по поводу России. А он, иронизируя над сторонниками «Дранг нах Остен», говорил: «Тот, кто развязывает превентивную войну против огромной царской империи, совершает всего лишь простой акт самоубийства из страха смерти»{330}.
Природу немецкого страха в отношении огромной России можно понять из содержания секретного меморандума «Германия и Восток», подготовленного для германского МИДа накануне Первой мировой войны профессором Фридрихом Лециусом. С точки зрения Лециуса, существование Российской империи в её сложившихся к 1914 г. границах несовместимо с безопасностью Германии. По подсчётам Лециуса, к 2000 г. численность населения России должна будет составлять 400 млн. человек. И тогда Россия легко сможет задушить Германию. Если Россия останется в своих границах, то, как считал Лециус, она усилится экономически и выключит из экономической жизни немецкую торговлю и немецкие предприятия, заменив их французскими, английскими и американскими партнёрами. Поэтому жизненно важным для Германии Лециус считал убрать Россию с дороги, оттеснить её на позиции средневековой Московии и ориентировать её развитие в направлении Сибири. Для этого Германия должна добиться того, чтобы Россия потеряла свои приграничные области: Польшу, Прибалтику, Финляндию, Белоруссию, Украину, Крым, Кавказ. Эти области должны перейти к Германии, её союзникам (Австро-Венгрии, Турции) или обрести самостоятельность.
В доводах Лециуса, выдержанных в радикальном пангерман-ском духе, обращает на себя внимание то обстоятельство, что он смотрит на огромность России ещё и с позиций её союзнических отношений с Францией и Великобританией. Хотя Россия как никогда была заинтересована в мире (Столыпин просил 20 лет мира, чтобы спасти Россию от великих потрясений), однако сам факт её принадлежности к конкурирующей группировке — Антанте рассматривался германской стороной как вызов в духе «политики окружения», осложнявший немецкий «Дранг нах Вестей», к Атлантике и понуждавший вести войну на два фронта.
Другую опасность для рейха германские стратеги видели в славянском мессианском мышлении российской элиты. К середине XIX в. оно оформилось в панславянское течение, которое обеспечивало идеологическую и политическую базу политики русских царей, поддерживавших борьбу южных славян за независимость.
Идеологи германского национализма испытывали стойкий страх перед славянской картой русского царя, усматривая в ней попытку «свести на нет вековые усилия Германии» на востоке и юго-востоке Европы и стремление с помощью юго-западных славян радикально изменить соотношение сил на европейском континенте. Славянский мессианизм никак не сочетался ни с пангерманизмом, ни с идеей исторической культурной миссии немцев на европейском востоке и юго-востоке. Германизация славянских народов, «народов без истории», по выражению Гегеля и Энгельса, представлялась немцам законной и справедливой деятельностью, осуществляемой в интересах цивилизации по праву высшей культуры. В этих условиях в радикальных кругах обеих стран речь всё чаще и чаще заходила о неизбежной борьбе между славянами и германцами. Но борьба — это ведь не всегда война.
Конфликт России с германским миром по славянскому вопросу на Балканах перерос в мировую войну, потому что, ввиду сближения России со своим заклятым историческим врагом Англией, стал частью более сложной и масштабной борьбы за жизненные интересы между немцами и англосаксами. Таким образом, Балканы стали местом реализации условия (вовлечение России, а за ней и Франции в Первую мировую войну), при котором британские стратеги были готовы принять германский вызов на театрах войны континентальной Европы, чтобы не защищать свои имперские и колониальные интересы одними собственными силами.
Удивительном образом сбылся прогноз, сделанный геополитиком генерал-майором А. Вандамом ещё в августе 1912 г. Он, в частности, предсказывал: «…рассчитывать на чистосердечное желание английской дипломатии привести нынешние балканские события к мирному разрешению трудно. Наоборот, надо думать, что, пользуясь огромным влиянием на Балканах и в известных сферах Австрии, она будет стремиться к тому, чтобы сделать из этих событий завязку общеевропейской войны, которая больше, чем в начале прошлого столетия опустошив и обессилив континент, явилась бы выгодной для одной только Англии»{331}.
Примечательно, что политика Англии, заключавшаяся в отведении главного удара немцев от себя и направлении его на восток, в сторону России, чтобы добиться к своей выгоде истощения сил Германии и России в губительной войне, будет определять ситуацию в Европе и накануне Второй мировой войны.
По свидетельству В. Фалина, Сталин до конца своей жизни хранил запись разговора Черчилля с внуком Бисмарка, первым секретарём посольства Германии в Лондоне (октябрь 1950 г.). Согласно этому документу, Черчилль заявил: «Вы, немцы, недоумки. Вместо того чтобы в Первой мировой войне сосредоточить все силы на востоке для разгрома России, затеяли войну на два фронта. Вот если бы вы занялись только Россией, мы бы позаботились о том, чтобы Франция вам не мешала»{332}. И это говорил союзник России в Первой и Второй мировых войнах!
Первая мировая война окажется самоубийственной для всех трёх империй, участвовавших в ней: Австро-Венгрии, Германии и России. Война приведёт к истощению сил, активизации внутренней смуты, падению монархий, гибели консервативных порядков, квазигосударственному оформлению малых народов и потере территорий.
В России же после Октябрьского переворота Первая мировая война перерастёт в гражданскую. В спор за Прибалтику вступят местные этнонационалисты, поддерживаемые Германией и державами-победительницами, и местные большевики, выступающие против «националистических предрассудков» и ориентированные на федеративные отношения бывших прибалтийских губерний с Советской Россией. Остзейские и российские немцы, подвергнутые в ходе Первой мировой войны на волне антинемецких настроений репрессиям и дискриминации[95], не войдут в состав новой элиты ни с крушением самодержавия и образованием Временного правительства, ни с захватом власти большевиками. Произошедшая смена элит станет для Гитлера поводом заявить, что сама судьба указывает немцам путь на восток.
Глава VIII.
Эстония: на крутых виражах к государственной независимости (1917–1920 гг.)
VIII. 1. Эстония в 1917 г.: Октябрьский переворот в тыловом районе имперской столицы
Большевистские лидеры рассматривали Эстонию как один из основных плацдармов подготовки и осуществления Октябрьского переворота 1917 г. При разработке стратегии и тактики вооружённого восстания ей придавалось важное значение как непосредственному тылу имперской столицы, в которой планировалось решающее выступление. По мысли Ленина, дело восстания должны были решить Питер, Москва, Гельсингфорс, Кронштадт, Выборг и Ревель (Таллин). Для его успеха Ленин считал необходимым «одновременное, возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне, и изнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление всего флота…»{333}.
Важно заметить, что, конечно, в виду имелось не только географическое расположение Ревеля, но и расстановка политических сил в этом тыловом районе. В предоктябрьский период на волне роста политической активности различных слоев населения в Эстонии возникло много партий. Поэтому политический ландшафт был довольно разнообразен. Эстонские большевики занимали левый фланг политического ландшафта. Ближе к центру нашли свою политическую нишу левоцентристские партии и группировки. Наиболее известными из них были трудовики (радикал-социалисты), эстонские социалисты-революционеры (эсеры) и эстонские социал-демократы, объединённые в Эстонской социал-демократической рабочей партии, которая распадалась на левую группировку во главе с М. Мартна и правую (К. Act., H. Кестнер, А. Рей и др.). На правом фланге боролись за политическое влияние и власть Эстонская демократическая партия (бывшая партия прогрессистов) во главе с Я. Тыниссоном; Союз эстонских земледельцев («Маалийт») К. Пятса; Эстонская радикально-демократическая партия (А. Бирк, Ю. Яаксон) и её близнец — Эстонский крестьянский союз. Все эти партии были организациями городской буржуазии и представителей зажиточного слоя эстонского крестьянства («серых баронов»).
Тем не менее руководство РСДРП(б) не обманулось в своих ожиданиях, связывавшихся с Эстонией. В октябре 1917 г., сразу же после взятия Зимнего дворца и открытия Второго съезда Советов, на котором Ленин объявил о том, что социалистическая революция совершилась, эстонские большевики осуществили захват власти в наиболее крупных центрах Эстонии (Ревель, Юрьев, Нарва). Объясняется это рядом обстоятельств.
В тот период эстонские большевистские организации, подчинённые Эстляндскому комитету РСДРП(б), были готовы и способны взять власть. Их возглавляли профессиональные революционеры, выдвинувшиеся из гущи эстонского народа, хорошо владеющие приёмами большевистской пропаганды и агитации и потому способные убеждать и вести за собой слои населения, недовольные своим положением при «старой власти». Среди эстонских большевистских лидеров (или «главарей большевистских банд», если следовать терминологии представителей «старого режима») масштабом своей личности особенно выделялся уроженец издревле непокорного острова Сааремаа Виктор Кингисепп. Вместе с И.В. Рабчинским он возглавил Военно-революционный комитет, избранный на совместном заседании исполнительных комитетов Советов Эстонии и Таллиннского совета 22 октября (4 ноября) 1917 г. Не вызывает сомнений, что В. Кингисепп был признанным вождём эстонцев, откликнувшихся на большевистские лозунги, и обладал среди них непререкаемым авторитетом. В изданиях советского периода писали, как В. Кингисепп, не зная усталости, выступал на собраниях трудящихся, читал лекции на курсах агитаторов. По свидетельству его соратников, когда рабочие, матросы, солдаты видели сухощавую, энергичную фигуру Кингисеппа, одетую в военную форму, его впалые щёки, острую бородку, живые проницательные глаза — вокруг него мгновенно всё стихало. Говорили, что своими пламенными, насыщенными фактами, саркастичными по отношению к врагам речами он заражал аудиторию революционной энергией. Разумеется, располагая таким вожаком эстонских «низов», как Кингисепп, большевистский Ревель и сыграл ту роль, которая отводилась ему по плану вооружённого восстания в октябре 1917 г.
Смена власти произошла при активном участии рабочих. Они насчитывали более 50 тыс. человек и явились, если говорить языком Ленина, движущей силой революции. Согласно советским источникам, их отличали организованность, солидарность, дисциплина.
Эстонские рабочие опирались на поддержку малоземельных и безземельных крестьян, которые составляли почти две трети от общего числа населения, занятого в сельском хозяйстве. С большевистским лозунгом «Земля крестьянам!» они связывали свои многовековые мечты о собственном домике на собственном участке земли.
Следует сказать и о том, что в период Первой мировой войны Эстония входила в состав огромного тылового района Северного фронта. Здесь базировалась часть Балтийского флота и дислоцировались тыловые части армии. Благодаря установлению связей с матросами и солдатами местных гарнизонов большевики Эстонии сумели выполнить важное условие, гарантирующее успех вооруженного восстания, т.е. «в решающий момент в решающем месте собрать решающий перевес сил».
Эстонская национальная буржуазия не располагала никакими реальными возможностями, чтобы вооружённым путём воспрепятствовать установлению Советской власти. Армия и флот перешли на сторону большевиков. Собственные силы буржуазии (военизированная организация «Омакайтсе» — «Самозащита», резервная милиция и т.д.) были изолированны и очень слабы. Что касается эстонских национальных армейских полков, дислоцированных в Ревеле и Юрьеве, на которые рассчитывали буржуазные лидеры, то большинство солдат этих полков поддалось большевистской агитации и в решающий момент встало на сторону рабочих.
Кроме того, быстрый переход в руки военно-революционных комитетов Ревеля, Юрьева, Нарвы телефонных и телеграфных станций, порта, железнодорожных станций сделал невозможными сколько-нибудь значительные попытки сопротивления со стороны антибольшевистских сил.
26 октября (8 ноября) В. Кингисепп по уполномочию Военно-революционного комитета принял дела губернского управления — центра буржуазной власти. В 2 часа дня 26 октября Военно-революционный комитет обратился с воззванием к народу, в котором сообщалось о переходе всей власти Советам.
Большевики Эстонии справились с трудной задачей, доверенной им по плану восстания. Они не пропустили армейские части Временного правительства в тыл Петрограда, сорвав замыслы А. Керенского и генерала П. Краснова организовать поход на революционную столицу через территорию Эстонии{334}. Они создавали на железнодорожных станциях заставы, мешавшие переброске частей Краснова, высылали в проходившие эшелоны группы агитаторов для работы среди солдат. В результате солдаты отказались наступать на Петроград. Моряки Таллиннской базы Балтийского флота направили в Петроград, «в помощь революции», крейсер «Олег» и миноносец «Победитель». Таким образом, попытки Керенского и Краснова разгромить большевистские силы в главном очаге революции были пресечены.
Согласно советской историографии, в те дни важный вклад в смену власти в Эстонии и России внесли члены Военно-революционного комитета Эстонии И. Рабчинский, В. Кингисепп, П. Девишин, председатель Исполнительного комитета Советов Эстонского края Я. Анвельт, юрьевские большевики X. Суудер, К. Римша, А. Йеа и др.
С победой Октябрьской революции 1917 г. эстонцы наравне с другими народами России получили право на самоопределение и создание собственной государственности. Путь к самоопределению был открыт двумя важнейшими конституционными актами Советской России. Это Декларация прав народов России, утверждённая Советом народных комиссаров 2 ноября 1917 г., и Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая 10 января 1918 г. на III Всероссийском съезде Советов. Эти декларации провозглашали полное равноправие всех народов России и предоставляли им полную свободу решения вопроса о самоопределении — остаться ли в федеративном объединении с народами России или отделиться и образовать независимое государство.
Говоря о прибалтийских народах, важно обратить внимание на то, что в Российской империи они не имели не только автономии, но даже органов местного самоуправления. Последние полностью находились в руках немецкого дворянского меньшинства. Лишь в 1915 г. немецкие бароны Эстонии, позиции которых во время Первой мировой войны пошатнулись, предложили эстонской буржуазии разделить власть в местном самоуправлении (ландтаге). Эстонская буржуазия приняла это предложение. По намечавшейся реформе эстонские «серые бароны» (национальная сельская буржуазия) могли участвовать в органах самоуправления на паритетных началах с немецкими баронами. Многочисленный же слой эстонских безземельных крестьян, как и прежде, оставался лишённым права голоса. Правительство Российской империи не утвердило законопроект. Во-первых, в условиях войны с Германией оно намеревалось пойти на некоторое ограничение прав прибалтийско-немецких баронов. Во-вторых, оно не доверяло полностью и эстонской буржуазии. Лишь после Февральской революции 1917 г. Временное правительство сделало некоторые второстепенные уступки буржуазии малых наций, в том числе и эстонской буржуазии. 30 марта Временное правительство опубликовало «Постановление о временном устройстве административного управления и местного самоуправления Эстляндской губернии». Этим постановлением Эстония объединялась в одну национальную область: населённые эстонцами уезды Лифляндской губернии присоединялись к Эстляндской губернии. На переходный период была учреждена в Южной Эстонии особая должность губернского комиссара Временного правительства, канцелярия которого находилась в Юрьеве. В качестве всеэстонского органа самоуправления при губернском комиссаре был создан Губернский земский совет, а в уездах — уездные земские советы. Губернский земский совет не имел самостоятельных функций и должен был являться совещательным органом при губернском комиссаре. Эта уступка мыслилась как помощь эстонской буржуазии, с тем чтобы она укрепила свои позиции, расширила своё влияние среди народа и тем самым затормозила развитие революции на территории, находящейся в непосредственной близости к Петрограду.
В вопросе самоопределения прибалтийские народы не могли в течение определённого периода времени рассчитывать на поддержку великих держав, в частности государств Антанты (Англия, Франция, США), победивших в Первой мировой войне. Во всяком случае, в Версальском мирном договоре этот вопрос не ставился. К тому же государства Антанты поддерживали «белое движение» в России, выдающиеся представители которого (А. Колчак, А. Деникин) вели борьбу за сохранение Единой, Великой, Неделимой России.
Что касается большевиков, то они, руководствуясь классовым подходом, ставили целью трансформировать Россию в союз трудящихся всех наций, что также предполагало сохранение исторической территории России, однако на основе советской власти, которая должна была блокировать национализм и сепаратизм народов, обретших собственную территорию в результате проведённого национально-территориального размежевания. В рамках этой политики, а также руководствуясь революционной и политической целесообразностью, лидеры большевиков делали малым народам этнически и исторически необоснованные территориальные уступки, которые, как мы можем констатировать сейчас, подорвали территориальную целостность России и вывели из-под её суверенитета значительные территории — плод трудов и жертв многих поколений.
В контексте вышеизложенного важно обратить внимание на то, что государственность Эстонии изначально возникла как советская государственность в рамках государственности Советской России. В проекте конституции Советской Эстонии, или Эстляндской Трудовой (Рабочей) Коммуны, опубликованном 19 января 1918 г. для обсуждения, говорилось, что Эстляндская рабочая коммуна является автономной частью Российской Советской Республики. Взаимоотношения с Российской Республикой и вопросы, касающиеся внешних дел Эстляндской коммуны, разрешаются путём соглашения с центральной властью Российской Советской Республики. Эстляндская рабочая коммуна вполне автономна во всех местных вопросах, ей принадлежит безусловное право в любое время, не испрашивая согласия других народов или правительств, отделиться от России и либо присоединиться к какому-нибудь из других государств, либо объявить себя независимой{335}. В этих положениях проекта конституции чувствуется безусловное влияние большевистского лозунга о праве наций на самоопределение. Вместе с тем не вызывает сомнений, что эстонские большевики не могли мыслить «построение светлого будущего» у себя на родине в отрыве от Советской России. Об этом может свидетельствовать резолюция, принятая в январе 1918 г. на съезде малоземельных и безземельных крестьян. В ней, в частности, говорится: «Эстонский трудовой народ ни в коем случае не должен дать себя запугать буржуазными раскольничьими попытками, а должен идти рука об руку с пролетариатом всего мира. В России правит революционный трудовой народ. Эстонский трудовой народ пришёл к власти при поддержке русской революции, и поэтому он должен и в будущем оставаться в самом тесном государственном единении с этим правительством»{336}.
Верховным органом власти в Эстонии стал Исполнительный комитет Советов Эстонского края. В его состав входили: Я. Анвельт, И. Хейнтук, В. Кингисепп, И. Кясперт, Э. Лель, А. Мяги, X. Пегельман.
Хотя эстонская буржуазия в блоке с прибалтийскими баронами всячески пыталась мешать укреплению советской власти в Эстонии, расстановка политических сил в стране была явно не в её пользу. Об этом могут свидетельствовать выборы в Учредительное собрание, состоявшиеся 12–14 ноября 1917 г. Список большевиков собрал 119 863 голоса, «демократический блок» (демократическая партия и Союз земледельцев) — 68 000, трудовики получили 64 047 голосов, общий список радикал-демократов и Крестьянского союза» — 17 022 голоса, эстонские эсеры — 17 726, русские эсеры — 3027, эстонские социал-демократы — 9244.{337} Таким образом, эстонские большевики значительно оторвались от своих буржуазных и мелкобуржуазных противников, завоевав в целом 66% голосов.
При такой расстановке сил главная антисоветская вылазка представителей национальной буржуазии, конечно, не могла не закончиться неудачей. Дело в том, что лидеры эстонской буржуазии К. Пяте, Я. Тыниссон, Ю. Вильмс предприняли попытку политически реанимировать и использовать в борьбе за власть прежний Губернский земский совет, распущенный 12 ноября 1917 г. Исполнительным комитетом Советов Эстонии. 15 ноября депутаты Губернского земского совета от буржуазных и мелкобуржуазных партий явочным порядком собрались на заседание. Они заявили, что не признают Советской власти, и провозгласили Губернский земский совет единственным носителем верховной власти в Эстонии. Мощная демонстрация ревельских рабочих под большевистскими лозунгами, состоявшаяся в ответ на эти действия буржуазии, показала, кто контролирует ситуацию в Эстонии. Рабочие с красными знамёнами и революционными песнями направились на Вышгород и разогнали Губернский земский совет. Исполнительный комитет Советов Эстонии своим постановлением 19 ноября ликвидировал все органы Губернского земского совета. В течение трёх месяцев был положен конец деятельности уездных земских советов, уездных управ и городских дум как органов власти буржуазии.
Социалистические преобразования в Эстонии, осуществлявшиеся в первые три с половиной месяца с момента установления Советской власти (национализация банков, рабочий контроль на фабриках и заводах, национализация промышленных предприятий, конфискация помещичьих имений и национализация всей земли, роспуск вооружённых организаций буржуазии и организация народной милиции, ядро которой составляла рабочая Красная гвардия, и т.д.), отвечали интересам рабочего класса и сельского пролетариата. Вместе с тем при перестройке аграрных отношений эстонская организация РСДРП(б) не проявила достаточной гибкости. Исходя из соображений экономической эффективности и в твёрдой уверенности в скорой победе социалистической революции в Западной Европе, она сделала основной упор на организацию крупных социалистических хозяйств. При этом не была учтена политическая сторона проблемы, несмотря на то, что на неё указывал Ленин при принятии Декрета о земле на II Съезде Советов: «…успокоить и удовлетворить огромные массы крестьянской бедноты»{338}. Немедленное наделение безземельных и малоземельных крестьян землёй, полученной в результате национализации 2,4 млн. гектаров помещичьих имений, самым убедительным образом показало бы им значение победы революции и превратило бы их в её активных защитников. Но это сделано не было. Напротив, стремление крестьянина получить надел иногда даже расценивалось как результат подстрекательства реакционных сил. Кроме того, большевики Эстонии не сказали достаточно ясно и определённо, что при переходе к общественной системе ведения хозяйства бедняцкие и середняцкие хозяйства останутся неприкосновенными. Такая политика подрывала поддержку советской власти со стороны крестьянства и вскоре сказалась в годы Гражданской войны, причём довольно сильно. Одновременно перегибы в аграрной политике эстонских большевиков играли на руку буржуазно-националистическим и мелкобуржуазным партиям, которые выступали с обещаниями провести через Учредительное собрание закон о разделе помещичьих земель. Например, трудовики требовали раздачи крестьянам национализированных крупных земельных владений «в вечную аренду в границах трудовой нормы», т.е. сколько может обработать одна семья. За отчуждение помещичьих земель согласно трудовой норме выступали и эсеры.
Однако решающим фактором укрепления в долгосрочной перспективе позиций эстонской буржуазии в стране стала немецкая оккупация Эстонии, которая продолжалась около девяти месяцев. Если Брестский мир дал передышку Советской России, которую она использовала для создания Красной Армии, то в областях, отошедших по Брестскому миру к Германии, этот период дал передышку национальной буржуазии и открыл для неё новые шансы в борьбе за своё господство в Эстонии.
VIII.2. Немецкая оккупация Эстонии. Ликвидация завоеваний Октябрьской революции
Принятием Декрета о мире в октябре 1917 г. большевики вывели Россию из империалистической войны незадолго до победы Антанты, но одновременно ввергли её в пучину многолетней иностранной интервенции и Гражданской войны. Державы Антанты проигнорировали предложения Ленина всем воюющим сторонам начать переговоры о мире. На них откликнулись только Германия и Австро-Венгрия, выставившие жёсткие условия. Мира без аннексий и контрибуций не получалось. В соответствии с ультимативными требованиями германской и австро-венгерской сторон государственная граница между договаривающимися странами должна была проходить по линии фронта. Поскольку Эстония по состоянию на начало переговоров (3 декабря 1917) г.) не была оккупирована немецкой армией, она могла остаться в составе Советской России. На это обращал внимание Ленин, обосновывая необходимость заключения мира на немецких условиях. На заседании ЦК 24 января 1918 г. он, в частности, сказал, что, подписывая мир, «мы сохраняем социалистическую Эстляндскую республику и даём возможность окрепнуть нашим завоеваниям … Если немцы начнут наступать, то мы будем вынуждены подписать всякий мир, а тогда, конечно, он будет худшим»{339}. Однако Троцкий, будучи председателем советской делегации в Брест-Литовске и мысливший масштабами мировой революции, пренебрёг перспективой сохранения Эстонии в геополитическом и идеологическом притяжении Советской России. Его заявление, что советское правительство мира не подпишет, но войну прекратит и армию демобилизует, позволило командованию немецкой армии нарушить условия перемирия и начать 18 февраля 1918 г. наступление по всему фронту от Чёрного до Балтийского моря.
В Эстонии немцев ждали. Эстонская буржуазия, потеряв надежды на восстановление прежнего порядка в России с опорой на внутренние силы, стала делать ставку на силы внешние, с тем чтобы с их помощью отторгнуть Эстонию от большевистской России и восстановить в ней прежние отношения собственности.
Инструментом борьбы за власть был выбран лозунг независимости. Этот лозунг эстонские этнополитические элиты начали выдвигать только после победы Октябрьской революции 1917 г., и в особенности после установления советской власти в Эстонии. С помощью лозунга независимости эстонская этнократия стремилась легитимировать вмешательство иностранных государств во внутренние дела России. Всякая политическая и нравственная щепетильность была отброшена в сторону. Преобладали холодный расчёт, цинизм, обман собственного народа. При этом эстонская этнократическая верхушка побежала сразу за двумя зайцами: поспешила установить связи с представителями обоих воюющих лагерей — странами Антанты и Германией.
В 1918 г. реальная «поддержка» могла исходить только от Германии (немецкие войска находились уже на островах Сааремаа и Хийумаа). И потому эстонские борцы за независимость связывали свои планы с немецкой оккупацией. Лидеры Союза земледельцев («Маалийта») Константин Пяте и бывший подполковник царской армии Йохан (Иван Яковлевич) Лайдонер, установившие тесный союз с местными немецкими баронами, снарядили к германскому послу в Стокгольме делегацию во главе с Яном Тыниссоном. Здесь они вручили послу докладную записку на имя правительства Германии с просьбой «срочной помощи против Красной гвардии». Одновременно Пяте и Лайдонер вышли на прямой контакт с командованием германских войск, направив в немецкий штаб в г. Курессааре (остров Сааремаа) своего уполномоченного, и начали создавать в Тарту, Вильянди, Мярьямаа и других городах вооружённые отряды из числа своих эстонских сторонников и немецких баронов. В их планы входила подготовка мятежа против советской власти, который приурочивался к вторжению немецких оккупационных войск на материковую часть Эстонии. В этих целях была создана подпольная организация, которая собирала подписи под прошением кайзеру Вильгельму прислать в Эстонию войска. Деятельность этой организации была раскрыта органами ВЧК.
Немцы сами давно вынашивали идею отрыва от России её западных окраин, и потому политика эстонских националистических элит им пришлась весьма кстати. Под ширмой помощи «независимой Эстонии» они хотели оправдать в глазах международного общественного мнения оккупацию этой окраины России. Преследуя планы захвата Прибалтики и присоединения её к Германии, немецкое правительство и не думало признавать какую-либо эстонскую государственность. Тем непригляднее видится в этой связи роль эстонской буржуазии, которая, прикрываясь лозунгом независимости, дезориентировала население и скрывала своё пособничество внешнему врагу.
В то же время с января 1918 г. новоиспечённые эстонские дипломаты Я. Поска, Ю. Сельямаа и Ю. Вильмс начинают активно посещать посольства Великобритании, Франции, США в Петрограде, где выражают свою обеспокоенность по поводу угрозы немецкой оккупации. По мнению эстонского историка X. Арумяэ, это был тактический ход, рассчитанный на то, чтобы державы Антанты не допустили превращения Эстонии в германскую провинцию, а поддержали бы на мирной конференции требования о признании её независимости{340}.
Стремление Великобритании к утверждению своего господства на Балтийском море и, помимо того, заинтересованность в создании в Прибалтике плацдарма для походов на Советскую Россию явились факторами, обусловившими благосклонность стран Антанты к исканиям представителей эстонских буржуазных кругов. Великобритания, предварительно согласовав свою позицию с французским правительством, выразила сочувствие стремлению Эстонии к самостоятельности и обещала решить вопрос о признании её фактической независимости по окончании войны на мирной конференции.
Тем временем уже 20 февраля 1918 г. немецкие оккупационные войска вступили на материк Эстонии. Для эстонских большевиков это была катастрофа, поскольку Эстляндская трудовая коммуна ещё не успела создать собственной армии. В январе 1918 г. после издания советским правительством Декрета о создании Красной Армии и Флота в Эстонии состоялся съезд эстонских социалистических воинов, на котором был избран Всеэстонский совет социалистических войск во главе с В. Кингисеппом. Формирование первого красного полка было начато только в начале февраля 1918 г. В условиях немецкого наступления приходилось в спешном порядке формировать отряды Красной Армии. Они сразу же отправлялись на фронт, вступали в неравный бой с превосходящими силами противника и несли тяжёлые потери. Так, 23 февраля сотни таллинских рабочих и матросов, несмотря на то, что имели слабую военную подготовку и недостаточное вооружение, оказали ожесточённое сопротивление немецким оккупантам под Кейла, где 45 эстонцев погибло, защищая свою родину.
Иначе повели себя представители буржуазного националистического лагеря. Они скрытно, из-за угла убивали своих главных противников — советских активистов и облегчали немцам продвижение. Так, командир 1-го Эстонского полка, расположенного в Хаапсалу, Пыддер не выполнил приказ Исполнительного комитета рабочих и воинских депутатов Эстонского края об оказании сопротивления оккупантам. Следуя распоряжениям германского командования и эстонских националистических лидеров, он вместе с офицерами эстонской воинской части поднял мятеж. Им удалось арестовать полкового комиссара и ряд руководящих советских работников. Кроме того, они окружили и разоружили отступавший с острова Вормси батальон морской пехоты. Фронт немцам был открыт. В результате немецкое командование смогло направить все свои части прямо на Таллин, вместо того чтобы двинуться на соединение с немецкими войсками, наступавшими с юга на Пярну. По мере приближения оккупационных войск националистическое и контрреволюционное подполье организовывало выступления против советской власти в Таллине, Тарту, Пайде и других местах. Эстонские «белогвардейские отряды расчищали путь германскому завоевателю, предательски вонзая нож в спину эстонского красногвардейца», — писал Кингисепп в статье «Непризнанное государство»{341}.
Когда над Таллином нависла угроза захвата, Эстляндский комитет РСДРП(б) и исполком Советов Эстонии сделали всё возможное, чтобы обеспечить перебазирование 211 кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Тем самым им удалось сорвать план иностранных интервентов — уничтожить основные военно-морские силы Советской России. Успех этой операции оказал существенное влияние на весь дальнейший ход Гражданской войны.
24 февраля 1918 г., когда немцы захватили уже большую часть Эстонии, совет старейшин разогнанного в ноябре 1917 г. Губернского земского совета провозгласил «независимость» Эстонии. Назначенный им «Комитет спасения Эстонии» из трёх человек издал соответствующий манифест. Советские источники со ссылкой на данные эстонской буржуазной историографии так прокомментировали это событие: «Манифест независимости» был расклеен 24 февраля кое-где в Таллине, зачитан где-то в Пярну, да ещё в Хаапсалу один из эстонских офицеров сообщил о нём на рынке какому-то немецкому майору. Примечательно, что в манифесте декларировался «полный политический нейтралитет» по отношению к «наступающим с запада победоносным немецким войскам».
«Комитет спасения» образовал временное правительство Эстонии во главе с К. Пятсом. Однако это правительство не успело ничем заняться, кроме приготовлений к торжественной встрече оккупационных войск. В ночь на 25 февраля «комитет спасения» эстонской буржуазии встречал оккупантов недалеко от Таллина — в Пяаскюла, где с немецким генералом А. фон Зекендорфом был согласован план действий. А утром эстонские поборники независимости восторженно приветствовали оккупантов в Таллине. Такой же приём был устроен немцам в Тарту и других городах. «Те, кого мы считали своими врагами, пришли к нам как защитники и избавители» — так писал один из органов эстонской буржуазии. Вскоре самочинные представители Эстонии, опираясь на немецкие штыки, стали арестовывать и убивать сторонников советской власти.
Хотя германские «избавители» от большевиков положили конец фарсу «независимости» и не позволили «Эстонской республике» просуществовать и 48 часов, возглавлявшаяся К. Пятсом партия «Союз земледельцев» на своём съезде призвала к сотрудничеству с немецкими оккупационными войсками. Немцы охотно воспользовались пропагандистской поддержкой Союза земледельцев. Распространением печатного органа этой партии занимались коменданты оккупационных властей, организуя и обеспечивая бесплатную доставку газет по железной дороге на места.
3 марта 1918 г. советская делегация в Брест-Литовске подписала мирный договор с немцами на более тяжёлых, грабительских условиях. На западе и на юге Россия теряла то, что приобрела со времён Петра Великого. По этому договору, кроме Финляндии и Польши, имевших особый статус, у неё отобрали Украину, Крым, Прибалтийский край, Литву, Грузию, Батум, Каре. Громадные территории, равные Германии и Франции вместе взятым, с населением почти в 40 миллионов человек, подпадали под власть немецких оккупационных властей. Россия дробилась на части, и части эти превращались в главную экономическую и военную базу центральных держав (главным образом Германии), противостоявших Антанте. В лице отторгнутых от России территорий Германия приобретала потенциал (хлеб, сырьё, значительные запасы военного имущества, военнопленные), позволявший продолжить борьбу за реализацию целей войны. В этих условиях Россия становилась ареной столкновения интересов германцев и Антанты{342}.
К 4 марта Эстония была оккупирована полностью. «Остзейский порядок» был восстановлен, теперь уже не под верховной властью Российской империи, а под эгидой немецких оккупационных войск. Земля, предприятия, банки были возвращены их дооктябрьским собственникам. Немецкие бароны вернулись в свои вотчины, к своим старым привилегиям. Началось сведение счётов с «ненавистными красными». По всей стране их сотнями убивали, вешали, бросали в тюрьмы и специально созданные концентрационные лагеря. Сохранилось письменное свидетельство о расправе над депутатами Выруского уезда. 8 марта после пыток были повешены председатель Выруского совета Ф. Лээген, члены Совета К. Кальмус и О. Лээген; члены Совета А. Сээдер и О. Турб были расстреляны. В экзекуции участвовали: фон Самсон, Шульц, фон Клазенап, торговец Мыттус с сыновьями, пастор Хольман, управляющий имением Нурси Анисов{343}. Таковы были реальности начавшейся гражданской войны.
Приход немцев, которому способствовали эстонские поборники независимости, обернулся для большинства эстонского населения усиливавшимися репрессиями, грабежом и голодом. Насколько дальновиднее были русские генералы из окружения Деникина, которые отвергли любую возможность сотрудничества с немецкой армией при освобождении России от большевизма. В частности, генерал М.В. Алексеев «говорил о немцах как о враге жестоком и беспощадном — таком же враге, как и большевики. Об их нечестной политике, об экономическом порабощении Украины… О том будущем, которое сулит России связь с Германией: политически рабы, экономически нищие»{344}. Отсюда вывод: «Союз с немцами морально недопустим, политически нецелесообразен»{345}. Эстонцы в который уж раз узнавали это на собственном горьком опыте. Оккупанты в виде «трофеев» выжимали из Эстонии всё, что можно. В Германию вывозились кожи, цветные металлы, железо, лес, продукты питания, семенное зерно. Реквизициям не было конца.
Больше всего пострадали от немецкой оккупации крупные предприятия, и в первую очередь — тех отраслей промышленности, рабочие которых сыграли решающую роль в Октябре 1917 г. Численность занятых в металлообрабатывающей, деревообделочной, хлопчатобумажной, бумажной, шерстяной, льняной и пеньковой промышленности резко сократилась. Наибольший урон понесли промышленные предприятия Таллина: здесь численность рабочих снизилась на девять десятых. Увольняли в первую очередь «ненадёжных» рабочих. На тех немногих предприятиях, где работа была продолжена и где выполнялись заказы германской армии, рабочий день был увеличен до 14–15 часов, а заработная плата сильно урезана.
Оккупационные власти сразу начали активно готовить присоединение Эстонии вместе с Латвией и Литвой к Германии. Местные центры Союза земледельцев и другие организации эстонской сельскохозяйственной буржуазии, при активном участии пасторов, подписали «пожелание об отделении от России и присоединении к Германии». 12 апреля 1918 г. на заседании в Риге объединённого ландесрата Лифляндии, Эстляндии, Риги и острова Сааремаа (Эзель) представители эстонских буржуазных сил в союзе с прибалтийско-немецкими баронами проголосовали за создание Балтийского герцогства, связанного персональной унией с Пруссией.
Такое решение представителей эстонской буржуазии объясняется тем, что они исходили из возможности победы немецкого рейха в Первой мировой войне. Ведь к лету 1918 г. кайзеровские войска контролировали огромную территорию: на западе они стояли под Парижем, на востоке они вышли на линию Нарва — Могилёв — Лихая — Ростов. Следует напомнить, что германские успехи весной и летом 1918 г. внушали многим мысль, что немцы одержат победу над Антантой. «Германская ориентация», в основе которой лежало уверование в конечное торжество вильгельмовского рейха и стремление найти свою национальную нишу в германской геостратегической экспансии, появилась не только в Прибалтийском крае. Она с особенной силой пропагандировалась из Киева. В России же даже профессор П.Н. Милюков перекинулся в лагерь германофилов. Командование Добровольческой армии сочло необходимым отреагировать на эту «ересь». А. Деникин выдвинул лозунг «Единой, Великой, Неделимой России», который стал знаменем борьбы с раздроблением имперского пространства{346}.
Между тем решение ландесрата об образовании Балтийского герцогства вызвало волну возмущения среди широких слоев населения Эстонии и Латвии, не желавших на вечные времена оставаться под гнётом немецких баронов. Эти настроения были зафиксированы в ноте советского правительства от 26 мая 1918 г. В ней указывалось, что дворянство Лифляндии и Эстляндии никоим образом не имеет права говорить от имени жителей Эстонии и Латвии, ибо «тысячи городских и сельских округов Эстляндии и Лифляндии открыто протестуют против подобного искусственного и насильственного отторжения этих областей от России»{347}.
Важно сказать, что позиция эстонской буржуазии в вопросе о создании Балтийского герцогства не была консолидированной. Одним её представителям мешало то, что оккупационные власти ориентировались на прибалтийско-немецких помещиков и вынашивали планы колонизации Прибалтики немецкими солдатами, другие боялись дискредитировать себя открытым сотрудничеством с оккупантами, учитывая настроения в народе, а также возможные внешнеполитические осложнения в будущем. Сказывался, конечно, и закреплённый в исторической памяти каждого эстонца негативный образ «тевтона». Вот почему лидер аграрной партии К. Пяте подвергал критике создание Балтийского герцогства, хотя в резолюции, принятой на съезде возглавляемой им партии, признавалось необходимым сотрудничать с германским командованием. За неприятие «крайностей» политики оккупантов сам Пяте и некоторые другие буржуазные деятели летом и осенью 1918 г. даже были арестованы, правда, на короткий срок, но благодаря такому факту несколько подправили свою репутацию.
В то же время «неприятие крайностей» не отменяет тёмных пятен в биографиях политиков как правого, так и левоцентристского эстонского политического лагеря в период немецкой оккупации. В связи с этим показателен пример правого социал-демократа А. Рея. Когда оккупационные власти попытались сформировать в составе немецкой армии так называемую эстонскую дивизию, он был назначен на должность начальника судебного отдела в этой дивизии. В задачи дивизии входила охрана оккупационных властей, подавление сопротивления эстонского населения, подготовка к военному походу против Советской России. Вскоре выяснилось, что рядовой состав настроен враждебно к немцам и их эстонским пособникам. Дивизия была распущена. Однако Рей всё же успел выслужиться перед рейхсвером, поскольку всячески старался выследить и наказать солдат, настроенных против немцев.
Этот эпизод высветил действительную позицию эстонских социал-демократов (сотсов). Оказалось, что борьбу с оккупантами они провозглашали только на словах. На деле же входили в число их пособников.
Осенью 1918 г., когда стало ясно, что кайзеровская Германия проиграла войну, эстонские политические элиты поменяли свою «германскую ориентацию» на «союзническую» и усилили курс на сотрудничество с Антантой. Основы для такого взаимодействия были предусмотрительно заложены ещё в начале 1918 г. Уже тогда Лайдонер установил связь с английским дипломатическим представительством в Вологде и английской военной миссией в Кандалакше, посылал эстонских офицеров из числа своих сторонников в войска интервентов, высадившихся на севере России. В феврале 1918 г. Лайдонер побывал в Мурманске, где при поддержке английских и американских интервентов начал формирование «эстонского легиона». Он посылал «миссии» также к русским белым генералам с просьбой о помощи.
Осенью 1918 г. при отряде французских интервентов в Архангельске был создан «эстонский легион» в составе 200 человек. Их одели в форму французских колониальных войск.
VIII.3. Эстонские большевики собирают силы для отпора немецким оккупантам
В связи с немецким вторжением тысячи коммунистов, в том числе почти все руководящие кадры, а также несколько тысяч беспартийных активистов эвакуировались вместе с кораблями Балтийского флота в Советскую Россию или оставили эстонскую территорию с боями в рядах Красной гвардии. Несмотря на значительные кадровые потери, связанные с эвакуацией коммунистов, а также с расправами с ними на оккупированной родине, борьба была продолжена. В марте 1918 г. в Таллине был создан центр подпольного партийного руководства, а в Нарве — штаб борьбы против оккупации. Они сосредоточили силы на следующих направлениях: распространяли подпольную коммунистическую печать (газета «Коммунист»), способствовали антиоккупационному брожению среди населения, поддерживали антивоенное и революционное движение среди немецких солдат и матросов, осуществляли подготовку и проведение рабочих демонстраций и стачек, пропагандировали среди населения успехи Красной Армии на фронтах гражданской войны. Все эти меры должны были облегчить свержение немецкого оккупационного режима и восстановление советской власти, когда в час «X» подойдёт из Советской России ожидавшаяся помощь.
Весной 1918 г. в Советской России началось формирование на добровольных началах эстонских национальных частей Красной Армии. Их организацией занимались Эстонские секции РКП(б) и Эстонский отдел Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР (во главе с X. Пегельманом).
3 марта в Петрограде из числа советских и партийных активистов, эвакуировавшихся на кораблях из Таллина, был создан Отдельный Таллинский эстонский коммунистический батальон (позднее преобразован в 1-й Таллинский коммунистический стрелковый полк). Ядро батальона составили таллинские рабочие, 80% из них были коммунистами. Батальону была поручена охрана Смольного. Он участвовал также в подавлении ряда антисоветских выступлений и заговоров. К маю 1918 г. в батальоне числилось уже около тысячи человек. «За храбрость и боевые заслуги, проявленные на Восточном фронте», Уральский комитет партии и Совет 1-го городского района Петрограда наградили Таллинский полк почётными Красными знамёнами.
В конце мая завершилось формирование Тартуско-Ямбургского полка (позднее преобразован в 3-й Тартуский эстонский коммунистический стрелковый полк). Его основу составили партизанские отряды, оказавшие в конце февраля сопротивление немецким оккупантам в районе Раквере, Йыхви и Нарвы. В августе этот полк подавил крестьянские волнения в районе Ямбурга-Гатчины. Затем он сражался с интервентами на Архангельском фронте. «За геройство, проявленное на Северном фронте под Архангельском», Тартуский коммунистический стрелковый полк получил от рабочих Путиловского завода Красное знамя. Командир 1-й роты 1-го батальона Тартуского полка А. Лиллакас был награждён орденом Красного знамени. Осенью в рядах полка насчитывалось 1250 бойцов.
К ноябрю 1918 г. был сформирован 2-й Вильядиский эстонский коммунистический стрелковый полк. Он был создан из числа эстонцев, живших в Петрограде и его окрестностях, а также из эстонской молодёжи, бежавшей с оккупированной немцами территории. Полк насчитывал 730 человек.
На Уральском фронте действовал эстонский кавалерийский эскадрон, выросший впоследствии в Красный эстонский кавалерийский полк. Эстонцы воевали также в составе дивизиона лёгкой артиллерии, батареи тяжёлой артиллерии и нескольких других подразделениях.
Эстонские части, как и латышские стрелки, отличились на фронтах Гражданской войны и внесли свой вклад в упрочение большевистской власти.
Эстонцы, проживавшие в Петрограде, Москве, на Урале, в Сибири, на Кавказе, в Крыму, в Поволжье, также использовались как ресурс большевистской власти. Эстонские секции РКП(б), а также Эстонский отдел при Народном комиссариате по делам национальностей работали с соотечественниками, мобилизуя их на защиту «завоеваний Октября» и борьбу с разрухой в гражданском секторе экономики. Одновременно велась работа по военному обучению эстонцев, подготовке из их числа в различных школах и на курсах партийных, советских, военных, хозяйственных и педагогических кадров. Например, в Петрограде и его окрестностях, где проживало много эстонцев, было создано более 25 школ. В Петрограде работал также Рабочий университет, имевший отделения в Кронштадте и Ямбурге. На эстонском языке издавались газеты «Тёэлине» («Рабочий»), «Эдази» («Вперёд»), «Урали кийр», журнал «Ээсти Коль» («Эстонская школа»), листовки, брошюры. Многие эстонские коммунисты были выдвинуты на руководящую работу в государственные, партийные и военные органы России. Лидер эстонских коммунистов В. Кингисепп был избран в марте 1918 г. на IV Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). После съезда он остался работать в Москве, вначале следователем Верховного трибунала, а затем во Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Параллельно он вёл политическую работу среди эвакуированных эстонцев и поддерживал вместе с эстонскими секциями РКП(б) связи с коммунистическим подпольем на оккупированной территории Эстонии. В ноябре 1918 г. Кингисепп нелегально вернулся в Эстонию.
VIII.4. Противостояние: большевики и буржуазно-националистические силы Эстонии в борьбе за власть
Представители эстонской буржуазии имели все основания опасаться, что большевики снова захватят власть, если не будет найдена замена немцам на случай их поражения в войне. Поэтому члены так называемой иностранной делегации усилили свою дипломатическую активность. Например, А. Пийп побывал в Лондоне, К.Р. Пуста — в Париже, Э. Вирго — в Риме, Я. Тыниссон, М. Мартна и К. Меннинг — в Копенгагене. Они передали правительствам западных стран меморандум фактически не действовавшего на тот момент Губернского земского совета («Маапяэва») о политической обстановке в стране. В этом меморандуме содержалась просьба допустить представителей Эстонии на мирную конференцию и признать её независимость. Эти усилия принесли результаты, поскольку становившийся всё более очевидным военный крах Германии повышал интерес правящих кругов стран Антанты, в первую очередь Великобритании, к Прибалтике. В мае 1918 г. правительства Великобритании, Франции и Италии сообщили в специальных заявлениях о признании Губернского земского совета Эстонии «как фактически независимого» учреждения до созыва мирной конференции, на которой будет окончательно решён вопрос о будущем Эстонии{348}.
25 октября 1918 г. Пийп, по предварительной договорённости с представителем МИДа Великобритании, передал английскому правительству меморандум, в котором представители эстонского буржуазного лагеря просили помочь вооружениями и боеприпасами, а также направить в Эстонию британский флот и войска союзников или нейтральных государств. Революция в Германии в ноябре 1918 г. и участившиеся выступления эстонских рабочих (митинги, демонстрации, забастовки) на фоне разложения немецкой армии заставили немецкие оккупационные власти изменить тактику. Они решили сохранить свой контроль в Эстонии с помощью создания угодного им национального правительства. В ходе закулисных переговоров командующий германскими оккупационными войсками в Эстонии А. фон Зекендорф и бывший комиссар Эстляндской губернии при Временном правительстве Керенского И. Поска договорились о возобновлении при поддержке немецких войск деятельности Губернского земского совета, который должен был заменить германскую администрацию. Реализации этого плана способствовали эстонские социал-демократы и эсеры. Они обещали находившимся под их влиянием рабочим, что после созыва Учредительного собрания осуществят социализм «законным путём» и отдадут землю тем, кто её обрабатывает. 9 ноября 1918 г. в Таллине с опорой на эту часть рабочих сотсам и эсерам, несмотря на протест представителей более крупных предприятий, удалось протащить резолюцию, в которой выставлялось требование о передаче власти временному правительству.
11 ноября 1918 г. немецкие оккупационные власти и местные бароны поставили у власти эстонское буржуазное временное правительство во главе с лидером аграрной партии К. Пятсом. За оказанные услуги социал-демократы получили в нём три министерских поста. 19 ноября в Риге между временным правительством и представителем Германии А. Виннигом был оформлен договор о передаче власти. Временное правительство сохранило почти все распоряжения оккупационных властей, а также административные кадры оккупационного периода. Фактически государственная власть продолжала оставаться в руках немцев.
В ответ на образование буржуазного временного правительства коммунисты обратились к населению с воззванием «К эстонскому трудовому народу». В нём, в частности, подчёркивалось, что «новое правительство является правительством, созданным милостью Зекендорфа, Ллойд Джорджа и Вильсона. Лагерь Пятса, Поски, Тыниссона, Вильмса и Мартна заодно с лагерем балтийских баронов, Зекендорфа и англо-американских империалистов. Их связывают кровные узы капиталистической частной собственности. Невозможно бороться против баронов и не бороться против Пятса — Мартна. Нельзя бороться против Пятса — Вильмса и… не бороться против англо-американских империалистов»{349}. Воззвание заканчивалось словами: «Да здравствует Эстонская советская республика! Долой капитализм! Да здравствует социализм!». 12 ноября в ответ на обращение коммунистов таллинские рабочие вышли на улицы с красными флагами и требованием «Долой буржуазное правительство». Это выступление безоружных рабочих было подавлено военной силой. Среди усмирителей демонстрации были немцы и вступившие весной в германскую армию эстонские офицеры. То есть поставленное немцами правительство, которое, как говорили его апологеты, «столь сильно эстонским духом» по сути опиралось на немецких военных и немецкое оружие. Кроме того, 12 ноября 1918 г. со всей очевидностью показало, что эстонские рабочие и находившееся у своей колыбели буржуазное правительство уже были непримиримыми врагами. Первый легально вышедший 12 ноября номер «Коммуниста», осуждавший действия буржуазного правительства, был конфискован, несмотря на провозглашённую свободу слова, печати, собраний. Это означало, что правительство переходит в наступление.
13 ноября 1918 г. в связи с событиями в Германии (поражение в войне, ноябрьская революция 1918 г.) ВЦИК РСФСР аннулировал Брестский мирный договор и заявил, что трудящиеся массы России, Латвии, Эстонии, Литвы, Белоруссии, Украины, Крыма, Кавказа, Польши и Финляндии должны ныне сами решать свою судьбу. Признавая право на самоопределение за трудящимися всех наций, ВЦИК в то же время призвал их «к братскому союзу с Россией».
В тот же день ЦК эстонских секций РКП (б) объявил мобилизацию эвакуировавшихся из Эстонии в Советскую Россию коммунистов и беспартийных и обратился к советскому правительству с просьбой как можно скорее направить к границам Эстонии эстонские части Красной Армии, сражавшиеся на различных фронтах Гражданской войны.
Во второй половине ноября в Эстонию на подпольную работу было направлено несколько десятков опытных партийных работников, в том числе В. Кингисепп, О. Рястас, М. Коольмейстер, А. Нилендер, Л. Линдер, X. Тедеров, М. Лайус и др.
15 ноября на собрании ЦК эстонских секций РКП (б) был образован Временный революционный комитет Эстонии в составе 11 человек (Я. Анвельт, X. Пегельман, Я. Сихвер, Р. Вакман, И. Хейнтук, Я. Икмельт, А. Йеа, Э. Тейтер, М. Тракман, Ю. Касеметс и г. Вайно). В его задачу входило руководить борьбой за восстановление Советской власти в Эстонии.
Эстонская буржуазия и балтийские бароны, в свою очередь, сознавали, что с уходом германских войск временное правительство лишалось основной вооружённой опоры. Созданная во время оккупации военизированная организация «Омакайтсе» («Самозащита»), которая в спешном порядке была теперь переименована в «Кайтселийт» («Союз защиты») выполняла главным образом функцию карательного органа, и только на неё нельзя было рассчитывать в борьбе за удержание власти. Поэтому первым внешнеполитическим шагом Временного правительства стало обращение к Антанте с просьбой, чтобы немецкие войска без разрешения союзников не покидали Эстонию и чтобы они снабдили эстонские воинские части оружием. Немецкое командование действительно выделило большое количество различного оружия и военной техники, включая пушки, бронепоезда, военные корабли, а также деньги. Тем временем прагматичная эстонская буржуазия в спешном порядке переориентировалась на победителей в Первой мировой войне — государства Антанты, и в первую очередь на Великобританию. После немецкой оккупации она была готова принять оккупацию английскую. Буржуазные журналисты подчёркивали в своих публикациях, что рабочим так или иначе придётся считаться с временным правительством как с властью, поскольку оно условно признано союзниками, которые, надо ожидать, в ближайшее время оккупируют Эстонию. Поскольку рабочие не желали новой оккупации и боялись её, эстонские ставленники союзников заботились о том, чтобы ежедневно появлялись свежие ложные сообщения об ожидаемом «завтра» приходе английского флота и войск, т.е., по сути дела, угрожали рабочим близкой расправой. Эти факты не мешали ангажированным историкам писать, что к созданию эстонского «демократического народного правительства» привела якобы идея независимости, или, как они любят выражаться, «стремление нашего народа к независимости». При этом замалчивалось, что в основе установления «независимого» правительства Эстонии лежала идея английской оккупации, которая должна была прийти на смену немецкой.
Между тем государства Антанты спешили с оказанием вооружённой помощи эстонской буржуазии, поскольку видели, что своими силами эстонское временное правительство не может предотвратить восстановление советской власти в Эстонии. Кроме того, в их планы входило превратить Эстонию в плацдарм для наступления на Петроград. Поэтому 27 ноября 1918 г. английская эскадра взяла курс к берегам Прибалтики. Одновременно усилилось снабжение эстонских поборников «независимости» оружием, военным снаряжением, деньгами. В Финляндии, Швеции и Дании началась вербовка наёмников для отправки в Эстонию.
В этой обстановке советское правительство выделило вооружённые силы для освобождения Эстонии от немецких оккупантов и их эстонских марионеток. Под Нарвой и Псковом сосредоточились части VII армии, в их числе эстонские части Красной Армии (под Нарвой) и латышские красные стрелки (под Псковом). 20 ноября Временный революционный комитет Эстонии одобрил военно-оперативный план действий. 25 ноября полки латышских стрелков вошли в Псков. К утру 29 ноября Красная Армия с участием Вильядиского и Тартуского полков, а также с помощью десанта эстонских красных моряков освободила Нарву. Немцы в спешном порядке покинули город. В полдень 29 ноября в здании Нарвской ратуши состоялось совместное заседание ЦК эстонских секций РКП (б) и Временного революционного комитета Эстонии. На нём было принято единогласное решение провозгласить Эстонию суверенной Советской Социалистической Республикой под названием Эстляндская трудовая коммуна. Правительство Эстляндской трудовой коммуны обратилось ко всем эстонским трудящимся с манифестом о восстановлении советской власти.
В этой обстановке лидеры эстонской буржуазии направили по различным каналам в Великобританию и США свои призывы о помощи. В поисках поддержки за границу выехали многочисленные делегации.
7 декабря 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о признании независимости Эстонской Советской Социалистической республики. Декрет, опубликованный 15 декабря за подписью В.И. Ленина, вменял в обязанность всем соприкасающимся с Эстонией военным и гражданским властям РСФСР оказывать Советскому правительству Эстонии и его войскам всяческое содействие в борьбе за освобождение Эстонии от режима эстонской буржуазии. 11 декабря 1918 г. из разорённой и голодной России в Эстонию прибыло 19 вагонов ржи, большое количество сала, масла и других продуктов, а также промышленных товаров. В результате переговоров между представителями Совета Коммуны и правительства РСФСР, происходивших 22 декабря, банку Эстляндской трудовой коммуны был выделен заём в 10 млн. рублей, а позднее сумма займа была увеличена до 60 млн. рублей. Помощь оказывалась также в восстановлении промышленности и транспорта путём отправки сырья, оборудования и специалистов. 25 декабря ВЦИК принял по докладу И. Сталина решение о признании независимости Эстонской, Латвийской и Литовской советских республик. В своём решении ВЦИК выразил уверенность, что «только ныне, на почве признания полной свободы самоопределения и перехода власти в руки рабочего класса, создаётся свободный, добровольный и нерушимый союз трудящихся всех наций, населяющих территорию бывшей Российской империи…» (История Эстонской ССР. С. 453) Однако и на этот раз советская власть в Эстонии просуществовала недолго — всего восемь месяцев.
12 декабря 1918 г. на Таллинский рейд прибыла эскадра английского флота под командованием адмирала Синклера. Она приступила к боевым действиям против Красной Армии и кораблей советского Балтийского флота в Финском заливе и на северном побережье Эстонии. Англичане фактически взяли временное правительство под свою защиту и тем самым придали ему необходимую смелость.
17 декабря рабочие Таллина вышли на мирную демонстрацию под лозунгом «Вон англичан!». Демонстрация была разогнана силой, а игре в демократические свободы был официально положен конец. Объявленное 29 ноября «на всей территории Эстонской республики» военное положение стало теперь проводиться в жизнь. Воинским частям был отдан приказ открывать огонь по демонстрантам без предупреждения. Были закрыты все рабочие организации, запрещена деятельность Таллинского Совета рабочих депутатов. Были введены военно-полевые суды. Начались аресты среди коммунистов и подозреваемых в сочувствии им.
Хотя буржуазные деятели Эстонии на все лады превозносили значение прибытия английского флота, они всё же понимали, что с помощью одного лишь флота невозможно переломить ситуацию. В ноябре и декабре 1918 г. эстонская буржуазия вместе с партнёром по коалиции — правыми социал-демократами (сотсами) была охвачена паническим страхом: срывалась мобилизация солдат в правительственную армию, от населения не удавалось получить ни денег, ни зерна. Часть населения, ориентированная на советскую власть, была уверена, что эстонские правительственные войска не смогут справиться с красными полками. А те, кто не симпатизировал красным, считали, что бесполезно воевать с огромной Россией. Проведённая под угрозой каторги и смертной казни принудительная мобилизация дала эстонской армии 12 тыс. человек вместо намеченных 25 тыс. Большинство мобилизованных отказывалось воевать против эстонских красных стрелков. Дезертирство достигало 50–75% воинских частей.
Эстонские правительственные войска, в тылу которых действовали партизаны, были слабы и постоянно отступали под натиском Красной Армии, которая освобождала один город за другим. С моря действия Красной Армии поддерживались Балтийским флотом, который сковывал действия английской эскадры и нанёс ей серьёзный урон. О моральном состоянии эстонских правительственных войск могут свидетельствовать донесения эстонских командиров военному начальству. Например, полковник Соотс доносил из Вильянди, что положение во вверенных ему воинских частях «ненадёжное», что он сам видел, как солдаты встречали бежавших из Тарту чиновников и офицеров насмешками и возгласами: «Заяц! Буржуй!» 19 декабря начальник штаба Вируского (Нарвского) фронта сообщал Лайдонеру о массовом паническом отступлении войск на этом фронте. «Здесь солдаты просто бегут, и больше ничего, — с горечью констатировал он. — В бегство их обращают даже 3–4 большевика, и притом совершенно пассивных». Состояние боеспособности кайтселийта также вызывало нарекания военачальников. Вот, например, что 24 декабря сообщил командующий Вируским фронтом военному министру временного правительства: «Кайтселийт ни в малейшей степени не отвечает своему назначению… Когда противник приближается на расстояние в 10–20 вёрст, весь кайтселийт пускается наутёк… В вируском кайтселийте насчитывалось 2100 членов, сейчас из них осталось всего тридцать человек, да и то лишь потому, что это школьники и находятся в отдельном вагоне при штабе»{350}.
Зеркальным отражением положения на фронтах были усиливавшиеся панические настроения среди временного правительства. Его министры, боясь выступлений рабочих, не осмеливались расходиться на ночь по домам. Министерство финансов готовилось к эвакуации всех ценных бумаг и драгоценностей. В порту Пальдиски под парами стояло специальное судно, на котором правительство в случае опасности намеревалось скрыться.
В этой ситуации Губернский земский совет решился на отчаянный, но, в общем-то, вписывавшийся в прежний опыт шаг. 27 декабря на своём закрытом заседании, где присутствовали и представители партии эсеров, он избрал делегацию к английскому генералу Синклеру, чтобы при его посредничестве передать английскому правительству просьбу прислать свои войска, оккупировать и взять под свой военный протекторат территорию Эстонии. Эта попытка предательства страны и народа стала широко известна в Эстонии в июне 1919 г., когда К. Пяте, руководствуясь политическими интересами своей партии, рассказал об этом в учредительном собрании. Как тогда выяснилось, Эстония осталась не оккупированной вопреки воле Губернского земского совета и только потому, что англичане, в отличие от немцев, при организации антисоветской интервенции делали ставку не на свои войска, а на антибольшевистские силы России и её окраин[96]. Поэтому они ответили отказом на просьбу эстонских поборников «независимости» прислать сухопутные войска. Этот отказ, разумеется, был скрыт от населения. Промолчали и эсеры. И эстонские рабочие, убеждённые официозной прессой в скором прибытии в Таллин из английских гаваней новых отрядов усмирителей, не решились на выступление с целью захвата власти в столице, не догадываясь, что ситуация на самом деле этому благоприятствовала. Это была безусловная информационная победа буржуазного лагеря.
К началу января 1919 г. части Красной Армии освободили большую часть территории Эстонии — уезды Виру, Нарва, Валга, Выру и Тарту и частично уезды Вильянди, Пярну и Харью. Красная Армия остановилась в 30–35 км от Таллина, гавани которого контролировались английской эскадрой. Таллин так и остался таким же островком антибольшевистских сил и плацдармом для их последующего контрнаступления, каким была Лиепая в Советской Латвии{351}. Германские оккупационные войска всё же были вынуждены быстро убраться из Эстонии и перестали быть фактором, определяющим судьбу этой территории. Надежды Антанты, что немцы смогут помешать восстановлению советской власти в Эстонии, не оправдались.
В освобождении Эстонии в качестве военного консультанта при эстонских красных частях принимал участие А. Корк. Позднее он занимал в Красной Армии ответственные посты. Операциями по освобождению Пскова, Выру, Тарту, Валга, Риги и южных уездов Эстонии руководил военачальник Красной Армии латыш Ян Фабрициус.
На освобождённых территориях снова вступили в силу все декреты и постановления советской власти. Коммуна отменила арендную плату за землю и освободила крестьян от выплаты долгов царского времени. В то же время в сфере аграрной политики был продолжен курс на создание сельскохозяйственных коммун. Не был предусмотрен даже частичный раздел мыз и наделение землёй безземельных и малоземельных крестьян, хотя в условиях Гражданской войны этот вопрос имел большое политическое значение. Только в манифесте ЦК Компартии Эстонии, опубликованном в марте 1932 г., будут отмечены ошибки аграрной политики правительства Коммуны. Совет Коммуны допустил также просчёты военно-оперативного характера, к которым, например, можно отнести медлительность в проведении мобилизации населения в Красную Армию.
После провозглашения Эстонии Советской социалистической республикой её партийная организация по-прежнему входила в состав единой РКП(б). VIII съезд РКП(б), в котором участвовали и эстонские коммунисты, закрепил такое положение вещей. В резолюции по партийному строительству съезд подчеркнул, что необходимо существование единой централизованной Коммунистической партии с единым ЦК, руководящим всей работой партии. При этом все решения РКП(б) и её руководящих учреждений стали считаться безусловно обязательными для всех частей партии, независимо от их национального состава. Вскоре интеграционный подход в деле партийного строительства был распространён и на другие сферы взаимодействия Советской России с бывшими национальными окраинами. В мае 1919 г. ЦК РКП(б) принял директивы о военном единстве РСФСР, Украинской, Литовской, Латвийской и Эстонской советских республик. Чтобы обеспечить победу над общим врагом — иностранной интервенцией и контрреволюцией, считалось необходимым провести в жизнь единое руководство всеми национальными отрядами Красной Армии и строжайшую централизацию в распоряжении силами и ресурсами социалистических республик, в частности аппаратом военного снабжения, а также железнодорожным транспортом. В соответствии с этими директивами 1 июня 1919 г. ВЦИК принял декрет об объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для борьбы с вооружённой интервенцией. Эстония не смогла принять участие в этом государственном акте, так как к июлю 1919 г. вся её территория находилась под контролем эстонской правительственной армии и интервентов.
VIII.5. Контрнаступление внутренних и внешних антибольшевистских сил
Уклонение Великобритании от посылки своих войск в Эстонию вовсе не означало отказа от интервенции вообще. При этом приоритет отдавался опоре на «белое движение» и мобилизацию националистических сил «малых народов» бывшей Российской империи, за которыми американский президент Вильсон и глава правительства РСФСР Ленин, руководствуясь, правда, разными целями, признавали право на самоопределение.
Именно планы Антанты по подготовке большого наступления против Советской России и превращению Эстонии в опорный стратегический пункт иностранной интервенции сыграли решающую роль в том, что временному правительству Эстонии всё же удалось обеспечить концентрацию антибольшевистских сил и, как следствие этого, сохранить свою власть. Основными факторами, благодаря которым Временное правительство удержалось у власти, являлись английская военная эскадра, военная и продовольственная помощь Антанты, создание при поддержке союзников национальной армии, финские, шведские и датские наёмники, прибалтийско-немецкие части и северо-западная армия Юденича.
В конце декабря 1918 г. главнокомандующим был назначен Й. Лайдонер (в прошлом полковник Генерального штаба Вооружённых сил Российской империи). В соответствии с указаниями союзников (главным образом командования английской военной эскадры) и с опорой на их деньги он приступил к формированию регулярных частей эстонской национальной армии. Были сформированы 1-я и 2-я дивизии, затем, несколько позже, — 3-я дивизия. Создавались пехотные, кавалерийские и артиллерийские части, специальные ударные отряды, бронепоезда для узкой и широкой колеи, морские силы. На крупные суммы, выделенные странами Антанты, были организованы Таллинский, Тартуский и Ярваский охранные полки. Например, в Вильянди капитан американской армии, эстонец по происхождению X. Рейсар занимался вербовкой «добровольцев» на американские деньги. Не отставали и прибалтийско-немецкие бароны. На свои средства они создали «балтийский батальон». В него входили сами немецкие помещики, управляющие имений и их свита.
Большую и разностороннюю помощь эстонское временное правительство получало от Финляндии. Здесь в начале марта 1918 г. с помощью немецких войск под командованием генерала фон дер Гольца финские антибольшевистские силы во главе с бывшим гвардейским генералом императорской армии Карлом Густавом Маннергеймом ликвидировали Финляндскую Социалистическую Рабочую Республику (провозглашена в феврале 1918 г.), не успевшую сформировать собственную армию. Созданный в декабре 1918 г. в Хельсинки главный комитет помощи Эстонии организовал на американские деньги широкую вербовку добровольцев. В конце 1918, и в первые дни 1919 г. в Эстонию прибыло около трех тысяч финнов, а также «добровольцы» из Швеции и Дании. Среди них было много авантюристов, но часть наёмников действительно верила, что едет помогать эстонскому народу бороться за независимость. Правда, многие из них прибыли в тот момент, когда в гражданской войне на территории Эстонии наступил перелом в пользу антибольшевистских сил.
Следует отметить, что и в Эстонии, и в Финляндии формированию корпуса финских добровольцев придавалось не только военное, но и политическое значение. Дело в том, что в тот период среди представителей буржуазии обеих стран была популярна идея финляндско-эстонской унии. Поэтому прибытие финских добровольцев рассматривалось как акт, который должен способствовать реализации этой идеи. В связи с пребыванием в Эстонии частей финских добровольцев и с планами создания финляндско-эстонского государства влияние Финляндии в начале 1919 г. резко возросло. В эстонской армии командные должности занимали финские офицеры. Например, командующим Южным фронтом был финский генерал Ветцер. В условиях укрепления финско-эстонского военного взаимодействия финская сторона отслеживала и пропагандистское обеспечение эстонской прессой политического имиджа Финляндии. Так, министр временного правительства А. Рей, занимавшийся вербовкой добровольцев в Финляндии и скандинавских странах, в одной из своих статей упомянул о белом терроре в Финляндии. По прямому требованию финских правящих кругов он был вынужден уйти в отставку
Важно отметить, что, направляя добровольцев в Эстонию, финские власти строили планы захвата значительной территории Советской Карелии. Генерал Маннергейм и начальник генерального штаба Энкель договаривались с русскими генералами о совместном походе против большевиков{352}. Части финских добровольцев, находившиеся на территории Эстонии, должны были пойти в наступление на Петроград вдоль южного берега Финского залива. Командование эстонской армии поддерживало эти планы, прикрываясь лживым аргументом о необходимости оказания «помощи» малому родственному ижорскому народу. Главнокомандующий эстонской армией генерал Лайдонер, побуждая Финляндию к активным военным действиям против Советской России, даже разработал план штурма Петрограда. Причём главная роль в этой операции отводилась именно Эстонии и Финляндии. Лайдонер подчёркивал, что это якобы необходимо для создания «Великой Финляндии»{353}. Это новое политическое образование должно было включать Финляндию, Ингерманландию (Восточная Карелия) и Эстонию{354}.
В декабре 1918 г., следуя указаниям Антанты, временное правительство заключило договор с отступившим под Таллин русским белогвардейским Северным корпусом численностью в 5600 человек. Договор заложил основу превращения территории Эстонии в главный тыл создававшейся северо-западной армии.
Собрав к 6–7 января 1919 г. превосходящие силы на линии Таллин — Пайде, подразделения эстонской армии, наёмников, русского Северного корпуса перешли в контрнаступление при поддержке трёх бронепоездов и десанта финских добровольцев, высаженных английской эскадрой в районе Утрия и Мерекюла. 9 января они прорвали фронт. А 19 января Красной Армии пришлось отступить за реку Нарву, и потом, несмотря на все попытки, ей не удалось добиться военных успехов. На этой линии фронт стабилизировался на продолжительное время, поскольку командование Красной Армии было лишено возможности исправить ситуацию путём выделения на эстонский участок фронта новых резервов: весной 1919 г. все силы были брошены на Восточный фронт, на борьбу с Колчаком. В силу этих причин Красная Армия была вынуждена вести на Эстонском фронте только оборонительные бои, что принесло эстонской армии, финским добровольцам и русским белогвардейцам лёгкие временные победы и дало козыри буржуазной пропаганде, утверждавшей, что советская власть в России доживает последние дни.
Правительство Эстляндской трудовой коммуны и ЦК эстонских секций РКП (б) продолжили свою деятельность в Пскове, а начиная с марта 1919 г. — в Луге. Правительство РСФСР передало в распоряжение эстонского правительства ряд совхозов, организованных на базе конфискованных имений, для оказания помощи эвакуированным из Эстонии. Многие эстонцы были направлены на работу в различные промышленные и сельскохозяйственные предприятия РСФСР, а также на государственную и партийную работу. В Петрограде для них были организованы курсы сельскохозяйственных инструкторов, телеграфистов, агитаторов. Начал свою деятельность Университет трудящихся Эстонии. Он готовил специалистов для народного хозяйства и преподавателей для эстонских школ.
Среди населения Эстонии, принимавшего советскую власть, поражения Красной Армии вызвали удивление, а затем деморализацию и потерю всякой надежды. Такие настроения только усилились в связи с начавшейся расправой над красноармейцами, коммунистическими и советскими активистами. «Рабочие — это стадо, — писал печатный орган сотсов, — и вожди — то же, что пастухи. Бейте пастухов, тогда разбредётся и стадо»{355}. Только за первые месяцы белого террора в Эстонии было уничтожено более 2000 человек. Погибли члены Таллинского комитета партии Ю. Куппар, и Ю. Шютс, партийный организатор в Вируском уезде А. Педаяс, член Тартуского комитета Тийман, активисты партии Л. Линдер, Э. Вейдебаум, Я. Аллик, X. Вильбах, Л. Ваарман, Л. Тыльдсепп, И. Куйв, И. Клааман, А. Тедло, руководитель тартуских комсомольцев К. Иохансон. Комментируя ситуацию в Эстонии, В. И. Ленин писал: «Когда представители английской и американской буржуазии появились в Финляндии, в Эстляндии, они начали душить с наглостью большей, чем русские империалисты, — большей потому, что русские империалисты были представителями старого времени и душить как следует не умели, а эти люди душить умеют и душат до конца»{356}.
О том, что и временное правительство успешно переняло опыт союзников, свидетельствует расправа над восставшими на островах Сааремаа и Муху. Оно вспыхнуло в феврале 1919 г. среди мобилизованных, которые отказывались идти на войну против Красной Армии. В течение нескольких дней им удалось взять в свои руки несколько волостных правлений. Затем они создали ополчение почти в тысячу человек, чтобы установить власть народа в уездном центре и перейти к разделу земли между безземельными и малоземельными крестьянами. Остриё восстания было направлено против всех помещиков, а не только против немецких баронов. Оценивая события на островах, В. Кингисепп писал: «Совершенно самостоятельно, без какой-либо коммунистической агитации извне, без китайских[97] и латышских наёмников{357} вооружённые островитяне действовали точно так же, как и восставший трудовой народ в той части Эстонии, которая в ноябре, декабре, январе находилась под властью Эстонской трудовой коммуны. Но кое в чём “мятежники” островов даже превзошли распоряжения правительства Эстонской трудовой коммуны! Они не потеряли ни одного мгновения, чтобы создать ту вооружённую силу — красные войска, — без которых не может существовать ни одна революция трудящихся»{358}. С материка прибыли посланные временным правительством каратели — пехотные и кавалерийские части, вооруженные пулемётами и автоматическими винтовками. Восстание, вспыхнувшее в неблагоприятное время и изолированно от борьбы на материке, было подавлено. Триста человек было убито, включая их лидеров А. Койта и Марию Эллам. До этого жертвам ломали руки и ноги, отрезали уши, выкалывали глаза. По приговору военно-полевого суда было расстреляно несколько сот человек, не считая тех, кто был арестован позднее и казнён в Таллине. Около ста подверглись телесному наказанию. Многих военно-полевые суды приговорили к каторге и тюрьме сроком до 20 лет. Ещё в 1925-м, 1927-м и даже 1930 гг. проходили судебные процессы над участниками восстания на Сааремаа.
VIII.6. Выборы в Учредительное собрание — победа буржуазно-националистического лагеря
Сааремаское восстание со всей очевидностью показало эстонской буржуазии непрочность её внутреннего положения. Среди широких слоев населения нарастало недовольство политикой временного правительства. Демагогические заявления о независимости не особенно вдохновляли. Ведь земля по-прежнему оставалась у помещиков, а «жажда собственного клочка земли» так и не была удовлетворена. В то же время солдат, уставших от пятилетней войны, стали посылать за этнические границы Эстонии для участия в захвате русских территорий. Не добавили популярности правительству также грубый произвол и террор власти, воскрешавший в памяти карательные акции 1905 г. Ответом населения на эти реальности «новой жизни» были уклонение от мобилизации, дезертирство с фронтов, отказ идти в наступление, слухи и разговоры (даже на залитом кровью острове Сааремаа) о том, что, дескать, «красные угрожают вскоре собраться с силой и снова начать». В то же время не встречала понимания и политика эстонских большевиков, которые заманили под свои знамена лозунгом «Земля крестьянам!», а придя к власти, хотя и ликвидировали помещичье землевладение, основной упор сделали на создание сельскохозяйственных коммун. В этих условиях обещания мелкобуржуазных партий о наделении крестьян землёй вызывали серьёзные колебания среди крестьянства и давали шанс буржуазии.
Временное правительство, опасаясь повторения народных выступлений, объявило часть имений — так называемые рыцарские поместья — государственной собственностью и передало их в управление министерства сельского хозяйства.
Эстонская буржуазия, стремясь расширить социальную базу своей власти и используя благоприятное военное положение, провела давно обещанные выборы в Учредительное собрание. Они состоялись 5–7 апреля 1919 г. В предвыборной кампании принимали участие десять партий. Наиболее значительными из них были аграрная партия «Союз земледельцев» («Маалийт»), так называемая народная партия, партии трудовиков, сотсов и эсеров. Все они не скупились на всевозможные посулы. Например, обещали, что Учредительное собрание ликвидирует белый террор, установит демократический строй, а помещичью землю отдаст народу. Партия трудовиков обещала даже «постепенную национализацию промышленных предприятий». Особенно искусно охотились за голосами сотсы (социал-демократы). Они сулили через Учредительное собрание превратить Эстонию в «Трудовую республику», провести безвозмездное отчуждение и раздел имений между безземельными и малоземельными, осуществить социализм «законным путём». Даже правые партии — Союз земледельцев и Эстонская народная партия — и те выступили «за частичное отчуждение имений и постепенное проведение земельной реформы». Такие предвыборные обещания свидетельствуют о том, что буржуазные и мелкобуржуазные партии были вынуждены считаться с тем сдвигом в сознании народных масс, который был вызван Октябрьской революцией 1917 г. и периодом социалистических преобразований в Эстонии. Имея опыт, связанный с подавлением революции 1905–1907 гг., ликвидацией советской власти германской армией, а также испытав на себе белый террор в ноябре — феврале 1919 г., народ (457 тыс. человек) предпочёл участвовать в выборах, чтобы, как его убеждали, законным и демократическим путём решить волнующие его вопросы, и в первую очередь вопрос о земле.
Ушедшая в глубокое подполье Коммунистическая партия Эстонии во главе с В. Кингисеппом призывала бойкотировать выборы. Коммунисты Эстонии выдвинули лозунг: «Не в Учредительное собрание для праздных разговоров, а с винтовкой в руках под красное знамя. Вот он, наш путь. Поднимайтесь на вооружённую борьбу на красном фронте! Поднимайтесь продолжать самоотверженную борьбу в тылу у белых!» Бойкот выборов Учредительного собрания не удался. После всех пережитых поражений эстонцы, сочувствовавшие коммунистам, не верили, что с винтовкой в руках они одолеют тех, с кем не смогли справиться красные войска. Военная победа временного правительства явилась одновременно и его политической победой.
Выборы состоялись. Из 120 мест в Учредительное собрание сотсам досталось 41, трудовой партии — 30, эсерам — семь мест. Правящая партия К. Пятса («Маалийт») получила всего лишь восемь мест, «народная» партия (главным образом, при помощи националистической демагогии) — 25 мест. Остальные девять мест распределились между мелкими группировками. Хотя в количественном отношении одержали верх левоцентристские партии, В. Кингисепп подчёркивал, что выборы в Учредительное собрание принесли полную победу буржуазии, поскольку созыв Учредительного собрания уже сам по себе являлся победой буржуазии{359}.
19 мая 1919 г. Учредительное собрание провозгласило независимость Эстонии и объявило страну демократической республикой. Новое правительство, в котором четыре министерских портфеля принадлежали сотсам, три — трудовикам и два — «народной» партии, возглавил трудовик О. Штрандман. Поскольку «социалистическое» правительство продолжило курс временного правительства, то Эстляндский ЦК Компартии охарактеризовал внутреннюю и внешнюю политику правительства Штрандмана как «политику Пятса без Пятса».
VIII.7. В. Кингисепп о причинах удержания власти в Эстонии буржуазно-националистическим правительством
В своей книге «Под игом независимости», которую эстонские рабочие, как утверждают историки советского периода, «зачитывали до дыр», В. Кингисепп отвечает на им же самим поставленный вопрос: как могло в ноябре 1918 г. захватить и удержать в своих руках власть правительство, которое является законным детищем временного губернского земского совета (маапяэва), разогнанного рабочими 15 ноября 1917 г.? В. Кингисепп выделил ряд факторов.
Во-первых, это немецкая оккупация. Она полностью разрушила эстонскую промышленность, уничтожила все крупнейшие центры концентрации рабочих, распылила эстонский фабричный пролетариат. Солидарность рабочего класса, чувство коллективизма и единомыслие трудового народа разлетелись вдребезги вместе с промышленностью и промышленным пролетариатом. Если ещё вчера один выступал за всех и все за одного, то теперь каждый был против каждого, чтобы пробить себе локтями дорогу к куску хлеба, то на сенокосах, то на уборке картофеля, одни в подёнщиках у какого-либо мелкого эксплуататора, другие — занимаясь мелкой спекуляцией. Экономическая катастрофа, вызванная немецкой оккупацией и поразившая наиболее сильно промышленность и рабочий класс, стала впоследствии основой для прихода к власти эстонской буржуазии.
Во-вторых, это политический гнёт немецких оккупационных властей — поборников создания Балтийского герцогства. Немцы до основания разгромили классовые организации рабочих и смели с лица эстонской земли весь тот слой трудящихся, который в ходе двух революций выдвинулся в их авангард. Дело немцев затем продолжила эстонская буржуазия.
В-третьих, применение немцами технологий манипулирования массовым сознанием населения на оккупированных территориях. По мнению В. Кингисепа, немецкая оккупация не только разорила промышленность, но и одурманила классовое сознание рабочих, заразила их вирусом националистического бешенства. Все бедствия стали казаться следствием национального гнёта, что играло на руку эстонскому буржуа, который с лицом благочестивого мученика всячески поносил немецкого угнетателя и, пробираясь к власти, стремился разрушить классовые перегородки. Поэтому в учреждении буржуазного временного правительства широкие народные массы увидели прежде всего уход немецких оккупантов. Кингисепп считал, что благодаря немецкой оккупации эстонской буржуазии удалось втащить в стан трудового народа троянского коня, раскрашенного под независимость, самостоятельность и демократию. Внутри же его были спрятаны белые ударные батальоны контрреволюции, военно-полевые суды, виселицы, цепи и намыленные петли для рабочих. Как бы то ни было, часть эстонского народа удалось превратить в пушечное мясо контрреволюции, за которое эстонская буржуазия стала получать кучи денег от Антанты. Однако победы эстонской армии, подчёркивал лидер эстонских коммунистов, были поражением эстонского народа.
В. Кингисепп обращает внимание на то, что распространявшийся эстонской буржуазией миф о борьбе эстонского народа за независимость содержит много противоречий. Они связаны с двусмысленной ролью самой буржуазии в этом процессе. Так, эстонской буржуазии удалось избежать включения Эстонии в Балтийское герцогство, чему она не противилась, только благодаря поражению немцев в Первой мировой войне и революции в Германии. Следующая угроза независимости миновала, когда англичане ответили отказом на предложение делегации эстонской буржуазии оккупировать Эстонию. Сотрудничество с Антантой в борьбе с Советской Россией также вело, в случае успеха этого предприятия, к утрате независимости Эстонии. Кингисепп цитирует газету «Сотсиальдемокраат» от 12 марта 1919 г., которая довольно ясно высказалась по этой проблеме: «Если Колчак и компания захватят власть в свои руки и установят в России твёрдый помещичье-буржуазный “порядок”, то мы окажемся, несомненно, первыми жертвами, которых обвинят в “сепаратизме” и “измене России” и против кого будут высланы карательные отряды. И вот тогда мы узнаем, что такое русская нагайка! Отсюда следует, что мы были бы глупцами, проводящими сумасшедшую политику самоубийства, если бы стали так или иначе поддерживать и помогать Юденичам, колчакам и компании. Тем самым мы помогли бы сами вить ту верёвку, которую русские карательные отряды потом накинут нам на шею».
Однако, как считал Кингисепп, именно такая «сумасшедшая», ставящая на карту независимость Эстонии, политика и проводилась, поскольку под ширмой национально-освободительной войны скрывалась, прежде всего, война гражданская и классовая.
VIII.8. Эстония как плацдарм иностранной интервенции и гражданской войны против Советской России. Условия и проблемы формирования белой северо-западной армии
У истоков белого движения на северо-западе России стояли немцы. А исходным пунктом формирования этого движения был оккупированный германской армией (до 25 ноября 1918г.) Псков. Хотя по Брест-Литовскому договору немцам надлежало очистить Псковскую губернию в самое ближайшее время, они затянули свой уход вплоть до собственной революции в ноябре 1918г., когда многочисленные немецкие солдатские комитеты выкинули лозунг «Домой!» и фронт начал быстро разваливаться. Незадолго до своего ухода немецкое командование приступило к формированию в Пскове русской добровольческой армии, которая, как официально утверждалось, должна была, после того как немцы оставят Псков, не допустить в город большевиков. Однако далеко не все верили, что немцы стали создавать русскую армию из одного сочувствия к судьбе Пскова и его жителей. И были правы, поскольку, уходя, немцы всё же предполагали вернуться и не отказывались от планов будущего военного вмешательства в дела России. И потому организационная работа во Пскове была частью стратегии, ориентированной на будущее и немецкие интересы в России{360}.
В формировании белой армии немцы участвовали советами, деньгами и снаряжением. Однако, как следует из письменного доклада генерал-майора А.П. Родзянко[98] (родственника последнего председателя Государственной думы М.В. Родзянко) английскому адмиралу Синклеру, деньги и вооружения были предоставлены в размерах гораздо меньше обещанных. Кроме того, из выделенных винтовок и орудий значительная часть оказалась негодной.
Период немецкого участия в создании белой армии был краток. С формированием офицерского состава будущей армии особых проблем не было. Правда, в момент зарождения белого движения не все, но многие из офицеров стали вызывать возмущение немецких инструкторов тем, что, не успев надеть погоны, стали кутить, бездельничать, требовать должностей в соответствии с чинами и возрастом. Гораздо сложнее было привлечь солдат. После того как на сторону белых перебежали от большевиков матросы чудской флотилии и небольшой отряд кавалерии Балаховича[99] — Пермыкина[100], совсем недавно ярых защитников советской власти и жестоких усмирителей восстания лужских крестьян, дело несколько сдвинулось с мёртвой точки. Требовались энергичные люди, и потому на их сомнительное прошлое просто закрывали глаза. Затем к сбежавшему от большевиков «ядру» присоединились группы крестьян-добровольцев, а также мобилизованные ученики старших классов гимназии и реального училища. Формирующийся под началом генерала Вандама (военного сотрудника суворинского «Нового времени») корпус насчитывал 4500 человек (включая 1500 офицеров), был плохо обмундирован, слабо технически оснащен, довольствовался скудным пайком. Денег явно не хватало. Обращения Вандама к горожанам (главным образом к купцам) с патриотическими речами и призывами к добровольным пожертвованиям, кроме сочувственных вздохов и даже криков «ура», в материальном выражении дали явно мало (несколько десятков тысяч рублей) и не решали проблемы. Старому кадровому офицеру А. Родзянко, приехавшему во Псков, было достаточно одного взгляда на попадавшихся ему навстречу «разнузданного, ободранного, невоинского вида солдат и офицеров», чтобы сразу же сделать вывод, что псковское формирование есть не что иное, как авантюра. Такая оценка подтвердилась через два дня (25 ноября), когда большевики без особых проблем заняли Псков, а немцы и псковское формирование бежали.
Осколки первой белой армии, или Северного корпуса, перебрались в Эстонию. Здесь 6 декабря 1918 г., по указке Антанты, между эстонским правительством и Северным корпусом был заключён договор. В соответствии с ним Северный корпус сохранял свою военную организацию, но подчинялся эстонскому главнокомандующему Лайдонеру. Поход на Петроград тогда ещё не планировался. Главной целью общих действий объявлялась борьба с большевиками и анархией, а основным направлением готовящегося совместного удара являлась Псковская область. Согласно договору, русские белые войска (в эстонской демократической прессе они фигурировали как войска реакции и генералов) не должны были превышать 3500 человек, не смели вмешиваться во внутренние дела Эстонии, а в главных штабах эстонской и русской армий предусматривалось присутствие военных представителей соответственно русской и эстонской сторон. Довольствие, обмундирование, снаряжение русской армии Эстония брала на себя, разумеется, не безвозмездно, а за счёт будущего русского правительства.
В ситуации, когда большевики яростно наседали в районе Юрьева и Нарвы, эстонцы, безусловно, были заинтересованы в любом союзнике, который бы помог отстоять территорию, которую они считали своей. В связи с этим они осознавали необходимость создания русской белой армии. С другой стороны, они боялись этого, поскольку подозревали, что, окрепнув и получив поддержку от белого движения из других регионов, русская армия может отказаться от своих обязательств и покончит с новым государственным образованием на теле России, как только удастся покончить с большевиками. Это противоречие между готовностью к сотрудничеству, которая диктуется обстановкой, и, с другой стороны, опасениями, которые не лишены оснований, будут определять эстонскую политику в отношении белой армии. Придёт время, и это противоречие будет прагматично снято эстонской стороной путём ликвидации армии Юденича, за что большевики в ходе мирных переговоров заплатят хорошую цену.
В период с декабря 1918 г. по май 1919 г. белая армия выросла численно и стала представлять силу, способную предпринять более активные действия против большевиков. Однако механизм армии функционировал не без сбоев. При желании можно было найти много фактов для критических оценок. Например, Василий Горн[101] отмечал, что с первых дней дислоцирования армии на эстонской территории в высшем эшелоне начались трения и склока по поводу того, кто кому должен подчиняться. В условиях отсутствия сколько-нибудь серьёзных боевых действий сложилась система взаимно-дружеского награждения. Чрезвычайно быстро стало расти число полковников и генералов[102]. Это вызвало смятение в рядовой офицерской среде. Одни испытывали злобу и зависть, другие — страх, что во главе армии окажутся старые бюрократы, которые погубят и армию, и белое дело. В этой ситуации первая группа низшего офицерства хотела чинов, потому что «это теперь легко» и было бы глупо не воспользоваться открывшейся возможностью, а вторая группа, меньшая, хотела повышений, чтобы обеспечить приход в военное руководство свежих сил, которые спасут Россию. В конце концов, отмечает Горн, происхождение и личная гибкость всё-таки берут верх, а «караси-идеалисты» плохо успевают в этой гонке{361}. С учётом политических воззрений В. Горна («февралиста» и демократа) этот вывод можно расшифровать следующим образом: при формировании командного состава и офицерского корпуса «правые» одержали верх над «демократами».
Весной 1919 г. Антанта предприняла комбинированный поход на Советскую Россию. Главный удар должен был нанести с востока А.В. Колчак. На северо-западную армию, которая на тот момент находилась под командованием генерала А.П. Родзянко, была возложена задача с территории Эстонии начать наступление на Петроград и отвлечь на себя силы Красной Армии с Восточного фронта. Руководителем и организатором этого похода являлась специально прибывшая в Таллин военная миссия держав Антанты.
13 мая 1919 г. армия генерала Родзянко при поддержке английского флота, эстонских войск и финских добровольческих частей перешла в наступление. До и после этого похода эстонские официальные газеты утверждали, что против Советов Эстония не воевала, она вела только оборонительную войну, отстаивая свою независимость. И всё-таки 26 мая, когда часть красной эстонской дивизии, заслонявшей Псков со стороны Эстляндии, внезапно перешла к белым и оголила город. Войска Эстонской республики, о которой впервые узнали псковичи, захватили Псков. В эти майские дни эстонские газеты, и особенно «Ваба Маа», ликовали: красный Кронштадт и красный Петербург — слава и гордость коммунистической революции — скоро будет в руках героической армии маленькой Эстонии. При этом от народа скрывался тот факт, что 26 мая 1919 г. государства Антанты официально признали Колчака верховным правителем всей России, включая Прибалтику.
Первая прокламация вошедших в Псков эстонцев (в переводе на русский язык) гласила: «Славные эстонские войска очистили город от жидов и коммунистов». В этих словах обыватели усмотрели сигнал к реставрации и погромам. Однако после посещения депутацией местной еврейской общины командира войск подкапитана Ригова была написана новая прокламация, в которой он пригрозил наказаниями за погромы. Общественности города Ригов пообещал, что от эстонцев как представителей демократической страны они ничего худого и реакционного не увидят. В те несколько дней, когда до появления частей Булак-Булаховича эстонцы были хозяевами города, не было ни расстрелов, ни тем более публичных казней. Квартирной повинностью эстонцы не злоупотребляли, но отобрали у горожан телефонные аппараты, реквизировали оставшийся товар в национализированных большевиками магазинах (прежде принадлежавших псковским купцам) и вывезли часть льна, остававшегося на пристани реки Великой. По мнению очевидца В. Горна, по сравнению с немецкой «контрибуцией»[103], эстонцы ограничились пустяками, тем более что из объятий большевиков никто не хотел освобождать русское население даром{362}.
Через четыре дня эстонцы передали власть в городе подошедшему «атаману крестьянских и партизанских отрядов» подполковнику Булак-Балаховичу (довольно быстро произведённому в генералы). Два с половиной месяца его пребывания на посту командующего вооружёнными силами Псковско-Гдовского района были отмечены ежедневными публичными казнями (все жертвы свозились для казни в Псков), которые к тому же были превращены в коммерческое предприятие. В условиях Гражданской войны, которая сопровождалась частой сменой власти, никто не мог избежать соприкосновения с противоборствующими сторонами. Поэтому при желании поводов для обвинений в большевизме можно было найти предостаточно. Не сумев поймать комиссаров или просто рядовых коммунистов, Балахович стал стряпать обвинения в большевизме в отношении главным образом зажиточных людей, которые ставились перед выбором: плати или иди на виселицу. Одновременно с этим офицеры и солдаты Балаховича рыскали по квартирам в целях конфискации серебра, золота и денег. Сопротивлявшихся избивали. Был также составлен список купцов, преимущественно евреев (правда, в нём встречались и христианские фамилии, внесённые, вероятно, для противодействия обвинениям в черносотничестве), которые должны были внести средства на нужды войска. При крутом нраве Балаховича, которому некоторые обыватели вскоре дали прозвище «соловья-рабойника», это мероприятие было обречено на успех. Удалось собрать значительную по тому времени сумму в 200 тыс. рублей. Впоследствии, из-за отсутствия отчётности, следственным органам белой армии так и не удалось выяснить, куда пошли собранные деньги. Солдаты Балаховича были по-прежнему плохо одеты и обуты, находились на полуголодном пайке и являли резкий контраст по отношению к эстонским войскам, которых державы Антанты прекрасно экипировали и, по-видимому, неплохо кормили, поскольку эстонцы производили впечатление здоровых и крепких ребят. Другой проблемой войск Балаховича было то, что они стали терять поддержку местного населения. В статье «На деревенской телеге», опубликованной в газете «Последние новости», № 121 за 1920 г. корреспондент бывших «Русских новостей» Л. Львов так описывает недобрую память, которую оставил среди населения режим Балаховича: «Мы ехали по району, оккупированному год тому назад знаменитым Булак-Балаховичем. Народная память осталась о нём нехорошая. Грабежи и, главное, виселицы навсегда, должно быть, погубили репутацию Балаховича среди крестьянского мира. За 40–50 вёрст от Пскова крестьяне с суровым неодобрением рассказывают о его казнях на псковских площадях и о его нечеловеческом пристрастии к повешениям. Практиковавшаяся им порка, когда крестьянин — отец и хозяин — принуждался ложиться под удары, глубоко затронула сознание крестьянина и оскорбило его чувство человеческого достоинства».
Зато в атмосфере террора и произвола, установившейся при Балаховиче, пышным цветом расцвёл гешефт эстонцев. Получаемую ими в кредит от США муку для населения Эстонии они обменивали в Пскове на лён по значительно завышенной цене. Эстонское правительство, переживавшее период первоначального накопления ресурсов своей молодой государственности, стремилось тогда скупить по дешёвке весь псковский лён, чтобы образовать для своего казначейства прочный валютный фонд. На лён была установлена расценка раз в десять меньше той, по которой Эстония направляла этот продукт на английские рынки и очень выгодно конвертировала в фунты. Эстонские предприниматели получали колоссальные барыши. А гарантом этой операции выступал Балахович, при поддержке которого новые бизнесмены демократической Эстонии стремились буквально за гроши отнять у псковского населения оставшийся у него единственный и высоко оценивавшийся на мировых рынках продукт обмена.
Большевики умело использовали жестокие реальности режима Балаховича для пропаганды среди солдат северо-западной армии. Их агитация, безусловно, сказалась на моральном духе белой армии и, соответственно, на её последующей судьбе.
В 20-х числах мая 1919 г. Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак назначил находившегося в Гельсингфорсе (Финляндия) генерала Н.Н. Юденича «Главнокомандующим всеми российскими сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против большевиков на Северо-Западном фронте»[104].
Ему формально подчинялись подразделения Северного корпуса во главе с А.П. Родзянко, отряды полковника С.Н. Булак-Балаховича, дислоцировашиеся в Псковской губернии, и части Западной добровольческой армии под командованием генерал-майора П.М. Бермонта-Авалова. Все они были переименованы в Северо-Западную добровольческую армию. Таким образом, спор между Юденичем и Родзянко за командование армией была решён в пользу Юденича. Родзянко же, под началом которого было предпринято майское наступление на Петроград, становился его подчинённым. Трения между обоими генералами были проявлением личных амбиций, по убеждениям оба были консерваторами, людьми «чисто русских устремлений», как они сами говорили о себе, поборниками «Единой, Великой, Неделимой России».
Это показал, вчастности, случай с ижорским отрядом, который под командованием финского офицера Тополяйнена обеспечивал левый фланг армии Родзянко. Когда стали приходить донесения, что ингерманландцы (или ижорцы) носятся с идеей «ингерманландской республики» и перестали признавать комендантов, назначенных в район их расселения (Сойкинская волость), генерал Родзянко вначале по-солдатски прямолинейно предупредил представителей отряда в отношении недопустимости сепаратистской пропаганды, грозя, в случае неподчинения, репрессиями. Открытые ижорцами национальные школы были закрыты. Кроме того, состоялся ряд бурных и далёких от дипломатии объяснений Родзянко с представителями финнов, эстонцев и ижорцев. Когда же стало ясно, что сепаратистские настроения не только не уменьшились, а ещё больше обострились, ижорский отряд был насильственно разоружён. Родзянко очень винил эстонцев в поддержке стремлений ижорцев к политическому самоопределению в рамках собственной национальной республики. Русский генерал считал, что никакого ингерманландского населения вообще не существует и потому нет причин какому-то национальному обособлению. Интуитивно он почувствовал опасность для целостности России, хотя, по всей вероятности, не знал, что, по мысли эстонских стратегов, Ингерман-ландия должна была войти в эстонско-финляндскую унию. Во всяком случае, способ, к которому прибег Родзянко, реагируя в военной обстановке на «национальные запросы» представителей ижорцев, не мог не показать эстонцам, что их ждёт, если белая армия усилится и решит поставленные перед ней верховным правителем Колчаком и Антантой военные задачи. Тем более что и точка зрения Юденича в отношении Эстонии была хорошо известна. Он, в частности, говорил, что «никакой Эстонии нет. Это кусок русской земли, русская губерния».
К началу июня 1919 г. территория, занятая русскими и эстонскими войсками (по линии Копорье — Кикерино — восточнее озера Самры и далее на юг в Псковскую губернию на ст. Карамышево), была довольно значительной и равнялась по площади Крымскому полуострову.
Командованию Северо-Западной армии предстояло удовлетворить самые острые и неотложные потребности населения занятой полосы: регион пребывал в финансовом и продовольственном тупике. В июне было принято решение о выпуске «билетов полевого казначейства Северо-Западного фронта». Эти новые деньги были введены в обращение в начале сентября. В быту они назывались по-разному: «шведскими», так как были отпечатаны в Швеции; «петроградками», поскольку текст на знаках обещал их обмен на общегосударственные деньги в Петрограде после взятия его белыми; «крылатками» — по изображению на них двуглавого орла с распростёртыми крыльями и, наконец, просто «Юденичами» — по имеющейся на них факсимильной подписи главнокомандующего. 1 сентября Колчак перевёл в Лондон в исключительное распоряжение Юденича 860 тыс. фунтов стерлингов. Таким образом была обеспечена валютная поддержка новому рублю. Поскольку пункт 6 объявления о новых знаках упоминал о возможности размена этих рублей на английскую валюту из расчёта 40 руб. за 1 английский фунт стерлингов, новые деньги были встречены хорошо. Рядовые обыватели и военные бросились покупать «Юденичи» в уверенности, что они скоро будут котироваться в Европе{363}.
Другая, не менее важная задача состояла в том, чтобы сделать отвоёванную у большевиков территорию своим надёжным тылом, т.е. привлечь людей на сторону белого движения. Многое зависело от того, сумеют ли белые понять чаяния крестьянства. Однако этого не произошло. Согласно приказу № 12 от 17 июня, в условиях гражданской войны восстанавливался порядок вещей, существовавший до революции. Так, всем лицам, захватившим самовольно и незаконно, или получившим от большевистских властей чужое движимое имущество, вменялось в обязанность под угрозой военного суда вернуть таковое имущество прежним владельцам. По приказу № 13 восстанавливалось старое помещичье землевладение, а мужик загонялся в прежние рамки своих наделов. Возникновение таких приказов объясняется тем, что в высших эшелонах армии, а ещё больше в её обозе находилось много помещиков, которые, разумеется, были заинтересованы в сохранении своего землевладения и считали большевизмом возможность легитимации всех крестьянских захватов, происшедших за время революции. Эти приказы выявили тенденции власти, а их исполнение нанесло страшный удар белому движению, заставив широкие крестьянские массы вначале насторожиться, а позже и вовсе от него отвернуться.
VIII.9. Борьба на перекрёстке интересов в тылу антисоветского фронта
К середине июня северо-западная армия и эстонские войска подошли к Петрограду. Каждое поражение красных на фронте приближало момент объявления Эстонии Антантой губернией единой и неделимой России, восстановленной под верховенством Колчака. Однако противоречия и военные столкновения в стане антибольшевистских сил облегчили положение красных войск под Петроградом и Псковом.
23 мая, следуя указанию Антанты, эстонские войска генерала Лайдонера (в их состав входили также латышские и финские части) помогли армии немецкого генерала фон дер Гольца занять «красную» Ригу. Согласно распоряжению главы союзнической миссии в Прибалтике генерала Гоффа, войска фон дер Гольца должны были оставить освобождённую от большевиков Ригу и начать преследование Красной Армии, отходившей в Латгалию. Но это противоречило планам фон дер Гольца, который спешил соединиться с войсками северо-западной армии для совместного похода на Петроград. Поэтому фон дер Гольц, являвшийся носителем германского влияния в Прибалтике, пренебрёг распоряжением британского генерала и двинул «железную дивизию» и ландесвер не на восток, в Латгалию, а в уже освобождённую от большевиков Северную Латвию с перспективой возвращения в Эстонию, которую контролировали союзники. Такой манёвр, в случае удачи, конечно бы, усилил группировку антибольшевистских сил на подступах к Петрограду. А если бы удалось захватить северную столицу, то расстановка интервенционистских сил в регионе резко изменилась бы в пользу немцев. На эту операцию фон дер Гольц пошёл при негласном одобрении германского правительства, а также при поддержке представителя США подполковника Грина, который проводил политику сдерживания влияния Великобритании в Балтийском регионе. Следует сказать и о том, что на командных постах в северо-западной армии было много титулованных немцев, а высшее руководство армии и его окружение придерживалось тщательно скрываемой прогерманской ориентации, или, как говорили их ориентировавшиеся на Антанту оппоненты, ориентации на «прусскую реакцию».
18 июня, оставив в Риге во главе латвийского правительства своего ставленника Ниедру, фон дер Гольц дал приказ о наступлении. В этой ситуации Великобритания, предвидя все последствия этой акции для своих интересов в Прибалтике, поставила перед эстонским правительством задачу бросить свои вооружённые силы против фон дер Гольца. Эта операция осуществлялась эстонской армией вместе с латышскими отрядами, сформированными сторонниками союзнической ориентацией Латвии на территории Эстонии и Северной Латвии под популярным в народе лозунгом «борьбы с баронами».
Эстонцы самоотверженно встали на пути фон дер Гольца, потому что в его манёвре они увидели стремление защитить землевладение прибалтийско-немецких помещиков. Одетые в солдатские шинели эстонские крестьяне, которые были посланы участвовать в походе на Петроград, в одиночку и целыми группами самовольно уходили с фронта и шли воевать против немцев. Значит, Советы и большевики виделись меньшей опасностью, чем немецкое иго, под которым эстонцы страдали столетиями. Через два десятилетия, летом 1940 г., этот эффект проявится вновь, но уже в иных международно-политических обстоятельствах. В июне же 1919 г. эстонские солдаты, испытавшие сильный всплеск национального самосознания действительно вели оборонительную войну, хотя Эстония и вступила в неё опять-таки по указке Великобритании, которая ревниво относилась к усилению германского влияния в Прибалтике и хотела использовать фон дер Гольца только в рамках чётко очерченных планов Антанты.
Вместо прорыва на Петроград фон дер Гольц был вынужден защищать немецкие позиции в Латвии. Теперь его задача состояла в том, чтобы не позволить эстонско-латышским войскам занять значительную территорию Латвии и тем самым не допустить замены Ниедры на посту главы латвийского правительства британской марионеткой Улманисом. Бои носили исключительно ожесточенный характер; пленных не было. Один из участников этих боёв вспоминал, что все воины сражались, охваченные какой-то инстинктивной страстью. Как будто вся ненависть, накопившаяся за 700 лет в душе народа, вдруг вспыхнула ярким пламенем{364}. 22 июня 1919 г. войска фон дер Гольца потерпели поражение у Цесиса. От полного разгрома немцев спасло только вмешательство США, которые под угрозой прекратить поставки продовольствия прибалтийским (ещё не признанным) государствам остановили вооружённую схватку в тылу антисоветского фронта в Прибалтике{365}.
Военное столкновение между армией фон дер Гольца и эстонско-латышскими частями ослабило силы интервентов в Прибалтике и облегчило переход Красной Армии в июне 1919 г. в контрнаступление. В результате в июле 1919 г. северо-западная армия и войска генерала Лайдонера были отброшены к границам Эстонии, а буржуазное эстонское государство, как иронизировал В. Кингисепп, снова осталось независимым вопреки «сумасшедшей» политике своих лидеров, которые по-прежнему не отказывались от нового похода на Петроград.
VIII. 10. О несостоявшемся выступлении Финляндии
Примечательно, что в осеннем наступлении Юденича на Петроград могла принять участие и Финляндия, если бы Колчак принял её условия. Об этом факте сообщил С. Добровольский[105] в своих воспоминаниях{366}.
Согласно его свидетельству, вопрос о привлечении Финляндии к совместному выступлению с северо-западной армией был поднят генералом Марушевским[106] в первых числах июля 1919 г. на заседании временного правительства Северной области, на котором он выступил с отчётом о своей поездке в Финляндию. Генерал Марушевский считал, что от предприятия Н.Н. Юденича нельзя ожидать никаких благоприятных результатов, и потому предложил сделать ставку на Финляндию, располагавшую достаточными организованными силами, чтобы нанести большевикам удар в самом важном и кратчайшем направлении на Петроград. С Марушевским был солидарен и сам Юденич, хорошо знакомый с бывшим генерал-лейтенантом русской армии (а теперь регентом Финляндской республики) К.-Г. Маннергеймом ещё по Николаевской академии Генерального штаба и возобновивший с ним отношения во время своего пребывания в Финляндии. Юденич направил адмиралу Колчаку 19 пунктов финляндских требований, при принятии которых Маннергейм рассчитывал изменить общественное мнение и склонить правительство и страну к выступлению против большевиков. Генерал Юденич настаивал на принятии этих требований в кратчайший срок, чтобы обеспечить Маннергейму победу на президентских выборах (они должны были состояться через две недели), поскольку с его уходом терялась всякая надежда на активную помощь со стороны Финляндии. К своему посланию Колчаку генерал Юденич добавлял, что в случае неполучения своевременного ответа он возьмёт решение на себя, так как обстановка диктует ему необходимость принятия такого шага. Ходатайство генерала Юденича перед всероссийским правительством Колчака было поддержано временным правительством Северной области.
Вскоре последовал краткий ответ Колчака: «Помощь Финляндии считаю сомнительной, а требования чрезмерными». Затем пришла более подробная телеграмма министерства иностранных дел за подписью Сукина[107]. В ней сообщалось, что верховный правитель, независимо от чрезмерно тяжёлых требований, предъявленных Финляндией, обратил внимание на то, что даже принятие их ещё не гарантирует выступления Финляндии, так как послужит только почвой для подготовки общественного мнения страны к активному выступлению. При этом адмирал Колчак выражал сомнение, чтобы это можно было успеть сделать в короткий двухнедельный срок. От себя Сукин категорически запрещал генералу Юденичу лично входить в какие-либо соглашения, обращая его внимание на то, что в области международных отношений он не имеет права выходить из рамок, определённых главнокомандующему положением о полевом управлении войск в военное время.
Генерал Марушевский резко порицал в то время адмирала Колчака за его недальновидность. И в таких оценках он был не одинок. Барон А. Будберг[108], входивший в окружение верховного правителя, выразил всю свою горечь и негодование по поводу этого решения, а также в отношении того, как оно было принято{367}. О подробностях дела А. Будберг узнал 17 августа 1919 г. во время отчёта Сукина на заседании правительства о деятельности своего министерства. Как явствовало из отчёта, два месяца назад генерал Маннергейм предлагал верховному правителю двинуть на Петроград стотысячную финскую армию и просил за это заявить об официальном признании независимости Финляндии. Однако Маннергейму был послан такой ответ, который отучил его впредь обращаться в ставку «с такими дерзкими и неприемлемыми для великодержавной России предложениями». По сияющему и гордому виду руководителя дипломатического ведомства и по всему тону его сообщения А. Будберг понял, что главную роль в этом «смертельно-гибельном» для белого движения ответе, о котором даже не был осведомлён совет министров, сыграл именно этот «дипломатический вундеркинд». «Смешно говорить о каких-то законах истории, — пишет в своём дневнике Будберг, — когда всю эту историю может свернуть такое жалкое ничтожество, как какой-то очень юркий и краснобайный секретарь вашингтонского посольства, как назло швырнутый судьбой в Омск, быстро пришедшийся ко двору при омском градоначальстве и феерично выбравшийся в руководители всей нашей иностранной политики»{368}. В этом контексте Будберг рисует портрет Колчака, далёкий от героизации. В его восприятии это несчастный, слепой, безвольный адмирал, жаждущий добра и подвига и изображающий куклу власти, которой распоряжается компания честолюбцев и авантюристов{369}. «Ведь если бы не кучка безграмотных советников, — размышляет Будберг, — вырвавших у адмирала то решение, коим гордо хвастался Сукин, то теперь Россия была бы свободна от большевиков, не было бы уральского погрома и над нами не висели те грозные тучи, которые временами застилают последнюю надежду на благоприятный исход»{370}.
Показательно, что такие мысли приходили в голову не одному Будбергу. После неудачного осеннего похода генерала Юденича, когда его войска были вынуждены оставить уже захваченные предместья Петрограда (об этом речь позже), многие пришли к заключению, что вооружённые силы Финляндии могли бы сыграть решающую роль и, может быть, судьба всех белых фронтов была бы другой{371}. Эти упования на Финляндию, после упований на Германию и Антанту, свидетельствуют о хорошем знании положения дел внутри белого движения и основанной на этом знании слабой веры в собственные силы. С помощью финской армии можно было бы действительно занять Петроград. Вопрос в том, согласились бы финны участвовать в этой военной акции против большевистского режима, признавшего их независимость[109]. А если бы согласились, то на какой срок они заняли бы Петроград и что после их ухода делал бы Юденич, не имевший опоры среди населения? Сомнительно, что эта локальная акция, даже в случае её успеха, могла бы оказать решающее влияние на исход Гражданской войны на огромной территории России. Ведь она не снимала основной причины поражения движения, которое принято называть белым — его идеологической несостоятельности, отсутствия чёткого представления о том, за что воюют белые армии, за ту ли Русь, которая понятна и близка народу{372}. В общем, сторонникам белого движения нет оснований строго судить адмирала Колчака за его решение. Кто бы его ни окружал, он оставался рыцарем Единой, Великой и Неделимой России. Не вызывает сомнений: будь на его месте политик типа Ленина, все 19 пунктов условий Маннергейма были бы приняты.
VIII. 11. Эстонские коммунисты на защите своих исторических идеалов
В условиях продолжавшейся Гражданской войны эстонские коммунисты, находившиеся в подполье, усилили пропагандистскую работу среди населения. В целом же за 1918–1920 гг. компартия издала в подполье и распространила почти 500 тыс. экземпляров листовок, газет и брошюр. Среди них листовка «Мы победим!» (автор В. Кингисепп). Каждое слово в ней проникнуто страстью и оптимизмом: «Никогда не угасала мысль: мы победим! Всю жизнь, от колыбели до могилы, жили в вопиющей нищете, были подавлены грубым насилием, увядали, как цветы в угарном дыму; поникали головами, когда приходилось выносить насилие и ложь, но ни на мгновение не угасала мысль: мы победим!.. Время пришло — и мы сокрушили….Мы победим! — звучит теперь чётко и громко… Это глубокий, неисчерпаемый источник жизни, он полон победоносной силы….Глубокое сознание, что жизнь стоит того, чтобы жить, что исторические идеалы стоят того, чтобы за них бороться, укрепляет дух борцов. Смелей, чем когда-либо, звучит клич освобождённых рабов, борцов за новую жизнь: мы победим!»{373}
В июне 1919 г. Кингисепп написал статью «За селёдку Вильсона»[110], в которой он разоблачил замыслы американских интервентов, прикрываемые разглагольствованиями о гуманизме и демократии. В этой брошюре, передающей атмосферу, трагедию и накал борьбы того времени, Кингисепп писал:
«“Америка помогает нам! Англия помогает нам! Могучие союзники помогают нам!” — так трезвонят буржуазные мошенники и мобилизуют народ на войну против красной России.
Да — они “нам” помогли. Они послали нам военные припасы, они послали нам также селёдку и хлеб. Конечно, не даром, а по “справедливой” рыночной цене! Но эстонская белая армия за это должна была воевать. Сыны трудового народа, насильно мобилизованные в белую армию, должны были проливать свою кровь, душить своими пролетарскими руками пролетарскую революцию!
…Вильсон меняет свои селёдки на дымящуюся человеческую кровь!
…Выплюньте эту селёдку, — обращается В. Кингисепп к эстонскому народу, — возьмите ружья, свергните буржуазное правительство Эстонии!..»{374}
В то же самое время, когда В. Кингисепп разъяснял своим соотечественникам суть политики «союзников», ни на минуту не сбавляла свои обороты пропагандистская машина буржуазного правительства Эстонии. Участие эстонской армии в международной интервенции против Советской России подавалось как война во имя самозащиты эстонского народа, его самоопределения и освобождения, во имя достижения независимости и самостоятельности. Следует признать, что не только путём насильственной мобилизации, но и с помощью пропагандистских лозунгов, заражавших коллективное сознание эстонского населения вирусами национализма и шовинизма, буржуазии удалось поставить под ружьё тысячи эстонцев, главным образом из числа крестьян и городской мелкой буржуазии. Будучи плацдармом антисоветской интервенции, Эстония была наводнена своими собственными, а также русскими, прибалтийско-немецкими воинскими частями, а также финскими, шведскими и датскими наёмниками. По официальным данным, в одной только эстонской армии числилось 74 500 солдат и свыше 32 тыс. годных к строевой службе кайтселитчиков{375}.
Учитывая сложившуюся обстановку на фронте в районе Прибалтики и исходя из общих интересов Советской России, Совет Эстляндской трудовой коммуны и ЦК эстонских секций РКП(б) приняли 5 июня 1919 г. решение о прекращении деятельности учреждений Коммуны. Состоявшаяся в августе 1919 г. в Петрограде объединённая конференция представителей Эстляндской организации Компартии и эстонских секций РКП (б), оценивая историческую роль и значение Эстляндской трудовой коммуны, отметила в своей резолюции: «Хотя Эстонская Советская Республика по вине международных палачей и исчезла с лица земли, она не умерла. Она продолжает жить в сердцах тысяч и десятков тысяч эстонских рабочих…»
И после поражения Эстляндской трудовой коммуны эстонские коммунистические части оставались в рядах Красной Армии и участвовали в боях на ответственных участках фронтов Гражданской войны. Осенью 1919 г. они были переведены на Южный фронт, где они боролись против Деникина и Врангеля. Эстонские красноармейцы отличились в сражениях под Орлом, при освобождении Курска, Белгорода, Тима, Волчанска и Изюма, при разгроме белогвардейцев в Донбассе. Эстонские красные стрелки приняли участие в прорыве позиций Врангеля на Перекопском перешейке и в овладении Юшуньскими укреплениями в ноябре 1920 г. Эстонские части помогли также очистить тыл войск Юго-Западного фронта от войсковых формирований Махно. Из среды эстонских воинов выдвинулся ряд крупных военачальников Красной Армии: А. Корк, А. Кукк, П. Лазимир, И. Раудметс, Я. Лудри, А. Куульберг, Р. Сокк и др.
VIII. 12. Создание белого Северо-Западного правительства. Обстоятельства признания независимости Эстонии. Отношения Северо-Западного правительства и белой армии
В начале августа 1919 г. английский генерал Марш, представитель главы антантовской военной миссии в Прибалтике генерала Гоффа, должен был срочно отреагировать на угрозу развала Северо-Западного фронта. Два эстонских полка отказывались сражаться, если независимость Эстонии не будет признана немедленно.
11 августа 1919 г. по настоянию британского генерала Марша было создано правительство Северо-Западной России (Петроградская, Псковская, Новгородская губернии), или Северо-Западное правительство. Оно должно было стать политическим органом, способным удовлетворить искания эстонской стороны. В процессе формирования состава правительства чётко обнаружилось существовавшее размежевание сил внутри белого движения на Северо-Западном фронте: между «либерал-демократами», разделявшими ценности западных держав, и сторонниками традиционного развития единой России, группировавшимися вокруг Юденича и слывшими в лагере политических противников не иначе как «автократами» и «реакционерами». При этом, несмотря на прецеденты создания правительств при Колчаке и Деникине, Юденич не получил права определить состав правительства. По сути, оно стало правительством при генерале Марше, поскольку министрами были назначены лица, желательные союзникам. Вместе с тем членами созданного кабинета были не только «левые» (т.е. демократы), но и «правые». В день своего создания правительство приняло заявление, в котором признавало абсолютную независимость Эстонии и обращалось с просьбой к представителям Соединённых Штатов Америки, Франции и Великобритании добиться от своих правительств признания абсолютной независимости Эстонии. Это заявление носило односторонний характер, так как Эстония не брала на себя никаких обязательств в отношении военной помощи Северо-Западной армии. Речь шла только о том, что единственно с Северо-Западным правительством Эстония согласна вести переговоры с целью способствовать русской действующей армии освободить Петроградскую, Псковскую, Новгородскую губернии от большевистской тирании и созвать в Петрограде Учредительное собрание, которое либо подтвердит, либо изменит назначения министров. Заявление было подписано премьер-министром и министром финансов (бывшим нефтепромышленником) С.Г. Лианозовым и пятью министрами — Маргулиесом, Ивановым, Александровым, Филиппео, Горном.
Правительство располагалось в Таллине, а штаб главнокомандующего Северо-Западной армии — в Нарве. Взаимопонимания и взаимодействия между ними практически не было, наблюдалось только нараставшее отчуждение и усиливавшееся противостояние. Военные считали правительство проантантовским, левым, находящимся в плену «демократических бредней», распространителем «керенщины». Члены правительства видели в военном руководстве армии восхвалителей эпохи царизма, черносотенцев, антисемитов. Эта лексика передаёт остроту противоречий и взаимного неприятия в северо-западном стане белого движения.
Эстония, получив признание независимости со стороны Северо-Западного правительства, сразу же ужесточила свою политику в отношении русского белого движения. Северо-Западное правительство размещалось в гостиницах и было лишено помещений для своих канцелярий, поскольку эстонская квартирная комиссия сознательно ставила препятствия при подыскании в Таллине необходимых помещений. Более того, началось выселение русских, в общей сложности 4 тыс. человек, «поселившихся в пределах республики после 1 мая 1915 г.». Это были работники, особенно нужные правительству, а также близкие члены их семей. Попытки правительства вступиться за пострадавших далеко не всегда приводили к желаемому результату. В исключительных случаях, как это, например, имело место при выселении жены и падчерицы начальника снабжения Северо-Западной армии, требовалось вмешательство начальника британской военной миссии полковника Херопата. И тогда распоряжения о высылке немедленно отменялись. По поводу выселения русских из Таллина антагонисты правительства из кругов русских эмигрантов в Финляндии не преминули ядовито заключить, что спешить с признанием Эстонии вовсе не следовало.
Зато Булак-Булахович, объявленный Н.Н. Юденичем «бежавшим и исключённым из армии» и подлежащий аресту и суду, в полной генеральской форме спокойно разгуливал по Таллину и в совершенной неприкосновенности жил в самой лучшей гостинице. Поскольку конфликтом командования белой армии с Балаховичем были недовольны англичане и генерал Лайдонер, эстонские власти сквозь пальцы смотрели на браваду Балаховича, которая к тому же наносила урон авторитету Юденича.
В это же время авторитет русских среди эстонского населения серьёзно подрывала эстонская пресса, и впереди всех шовинистически настроенная газета трудовиков «Waba Maa», официальным редактором которой был лидер этой партии и на тот момент премьер-министр Штрандман. Эта газета способствовала росту настороженности эстонцев в отношении и Северо-Западного правительства, и белой армии. На Н.Н. Юденича и С.Г. Лианозова (представителя правого крыла кабинета) был навешен ярлык «реакционеров». В эстонской расшифровке слово «реакционер» означало продукт эпохи царизма, «старорежимник», черносотенец, монархист, и вообще любой человек, абсолютно не желающий считаться с эстонской государственностью. В таком пропагандистском контексте миссия белых могла восприниматься только как исключительно враждебная интересам эстонского народа. (Примечательно, что лексика, использовавшаяся эстонскими газетами для характеристики командования и состава Северо-Западной армии, была идентична той, которую использовали большевики.)
На этом фоне участились любезные, но тем не менее настойчивые предложения эстонских министров Северо-Западному правительству перебраться из Таллина в Нарву. Генерал Лайдонер счёл возможным заявить Юденичу, что если он не расчистит черносотенство в штабах и на фронте, то никакая совместная работа русских и эстонцев будет не возможна. А министр внутренних дел Геллат даже заявил о неизбежном вооружённом столкновении с русскими войсками, если они отступят на эстонскую территорию{376}.
В этой ситуации Северо-Западное правительство выступило с инициативами, направленными, как оно заявило, «к спасению Северо-Западной армии от окончательного развала». Учитывая настроения в политических кругах Эстонии и считая, что без эстонской военной поддержки невозможно рассчитывать на успешное продвижение к Петрограду, Северо-Западное правительство выступило с планом чистки армии, который был разработан совместно с английским полковником Пиригордоном. Под предлогом необходимости убрать почву для большевистской агитации среди русских и эстонских солдат, план предусматривал коренные изменения в строе русской армии. В частности, предлагалось очистить командный состав от «реакционеров» и большого количества титулованных лиц немецкого происхождения на ответственных постах, убрать из армии и выслать из Эстонии всех неблагонадёжных офицеров и авантюристов, восемь штабов свести к трём, удалив из Нарвы и от должностей в штабах прикармливаемых на военном пайке многочисленных и бесполезных чиновников, а способных к боевой службе тыловиков отправить на фронт. В плане содержалась также просьба к главнокомандующему безотлагательно издать приказ о прекращении сечения солдат, избиения их, брани и т.п.
Этот план только обострил отношения между правительством и армией. Н.Н. Юденич заявил, что чистка тыла уже производится, но в дальнейшем увольнять из армии он согласен лишь после суда или ревизии. Пункт о порке солдат вызвал возмущение главнокомандующего, который потребовал представить факты. По свидетельству представителя левого крыла правительства, государственного контролёра В. Горна, такие факты были представлены. Другой же член правительства, М. Маргулиес (правое крыло), оставил записи своей беседы с генералом Родзянко, которые рисуют совершенно иную картину. Так, генерал, со ссылкой на мнение побывавших на фронте иностранцев, утверждал, что дух солдат и офицеров прекрасен, солдаты бьются как львы, так как их отношения с офицерами прекрасны, нигде нет таких простых и дружеских отношений{377}.
В общем, чистка в армии по лекалам эстонцев, англичан и Северо-Западного правительства проведена не была из-за сильного сопротивления командного состава, который левые члены Северо-Западного правительства, видя своё бессилие, окрестили «камарильей в Нарве». Не удалось даже заставить снять золотые погоны на том основании, что большевики слово «золотопогонник» использовали в своей пропаганде среди солдат и сделали его почти синонимом «старорежимника».
Другое начинание касалось аграрной политики. 18 октября 1919 г. правительство приняло постановление, согласно которому земельный вопрос будет решён согласно с волей трудового земледельческого населения в Учредительном собрании. До этого времени сохраняются земельные отношения, которые имели место к моменту прихода белых войск. Это постановление давало сигнал, что реставрационных замыслов у правительства нет, и преследовало цель успокоить широкие крестьянские массы.
Появление постановления вызвало растерянность у военной власти. Некоторые командиры запретили его рассылку на места. Они знали, что дни правительства, родившегося, по выражению Н.Н. Юденича, от незаконной связи генерала Марша с Эстонией, сочтены. По мысли Юденича, Северо-Западное правительство, имеющее такую позорную и неприемлемую для русских людей историю возникновения, должно было исчезнуть с момента входа белых войск в Петроград и заменено новым правительством, организованным как совещательное учреждение при генерале Юдениче. Как сообщала «Петроградская правда» от 23 ноября 1919 г., в состав правительства были намечены бывшие царские чиновники и военачальники, идейно близкие генералу Юденичу.
Следует заметить, что с тактической точки зрения постановление Северо-Западного правительства по земельному вопросу было правильным, но запоздалым. К тому же отсутствовали гарантии его реализации. Оно не могло решительным образом повлиять на отношение населения к армии Юденича, тем более что прежние крайне непопулярные приказы № 12 и 13 продолжали действовать. Стоит сказать и о том, что в своём стремлении обеспечить успешное продвижение войск к Петрограду правительство было непоследовательным. Так, М.С. Маргулиес (правое крыло кабинета) отговорил генерала Родзянко от обещания земли солдатам за взятие Петрограда, указав на то, что Учредительное собрание может не согласиться дать землю солдатам армии Юденича, ибо и Колчак, и Деникин требуют того же. Земли якобы не хватит.
VIII. 13. Путь к миру между буржуазной Эстонией и коммунистической Россией. Трагедия Северо-Западной армии Юденича
В то время как Н.Н. Юденич готовил новый поход на Петроград, советское правительство предпринимало всевозможные усилия, чтобы вывести Эстонию из антибольшевистской борьбы, лишить армию Юденича военно-политического плацдарма для наступления на северную столицу и вообще ликвидировать боеспособную армию, представлявшую угрозу РСФСР на северо-западном направлении. Это можно было сделать на путях признания независимости буржуазной Эстонии, т.е. нового, никогда не существовавшего прежде государственного образования, не имевшего никаких юридических корней. Ленин был готов заплатить эту цену за мир с буржуазной Эстонией, заложником которого становилась армия Юденича.
Предложение РСФСР, в котором выражалась готовность признать буржуазную власть в Эстонии и немедленно заключить с ней мир, было передано ещё в апреле 1919 г. правительству Эстонии при посредничестве Венгерской Советской Республики. Эстония не отреагировала на него. В этих условиях Российское бюро Эстляндского ЦК Компартии направило 12 июня 1919 г. из Старой Руссы в ЦК РКП (б) письмо за подписью X. Пегельмана и П. Лэппа, в котором содержались предостережения в отношении экспорта революции в Эстонию. В письме подчёркивалось, что необходимо стремиться к тому, чтобы Эстонская Советская республика была восстановлена путём внутренней революции. В таком случае вооружённая помощь может быть оказана ей лишь по просьбе ЦК Компартии Эстонии. Далее говорилось, что в случае подхода Красной Армии к эстляндской границе желательно, чтобы правительство Российской республики предложило мир эстонскому правительству. Причём, как подчёркивалось в письме, если белоэсты прекратили бы активные военные действия, то не следовало наступать на Эстляндию, а также обстреливать пограничные пункты (Нарва) и т.д., ибо это «было бы крайне нежелательно в политическом отношении, если бы Красная Армия пыталась вторгнуться в Эстляндию как бы совместно с монархическими русскими бандами».
Реагируя на это письмо, правительство РСФСР дало распоряжение главному командованию советских вооружённых сил не переходить этнографические границы Эстонии. Вместе с тем, чтобы лишить Юденича эстонского плацдарма для развёртывания белой армии против РСФСР, советское правительство продолжило тактику понуждения Эстонии к мирным переговорам, готовя контрнаступление и обещая независимость. Сдерживающее влияние на Эстонию оказывали державы Антанты, которые были категорически против мирных переговоров с большевиками, поскольку всё ещё не оставляли надежды свергнуть их силой. К тому же летом 1919 г. Антанта готовила новый комбинированный поход против Советской России. В нём должны были принять участие 14 государств, включая Эстонию. На этот раз главный удар должен был нанести генерал Деникин. Юденичу и эстонскому буржуазному правительству было дано задание готовить новое наступление с целью захватить Петроград и поддержать главный удар Деникина на Москву.
Начиная с лета 1919 г. основной задачей Эстляндской организации Коммунистической партии стала мобилизация населения на борьбу за выход Эстонии из войны против Советской России и заключение с ней мира. Эта идея была чрезвычайно популярна среди эстонского населения, включая солдат эстонской армии. Неудивительно, что планы Антанты вызвали среди солдат, уставших от войны, большое недовольство. Одним из его проявлений, помимо участившихся случаев дезертирства и неповиновения офицерам, стало вспыхнувшее 10 июля 1919 г. восстание в Тартуском запасном полку, вызвавшее немалое смятение в военных миссиях Антанты в Прибалтике. Восстание было подавлено. 22 солдата были приговорены военно-полевым судом к смертной казни.
Учитывая создавшееся положение и антивоенные настроения среди народа и солдатских масс, Эстляндский ЦК Компартии обратился 19 июля 1919 г. к трудящимся с манифестом о мире. В нём, в частности, подчёркивалась необходимость путём активной борьбы заставить буржуазное правительство заключить мир с «красной» Россией.
Важной вехой этой борьбы стал созванный при организационной и идеологической поддержке эстонских коммунистов I Съезд профсоюзов Эстонии. На съезде, проходившем в Таллине 30–31 августа, было представлено 40 тысяч организованных рабочих и служащих, из 417 делегатов 379 были коммунистами или сторонниками коммунистов. Вопрос о мире стал на съезде главным. В резолюции, принятой по вопросу о мире, съезд потребовал, чтобы эстонское буржуазное правительство немедленно прекратило поддерживать армию Юденича и начало мирные переговоры с советским правительством. Съезд был разогнан. По заранее составленным МВД спискам были арестованы 74 делегата съезда и 28 рабочих-активистов. Все 102 арестованных были вывезены в Изборск, к линии фронта близ Пскова. В ответ на стачки протеста в Таллине и других городах в официальных сообщениях говорилось, что арестованные будут высланы в Советскую Россию. Но «высылка» была организована таким образом, чтобы она произвела впечатление «десанта белых войск» и вызвала огонь со стороны частей Красной Армии. Только благодаря бдительности красноармейцев и самих арестованных эта провокация провалилась. Однако прежде от основной группы арестованных были отделены 26 наиболее активных деятелей рабочего движения, в том числе А. Аннус, М. Коольмейстер, Ю. Типпо, Э. Хаммер, И. Алик, А. Прууль, И. Рийсман, X. Венникас, А. и М. Умберги и др. По приказу сотса А. Хеллата они были убиты командой бронепоезда на болоте близ Изборска.
Тем временем усиливались колебания в буржуазном лагере. В условиях грубого нажима великих держав, не желавших мира с Советской Россией, крайне правые элементы по-прежнему настаивали на продолжении войны «до победного конца». Однако умеренные и прагматично мыслящие силы начинали всерьёз опасаться, что игнорирование стремления народа к миру, далеко зашедшее сотрудничество с русскими белогвардейцами и открытая захватническая политика могут привести буржуазную Эстонию к катастрофе. В этой ситуации эстонское правительство выбрало тактику лавирования и выжидания. Демонстрируя показное желание мира, оно в то же время из опасений «нежелательных последствий» зондировало почву в Лондоне и Париже и было готово при первой же возможности принять участие в новой интервенции против Советской России.
17 сентября 1919 г. во Пскове представители Эстонии начали переговоры о мире с советской делегацией и сразу же заблокировали переговорный процесс, выдвинув изначально неприемлемые для РСФСР требования об отводе частей Красной Армии на линию Петроград — Дно — Великие Луки — Витебск — Орша, а также о ликвидации советского Балтийского флота. В этот же день военные представители Великобритании и Франции в Прибалтике стали оказывать давление на Эстонию, с тем чтобы она не предпринимала никаких шагов к заключению мира с большевиками. А глава американской военной миссии даже пригрозил, что США прекратят помощь Эстонии. На следующий день эстонская сторона прервала переговоры, поддаваясь нажиму, а также решив дождаться результатов нового похода армии Юденича на Петроград (конец сентября — октябрь 1919 г.), в котором эстонские части принимали участие.
Наступательная операция на Петроград, разработанная Н.Н. Юденичем, вошла в историю Гражданской войны под названием «Белый меч». Считая, что только стремительность и неожиданность удара может обеспечить победу, Юденич принял решение наступать на «кратчайшем направлении». По мнению советских военных историков, иного выбора в условиях малочисленности армии и необходимости оперативного взятия Петрограда и не могло быть. Как и в боевых операциях на Кавказском фронте, генерал остался верен своему стратегическому стилю{378}. Правда, в условиях быстрого и непрерывного наступления даже самая малая ошибка могла привести к катастрофе.
Юденич и эстонская армия двинули свои силы на Петроград в то время, когда войска Деникина уже захватили Курск и продолжали наступление в направлении Орёл — Тула — Москва.
Чтобы продвигаться с максимально возможной скоростью, генерал Юденич отказался от обозов. Хотя из-за взорванных красными мостов под Лугой застряли бронепоезда и стали отставать танки, операция «Белый меч» успешно развивалась. 13 октября белые заняли узловую станцию Лугу.
Чтобы повысить боевой дух эстонских солдат, Учредительное собрание приняло 14 октября земельный закон, предусматривавший отчуждение крупной земельной собственности и наделение землёй в первую очередь солдат эстонской действующей армии.
В тот же день Центральный Комитет и коммунистическая организация в эстонской армии выпустили листовку «К трудовому народу Эстонии». В ней содержался призыв к солдатам отказываться от участия в контрреволюционном походе на Петроград.
Во второй половине октября красные оставили Гатчину, Красное Село, Детское Село (Пушкин), Павловск, Ямбург (Кингисепп), Лигово. В те дни газета «Свободная Россия» (орган Северо-Западного правительства) писала: «Мелькают названия разных городов и селений, а напряжённый слух ловит каждый звук, каждый шорох, ища в них заветные слова: Петроград взят»{379}.
При первых же успехах армии Юденич особым приказом объявил всю белую территорию, включая Нарву (здесь располагался штаб Главнокомандующего), театром военных действий и назначил военным генерал-губернатором генерал-майора П.В. Глазенаппа, а находившемуся в Гельсингфорсе генералу Гулевичу поручил по телеграфу быть его представителем по всем гражданским и военным делам. Эти приказы означали фактическое упразднение Северо-Западного правительства и произвели на эстонцев ошеломляющее впечатление, ведь Северо-Западное правительство признавало независимость Эстонии и рассматривалось как гарант эстонской независимости при взятии Петрограда. В правительственных кругах Эстонии нарастала враждебность к генералу Юденичу. Шансы РСФСР на заключение мира увеличивались.
20 октября армия Юденича, поддержанная эстонскими частями, вышла на подступы к Петрограду. В этот период «крылатки» стали принимать в магазинах Ревеля и Нарвы напрямую, не требуя обмена на эстонские марки. Их курс быстро пошёл на повышение не только в Эстонии, но и в Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции{380}. После захвата Гатчины Юденич заявил журналистам: «Вот сначала возьмём Петроград, а потом повернём штыки на Ревель»{381}. Западноевропейская печать ликовала, предвкушая падение города в ближайшие дни. Казалось, что «сумасшедшая политика» Эстонии приближается к трагическому концу для поборников её независимости.
Но вот 20 октября 1919 г., в день освобождения Орла от белых, Красная Армия, получив свежие подкрепления, переходит в контрнаступление под Петроградом, чтобы путём нанесения двух ударов из Тосно и Луги соединиться в Ямбурге и полностью окружить Северо-Западную армию, ведущую бои на Пулковских высотах. 23 октября красные заняли Павловск и Детское Село, 26-го уже были в Красном Селе, 31 октября — в Луге и стали продвигаться к Ямбургу. Оказавшись под угрозой глубокого охвата с юга, Северо-Западная армия начинает отходить, и вскоре этот отход превращается в бесцельное, стихийное отступление.
По мнению Б. Соколова[111], общим для большинства белых фронтов было то, что их командование не находило нужным считаться с законами гражданской войны, которые требовали от армий особой внутренней спайки, цемента, который не позволял бы разваливаться зданию от первого же ничтожного дождя. У большевиков, как считает Соколов, таким цементом были комячейки, благодаря которым они держали в своих ежовых рукавицах солдатскую массу, и держали её не только наружной спайкой, но и внутренней. Внутренняя спайка белых армий, согласно наблюдениям Соколова, редко где имела место и ещё реже культивировалась как необходимая для победы. Исключение составляли добровольческие части, но армия не могла состоять только из них, тем более что им большевики противопоставляли сотни тысяч регулярных войск Красной армии.
Если обычно на фронтах не гражданской войны неудача деморализовала войска, порой весьма надолго, то на гражданской войне малейшее, иногда само по себе несущественное поражение влекло за собой тяжёлые, уже непоправимые последствия. «Психология — вот что царило, господствовало на гражданских фронтах», — делает вывод Б. Соколов и иллюстрирует это положение типичным примером. Народная армия наступает. Успех ей сопутствует. Сотни разбивают тысячи, десятки тысяч. Как результат победы, отовсюду текут добровольцы. Подвозятся припасы. Но вот неудача. Небольшое отступление — и всё кончено. Армия перестаёт существовать. Белые солдаты массами переходят к красным. Население, напуганное грядущим приходом большевиков, перестаёт давать подводы, прячет провиант, получается картина полного разгрома{382}.
Всё это пережила армия Юденича. Контрудар, нанесённый ей усилиями красного Петрограда без всякого ослабления других фронтов Гражданской войны, оказался, если судить по последствиям, сокрушительным. Недоумевая, армия пятилась назад. Аза ней тянулись многочисленные беженцы, зачастую с детьми, на измученных лошадях, в товарных вагонах без печей. Спрос на «крылатки» в Эстонии полностью прекратился. Имея на руках только эти новые деньги, беженцы и военные оказались в бедственном положении. Многие умирали, обессиленные голодом, холодом, болезнями. Их муки и смерть ухудшали и без того тяжёлое нравственное состояние армии, страдавшей из-за развала хозяйственной части от недоедания и лишений. Эстонские правительственные части также были деморализованы и в беспорядке отступали.
К середине ноября Красная Армия овладела Ямбургом. В связи с провалом планов захвата Петрограда и Ингерманландии с повестки дня была снята и программа создания финляндско-эстонской унии. Ввиду крайне неустойчивого международного положения Эстонии эта идея и раньше не находила особенно широкой поддержки в политических кругах Финляндии. Даже один из идеологов «Великой Финляндии» генерал Маннергейм считал, что Финляндию никак нельзя ставить в один ряд с возникшими после Первой мировой войны прибалтийскими государствами{383}.
Но и после потери Ямбурга 2-я и 3-я дивизии продолжали вместе с эстонскими частями упорно обороняться на позициях перед Нарвой в условиях яростных атак отборных частей большевиков, которые устраивали в день до 17 лобовых атак. 4-я и 5-я дивизии держали оборону у деревни Криуши. Остальные части отошли в глубокий тыл и были разоружены эстонцами.
Успешное контрнаступление Красной Армии резко изменило отношение эстонского правительства к пребыванию Северо--Западной армии на эстонской территории. На фоне смены побед поражениями (конец октября 1919 г.) среди эстонского населения нарастает враждебность к отступавшей русской белой армии и тянувшимся за нею многочисленным беженцам. Сказывалась и не прекращавшаяся тайная большевистская агитация: мол, во всём виноваты «северо-западники», из-за их присутствия в Эстонии и упорства откладывается мир с Советской Россией, а эстонский солдат вынужден проливать кровь. Эстонцы начинают враждебно коситься на русских солдат. Бранное слово «куррат» (по-эстонски — чёрт) в их адрес звучит на каждом шагу. В условиях нараставшей враждебности эстонцев русский воин переставал понимать, зачем помогать эстонцам при обороне Нарвы. Борьба бок о бок с ними теряла для него всякий смысл. Бывали случаи, когда, прижатые красноармейцами к эстонской границе, «белые» натыкались на эстонские пулемёты, оказываясь буквально между двух огней.
При переходе линии фронта солдаты и офицеры армии Юденича были полностью разоружены и лишены знаков отличия. Кроме того, эстонцы грабили без всякого зазрения совести отступавшие на эстонскую территорию русские белогвардейские части, совершенно открыто «изымали» личное имущество, отнимали обозы, растаскивали снаряжение. Захвачено было также всё вооружение, все склады военного имущества Северо-Западной армии, множество вагонов и паровозов{384}.
Но ещё хуже было положение беженцев и их детей, замерзавших в снегу перед проволочными заграждениями Нарвы, куда им не давали доступа. Документом того времени может служить статья в газете «Свободная Россия» от 25 ноября 1919 г. под названием «Побольше сердца». В ней корреспондент выражает прямую укоризну в адрес эстонцев и взывает к чувству простой человечности: «…Люди мёрзнут за проволочными заграждениями, а невдалеке поблёскивает весёлыми огоньками город, дымятся трубы… Да, обидно и тяжело наблюдать за страданиями несчастных людей, лишённых крова, превратившихся в бездомных скитальцев. И то бесчувственное отношение, какое наблюдается со стороны людей, находящихся в тепле и уюте, служит отнюдь не к единению, а к созданию дальнейшей розни и затаённой обиды. Остановитесь, подумайте — ведь все мы люди, никто из нас не застрахован от несчастий в гражданской войне. Побольше сердца, побольше человечности — ведь там, за проволочными заграждениями, мрут дети, гибнут молодые жизни. Вам неприятен наплыв чужестранцев… — верю, но бывают моменты, когда простая человечность требует от нас небольших лишений. Помогите, граждане свободной Эстонии, русским страдальцам — будущая Россия оценит вашу помощь и не забудет её…» Позже и беженцев пустили за проволоку, но и тогда, как с горечью восклицает бывший министр бывшего Северо-Западного правительства Василий Горн, сколько было пережито страданий, сколько пролито слёз!{385}
Между тем эстонские коммунисты продолжали борьбу за заключение мира с РСФСР. Важным средством борьбы стали организованные Эстляндским ЦК Компартии антивоенные стачки, начавшиеся 7 ноября выпуском воззвания к эстонским трудящимся — «Организуем стачку в защиту Красного Петрограда!.. Пусть ни один историк никогда не сможет сказать, что эстонский рабочий класс, приниженный и устрашённый, смотрел со стороны, как осуществлялся кровавый поход против красного Питера». Особенно широкий размах стачечное движение приняло в ноябре в Таллине. Забастовка железнодорожников, начавшаяся 13 ноября с предъявления экономических требований правительству, быстро переросла во всеобщую политическую стачку, в которой участвовало 5500 рабочих. Для того времени эта цифра была действительно очень большой, поскольку в условиях немецкой оккупации и белого террора работы лишились девять десятых рабочих Таллина. Вместо 40–50 тыс. рабочих в 1917 г. в ноябре 1918 г. в Таллине и его окрестностях было занято лишь 4–5 тыс. рабочих. Целью стачки являлось принудить буржуазное правительство заключить мир с Советской Россией. Всеобщая стачка длилась до 24 ноября, а на заводе «Двигатель» и некоторых других предприятиях — до 29 ноября. В истории эстонского рабочего движения она была одной из самых крупных и продолжительных. Новому правительству Я. Тыниссона, начавшему свою деятельность 19 ноября, удалось заставить бастующих прекратить стачку путём массовых увольнений, арестов, мобилизации в армию. В то же время в ходе этой стачки правительство Эстонии приняло решение начать мирные переговоры с Советской Россией.
Стремление РСФСР к заключению мира с Эстонией осложнялось не только действиями государств Антанты и воинственной клики эстонской буржуазии во главе с Лайд онером, но и позицией «левых» коммунистов как в эстонской партийной организации, так и в РКП(б). Так, Троцкий и его единомышленники считали, что мир с буржуазной Эстонией одновременно означал бы «классовый мир» с буржуазией. После разгрома Юденича Л. Троцкий предложил отказаться от дальнейших усилий по заключению мира с Эстонией и дать приказ Красной Армии, перейдя этнографическую границу Эстонии, продолжить наступление. В.И. Ленин осудил этот план и согласился с позицией наркома по иностранным делам Г.В. Чичерина. В своём письме Ленину нарком подчёркивал: «Надо всё сделать, чтобы избежать вторжения в Эстляндию. Это резко изменило бы настроения во всех маленьких государствах, с которыми мы ведём или собираемся вести переговоры, и сорвало бы эти соглашения, так как везде воскресло бы представление о нашем якобы империализме… Эстонская военная партия была бы рада, если бы ей дали повод опять раздуть патриотический военный пыл крестьянства и мещанства против нас. Мы не должны лезть в эту западню»{386}.
В конечном счёте решающие победы Красной Армии на фронтах Гражданской войны, активная борьба эстонских коммунистов за подписание мира, рост антивоенных настроений среди населения Эстонии, а также местные интересы эстонской буржуазии, не вписывающиеся полностью в стратегию государств Антанты, заставили правительство Тыниссона, несмотря на запрещение союзников, возобновить 5 декабря 1919 г. в Тарту мирные переговоры с Советской Россией. Не последнюю роль сыграли и усилия советской внешней политики. Позднее премьер-министр Эстонии О. Штрадман признался в Учредительном собрании: «Стало явным, что большевики — единственная политическая партия в России, которая осмелилась открыто заявить о своей готовности предоставить отдельным народам независимость. Это обещание большевиков, хотя и с оглядкой, пришлось учесть»{387}.
В то время как командование Северо-Западной армии изыскивало способы для продления существования армии и дальнейшей борьбы, эстонское руководство готовилось к заключению мирного договора с Советской Россией. В качестве обязательного условия мирного договора советская сторона выдвинула окончательную ликвидацию Северо-Западной армии. Перемирие между РСФСР и Эстонией начало действовать с 3 января 1920 г. А уже 10 января эстонское правительство направило союзникам ноту о том, что финансовое положение больше не позволяет Эстонии держать белые войска генерала Юденича. Ясность в ситуацию внесли премьер-министр Эстонии Тыниссон и министр внутренних дел Гелат, заявившие, что Северо-Западное правительство и русская армия с потерей собственной территории, должны ликвидироваться, а все перешедшие за эстонскую границу (т.е. за линию фронта) русские воинские части, включая тысячи беженцев, будут впредь рассматриваться как беженцы-иностранцы. Их питание возьмут на себя союзники, а Эстония направит на лесные и торфяные разработки.
22 января последовал приказ Юденича о расформировании Северо-Западной армии. Через два дня после приказа начала действовать Военная ликвидационная комиссия во главе с генерал-лейтенантом П.Ф. фон Глазенаппом. Юденич посчитал свою роль в кампании законченной и уже 28 января 1920 г. собирался отбыть на пароходе «Посейдон» в Гельсингфорс. Однако в ночь на 28 января он был арестован группой лиц под предводительством Булак-Балаховича и посажен в поезд, направлявшийся к границе с Россией.
Существует несколько объяснений причин этой специальной операции. По версии современного российского историка А.В. Фоменко, эстонское правительство стремилось осуществить согласованный с советской стороной план: выдать Н.Н. Юденича и офицеров его армии красным. И только из-за вмешательства французской и английской военных миссий, а также американских дипломатов этот план не удалось реализовать{388}.
Согласно версии М.В. Владимирского, причиной такой операции были «деньги Колчака», находившиеся в распоряжении Юденича, которые эстонцы намеревались изъять. Разработал операцию министр внутренних дел А. Геллат. Её исполнителями стали партизанский лидер Балахович, тяготевший к эстонской армии (ему помогали несколько офицеров его отряда), бывший военный прокурор Р.С. Ляхницкий и трое эстонских полицейских. В случае провала операции предусматривалось свалить всю вину на Балаховича, который якобы пытался добиться от Юденича чека в 100 тыс. фунтов стерлингов лишь для себя и своего отряда.
Как только в поезде, двигавшемся в сторону российской границы, Юденич пообещал оставить эстонцам деньги на ликвидацию Северо-Западной армии, пункт назначения был сразу изменён и поезд проследовал обратно в Ревель. Здесь в помещении английской военной миссии в присутствии офицеров союзных миссий и руководства Северо-Западной армии Юденич передал чек на 227 тыс. фунтов стерлингов и 250 тыс. финских марок — правда, не эстонцам, а главе Ликвидационной комиссии фон Глазенаппу. При этом он дал расписку, в которой заверял, что «больше у него денег для обеспечения Северо-Западной армии нет». Такой исход дела, по-видимому, удовлетворил эстонскую сторону, поскольку 4 февраля было принято постановление разрешить Юденичу выезд из пределов Эстонской республики. Юденич вместе с супругой отправился в Париж, а затем на Лазурный берег Франции. Здесь на приобретённой ферме в окрестностях Ниццы он прожил до самой смерти (5 октября 1933 г.)[112].
Известно, что отъезду Юденича во многом способствовали англичане. Конечно, Юденич едва ли мог бы что-то изменить в судьбе Северо-Западной армии. В то же время, как считала часть подчинённых бывшего главнокомандующего, он мог бы спасти от смерти и унизительных лишений много русских людей — своих соратников по «белому делу».
Общее число офицеров и солдат Северо-Западной армии вместе с беженцами, по оценкам эстонских историков, составляло 50–60 тыс. человек. Все они были оставлены на произвол судьбы. На территорию Эстонской Республики пускали отнюдь не всех. В голодной, разутой, страдавшей от холода Северо-Западной армии, а также среди беженцев началась эпидемия тифа. Тифозные больные умирали тысячами, их не успевали хоронить в братских могилах. Немногим лучше была судьба тех русских воинов, которых разоружили и отправили в карантины на северо-востоке Эстонии. Они, как и беженцы, страдали от отсутствия всего самого необходимого. С марта 1920 г., когда эпидемия тифа пошла на спад, эстонские власти начали их отправлять на принудительные работы на лесоповал и торфяные разработки. В такой обстановке прежние союзники эстонского правительства по борьбе с Советской Россией предпочитали покидать Эстонию, тем более что власти стали прибегать к их административной высылке, в частности из Таллина. Солдатский состав северо-западной армии возвратился в Советскую Россию, а значительная часть офицеров и беженцев двинулась дальше на Запад. По состоянию на 1 марта 1921 г. в Эстонии ещё находились 20 тысяч русских беженцев и воинов бывшей северо-западной армии{389}.
Современный эстонский историк Р. Розенталь (г. Таллин), исследовавший влияние действий северо-западной армии на ход войны за независимость Эстонии, пришёл к выводу, что с мая 1919 г. это влияние было решающим{390}. По его мнению, без майского наступления северо-западной армии военные действия на советско-эстонском фронте развёртывались бы во многом иначе. Во всяком случае, не удалось бы отодвинуть военные действия так далеко за границу Эстонии. А это побудило большевиков искать мира с Эстонией и согласиться на её независимость. Добавим, что в сложившейся ситуации эстонское руководство было объективно заинтересовано в победе красных в Гражданской войне. Дождавшись, когда определится победитель, оно выполнило главное условие большевиков: разоружило северо-западную армию, нанеся своему бывшему союзнику смертельный удар в спину. Эстонцы поступили очень прагматично, понимая, что офицеры и солдаты северо-западной армии не сочувствовали их стремлению к независимости. Правы ли они были в этом своём прагматизме? В истории достаточно примеров, свидетельствующих, что мораль редко идёт в ногу с политикой. Во всяком случае, можно говорить о том, что на эстонскую независимость всё же падает тень трагедии северо-западной армии, равно как и личной трагедии её солдат и офицеров.
VIII. 14. Условия Тартуского (Юрьевского) мира
Мирные переговоры между Советской Россией и Эстонской Республикой закончились подписанием 2 февраля 1920 г. Тартуского мирного договора. Этот договор предусматривал прекращение военных действий между сторонами, разоружение всех русских белогвардейских частей и немедленный вывод вооружённых сил иностранных государств, в том числе и английского флота, из Эстонии и эстонских территориальных вод. Советская Россия безоговорочно признавала независимость и суверенитет Эстонии и отказывалась от всех прав в отношении её территории и народа. По Тартускому (Юрьевскому) мирному договору к Эстонии отошли: 1) пять уездов Лифляндской губернии (её северная часть) — Веросский, Перновский, Феллинский, Эзельский и Юрьевский, а также часть Валгаского уезда с городом Валга (южная часть этой губернии отошла к Латвии); 2) Эстляндская губерния в составе четырёх уездов — Ревельского, Вейзенбергского, Вейзенштейнского и Гапсальского; 3) часть Петроградской губернии — город Нарва и три волости Ямбургского уезда, которые были присоединены к Вейзенбергскому уезду бывшей Эстляндской губернии; 4) часть Псковской губернии — город Печоры и пять волостей Островского уезда{391}. Советское правительство согласилось на прохождение советско-эстонской границы по линии фронта, и потому в пределах буржуазной Эстонии остались части территории Петроградской (с Нарвой) и Псковской губерний с русским населением. В ноябре 1944 — январе 1945 г. Российской Федерации были возвращены территории, населённые преимущественно русским населением: три волости Вирумаского (Нарвского) уезда (отошли к Ленинградской области) и девять волостей Печорского уезда (отошли к Псковской области){392}, за исключением Нарвы.
Особо следует сказать о Нарве — одном из крупнейших промышленных центров Российской Прибалтики со смешанным русским и эстонским населением. В Российской империи Нарва никогда не входила в состав Эстляндии. Правда, советское правительство признало Эстляндскую трудовую коммуну на территории, в которую была включена и Нарва. Кроме того, в условиях Гражданской войны в Нарве размещалось правительство первого Эстонского социалистического государства. Этими обстоятельствами можно объяснить оставление Нарвы в составе Советской Эстонии при принятии решения в 1944–45 гг. В то же время нельзя не отметить, что практика национально-территориального размежевания на пространстве бывшей Российской империи, которую осуществляли большевики за счёт исторических российских земель, идя навстречу неоправданным территориальным вожделениям малых народов, была не только беспрецедентной в своём роде, но и недальновидной и пагубной для долгосрочных стратегических интересов России. Причём территориальные подарки близким коммунистическим режимам оставались в силе, когда эти режимы свергались и власть переходила в руки потенциальных противников. В этих случаях русская земля служила разменной монетой и заложником революционной целесообразности. В 1919 г. советскому правительству было важно нейтрализовать Эстонию в качестве тыла и союзника Северо-Западной армии Юденича и руками эстонцев ликвидировать белую армию. Эта цель была достигнута путём признания независимости буржуазной Эстонии и уступки ей Нарвы — главного опорного пункта армии Юденича. В результате этой сделки большевиков с эстонской националистической буржуазией из-под армии была выдернута территория, которую она стремилась сохранить как имперскую и русскую, а белые части отдавались на милость бывшему союзнику, который становился хозяином положения и вершителем их судьбы. Кроме признания независимости и уступки территорий с русским населением, Эстония получила 15 млн. рублей золотом из золотого запаса царской России, а также принадлежавшее российской казне движимое и недвижимое имущество в Эстляндии, Северной Лифляндии и на уступавшихся Эстонии территориях Петроградской и Псковской губерний. Эстония была освобождена от уплаты различных внешних долгов, относящихся к дореволюционному времени. Кроме того, Россия согласилась предоставить Эстонии преимущественное право на лесную концессию, площадью в один миллион десятин, и на концессию по постройке прямого железнодорожного пути, соединяющего Москву с одним из пунктов на российско-эстонской границе. В мирном договоре фиксировались также взаимные военные гарантии, например создание временной пограничной демилитаризованной зоны, обязательство не иметь на своей территории враждебных другой стороне войск, групп, организаций и т.п. Предусматривалось также установление экономических связей между Советской Россией и Эстонией. Одновременно проживавшим в РСФСР эстонцам предоставлялось право выезда в Эстонию. В течение 1920–1923 гг. этим правом воспользовались 37,5 тыс. человек, в то же время 155 тыс. эстонцев пожелали остаться в Советской стране.
Уже в день подписания мира, 2 февраля 1920 г., В.И. Ленин подчеркнул его «громадное всемирно-историческое значение». Это был первый мирный договор Советской России с участником антисоветской интервенции. Факт его подписания воспринимался залогом того, что за ним последуют другие мирные договоры, а иностранная военная интервенция потерпит неизбежный крах.
Нарком иностранных дел РСФСР г. В. Чичерин на заседании ВЦИКа 4 февраля 1920 г. обратил внимание на то, что договор с Эстонией стал генеральной репетицией соглашения с Антантой, первым опытом прорыва блокады и первым экспериментом мирного сосуществования с буржуазными странами{393}.
Для эстонских коммунистов договор не означал утраты веры в успех своей борьбы за советскую власть и отказа от революции. В Манифесте Коммунистической партии Эстонии к эстонскому трудовому народу по поводу Тартуского мира говорилось: «Тартуский мир загнал эстонский отряд всемирной контрреволюции в его национальные границы. Это частичная победа международного рабочего класса, которая соответствует нынешнему состоянию его сил. Жизненные интересы эстонских трудящихся и их задачи заключаются в том, чтобы добить контрреволюцию в пределах Эстонии… Мирный договор не означает смены классовой войны классовым миром!»{394}
В.И. Ленин, придерживавшийся аналогичной точки зрения, видел в мирных договорах с государствами национальных окраин России ещё и важное условие расширения там социальной базы сторонников советской власти. Он, в частности, писал: «Именно признанием независимости государств польского, латышского, литовского, эстляндского, финского мы медленно, но неуклонно завоёвываем доверие самых отсталых, всего более обманутых и забитых капиталистами, трудящихся масс соседних маленьких государств. Именно таким путём мы всего вернее отрываем их из-под влияния “их” национальных капиталистов… ведём их к полному доверию, к будущей… Советской республике»{395}.
Говоря о реакции буржуазного лагеря Эстонии, важно отметить, что его представители признавали факт доброй воли советского правительства. Например, министр иностранных дел Я. Поска отмечал: «…При оценке заключённого мира не следует забывать, что большевики пошли на мир в то время, когда у них не было в этом необходимости в военном отношении: Колчак был разбит, Деникин почти разгромлен, и в момент заключения мира у большевиков не было крупного противника, кроме Врангеля, собиравшего свои последние силы на Крымском полуострове»{396}. Вместе с тем признание этого факта вовсе не означало готовности эстонской этнократии к созданию нормальных политических отношений с Советской Россией. Хотя В.И. Ленин заботился о том, чтобы представителем советского государства в Таллине было назначено подходящее лицо, первоклассный работник{397}, этого было явно недостаточно для установления дружественных связей с Эстонией. Решая первостепенную задачу укрепления буржуазной власти в стране, эстонские национальные элиты стремились к совсем другим союзам. На Советскую страну они смотрели с опаской и подозрением, ориентировались на западные державы, не оставлявшие надежды на новую военную интервенцию, и в соответствующем духе промывали мозги «отсталым», «забитым» и «обманутым» трудящимся массам, о завоевании доверия и переориентации которых на будущую Советскую республику думал В.И. Ленин, признавая независимость буржуазной Эстонии.
Послесловие
Как же сказалось на судьбе прибалтийских народов (в первую очередь эстонцев) международное соперничество за достижение торгового и военно-политического господства на Балтике? Почему коренное население осталось вне поля русского цивилизационного притяжения? И какие выводы можно сделать из опыта российской политики на прибалтийской окраине применительно к современности?
Начнём с того, что древние эстонцы и латыши были более молодыми этносами по сравнению со своими соседями и отставали от них в политическом, экономическом, военном и культурном отношениях. Поэтому они неминуемо становились лёгкой добычей для более сильных народов, стремившихся к территориальным приращениям и обогащению.
Ещё не успев соединиться в государственное целое, эстонские племена были данниками древнерусского государства, проложившего от Пскова и Новгорода важный торговый путь к Балтийскому морю. При этом взимание дани не сопровождалось вмешательством в местные дела этих языческих племён, навязыванием русского уклада жизни и православия. На Западной Двине, вдоль которой селились древние предки латышей, господствовали полоцкие князья. Об этом времени сохранились предания, позволявшие русским государям смотреть на прибалтийские земли как на свою «отчину» и «дедину». Однако с вступлением Руси в период феодальной раздробленности и нашествием монголов прежние позиции русских князей на балтийской окраине ослабевали и в образующийся геополитический вакуум хлынули представители германского мира — датчане, шведы, немцы. Последним удалось наложить свой национальный отпечаток на прибалтийские земли.
Эстонцы и латыши имеют длительную и во многом трагическую историю отношений с немцами. Прологом к этой трагедии стало прибытие в Прибалтику вслед за немецкими купцами крестоносцев, которые за относительно короткий промежуток времени (25 лет) крестом и мечом покорили её всю, создав на завоёванных территориях немецкую колонию — Ливонию. Они отняли у покорённых племён землю, собственность, веру отцов и превратили их в своих рабов, обращаясь с ними так же жестоко, как было принято обращаться с рабами в то время. Победители и побеждённые, немцы и ненемцы — вот деление, которое в течение многих веков знал балтийский берег. Первым — все привилегии и богатое кормление от доходов и дани, другим — бесправие и постоянный труд на пользу победителя. Немцы, как они это всегда делали при покорении других народов, уничтожили элиты завоёванных племён, а также самые непокорные элементы в их среде и на столетия затормозили развитие коренных этносов. Из века в век они оставались только рабами немцев, не имея своей истории, своих королей, своей образованной прослойки. Обращение в католичество, а затем в лютеранство было формальным и служило главным образом геополитическому закреплению территории за германским миром.
Однако с той поры, как Прибалтийский край был включён в пределы России, наметилось улучшение в положении местного населения, которое благодаря мощи и силе Российской империи два века не знало войн, не подвергалось риску исчезновению как этноса, как это, например, произошло со славянами Северной Германии, и могло под русской защитой пользоваться плодами культуры.
В целом же, следует признать, улучшение было не одномоментным, а растянутым во времени. Дело в том, что при Петре Великом русские вступили в завоёванные области не под собственным культурным и цивилизационным знаменем, как это делали в старину наши князья и цари, а сохранили здесь прежний остзейский порядок: немецкое управление, немецкий язык, протестантское вероисповедание, заповедные привилегии немецких баронов, включая монопольное право собственности на землю, т.е. согласились с существованием государства в государстве, несмотря на то что остзейский порядок тяготел к германскому миру и работал на обособление Прибалтийского края от России. И это стало первым основополагающим фактором, который сыграет свою роль в процессе отпадения Прибалтики от российской имперской территории.
Сохранение остзейского порядка ставило имперскую власть в сложные отношения с местным населением края, которое оказалось как бы под двойным подданством: немецких баронов и русского императора, причём власть относительно небольшой горстки пришлого немецкого населения была абсолютной благодаря сосредоточению в руках немцев всей собственности края, а также по причине значительного представительства немецкого элемента в российской элите. В этих условиях все упования эстонцев и латышей были направлены на освобождение от деспотического всевластия баронов и переход под непосредственную единодержавную власть русского царя. Баронов ненавидели, перед царём благоговели, связывая с ним надежды на избавление от немецкого невыносимого ярма. Таким образом, предпосылки для племенного срастания края с внутренними губерниями России были налицо, но, так как это движение шло снизу и опорочивалось баронами как бунт, им не спешили воспользоваться. И это был второй факт, который помешает установлению нерушимых связей Прибалтики с Россией.
Вместе с тем при анализе исторических источников нельзя не заметить той постоянной тенденции, которая развивалась вплоть до начала XX в., — тенденции защиты верховным правительством туземного населения от эксплуататорских наклонностей прочно усевшихся здесь немецких колонистов. Если правительство постоянно стремилось к согласованию местных корпоративных привилегий немцев с общегосударственными интересами и требованиями времени, то действия баронов и бюргерства были неизменно направлены на сохранение выгодных для себя порядков любой ценой: будь то показная покорность, уступчивость в мелочах, использование связей в имперских верхах, интриги, обман, противодействие исполнению царских распоряжений на местах и т.п.
Поворотным пунктом в противостоянии мира германского и мира русского в Прибалтийском крае стало массовое движение в православие эстонцев и латышей в Лифляндии в 40-х гг. XIX в. По мнению очевидцев, поддержи верховная власть это движение в полную силу, и весь край был бы православным, а его тяготение к русскому миру — необратимым. Хотя это движение застало врасплох не только правительство, но и баронов с лютеранскими пасторами, последним всё же удалось перехватить инициативу и вначале затормозить это движение, а потом свести его на нет. Немецкий элемент смог отстоять свои интересы благодаря многим обстоятельствам. Это: терпимое отношение к протестантству в правительственных кругах, замедленная и противоречивая реакция верховной власти на религиозные запросы местного населения, слабые позиции Русской Православной Церкви в Прибалтийском крае, незнание русскими священниками местных языков, отсутствие подготовки православных священников для работы в Прибалтийском крае, организационная и кадровая неготовность Церкви справиться с массовым наплывом желающих присоединиться к православию, возведение правительством труднообъяснимых барьеров на пути в православие, свидетельствующее о неадекватности управленческих решений масштабам и потенциалу движения. Со своей стороны немецкие бароны и пасторы сделали всё от них зависящее, чтобы отстоять доминирование лютеранской религии в крае. Эстонцы и латыши столкнулись с такой религиозной нетерпимостью, с такими репрессиями, с таким остервенелым отстаиванием единства и неделимости лютеранско-немецкого геополитического пространства, что их переход в государственную религию можно сравнить с героическим хождением по кругам ада. Верховная же власть, несмотря на формальные распоряжения, не смогла оградить эстонских и латышских страдальцев за государственную религию, а значит, и за русские интересы в крае от репрессий, унижений, экономического давления и бессовестных обвинений. Вынужденный спад движения явился серьёзным поражением русского дела в крае и очередным фактором, который нельзя сбрасывать со счётов при осмыслении процессов, вызвавших потерю для России Прибалтики.
Александр III предпримет решительные меры по укреплению русских позиций в крае. Произойдёт замена немецкого языка на русский в качестве официального, преподавание в школах, гимназиях, Императорском Юрьевском (бывшем Дерптском) университете будет переведено на русский язык, интенсифицируется строительство православных церквей, создание церковно-приходских школ, будет всячески поддерживаться влияние русской культуры на прибалтийскую жизнь через русские периодические издания, организацию гастролей русских оперных и драматических театров, выступлений русских певцов и музыкантов, устройство художественных выставок и т.п. Немцы навесят на русского императора ярлык «русификатора» и постараются убедить эстонцев и латышей с помощью их формирующихся этнонационалистических элит, будто в приобщении к русскому языку, русской культуре и русской духовности на суверенной территории Российской империи есть что-то неприемлемое, унизительное, попирающее национальное достоинство местного населения и ставящее под угрозу перспективы национального развития коренных этносов. И это после восьми веков беспрецедентного немецкого засилья в Прибалтике! Важно отметить, что такое информационно-пропагандистское воздействие немецкого элемента на эстонцев и латышей будет облегчено тем, что остзейский порядок исключал хозяйственное обоснование русских в крае и верховная власть непозволительно долго с этим мирилась. Если остзейцы в своей значительной массе входили в состав российской управленческой, военной, научной, хозяйственной элиты, то для русских, за исключением коронных должностей, тонкого культурного и предпринимательского слоя, такие перспективы на прибалтийской окраине были наглухо закрыты. На обеспеченных русских немцы смотрели как на гостей и дачников, каковыми они в действительности и являлись. Большинство же осевшей в Прибалтике малочисленной русской диаспоры представляло малограмотную (нередко совсем неграмотную) и наиболее бедную часть населения. Она, конечно, не могла выступать проводником влияния русской культуры и русской духовности на коренное население. Эстонцы и латыши хорошо видели разницу между прибалтийским немцем, который оставался полновластным хозяином, сосредоточившим в своих руках все ресурсы края, и русским, оказавшемся на прибалтийской окраине, несмотря на пролитую в многочисленных военных походах кровь предков, на птичьих правах и в крайне унизительном положении. Коренные этносы не могли не видеть и глубокой пропасти между материальным обеспечением немецко-лютеранских церковных, культурных и образовательных учреждений, опиравшихся, помимо поддержки из имперского центра, на хозяйственный и демографический потенциал края, и финансированием соответствующей русской инфраструктуры, развитие которой из-за бедности православной паствы и представителей русской диаспоры осуществлялось в основном за счёт скудных поступлений из государственного бюджета, которых, как правило, не хватало. В этих условиях немецкое пренебрежение ко всему русскому, носящее зачастую пропагандистский и защитный характер, легко передавалось от хозяина к его прежним многовековым рабам. Отстранение русских от полноправного владения богатствами края и отсутствие возможностей для их широкого представительства в управлении, экономике, культуре, образовании, религиозной жизни прибалтийских губерний станет ещё одним фактором, загубившем русское дело в Прибалтике.
П.А.Столыпин разработает программу по повышению образовательного, культурного и профессионального уровня русских в Прибалтийским крае, по их расселению на стратегически важных направлениях, по предоставлению им льготных кредитов, по поощрению русской миграции в Прибалтику. Но для реализации такой программы останется крайне мало исторического времени.
Революция 1905–1907 гг. со всей очевидностью продемонстрирует, что утверждения прибалтийско-немецких баронов, будто остзейский порядок охраняет прибалтийскую окраину империи от народных бунтов и революций, оказались построенными на песке и служили лишь для оправдания своих прав на хозяйничанье в крае. Напротив, жестокий разгул революционной смуты в Лифляндии и Эстляндии показал, что немецкое культуртрегерство и протестантская религия не способны поддержать авторитет русской государственности и воспитать коренное население в имперском духе. Германский мир в лице остзейского порядка произвёл лишь разрушителей традиционной России: революционеровсоциалистов и этнонационалистов. В чрезвычайных условиях иностранной интервенции и Гражданской войны этнонационали-сты, идя на прагматичные контакты то с немцами, то со странами Антанты, то с «белыми», то с «красными» и используя их противоречия в своих интересах, смогут заложить основы национальной государственности, хотя это и произойдёт во временном союзе с Советской Россией, но в конечном итоге — против России как таковой, в любом идейно-политическом обличье.
Если учесть балтийский опыт России применительно к ситуации в современной Российской Федерации, то можно выделить ряд факторов риска.
Во-первых, это доставшееся от большевистской власти административно-территориальное деление РФ, организованное в результате национально-территориального размежевания народов и допускающее неодинаковый статус территорий: от области и края до национальной автономной республики. Существование национальных автономий может в чрезвычайных условиях привести к нежелательному явлению: формированию «государств в государстве», этих оплотов этнонационализма и сепаратизма, что в лучшем случае усилит центробежные тенденции в РФ, а в худшем может привести к распаду России. Хотя автономный статус чрезвычайно выгоден национальным элитам и они всеми силами будут его защищать, это не означает, что не следует исправлять роковые ошибки и просчёты большевиков, уже приведшие к распаду Советского Союза и потере Россией её исторических территорий. В среднесрочной перспективе выход видится в постепенном выравнивании статуса автономных и неавтономных образований на территории РФ.
Во-вторых, дискриминация в автономных республиках русских специалистов при получении престижной и хорошо оплачиваемой работы, а также в карьерном росте, в то время как представители других народов не сталкиваются с аналогичными проблемами за пределами своих автономий. Вытеснение русских из управленческих и инфраструктурных институтов в автономиях усиливает риск образования «государств в государстве». С другой стороны, действительное, а не формальное право русского человека спокойно и безопасно жить и работать в любом регионе созданного его предками государства, не поступаясь при этом ни одним из политических и гражданских прав российского гражданина, будет залогом единства и нерушимости РФ.
В-третьих, развитие тенденции забвения роли и значения русских как имперского государствообразующего народа, что наблюдается в условиях дефицита мер по повышению уровня и качества жизни русского народа, в отсутствии большого дела и великих целей, мобилизующих русских на подвижническую, самоотверженную деятельность, в развёртывании процессов замещения убывающего русского населения мигрантами из Средней Азии, в опасном росте пренебрежительного отношения к русским обычаям, достижениям и культуре среди представителей других народов, населяющих Российскую Федерацию. В последнем факте трудно не увидеть проявления общей тенденции в отношении к русским, русскому языку и русской культуре в бывших союзных республиках, что, к сожалению, не встречает решительного противодействия в РФ и косвенно развязывает руки националистам из числа так называемой титульной нации в автономиях. Утрата русскими необходимого потенциала (управленческого, демографического, морального, культурного, научного и т.п.) для реализации своего проверенного тысячелетней историей государствообразующего назначения приведёт к закату русской цивилизации, ослаблению цементирующих начал в РФ с риском последующего распада.
В-четвёртых, формирование в российском обществе (главным образом в его либеральном и воинствующем атеистическом сегменте) сил, организующих информационно-психологическую войну против Русской Православной Церкви и её Патриарха. И это тем более странно, что повсюду в современном мире религия переживает ренессанс. Во всяком случае, балтийский и сегодняшний опыт показывают, что ослабление позиций РПЦ и терпимое отношение к нападкам на неё с целью дискредитации в глазах паствы и представителей других конфессий подрывает основы российской государственности, плодит армию её сознательных и бессознательных разрушителей, губительно сказывается на русской идентичности с её православным ядром, снижает авторитет РПЦ как участника диалога с другими конфессиями, блокирует объединительные процессы на православном цивилизационном пространстве.
Балтийский опыт Российской империи, а также опыт, связанный с распадом СССР, говорят о том, как важно извлекать уроки из исторического прошлого и своевременно снимать риски, которые под давлением чрезвычайных обстоятельств могут перерасти в угрозы целостности российской территории, «добытой кровью и страданиями нашей истории».
Российская империя не успела устранить риски, связанные с существованием особого остзейского порядка, дискриминировавшего местное население и препятствовавшего цивилизационному срастанию прибалтийской окраины с имперским пространством. Случилось, как казалось, невозможное. Прибалтийский край был утрачен Россией. Вместо него возникли Эстонская и Латвийская республики. Вождь эстонских коммунистов В. Кингисепп определил своё отношение к этим республикам названием и содержанием написанной им книги: «Под игом независимости». Конечно, этот заголовок несёт известный пропагандистский посыл, но и отражение действительного положения вещей в нём, по-видимому, всё-таки присутствует. Но это тема другой работы.
Источники и литература
Документы и материалы
Второй Всероссийский съезд Советов: Сборник документов. М., 1957.
Высочайше утверждённые Правила о производстве дел и ведении переписки на русском языке присутственными местами и должностными лицами Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерний. 14.9.1885 / Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 3. Т. V. 1885.
Документы внешней политики СССР. Т. 1. М., 1957.
Екатерина II Великая: Энциклопедия / Под ред. М.Л. Вольпе. М.: ACT; Зебра Е, 2008.
Иван Грозный: Энциклопедия / Под. ред. М.Л. Вольпе. М.: ACT; Зебра Е, 2007.
Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за сто лет его существования. 1802–1902. Юрьев, 1902.
Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века: Сборник документов и материалов. Тарту, 2000.
История дипломатии: В 3 т. Т. I. M., 1959.
Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 1999.
Поземельная собственность Европейской России 1877–1878 гг. // Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 10. СПб., 1886.
Политические партии России: 1907–1917 гг. (количественный анализ) / Сост. Н.Д. Постников. М., 2001.
Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев: В 5 т. / Составил С.А. Алексеев. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926, 1927.
Русский Исход как результат национальной катастрофы. К 90-летию окончания Гражданской войны на европейской территории России (Москва, 2–3 ноября 2010 г.): Материалы международной конференции. М.: РИСИ, 2011.
Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края (Прибалтийский сборник). Т. I. Рига, 1876.
Указ. соч. Т. II. Рига, 1879.
Указ. соч. Т. III. Рига, 1880.
Указ. соч. Т. IV. Рига, 1882.
Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918 года: Стенографический отчёт. М.; Л., 1962.
Советско-германские отношения: Сборник документов. Т. 1. М., 1968.
Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных по 50 губерниям Европейской России. СПб., 1907.
Христианская цивилизация: Энциклопедический словарь. М.: Лори, 2006.
Царь Иоанн Грозный: Сборник. СПб.: Азбука-классика, 2010.
Книги
Арбузов Л.А. Очерк истории Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. М.: Троица, 2009.
Бегунов Ю. Александр Невский. М.: Яуза; Эксмо, 2009.
Боханов А.Н. Александр III. M.: Вече, 2007.
Боханов А.Н. Царь Иоанн IV Грозный. М.: Вече, 2008.
Боханов А.Н. Российская империя. Образ и смысл. М.: ФИВ, 2012.
Балтийский регион в истории России и Европы. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005.
Гейне Г. К истории религии и философии в Германии. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1958.
Герцен А.И. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8: Избранные публицистические произведения 1853–1869 годов. М.: Правда, 1975.
Гоголевский А.В. Русский либерализм в последнее десятилетие империи. Очерки истории 1906–1912 гг. СПб., 2002.
Гольдштейн И.М. Русско-германский торговый договор и следует ли России быть «колонией» Германии. М., 1913.
Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в. М.: Изд-во МГУ, 1990.
Гредескул Н. А. Россия и её народы. Пг., 1916.
Гумилёв Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. М.: Экопрос, 1992.
Деникин А.И. Очерки русской смуты / Путь русского офицера. М.: Вагриус, 2007.
Загладин Н.В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990.
Зырянов П.Н., Шелохаев В.В. Первая русская революция в американской и английской буржуазной историографии. М., 1976.
Ильин Н.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов: В 2 т. Т. I. M.: МП «Рарог», 1992.
Исаков С.Г. Очерки истории русской культуры в Эстонии. Таллин, 2005.
История Эстонской ССР с древнейших времён до наших дней. Таллин, 1958.
Катков В.Д. Христианство и государственность. М.: ФИВ, 2013.
Кингисепп В. Борьба против иностранных империалистов и их пособников: Сборник статей и листовок. Таллин, 1956.
Кингисепп В. Под игом независимости. Таллин, 1955.
Кони А.Ф. Нравственный облик Пушкина / Собр. соч.: В 8 т. Т. 6: Статьи и воспоминания о русских литераторах. М.: Юридическая литература, 1968.
Ланник Л.В. Царь Иван Грозный. М., 2008.
Литейнов Н.Д. Террористические организации: формирование и деятельность (политико-правовой анализ). М.; Воронеж: ВИ МВД России, 1999.
Лозинский С. История папства. М.: Политиздат, 1986.
Люкс Л. Россия между Западом и Востоком. М.: Московский философский фонд, 1993.
Мультатули П.В. Внешняя политика Императора Николая II (1894–1917). М.: ФИВ, 2012.
Миллер О.Ф. Славянство и Европа. СПб., 1877.
Назарова Т.А. Общественно-политические взгляды Ю.Ф. Самарина. М., 1998.
Немцы в государственности России. СПб., 2004.
Нольде Б. Э. Юрий Самарин и его время. М.: Алгоритм; Эксмо 2003.
Норден А. Уроки германской истории / Пер. с нем. М.: Гос. изд-вс иностранной литературы, 1948.
Очерки истории Коммунистической партии Эстонии. Ч. I. (90-е годы XIX века — 1920 год). Таллин, 1961.
Пилкин В. К. В белой борьбе на Северо-Западе. М., 2005.
Решетников Л.П. Русский Лемнос. М.: ФИВ, 2012.
Решетников Л.П. Вернуться в Россию. Третий путь, или Тупики безнадёжности. М.: ФИВ, 2013.
Романов И., Забоев К, Чернов В. Геополитика России. Стратегия восточных территорий. М.: Институт русской цивилизации, 2008.
Россия и Балтия. Вып. 5. Войны, революции и общество. М.: Наука, 2008.
Русское Православие: вехи истории. М., 1989.
1612. Русское чудо: Сборник. М.: Яуза; Эксмо, 2009.
Российская империя от истоков до начала XIX века. Очерки социально-политической и экономической истории. М.: Русская панорама, 2011.
Рянжин В.А. Кризис буржуазной конституционной законности и восстановление советской государственности в Эстонии. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1971.
Сазонов С.Д. Воспоминания. М.: Международные отношения, 1991.
Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. М., 1996.
Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1997.
Смолин А.В. Белое движение на Северо-Западе России. 1918–1920 гг. СПб., 1999.
Соловьёв Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902–1907 гг. Л., 1981.
Страны Балтии и Россия: Общества и государства. М.: Референдум, 2002.
Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Вехи. М., 1990.
Струве П.Б. Patriotica. M., 1997.
Субботин Ю.Ф. Россия и Германия: партнёры и противники (торговые отношения в конце XIX в. — 1914 г.) М, 1996.
Тихомиров Е. Первый царь московский Иоанн IV Васильевич Грозный / Царь Иоанн Грозный. М.: Новая книга, 1995.
Тихомиров Л.А. Христианское государство и внешняя политика. М.: ФИВ, 2012.
Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1917–1918. Формирование и эволюция политических структур Белого движения в России. М., 2008; Белое дело в России. 1919. Формирование и эволюция политических структур Белого движения в России. М., 2009.
Чичерин Г. В. Статьи и речи по вопросам международной политики. М., 1961.
Чулков Г.И. Императоры: Психологические портреты. М.: Московский рабочий, 1991.
Шахмагонов Н.Ф. Храни господь Потёмкина. М.: Товарищество советских писателей, 1991.
ШишовА.В. Генерал Юденич. М., 2002.
Шнепс-Шнеппе М. Немцы в России. Мятежный род Баллодов между немцами, евреями и русскими. М.: Алгоритм, 2011.
Эсты и латыши, их история и быт. М., 1916.
Юденич Александра. Белая борьба на Северо-Западе России. М., 2003.
Von Bronsted M. Die Russische Kirche in Livland unter Nikolaus I. Berlin, 1888.
Fesser O. Reichskanzler Fürst von Btilow. Architekt der deutschen Weltpolitik. Leipzig, 2003.
Fischer F. Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914. Düsseldorf, 1969.
Haumann H. (Hg.) Die Russische Revolution 1917. Köln: Bohlau Ver-lag, 2007.
Kappeler A. Russland als Vielvolkerreich. Entstehung. Geschichte. Zerfall. Munchen, 1993.
Laue Th. von. Why Lenin? Why Stalin?: A Reappraisal of Russian Revolution. Philadelphia — N. Y., 1964.
Militzer K. Die Geschichte des Deutschen Ordens. Stuttgart, 2005.
Pfianze O. Bismark. Der Reichskanzler. München, 1998.
Pistohlkors G. von. Ritterschaftliche Reformpolitik zwischen Russifizierung und Revolution. Göttingen — Frankfurt am Main — Zurich, 1978.
Schild W. Folter, Pranger, Scheiterhaufen. München: Bassermann Verlag, 2010.
Статьи
Андреев А. Н. Православно-протестантские отношения в России в XVIII в. // Вопросы истории. 2012. № 8. С. 83–93.
Андреева Н.С. «Остзейский вопрос» и Первая мировая война // Россия и Балтия. М.: Наука, 2002. Вып. 2. С. 26–47.
Андреева Л.А., Элбакян Е.С. Отношение к духовенству сословий и социальных групп Российской империи (начало XX в.) // Социологические исследования (Социс). 2011. № 10. С. 69–80.
Базанов С.Н. «Смелость, какая присуща только большим полководцам» // Военно-исторический журнал. 2012. № 7. С. 34–55.
Бахтурина А.Ю. П.А. Столыпин и управление окраинами Российской империи // Российская история. 2012. № 2. С. 108–119.
Бачинин В. Мартин Лютер о свободе и рабстве воли. К интеллектуальной истории Реформации // Свободная мысль. 2012. № 3–4. С. 130–139.
Брюггеманн К. Новейшая историография истории Прибалтийских губерний в составе Российской империи (XVIII — начало XX в.): от старых стереотипов к новому осмыслению // Россия и Балтия. М.: Наука, 2004. Вып. 3. С. 220–245.
Буранок А. Русско-японская война в восприятии русского крестьянства//Россия XXI. 2012. № 2. С. 128–159.
Васильева Л.Н. Элита или эрзац-элита: эпоха Новой Реформации // Социально-гуманитарные знания. 2012. № 2. С. 86–98.
Владимирский М.В. Финансовая деятельность Северо-Западного правительства. 1919–1921 гг. // Вопросы истории. 2011. № 4.
Тайда Ф.А. Политическая обстановка в России накануне Первой мировой войны в оценке государственных деятелей и лидеров партий // Российская история. 2011. № 6. С. 123–133.
Герман А.А. Исторический феномен республики немцев Поволжья (1918–1941 гг.) // Российская история. 2012. № 4. Июль-август.
Горбатюк Е.С. Российское самоуправление: Аналитический обзор // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2011. Вып. 1.
Дьяконова И.А. Россия и Прибалтика: актуальность исторического изучения проблемы // Россия и Балтия. М.: Наука, 2004. Вып. 3. С. 6–14.
Задохин А. Г. Русское национальное сознание и внешняя политика России // Обозреватель — Observer. 2012. № 8. С. 9–19.
Ибнеева Г.В. Образ Екатерины II в ранних сочинениях И.Г. Гердера // Россия и Балтия. М.: Наука, 2006. Вып. 4. С. 7–15.
Котов Б.С. Русско-германские торговые отношения накануне Первой мировой войны в оценке русской прессы // Вопросы истории. 2012. № 2. С. 104–118.
Кисляков А.С. Формирование национальных партий на западных окраинах Российской империи. Конец XIX — начало XX в. // Вопросы истории. 2011. № 11. С. 135–142.
Кудрина Ю. Ф.М. Достоевский, император Александр III и русская идея // Свободная мысль. 2012. № 7–8. С. 113–124.
Майоров М.В. Историческое прошлое и внешняя политика России // Новая и новейшая история. 2012. № 2. С. 104–125.
Макаренко П. В. Большевики и Брестский мир // Вопросы истории. 2010. № 3. С. 3–18.
Миронов Б.Н. Русские революции начала XX века: уроки для настоящего // Политические исследования. 2011. № 5. С. 33–47.
Мусаев В.И. Свеаборгское восстание 1906 года и оппозиционное движение в Финляндии // Военно-исторический журнал. 2011. № 9. С. 25–32.
Нефёдов С.А. Истоки революции 1905 года: «Революция извне»? // Вопросы истории. 2008. № 1. С. 47–60.
Полх П. П. Остзейская земледельческая колонизация в Новгородской губернии в конце XIX в. // Балтийский регион в истории России и Европы. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. С. 137–149.
Пономорёв В.В., Хорошилова Л.Б. Рождение университета: сподвижник Ломоносова Иван Иванович Шувалов // Вестник Московского университета. 2011. Сер. 8. История. № 5.
Решетников Л.П. Духовно-нравственные причины национальной катастрофы: уроки истории // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2011. № 2. С. 56–67.
Розенталь Р. Влияние действий белогвардейской Северо-Западной армии на ход войны за независимость Эстонии (1918–1920) // Россия и Балтия. М.: Наука, 2008. Вып. 5. С. 113–139.
Романов И.А. «На Восток идут не солдаты, а народ» // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 1. С. 193–197.
Савельев П. Какие партии были в Российской империи? // Россия XXI. 2012. №2. С. 92–127.
Сысоева Е.К. Век XVIII — веку XX: из истории российского народного образования // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2011. №5.
Фельдман М.А. Гражданская война в России: две проблемы историографии // Вопросы истории. 2012. № 2. С. 166–173.
Филюшкин А. Начало конца. Последняя война северных крестоносцев // Родина. 2011. № 6. С. 92–94.
Черников И.Д. Землевладение прибалтийских губерний во второй половине XIX — начале XX в. // Балтийский регион в истории России и Европы. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. С. 130–136.
Шубина Ф.Н. Формирование «образа врага» и отношение к российским немцам в годы Первой мировой войны // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2011. № 4. С. 119–130.
Benrisch S. Hauen und Rechnen. Wie das Ritterleben wirklich war: Eine grosse Doppelausstellung in Nürnberg und Berlin zeigt die Burg als Macht- und Zauberwort // Die Zeit. 2010. 1. Mi. S. 19.
Bremm Klaus-Jtirgen. Poltava 1709. Schwedens vernichtende Nieder-lage gegen Zar Peter III. Osterreichische Militarische Zeitschrift. 2011. №1. S. 62–66.
Dworschak M. Die Erfmder Gottes // Der Spiegel. Nr. 52. S. 112–123.
Greiner U. Gott, was meinen Sie dazu?// Die Zeit. 2012. 18. Oktober. S.45.
How Luther went viral//The Economist. 2011. December 17th. P. 63–65.
Hqfbauer M. Schlacht bei Tannenberg 1410 // Militargeschichte. Zeitschrift für historische Bildung. 2010. Nr. 2. S. 22–23.
Wiegrefe K., Altenhoher F. Revolutionar Seiner Majestat // Der Spiegel. 2007. Nr. 50. S. 34–48.
Thadeusz F. Often für Gualen // Der Spiegel. 2010. Nr.43. S. 178.
Von Salisch M. «Denn die Hand, die das Schwert führt, ist Gottes Hand». Martin Luhers «Kriegsleuteschrift» von 1526 // Militargeschichte. Zeitschrift für historische Bildung. 2010. Heft 4. S. 4–7.
1
Манн Т. Иосиф и его братья. М.: Правда, 1991 С. 29.
2
Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Повести М. Правда, 1980 С. 32.
3
Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 32.
4
Более подробно о быте эстонцев и латышей см.: Рихтер. Прибалтийский край и его население до прибытия немцев // Сборник статей и документов по истории Прибалтики (далее — Прибалтийский сборник). Т. I. Рига, 1878; Ливонская летопись Франца Ниенштедта// Прибалтийский сборник. Т. III. Рига, 1880.
5
Арбузов Л.А. Очерк истории Лифляндии, Эстляндии и Курляндии (Пер. с нем. В. Бука). Москва: «Троица», 2009. С. 15.
6
При подготовке данного параграфа использовалась статья Бунге Ф.Г. «Орден меченосцев»: Baltische Geschichtsstudien von Dr. F.G. Bunge, 2-te Lieferung. Der Orden der Schwertbruder: dessen Stiftung, Verfassung und Auflesung Leipzig, 1875.
7
Цит. по: Прибалтийский сборник. Т. I. С 24.
8
Прибалтийский сборник. Т. II. От издателя. С. V.
9
Бегунов Ю. Александр Невский М: Яуза; Эксмо, 2009. С. 52.
10
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 333-334
11
К истории крестьянского сословия в Прибалтийском крае // Прибалтийский сборник. Т. II. С. 527
12
Цит. по: История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней). Таллин, 1958 С. 77 Далее: История Эстонской ССР.
13
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 77.
14
Указ соч. С. 78.
15
Hofbauer M. Schlacht bei Tannenberg 1410 // Militargeschichte für historische Bildung. 2010. N 2. S. 23.
16
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова. Примечание переводчика // Прибалтийский сборник. Т. 1 С 302
17
Там же. С 302
18
Цит. по: Ливонская хроника Бальтазара Рюссова. Примечание переводчика // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 303.
19
Лозинский С.Г. История папства. М.: Политиздат, 1986 С. 201, 225 — 229.
20
The Economist. 2011. December 17th. P. 64.
21
Гейне Г. К истории религии и философии в Германии. Соч. Т. 6. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1958. С. 42.
22
Лозинский С.Г История папства. М.: Политиздат, 1986. С. 227, 229.
23
The Economist. 2011. December 17th. P.64.
24
Прибалтийский сборник. Т.III. Рига, 1880. С. 111-113.
25
The Economist. 2011. December 17th. P.65.
26
Von Salisch М. Martin Luthers «Kriegsleuteschrift von 1526 // Militargeschichte. Zeitschrift für histonsche Bildung. 2010. N 4. S. 4-7.
27
См.: Бачинин В. Мартин Лютер о свободе и рабстве воли // Свободная мысль. 2012. №3-4. С. 131-132.
28
См.: Васильева Л.Н. Элита или эрзац-элита: эпоха Новой Реформации // Социально-гуманитарные знания. 2012. № 2. С. 89.
29
Соловьёв Э.Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. С. 120.
30
Гейне Г. К истории религии и философии в Германии. С. 36, 37,45, 46, 50.
31
21-й вероисповедный пункт лютеранской Церкви // Прибалтийский сборник. Т.III. Рига, 1880. С. 119.
32
Христианская цивилизация: Энциклопедический словарь. М.: Лори, 2006. С. 250, 576-578, 729-730.
33
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 422-423.
34
Гейне Г. К истории религии и философии в Германии. С. 91.
35
Там же С 45.
36
Там же. С. 42-43.
37
Андреев А.Н. Православно-протестантские отношения в России в XVIII в. // Вопросы истории. 2012. № 8. С. 83-93.
38
Вильгельм Брахман. Реформация в Ливонии // Прибалтийский сборник Т. III. Рига, 1880. С. 24, 25,45.
39
Вильгельм Брахман Реформация в Ливонии // Прибалтийский сборник. Т.III. С. 42.
40
Kron. Melchior Hofman und die Secte der Hofmannianer. Leipzig, 1758. S. 5.
41
Вильгельм Брахман. Реформация в Ливонии // Прибалтийский сборник. Т. III. С. 54.
42
Более подробно см.: Вильгельм Брахман. Реформация в Ливонии // Прибалтийский сборник. Т. III. С. 15-105.
43
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова. От переводчика // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 159.
44
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 162
45
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 319-332.
46
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т. I. С 334.
47
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 260.
48
Курбский А. История о великом князе Московском // Иван Грозный: Энциклопедия / Под ред. М.Л. Вольпе. М.: Зебра Е, 2007. С. 350.
49
Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в. Изд-во Московского университета, 1990. С. 69.
50
Цит. по: Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Вместо послесловия. Иоанн Васильевич Грозный // Царь Иоанн Грозный: Б. Федоров. Князь Курбский. Е. Тихомиров. Первый царь московский Иоанн IV Васильевич Грозный. Исторические романы. — М.: Новая книга, 1995. С. 562.
51
Соловьёв СМ. История России с древнейших времён // Царь Иоанн Грозный. Сборник. СПб: Азбука-классика, 2010. С. 201.
52
Иван Грозный. Письмо Курбскому // Царь Иван Грозный. Энциклопедия / Под ред. М.Л. Вольпе. — М.: ACT; Зебра Е, 2007. С. 263.
53
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 343
54
Цит. по: Виппер Р.Ю. Иван Грозный // Царь Иоанн Грозный: Сборник. — СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 343.
55
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 357.
56
См. Виппер Р.Ю. С. 345.
57
Иван Грозный. Второе послание Курбскому // Иван Грозный: Энциклопедия. М.: Зебра Е, 2007. С. 404.
58
Цит по: Виппер Р.Ю. С 419.
59
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т. III. С. 204.
60
Макарий, Митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Т. 4. Ч. 1. С. 195.
61
См.: Платонов С.Ф. Из книги «Лекции по русской истории // Царь Иоанн Грозный: Сборник. СПб. Азбука-классика, 2010 С. 437.
62
См.: Боханов А.Н. Царь Иоанн IV Грозный. М.: Вече, 2008. С. 4 — 5.
63
Иван Грозный. Письмо Андрею Курбскому. С. 263, 296.
64
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории // Царь Иоанн Грозный: Сборник. СПб., 2010. С. 441.
65
Wolfgang Schild. Folter, Pranger, Scheiterhaufen. Muenchen: Bassermann Verlag, 2010.
66
Иван Грозный. Письмо Андрею Курбскому // Иван Грозный: Энциклопедия / Под ред. М.Л. Вольпе. М.: ACT; Зебра Е, 2007. С. 270-272, 277, 280, 304.
67
См. Ланник Л.В. Царь Иван Грозный. М.: Мир книги, 2008. С. 204.
68
Иван Грозный. Письмо Курбскому. С. 263.
69
Там же С. 285.
70
Виппер Р.Ю. С. 352.
71
Платонов С.Ф. Очерк истории внутреннего кризиса и общественной борьбы в Московском государстве XVI и XVII веков // Русское чудо; сборник. М., 2009 С. 26-27.
72
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Вместо послесловия / Царь Иоанн Грозный. М.: Новая книга, 1995. С. 587.
73
Там же. С. 587.
74
Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в. Изд-во Московского университета, 1990. С. 91.
75
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т.III. С. 205.
76
Карпец В. Битва за историю // Завтра. Декабрь 2011. № 52. С. 8.
77
Записки курляндского герцогского гофрата Лаврентия Миллера о временах Стефана Батория // Прибалтийский сборник. Т. IV. С. 126
78
Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Прибалтийский сборник. Т. III. С. 237.
79
Ливонская летопись Франца Ниенштедта, бывшего рижского бургомистра и королевского бургграфа // Прибалтийский сборник. Т. IV. С. 51.
80
Боханов А.Н. Царь Иоанн Грозный. М.: Вече, 2008. С. 146.
81
Цит. по. Библиотека литературы Древней Руси. Т. II. СПб., 2001. С. 166.
82
Цит. по: История Эстонии. С. 116.
83
Записки курляндского герцогского гофрата Лаврентия Миллера… // Прибалтийский сборник. Т. IV. С. 137.
84
Боханов А.Н. Царь Иоанн IV Грозный. М.: Вече, 2008. С. 149.
85
Цит. по: Воейков Н.Н. Церковь, Русь и Рим. Минск, 2000. С. 205
86
Цит. по: Делиус В. Антонио Поссевино и Иван Грозный // Иван Грозный и иезуиты. М., 2005. С. 82–83
87
Выписка из повести о Псково-Печёрском монастыре. О прихождении литовских людей и о победе на них // Прибалтийский сборник Т IV. С. 191
88
Там же. С. 191–192.
89
Записки курляндского герцогского гофрата Лаврентия Миллера о временах Стефана Батория // Прибалтийский сборник. Т. IV С 137.
90
См. Виппер Р.Ю С. 412–414.
91
Записки Миллера // Прибалтийский сборник. Т. ГУ. С. 140.
92
Записки Миллера // Прибалтийский сборник. Т. IV. С. 140.
93
Валишевский К. Иван Грозный. М., 1989. С. 282.
94
Иван Грозный. Письмо Курбскому. С. 304.
95
А.С. Пушкин. Борис Годунов.
96
История Эстонской ССР. T. I. Таллин: Изд-во «Ээсти Раамат», 1974. С. 390.
97
Прибалтийский сборник. Т. I. C.474.
98
История Эстонской ССР. С. 139.
99
К истории крестьянского сословия в Прибалтийском крае // Прибалтийский сборник. Т. II. С. 532.
100
Прибалтийский сборник. Т. II. С. 489.
101
Прибалтийский сборник. Т. II. С. 493, 494.
102
Нольде Б. Юрий Самарин и его время. М: Алгоритм, ЭКСМО, 2003 С. 53.
103
Зутис Я. Остзейский вопрос в XVIII веке. Рига, 1946. С. 91.
104
Цит по: История Эстонской ССР. С. 184–185.
105
Прибалтийский сборник. Т. II. С. 536.
106
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 185.
107
Шнепс-Шнеппе М. Немцы в России. Мятежный род Баллодов между немцами, евреями и русскими. М.: Алгоритм, 2011. С. 42–43.
108
Путешествие императрицы Екатерины 2-й по Эстляндии и Лифляндии в 1764 году // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 564.
109
Тарле Е.В. Екатерина Вторая и её дипломатия: Стенограмма лекции, читанной 7 мая 1945 года. В 2-х ч. Ч. I. M., 1945. С. 19–20.
110
Цит. по: Прибалтийский сборник. Т. III. Рига, 1880. От издателя. С. VI.
111
См.: Пономорёва В.В., Хорошилова Л.Б. Рождение университета: сподвижник Ломоносова Иван Иванович Шувалов // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. С. 73.
112
Леонтович В. Екатерина II // Открытая политика. 1995. № 1. С. 67.
113
Леонтович В. Екатерина II // Открытая политика. 1995. № 1. С. 66.
114
Цит. по: Шахмагонов Н.Ф. Храни Господь Потёмкина. М.: Товарищество советских писателей, 1991. С. 81.
115
Материалы и статьи к истории православия в Прибалтийском крае // Прибалтийский сборник. Т. IV. С. 568.
116
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 179.
117
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 180.
118
Прибалтийский сборник. Т. II. С. 362.
119
Екатерина II Великая: Энциклопедия. — М.: ACT; Зебра Е, 2008. С. 190–191.
120
Прибалтийский сборник. Т. II. С. 361.
121
Записки Нейендаля о временах действия в Риге общего городового положения с 1783 по 1797 год. Второй отдел. От переводчика // Прибалтийский сборник. Т. IV. С. 389.
122
Цит. по: Нольде Б. Юрий Самарин и его время. М., 2003. С. 49.
123
Прибалтийский сборник. Т. II. С. 376, 377.
124
Сиверс и Арсеньев (Эпизод из истории крестьянского вопроса в Лифляндии) // Прибалтийский сборник Т. 1. С. 468.
125
Цит. по: Шнепс-Шнеппе М. Немцы в России Мятежный род Баллодов между немцами, евреями и русскими. М.: Алгоритм, 2011. С. 39.
126
Шнепс-Шнеппе М. Немцы в России. С. 38–40.
127
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 166.
128
Граф Меллин. (Биографический очерк по Юлию Экардту) // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 441.
129
Сиверс и Арсеньев (Эпизод из истории крестьянского вопроса в Лифляндии) // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 507.
130
Mellin A. L. Noch einiges über die Bauemangelegenheiten in Livland. Riga, 1824
131
Граф Меллин (Биографический очерк по Юлию Экардту) // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 447.
132
Сиверс и Арсеньев (Эпизод из истории крестьянского вопроса в Лифляндии) // Прибалтийский сборник Т. I. С. 510.
133
Сиверс и Арсеньев (Эпизод из истории крестьянского вопроса в Лифляндии) // Прибалтийский сборник. Т. I. С. 517.
134
Нольде Б. Юрий Самарин и его время. М.: Эксмо, 2003. С. 50.
135
История Эстонской ССР. С. 218.
136
Лотман Ю.М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Ученые записки ТГУ. Тарту, 1958. Вып. 63.
137
См.. Трифонов С.С Роль идеологий в пространственной экспансии цивилизаций: история, современность и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2011. Серия 6. Выпуск 1. С. 100.
138
Патриарх Алексий П. Православие в Эстонии. М., 1999. С. 148–149.
139
Что побуждало лифляндских латышей и эстов к перемене лютеранской веры на православную, начиная с 1841 года. Из бумаг преосвященного Вениамина, епископа Рижского и Митавского // Прибалтийский сборник. Т. IV. Рига, 1882 С. 569.
140
Что побуждало лифляндских латышей и эстов … // Прибалтийский сборник Т. IV. Рига, 1882. С. 569.
141
Покорнейший рапорт Иринарха, епископа Рижского, Святейшему Правительствующему Синоду от 22 августа 1841 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Ед. хр. 191. Л. 14–21.
142
Цит. по: Ю.Ф Самарин. Православные латыши // Сочинения. М., 1890. Т. 8 С 529
143
Цит. по: Записки священника Андрея Петровича Полякова… От издателя // Прибалтийский сборник. Т. III. Рига, 1880. С. 501.
144
Письмо его Преосвященству Иринарху, епископу Рижскому, от графа Протасова// РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. № 31. Л. 2.
145
Покорнейший рапорт Святейшему Правительствующему Синоду от Иринарха, епископа Рижского// РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Ед. хр. 191. Л. 14–21.
146
Воротин А. Принципы прибалтийской жизни. Ревель, 1891. С. 31–37.
147
Покорнейший рапорт Святейшему Правительствующему Синоду от Иринарха, епископа Рижского // РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Ед. хр. 191. Л. 14–21.
148
Самарин Ю. Сочинения. Т.8. С. 593.
149
Покорнейший рапорт Святейшему Правительствующему Синоду от Иринарха, епископа Рижского // РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Ед. хр. 191. Л. 14–21.
150
Записки священника Андрея Петровича Полякова об Эйхенангерском приходе Вольмарского благочиния. От издателя // Прибалтийский сборник Т III. С. 504–505.
151
Материалы и статьи к истории православия в Прибалтийском крае // Прибалтийский сборник. Т. IV. С. 575.
152
Цит. по: Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. С. 175.
153
Патриарх Алексий П. Православие в Эстонии. С. 179.
154
Записки священника Андрея Петровича Полякова об Эйхенангерском приходе Вольмарского благочиния. От издателя // Прибалтийский сборник. Т. III Рига, 1880. С. 487–488; Записка к секретному рапорту министру внутренних дел Л.А Перовскому от состоящего при министерстве внутренних дел действительного статского советника Липранди // РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Ед. хр. 186.
155
Записки священники Андрея Петровича Полякова… От издателя // Прибалтийский сборник. Т. III. Рига, 1880. С. 489.
156
Записка к секретному рапорту министру внутренних дел Л.А. Перовскому от состоящего при министерстве внутренних дел действительного статского советника Липранди // РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Ед. хр. 186.
157
Из инструкции государя императора Николая I генерал-губернатору Е.А. Головину от 26 апреля 1845 г. // Чтение в Обществе истории древностей российских. 1865. Кн. 3. С. 150–151.
158
Мнение и распоряжения генерал-губернатора Головина по делам присоединения лютеран в Лифляндии к православию // Прибалтийский сборник. Т. IV. С. 589.
159
Цит по: Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. С 190.
160
Доклад министра внутренних дел Л. Перовского его императорскому высочеству государю наследнику цесаревичу //РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Ед.хр. 188. Л. 19–21.
161
Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. С. 196.
162
Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего // Прибалтийский сборник. Т. III. Рига, 1880. С. 106–121.
163
Попечителю Дерптского учебного округа Ев. Бор. Крафтстрему от графа Протасова // РГИА. Ф. 797. Оп. 11. Д. № 29039–6. Л. 15–17.
164
Прибалтийский сборник. Т III. Рига, 1880. С. 513.
165
Цит. по. Прибалтийский сборник. Т. III. Рига, 1880. С. 513–514.
166
Письмо Ю.Ф. Самарина М.П Погодину. Рига, апрель 1848 г. // Нольде Б. Юрий Самарин и его время. М., 2003. С. 487.
167
Von Bronsted M. Die Russische Kirche in Livland unter Nikolaus I. Berlin, 1888 S. 27.
168
Цит. по: Патриарх Алексий II. С. 226.
169
Цит. по: Патриарх Алексий II. С. 226.
170
Патриарх Алексий II. С 221.
171
Патриарх Алексий II. С. 206.
172
Von Bronsted M Die Russische Kirche in Livland unter Nikolaus I. Berlin, 1888. S.26.
173
Рассказ ландрата Гринвальда из истории составления свода местных узаконений Прибалтийских губерний // Прибалтийский сборник. Т IV. Рига, 1882. С. 437.
174
Выписка из всеподданнейшего отчета генерала от инфантерии Головина по управлению Прибалтийским краем с мая 1845 г. по февраль 1848 г. // Прибалтийский сборник. Т. IV. С. 467–468.
175
Выписка из всеподданнейшего отчёта Головина… С. 468.
176
Мнения и распоряжения прибалтийского генерал-губернатора Головина по делам присоединения лютеран в Лифляндии к православию // Прибалтийский сборник. Т. IV. Рига, 1882. С. 586.
177
Мнения и распоряжения прибалтийского генерал-губернатора Головина… С. 584.
178
Мнения и распоряжения прибалтийского генерал-губернатора Головина по делам присоединения лютеран в Лифляндии к православию // Прибалтийский сборник. Т. IV. Рига, 1882. С. 590–592.
179
Подробно о балтийском опыте Самарина см.: Воробьёва Л.М. История Латвии от Российской империи к СССР. М.: ФИВ, 2011. С. 38–42,45–49
180
Брюггеман К. От сословного общества к национальной независимости (1820–1920). М.: Референдум, 2002. С. 124.
181
История Эстонской ССР. С. 249.
182
См.: Садофьева Н.Н. Эстонские переселенцы в Петербургской губернии пореформенного периода (хозяйственное освоение Ямбургского и Гдовского уездов) // Россия и Балтия. М., 2004. Вып. 3. С. 195–209; Полх П.П. Остзейская земледельческая колонизация в Новгородской губернии в конце XIX в. // Балтийский регион в истории России и Европы. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. С. 137–148.
183
Поземельная собственность Европейской России 1877–1878 гг. // Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 10. СПб., 1886. С. 69–70.
184
Статистика землевладения 1905 г.. Свод данных по 50 губерниям Европейской России СПб., 1907. С. 11.
185
Поземельная собственность Европейской России 1877–1878 гг. С. 79; Статистика землевладения 1905 г. С. 11.
186
См.: Черников И.Д. Землевладение прибалтийских губерний во второй половине XIX — начале XX в. // Балтийский регион в истории России и Европы Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. С. 133–135.
187
Поземельная собственность Европейской России 1877–1878 гг. С. 82.
188
Поземельная собственность Европейской России 1877–1878 гг. С. 80–81.
189
Поземельная собственность Европейской России 1877–1878 гг. С. 30–31.
190
Поземельная собственность в Европейской России. 1877–1878. С. 80–81.
191
Кони А.Ф. Нравственный облик Пушкина // А.Ф.мКони. Собрание сочинений Т. 6 Статьи и воспоминания о русских литераторах. М.: Юридическая литература, 1968. С. 43–44.
192
Цит по: Чулков Г.И. Императоры: Психологические портреты. М.: Моск. рабочий, 1991. С. 233.
193
Герцен А.И. Избранные публицистические произведения 1853–1869 годов. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М: Правда, 1875. С. 12–13.
194
Нольде Б. Юрий Самарин и его время. М.: Эксмо, 2003. С. 146–147.
195
См.: Миронов Б.Н. Русские революции начала XX века: уроки для настоящего // Политические исследования. 2011. № 5. С. 33–46.
196
Миронов Б.Н. С. 42–43.
197
Шмурло Е. История России. 1862–1917. Мюнхен, 1922. С. 493
198
См.: Литвинов Н.Д. Террористические организации: формирование и деятельность (политико-правовой анализ). М.; Воронеж: ВИ МВД России, 1999.
199
Цит по: Чулков Г. Императоры: Психологические портреты. М.: Моск. рабочий, 1991. С. 238.
200
Чулков Г.И. Императоры: Психологические портреты — М.: Моск. рабочий, 1991. С 242.
201
Цит. по: Нольде Б. Юрий Самарин и его время. М.: Алгоритм, ЭКСМО, 2003 С 188–189; 292–293.
202
Нольде Б. Юрий Самарин и его время. С. 202.
203
См.: Литвинов Н.Д. Террористические организации, формирование и деятельность (политико-правовой анализ). М.; Воронеж, 1999.
204
О повинностях и данях с православных в пользу лютеранской церкви в Лифляндии // Прибалтийский сборник Т. III. Рига, 1882 С. 599
205
О повинностях и данях… С. 601.
206
О повинностях и данях… С. 603
207
Записки священника Полякова // Прибалтийский сборник. Т. 3. Рига, 1880 С. 525–528.
208
О повинностях и данях… С. 605.
209
О повинностях и данях… С. 606
210
Лейсман Н.А. Судьба православия в Лифляндии с 40-х до 80-х годовXIX столетия. Рига, 1908. С. 78–79.
211
Крыжановский Е.М. Остзейский вопрос и православие // Собрание сочинений. Т. 2. Киев, 1890. С. 461.
212
О настоящем положении православия в Лифляндии // Странник. Раздел «Хроника» 1865. Июль. С. 24. Цит. по: Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. С. 252.
213
Историко-статистическое описание церквей и приходов Рижской епархии. 1894. Вып. 2. Ч. 1. С 143. Цит. по: Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. С 251.
214
Записки священника Полякова // Прибалтийский сборник. Т 3. Рига, 1880. С. 529–533.
215
Лейсман Н.А. Судьба православия в Лифляндии. С. 711.
216
Речь при открытии Рижского Петропавловского братства, сказанная преосвященным Платоном 11 сентября 1866 // Странник. 1866 Октябрь. С. 23.
217
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 298.
218
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 278.
219
Цит по: История Эстонской ССР. С. 290.
220
Из архива князя Шаховского. Материалы для истории недавнего прошлого Прибалтийской окраины (1885–1896). СПб, 1910. Т. 3. С. 207–208.
221
Из архива князя Шаховского… С. 208.
222
См.: Боханов А.Н. Александр III. M: Вече, 2007. С. 3–5.
223
Более подробно см: Боханов А.Н. Александр III. M.: Вече, 2007. С. 327–248.
224
Менделеев Д.И. Заветные мысли. М, 1995. С. 23. Цит. по: Кудрина Ю. Ф.М. Достоевский, император Александр III и русская идея // Свободная мысль. 2012 №7–8 С. 123.
225
К.Н. Леонтьев. Pro et contra Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей после 1917: Антология. Кн. 2 СПб, 1995. Цит. по: Кудрина Ю.Ф. М. Достоевский, император Александр III и русская идея // Свободная мысль. 2012 № 7–8. С. 124.
226
Сахаров С. П. Народное образование в Юрьевском уезде. Юрьев, 1917. С. 3
227
Столяров М. Православные школы в Прибалтийском крае // ЖМНП. 1895. Октябрь. С. 18.
228
Березский В., прот. Бедственное положение прибалтийской православной школы в условиях теперешнего её положения // Православные народные школы в прибалтийских губерниях. СПб., 1914. С. 37–66.
229
Зайончковский Н.К. К истории сельской инородческой школы в Прибалтийских губерниях и её реформы. Рига, 1902. С. 15.
230
Livlandische Beitrage zur Verbreitung grundlicher Kunde von der protestantischen Landeskirche und dem deutschen Landesstaate in den Ostseeprovinzen Russlands? Von ihrem Kämpfe um Gewissenfreiheit / Hrsg. Von W. Bock. Leipzig, 1867 Bd. 1. S. 13.
231
Православные народные школы в прибалтийских губерниях. СПб., 1914 С. 34.
232
Плис В., прот. Историческая заслуга и продолжающееся значение православной народной школы в Прибалтике // Православные народные школы в прибалтийских губерниях. СПб., 1914. С. 26.
233
Сысоева Е.К. Век XVIII — веку XX: из истории российского народного образования // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2011. № 5 С. 162, 165.
234
8 Толстой И.И. Заметки о народном образовании в России СПб., 1907 С. 112—113.
235
Исаков С.П. О преподавании русского языка в эстонских народных школах до реформ 1880-х гг. // Основные черты развития учебного процесса в народных школах Прибалтики: Материалы конференции. Таллин, 1977. С. 47.
236
Плис В. прот. Историческая заслуга и продолжающееся значение православной народной школы в Прибалтике. С. 30.
237
История Тартуского университета. 1632–1982 / Под ред. К. Сийливаска. Таллин, 1982. С. 137.
238
Из архива князя С.В. Шаховского Материалы для истории недавнего прошлого прибалтийской окраины (1885–1896). СПб., 1910. Т.3. С 233–235; 27–28
239
Тизик К., свящ. Князь Шаховской как радетель православия в Эстляндии // Венок на могилу: Сборник статей, посвященных памяти бывшего эстляндского губернатора князя С.В. Шаховского Ревель, 1896.
240
Из архива князя С.В. Шаховского. Т. 3. С. 6–7.
241
Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии С. 295.
242
Из архива князя С.В. Шаховского. Т.3 С.33.
243
Из архива князя Шаховского. Т. 3. С. L.
244
Из архива князя Шаховского. Т. 3. С. XLVI
245
Из архива князя Шаховского. Т. 3. С 123.
246
Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века: Сборник документов и материалов Тарту, 2000. С. 298–312
247
Решения 27-го епархиального съезда духовенства Рижской епархии. 28 октября — 13 ноября 1908 г. // Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века: Сборник документов и материалов Тарту, 2000. С. 305–306.
248
Письмо временного прибалтийского генерал-губернатора А.Н. МеллерЗакомельского председателю Совета министров П.А. Столыпину. № 7716 от 30 октября 1908 г. // Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века: Сборник материалов и документов. Тарту, 2000. С. 313.
249
Имперская политика России в начале XX века. Тарту, 2000. С. 314.
250
Позднышев С.Д. Распни его. Париж, 1952. С. 45.
251
Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 259.
252
Из завещания императора Александра III сыну цесаревичу Николаю Александровичу. Цит. по: Кудрина Ю.В. Ф.М. Достоевский, император Александр III и русская идея // Свободная мысль. 2012. № 7/8. С 123.
253
Ильин И.А. Мировая политика русских государей // Наши задачи. Историческая судьба и будущее России Статьи 1948–1954 годов: В 2 т. Т. I. M.: МП «Рарог», 1992. С. 102–103.
254
См. Боханов А.Н. Александр III. M, 2007. С. 326.
255
Извольский А.П. Воспоминания. 2-е изд. М., 1989. С. 133.
256
Майоров М.В. Историческое прошлое и внешняя политика России // Новая и новейшая история. 2012. № 2. С. 110–111.
257
См. Мультатули П.В. Внешняя политика Императора Николая II (1894–1917) / Под ред. Л.П. Решетникова. М.: ФИВ, 2012.
258
Стратегия восточных территорий в XIX — нач. XX в. в трудах выдающегося русского геополитика, генерал-майора А.Е. Вандама (1867–1919) // И. Романов, И. Забаев, В. Чернов. Геополитика России. Стратегия восточных территорий. М.. Институт русской цивилизации, 2008.
259
Стратегия восточных территорий С. 214.
260
Стратегия восточных территорий. С. 219–220
261
Струве П.Б. Patnotica. M., 1997. С. 23.; Зырянов П.Н., Шелохаев В.В. Первая русская революция в американской и английской буржуазной историографии. М., 1976. С. 87.; Нефёдов С.А. Истоки 1905 года: «Революция извне»? // Вопросы истории 2008. № 1. С. 47.
262
Более подробно см.. Нефёдов С.А. Истоки 1905 года: «Революция извне»? // Вопросы истории. 2008. № 1. С. 47–58.
263
Дневник Е.А. Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. // Исторические записки. 1965. № 77. С. 253.
264
Дневник Е. А. Святополк-Мирской… С. 260.
265
Ганелин Р.Ш. К истории текста петиции 9 января 1905 года // Вспомогательные исторические дисциплины. XIV. Л, 1983. С. 245; Ганелин Р.Ш. К предыстории «Кровавого воскресенья» // Новое о революции 1905–1907 гг. в России. Л., 1989. С. 126.
266
Павлов И. Из воспоминаний о «Рабочем союзе» и священнике Гапоне // Минувшие годы. 1908. № 4 С. 91.
267
Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции / О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 68–69.
268
Рюминский В. Духовенство и народ (Церковь и государство). СПб., 1906. С. 17.
269
Архив А.М. Горького Т.5. М, 1955. С. 148.
270
Цит. по: Андреева Л.А., Элбакян Е.С. Отношение к духовенству сословий и социальных групп Российской империи (Начало XX в.) // Социологические исследования (Социс) 2011 № 10. С. 76.
271
Будилович А.С. О новейших движениях в среде чудских и детских племён балтийского побережья. Речь в торжественном собрании Спб. славянского благотворительного общества. 30 декабря 1905 г. СПб.: Типография В.Д. Смирнова, 1906. // Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века: Сборник документов и материалов. Тарту, 2000. С. 34.
272
Записка помощника уездного начальника, заверенная тайным советником П. Кошкиным. Около 1898 г. // РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 70. Л 53–56. Цит. по: Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века: Сборник материалов. Тарту, 2000. С. 11.
273
Письмо эстляндского губернатора Н.Г. Бютинга министру внутренних дел П.Н. Дурново от 10 января 1906 г. // ГАРФ. Ф. 102,00. Оп. 1906 г. (II). Д. 700. Ч. 68. Л. 1–5. Цит. по: Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века. С. 51–52, 55.
274
История Эстонской ССР. С 262.
275
Калекина О. Издание марксистской литературы в России конца XIX в. М., 1957. С. 79.
276
Очерки истории Коммунистической партии Эстонии. Часть 1. Таллин: Эст. гос. изд-во, 1961. С. 24–28.
277
Цит. по: Очерки истории Коммунистической партии Эстонии. Часть 1. С. 30.
278
Мусаев В.И. Свеаборгское восстание 1906 года и оппозиционное движение в Финляндии // Военно-исторический журнал. 2011. № 9. С. 26.
279
Более подробно см.: Воробьёва Л.М. Латыши в «прибалтийской смуте» 19051907 гг. // История Латвии: от Российской империи к СССР. М.: ФИВ, 2011. С. 68–81.
280
Листовки петербургских большевиков. Т. 1. 1905–1907 гг. ОГИЗ, 1939. С. 175, 186, 199.
281
Обзор деятельности Управления временного прибалтийского генерал-губернатора о подавлении революции в Прибалтике. 24 мая 1908 г. // Имперская политика России в Прибалтике в начале XX в. С. 236.
282
Обзор деятельности Управления временного прибалтийского генерал- губернатора о подавлении революции в Прибалтике от 24 мая 1908 г. // Имперская политика России в Прибалтике в начале XX в. С. 235–236. Цит. по: ЛГИА. Ф. 6989. Оп. 13. Д. 37. Л. 1–49 об. Заверенная копия.
283
История Эстонской ССР. С. 328.
284
Очерки истории Коммунистической партии Эстонии. Ч.1. С. 80
285
Очерки истории Коммунистической партии Эстонии. Ч. I. С. 79.
286
В. И. Ленин. Соч. Т. 9. С. 397–398.
287
Очерки истории Коммунистической партии Эстонии. С. 69 со ссылкой на ЦГИА ЭССР. Ф. 296. 1905. Д. 7–II. Л. 298; Д. 7. Л. 169.
288
Письмо эстляндского вице-губернатора А.Н. Гирса министру внутренних дел П.Н. Дурново // Имперская политика России в Прибалтике в начале XX в. С. 18. Цит. по: ЭИА. Ф. 40. Оп. 1 Д 64 Л. 62–64.
289
В.И. Ленин. Соч. Т 9. С. 376.
290
Революция 1905–1907 гг. в Эстонии: Сборник документов и материалов. Таллин, 1955. С. 273–274.
291
Письмо эстляндского губернатора Н.Г. Бюнтинга министру внутренних дел П.Н. Дурново // Имперская политика России в Прибалтике в начале XX в. С. 4.
292
Обзор деятельности Управления временного прибалтийского генерал-губернатора о подавлении революции в Прибалтике от 24 мая 1908 г. // Имперская политика России в Прибалтике в начале XX в. С. 239–240.
293
Обзор деятельности Управления временного прибалтийского генерал-губернатора о подавлении революции в Прибалтике. С. 263.
294
Обзор деятельности Управления временного прибалтийского генерал-губернатора о подавлении революции в Прибалтике от 24 мая 1908 г. С. 266–267.
295
Мусаев В.И. Свеаборгское восстание 1906 года и оппозиционное движение в Финляндии// Военно-исторический журнал. 2011. № 9. С. 26–32.
296
Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы. М: МОНФ, 2000. С. 46.
297
Кабузан В.М. Немецкое население в России в XVIII — начале XX в. (численность и размещение) // Вопросы истории.1989. № 12. С. 18–29.
298
Россия и внешний мир: диалог культур. М., 1997. С. 242.
299
Чеботарёва В.Г. Немецкие колонии Российской империи — «государства в государстве»//Этнографическое обозрение. 1997. № 1. С. 130–131.
300
Schirren С. Livlandische Antwort an Herrn Juri Samarin. Leipzig, 1869.
301
Будилович А.С. О новейших движениях в среде чудских и летских племён балтийского побережья. Речь в торжественном собрании Спб. Славянского благотворительного общества, 30 декабря 1905 г. СПб.: Типография В.Д. Смирнова, 1906 Цит. по: Имперская политика в Прибалтике в начале XX в С. 36–37.
302
Там же С. 36.
303
Выдержка из записки служившего в Юрьевском уезде должностного лица (помощника уездного начальника), составленной приблизительно около 1898 г. // РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 70. Л. 53–56 об. Копия, заверенная тайным советником П. Кошкиным. Цит. по: Имперская политика России в Прибалтике в начале XX в. С. 11–14.
304
См.: Исаков С.Г. Очерки русской культуры в Эстонии. Таллин, 2005. С. 14.
305
Сведения о русском населении в Прибалтийском крае (по вопросам, поставленным в письме Председателя Совета министров от 4 октября 1908 г. № 4470 на имя временного Прибалтийского генерал-губернатора. РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 70. Л. 33–52. Цит. по: Имперская политика России в Прибалтике в начале XX в. С. 327
306
Там же. С. 327.
307
Вега. Прибалтийская смута. Издание А.С. Суворина. СПб., 1907.
308
Цит. по: Имперская политика России в Прибалтике в начале ХХ в С. 151–152.
309
РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 139. Л.44–48 об.
310
Акчеев Н. 1000-летие единения: праздник всей России // Родина. 2012. № 8 С. 126–133.
311
Цит. по: Бахтурина А.Ю. П.А. Столыпин и управление окраинами Российской империи // Российская история. 2012. № 2. С. 116
312
Цит. по: Бахтурина А.Ю. С. 116.
313
Цит. по: Шнепс-Шнеппе М. Немцы в России. М.: Алгоритм, 2011. С. 112.
314
Цит. по: Шнепс-Шнеппе М. С. 112.
315
Образ России. Россия и русские в восприятии Запада и Востока. СПб., 1998. С. 195–228
316
Россия и внешний мир: диалог культур. М., 1997. С. 244.
317
Люкс Л. Россия между Западом и Востоком. М., 1993. С. 51.
318
Люкс Л. Россия между Западом и Востоком. М.,1993. С 32.
319
Ильин И.А Наши задачи Историческая судьба и будущее России М МП «Рарог», 1992. С. 100–101.
320
История дипломатии: В 3 т. Т. 1. М., 1941. С. 497.
321
См.. Романов И., Забаев И., Чернов В. Стратегия восточных территорий. С. 308.
322
Цит. по: Романов И., Забаев И., Чернов В. Стратегия восточных территорий. С. 306.
323
Романов И. Стратегия восточных территорий С. 306.
324
Сазонов С. Д. Воспоминания. М/ Международные отношения, 1991. С. 231.
325
Норден А. Уроки германской истории. К вопросу о политической роли финансового капитала и юнкерства / Пер с нем. М.. Гос. изд-во иностранной литературы, 1948. С. 19,31,32.
326
Сазонов С.Д. С. 231.
327
Котов Б.С. Русско-германские торговые отношения накануне Первой мировой войны в оценке русской прессы // Вопросы истории. 2012. № 2. С 107
328
Есипов В.В. Германцы Жестокий народ. Жестокое право. Варшава, 1915. С. 7. Цит. по: Шубина А. Н. Формирование «образа врага» и отношение к российским немцам в годы Первой мировой войны // Вестник Московского университета. Сер 8 История 2011. №4 С. 127.
329
Более подробно см.: Котов Б.С. Русско-германские торговые отношения накануне Первой мировой войны в оценке русской прессы // Вопросы истории. 2012. №2. С. 104–117.
330
Цит по: Шнеппс-Шнетте М. С. 30
331
Вандам А. Наше положение // Романов И. Стратегия восточных территорий. С. 283–284
332
Фалин В. «Служил без лести и подобострастия» // Завтра. 2008 № 1.
333
Ленин В.И. Соч. Т. 26. С. 152.
334
В конце октября 1917 г А.Ф. Керенский и П.Н. Краснов смогли мобилизовать для похода на Петроград от 1000 до 1200 человек. Источник: Фельдман М.А Гражданская война в России: две проблемы историографии // Вопросы истории. 2012. № 2. С. 167.
335
История Эстонской ССР С. 417–418
336
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 418.
337
История Эстонской ССР. С. 421.
338
В.И. Ленин. Соч. Т. 26. С. 225.
339
В.И. Ленин. Соч. Т 36 С. 429.
340
Арумяэ X. За кулисами Балтийского союза (Из истории внешней политики буржуазной Эстонии в 1920–1925 гг.). Таллин: Ээсти Раамат, 1966. С. 19.
341
Правда. 1918. 27 марта.
342
Лехович Д. В. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. — М. Воскресенье, 1992. С. 182–183.
343
История Эстонской ССР. С 430–431.
344
Деникин А.И. Очерки русской смуты // Путь русского офицера. М.: Вагриус, 2007. С. 363.
345
Там же. С. 363.
346
Лехович Д.В. С. 184.
347
История Эстонской ССР. С. 433–434.
348
Арумяэ X. За кулисами Балтийского союза. Таллин, 1966. С. 20.
349
История Эстонской ССР. С. 441–442.
350
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 447.
351
См.: Воробьёва Л.М. История Латвии: от Российской империи к СССР. М.: ФИВ. С. 140–147.
352
Kesselring A. Finnische Ennnerungskultur: Der Winterkrieg 1939/40 / Militarge-schichte. Zeitschnft für historische Bildung. 2010. Heft 4. S.19.
353
Арумяэ X. За кулисами Балтийского союза. (Из истории внешней политики буржуазной Эстонии в 1920–1925 гг.). Таллин, 1966. С. 28.
354
Kesselrtng A. S.19.
355
Sotsiaaldemokrat. 1919. 4. jaanuanl. № 2.
356
В.И. Ленин. Соч. Т. 30. С. 194–195.
357
О латышских стрелках, ставших оплотом советской власти, см.: Воробьёва Л.М. История Латвии: От Российской империи к СССР. М.: ФИВ, 2011. С. 124–129.
358
Кингисепп В. Под игом независимости. Таллин, 1955. С. 77.
359
Кингисепп В. Под игом независимости. С. 83–84.
360
О планах немецких элит см. Воробьёва Л.М. История Латвии от Российской империи к СССР. М.: ФИВ, 2011. С. 112–115.
361
Горн В. С. 279.
362
Горн В Гражданская война на северо-западе России / Революция и Гражданская война в описаниях белогвардейцев. Деникин. Юденич. Врангель. М.: Отечество, 1991. С. 259
363
Владимирский М.В. Финансовая деятельность Северо-Западного правительства. 1919–1921 гг. // Вопросы истории. 2011. № 4. С. 94–96.
364
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 470.
365
Более подробно см.: Воробьёва Л.М. История Латвии от Российской империи к СССР М.: ФИВ, 2011. С. 160–163)
366
Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области // Революция и Гражданская война в описаниях белогвардейцев. Гражданская война в Сибири и Северной области. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. С. 248–249.
367
Будберг А. Дневник. 1919 год // Революция и Гражданская война в описаниях белогвардейцев. Гражданская война в Сибири и Северной области. Т. IV. С. 171–172.
368
Будберг А. С. 172.
369
Будберг А. С. 170.
370
Будберг А.С. 172.
371
Добровольский С. С. 249.
372
Более подробно см.: Решетников Л.П. Духовно-нравственные причины национальной катастрофы // Русский Исход как результат национальной катастрофы. К 90-летию окончания Гражданской войны на европейской территории России: Материалы международной конференции (Москва, 2–3 ноября 2010 г.). С. 17–30.
373
Кингисепп В. Мы победим! // Борьба против иностранных империалистов и их пособников: Сборник статей и листовок. Таллин: Эст. гос. изд-во, 1956. С. 56–57.
374
Кингисепп В. За селёдку Вильсона // Борьба против иностранных империалистов и их пособников: Сборник статей и листовок. Таллин, 1956. С. 58–73.
375
История Эстонской ССР. С. 472.
376
Горн В. С. 304.
377
Горн В. С. 306, 308.
378
Базанов С.Н. «Смелость, какая присуща только большим полководцам» // Военно-исторический журнал. 2012. № 7. С. 54.
379
Цит по: Руднев Д. Юденич, генерал от инфантерии // Политика. 1990. № 1. С. 110.
380
Владимирский М.В. С. 97–98.
381
Цит. по: История Эстонской ССР. С. 480
382
Соколов Б. Падение Северной области // Гражданская война в Сибири и Северной области. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. С. 332–333.
383
Beranek A. Mannerheim. Berlin, 1942. S. 161.
384
Рутыч Н. Белый фронт генерала Юденича. Биографии чинов Северо-Западной армии М.,2002 С. 100–101.
385
Горн В. С. 333
386
Ленинский сборник. Т. XXXIV. М., 1933. С. 234.
387
Asutava kogu protokollid. 3. istungjark 1920. a., Ik. 283
388
Фоменко А.В. Прибалтийский вопрос в отношениях США с Советской Россией 1918–1940. О появлении независимых прибалтийских режимов до включения их в состав СССР. М.: ЛЕНАНД, 2009. С. 49
389
Исаков С.Г. Очерки русской культуры в Эстонии. Таллин, 2005. С. 247–248.
390
Розенталь Р. Влияние действий белогвардейской северо-западной армии на ход войны за независимость Эстонии (1818–1920) // Россия и Балтия. Выпуск 5. Войны, революции и общество. М.: Наука, 2008. С. 138
391
Рянжин В. А. Проблемы территориальной организации Советского государства (на материалах Эстонской ССР) Л.: Изд-во Ленинградского ун-та., 1973. СП.
392
Там же. С. 13
393
Чичерин Г.В. Статьи и речи по вопросам международной политики. — М., 1961. С. 135.
394
Коммунист. 1920. 6 февраля.
395
В.И. Ленин. Соч. Т. 30. С. 270.
396
История Эстонской ССР. Т. 3. Таллин, 1974. С. 209.
397
Ленинский сборник. Т. XXIV. М.,1933. С. 292.