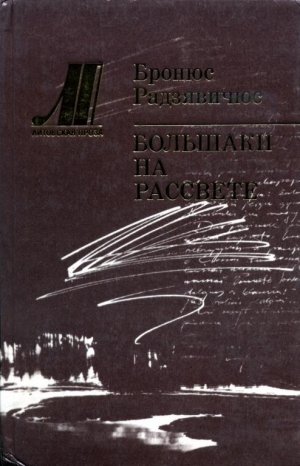
БОЛЬШАКИ НА РАССВЕТЕ
Когда-то эта деревня называлась Ужпялькяй.
Тихо и размеренно течет жизнь ужпялькяйцев. Жмется она к полевым камням, перелескам, склонам, останавливается у чистых, как глаза, озерков, речек, пойменных лугов и напоминает поле, истоптанное тысячу раз вдоль и поперек. Ужпялькяйцы иначе себя и представить не могут, кроме как на фоне этих лугов, изб, дорог, лесов и пригорков. С деревьями, камнями, хозяйственной утварью, скотиной здесь сжились, как с родней, как с лицами, которые то и дело мелькают перед глазами, званые и незваные.
Емкая и устойчивая память у ужпялькяйцев — в нее глубоко врезаются малейшие детали и жесты. Имена и жизни мертвых здесь беспрерывно повторяются, откликаются из самых дальних далей, как эхо, волнами перекатываются друг через друга. Здесь вечно кто-то стоит в карауле у капища исчезающих поколений.
Говорят ужпялькяйцы так, словно удивляются и никак не могут надивиться всему вокруг — не только событиям, которые постороннему кажутся не столь уж важными, но и другим людям, самим себе, особенно времени, которое пролетает в один миг, как ветер, — просвистел, и все унес с собой. Каждый божий день они всюду обнаруживают маленькие перемены. Жадные и пытливые глаза ужпялькяйцев только их и ищут. Таков, например, Константас Даукинтис, который каждый свой рассказ начинает удивленными возгласами: ты только подумай… ишь ты… скажи-ка… так вот какие! Константас поднимет вверх свой бесконечно удивленный, осторожный палец и хмурит мохнатые брови, еще не зная, что скажет, чему надо удивляться, и вообще, стоит ли удивляться тому, что он расскажет. От слов этих перед ним будто бездны разверзаются.
Хороша и сама эта деревня, и ее окрестности, но солнце брызнет еще не скоро, но когда оно брызнет, высокие и хрупкие его мосты взметнутся над горами, реками и крутосклонами, обвеваемыми теплыми ветрами. Теперь же осень, пасмурная, промозглая, с деревьев слетают листья, с ветвей струится влага, и журавли уже улетели в теплые края. Их далекое курлыканье больше не тревожит селян по ночам. Проснувшись в кромешной тьме, они слышат, как в хлевах мечется скотина, шумит дождь, стонет ветер, — и может, в душе радуются, что в такую пору никто не придет к ним в дом, не отыщет во мраке дверей, а если и отыщет, то ночные гости долго будут шарить в поисках защелки, и хозяева еще успеют попрятаться. Лишь глаза всматриваются в темноту, лишь уши прислушиваются. Всюду осторожные, как бы крадущиеся звуки. Поди различи — где шорох ветра, где шум дождя, где шаги человека? Иной так всю ночь и сидит прислушиваясь. Ждет, бдит.
Мы здесь задержимся надолго. Надо внимательно всмотреться в каждый предмет, в каждое лицо, иначе мы здесь ничего не увидим и ничего не поймем. Многое здесь, в Ужпялькяй, неуловимо, как солнечные блики на воде или листьях, многое к нам здесь приблизится, увяжется за нами, как ребенок, прищурившийся от света, и не поймешь, радуется он или страдает.
Вот он стоит весь на виду: оборванный, с исцарапанными коленками, трет грязной ручонкой глаза. Может, он примчался к кому-нибудь навстречу, но не нашел того, кого искал, может, торчал где-нибудь под навесом, что-нибудь мастерил или рыл лунки — видите, какие у него коленки; может, сидел в песке на тропинке и ждал, когда вернется отец. Он всегда ждет возвращения отца и, услышав голоса на большаке, там, где чернеют ракиты с обвислыми ветками, где гумно, студеная вода, трясины, мчится сломя голову, чтобы поскорее его встретить. Да будет он первым нашим поводырем.
Я так и думал — он ведет нас к усадьбе Криступаса Даукинтаса.
Старые, истертые камни лестницы, на них все время что-то забивают, особенно на том, крайнем, с плоским верхом. То Юзукас, сын Криступаса, на нем выпрямляет гвоздь, то дядя Константас поправляет цепь для коровы.
В сторонке, на доске сидит старая Даукинтене. Отекшее, дряблое лицо, глаза круглые, слезящиеся. Поднимет руку, уберет под клетчатый платок белые, как пакля, волосы, причмокнет губами, крепко сожмет их и снова смотрит, как трудятся сын и внучек. Края губ у нее подрагивают — видать, хочет что-то сказать, но не отваживается, потому что частенько ее ругают за то, что всюду нос сует. По той же причине и в глазах ее, и в слабом, срывающемся голосе нетрудно уловить жалобу на свою судьбу.
Зато когда, подобрав под себя ногу, тут орудует внучек, старуха говорит и говорит, словно хочет наверстать долгие часы молчания. Говорит и все время поправляет под подбородком узел платка. Но мальчику болтать с ней некогда — он знай стучит себе молотком. Потрогает шляпку гвоздя — ой, горячо, нюхнет — пахнет серой, снова хватает молоток и снова стучит. «Пальцы не отбей», — говорит старая. И еще она говорит, чтобы он на земле не сидел — схватишь, мол, воспаление, все говорит и говорит, но кто ее услышит, когда ветер шумит и клены во дворе шелестят. Деревья, ее деревья, осиротевший, стынущий у северной стороны дома сад, уже голый, без листвы, качающиеся на ветру былинки и стебли травы, ульи с подгнившими боками, яблони, которые она когда-то обвязывала… И клетушка, что напротив, в нескольких шагах от избы, с потрескавшимися от жары стенами, осевшая в землю, столетняя, с крышей, заросшей зеленым мхом, с жерновом у дверей, с прогнившей ступой в подклети, с серыми дверцами и оконцем. Старуха таращит глаза на клетушку, косится и на деревья в саду, на ригу с высоким сводом, на избу дочери Тякле Визгирдене у самого сосняка, но больше всего ее заботит внучек — поел ли, не побила ли его мачеха. О чем Юзукаса ни спроси, он всегда отвечает неохотно — сыт, все у него есть, ничего не надо, только не мешайте стукать по гвоздю.
Вот открываются двери в сенях, и на крылечке появляется дядя Юзукаса Константас, мужчина лет пятидесяти, с настороженным лицом, — он живет на северной половине избы. «Опять стучишь? — говорит он мальчику. — Опять мой молоток взял?! Гвоздь… Я спрашиваю, откуда у тебя этот гвоздь?» — «Да отстань ты от ребенка», — вмешивается старая. В сени вылетает невысокая женщина с птичьим носом, мачеха Юзукаса. «Во-во… во-во», — говорит она, но мы уже идем по тропинке через сосняк, к дому тетки Юзукаса Тякле Визгирдене. В сенях глинобитный пол, хлев жмется к избе, несколько яблонь. Завидев нас, Визгирда отходит в сторону, поправляет сползшие портки и, странно потягиваясь, озирается. Он всегда здесь, среди сосенок, у риги или в ольшанике на берегу речки. Теперь, когда всякие слоняются по деревням, Визгирда в избе не засиживается, неохота ему говорить с кем попало.
В пятистах метрах, в сосновой рощице, на холме, возле самой реки — дом Диржиса: Стеклянная веранда, хлев с каменными стенами, в высоком осиннике клеть, крыша которой усыпана мелкими желтыми листочками, возле хлева расхаживают лошади. Скотник Анупрас — жилец Диржиса — гонит их в хлев. Слышно, как свистит его кнут. «Но! — кричит Анупрас. — Но, курва!» Лицо у него багровое, изъеденное оспой. Говорят, что у Анупраса кила, что однажды он повредился в рассудке, и, когда с ним случаются припадки безотчетного гнева, он, мол, может и человека убить. Тякле Визгирдене уверяет, что какое слово ему ни скажи — в ответ только бу да бу, губу отвесит, на человека глаз не поднимает, молчит, словно воды в рот набрал.
Близится вечер, сеется теплая мгла, ржут, бьют копытами лошади. Откуда-то вроде бы доносится хихиканье собравшихся в круг парней. Что-то животное вдруг просыпается в этой мгле, где воздух пропитан смрадом навоза и конского пота, где влажным языком лижет своего только что народившегося теленка пеструха, с полей нет-нет да и повеет пахотой и жирным черноземом, а хозяева этой усадьбы, брат и сестра Диржисы — ни один из них пары себе не искал, не хотел землю делить (так во всяком случае считают Визгирды), — листают пожелтевшие страницы требника, а над их головами качается в полумраке комнаты маятник стенных часов. Здесь дух вербы и ладана, и картины с изображением святых, и распятый спаситель, и долгое молчание, и вздохи раскаяния. Тишину нарушают только удары стенных часов — дин-дан… И как бы вторя им, начинают звонить колокола местечкового костельчика. У богомольцев и здесь не идет из головы хозяйство, работа. Почти физически ощущаешь, как эта жизнь медленно погружается в сумрак, в густеющую темноту.
Огни в окнах дома Пятраса Ужпялькиса прошлой ночью приманили бродившего по полям его родича — сына мельника Мильджюса. Хозяева и не подозревают, что сейчас он скрывается у них на чердаке. Услышав во дворе голоса, Миколас Мильджюс приподнимается, пододвигает к себе автомат и впивается взглядом в крохотное сводчатое оконце. Сзади, за его спиной, на охапке свалявшегося сена лежит женщина. Рука подсунута под голову, лицо набрякшее, веки покрасневшие, темнорусые волосы растрепаны. Она смотрит на стреху, под которой снуют шустрые ласточки — господи, сколько у них забот, треволнений, как они щебечут над своими маленькими, старательно слепленными гнездышками! Полчаса тому назад Миколас Мильджюс сказал, что он испытывает просто отвращение, когда смотрит на таких, как Даукинтисы. Кроты проклятые! До чего же никчемны и жалки их потуги любой ценой продлить свое существование. (Ты обречен, поэтому так говоришь, ты им завидуешь, подумала женщина.) Справедливость! Им, видите ли, подавай справедливость! Мы им покажем справедливость. От их справедливости разит тряпьем, смятыми постелями, солью, отложившейся в их искривленных костях. Вот кем я стал из-за их справедливости! — Мильджюс одернул прилипшую к груди поношенную холщовую рубаху. — Пусть носятся со своей справедливостью, но зачем они навязывают ее другим?! Мне?! — кричал он охрипшим голосом. Он задыхался, тяжело дышал ей в лицо, бил себя кулаком в грудь.
— Ах, Мильджюс! — только и сказала женщина. Ее глаза, подернутые теплой дымкой, продолжали смотреть на стреху, на ласточкины гнезда, откуда изредка вроде бы доносился писк, нетерпеливый, поторапливающий, как весной, когда ласточки прилетают с червячками и бросают их в широко разинутые клювы своих птенцов. Женщина, видно, совсем не слушала Миколаса.
— Чего ты так бесишься? Словно они это делают назло тебе и только тебе, желая тебя унизить, растоптать?
— Думаешь, нет? Во что я по их милости превратился, во что? Ты только посмотри, — он снова одернул пропитанную потом рубаху. — Ты не смотришь. Тебе все равно, даже если я подохну! Ты видишь только себя. Все вы такие! Но я выдюжу. Никто, даже пуля меня не одолеет! — кричал Мильджюс. — Они у меня, гады, еще попляшут! На коленях передо мной ползать будут, как перед немцами ползали. Слишком мало я их еще уложил…
В памяти Мильджюса всплывает женщина, прикрывающая руками грудь, как она, изрешеченная пулями, упала ничком, не отрывая от груди рук, как лежала в Кладбищенском сосняке, на мху, какой-то медальончик или талисман висел у нее на шее… В толпе обреченных, стоящих чуть поодаль с чемоданами и узлами в руках, раздается женский вопль: «Убийцы! Будьте прокляты!» В памяти всплывают волосы, седые, растрепанные волосы, вытаращенные от ужаса глаза ребенка, впившиеся в Мильджюса в тот момент, когда он собирался ударить кричавшую женщину, но удержался: сперва пнул ребенка, потом — выстрелы, выстрелы, крики, стоны, заглушающие их выстрелы, глухой и зловещий треск и не то плач, не то рыдания в воцарившейся тишине, человек, ползущий к Кладбищенской ограде, снова выстрелы, ребенок, тянущий из груды трупов руку, его крик, слезы, катящиеся по перепачканному лицу. «Мама! Мама!» — вот чего Мильджюс не должен был так близко видеть и слышать. Как он метался и бесился, как поносил своих сподручных, особенно одного, который, застыв, смотрел на ребенка. «Стреляй быстрей, рохля! Стреляй! У меня кончились патроны. Стреляй!» Ребенок продолжал кричать как оглашенный. Деревья и тропинки дрожали от этого крика, он катился по полям, и рука крестьянина, протянувшаяся было к какой-нибудь утвари, застывала в воздухе. Этот крик еще долго будет здесь раздаваться, он пронзит память потомков и будет все время жечь ее. Крик не прекратился и тогда, когда Мильджюс, хлопнув дверцами, сел в свой черный автомобиль. Он пил, но все равно не мог забыть этот крик, не мог, даже ослепленный блеском пуговиц, офицерских погон и крестов, не мог, когда пьяный целовал какую-то хохочущую девку. Нервы у него не выдержали, и он заорал: «Замолчи! Надо стрелять!» — «Почему обязательно, стрелять?» — спросила девка. И в самом деле, почему? — допытывался у Мильджюса невидимый собеседник позже, на следующее утро, когда Миколас мыл руки, причесывался, чистил ботинки, спускался по лестнице к ожидающему его во дворе мотоциклу, но вдруг спохватился, — а пистолет?! Те, что его вызвали, загалдели, выражая по-немецки свое недовольство. Но он стоял перед ними подтянутый, такой, перед которым все должны выбрасывать вперед руку и кричать «хайль!» Один военный подошел к нему, похлопал по плечу, погрозил пальцем. «Nicht Ordnung. И вчера было nicht Ordnung. Но ты заслуживаешь повышения. Я подам рапорт», — и Мильджюсу показалось, что все заговорили, загалдели, восхищаясь им, Миколасом Мильджюсом. Однако он смотрел на них свысока, словно и здесь искал какого-нибудь врага или недоброжелателя. Вся его осанка, каждое его движение требовали тишины, полного повиновения, кому-то угрожали, кого-то пугали, и он, мелкий наемный убийца, даже не подозревал, каким жалким кажется со стороны. Теперь он знал только одно — приказывать, требовать, чтобы никто не смел и головы поднять, чтобы даже заикнуться не посмел о том, что… Мильджюс сел на мотоцикл, уже готовый выполнить любой приказ. «Niemand! Niemand!» — клялся кто-то. «Jawohl!» — кричали в ответ, щелкая каблуками; выкрикивали и другие слова, малопонятные, грубые, хлесткие, как удары кнута, — от этих криков у него в ушах просто лопались перепонки. «Ordnung! Ordnung!» — кричали объявления со стен и телеграфных столбов. «Ordnung», — бормотал Мильджюс, глядя на цепочку солдат, шагающих кривой пыльной улицей мимо лавки Моцкуса с выбитыми окнами, мимо вишен, припорошенных пылью. Но когда солдаты приблизились, они показались ему какими-то усталыми, а шаг их — вялым и нетвердым. Он покосился на прикорнувшего рядом в коляске мотоцикла штурмбанфюрера, на груди которого болтался бинокль. Его лицо показалось Мильджюсу таким чистеньким, довольным, пресыщенным, равнодушным ко всему, что творится вокруг. По улице, гремя подкованными сапогами, шагали немецкие солдаты.
Когда Мильджюс вернулся домой, его невозможно было узнать. «Это правда, что о тебе люди говорят?» — дрожащим голосом спросила мать. «Что говорят?!» — спросил сын так, что она вся задрожала и больше не проронила ни слова, только беспомощно махнула рукой и скрылась в сумраке избы, как внезапно появившееся привидение женщины, которая не своим голосом кричала в Кладбищенском сосняке. «Мы скоро заткнем им глотки! Будут молчать. Как могилы!» Отец жадно посасывал козью ножку, и его прищуренные глаза просто буравили сына. Он молча присел рядом с Миколасом, похлопал его по колену, назвал фамилии тех, кто так говорит о нем, потом тихо спросил, и его вопрос взбесил даже такого сына. «Я, видите ли, ему кровавое барахло тащу! Там золота полно, иди посмотри. Сам, если хочешь, принеси». — «Да я же…» — развел отец пухлыми, короткопалыми руками. Палец о палец не хочешь ударить. Таких сейчас как собак нерезаных. Ты добренький. А знаешь, что тем, чьи фамилии ты только что назвал, я это барахло своими руками раздал? Шарьте, где хотите, сказал я». — «Ай-яй-яй, а себе ничего», — сказал отец, но Миколас пропустил его слова мимо ушей и продолжал: «Вот награда за мою доброту. Чем они отличаются от тебя?» — «Не кричи так, еще кто-нибудь услышит», — осадил его отец. «Ты на моем месте не так орал бы. Все спешат руки умыть, дураков ищут, мол, вы идите, делайте, а мы — агнцы невинные». — «Кто же тебя заставляет? Может, я?» — «Нет, ты добренький, ты только барахла ждешь». — «Зря ты так, Миколас, говоришь. Ничего я не жду. Но если хорошая вещь на дороге валяется, почему бы ее не подобрать? А стрелять — к этому тебя никто не может принудить, ты сам…» — «Может, и сам, — отрубил Миколас. — Сам, сам, я все сам делаю! Надо, и вся недолга!» — заорал он не своим голосом.
Надо бы нам повнимательней вглядеться в лицо Миколаса Мильджюса, поскольку не часто нам доведется видеть его на таком близком расстоянии, хотя он, словно некое предчувствие опасности, то приближаясь, то удаляясь, будет всех преследовать. Путь его, петляя через трясины и топи, ныряет в землянки, обрывается на берегах рек, утыкается в порог почти каждой здешней избы.
Грациеле — так зовут эту женщину — живет с матерью в избушке на обрыве, у реки. Отсюда видны каменная стена мельницы Мильджюса, полуразрушенная плотина, слышно, как шумит пробивающаяся через нее вода. Только шелест ветра и шум воды слышит в эту минуту мать Грациеле, застывшая у окна в притемненной избе. Она не спускает глаз с тропинки, посыпанной бурым песком, вдоль которой качаются на ветру почерневшие стебли цветов. Молчит прялка, молчат картины с изображением святых, белым молчанием веет от простыней на кроватях. Нет ее дочери. Пропала. Связалась с этим палачом, и нет ее, не узнать.
Еще совсем недавно на чисто подметенный пол падали теплые лучи закатного солнца, в окно струился запах руты и мяты. Вдруг Грациеле стала приходить домой на рассвете. Босая, с растрепанными волосами, она застывала перед матерью, оставляя на полу мокрые следы, и, когда мать впивалась в нее взглядом, не выдерживала и отводила в сторону глаза. «Я тоже была молодая, но так поздно не возвращалась, — укоряла ее мать. — Жалко, отца нет, ох и всыпал бы он тебе — все вечеринки из головы вылетели бы».
Грациеле всегда провожал сын мельника Мильджюса Миколас. Все лето она была сама не своя, пока не забеременела; глаза ее наполнились какой-то живительной влагой и тайным испугом, руки, словно птицы, вдоволь насладившиеся полетом, перестали летать и долго не хотели расставаться с каким-нибудь попавшим в них предметом, вертели его, гладили. О свадьбе не могло быть и речи.
От «беды» ее спасла жена кузнеца Кайнорюса.
В жаркий полдень, когда, высунув языки, в тени тяжело дышали собаки, а в горячем песке, кудахча, копошились куры, Грациеле лежала в затянутой паутиной каморке Кайнорене, у засиженного мухами, уставленного бутылками и банками с вареньем оконца, в стекло которого постукивала ягодами малина, бился остервенело жужжащий шмель; лежала и ждала, пока Кайнорене, худощавая женщина с белыми растрепанными волосами, нагнется над ней и выжжет, растерзает ее чрево. Из кухни доносились удары молота Кайнорюса, в душном воздухе гремели выстрелы. Она смотрела на мечущегося шмеля. Нет, ненависти она не чувствовала, только безразличие и печаль — почему? Кайнорене склонилась над ней, и сердце словно выпорхнуло в жаркий, летний простор, туда, где слышно было, как бьют молотом, как отбивают косы и как скрипят колесами возы. В ушах звучали слова Мильджюса, которые он бросил ей в лицо: «Ластилась, как сука, теперь вылизывай». — «Ублюдок… — сказал Вигандас Мильджюс о своем брате. — Если он не хочет… я помогу». Где сейчас Вигандас? Иногда ей казалось, что она услышит голос новорожденного, хотя знала, что от него останется один кровавый сгусток. И где только были мои глаза? — спрашивала она себя. С каким презрением он смотрел на меня, когда мы стояли на мостках, — как я этого не видела? Почему притворялась, будто ничего не понимаю, и улыбалась? Он отвернулся, сплюнул и ушел. Дура, еще мчалась следом, кричала, протягивая руки, потом упала в траву, всю ноченьку проплакала, пока меня не нашла мать, наклонилась и сказала — вставай, а он ушел, даже не обернувшись. С самого начала он был таким жестоким, я все бегала за ним, пыталась уберечь от какого-то зла, не верила тому, что люди о нем говорят, пыталась удержать, — может, поэтому он меня и возненавидел. Чего ему надо, чего не хватало? Нигде не мог найти себе места. Метался как угорелый, на мельнице отца и то только гостем был.
Кто только не работал на мельнице Мильджюса; Криступас, Казимерас, Константас Даукинтисы, Визгирда… Всех и не перечислишь. Только и слышно: «Когда я у Мильджюса батрачил… Когда я на поле Мильджюса рожь сеял… Когда я у Мильджюса ячмень в долг брал…» Мильджюс да Мильджюс.
Одну мысль старый Мильджюс всю жизнь вынашивал: чтобы когда-нибудь все жители деревни слетелись с детьми и бабами к его мельнице — все у него в долгу были, — а он только махнет в сторону реки, где место покрасивее, и велит высокие хоромы себе построить. Порой ему даже мерещилось, будто они уже просвечивают сквозь листву деревьев.
Но не только хором не построили — ни Мильджюса, ни мельницы не стало. Просторный забетонированный погреб зарос потом крапивой, акацией и кустами шиповника; на крыше погреба дата высечена — 22 августа 1930 года; торчат обгорелые разросшиеся деревья, труба; одичавшие яблони, заброшенный колодец, огромная рига, крытая гонтом, — его почти весь ободрали деревенские мальчуганы. Еще клети, склады, высокие стены мельницы и плотина, сквозь которую с клокотанием пробивается вода.
Большинство селян еще помнит, как выглядела мельница Мильджюса: высокая, разбрызгивающая воду турбина, прядущие ушами лошади в тени, груды смолистых бревен, запахи смолы и живицы, конского навоза и пота, рабочие все в мучной пыли, таскающие мешки, и снующий между ними Мильджюс, маленький, пухленький, круглолицый, в широких галифе, в черной жилетке. Куда ни глянь — всюду он, со всеми успевает поговорить, увидеть, кто что привез и что увозит. Поглядывает на часы и торопит мужиков, хлопочущих у бревен. Рядом с Мильджюсом его сын в гимназической форме, худой, намного выше отца, с резкими чертами лица и горящими злобой глазами.
Гостили у Мильджюса и высокие военные чины, и служащие. «Что и говорить, не наш он был человек», — сказал бы о нем каждый селянин.
Этот большак, измолотый железными колесами и петляющий через поля люпина, через сосновые рощи, овраги, холмы, этот шелест лип, жужжание пчел в знойном воздухе, старое Антагальвское городище, залитые лунным светом стежки-дорожки, безответная любовь к отчизне — все это воспел старший сын мельника Вигандас Мильджюс. Стихи его пронизаны горькой печалью — как выжженная в самый разгар лета земля. Но вот-вот прольется дождь, землю оглушит гром, белые молнии исполосуют холмы, раздробят полевые камни; гроза повалит деревья, и останутся влажные головешки, обгорелый каркас кровли да срубы — из таких вот видений сотканы стихи Вигандаса.
Вигандас Мильджюс был высокий, сутулый юноша. Всегда в темно-сером костюме, с серьезным сосредоточенным лицом, с внимательным и доброжелательным взглядом; у него была привычка смахивать любую пылинку, былинку, прилипшую к одежде, — таким он был в крестьянских избах или когда стоял на стерне, на краю поля и беседовал с оторвавшимися на минуту от работы людьми, которых все время о чем-то допытывал. Он был необыкновенно услужлив, внимателен к другим, а порой, столкнувшись с нуждой своих земляков, отводил в сторону взгляд, как будто в чем-то был виноват перед ними. Голос его из восторженного превращался вдруг в тихий и монотонный, как у человека, разговаривающего с самим собой. Все знали, что Вигандас повидал мир, побывал во многих местах и, только гонимый тоской, постоянно возвращался на родину.
«О, звук гармоники, долетающий из-за леса, — писал он накануне войны в своем дневнике, который деревенские мальчишки нашли на чердаке клети, — о, зелень берез в мае и ты, веющий над летними лугами, ветер, и ты, родник в ольшанике, и вы, ольхи, одетые в простую домотканую одежду; белые ивы на берегу речки и вы, соловьиные трели, вечерние сполохи и утренние зори, — не в моей ли груди вы берете начало, не светом ли моей души озарены твои холмы и долины, о, родина? Под тяжестью не моей ли печали склоняешься ты, горбунья-березка на краю поля, не мои ли ты сосешь соки, стебель ржи, и ты, василек, и ты, скромница-ромашка? Не в моей ли душе отдаются удары цепов в ригах, не в нее ли падают спелые осенние плоды? Так будь же трижды благословенна жизнь, разлившаяся теплыми волнами, воссиявшая лунным светом, мелькнувшая на извиве большака, открывающаяся белым ледяным сиянием в просветах облаков, трепещущая в светлом осиннике, затихающая в звонких осенних далях и снова возвращающаяся, чтобы отряхнуть золото листвы, рассыпать блестки инея, застыть морозным узором. Мы только бледные твои тени, обреченные на одиночество, что мы знаем о тебе, и может ли наш голос выразить полноту твою и тайну? Что мы и наши творения по сравнению с твоими?! Одинокие, мы жаждем слитности, слившись, рвемся к свободе, к отшельничеству. Я пришел в мир не для того, чтобы терзаться, не для того, чтобы заговорить голосом муки и тоски, но когда я вижу, как мы не умеем восславлять то, что заставляет стебель тянуться вверх, цветок распускаться, то, чему мы и названия подыскать не можем, как мы не умеем слушать зов и трепет жизни, ее надежды, страдания и шепот, мне становится невмоготу. Как тесно в мире тому, кто хочет расти и распускаться! Я знаю: мы не итог, не продукт, ничего в нас нет завершенного, ничего такого, что мы могли бы предъявить как результат, подставить кому-то под ноги как ступени. Ох, уж эти любители резюмировать, сводить все к одной системе! Ох, уж эти поклонники итогов! В их умствованиях застывает любой трепет жизни. Так выводится одно общее, аргументированное уравнение, диктату которого — не диктату человека! — мы все должны подчиниться. Никто не отваживается даже спросить, зачем это общее уравнение, почему с таким отчаянием, страдая от его тирании, мечутся одни и почему так спокойны и довольны другие. Я сам наблюдал, как там, за границей, измеряли черепа и громко восклицали: «Раса! Раса!» Я и здесь встретил снедаемых манией лилипутского величия, они тоже кричат что-то подобное, этим заразился и мой брат, совершенно ослепленный ненавистью; отец потирал руки, мать молилась. Дескать, другой — это не я, это не человек, он не чувствует. Откуда такое ослепление, нежелание видеть ближнего, чувствовать его, прижаться к нему, услышать в нем тот же трепет жизни?..
Раздвоение, внутренняя борьба и взгляд, следящий за ней, и неважно, где мы его ощущаем — вовне или внутри. Исчезают сословные и прочие различия, человек словно прозрел, словно увидел себя со стороны и ужаснулся своей никчемности, эгоизму, пустоте — той одежде, которую носил до сих пор. Каждый старается поспешно ее сбросить, ищет другую, которая не слишком бросалась бы в глаза, или наоборот — ударяется в фанатизм. Дух нигде не находит пристанища, не знает, как проявлять себя, в каком обличье существовать, и нигде не чувствует себя в безопасности. Что-то ужасное открылось в самих глубинах человеческого существа, и это его сковывает холодом, обжигает болью и бессмысленностью — да мало ли чем? Человек дрожит от внешних ударов, уходит в себя, пытается спрятаться поглубже, но и там не находит опоры. Кованые сапоги, судорожный голос истерика, который гремит из репродукторов на улицах Европы, эти ослепленные манией величия обыватели — я был там, я знаю, — эти пивовары, чеботари, прилежные цветоводы, педанты — может, все они только результат всеобщей паранойи; может, симптомы трагедии проявлялись медленно, исподволь, изредка принимая крайние, но не такие уж кошмарные формы. Наша цивилизация должна быть перестроена в корне, до самого основания, но кто возьмется за такую работу, каких реставраторов мы могли бы принять без изначального предубеждения и опаски, где те, которых мы не могли бы назвать врагами, на которых мы могли бы целиком и полностью положиться, более того, — в которых верили бы, за которыми пошли бы, как больные за исцелителем? Грубая сила неизбежно приведет к сопротивлению. Униженное достоинство, попранные интересы… Я уже вижу и слышу исступленных ораторов, слышу, о чем люди шепчутся по углам, вижу, как они что-то прячут в своих ригах и клетях, занавешивают окна, спускают на ночь с цепи собак, а детям велят следить за тем, что делается у соседей. Я слышу вопли матерей, слышу выстрелы, вижу голодных оборванных малышей, вижу, как одни люди очертя голову бегут в волостное управление, и знаю, что пройдет немного времени, и туда, понурившись, потянутся другие, и встретит их не кто иной, как сосед, ставший новым начальником. Сколько будет потом проклятий, оговоров, противной лести, сколько косых взглядов, обращенных на своего ближнего!
Что будет с нашим домом? Почему мне видится над ригой черное облако, почему так угрюмо гудят жернова, почему так темно в избе и все ходят на цыпочках?.. Нет, не все, только мать, ни брата, ни отца в избе нет, замолкли жернова. Белые от мучной пыли работники давно разошлись. Неужто хозяева не хватятся их, не попытаются вернуть, особенно брат — у него даже жилы на шее вздуваются, когда он слышит по радио этого горлодера-истерика. Ему ничего не скажешь, ничего не посоветуешь, другой для него не человек, а нечто, долженствующее повиноваться и униженно служить. Никому он свою винтовку по-хорошему не отдаст и униформы не снимет.
— Кому они нужны, эти твои хлюпики-интеллигенты? — сказал он мне однажды. — Что они могут? Кто только их на колени не ставил, перед кем только они не гнули спину? — говорил он, меряя солдатским шагом избу, и все время поглядывал на портрет великого князя Витовта. — У тебя ведь поджилки трясутся. Боишься? Так и скажи, космополит несчастный, душа неприкаянная. Справедливость ему, видите ли, подавай! Какая чепуха! Прав тот, кто побеждает. У сильных и правда сильная, они говорят ясно, по-солдатски, в приказном тоне, — выкрикивал он, внезапно повернувшись в мою сторону.
Я слушал не спуская с него глаз и думал: откуда ему известно, что он сильный? Может, он только старается казаться таким, а на самом деле слова его — лишь маскировка? Может, наоборот — он страдает от чрезмерной чувствительности, легко раним. Помнится, в детстве его легко было довести до слез. Помню, как несмело протягивал он ручонки к какому-нибудь лакомству или безделушке, как жмурился от ласки, какие доверчивые были у него глаза. Кто бы мог подумать, что из ребенка, который инстинктивно всех сторонился, своенравно надув губы, бродил вокруг мельницы, вырастет мужчина, превозносящий насилие? А он разглагольствовал, насмехался надо мной, я, мол, топчусь на обочине жизни, льну к березкам, кидаюсь навстречу всяким странникам и бродягам.
— Для тебя все — люди, все хороши! — кипятился он. — Нет на земле твари, к которой ты не питал бы симпатии и у которой, по-твоему, не было бы каких-нибудь достоинств. А твои достоинства увидят ли, пожалеют ли тебя, отнесутся ли к нам по-человечески?! — все больше входил он в раж. — Ответь мне, апостол, не верующий в бога. В наше время апостолы не нужны. Слышишь, что голь говорит? Что для нее человеческое достоинство? Повсюду суют свой нос, забывают, кто они такие, где их настоящее место. Но мы им его покажем!..
— Не понимаю, — начал я, — чего ты так боишься, кто хочет тебя унизить, ущемить твое достоинство? Не слишком ли много его у тебя?
— Не понимаешь потому, что дальше своего носа ничего не видишь, потому что ты никто. И тебе очень нравится быть таким. Э, да что объяснять, — махнул он рукой и, понизив голос, продолжал, словно говорил сам с собой. — Меня просто бесит, когда враг прикидывается овечкой или праведником, таким праведником, как ты, но тебе с ними равняться негоже. Они живучи, знают, чего хотят. Нет большего врага, чем большевики. За версту их чую. К чему они стремятся? Чего хотят? Равенства? Свободы? Теперь, когда в бога мало кто верит, они, дескать, совесть, ум и честь человечества. Смотри, сколько здесь объявилось голоштанников, мчащихся за большевиками со своими красными тряпками. Сколько митингующих на площадях и на торжищах! Не пройдешь, чтоб не задели — издали дорогу им уступай. Каждый — пусть даже последний нищий — старается показать себя — вот, мол, я какой. Всюду они сеют свои бациллы. И ты уже ими заразился, хотя десять лет твердил о чести, национальном достоинстве. Где же она, твоя честь? Как только с востока подул ветер постуденее, ты тут же сбросил свои экзальтированные лохмотья. Тебе, маменькиному сыночку, стало слишком холодно. (Мать и впрямь меня любила больше, чем его; может, поэтому он подсознательно так на меня злился.) Ты думал, другие подберут эти обноски? Сытые спесивцы, ничтожества, думаете, мы не видим, как вы меняете шкуру? Не своей, чужой кровью хотите вы обагрить знамя. Потом, если только представится случай, вы раздерете его на лоскутки и будете упиваться собой. Я насквозь вижу вашу презренную породу. Террор, страх, голод, штык, кнут, палка — вот лучшие лекарства. Мы зовем народ не к сытой жизни, а к оружию, к защите чести и величия. Пусть он вспомнит свою старину, пусть готовится к новому возрождению. (Безумец, так и рвался из моего горла крик, что ты говоришь, ты только подумай, неужели ты совсем разучился трезво мыслить!) Видел знак на своде нашего погреба? Витязь! Когда-то его меч управлял половиной Европы. Нам предстоит перенять этот меч! — выкрикивал он.
— Ты безумец, — сказал я тихо. — Нет, ты фашист.
Он ухватился за последнее слово и ответил не мешкая:
— Да, я фашист, — и я снова услышал слова о миссии, о призвании.
— И откуда ты такой взялся, не понимаю.
— Я?! Я не один, не думай! — заорал он так, что задрожали окна, за которыми струилась теплая, лунная, июльская ночь. Она льнула к стеклам, подбиралась все ближе и ближе.
— Наш народ не погиб и не погибнет, — отрезал я, оглядывая углы избы, пропахшие древесиной. — Никто не просил тебя быть его спасителем. Ты самый обыкновенный фанатик.
— А ты выродок и трус!
— Старая песенка, брат. Я чувствовал, что ты давно так обо мне думаешь, тайком даже ждал того дня, когда ты бросишь эти слова мне в лицо. Они всегда готовы были сорваться у тебя с языка. Спасибо тебе, но кем ты меня только что назвал, я никогда не был и не буду. Может, нам тесно под одной крышей, может, ты боишься, что я потребую свою долю — всегда ты меня недолюбливал, всегда сторонился, отводил взгляд. Ничего мне от вас не надо. Единственное, чего мне хочется, это чтобы ты хоть раз поднял глаза и посмотрел, кого ты проклинаешь.
Тихо, словно тень, вошла мать. Она беззвучно поставила на столик кувшин с квасом, примостилась рядом.
— Почему вы так грызетесь, дети мои? Что я всю жизнь слышу от тебя, Миколас? — сказала она. — Брань, грохот мебели — только успевай все ставить на место да убирать. А ты, отец, — обернулась она к появившемуся на пороге отцу, — разве ты сказал мне хоть раз слово по-человечески? Твоих сыновей растила, не чужих. Ты все на мельнице да на мельнице. Щупаешь кошельки, все время шаришь в своих ящиках, что-то ищешь, ничего не видишь, а мне и невдомек, сколько у тебя этой проклятой деньги. Что нас ждет? Думаете, я долго так протяну? Поседела до срока. Давно смотрю на вас и диву даюсь: один шатается по свету, дома как гость; другой тоже — не успеет порог переступить, как снова куда-то мчится; третий сидит, подмяв все под себя, а меня тут словно и нет, меня вы не видите.
— Ах, мать, мать, — только и сказал я. — Думаешь, я не пробовал найти с ним общий язык, не пытался его переубедить? Каждым своим движением, каждым своим словом я старался открыть ему глаза. Разве я тебе, Миколас, зла хотел? Хоть возьми да бухнись на колени и бога моли: открой ему глаза, всемогущий. Разве он когда-нибудь со мной считался? Слыхала, какими словами он меня сейчас попотчевал?
— Я тебя, Вигандас, не виню, вижу — ты сказал сейчас то, что и у меня на языке, но, боже, боже, как мне за вас страшно.
Некоторое время было тихо. Только метались по полу тени, со двора доносился глухой шелест липы, вдали погромыхивал гром.
Мать задержалась еще немного, вздохнула и вышла. Отец не сказал ни слова, сидел, положив руки на колени, брат невидящим взглядом смотрел в одну точку. Может, Миколас и не законченный негодяй. Может, в других условиях его пыл, решимость и смелость вызвали бы даже восхищение. Восхищение? Такое ощущение, что он и сейчас чувствует на себе чей-то восторженный, вдохновляющий, одобрительный взгляд. Не знаю… ничего я не знаю… я видел своими глазами, как он молился перед ликами святых. Может, в нем есть что-то затаенное — что? Самозащита, эгоизм, жажда властвовать? А может, это только крайнее выражение болезненного самолюбия? Может, так, в судорогах, должно умереть все, чем мы жили до сих пор. Всем своим существом я в ту минуту почувствовал, что он обречен, ужасен, что он погиб для меня, погиб для матери. Он растоптал то, чего топтать нельзя.
Я молчал, думал, смотрел, как колышутся на полу тени акаций. В открытые двери врывался теплый ветерок, по-прежнему светил месяц, где-то далеко за лесами еще гремел гром, стояла душистая животворная ночь, но мне почему-то казалось, что там, на западе, уже льется кровь, бухают взрывы — перед глазами маячили полки, чеканящие шаг на улицах Германии. Не обрушится ли их лавина и на наш край?
— Видишь, — вдруг заговорил отец. — Я тебя в учение отдал, Виганделис. Во многих местах ты побывал, многое увидел… — он бросил боязливый взгляд на мельницу, стены которой изредка озарялись светом молний, прислушался, как, падая с плотины, клокочет вода. — Сам видишь, как они со мной поступили: мельницу отняли, урезали землю. Те, кто раньше, только завидев меня, шапку снимали или что-то лепетали, теперь смотрят на меня свысока, исподлобья. Каждый готов плюнуть мне в лицо. Я даже сам начинаю смотреть на себя как бы со стороны. Куда ни пойду, со мной семенит сгорбившийся старичок в кожушке, он то забегает вперед, то отстает, то, поравнявшись со мной, останавливается у прилавка, шарит в кошельке, или, навалившись на стол, хлебает суп из миски. Все он делает украдкой, как бы боясь чужих глаз или сердясь на самого себя. Разве это, сынок, нормально, разве так должно быть? Будь добр, ответь мне — кто в этом виноват? Никогда я людей не чурался, мне всегда было по душе, когда другие оглядывали мою одежду, следили, как я торгуюсь на рынке, как, стегнув коня, сажусь в карету; нравилось, когда смотрели на меня с почтительным страхом, завистью или даже злобой. Шут с ними, думал я тогда, что они могут мне сделать, кто они такие. А теперь я в страхе. Повсюду меня преследуют полные злобы и презрения глаза. Меня! Мильджюса! Словно какой-то злодей, голос поднять боюсь, плетусь, как затравленный зверь, поджав хвост. Улажу свои дела в местечке — и чуть ли не бегом домой. Теперь любой сопляк может тебе такое в лицо бросить, аж дух перехватит. И попробуй раскрыть рот, вытянуть кнутом по спине — живьем растерзают. Они только ждут, только подбивают: ну, попробуй, Мильджюс, пошевелись, покажи, кто ты теперь? Вот ты человек ученый, ответь мне: разве можно допустить, чтобы так было? Ты мне скажи, можно это вынести?! Как они смеют?! Голь перекатная! Все они у меня в кармане сидели, а теперь… Подумай только: даукинтисы, визгирды, и те от меня теперь шарахаются, как от чумного — никто и не думает возвращать мне долги. Напомнил я тут одному, а он мне: «Да знаешь, ты, куда свои квитанции засунь!» — как топорам отрубил. Взять, к примеру, Криступаса Даукинтиса — ведь и этот голодранец на моей мельнице работал, — намедни, шатаясь, подошел ко мне, положил на плечо руку и, тряся головой, бросил: «Не завидую я теперь тебе. Совсем не завидую. Не хотел бы я быть на твоем месте, ой, не хотел бы. Получил ты по заслугам. Псом ты был, а не человеком. Понимаю я тебя, только ничем помочь не могу. А если бы и мог, то не помог бы. Такой уж ты уродился. В твоей груди не сердце стучит, а мельничные жернова крутятся. С волоками[1], с мельницей на свет ты родился, с ними и помрешь. Когда хватали, делили волоки, делили и тебя. Не так ли, Мильджюс? Тебе, конечно, больно, ты весь теперь как бы из лоскутов сшит, — глумился он надо мной, радуясь моему несчастью. — Жаль мне только твоего сына Вигандаса, а Миколас сам погибель найдет и других погубит», — говорил он. Но чего стоит эта его откровенность? Я и теперь чувствую тяжесть его руки, которую он положил мне на плечо. Эта тяжесть меня к земле гнет. Вижу его осоловелые от водки глаза. Нет, я бы никогда раньше не поверил, что Даукинтис отважится вот так положить мне на плечо руку, а я, стоя на базаре возле ящиков с поросятами, буду слушать его. «Такие вот делишки. Таким, как ты, несладко. Кулачество надо вырывать с корнем, — говорит. — Ты как волк в чаще. Сперва мы выли, теперь ты повоешь. Будь здоров и передай мой трудовой привет Вигандасу, с ним я всегда находил общий язык. И низкий поклон вашему высокопревосходительству. Мог бы я тебе и чарочку поднести, но ты ведь откажешься. А может, не откажешься? Может, все-таки на дармовщинку выпьешь, а? Денег не жалко, вон сколько их у меня, — и достал из кармана пачку смятых банкнотов. — А ты, Мильджюс, даже на гроб себе пожалеешь. Ведь пожалеешь? Он пожалеет, ох, пожалеет», — заорал он на весь базар и, шатаясь, зашагал к закусочной.
Один я теперь, сынок, и был бы совсем один, если б не Миколас. Он им покажет. Ведь так, Миколас? Мы этого не потерпим, нет, нет. Никогда! Миколас заставит их ползать на коленях, они еще попляшут под нашу дудку. Правда, Миколас?!
— Да, да, отец, — сказал тот, думая о чем-то своем.
— Вот это настоящий сын. Он меня понимает и любит. А ты будто не в моем доме рос, может, и отцом признать меня не желаешь, косишься на меня, как эти голодранцы? И Миколас тебе не брат. Все от нас отвернулись. Славное, громкое имя Мильлджюса для тебя слишком тяжкая ноша. Скажи мне откровенно, — произнёс он, понизив голос и разжав пухлые кулаки, — как тебе нравятся перемены? Может, считаешь, что эти голодранцы правы, что так и должно быть? Ты всюду ищешь свою правду, но мы хотим жить, и жить, как раньше. Понимаешь? Мы для тебя, наверное, и не люди, мы для тебя уже не существуем!.. Вот так сыночка я вырастил, вот как он меня отблагодарил и утешил на старости лет!
— Да, да, — не скрывая своего презрения, сказал брат. — Он большевик. Святоша! Вот кому мы должны упасть в ноги, вот кто благословит нас своей интеллигентной ручкой, окропит своими горькими слезками, отведет к прихожанам и скажет: просите прощения, ибо вы тяжко перед ними провинились.
— Ах, брат, брат, — сказал я. — Почему ты ничего не можешь и не хочешь понять? Все, что ты делаешь — белое, а что другой — черное. Ответь прямо — разве мы не выжимали из них все соки? Представь себя на их месте, спроси себя, как бы ты поступил.
Однако брат снова стал выкрикивать те же презрительные слова, и я, потеряв терпение, бросил:
— Да, вы были и останетесь кулаками.
Вдалеке все еще гремел гром. На западе, над болотистыми лесами, видно, хлестал дождь, но здесь, над нашей островерхой ригой, над белеющими в темноте стенами мельницы, над скошенным лугом, высоко светил месяц и приглушенные лесные вздохи плыли над верхушками деревьев. Оглядевшись, я быстро зашагал по узкой тропинке, петлявшей по лесной опушке, прошел мимо устроенных между двумя елями качелей, на которых мы качались в детстве, мимо огромного, в лишаях, валуна. Я знал, что по ту сторону еловой стены скошенные луга — ветерок из чащи приносил сюда запах свежего сена, — и окаймлявшая их река, заросшая черной ольхой. Справа возвышалась гора, простиравшаяся далеко на восток — я шел по отбрасываемой ею тени. В годы моего детства и тут была пуща, но отец вырубил деревья, орешник, выкорчевал пни, и теперь здесь росла ранняя картошка, которая давала прекрасный урожай на сером лесном песке.
Доведется ли мне когда-нибудь снова походить по столь любезным моему сердцу тропинкам детства? И выдастся ли когда-нибудь такой великолепный вечер? Я чувствовал — это вечер прощания с этими деревьями, месяцем, лугами. И, как бы зная это, ночь щедро одаривала меня своими запахами и чарами. Я взобрался на гору: на север, насколько хватало глаз, уходили леса, залитые тусклым сиянием. Вот белый, петляющий через топи большак — по нему мы ездили на базар. Вот затопленные лунным светом луга, вот дымящееся русло реки, вот клокочущая, низвергающаяся с плотины цветными каскадами вода.
Над моей головой зашелестел кроной одинокий дуб, покинутый всеми в чистом поле.
Все еще погромыхивало. Мое внимание привлек далекий красноватый огонек среди топей. Через лесную чащу я зашагал прямо к нему. Вдруг, ломая кусты и фыркая, на дорогу выбежал дикий кабан. Я успел увидеть только его клыки и взъерошенную спину. Выждав, пока уймется колотившееся сердце, я двинулся дальше — шел медленно, обдумывая каждое слово, которое я только что слышал в избе. И те, что слетали с моих уст, и те, что выкрикивали отец и брат. Я брел на тот красноватый огонек, словно меня выгнали из дому, и никак не мог взять в толк, куда и зачем иду. С глаз моих как бы упала пелена, и слова, которых я раньше не слыхал и которым не придавал никакого значения, вдруг обрели вес и смысл. Брат — маленький диктатор, фашист, разве он не злостный притеснитель, угнетатель? Как бы заносчиво он ни разглагольствовал, он всегда будет марионеткой таких мельников, как мой отец. Вдруг я почувствовал себя в шкуре человека, который долго читал текст, написанный на чужом языке, понимая смысл только отдельных слов, пока не раскрыл лежащий рядом словарь. Я никогда не питал доверия к абстрактным, обобщающим понятиям. Каждое событие или явление я всегда воспринимал в его конкретности, в его индивидуальном обличье, избегая как бы упрощающей все, отметающей специфические черты универсальности. Тирания абстрактных понятий меня страшила. Под их покровом рыдала истинная душа вещей, скрывалось что-то непонятное, неуслышанное, задыхалась и стыла жизнь. Я всегда ощущал своевольный диктат разума, без которого претендующее на объективность познание невозможно. Такова природа нашего мышления, нашей логики. И, размышляя о людях, собираясь их судить, я прежде всего старался представить себя на их месте. Понять — значит оправдать. Но теперь я чувствую себя в силах взглянуть на некоторые вещи со стороны, не ставя знака равенства между ними и собой. Я постепенно уяснил для себя, что авторитет власти, та или иная идеология могут существовать, только стремясь к безоговорочному обобщению всех явлений, к установлению единых законов и закономерностей и руководствуясь ими. Таков характер не индивидуального, а универсального мышления. И оно обязательно. Во всем должен существовать порядок. Казалось бы, такие простые истины, но я радовался им, Как обреченный, которому оставили крупицу надежды на свое оправдание. Почему я этого не мог понять раньше, упорствовал, чего-то ждал? Может, я и впрямь неисправимый индивидуалист? В глобальном смысле и я, и мой отец были не исключением, а только представителями, в лучшем случае, единицами определенных социальных групп. Хотя я почему-то отказывался признать, многие — если не все — наши поступки определяло социальное положение. Нас ужасала и приводила в отчаяние правда, которую нам говорили в глаза. Мы скрывали ее от себя и от других, как скрывают какой-то порок.
Промокший до пояса, я брел через луга и думал, медленно, непривычно медленно, делая чуть ли не на каждом шагу остановки и все время к чему-то прислушиваясь. Вдали все еще рокотал гром, сверкали бледные молнии, на востоке светил месяц. Ночь, воспетая и прославленная романтиками, глухо погромыхивая, проваливалась вместе со мной куда-то в прошлое. Но вдруг вспыхнул ярко-красный огонь. Я смотрел, как он разливается на востоке по небосводу, как тает его теплый, но все же не очень приветливый багрянец. Снова бабахнуло.
Проблеск за проблеском, мысль за мыслью, словно глухие, неожиданные, переворачивающие все мое существо удары, и тишина, к которой я прислушивался, весь обомлев. Эти мысли были неожиданны и многое сулили, но они требовали решимости, давно уже не свойственной мне решимости — куда только она девалась, ведь было время, когда я дрался с мальчишками и клал на лопатки не одного своего сверстника; хватало мне и смелости. Где она теперь? Передо мной открывались новые просторы познания, еще туманные, расплывчатые, но вполне угадываемые. Смогу ли я начать все сначала? Откуда взять силы? Вернусь ли я? И если вернусь, то ради чего? Я слишком далеко зашел, а ведь знания порой не спасают, а губят. Я не раз убеждался в том, что везет в жизни пошлякам, циникам, ничего не понимающим, не чувствующим никакой ответственности. Как все для них просто, с какой спокойной совестью они расталкивают других, протискиваются вперед, несут ахинею, а другие слушают их и понимают!
Как будто рассвело; туман стал рассеиваться, четко проступили все контуры: дуб, возле него иссохший, как скелет, расколотый молнией ствол клена, но там, чуть дальше, в ложбине, еще висят клубы тумана, а еще дальше — нежные, манящие, загадочные его клочья. Кто-то тебя поторапливает, подстегивает: вперед, хотя бы еще на шаг. Ты не должен быть отброшен в сторону, не жди, пока тебя оттолкнут, высмеют, обругают. Стремись из последних сил вперед, вникай в самую суть, пробирайся в самую чащу и будешь спасен, тебя услышат, и крестьянин, встретившись с тобой ранним утром на дороге, поприветствует тебя.
Но почему так колотилось сердце? Почему горло вдруг сдавили рыдания — я не сентиментален и не помню, чтобы когда-нибудь плакал. Почему из сокровенных глубин, из моего нутра рвались наружу, затопляя ночные поля, и беспредельная преданность, и любовь, и надежда?
Я и не заметил, как очутился на краю топи, возле избы кожемяки Майштаса.
Сын Майштаса Таутгинас, высокий гимназист с бледным болезненным лицом сидел за столом, на котором коптила лампа, и что-то писал. В комнате было душно, стоял смрад от выделываемой кожи. Увидев меня, Таутгинас немало удивился, покраснел, прикрыл свои бумаги и поднялся.
Несколько лет тому назад я еще видел его на отцовской мельнице, хмурого, сосредоточенного. Работал он без души, и брат Миколас инстинктивно ненавидел его, а отец побаивался. Не раз я был свидетелем того, как он, размахивая руками, что-то объяснял кучке рабочих. Стоило кому-нибудь из нас подойти, как разговор тут же обрывался. Он, наверное, распространял и запрещенную литературу. Однажды даже забастовку устроил.
Я смотрел на младшего Майштаса снисходительно, почти свысока, как бывалый, много повидавший в жизни человек. У меня не было никакого желания с ним спорить, да и он был не из словоохотливых. Только поглядывал на меня исподлобья. Но однажды он не выдержал — сорвался. Сколько пыла, укрощенной энергии, тайной ненависти было в его словах! Их лавина меня просто подхватила, понесла, бросила в самую бездну. До сих пор перед моими глазами стоит его разгоряченное лицо в мелких капельках пота, пухлые губы, а в ушах звучат его слова: «Революция, пролетариат, диктатура…» Лицо словно озарено студеными зарницами Петербурга; я как бы видел срываемые со стен объявления, мостовую, усеянную воззваниями и газетами, пламенных ораторов, что-то кричащих с крыш вагонов и с балконов толпе чумазых рабочих, видел, как они толкутся, грозят кулаками окнам, за которыми в страхе прячутся чьи-то бледные физиономии.
Поначалу Майштас-младший встретил меня недоверчиво, словно вопрошая — по какому, мол, делу пришел, теперь ведь он власть, вечно митингует. Но понемногу мы разговорились. Каждый старался обскакать другого, дополнить сказанное; мы разговаривали, склонившись друг к другу, как два заговорщика, которые боятся, что их могут услышать, и изредка косились на окно, — по стеклу тихо постукивали ветки сирени. В открытые двери слышно было, как храпит пьяный отец Таутгинаса. Майштас-старший тяжело ворочался в постели, стонал, вздыхал, но шепотом мы разговаривали не из-за него.
Таутгинас откуда-то вытащил бутыль самогона. Наше сближение длилось недолго. Хорошенько захмелев, Майштас-младший уперся локтями в стол, снова уставился на меня, стал поносить своих врагов, угрожать им — к их числу, видно, принадлежал и я. Его опять охватил очередной порыв энтузиазма. Я смотрел ему в глаза, на его крупное мужское лицо с выпирающими скулами, следил, как он то отодвигает от себя бумаги, то снова придвигает, прижимает их локтями, поглядывает на сваленные на столе брошюры и газеты… Как внезапно мы бросились друг другу в объятия, так внезапно и остыли. В наступившей тишине было слышно его тяжелое дыхание. Чувствуя на себе его цепкий взгляд, я смотрел, как розовая бабочка билась о стекло лампы — пыльца облетала с ее широких, старательно выгравированных крылышек. Пыль… пыль. Маленькие облачка пыли плыли по избе, щекоча ноздри. Перед глазами все время стоял отец — маленький, в мучных пятнах, оглядывающий притихший двор мельницы, стоял брат со сверкающими злобой глазами и оглядывался. Я не вернусь в свой дом как враг, у меня нет, попутчиков, хотя, если послушать брата, я выродок и изменник. Мне по-своему нравится Таутгинас, хотя его прыть, которая объясняется молодостью, категоричность просто озадачивают. Но чего от него хотеть — он работал на мельнице моего отца, таскал мешки, а я…
Я чувствовал, что какая-то сила восстановит их всех друг против друга, и тогда останется… Мне хотелось сказать об этом Таутгинасу, о многом хотелось ему сказать, но меня обижала эта его легкая ирония, эта снисходительная усмешка, с которой взрослые обычно смотрят на шалости детей.
Никто мне не позволит паниковать, бить в набат, никому не нужны мои предостережения, но, видно, мира и спокойствия никому не надо. Что ж, это их дело. Не береди мою душу, боль, позволь поразмыслить в тишине о том, что я понял и что я знаю.
Таутгинас задыхается в тесном лабиринте своего естества, хаотических чувств и мыслей. Брату нравится, когда все вокруг вздрагивают от его крика, он прямо-таки ловит испуг в чужих глазах, каждое его движение, жест требуют внимания, послушания, панического страха и уважения. Он боится, что кто-нибудь начнет ему перечить, противиться, встанет поперек дороги. Поэтому он инстинктивно всех пугает. Ему во что бы то ни стало хочется приказывать и править. Я ни разу не видел, чтобы он спокойно сел в седло — вылетает из ворот, стегая коня. И все время в себе что-то усмиряет, пытается превозмочь. Когда он дома, даже мать ходит на цыпочках — он всюду сеет опаску и страх, отец, и тот почему-то избегает его взгляда.
Но разве такие люди, как Таутгинас, когда-нибудь уступят ему дорогу? А почему, собственно, они должны уступать? Кто их может заставить? Кто?..»
Когда во дворе Диржиса снова воцаряется тишина, Миколас Мильджюс вытаскивает погнутую фляжку с водкой и пьет. Видно, как у него при каждом глотке ходит кадык. Он вытирает тыльной стороной ладони рот, откашливается, снова пьет, пока глаза его не стекленеют.
— Почему ты так меня ненавидишь? — спрашивает Грациеле.
— Ты еще спрашиваешь?
— Ты всех ненавидишь. За что ты их расстрелял?
— Кого это «всех»? Даукинтисов? Даукинтисы — вши. Они ломаного гроша не стоят. Их могут давить все, кому не лень.
Снова заладил свое, думает Грациеле.
— А ты чего сюда приплелась? Тебя, видно, так и подмывает посмотреть, как я теперь выгляжу. Вижу — следишь за каждым моим движением и радуешься, смотришь на меня, как на подыхающего волка. Все вы теперь радуетесь; все, что были мелюзгой, спрашивают, почему их угнетали. И ты такая же! Все вы желаете моей погибели. Но нет, я так легко не подохну. Они меня еще попомнят, еще поползают передо мной на коленях, и первый — Майштас. Мильджюса так легко не возьмешь.
Взгляд его цепляется за сваленную в углу утварь. Рассохшиеся бочки, корыта, старые колодки, ступа, люлька, сбруя с бубенчиками, спаситель с обломанной рукой. Ворох старых журналов, книг и молитвенников. Покрытая пылью подшивка «Солдата», экземпляры «Стрелка». Некоторое время Миколас бессмысленно смотрит на эту груду. Взгляд его задерживается на одной книге — на ее обложке поникшая березка и колокол. ВИГАНДАС МИЛЬДЖЮС. СТИХИ И СЕНТЕНЦИИ. Миколас, осклабившись, листает книгу и откладывает в сторону.
— Сопли моего братца.
— Где теперь Вигандас? — спрашивает Грациеле. — Он даже собирался твоего ребенка усыновить.
— Где? Я слышал, он в какой-то конторе устроился вроде бы бухгалтером. Он везде дома, везде и нигде.
— И у тебя дома нет.
— У меня? Да ты меня с ним не путай, мужчина я или нет? — Миколас пытается ее обнять.
Это твое счастье, думает Грациеле, что ты не знаешь, какой ты мужчина. Я многое могла бы сказать, но не хочу… боюсь. Она поглядывает на его руки с набухшими венами, лицо, глаза — дрожащими пальцами Миколас пытается набить обойму патронами. Потом Грациеле чуть приподнимается, пытается взглянуть в оконце, но Мильджюс одергивает:
— Не двигайся.
По ее лицу скользнул испуг: «не двигайся» — этого и следовало ожидать, он следит за ней. Грациеле чуть-чуть подается вперед, но Миколас кладет ей руку на плечо и, странно улыбаясь, говорит:
— Разве мы не одной цепью связаны? У нас с тобой одна дорога, детка. Хочешь не хочешь, а одна, и никто тебя не спросит. Надо, понимаешь? Так надо.
Грациеле еще пробует превратить его слова в шутку, пропустить их мимо ушей, хотя сердце бешено колотится — господи, куда она попала? Что ее сюда привело? Она пошла за ним не задумываясь, скорее из любопытства — как он теперь выглядит, что скажет? Раньше он ее презирал, а теперь, оказывается, боится.
Ладно, она пойдет с ним, только пусть он уберет руку с ее плеча, пусть успокоится.
— Я спокоен, — говорит Мильджюс. — Я теперь спокоен как никогда. Мне уже нечего терять, теперь я как кремень. Понимаешь, кремень? А ты пойдешь со мной, потому что слишком много знаешь и со многими из нас знакома. Пойдешь только потому, что радуешься. Радуешься, что так со мной вышло.
Конечно, они все могут. Могут сделать так, что не вернешься, что — даже если тебя и отпустят — не посмеешь людям на глаза показаться. Распустят всякие слухи, время-то теперь вон какое.
Совсем захмелевший Мильджюс возится с обоймой и без устали бормочет: пойдешь, пойдешь. Глаза его горят злорадством. Рядом лежит замусоленная тряпка, Грациеле чувствует: он ни на секунду не спускает с тряпки глаз. Может, нарочно, чтобы попугать, положил ее рядом с собой. Не успеешь и пикнуть, как заткнет этой тряпкой рот.
Видно, как судорожно подрагивают набухшие вены на руках Миколаса. Никакой жалости, говорит он. Замешкался, заколебался — трах, и каюк. И закукует тебе кукушечка в березовой роще. Будь начеку, бди. Каждый, кто может улизнуть, твой враг. Надо сделать так, чтобы ни у кого не было дороги назад. Там, в волкомах, они умеют заманивать, расшатывать наши ряды. Есть у нас один такой девственник. Однажды он ляпнул, что и среди нас, мол, имеются такие, которые замарали наше знамя. Не меня ли, не таких ли, как я, он имел в виду? Мы все переглянулись, и судьбу его решили тайком, на месте, он и заподозрить ничего не успел. Таких надо убирать в первую очередь.
Грациеле снова пытается приподняться, но, пригвожденная взглядом Мильджюса, замирает.
— Не ерзай, голубушка, не ерзай. Угодила в наши сети — не выпутаешься, ни один человек тебе не поможет. Думаешь, никто не знает, что ты сейчас со мной?
Грациеле не выдерживает, бросается к нему чуть не со слезами: чего ты хочешь? За что меня мучаешь? во что я из-за тебя превратилась, боже, боже… Уткнулась в солому и давай всхлипывать.
— Ха… ха, — смеется Мильджюс, пытаясь погладить ее.
— Не лезь! Отвяжись от меня, ско…
— Ах, ты!.. — вскакивает Мильджюс. Потом, чуть успокоившись, бормочет: — Пойдешь… пойдешь… куда я захочу, пойдешь, голубушка, пойдешь… пойдешь.
Тошно от этого голоса, но надо молчать и терпеть. Их взгляды встречаются. Его глаза по-прежнему горят злорадством. Неужели ему доставляет удовольствие видеть, как его жертва мечется, неужели ему приятно видеть ужас в ее глазах? Грациеле, пришибленная такой мыслью, застывает с раскрытым ртом. Не поднимая головы, Мильджюс продолжает набивать обойму патронами. Длинные, свалявшиеся волосы ниспадают на плечи.
— Да, пойдешь, — говорит он, заталкивая в обойму последний патрон, и впивается в Грациеле таким взглядом, от которого она съеживается, каменеет, как надгробие, оставленное у дороги на долгие годы. Мы умеем не только уговаривать, — продолжает он. — Мы и заставить можем. Другому, глядишь, и неохота связываться с нами, но его никто не спрашивает. Взять хотя бы тебя. Ненавидишь меня, может, даже испытываешь ко мне отвращение, но… сама, против своей воли, приходишь. Ты прирожденная раба. Ты и изменить-то не сможешь, даже если захочешь. Никто тебе меня не заменит. Разве я неправду говорю, голубушка? — и он снова тянет к ней руку.
Грациеле отстраняется от него. Глумись, думает она, глумись, если тебе нравится.
— Видишь, ты уже просишь о милости. Так и они. Другой, может, и не хочет с нами идти, но иного пути у него нет. Сам приходит. Какая сила их сюда приводит, поди угадай. Вот ребус был бы для братца Вигандаса. Приходят к нам и ласковые, хрупкие, маменькины сынки. Чего им не хватает? Кто их против шерстки погладил? Если захочешь, сможешь их опекать. Но и они порой такие коготки показывают — только берегись. Вот тебе и невинные агнцы. Коли раз волком завыл, то выть тебе волком всю жизнь. Ты, видно, думаешь, тут возможна половинчатость? Середина? Ни черта! Смерть так смерть. Она не посмотрит на твои красивые глаза, не пожалеет, не погладит, не спросит, что ты сделал. Всех, кто с нами, ждет один конец. Люди — сволочи, вот что я тебе скажу. Все сволочи. И ты такая же, не лучше других.
А потом, уже совсем опьянев, брызгая слюной, он начинает разглагольствовать о самопожертвовании, о решимости, о силе воли, о том, что не надо поддаваться слабости, что настоящие мужчины…
Старая песенка, как сказал бы его брат Вигандас.
Лавина жестокости и смерти, вырвавшаяся из средней Европы, выбросила сюда свои обломки, оставила идолов и зловещие, ничем не прикрытые гримасы бессильной злобы.
Взгляд Грациеле впивается в заросшее щетиной лицо Мильджюса — выпирающие скулы, ввалившиеся, лихорадочно горящие глаза, блуждающие и выискивающие что-то вокруг, цепляющиеся за каждый предмет — остаток чьей-то жизни. Грациеле чудятся в этой груде вещей чьи-то волосы, стоптанные туфельки и поношенные платья… Жестокость Миколаса обернулась против него самого и давит, душит его. Он расстегивает ворот солдатского мундира, кладет обе руки на шею Грациеле и начинает судорожно ловить ртом воздух. Пусти, пусти!
У него в глазах стоит расписной сундук.
Этот сундук, битком набитый поношенными платьями, комбинашками, шелком, рулонами английского сукна, серебряными и золотыми украшениями, посудой, был спрятан на чердаке у хромоногого Ошкутиса, жившего на берегу озера. Миколас Мильджюс попросил, чтобы тот сберег его, посулив за это щедрую мзду. У такого горемыки, отца пятерых детей-оборвышей, обыск делать не станут.
Ошкутис приютил в своей риге нескольких мужиков, уклонявшихся от воинской повинности. Они ему и дрова пилили, и едой снабжали. Куда бы Ошкутис ни шел, он непременно заглядывал в ригу. Ему нравилось разговаривать с этими мужиками, нравилось распивать с ними водку. Все вечера, пока жена хлопотала по дому, носила воду, рубила хворост, он проводил с этими дезертирами. Выйдет, бывало, во двор, оглянется и снова ковыляет к риге, жадно затягиваясь дымком папироски. Ригу сторожила шелудивая собака, охраняли и девчонки Ошкутиса, вечно шнырявшие по двору. К тому же изба стояла на пригорке, и все отсюда было прекрасно видно.
Ошкутис — маленький сухопарый человечек с резкими, мелкими чертами лица, с черными, залитыми сивухой глазами. Устроившись на самом почетном месте — ведь он здесь хозяин, — Ошкутис понимающе, с тайной завистью поглядывал на этих здоровяков и посасывал свою папироску. Те пытались во всем ему угодить. А с его уст только и слетало: конечно… ага… то-то… само собой… я и говорю… как же, как же… ой, нет, так негоже.
Когда кто-нибудь напивался, то волок за собой Ошкутиса, как собственную тень. Стрясется с кем беда, первым вспоминает его. Вспоминают его и те, у кого совесть не чиста — Ошкутис их успокоит. Любой, догнав припадающего на больную ногу Ошкутиса, усадит его в телегу, поможет нести тяжелую ношу. Все к нему добры, все его жалеют, и по тому, как ему помогают, он и судит о людях. Ошкутис удобен для всех. Если кто-нибудь хочет постучаться в чужую дверь, но из-за самолюбия или по другим соображениям не осмеливается это сделать, то призывает на помощь Ошкутиса. Хромой любую дверь настежь распахнет. Своими привилегиями он пользуется даже с некоторой гордостью. Всюду, где собирается честной народ, увидишь и заросшего щетиной, задирающего нос Ошкутиса.
Но вот покой Ошкутиса нарушил вооруженный отряд. Белый как мел, Ошкутис хромая поплелся в клеть, показал пришельцам уставленные пыльными бутылками сусеки, повел непрошеных гостей в покосившийся хлев. В висках стучало только одно: как бы не обнаружили в риге прикрытого сеном лаза в бункер. Пришельцы окружили закопченную баньку, окольцованную старыми почерневшими ракитами, поглядели на пруд, берега которого заросли вербами и осокой, потом вдруг налегли на дверь и вошли внутрь. В баньке было тепло, пахло потом, мылом, паром и березовыми вениками, камни в печи еще не остыли, а на полу посверкивала вода в шайках.
— Когда топил? — морща черные брови, спросил командир отряда Юодка, высокий, крепко сбитый мужчина. Ошкутис против него ну просто карлик.
— Вчера…
— Кто тут мылся?
— Бабы деревенские, — сказал Ошкутис, косясь на лавку.
Ночью тут и впрямь ведьмы пировали. Мужики, которые прятались в риге, привели в баню своих жен. Всю ночь дым стоял коромыслом. Ошкутис, который остался во дворе на страже, застыв, прислушивался, и от холода его даже колотить начало. Полная луна, скрывавшаяся за тучами, напоминала ему что-то постыдное, бабье. Не вынимая изо рта папироски, хромой вглядывался в залитые луной сумерки, в озерную гладь. И извив большака, и округлость холма — все рождало в нем что-то мучительное и похотливое.
Обрыскав все углы баньки, Юодка со своими бойцами забрался на чердак. Там, под кучей всякого барахла — изношенных деревянных башмаков, полуистлевшей утвари, старой сбруи, корыт, ступ — он обнаружил сундук для приданого.
— Сундук не мой, — сказал Ошкутис, — не открывайте.
— А чей же?
— Соседа. Привез, чтобы я его постерег. Я ни разу его не открывал, не знаю, что в нем. Как привезли в конце войны, так и стоит.
С сундука тотчас сбили оковки, и бойцов, которые рылись в нем, вдруг ослепил блеск серебряной и позолоченной посуды, дорогих украшений.
— Какой позор, Ошкутис! Ай-яй-яй, — сказал Юодка, извлекая женские платья, пальто, комбинашки, чулки, туфельки, рулоны английского сукна. — Твоя баба ходит, как пугало, юбка сшита из мешковины, и та вся в заплатах, твои озябшие, посиневшие дети сосут с голоду пальцы, а ты эдакое богатство скрываешь! Ай-яй-яй! Нет, ты мне все объяснишь, змееныш. Кто привез? Когда? С кем? Где ты бандитов прячешь? Прихвостень! — кричал Юодка, тесня Ошкутиса, который в страхе пятился назад, пока не зацепился за какого-то разиню и не растянулся. Вот так враг! Такому и затрещины не влепишь, прикладом не огреешь. Таких на месте…
Юодка видел в мокрой кроватке под тряпьем крохотное, чуть живое существо — оно все пылало от жара; видел, как мать в отребье наклонилась над ребенком, послюнявила тряпичную соску и втолкнула ее в обожженный лихорадкой рот больной дочурки; видел четырех других девочек, которые посиневшими от холода пальцами чистили картошку; видел, как они болтали под лавкой ногами в цыпках и коросте — четыре пары голодных глаз впились в пришельцев, провожая их до кухни, где мать мешала пойло из конских яблок для свиней. Нет, не глаза женщины встретили пришельцев, а серость и пустота, смирение, смрад несвежей постели. И грязь, грязь. Вся ее жизнь, казалось, отражалась в глазах. Осень, беспросветная осень. Ошкутене двигалась как заведенная, все делала голыми руками, но сама она в этой жизни вроде и не участвовала. А ведь когда-то была смазливой девкой. Юодка в ту пору, когда она на вечеринках отплясывала, еще батраком был.
Опустив испачканные жижей руки, Ошкутене стояла посреди кухни, и весь вид ее как бы говорил: «Что поделаешь, если у меня такой муженек?» Кто знает, то ли рабское смирение этой женщины, то ли нужда и убожество так озлобили Юодку, что он, еще не найдя сундука, стал ругаться и гнать прочь Ошкутисовых дочек, следовавших за ним по пятам — не было у него ни сахарина, ни леденцов, — и изо всех сил пнул мекавшую среди кучи хвороста козу.
— Переворачивайте все, ищите сколько душе угодно, — говорила Ошкутене низким бесцветным голосом, напоминавшим шелест промерзшей хвои или соломы. Казалось, что бы тут ни случилось, Ошкутене не перестанет двигаться, подталкиваемая непостижимой силой, ходить в хлев, ригу, кормить скот, и глаза у нее будут серые и сухие, как земля, скованная стужей. Ни испуг, ни отчаяние не заставят ее опустить руки. Даже если весь небосвод от края и до края зальет кровавыми сполохами — а отсюда далеко видно, — если вся деревня высыпет на улицу, чтобы посмотреть на это, даже если у риги грохнется наземь ее муж, прошитый пулей, Ошкутене будет спешить с погнутым ведром в хлев, как спешила до сих пор. Непривередливая, непритязательная, с омертвевшими нервными окончаниями. У матери-природы, наверное, были свои соображения, когда она постепенно выстуживала все чувства у этой женщины. От Ошкутене никогда не услышишь ни стона, ни жалобы на то, что руки ломит, ее застывшее лицо никогда не выдавало смертельной усталости. Она от всего отреклась, но ради чего? Ради своего увечного, болезненно самолюбивого мужа, ради того, чтобы пять ее желтых, как воск, девочек носились по избе из угла в угол…
«Идемте отсюда поскорей», — казалось, подхлестывал пришельцев какой-то голос, но Юодка все еще рыскал по закуткам, ругался, брызгал слюной: ничто его так не возмущало, как это противное смирение, когда человек из последних сил цепляется за жизнь, как лишай за камень. Вот какова человеческая натура и до чего же она живуча!
Не вызвал у Юодки симпатии и хозяин, которому было безразлично, что он прячет под своей кровлей. Неприкасаемый, сидящий в присутствии всех за столом и еще задирающий нос! Бандитов у себя под боком пригрел. Ну, он у меня еще попляшет!
— К стенке становись, гад ползучий! — кричит Юодка, вытаскивая пистолет. — Отвернись! Где ты бандитов прячешь? Считаю до десяти. Один… два… три… Отвечай!
Но Ошкутис вдруг медленно поворачивается, впивается взглядом в Юодку и говорит:
— А вы откуда знаете, что я прячу? Каружене, что ли, сболтнула? Пусть она лучше сундук этот заберет. Тут и ее доля имеется. Первый ее муженек с Мильджюсом привез. Не раз ко мне приставала: отдай, привези. Говорю, не повезу, сама возьми. И чтоб посреди бела дня…
Пинок тут же заставил его замолчать.
— Уй-уй-уй… уй-уй-уй, — вопит Ошкутис, катаясь во дворе у поленницы.
Его, стонущего, волокут к телеге, связывают руки, ноги. Потом люди Юодки направляются за сундуком, по дороге из него выпадают какие-то вещи. Но Юодка притворяется, будто ничего не видит. Ошкутене бежит следом и кричит: возьмите, все возьмите. Чужого нам не надо.
— Ясное дело, возьмите, — бросает из телеги чуть оживившийся Ошкутис. — Пусть Каружене, эта к… — Но люди Юодки тут же затыкают ему рот, и телега с грохотом спускается по проселку с пригорка.
— Каружене… чертова баба, будь она неладна, — бесится Юодка. Всюду она лезет, все знает, всюду, куда надо и не надо нос сует. Мало ей того, что Таутгинасу Майштасу голову вскружила. К ней не один его боец подъезжал. Спору нет — смазливая бабенка, и смеется так, что кровь в жилах закипает. Попробуй удержись от такого соблазна! Ах, не кончится это добром. Только украшений из сундука ей не хватало!
После того как Каружене показала ему дорогу в бункер, где прятался ее бывший муж, перед ней все двери нараспашку. Но интересно, какую мину она состроит, когда все эти драгоценности бросят ей под ноги и спросят, откуда она про них знает?
Потом по деревне поползут слухи: мол, вызвали Каружене в волость, а она, бестия, выкрутилась, отбоярилась — не видала никакого сундука и никогда о нем с Ошкутисом не говорила.
— Как же не говорила, — скажет с обидой Ошкутис. — Намедни, когда я на лестнице забегаловки стоял, ты подошла ко мне, тронула за рукав и тихонько спросила: «Когда с сундуком пожалуешь?» Так и сказала — «пожалуешь». Сама, говорю, приезжай, только непременно средь бела дня, чтоб все видели. Как же я приеду, сказала ты, если там у тебя бандитское гнездо? Ты бы давненько этот сундук забрала, если бы не страх. Как сейчас помню свои слова, даже показать могу, как я стоял на лестнице. И Криступас Даукинтис может засвидетельствовать, он находился неподалеку, слышал — я говорил громко. Хоть он и не любитель подслушивать, о деньгах при нем не заикайся, но и то застыл, взнуздывая гнедую. Потом вошел в забегаловку и спросил, чего эта змея подколодная от тебя хочет. Гони ее взашей, сказал он. Может, забыла, что еще ты мне тогда сказала? — выговаривал Ошкутис Каружене. — Ладно, я тебе напомню. Ну, если на то пошло, сказала ты, я тебя, выродок, по миру пущу. Ты назвала меня, выродком, Каружене, и есть человек, который может это засвидетельствовать. Как тебе теперь не стыдно людям в глаза смотреть, — продолжал Ошкутис, глядя, как двое бойцов удерживают рвущуюся к нему Каружене.
Но больше всего слухов будет о том, как Юодка издевался над инвалидом Ошкутисом. Всякие там богомолки будут ахать да охать и молить господа, чтобы он покарал нечестивца. Такие слухи будет распускать и сам Ошкутис, кое о чем загадочно умалчивая, а кое-что и перевирая. Его самолюбие будут приятно щекотать слова скрывающихся у него от военной службы мужиков о том, что Юодка и Каружене понесут должное наказание.
— Вот вам и праведник, вот как он умеет обижать простых людей, а вот наше справедливое возмездие, — осклабится Миколас Мильджюс, протягивая чумазому подростку листовки, которые тот расклеит на стенах домов, деревьях и телефонных столбах. В них угрозы в адрес Юодки и Каружене за то, что они так поступают с ни в чем не повинным, богом обиженным человеком. От этого заступничества или сострадания Ошкутис будет пуще прежнего кичиться, а Таутгинас Майштас — злиться.
Сухой, чуть сутулый, ширококостный, Таутгинас жил не в деревне, а в местечке Ужпялькяй. Учителя, поймав на себе его взгляд, отводили глаза в сторону. Особенно избегал этого гимназиста учитель истории Вайтасюс. Чувствуя цепкий взгляд Таутгинаса, он долго листал журнал, дрожащими руками перекладывал какие-то бумаги, все не находил того, что ему было нужно, и, как бы моля о сочувствии, беспомощно поглядывал поверх очков на притихший класс. Горящий взгляд Таутгинаса словно говорил: знаем, что ты за птица, знаем, что брат твой — ксендз, а сам ты преподавал в гимназии, где тон задавали клерикалы.
Однажды Вайтасюс не выдержал: обозвал Таутгинаса сопляком, негодником. Он, учитель, повидал в жизни больше, чем Майштас, он восемь языков знает. «А ты, Таутгинас, кто такой? — тоненьким голоском закричал учитель, задетый каким-то двусмысленным и язвительным замечанием ученика. — Встань, когда с тобой разговаривают!» — кричал побагровевший учитель.
Но уже на следующем уроке в присутствии всего класса извинился перед Таутгинасом. С тех пор он стал избегать его взгляда. Оба делали вид, будто друг друга не замечают, обоим им, видно, досталось от секретаря апилинкового[2] совета Барткуса, который самолично вмешался в их конфликт.
Стихи и корреспонденции Майштаса печатались в газете. Майштас — близкий друг Юодки, комсорг школы. Всюду ему мерещатся миазмы буржуазного национализма. Говорит Майштас прямо, не скрывая своей ненависти к классовому врагу, даже раздувая ее. Гнев отступников его не страшит. Пусть бесится в своем бессилии враг, говорит он, пусть брызжет ядовитой слюной, я хватаю эту гидру за горло, яд ее на меня не действует: за долгие годы рабства в крови моих родичей накопилось достаточно противоядия.
По мнению Вигандаса Мильджюса, Майштас чересчур категоричен — его решения и поступки отпугивают всех, прямолинейность и отвлеченность некоторых высказываний не умещаются в голове Вигандаса. Но мы уже знаем, как не терпит Вигандас обобщений. Ему непонятно, почему Таутгинас рядится в такую тогу. Ведь Майштас по натуре не гордец, даже наоборот. Человек он добрый. Не прочь подтрунить над другими и над собой — такой он в частной жизни, с теми, кого близко знает, кому симпатизирует, кого считает своим другом, и совершенно преображается в официальной обстановке, там он полная противоположность. Как будто его подменили: сразу становится холодным, жестким, язвительным, особенно с теми, кто заденет его, пусть одним, неосторожным словом. В чем причина таких превращений — этого Вигандас никак не может взять в толк.
Это правда, что Таутгинас максималист. Один районный деятель в беседе с ним несколько раз употребил слово «я» — и этого хватило, чтобы Таутгинас покинул его кабинет, хлопнул дверью и поклялся больше не открывать ее.
Впоследствии именем Майштаса назовут в этом местечке улочку, высекут из камня его строгий мужской профиль. Время прилагало все усилия, чтобы запечатлеть его на камне истории решительным и непоколебимым. Его стихи будет декламировать ужпялькяйская детвора…
Своим поведением и манерами Таутгинас старается подражать одному известному поэту. И это ему к лицу, сказали бы многие из тех, кто видел, как пламенно выступает Майштас на собраниях, как читает стихи. Он полон презрения ко всему личному, хрупкому, сентиментальному, интимному. Какая-то часть его личности остается угнетенной, непризнанной. Он ведет с ней постоянную борьбу, лишив ее элементарных прав, может быть, поэтому она берет верх. Майштас влюблен во вдову Каружене. По ночам, когда в окнах местечка гаснет свет и в них стучится только бездомный бродяга-ветер, который трется плечом о стекло, Майштас, заложив руки за спину и вперившись в черное, как уголь, окно, где смутно отражается его лицо, саженными шагами меряет свою комнату. Какие только картины не рисует его взбудораженное воображение! Вот с ее округлых плеч спадает легкая одежда, Каружене смеется, откинув голову. Губы, белые здоровые зубы, плечи… Но… не он обнимает ее, не для него этот смех, переходящий в удушливый шепот. Майштас прислушивается, косится на окно, задергивает занавеску, садится за низкий столик, закуривает, берет перо и пишет. Последними словами честит он себя, безвольную тряпку, чуть не вывалявшегося в грязи, чуть не ставшего жертвой прихотей этой развращенной буржуйки. Но глаза… эти огромные, влажные, полные тайного страха глаза, вопрошающие о чем-то, порой пытливые, не скрывающие презрения…
Пьяные мужики склоняют ее имя на рыночных площадях, при одной мысли о ней плюют на лестницы забегаловок, тянут к ней свои руки, срывают с нее одежду, и еще чернее становится тьма, поблескивающая грязь, призрачный туман над крылечками; влага, до костей пробирающая влага и ярость. Вот с чем надо бороться, бороться за что-то святое, но до жути изгаженное и заплеванное, растоптанное, шепчет Майштас. Ярость и скорбь взывают к свету, жаждут простора, тоскуют по звонкому грохоту моторов, шуму турбин, ибо все вокруг тут такое вялое, медлительное, старое, кривое, покрытое пеленой алчности, отовсюду протягивает свои щупальца кулак, все старое вокруг надо уничтожать, надо все начать сначала, превозмочь вовне и в себе и выбросить на свалку истории. Всё — и кадильницы, и руту, и слезы, и картинки святых. Кончайте шептать молитвы, надо строить новую жизнь, радостную, светлую. Пусть тарахтят по заснеженным дорогам обозы, пусть на ветру полощутся плакаты. О, сколько еще всяких недотеп, сколько врагов, сколько слезливых сантиментов, которые яйца выеденного не стоят!
Надежда, ярость и нетерпимость выстраивали в своеобразную цепочку затасканные, лозунговые слова Майштаса, придавая им силу, свежесть и живость.
Порой Таутгинас и сам не чувствовал, как ноги несли его к той женщине, но… Привычные сцены ревности, упреки, раскаяние… Как все это ему противно! Опомнившись, он замечает две рюмки, стоящие на столике, початую бутылку вина, красноватый свет с улицы, заливающий уставленную цветами комнату. Дом Каружене стоит у самой улицы, напротив забегаловки, и порой слышно, как оттуда с шумом вываливаются пьяные, как тарахтят по мостовой телеги и цокают подковами лошади. Телеги и запоздалые пьяницы, кажется, вырастают между ней и Майштасом, и тогда вдруг глубокая пропасть разверзается между ними. Мало того, заслышав какие-то важные, полные для нее одной какого-то значения звуки, Каружене встает, направляется к окну и вслушивается в тишину. Чего она ждет? Кого надеется встретить? Зрачки ее расширены, лицо озарено тусклым светом уличного фонаря, рука, придерживающая занавеску, неподвижна, и такая тишина окутывает все вокруг, что, кажется, она крошится и в ней трескаются листья фикуса, потом тишину снова разрывает пьяный окрик или грохот тележных колес, летящих под гору, как в бездну…
Но вот Каружене неслышными шагами приближается к нему, осторожно трогает рукой его лицо, гладит голову, лежащую на мягкой подушке, ерошит волосы, прикасается к губам… Не обижайся, не гневайся на меня, не ярись. И ревновать нечего — я твоя, хоть, может, и скверная, но… Я знаю, тебе нужна не такая женщина, прости меня, шепчет ее рука. И ему передается трепет ее тела, успокойся, говорит она… Ты так устал, ты совершенно измочален, я твоя, я с тобой, успокойся, хоть на минуту. Ее душистые волосы шелестят, покрывают его лицо, губы сливаются воедино, превращаясь в один бесконечный вожделенный рот.
Порой он отстраняет ее руку. И тогда в ночи раздается всхлипывание и мнится: кто-то скачет на лошади, где-то цокают подкованные сапоги. В сосновой роще, там, где кладбище, гремят выстрелы. Разве она не отомстила своему мужу, повязавшему на рукав белую повязку? У Майштаса не было сил оттолкнуть ее, а может, не только сил, но и права, к тому же, ему жалко ее. Она такая же беспризорная, непонятая, окруженная со всех сторон бюрократами, такими, как тот районный деятель, по уши заваленный бумагами и кричащий: «Я! Я!» Только уж слишком она наряжается, прихорашивается, слишком любит себя — как же ее перевоспитать? Да и к другим мужчинам льнет. Почему?
— Я чуть ли не на десять лет старше тебя, — сказала она однажды, когда Таутгинас сорвался и напустился на нее. — Все равно ты от меня уйдешь, хоть и сам пока в это не веришь, пока этого не знаешь — я для тебя как путы. Ты сам себя не знаешь, Таутгинас.
Но разве такие слова могли убедить мужчину, который был готов ради нее на все?
— А кроме того, — усмехалась она, — для тебя любовь только пережиток прошлого, ты сам так говорил.
Он приходил к ней, думая, что приходит не надолго, только взглянуть, как она живет, одолжить книгу, перемолвиться словом-другим, а проводил у нее дни и ночи. Каружене сама начинала искать его, если он долго не показывался.
Как говаривал Вигандас Мильджюс, под грозной маской владыки скрывался другой Майштас, настоящий, отвергающий всякие обязательства и расчеты. Его натура все время устраивала ему ловушки. В то время, когда он, еще не зная, куда пойдет, брился, одна его натура знала, куда он направится, что будет делать; знала, почему он петляет по глухим улочкам, где может встретить Каружене. Какие бы громогласные заявления он ни делал, как бы ни разглагольствовал, его тайные наклонности и желания находили уйму предлогов, о которых разум не догадывался, невольно брали его под руку и вели, а ему потом оставалось только возмущаться собой и удивляться. Иногда бывает так, что чем сильнее воля, решимость, тем эта скрытая сила, живущая в тебе, коварнее. Даже воздух местечка был пронизан для Таутгинаса сокровенной сутью этой женщины, даже осенний, клубящийся над землей туман волновал его, словно это было ее дыхание. Таутгинас, по словам Вигандаса, олицетворял собой внутреннее поле борьбы, но отнюдь не победу. То же самое относилось к его поэзии: полное обезличивание являлось только иллюзией. Бежать от себя, отречься от себя, зачеркнуть себя человек не в состоянии, как бы он ни старался. Порой такое самоотречение — не что иное, как обратная сторона самовозвеличивания.
Но мы знаем, что Вигандас Мильджюс не питал особой симпатии к Таутгинасу Майштасу, знаем, как однобоко понимал он некоторые явления…
В эту минуту Майштас с папиросой в зубах, в длинном пальто, в широкополой шляпе, шагает по мостовой. Прохожие здороваются с ним, и он в ответ приподнимает шляпу. Майштас останавливается у доски объявлений, на которую какой-то оборванец наклеивает нарисованную им афишу. Таутгинас останавливается, заговаривает с пацаном, протягивает ему пригоршню леденцов, пятится от доски объявлений и любуется наклеенной афишей. Вдруг до его слуха доносится звук стрекочущего моторчика у мельничной запруды — непривычно звонкий в белесом тумане. Стучит, как пулемет, думает Майштас, прислушиваясь. Этот моторчик приводит в движение пилораму — даже здесь Таутгинас чует запах живицы и древесины. А может, это пахнет еловый гроб, который Таутгинас нес несколько недель тому назад, когда они хоронили Берженаса, убитого людьми Мильджюса?
Звуку моторчика за местечком вторит фырчащий на расхлябанном от дождя глинистом холме трактор, — все это когда-нибудь Майштас восславит в своих стихах. Но теперь не стихи у Таутгинаса на уме: надо как можно скорее рассеять ползущие по местечку слухи о Каружене и успокоить свое сердце, которое так бешено колотится. Майштас направляется к Юодке, прямо в штаб народных защитников.
Юодка сидит за столом, края которого закоптели от папиросного дыма. Рядом с ним — пистолет, ремень. На другом конце стола — Скарулис, приземистый, плечистый, с заострившимся носом и впалыми щеками. Наверное, он и пустил эти слухи по местечку — был у Ошкутиса, и тот, видно, сболтнул лишнее. С нескрываемой обидой Майштас смотрит на Скарулиса, на его большие кирзовые сапоги с загнутыми краями, на ремень, опоясывающий впалый живот, переводит взгляд на Юодку, который навалился на стол, — но тот словно его не видит.
— Садись, гостем будешь, — бросает Юодка, не поднимая головы.
Майштас швыряет в угол свою шляпу.
— Не в гости к вам пришел.
— А зачем? Теперь, когда такие делишки всплыли, ты у нас только гостем и можешь быть.
— Какие делишки?! Черт побери! Ну, я вас всех!.. Этот задрипанный козел Ошкутис!.. К стенке бы его! Ведите меня к нему, да поживей, я ему покажу! Ах, ты!..
— Погоди, не ори, переведи дух.
— Ты, — поворачивается Таутгинас к Скарулису, — эти сплетни по местечку пустил?! Баба. А еще с винтовкой.
— Вижу, сегодня нам не договориться. Уходи, — говорит Юодка.
— Пусть он уходит!
Юодка машет Скарулису, и тот, горько усмехнувшись, скрывается за дверью.
— Пошли! — снова теребит Майштас Юодку.
— К Ошкутису? Никуда я не пойду. Он тут ни при чем. Каружене, чертова баба…
— С три короба наврал… Юодка, неужели ты не понимаешь, что Ошкутис, желая выкрутиться, с три короба наврал? Вот лис… Знаю я таких!
— Ошкутис сундука и не открывал.
— Тогда на кой ляд прятал?
— Разве его поймешь, такой уж он человек — сам не знает, что у него в доме и чего ему надо.
— Э-э, — морщится Майштас. — Я ведь говорил: всех их надо раскулачить, чтобы у них ничего своего не было. Иначе конца не будет! Видишь, что делается: та же нить тянется от одного к другому. Вытрясти бы из них все бациллы. В баню бы всех и парку бы поддать! Глядишь, людьми бы стали.
— Ты кончил? Поговорим лучше, что нам теперь делать. Ты, значит, даже мысли не допускаешь, что Каружене позарилась на этот сундук? Ведь она любит прифрантиться…
— Не допускаю. Не такая она. И ты, Юодка, эту мысль из головы выбрось.
— Погоди, — вдруг спохватывается Юодка. — Не по ее ли подсказке ты сюда пришел?
Юодка внимательно оглядывает собеседника, который сидит потупившись и разглядывает носки своих ботинок.
— Ведь так? Признавайся.
— Ни о чем она меня не просила, только бросилась ко мне со слезами, — говорит Таутгинас, вдруг сжав кулаки.
— И ты ей веришь? Веришь ее слезам?
Таутгинас качает головой: ничего он не понимает, не знает, кому и верить, если уж такая женщина на этот сундук позарилась, если… Нет, это понять он не в силах, это не умещается в его голове, ведь он ей так верил, это, пожалуй, последняя капля, переполнившая горькую чашу. Последняя!
К ним бесшумно, с бутылкой водки в руке подходит Скарулис — видно, Юодка незаметно сделал ему какой-то знак, и мужичонка тотчас все понял. На столе появились три стакана, кружок колбасы, чеснок… Скарулис испуганно поглядывает на разговаривающих друзей: рука Юодки покоится на плече у Таутгинаса, командир отряда наклоняется — ему хочется заглянуть Таутгинасу в глаза. В окне, к которому Майштас сидит спиной, видны берег реки, поникшие вербы и ольха, банька Савицкаса, вокруг которой носится детвора.
— Наливай, чего ждешь, — подхлестывает Таутгинас колеблющегося Скарулиса.
— Понимаю, — говорит Юодка. — Беда, что ты влип, как мало кто из мужиков. Не можешь ты без нее.
— Ты, Юодка, не знаешь, какая она.
Скарулис наконец садится, облокачивается о стол, на его продолговатом лице со впалыми щеками играет почти незаметная, добродушная, правда, чуть насмешливая улыбка. У Скарулиса смирная, послушная жена, она всегда провожает его до самой улицы, когда он отправляется из дому, есть у него и дитя — поэтому то, о чем толкует Таутгинас, его не заботит. И Юодка женат. Жена у него писаная красавица. Хороша и Каружене. Может, она и Юодку чем-то притягивает — не случайно он так легко находит с Майштасом общий язык. Как бы там ни было, Скарулис наливает, и они выпивают.
— Отрава это пойло, ей-богу; отрава, — Юодка вытирает губы, — но… давайте еще по одной. Такое чувство, будто ты, Таутгинас, уезжаешь. И вроде бы навсегда.
— А я и собираюсь. Как это ты угадал? Если ты правду говоришь, что же мне остается? Кроме того, мне здесь не место, нечего мне здесь делать. Говорю вам, говорю, а вы? Эх…
— Беги от нее, и без оглядки. Беги, куда глаза глядят, мы тут без тебя обойдемся.
— То-то, — кивает Скарулис. — Мы уж как-нибудь… — он вдруг понижает голос, почувствовав на себе взгляд усатого мужчины в военной форме, фотография которого висит на стене.
— Беги, — говорит Юодка, — я тебе это как друг советую — добром дело не кончится. Все еще пописываешь? — спрашивает он после паузы.
— Пишу, — подтянувшись, отвечает Таутгинас. Взгляд его сегодня как никогда рассеян и смущен.
— Пиши. И об этой женщине напиши, и о воронах, каркающих над костельчиком. Слышишь?
— Ты что — смеешься? — прислушивается Таутгинас. По его лицу скользит горькая улыбка.
Там, на холме, где стоит старейший в этом краю костельчик, раздается испуганный крик ворон, а через некоторое время — звон колокола.
— Вот против кого мы должны бороться, а ты предлагаешь…
— Ошкутис… — тихо смеется Скарулис.
Серые сумерки вдруг окрашивают комнату в черный цвет, и мужчины выпивают последние капли в полной тишине.
Не пройдет и получаса, как Таутгинас уедет отсюда, чтобы через год снова вернуться и очутиться в руках озверевшего Миколаса Мильджюса…
Проводив Майштаса, Юодка с минуту сидит, опустив голову, упершись обеими руками в край стола, откинувшись на спинку стула; изредка он барабанит пальцами по столу, косится на свои заляпанные глиной сапоги. Скарулис сидит напротив, не спуская с него глаз.
— Куда это его нелегкая понесла? Как бы он какого-нибудь коленца не выкинул… — говорит Юодка Скарулису.
Тот молчит.
— Чертовщина какая-то! Такого еще не было, — продолжает Юодка. — Вот гады, а эта стерва!.. Что мне с Ошкутисом делать, а? Знаешь, что ему грозит? По всем статьям виновен, а пришли — ничего не нашли. Попробуй установи его вину, взвесь, докажи. Понимаешь? Ничего ты не понимаешь. Тебе только прикажи, вели. А что я прикажу? У тебя своя голова на плечах, вот и решай. А то все на меня свалили, ходи за каждым по пятам, замешкаешься на минуту — тут же что-нибудь выкинут. Ну, а Диржисы, не враги — бандита скрывают, Ужпялькис, Малдонис — у каждого по тридцать гектаров.
В дверях вдруг вырастает фигура бледного мужика с большими выразительными глазами. Он весь внимание.
— Чего тебе? — поворачивается к нему Юодка.
— Диржисы не виноваты. Они честные люди. И Ужпялькис честный человек.
— С чего это ты взял, что не виноваты?
— Вижу. Тут ошибиться нельзя.
— А Вигандас Мильджюс? Брат бандита?
— Они давно уже не братья. Это и Майштас может засвидетельствовать. Он мне рассказывал…
— Все-то ты видишь, все-то ты знаешь. Только мы ничего не знаем, ничего не видим. Может, и Ошкутис, по-твоему, честный человек? Одни кричат: все не годится, все надо начать сначала, другие: все честные. Может, ты Константаса Даукинтиса наслушался, у него — все честные, только и слышишь: честный, честный. Вечно ты чем-то напичкан. Думаешь, беспрестанно думаешь. Один твердит: хватай, карай, другой: погоди, надо обмозговать, попытаться убедить. Ступай и агитируй, если тебе хочется. Видишь, что здесь творится, а ты все смотришь, смотришь, будто вчера на свет родился. По-твоему, посмотришь, и они образумятся и все отдадут, скот, все, все.
Какая-то неутоленность чувствовалась во взгляде этого мужика, как-то по-детски целомудренно светились его глаза. Всякое говорили о нем в Ужпялькяй — кто называл его Бернарделисом, кто Бендорелюсом, а кто и Бендорюсом, потому что никто толком не знал, сколько ему лет — одним он казался молодым, другим — пожилым. Одни уверяли, что он «махровый коммунист», а другие — что мягкий, удивительно справедливый человек, преданный душой и телом правде и ничего, кроме нее, на свете не желающий; что в годы оккупации на груди у него даже выжгли пятиконечную звезду и что был он во время войны контужен. Не знали тут люди и кто он по национальности. Одни смотрят па него глазами, полными надежды, доверяют ему свои сокровенные тайны, другие злятся на него, а для третьих он всего лишь Бендорелис. Говорили, что в деревне Беджяй (ужпялькяйцы долгие годы мирно уживались со староверами, которые ее населяли и большинство из которых были плотниками и столярами, да что там уживались — помогали, если у кого-нибудь случалась беда) у него были родственники.
Понять этого человека трудно. Иногда он переминается с ноги на ногу у дверей, словно только и ждет, когда на него наорут, но как только с ним заговариваешь покровительственным тоном (так с Бендорюсом общался Юодка), он тут же тебя обрывает — мол, такой тон не по мне. Когда на него закричишь, полагая, что он вздрогнет, побледнеет, то столкнешься вдруг с несвойственной ему смелостью. Стоит ему распалиться, как он начинает говорить запинаясь, стараясь жестами подкрепить свои слова, а порой разговаривает спокойно, заглядывая собеседнику в глаза; взгляд его дружелюбен и приветлив. Но таким он бывает не со всеми. Некоторым он никогда в глаза не заглянет, есть глаза, в которые он смотрит строго, испытующе. Порой Бендорелис — сама доверчивость и простодушие, все знают, что он контужен, может, поэтому его глаза светятся таким целомудрием, может, оттого они такие мутные, затуманенные, может, оттого он ведет разговор так, а не эдак. Иногда Юодке почему-то даже кажется, что губы Бендорелиса вдруг начинают дрожать или что их сводит судорога — порой он бывает таким взволнованным, так хочет что-то объяснить, высказать, в чем-то убедить, что его даже озноб бьет, но Бендорелис видит, что ему совсем не верят, что вот-вот над ним посмеются и сердито прогонят прочь. Юодка и сам не раз удивлялся: разговариваешь с ним и ясно чувствуешь — человек редкого ума, а только сгинет с глаз — Бендорелис. Ясно видишь — он правду говорит, а ты почему-то не обращаешь внимания. Смотрит он на тебя прямо, честно, а ты — глаза в сторону, думаешь о нем что-то непотребное и всегда ускоряешь шаг, когда он пристраивается к тебе, и калякаешь больше с другими, а Бернарделису только из вежливости позволяешь вставить слово-другое, чтобы он почувствовал, что он здесь последний, однако его слова тут же забываешь. Потом ни с того ни с сего спохватываешься, хочешь искупить свою вину, снова обращаешься к Бернарделису в надежде на то, что он обрадуется и разведет такие тары-бары, что его не остановишь, а он молчит, не слышит, и нет ему до тебя никакого дела — в милости твоей он не нуждается. И ловишь себя на мысли, что ему всегда хочется быть первым, чтобы все считались с ним. До чего же он чуткий и обидчивый, вдруг осеняет тебя, а он, словно в насмешку, такое сказанет, что даже стыдно за себя становится. Поэтому все время пытаешься убедить самого себя в том, что и без того ясно, что сквозит в каждом слове Бендорюса, в его дрожащем голосе, но спохватываешься — поговорил-то ты, оказывается, не с Бендорюсом, а с… Бендорелисом. Ты не можешь все время считаться с его мнением, и сам не знаешь почему, может, потому, что только правда, безусловная правда говорит его устами, и честность смотрит на тебя его насквозь прозрачными глазами. Всем как-то не по себе с Бернардасом, никто не знает, как себя с ним вести — такой он простой, скромный, тихий, так презирает все пустое, то, что сверкает, бьет в глаза, оглушает, не любит тех, кто обуян гордыней, ибо гордыня заслоняет истинное благородство. Если им так нравится, пусть считают его Бендорелисом, он и против этого бунтовать не станет. Придет время — его заметят, оценят. Он не спешит, не лезет в глаза, не разглагольствует попусту. С виду он слабый, но одолеть его невозможно и обмануть тоже. Отвергая все напускное, срывая все маски, он как бы повторяет ход самой жизни; если ты это чувствуешь и знаешь — тебе незачем метаться из стороны в сторону, разрываться и кому-то завидовать.
Бернарделис как никто любит детей, может, из-за них, особенно в те годы, о которых идет речь, он порой был такой нетерпимый, неуступчивый и категоричный… Нелишне добавить, что Бернарделис — это редкое умение видеть насквозь: как ни хитри, как ни выкручивайся, какие слова ни придумывай — он знает, к чему зовет долг, что нашептывает трусость и что — совесть… Он как дымок самокрутки, вьющийся над окопами, когда солдаты сидят без касок, вытирают со лба пот и курят, озирая поля.
Тихо, необычайно тихо становится везде при одном упоминании имени Бернардаса, одни отводят в сторону взгляд, другие смотрят перед собой в одну точку, но немало и таких, которые потешаются, глумятся над ним — Бернарделис…
Вот почему, слушая, как Юодка поругивает Бендорелиса, — обычно он с ним ведет себя по-отечески, говорит покровительственным тоном, но на сей раз терпение его лопнуло (защищает всяких кулаков), — Скарулис говорит:
— Ты его не ругай, не надо. Пусть сам пойдет посмотрит.
— Да, да! Пусть пойдет посмотрит! Как жахнут по нему из кустов — поверит.
— И пойду! — отрубает тот.
— Иди, иди! — машет Юодка, в сердцах листая лежащие на столе бумаги. Хватит голову морочить — скользнет, как тень, и молча смотрит.
Давайте и мы последуем за Бендорелисом. Позже о нем всякое будут говорить: станут уверять, что в тот день на нем была поношенная солдатская гимнастерка, старая, без погон; что он нацепил медаль («Три или четыре», — гордясь своим гостем, скажет Казимерас Даукинтис), что интеллигентный и такой уж простой да ласковый. «Ласковый?!» — подскочит Ужпялькис. «Я сразу понял — честный человек, ой, честный, — подняв предостерегающий палец, будет клясться позднее Константас. — Но говорит с акцентом. На Радзивона из Беджяй похож, может, старик Радзивон ему дядей приходится». — «Инвалид, еще кисть у него вывихнута. Может, там, в лагере (рука у Бернардаса была совершенно здоровой), — скажет Тякле Визгирдене (Бернарделис чуть не задохнулся от ее милосердия; пока Визгирда не видел, она даже пыталась ему кусок хлеба всучить). — Смотрела я на него, смотрела, а у меня из головы один русский солдат не шел. Сахарин моему мальчугану все носил, может, говорю, тот самый. И хромает». (Гостю и впрямь ботинок ногу натер). «То, что он хромает, и я видел, — подтвердит Константас. — Но хороший человек, я сразу отметил, что справедливый».
С Визгирдой Бендорюс обменялся короткими взглядами — так обмениваются перед дракой первыми пробными ударами…
«Я хочу, чтобы ты человеком был», — сказал Бернардас, встретив Криступаса Даукинтиса, когда тот возвращался из местечка с буханкой хлеба. «Я и есть человек! Стараюсь, — отрезал Криступас, нисколько не обидевшись. Это Бернардаса немало удивило. «Стараешься? Нет, ты становишься жалким, — эти слова просто поразили Криступаса. — Даже у своего ребенка ты жалость вызываешь. Ты хоть подумал, кем он станет, когда вырастет?» — «Не береди душу, сам знаю», — промолвил Криступас. Он сразу проникся к Бернардасу уважением. Вот это человек, подумал он, заглушая в себе зависть, которую вызывала у него главная черта Бернардаса — взыскующая твердость и уважение к человеку. Он позавидовал ему, наверное, потому, что прежде никогда не интересовался, кто и о чем говорит, ко всем приходил без всякого, предубеждения, пытался пробиться, невзирая ни на какие чины и звания, искал в каждом с какой-то одержимостью, порой с непонятной болью что-то человеческое. Его охватывало чувство благодарности, когда ему и впрямь удавалось встретить доброго и благородного человека.
Но Юодка, крепко сбитый, деятельный, властолюбивый, не знающий сомнений, почему-то долго не мог понять Бернардаса, порой он просто-напросто не знал, что о нем и подумать, как себя вести с ним, особенно когда тот отвергал отеческий, покровительственный тон Юодки, когда смотрел на Юодку пронзительно, как человек, имеющий на него какие-то права. Этот взгляд Бернарделиса долго не давал Юодке покоя, и порой у него возникало желание послать Бернардаса к черту, однажды он собрался было это сделать, уже принялся копаться в ящиках стола в поисках бумаги для рапорта, но побледневшее лицо Бернарделиса, его дрожащие тонкие губы, глаза — господи, какими глазами он смотрел! Ни у одного из тех, кого ставили к стенке, Юодка не видел такого отчаяния, такой боли, — удержали его: так побледнеть может только исключительно преданный человек, человек, которому дорого все, за что он борется и что делает. С тех пор Юодка вел себя с Бернардасом по-другому: он сам не почувствовал, как исчезли покровительственный тон, насмешки, зачастую довольно-таки язвительные и, должно быть, больно ранящие душу. Но сделал это, увы, слишком поздно — граница так и не успела стереться.
Если пройти вдоль сосновой рощи и заречных лугов на запад, то примерно в километре от местечка мы окажемся на изрытом кротами поле напротив дома Малдониса — стоит он там на целине, на пригорке. На крыше — прогнившие коньки, во дворе — клеть, колодезный журавль, все как у людей, только почему такой разор, такое запустение, объяснить трудно. Говорят, Малдонис очень притеснял своих батраков (у него их, кажется, двое было), любил, чтобы все было сделано чужими руками, и теперь все чего-то ждет. Поговаривали, будто он и золотишко припрятал, но куда именно, и жена не знает. А разруха, которая глаза режет, только уловка, потому что Малдонис прохиндей, уж такой прохиндей, — сказал бы даже Константас.
Малдонене только что корову подоила и с полным ведром пенящегося молока — корова у них лучшая в округе, голландской породы — направляется в избу. Во дворе ставит ведро и, приложив ладошку к близоруким глазам, озирается — редко кто мимо их избы пройдет, а Малдонене все озирается, словно кого-то ждет, такая уж, видать, у нее привычка. Однако, сколько бы Малдонене ни глазела, нас она увидит только тогда, когда мы подойдем совсем близко, может, кого-нибудь и по имени назовет, но, ясное дело, обознается, и радость, вспыхнувшая, было, на ее лице, тотчас погаснет. Малдонене тут же начнет оправдываться и диву даваться: что это такое, людей перестала узнавать, глаза подводят, а кости так ломит, будто кто-то в них шилом тыкает, слов нет, как ломит, ой, ой, будет раскачиваться она, сжав руками лицо, словно у нее еще и зубы болят. Она еле ноги волочит, а он (муж) день-деньской на печи дрыхнет, хоть бы хворосту нарубил или корову на другое место перегнал, ни о чем его не допросишься, вон и поле под картошку не вспахано, застенчиво пожалуется она, зардевшись, особенно если предложит войти в избу — там такой беспорядок, — и, всячески извиняясь, бросится вытирать лавки, собирать грязную посуду. Пол в избе выщербленный, вонь от него ужасная, обои рваные. Но взгляд задерживается не на них, а на сидящем на грязной лавке мальчонке, низкорослом, с обкорнанными волосами, в отребье. Зажав под мышкой пожелтевшую толстую книгу, он встает и плетется за печку. Какие у него глаза, с какой надеждой смотрит он на пришельцев! — видно хочет что-то рассказать, пожаловаться. Отец вечно ругает его за то, что он в костел не ходит, ксендзу во время мессы не прислуживает. Отец упрекает его так, словно он не ребенок, а взрослый, умудренный жизнью человек. «Потатчик! — гневается он. — Фармазон! Сколько их теперь развелось! Бог для него, сопляка, не существует, ишь, что творится! Батюшки светы! Бес в него вселился, что ли. Ну и чертовщина, подумать только!» — кричит он, мечется по избе, потом, схватив со стола краюху хлеба, снова залезает в постель. Но и оттуда он еще долго честит мальчонку, склонившегося над потрепанной толстой книгой.
Это с ним, с этим мальчонкой, долго разговаривал Бернардас-Бендорюс, это ему он оставил книгу (кажется, «Дон Кихота» Сервантеса), это на него он глядел в упор и твердил: «Чуть что — дай мне знать… Я еще загляну к вам. Горького принесу. Читай внимательно». — «Что?» — поднял на него свои большие, ничего не понимающие глаза мальчонка. — «Горького, — сказал гость, направляясь к дверям. — Запомни, по-нашему «картус», а по-русски «горький, горький», — объяснял он ему, как глухонемому. — Тьфу, перец. Это имя такое, понимаешь?» Хотя мальчонка ничего не понял, но имя этого писателя запало ему в память. Вместе с Юзукасом, сыном Криступаса, он через много лет прочтет сочинения Горького и будет гадать, почему с таким жаром Бернардас-Бендорюс произносил это имя, что он искал и что находил в книгах одного из гуманнейших писателей на свете, и вместе с Юзукасом будет вникать, разбираться, и это будет не плоский, не банальный разбор, не школьные слова, а потом еще раз прочтут рассказ «Макар Чудра», легенду о Данко, пьесу «На дне» и другие произведения; будут перечитывать их, с каждым разом находя в них что то новое, постигая их своим сердцем и тем самым открывая для себя этого писателя и человека.
Там, в долине, поодаль от избы Малдонисов, у самой реки, чернеет банька. Банька как банька, недавно построенная, не оборудованная — Малдонис так никогда ее и не оборудует, — но какие у нее углы, как они скреплены: бревна на добрую сажень выпирают. Почему они такие, никто не может понять, даже Константас дивится и никак надивиться, не может. А разгадка простая: Малдонис потому оставил такие концы, что «дерево» портить не хотел. Банька эта — своеобразный склад бревен. Может, когда-нибудь Малдонис ее продаст и, ясное дело, потребует соответствующую мзду за эти концы.
Когда двадцать пять лет спустя приехавший из города мальчонка, тот самый, которого мы видели с книгой за печкой, продаст все эти постройки на дрова, то к величайшему удивлению Альбинаса — так звали этого мальчонку — покупатели будут выбирать самые гнилые, платить за них большие деньги, но, проехав версту-другую, разворотят эту гниль и бросят, а Константас Даукинтис будет без устали уверять всех, что золотишко там все-таки должно быть. Куда же Малдонисы могли деть свои сбережения? Разве видел кто-нибудь, чтобы Мотеюс Малдонис, царство ему небесное, транжирил деньги в забегаловке, курил или пил? Разве удалось кому-нибудь выторговать у Мотеюса что-нибудь по дешевке — бывало, заломит цену, семь шкур сдерет. «Золотишко там должно быть», — будет уверять Константас, вспомнив, как однажды Малдонис крикнул жене, клянчившей у него копеечку: «Может, у меня и есть, но не дам».
Почему же он так кичился перед другими, если был бедняком? От него, бывало, только и слышишь — нищий… этот нищий… тот… А как он умирал? Никого из родни и близко не подпустил, всех палкой отгонял. «Почему же он так себя вел? — сверкнет глазами Константас. — Боялся, чтобы о золотишке никто расспрашивать не стал, верующим был, понимал, если спросят — грех соврать, хочешь не хочешь, но, хоть и не всю, правду сказать придется; надо будет хотя бы признаться, что есть».
«Приезжаю однажды в больницу, — расскажет потом Константас. — Почитай через полгода после того как туда Мотеюса положили. Навещу, говорю, может, он при смерти. Вхожу в палату, смотрю: сидит толстячок такой, красный, как помидор, руки пухлые, словно ниточками перетянуты, и животик, смотрю, отрастил. Сидит, упершись руками в колени, и все на девку поглядывает. Куда она, туда и его взгляд. Девка красивая такая, вся в белом. Ах ты, черт полосатый, думаю, не из-за нее ли в больнице торчишь? Поговорили мы, значит, пошутили, а он меня кулаком все в бок тычет да на девку показывает. Он там лет на двадцать помолодел, ей-богу — харчи хорошие, ешь, сколько влезет. Прошло несколько дней, слышу — Мотеюс умер. Умер внезапно, когда никто этого не ожидал, и про золотишко свое так никому и не проговорился…»
Но мы, пожалуй, слишком долго задержались возле дома Малдониса. Вот и ветер вроде бы поднялся, еще, чего доброго, дождь зарядит, и сумерки вроде бы сгустились, давайте лучше спустимся с косогора и двинемся через заросли кустарника, пройдем вдоль высокой стены леса Малдониса, свернем к мосткам, которые упираются посреди реки в огромный, как знаменитый на всю Литву Пунтукас, камень, и в сосновой роще на холме увидим усадьбу Ужпялькиса.
С этого холма как бы в пропасть ныряют леса, тянущиеся к югу до самого горизонта. И будто слышится: позвякивают ведра, скрипит калитка, кто-то говорит шепотом, потом громко, и, чтобы скрасить впечатление от сбивчивого разговора, понукает лошадь. По сосновым корням тарахтит телега. Так тихо, словно кто-то стоит там, во дворе, на холме, и прислушивается. Тянет дымком, пахнет бражкой, видать, кто-то под елью разложил костер и гонит самогон, и высокий столб дыма, словно кого-то чествуя или подавая кому-то знак, взвивается над прояснившейся долиной.
Тайными лесными тропками связан этот дом с самыми отдаленными апилинками, и по ним, словно по капиллярам, пульсирует вся его жизнь.
В эту усадьбу, держа руку в кармане, и пришел Бернарделис, издали все оглядев и запомнив. «Показывай! Веди. Иди первый, — приказывал он Пятрасу Ужпялькису. — Что у тебя здесь? Показывай, показывай. Ну, пошевеливайся, — добавил он по-русски.
Вот и теперь шелестит ветерок, и Ужпялькис перестает просеивать в амбаре зерно, опускается на колени на кучу ржи, прислушивается. Этот крепко сбитый мужчина с большими, как черпаки, руками, может, и не зверь, но богатство есть богатство, и стоило Бернарделису только взглянуть на эту избу, как он понял, что здесь добреньким не будешь. Не будет добреньким и Ужпялькис. У этой избы Бернарделиса словно кто-то подменил — где нищета, а где… Перед глазами снова мелькнуло лицо сына Малдониса, потом Юзукаса, с которым он долго толковал и даже пытался показать ему, как надо затачивать гвоздь, чтобы сделать наконечник для стрелы…
Избы — Даукинтисов, Визгирды… «Чего Визгирда косится на меня, в толк не возьму. Ну прямо-таки клещ…» — пожимал плечами Бендорюс, ускоряя шаг.
Соснячки, луга, склоны — Асюклисов дуб, Даукинтисов луг, Мильджюсова роща, Малдонисова круча — так еще долго будут называть эти места. Зеленый, мягкий мох, папоротники. А за ними, на юге, снова открываются голые, ровные поля, холмы… Слева — махонькие, словно прилипшие к глинистым склонам, староверские избы деревни Беджяй, зеленая церквушка с жестяной крышей; за каменной оградой, опоясывающей осинник, — кладбище с косыми крестами; подросшие деревенские пацаны ватагами прибегали смотреть на них, хотя сорванцам не менее любопытно было, что там, в самой церкви: как староверы молятся, как выглядят иконы… Однако по вечерам или по ночам в густом кладбищенском осиннике шарахались лошади, а кое-кто из деревенских даже уверял, что не то привидения там видел, не то голоса слышал.
На востоке, в какой-нибудь версте от избы Ужпялькиса, там, где кончается длинный и узкий участок леса, называемый языком, сереет кровля кузнеца Кайнорюса. Чуть поодаль — побеленная известкой хатенка Бразджюнайтиса. Младшенькая, Розалия Бразджюнайтите, — горбатенькая. В Кайнорюсовом березнячке она здорово напугала Бендорюса — как из-под земли выросла в серых осенних сумерках. Следя за тем, как она наклоняется к земле, собирает что-то, оглядывается по сторонам, Бендорюс, увидел даже ее лукошко и никак не мог поверить, что это женщина, — думал, что кто-то переодетый, и что он там ищет? Когда он заговорил с ней, Розалия вздрогнула и так резко повернулась, что даже жила у нее на лбу вздулась, даже глаза кровью налились. Отвечая ему, она так странно бормотала, словно какой-то проказник пальцами шлепал по ее пухлым губам.
Где бы ты ее ни встретил, она всегда что-то несет, но если захочешь помочь ей, ни за что не согласится, только ласково поблагодарит — так она отделалась и от Бендорюса, который хотел помочь ей лукошко нести. Она и дорогу ему первая уступила. Розалии — за сорок, она болеет рожей. Целыми днями напролет она собирает ягоды или грибы, словно матушка-природа только для этого ее и сотворила, так пригнув к земле и так устроив ее глаза, чтобы горбунья их поднять не могла. Стоит ей вынырнуть из какого-нибудь кустарника, как в страхе застывают и деревенские мальчишки, шныряющие по перелескам, но с Юзукасом Даукинтисом — он растет без матери — она добра и приветлива: угощает его ягодами, порой даже пытается погладить, но, увидев, как мальчонка съеживается, опускает руку. Живет Розалия не одна, а с сестрой Аурелией. Каждый день они ходят в местечко. В войну муж и сын Аурелии пропали без вести, но она верит, что они еще отыщутся, все летает на почту с телеграммами и письмами, рассылая их во все концы, и таскает за собой спотыкающуюся сестру, которая, задыхаясь от быстрой ходьбы, пытается убедить ее, что оба они — и сын, и муж — погибли. Но Розалия никогда не попросит, чтобы сестра сбавила шаг.
Если мы свернем на обсаженный старыми ракитами большак и пойдем на восток, то непременно выйдем к окруженной со всех сторон садом усадьбе Наглиса — брат его при Сметоне был большой шишкой. Здесь вскоре разместятся контора, Дом культуры, будут оборудованы склады и спортплощадка… А вон в той глинобитной избушке живет почтальон Страздялис, почти глухой, подслеповатый, но словоохотливый, шустрый, разбирающийся во всем, образованный человек. Порой, придя к кому-нибудь во двор с сумкой, туго набитой газетами и письмами, и не застав дома хозяев, Страздялис волей-неволей выполняет и другую, непривычную для него работу: принимает теленка у отелившейся коровы, сторожит оставленного малыша или привязывает сорвавшуюся с привязи скотину.
Еще дальше — утопающий в зелени дом Каушпедаса, слева — жилище Казимераса Даукинтиса. Избенка, гумно, хлев, несколько захиревших деревцев. Вот и сам Казимерас стоит во дворе, курит трубку. С радостным лаем к нему бросается рыжая собачонка. Цыц, пшел в конуру, говорит Казимерас, топая ногой. Лицо у него высохшее, с мелкими, резкими чертами, бурые усы закручены. С ним о чем-то долго толковал Бендорюс. Даже забыл, зачем явился. Казимерас его самогоном попотчевал, рассказал, как в польском плену кожу ели, ремешки, ворон, вспомнил о Жальнерюсе из Жалёйи, потерявшего в снегах Маньчжурии обе ноги, достал из закопченной ниши под потолком книжку с предсказаниями Микалды и прочитал о двух петухах — красном и белом, — но Бендорюса больше привлекали Казимерасовы дочки, особенно младшая — Геновайте. Она собирала в палисаднике семена настурции — застенчивая, прекрасно сложенная, лучшая плясунья в округе, правая рука музыкантов.
Потом Казимерас показал Бендорюсу колодки, шпульки, челноки для плетения сетей, извлек откуда-то только что скатанные валенки и бранчливо принялся нахваливать собственную работу. Вошел в раж, кликнул жену, хлопотавшую у печки, попросил, чтобы она нажарила шкварок или нарезала колбасы. Но та пропустила его слова мимо ушей: слонялась по избе, шмыгала сплющенным носом, дергала кончик платка, ворошила обгорелые поленья, морщила лоб, передвигала горшки, как бы демонстрируя все убожество своей жизни. «Ты чего там так громко шмыгаешь?! — вывела она из терпения мужа. — Шкварок поджарь, сказано тебе!» — ворчал он. «Шкварок!» — закричала в ответ женщина. Откуда я их возьму?! Мальчишки даже веревки, на которых сало висело, обсосали.
Что бы Казимерас ни говорил, как бы ни кричал на жену, перекричать ее он был не в силах — он даже осип, воюя с ней. Привычная сцена: она грозит ему, размахивая всем, что под руку попадет, а он сидит себе у окна, ждет очередной атаки, посасывает трубку и диву дается, откуда в этом высохшем существе с покрасневшими от дыма глазами столько злости. Он ведь тоже без дела не сидит — то сети плетет, то понукает гнедого, бредущего по борозде, то с нужными людьми в местечке встречается, может, какой товар удастся им сбыть или заключить выгодную сделку…
Грешно было бы утверждать, что Даукинтене только на своего мужа злится — кажется, из самых ее костей сочится злость, старая, заскорузлая, бьющая прямо из сухой, глинистой, скудной земли, где корни давным-давно не получают необходимой пищи.
Такие перепалки — непременное условие их жизни. Казимерас с женой и говорит только для того, чтобы обозлить ее, неважно, что скажет — все равно она будет злиться. Но зато когда он сам приходит в ярость, Даукинтене дрожит как осиновый лист. И голос у нее сразу теплеет, чуть ли не на шепот с крика переходит, и, глядишь, миролюбивое словечко найдет, и лицо ее вдруг вспыхнет, будто на него светлый луч упал. Кто знает, может, потому они бранятся и беспрестанно удивляются друг другу, чтобы разжечь тот старый огонь. Может только и ждут, когда он вспыхнет со всей силой.
Это почувствовал и Бендорюс, а слова Казимераса: «Ээ, не обращай внимания. Ей лишь бы кричать. Ясное дело, все они одним миром мазаны», — гостя даже позабавили. Вдохнув всей грудью, Бендорюс наспех опрокинул две чарки и вышел из избы Даукинтиса веселым и помолодевшим… Дошел до большака, обернулся: Казимерас ему незаметно махал из сеней, а хлопотавшая в палисаднике Геновайте выпрямила спину, улыбнулась… «Эх!» — подумал Бендорюс и схватился за голову: неожиданно налетел ветер, чуть не сорвал с головы шапку, прошелестел жухлыми листьями ракиты, как бы поманил за собой. «Человечность… Важнее всего человечность», — подумал гость, удаляясь от Даукинтисовой избы и ускоряя шаг: его ждали неотложные дела.
Грязные, заляпанные жижей, влетели в избу Казимераса парни: Альгис, Феликсас, Альбертас. Сущие дьяволы, пихают в рот что попало. Один недоваренную кость прямо из горшка выудил, другой краюху хлеба схватил и снова в поле — ищи свищи.
Все в деревне знают, что было у Казимераса еще двое детей — лежат в сырой земле. Близнецы. Пранукас и Стяпуте. Даукинтене частенько произносит вслух их имена. И так получается, что они здесь, в избе. Голодные, чумазые, оборванные, снуют они вокруг хлопочущей у печки матери — еще не высосали последних капелек молока. Их рты вечно алчут хлеба, их глаза всегда ищут маму…
Геновайте вытирает со стола. Запах настурций и георгин. Багрянец осеннего яблока. На щеках играют ямочки. Ни одна девушка в Ужпялькяй так целомудренно не думает о помолвке, женихе и белой фате, как она, Геновайте. Голос у нее такой, словно кто-то все время ее искушает или приваживает, нашептывая всякие глупости.
Другие двери открывать не стоит. Все избы здесь спроектированы одинаково. Безымянные архитекторы строили их, применяя все на глаз, из глины, собирали из бревен и камней с единственной целью, чтобы было где приклонить голову. Главное в каждой избе — печь; напротив нее — двери с почерневшим жестяным покрытием, с одинаковыми выгнутыми ручками — серийное производство кузнеца Кайнорюса. Печь разделяет избу на две половины — спальню и кухню. Такие избы у всех Даукинтисов, только изба Криступаса — с половицами, с потолком, выложенным узенькими, красиво обструганными дощечками, с перегородкой. Остальные избы — более или менее удачные вариации этого проекта.
Все Даукинтисы причисляют себя к середнякам, а Визгирда даже считает себя хозяином позажиточней: у него всего девять гектаров, но земля лучше, чем у других. Визгирда все предусмотрел, все подсчитал, даже цену каждой ольховой доски… Крепнущие с каждым днем скупость и бережливость были первым залогом его успехов. И на земле Даукинтиса он высмотрел несколько участков, из которых можно было бы выжать и побольше.
А вот к какой категории причислить Малдониса, один бог знает — двадцать пять гектаров у него. Правда, бо́льшую часть составляют сосняки, песчаники, болота. А Ужпялькис, а Диржис? Диржис хоть добровольно все отдал. («Такова, видать, божья воля», — только и сказал.) К какой категории отнести кузнеца Кайнорюса? А ведь этих категорий всего три: бедняк, середняк, кулак. Но и кулаками не всех назовешь, даже тех, кто вроде бы и соответствует, да и в середняки не каждого запишешь, даже того, кто считает себя таковым.
Несколько суток не спавший, не евший, охрипший от табачного дыма Бернарделис рисовал подробнейшим образом карту апилинки, одному ему понятными знаками и числами отмечал каждую пядь земли, все меряя, взвешивая, пользуясь еще и другими мерками, не только теми, которыми собирался мерить, нарезать и делить землю Юодка. Бернардас из кожи вон лез, чтобы учли его предложения, замечания и сомнения. Хотя секретарь апилинкового совета Барткус был довольно терпеливым человеком, склонным во все вникать, — он долго изучал огромную замусоленную карту, которую Бернардас разложил на столе, слушал, кивал головой, кое-что понимая, кое-чего никак не понимая, кое с чем соглашаясь, — но и у него лопнуло терпение от слишком пылких доказательств Бернардаса.
— Ну чего ты мне все этого Казимераса суешь? — спросил он Бернарделиса. — И Ужпялькиса? Что означают твои восклицательные и вопросительные знаки?
— Казимерас наш человек, а Малдонис не наш, я только из-за мальчонки его тут отметил, — склонившись над своей картой, поспешно стал объяснять Бернардас, но Барткус и Юодка прогнали его.
— У нас свои головы на плечах.
— Только таких нам не хватало! — возмущался Барткус. — Бернарделисов! Жизнь есть жизнь, а Бернарделис всегда останется Бернарделисом, — доказывал он Юодке после ухода Бернардаса и все же нет-нет да поглядывал на разложенный на столе огромный, замусоленный лист бумаги. — Надо же столько терпения иметь, даже избы разрисовал! А это что? Деревья… ульи… тропинка… Мы что — пчельник собираемся создавать?! Кому это все нужно? Перво-наперво надо трутней выкурить, а потом, глядишь, и пчелы слетятся. Как он этого не понимает?!
— Ему позарез хочется быть справедливым, — заступился за Бернардаса Юодка. — О нем даже там, в деревне, легенды ходят. Нынче в какой двор ни заглянешь, только и слышишь: Бернарделис говорил… Бернарделис смотрел… приходил… согласился… он видел… разрешил… обещал… я ему говорил… Чуть что, все хватаются за Бернарделиса, за его спину прячутся, как за стену. Даже кулаки, и те хватаются за Бернарделиса, как утопающий за соломинку.
— Это не беда: с кем, с кем, а с кулаками ему и впрямь не по пути, — хмуро бросил Барткус.
На следующий день в волость пригласили Казимераса, Константене, Накутиса: в Ужпялькяй организуется колхоз, Константене назначается председателем — во время Первой мировой войны она жила в Петербурге, служила у богатого адвоката… Вся деревня от нее знает, как ее хозяин обедал, какие гости собирались в его доме. («Генералы, царские сановники, инженеры, артисты, ого! Ох, уж и привередливый, прихотливый! А госпожа адвокатша! Вынырнет, бывало, из постели, отхлебнет чаю, и ежели, не дай бог, чуть остыл — неси обратно. А барин вот так, — Константене всем показывала как, — двумя пальцами, бывало, возьмет какое-нибудь лакомство с тарелочки и все пробует, смотрит и прикидывает, вкусно ли, а потом как зачмокает губами; уж если ему что понравилось — только подавай. Но барин уж такой… ай-яй-яй».) Таких рассказов Константене деревня всласть наслушалась. Она и про Керенского расскажет, и припрятанную керенку покажет, и о Троцком поведает, как тот с балкончика речь говорил, и о чумазых рабочих, толпами вываливающих из фабричных ворот, и о мальчишках, расклеивающих на стенах листовки, и о барине, который кому-то сердито грозит тростью и что-то выкрикивает. Рассказы Константене распаляли воображение многих ужпялькяйцев, и оно рисовало им студеную метельную зарю революции в Петербурге с весьма выразительными подробностями, многие впервые услышали от Константене русские слова, которые она произносила безупречно, очень гордясь этим. Все это придавало Константене некий ореол таинственности, выделяло ее из числа других деревенских женщин — по правде говоря, она и сама всеми силами старалась выделиться: все у нее было по-иному, на все она смотрела иначе, всегда только и ждала, когда ей дадут слово, чтобы она могла высказать свое мнение, ошарашить, ошеломить или высмеять всех. Все признавали превосходство и красноречие Константене, обожали ее слушать, всегда охотно давали ей слово.
Родом она была из здешних мест, росла в семье портного, убогие деревца и избы, раскиданные на этой земле, еще с детства глубоко врезались в ее память, которая хранила и студеные петербургские рассветы, и позолоченные, сверкающие на морозном солнце купола церквей… Она ни на минуту не могла забыть Россию, Петербург — и эти названия в ее устах приобретали какой-то особый специфический привкус.
Теперь, когда в Ужпялькяй организуется колхоз, Константене изо всех сил рвется к власти. Она всегда чувствовала свое превосходство над односельчанами и даже мечтать не могла о более подходящем моменте, чтобы проявить свои способности. Пусть она будет председателем, никто возражать не станет.
Накутис, коренастый, с жесткими черными усиками, в кожухе — тоже свет повидал, кажется, воевал с австрияками, Босния и Герцеговина у него с уст не сходят, — так вот Накутис будет ведать финансами, потому что грамоте учился, знает больше, чем другие. Анупраса Константене собирается в скотники определить — бывший батрак, работяга, хотя он и не молод, может еще полтелеги потянуть, лучшего не найти. Что с того, что Бендорелис криком кричит: нет, не делайте его скотником, я видел, как он сено в кормушки пихает, как лошадь ударил только за то, что посмотрела на него. Наивный человек этот Бендорелис — на скотном дворе сила требуется. Взять, к примеру, Казимераса. Приволок его Бендорелис в волость, а Казимерас все пятится, ежится, как перепуганная птаха, все поглядывает на Бендорелиса, словно молит о заступничестве или помощи, будто его в какой заговор хотят втравить, ни с кем по-людски договориться не может, был ведь у него Бендорелис, и, видать, по душе ему пришелся, потому как угощал его Казимерас от всей души, но как следует договориться с ним не смог, о чем-то умолчал, что-то утаил. Не поймешь его. Да теперь уж и поздно. Теперь никто, даже Бендорелис, ему совета не даст.
— Ты будешь бригадиром, — говорит Барткус.
Казимерас пятится к дверям, обеими руками нахлобучивает шапку, глядя с обидой на Бернардаса, потом на свояченицу (баба ему приказывать будет!), потом на Накутиса — тот стоит, как каменный, слова лишнего не скажет, только кивает головой и молчит, уткнув подбородок в жесткий суконный воротник — такой бы и полками командовать смог. Как ночь, темен, неясен Казимерасу этот человек, хотя и сосед, под боком живет, только вот о чем думает, никогда не поймешь. Уж очень много он мнит о себе, никого к себе близко не подпускает, от каждого его движения так и веет холодом. И такого человека они счетоводом назначают! Жаль, с Бернардасом я об этом не поговорил, думает Казимерас, не предвидел, не ждал, и как только Накутис к власти пролез, а что если Бернардас… Нет, не может быть.
Как ни умолял Казимерас о помощи, какого обещания или заступничества ни ждал от Бернардаса (разок даже подмигнул ему), какие знаки ни делал, тот стоял как вкопанный, не в силах ничего понять — ведь они, кажется, в прошлый раз обо всем договорились, без слов друг друга поняли, и вот на тебе.
— Ну, раз так, то знай, — говорит Казимерас Бернардасу и, чувствуя на себе несколько удивленный, но торжествующий взгляд секретаря апилинкового совета Барткуса, скрывается за дверью. Казимерасу хочется что-то сказать, объяснить, но поздно — двери захлопнулись, и это как бы придает Казимерасу новые силы. Теперь он точно знает, что надо делать.
— Нет, в бригадиры я не пойду, — бормочет он и уже хочет мчаться к Бендорелису, но какая-то неведомая сила удерживает его — поздно, слишком поздно… Зато как он, Казимерас будет ластиться к Бернардасу потом, как будет стараться ему угодить, всякими способами повлиять на него, добиться его поддержки и помощи, какой он, Бендорелис, здесь еще никому не оказывал, и все это он будет делать из убеждения, что Бернарделис обладает какой-то исключительной властью и что только он, Казимерас, один это знает, он открыл Бернарделиса, это его заступник, может, даже сообщник… Ах, сколько надежд всколыхнул в душе Казимераса тот памятный приход к нему Бендорюса! Однако таким способом войти в доверие к Бернардасу еще никому не удалось. Его можно только немного приручить, но тогда он будет смотреть на тебя со снисходительной усмешкой, ничего путного от тебя не ожидая. Казимерас это тотчас почувствовал и потому потерпел величайшее поражение; ему даже будет мерещиться, что где-то и в самых высоких инстанциях он безнадежно потерял доверие, потерял навсегда, и что бы он ни делал, что бы ни предпринимал, в его жизни ничего не изменится.
— Чего вы от меня хотите? — воскликнул Казимерас. — Не пойду я те… (он чуть не сказал «теперь», но вовремя спохватился) в бригадиры. Ты!.. — обернулся он к Накутису. — И ты! — окинул он с ног до головы Константене. — Вы долго хозяйничать не будете, у вас не порядок на уме, а как вперед пролезть.
— Ты только вонь не разводи, ты уж за нас не волнуйся. Обойдемся без тебя и еще как обойдемся, — сказала Константене.
— Как вы обойдетесь, я, положим, знаю, прекрасно знаю. Вы тут натворите такого, чего еще никто не видывал. Сам черт не разберет! — нахмурил брови Казимерас.
— Хватит! — ударил кулаком по столу выведенный из себя секретарь Барткус. — Не хочешь — не надо.
— А я не сказал, что не хочу, я не могу, неможется мне, язва в желудке, что ли, по ночам так режет, хоть криком кричи. Вот мой брат… Криступас! Он бы мог, фронтовик, верный человек, без всяких яких… — раздраженно промолвил Казимерас и отошел в дальний угол — поперхнутся они этой остью.
Константене даже руками всплеснула, Накутис помрачнел, а Барткус, вытащив из кармана блокнотик, что-то быстро записал. Затренькал телефон.
— Я сейчас… сейчас иду, — секретарь протянул руку за патронташем, висевшим на стене.
— Ищи ветра в поле, — сказала Константене.
Казимераса просто распирало от радости: козырным тузом их побил — Криступасом! Криступасу никто не посмеет приказывать, он не такой человек — плевать ему на приказы. А Казимерас слово-другое шепнет брату на ухо, посоветует, научит, подумал он, и мысли вдруг приутихли, присмирели, словно подкрадывались к чему-то. Ну, а если Криступас за все будет хвататься, бегать туда-сюда, как ошпаренный, то пусть пеняет на себя — пусть знает, что все поля, словно заминированные. Со всеми надо мирно, тихо, потому что, если схватишь кого-нибудь за грудки, — сам схлопочешь. А молчать будешь — тоже взгреют.
— Что он сейчас делает? — осведомился Барткус.
— А шут его знает, — буркнул Казимерас. — В город хочет податься. Вдовец он, двое детей у него, год тому назад второй раз женился, теперь жена на сносях…
Казимерас долго бы еще говорил, но Барткус перебил его. Предложение понравилось — Криступас и побойчее, и посмелее.
— Мне кажется, что он слишком много пьет… — секретарь решил на всякий случай перестраховаться.
— Негодяй! — вмешалась Константене.
— И власть, говорят, поругивает.
— Да у него еще с тех времен… — начала было снова Константене, но спохватилась — пустой разговор.
— С каких? — поинтересовался Барткус.
Казимерас покинул свой угол и вышел на свет. Он вмиг подхватил мысль Константене.
— С тех пор, как немцы избили его здесь, на лестнице, он связь с партизанами поддерживал, то ли еду им носил, то ли одежду. Потом его на фронте ранило.
Накутис молчал — косился на стену, на портреты. Он сразу стал как бы посторонним. Криступас ему покажет, выяснится, почему он при немцах все в местечко бегал. И Константене — лисонька, знаю я про такие твои делишки, за которые тебя не похвалят. Все трое вышли и направились кто куда. Казимерас еще заглянул в забегаловку. Хорошенько выпив, он принялся нахваливать брата и все время твердил, что свои, родичи, должны держаться друг за друга. Теперь, когда ему удалось в дела артели впутать брата, Казимерас чувствовал себя и увереннее, и в большей безопасности, даже стал кое-кому угрожать. Он отрезвел, когда встретился с чьим-то яростным взглядом. Это был двоюродный брат жены Пакелюнас, тот самый, брат которого прятался в лесу, а сам он ходил в народных защитниках. Казимерас стал пятиться к дверям, но Пакелюнас схватил его за грудки.
— Не лезь! Я!.. Я!.. — взвизгивал Казимерас.
Потом он перешел в наступление, напустился на Пакелюнаса: его, мол, Казимераса, родня — без единого пятнышка, он, мол, ему покажет, дойдет до самых верхов. И пикнуть не смей, не то всех, как мух!.. Слова его были полны чванства, намеков и черного, но бессильного, парализованного злостью страха, ибо никакое чувство не могло овладеть им настолько, чтобы созреть, стать настоящей ненавистью и действием. Чувства обиды, оскорбленного самолюбия, подавленные однажды, то и дело просыпались в нем, и Казимерас зачастую ни с того ни с сего принимался кому-то угрожать или высказывать запоздалую благосклонность, хотя ощущение собственной ущербности снедало его беспрестанно и было противно не только ему самому, но и отталкивало его от родственников — братьев и сестер. Казимерас льнул к чужим. Он всегда оставался наедине со своей виной и любой упрек встречал градом страшных ругательств, но его визгливый голосок мало кого пугал.
Придя немного в себя, он принимался балагурить: главное, мол, всегда быть мужчиной. Если что говоришь — говори прямо и ясно. Режь правду-матку в глаза. За соседним столиком рассмеялись.
— Чего сидите уши развесив? — воскликнул Казимерас.
Никто не отозвался, все молчали, и ему понравилось, как прозвучал его голос — грозно, решительно. Распаляя себя, он крикнул еще громче, над всеми возвышался брат Криступас — доброволец, фронтовик, вернувшийся с осколком под сердцем; Криступас в серой солдатской шинели, на коне, с каким-то символом власти в поднятой руке — вот какой памятник соорудил Казимерас своему брату, который посмел однажды упрекнуть его в том, что он, Казимерас, не достоин имени своего покровителя.
Последними словами Казимераса в забегаловке были такие:
— Если уж на что-то решился, иди смело до конца! До конца, понимаете?! — воскликнул он, громко хлопнул дверьми и вышел. Однако ветер и мелкий моросящий дождь тут же охладили его пыл.
Между тем, оставшиеся в забегаловке мужики решили, что Казимерас — человек неплохой, но трусоватый и к тому же бахвал. Мол, все Даукинтисы такие. Кто-то возразил — только не Криступас, Криступаса сюда не приплетайте, он не такой. Отовсюду слышалось: Криступас, Криступас! Вспыхнул долгий и жаркий спор о Криступасе — каков он на самом деле? «Для других хороший, — сказал кто-то, — последнюю рубашку отдаст. Но для себя плохой».
В разговоре с Барткусом Казимерас о многом умолчал: не хотел, видно, умалять и без того не очень-то добрую славу брата.
В последнее время Криступас разъезжал по базарам, скупая и перепродавая лошадей. Но такой уж он был купец, что никак не мог взять в толк, почему это цены на лошадей с каждым днем все падают и падают.
Он женился, привез детей, которых на время оставлял у родственников, и все ломал себе голову, как ему вырваться в город. Криступас приютил у себя какого-то убогого странника, человека цыганских кровей, которого все называли Амбразеюсом, хотя никто толком не знал ни его имени, ни фамилии. Кто его родители, откуда он пришел, чего ищет? Было странно, что такой человек, который, по словам Константаса, внимательно наблюдал за ним, — незаурядный, образованный (Амбразеюс считал себя агрономом, хотя чаще всего только отмахивался, когда кто-нибудь принимался превозносить достоинства агрономии, теперь, мол, она потеряла всякий смысл), так вот, было странно, что этот человек слоняется без работы, таская повсюду за собой обшарпанный аккордеон. Примостится где-нибудь у огня, нажимает клавиши, смотрит, как в печи искрятся поленья, жадно следит за переставляющими горшки женщинами — женами своих мужей, матерями своих детишек. Жаркие сполохи играют на его худом лице, лихорадочно глядят его затуманенные глаза, и ты просто видишь, как его снедает какая-то пагубная мысль или воспоминания. (Ходили слухи, что он болеет чахоткой.) Была у Амбразеюса жена, были и дети… Гудит в печи пламя, шуршат во дворе гонимые ветром листья. Без конца и без края дороги странника. Печальна его доля. Все мы странники. В его песнях оплакивают тех, кто уходит, и тех, кто никогда не возвратится. Сколько уже ушло, сколько мужей и сыновей не вернулось — лежат в сырой земле, — и матери… Шумит ветер, мечется белыми языками пламени осень, внимают женщины музыке Амбразеюса. Тут их настигает чей-то мужской голос (чаще всего Визгирды, его жена, куда бы ни шла, что бы ни делала, глядишь, летит к Криступасу Амбразеюса послушать), голос грубый, как бы из-под земли, весь двор им полон: «Свиньи визжат, дети, смотри, куда убежали, ступай обед варить». Женщины встают, вздыхают и возвращаются к своим делам.
— Ну, чего ты?
— Всяких пташек на своем веку повидал, а такие только и норовят под юбку залететь. Ты его еще в избу позови, чтобы детей чахоткой наградил.
Но они старательно вычищают, ошпаривают посуду — все, к чему притрагивается рука Амбразеюса. И ложку, которой ел Амбразеюс, никогда ребенку не дадут. В глазах Амбразеюса — безграничное сластолюбие и вожделение. Он смотрит на женщин, будто ребенок облизывает ложку, — и даже детей смущает его взгляд. Смотрит, и глаза его наливаются влагой. А порой ни с того ни с сего начинает хихикать. Если кто-нибудь заговаривает об Амбразеюсе, все тотчас замолкают — пропащий человек, а ведь еще молодой, и голос у него такой красивый. Здесь, в этой юдоли слез, он только гость.
Однако Криступасу все нипочем. Пьет из той же рюмки, что и Амбразеюс, ходит с ним в обнимку по дворам.
Не для меня сей белый свет, — затягивает Амбразеюс. Не для меня цветок сей дивный, — вторит Криступас. Не для меня и птичьи трели, — выводят оба под звуки аккордеона.
— Поете ни то ни се, — утирая испачканные руки, подтрунивает Тякле Визгирдене. — Все у вас «не для меня… не для меня… Птицы… Цветы…» Ничего подобного ни в одной песне не слышала. И сами вы ни то ни се.
— Мы сами, тетушка, эти песни сочиняем.
— Амбразеюс сочиняет! — кричит хриплым голосом Криступас, чувствуя на себе взгляд старой Даукинтене. Она сидит за столом и со страхом следит за сыном: насколько ей помнится, она ничего подобного не видела и не слышала — Криступелис был послушным, тихоней, а теперь все рушит и честит. Просто не верится, что она его в своем чреве носила. Старая Даукинтене пытается отыскать в нем черты мужа (тот умер, когда ребенок еще в люльке лежал), ищет сходство с Казимерасом, Константасом, Тякле — все они разные, хотя лицами похожи.
— Пусть, тетушка, летает в песне пташечка… Пусть летает, — говорит Амбразеюс и обнимает Тякле Визгирдене.
— Пошел к черту, а то как дам, — и она взглядом показывает на свою испачканную руку.
Чахоточный шмыгает носом. Подтягивая сползающие штаны, слоняется по избе Визгирда.
— Чесотка на тебя напала, что ли, — говорит Тякле Визгирдене.
— Пташечка… — Криступас поддерживает под руки шатающегося Амбразеюса, который тянет по полу свой аккордеон.
— Хрюкает, как свинья, — говорит Амбразеюс.
— Музыка не тряпка, чего ты ее по полу волочишь? — говорит Визгирда.
На аккордеоне поблескивает заграничный фирменный знак. Не итальянский ли, думает Визгирда. Хороший у него был отец — небось, за такой аккордеон несколько боровов не пожалел; сравнивает в мыслях свое хозяйство с другим, где и зерно щедро сыпалось в закрома, где и голландских коров держали, и сверкающего жеребца в яблоках, где на ярмарки в бричке ездили.
— Ты чего орешь, как оглашенный, — говорит брату Тякле Визгирдене.
Песня, которую они сейчас поют — про птичьи трели, про цветочек дивный, — ей ужасно не нравится. Никудышная песня.
— Шли бы вы отсюда, не видите, человек работает, — говорит Тякле.
— Скрипочку на печи не забудь взять. Ребенок все струны повыдергал, — напоминает Амбразеюсу Визгирда.
— Пусть выдергивает, пусть все выдергает, пусть все к черту катится! — кричит Амбразеюс.
Горы высокие, пущи зеленые, — пытается сочинять Криступас. Ему бы только рукой размахивать и чтобы лица близких перед глазами маячили.
— Испокон веков так было и так будет…
— Что будет? Разве что бог будет всегда.
— В бога я не верю, — сказал Криступас. — А ты, Амбразеюс, веришь?
Тот кивает головой.
Старая Даукинтене перебирает четки — она за обоих в сумерках помолится.
— Это плохо, что ты не веришь. Тебе надо верить, — говорит Криступас.
— А тебе? — спрашивает Тякле.
— Я фронтовик.
— Ну и что?
Визгирда косится на стопку журналов и книжек, которые он положил на край лавки: гости отвлекли его от чтения — трудно будет собраться с мыслями.
— О чем это ты читаешь? — допытывается Амбразеюс, листая пожелтевший журнальчик.
— Э! — отмахивается Визгирда.
— Тебе все «э» да «э», — сетует жена.
— Я же в эти газетки пописывал, — показывает: подписано — Амбразеюс.
— Тут другая фамилия, — возражает Визгирда.
— Многие свои фамилии сменили, да что там фамилии — шкуру. А я кем был, тем и останусь. И Криступас останется. Криступас!
— Амбразеюс! — кричит Криступас. — Это имя по-гречески означает бессмертный!
Визгирда в толк не возьмет, верить ему или не верить? Если он и впрямь эти статейки пописывает, то…
— Может, ты и за границей был? — ухмыляется Визгирда.
— Был. Бельгию видел, Германию, Голландию. Да мало ли где побывал.
— Ты так говоришь, словно Германия у тебя под боком.
— Она и есть под боком.
— Вот и чеши туда, все равно у нас места себе не находишь.
— Чеши, чеши… Может, дядя, я так и сделал бы, да только кто меня пустит.
Но Визгирду не убедишь. К тому же у него прошла охота и газетки читать, раз такие люди, как Амбразеюс, туда пописывают. Визгирда любит в каком-нибудь споре задать вопрос: «А в печатном слове что сказано?»
— Тьфу! — плюется Визгирда, подтягивая штаны. Потом начинает допрашивать Амбразеюса. — Сколько жителей во Франции? сколько в Англии? с кем англичане торгуют? когда основан Вильнюс, наша столица? в каком году подписана Люблинская уния? когда нас продали полякам, скажи?! — кричит он, входя в раж. Амбразеюс усмехается — нашел кого об этом спрашивать!
— Ведь он в университете учился! — говорит Криступас.
— Вот ты мне и расскажи… — начинает Визгирда, припоминая разные имена. — Может, ты еще и Тумаса помнишь, ведь он родом отсюда? И Дубаса? И профессора Пакштаса?
— Да, да, — одобрительно кивает Амбразеюс. — Кое-кого из них я действительно знавал. Довелось с ними с глазу на глаз встречаться, — и лицо его вдруг бледнеет.
— Какого черта ты околачиваешься здесь, если ты такой?..
— А куда мне деваться? С этой властью я все равно не уживусь, не гожусь для нее. А кроме того…
Все стоя выпивают по чарке. Но лицо Амбразеюса еще больше сереет: он смотрит во двор, где ветер играет кленовыми листьями, гладит ластящуюся к чьим-то ногам собачонку, а перед глазами у него — холмы, долины и дорога, петляющая, извивающаяся, словно змея, повернувшая свое дрожащее тело на запад; дорога, ведущая туда, где полыхают закатом просторы, дорога без конца и без края.
— Такие мысли гнать от себя надо. Я тебе говорю гнать, — поучает Визгирда, — ты еще молодой и здо… крепкий. Какой бес в тебя вселился? И в тебя, Криступас? Кто же будет жить, если все вы так? С нами вам вроде бы нехорошо, нас вы презираете, а сами…
Те смеются. Развеселил их Визгирда. Опускаются сумерки. Пора готовить ужин. Все трое уходят, и в открытые двери их провожают глядящие с образов глаза святых.
— Вот где мой бог, — клянется Криступас и бьет себя кулаком в грудь.
Вскоре запрут калитку, накроют на стол.
— А у Криступаса есть хоть один друг? — спрашивает Даукинтис самого себя и сам себе отвечает: — Стяпонаса под мостом нашли. Они, гады, его галстуком задушили, тем самым, который мне Эльжбета купила. Мы тогда еще холостяками были, кавалерами. Вместе к девкам бегали. Эльжбета меня тогда еще спросила — что твоему другу в подарок купить? Говорю — галстук, только красивый подбери. Вкус у нее был хороший, подобрала. Понравился этот галстук Стяпонасу. Он его только на праздники повязывал. Как-то сидели мы с ним в забегаловке. Отвел меня Стяпонас в сторонку и говорит: «Если со мной что случится — ты эти рожи запомни». Я их помнил, всегда буду помнить, но где их теперь найдешь. Нет чтобы тогда спросить, кто они, чего им надо, я только заметил, что они (а их было несколько) все пристают к Стяпонасу, переглядываются и о чем-то его спрашивают. С тех пор я его больше не видел. Ни в ком я не уверен, ни в ком. И он ни в ком не уверен, — Криступас показывает Визгирде на ковыляющего через сосняк Амбразеюса. — И он много знает. И с ним разделаются, как со Стяпонасом. Он здесь…
— Чепуху несешь, — перебивает его Визгирда.
Мрачный, как будто его избили, ходит по двору Константас.
— Ты только подумай, — скажет он, когда Криступас вернется домой. — Образованный, незаурядный. Мог бы жить как все.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросит Криступас.
— Он мог бы жить, как все.
— Кто они, эти твои все, и как они, эти все, живут? — спросит Амбразеюс. — Я есть я.
— Правильно, — кивнет Криступас, отрывая прилипшую к губам папиросу.
— Иначе надо жить, не так, — не уступит Константас.
Ветер посвистывает во дворах, на полях, где сжигают картофельную ботву, заливаются ржанием лошади, багровеют за жнивьем рябины. На закате ветер крепнет, и тогда кажется, что и одежда начинает дымиться — на Криступасе, Амбразеюсе, Визгирде…
— Скоро и морозы ударят. Проснемся утром и увидим белые крыши, — размышляет Константас. — Еще несколько недель — и будем кататься на санях…
В клети Даукинтисов стучат жернова, и бежит, петляет на запад длинный большак, тот самый, по которому мужики из этих усадеб уходили на войну. И Константас ни с того ни с сего начинает рассказывать, что там, где чернеет теперь его банька, жил какой-то Доминикас, а вон там стояла хатенка Уршуле; потом припомнит отца Кайнорюса; старик был с усиками, сухонький, но крепкий, рука у него была железная. Сын его не такой, хилый, хоть и похож на отца, бывало, все твердит: знате, знате. Шел бы ты в избу, скажет брату Криступас.
Ох, уж эта монотонность воспоминаний, лица, шаги, имена, о которых ты слышал еще из уст деда и прадеда! Криступас долго будет поминать Стяпонаса, потом Амбразеюса, Вигандаса, а Константас — своего отца, родителей и пращуров соседей. И нескончаема эта цепь: мертвые взывают к живым, живые — к мертвым, одни продлевают жизнь других, пока не смешиваются их кости.
Дует ветер, носит кленовые листья и семена, где-то брешут собаки, грохочут «студебеккеры». Визгирда выходит во двор и прислушивается, Амбразеюс странно, чуть ли не с удовольствием, прыскает, и Визгирда вдруг с ужасом ловит себя на мысли, что Амбразеюсу по душе такая разруха. На паровом поле, звякая цепью, заливается ржанием лошадь и почему-то испуганно шарахается в сторону. Из кустарника выныривает мальчонка.
— Ты где был? Где тебя черти носили? — напускается на него Визгирда и отправляется запирать ригу. Но повернув ключ, спохватился: зачем запирать, коли там пусто.
Положив руки на вздувшийся живот, в котором бьется новая жизнь, ворочается в постели Криступене.
— Господи, когда кончатся эти пьянки?..
Большими, почти бездонными, задумчивыми глазами смотрит в окутанный сумерками двор ее пасынок Юзукас. На его тонком красивом лице — выражение жалости и скорби. Со стены на него глядит покойная мать.
Ранним ноябрьским утром, когда солнце будет сверкать в затянутых льдом лужицах, Юзукас, шурша замерзшей травой, пойдет к дяде Казимерасу за корытом, чтобы купать новорожденного. Криступас мог бы об этом позаботиться и загодя. Надо законопатить щели в стенах хлева и избы, надо заготовить дрова, надо раздобыть для будущего младенца пеленки. Соседи приходят послушать Амбразеюса. Ему нельзя курить, а он тянет папиросу за папиросой. Послушай, что поют сестрицы… — выводит он и жадно втягивает дым. Визгирда уже тут, у Криступаса.
— Что это на вас нашло?
— Садись! Садись!
Поют втроем, больше всех старается Визгирда, слуха у него нет, но зато какой у него яростный голос. Чего доброго, еще и Казимерас пожалует. Если бы не звание председательши, не утерпела бы и Константене. Ее альт, бывало, оглашал костел. Но теперь, когда она на таком посту, — об этом и не заикается. Каждый день Константене носится в местечко.
— Куда это ты сломя голову летишь? — преграждает ей дорогу Визгирдене.
— В волость. Видишь, сколько бумаг.
— Может, она не в волость, а к доктору мчится. Спросить хочет, почему бездетная, — говорит Визгирдене мужу, войдя в избу.
— Да не детишки у нее на уме. Разве не видишь: государственными делами занята. Работа эта у нее сейчас вместо детей, — говорит Визгирда, подтягивая штаны.
— Да иди ты, какой женщине детей не хочется. Меня не проведешь. Я своими глазами видела, как она Юзукаса честила, когда он с ее грядки морковку дергал — ругает, топает ногами, хворостиной грозит, но бить не бьет, только смеется, так перепугался…
Дом Криступаса полон всяких странников и горемык, всех он угощает, а деньги бежит одалживать — мол, заработаю, будет у меня их с лихвой. Порой он зарабатывает, но еще больше денег транжирит. Кто знает, может, завтра в них никакой нужды не будет.
Подтягивая вечно сползающие портки, слоняется по двору Визгирда. Что это с Криступасом происходит? Ведь так нельзя. Никакого чувства ответственности. Не первый он и не последний. Скажем, его не станет — другим-то жить надо. Дети останутся. Но Криступас позвал к столу, и Визгирда недолго артачился — сел, пьет, поет, ест. Ну разве откажешься, если зовут. С разными людьми встретишься. Что-нибудь услышишь, с кем-нибудь поспоришь. Да и платить не надо.
Криступас мечется по избе, не зная, что бы еще на стол поставить, а у кого-нибудь из гостей, глядишь, полный кошелек, а может, и поллитровка есть. Только вытаскивать не спешит — а вдруг еще к кому-нибудь завернет. Криступас все еще живет по-солдатски — общий стол, общая судьба, если не я, то ты, если не ты, то я, какая разница. Только кликни — тут же придет на помощь. Криступас не Константас, который только со своим плугом или бороной возится, не Визгирда, которому и в голову не придет узелок с деньгами развязать. Медленный, выверенный жест Ужпялькиса, цепкие руки Визгирды, пятерня Константаса на шершавом камне жерновов, Казимерас, тянущий по утрам из озера сети, его пальцы, заскорузлые, пожелтевшие; вздымающая молот рука Кайнорюса и… без толку размахивающие руки Криступаса.
Константене без устали шепчется о чем-то с Накутисом, и это злит всех — и Визгирду, и Криступене, и Казимераса.
— Словно какая муха ее укусила, — плюется Визгирда и думает, что бы ему выбрать — хорошо бы на склад попасть или к кормам.
Только Криступас ко всему равнодушен — ничего не замечает.
— Всех нас ждет один конец, — порой вставляет и Константас.
С этим, пожалуй, и Визгирда согласен. Но не разумом единым жив человек. Разум служит желаниям, вере, а не наоборот. Взять, к примеру, отца Накутиса — Людвикаса. Дряхлый, хилый старикашка, а все снует, хлопочет. То с топором его увидишь, то с вилами, хотя пока он от хаты до хлева дойдет, солнце сядет; ни дать ни взять засохшее дерево, но одна-другая ветка, глядишь, еще жива, тянет из землицы сок. Или горбунья Розалия — ей-то на что надеяться? А она каждое утро по грибы уходит и возвращается с полным лукошком или семенит вслед за своей сестрой в местечко — может, кто-нибудь из родни отзовется. Надо жить. Вечная жажда жить — разумом ее не постичь — ее чувствуют глаза, губы, вещи; Криступас никогда ими не дорожил, может, поэтому он теперь словно гость на белом свете. Вещи… не в них ли, по словам Визгирды, который довольно-таки глубоко разобрался в некоторых явлениях жизни, сильнее всего и укореняется жажда жить? В молодости мы ценим одно, в пожилом возрасте — другое, но и в старости все чего-то недостает. И как это только Криступас посмел сказать, что ему ничего не нужно, что все ему опротивело. Первой жены, конечно, жалко, но жить-то надо. Все равно ее не вернешь, — не раз говорил Визгирда Криступасу. Да что толку — не слушает. Говорит, словно над кем-то насмехается. Он, мол, вольная птица, и никому его не испугать — вот и вся его философия. Ни перед кем он унижаться не станет.
Старая Даукинтене беспокойно вращает глазами.
— Криступелис, что с тобой, сынок? — притрагивается она к его плечу.
— Ничего, мама, — оборачивается вдруг Криступас. — Только жалко мне вас всех, всего вокруг жалко, — произносит он шепотом.
— Ну что это за разговоры? — раздается хрипкий голос Визгирды.
— И это ты говоришь? — спрашивает Криступас. — Ты, который шагу со своего двора не сделал? Ничего, кроме телеги и лошади, не видел? Что ты знаешь?
— А ты что?
— Я твоих книжонок не читал. Но есть кое-что такое, чего ты не поймешь. Никто не поймет, — как топором отрубает Криступас.
— Лучше пойди проспись. Завтра поговорим.
— А о чем? О чем с тобой говорить?
Так говорит Криступас, и в его голосе — нотки тайной гордости, но слышится в нем и скорбь.
Глаза старой Даукинтене полны страха. Не успела она присесть на лавку, как снова встала, засеменила, тыкая палкой в утрамбованную стежку, словно сотни неотложных дел ее ждут. В приклети или в риге нет-нет да и услышишь ее хрипловатый голос: «Криступас!» В голосе испуг — так пугается человек, который вспомнил что-то важное, чего раньше не высказал, а должен был либо высказать, либо предупредить, либо посоветовать.
Кое-кого — а таким, видно, был и Амбразеюс — всеобщая разруха вполне устраивала: ничего не надо было делать, а кое-кто жил, словно притворяясь, играя в чужой драме. Больше всех потешал односельчан бедняк Ошкутис, у которого была шелудивая коза и пятеро детей и который носился из одного двора в другой, боясь, что и у него все добро отнимут.
Были полны насмешек над колхозными новшествами и песенки Амбразеюса. Люди к нему быстро прилепились, но так же быстро и отвернулись. Амбразеюс сеял тревогу.
— Этот цыган все своими слюнями измазал. Гнать его надо, — сказал однажды Визгирда.
По вечерам, навалившись на довоенный радиоприемник, прислушиваясь, не ходит ли кто под окнами, ужпялькяйцы ловили противоречивые новости и обращали свои взоры к самым умным, немало повидавшим на своем веку, начитанным (чаще всего это были Накутис или Константене) и ждали, что те скажут. Не было застолья, где бы не объявился какой-нибудь знаменитый политик. Они рассуждали так, словно их заболоченные поля — супесь и пары — простирались под окнами каких-то сказочных замков, из которых виден каждый их шаг и слышен каждый вздох. Чувствовали, что на свете есть правда и всем будет воздано по заслугам; гордились тем, что не запятнали рук, хотя эти их руки, к чему только ни прикоснись, — так легко запятнать (слова Константене).
Собрав квитанции о продналоге, набив карманы всякими бумажками, ужпялькяйцы отправлялись с жалобами в какой-нибудь далекий город, перед этим как следует напугав всех именами своих родственников, занимающих высокие посты, именами, приходившими в хмельные головы долгими бессонными ночами. Но, очутившись у парадных дверей, потоптавшись возле них, ужпялькяйцы передумывали жаловаться и сворачивали в забегаловку или магазин хозтоваров. Потом, понурив головы, возвращались домой. Так в город ездил и кузнец Кайнорюс. Поутру Повилас Ужпялькис, возвращавшийся с базара, нашел его на дороге полуживого (до того он был пьян), втащил в подводу, даже не подозревая, что Кайнорюс ездил жаловаться на него. Так искал в городе ученого племянника Визгирда, он же упоминал про какого-то своего шурина, большую, дескать, шишку. А Криступас… тот нес совершенную ахинею. И в неведомые, никому не доступные дали всматривался своими горящими глазами чахоточного Амбразеюс. На лице его играла усмешка, ледяная, как и свет той осени, порой озарявший их поля, колыхавший приозерную кугу и осоку, из которых с кликом взмывали боязливые птицы, напуганные чьими-то шагами или выстрелом.
Перед Амбразеюсом были распахнуты двери всех изб. От его имени веяло ладаном и еловыми ветками, которыми были обрамлены лики святых. Но, вглядевшись в этого человека, ужпялькяйцы вдруг убедились, что это имя совершенно не подходит ему, и первый это заметил Константас, которому, видимо, сама природа наказала за всем наблюдать, все запоминать, всех сторожить. Только давно уже никто не обращал внимания на его справедливые предостережения. Потом все, как будто у каждого вдруг открылись глаза, заметили, что Амбразеюс проявляет чрезмерный интерес к тому, где и что делается, что говорится, и что аккордеон и частушки были для него, по словам Визгирды, чем-то вроде ширмы. Если к кому-нибудь вламывались ночные гости, то первым, о ком хозяева думали, был Амбразеюс, вспоминали каждый его приход: куда смотрел, о чем спрашивал, к чему притрагивался.
Без устали перетряхивая свою память, ужпялькяйцы обнаружили в ней такое, что в свете то и дело повторяющихся событий говорило об одном: у Амбразеюса есть какие-то тайные цели.
— Не важно, что он говорит и о чем поет, — сказал Казимерас. — Надо следить за тем, куда он смотрит и что у него на уме. А этот… Криступас, — добавил он, — ничего не хочет видеть.
— А ты что — не тем же лыком шит? — бросил Казимерасу Визгирда, слушавший его довольно внимательно.
— Не понимаю, что же получается: он одно говорит, а другое делает, — пропустив мимо ушей вопрос Визгирды, продолжал Казимерас.
— Все вы двуличные, — отрезал Визгирда.
— А ты? — спросил Казимерас.
— Ты меня своим дерьмом не пачкай.
Такими словами кончился однажды их разговор. Все вдруг замолкли, попятились, оставив посередке избы много места тому, кто их созвал и на миг сплотил воедино. Про себя же они решили, что многое передается в лес только через Амбразеюса. Вызывал подозрение и счетовод Накутис. Да и сами они не очень-то помнили, где и что под пьяную лавочку болтали.
Через несколько недель Амбразеюс исчез.
— Он хоть спасибо сказал? — спросил Визгирда Криступаса.
Тот ничего не ответил.
— А хоть знаешь, куда он удрал?
— Иди ты к черту! — закричал Криступас.
Он продолжал свято верить в этого человека. И никто не заставит его поверить, что за добро можно отплатить злом.
Но однажды в полночь — недели через две после исчезновения Амбразеюса — кто-то тихо постучался к Криступасу в окно, и он вспомнил своего друга «цыгана». Криступас, не раздумывая, открыл дверь и, сраженный пулей, рухнул на порог.
— Это тебе за то, что ты очень Стяпонелиса жалел, — успел он услышать.
То был не голос, а жало змеи.
— Стяпонелиса, — он кого-то словно передразнивал… словно Амбразеюса… ничего больше его помутившееся сознание не успело запечатлеть.
Криступас уже выздоравливал, когда до него дошла жуткая весть: Амбразеюса нашли с веревкой на шее в покинутой риге у большака.
Криступас смотрел на ужпялькяйцев, которые, толкаясь, выносили из риги труп. Из кармана висельника вдруг выпал замусоленный блокнотик, в который Амбразеюс время от времени что-то записывал. Константене тут же наклонилась, подняла блокнотик, хотела было посмотреть, но Криступас вырвал его у нее из рук и швырнул председательше в лицо.
Может и в самом деле их зря пугала ироническая усмешка этого человека. Что-то загадочное, запутанное и противоречивое было в его жизни, и Криступас, который всегда готов был приютить и обогреть всех горемык и бездомных, никогда его не осудит, даже в том случае, если Амбразеюс успел стать перед смертью его врагом. Застывший, костлявый труп внушал только жалость. Если это и впрямь предательство, то оно ходило по пятам самого Амбразеюса. Пытаясь выпрямить скорчившегося, исхлестанного октябрьскими ветрами покойника, ужпялькяйцы до боли чувствовали, что кого-то не хватает рядом с ним: матери, брата, жены? Со всеми женщинами он заговаривал, всех их опалял его чахоточный взгляд, но оплакивать его у гроба было некому.
Криступас загнул один палец… потом три… четыре. Скольких он за год лишился — на фронте, у себя дома? Каждая смерть, каждая пуля, угодившая в близкого, задевала и его. Эльжбета поняла бы… Никто не заменит ему Эльжбеты; никто не заменит ему тех, кого он любил; и чья вина, что даже осторожный, умудренный жизнью брат, даже вторая жена, мать его ребенка, даже сестра — более чужие ему теперь, чем любой чужак? Кто виноват в том, что он не спускает глаз с большака, по которому уходил из несуществующего дома и в такой же возвращался.
Сын его, шестилетний мальчонка, вцепился в отцовский ремень. От каждого прикосновения Криступаса сердце мальчика сладко замирало.
По проселку, на котором сверкали лужицы, по проселку, над которым плыли перистые облака, через голые поля двинулась еще одна похоронная процессия. Склоненные головы, обильно смазанные мазутом или гусиным жиром сапоги, галифе, развевающиеся на ветру волосы, доносящийся откуда-то издали колокольный звон — а ведь это звонили не по Амбразеюсу, его и на кладбище хоронить сперва не соглашались. Криступас сказал:
— Мы не должны забывать Амбразеюса, ибо ничего о нем не знаем. Если он и был дурным человеком — хотя я лично в это не верю, — все равно он никого не подвел, только самого себя… Многие имена мы никогда не сможем забыть, — продолжал он, окидывая взглядом всех по очереди — и тех, кто выстроился с винтовками напротив кладбищенской стены, и тех, кто пришел с его хутора. Никто Криступасу не возражал, над головами гудел ветер. Чистое октябрьское небо и ветер: залитые светом сосняки, залитые светом дороги. На них-то и вывела странника Амбразеюса смерть.
Казимерас за гробом Амбразеюса не пошел, отказался проводить его и Константас, только Визгирда прошел немного следом и с полдороги вернулся.
Процессия, которую организовал Криступас, возмутила кое-кого из властей.
— Еще неизвестно, что он был за птица.
— Я знаю: он никому ничего плохого сделать не мог, — ответил Криступас.
— Голодранцы, — махнула рукой Константене, — какими были, такими и остались.
— А ты сама — давно ли другой стала? — Криступас посмотрел на ее муфту и добавил, обращаясь к самому себе: — Я словно свое прошлое похоронил.
— Ай-яй-яй, ты только нюни не распускай, — сказала Константене, но Криступас не расслышал.
— Сорвался как лист с дерева, — покачала головой Тякле Визгирдене.
— Да он… — хотела было возразить Константене, но смекнув, что люди собрались не для того, чтобы слушать ее речи, замолкла.
Надолго запомнит деревня похороны Амбразеюса. И что на проселках лужицы блестели, и что ветер шапки срывал; и слова Константене и Криступаса, его печальное, заросшее щетиной лицо…
Через несколько недель поселился в избе Криступаса новый жилец — седовласый, сутулый старикашка; куда бы он ни шел, что бы ни делал, все бочком, съежившись, видать, привык в трущобах и на чердаках ютиться. Даже трудно представить, как он взбирается по лестнице наверх, где Криступас устроил ему постель. По ночам в крохотном сводчатом оконце мерцал красноватый огонек: старичок проявлял свои негативы. Бывало, глубокой ночью, держа в дрожащей руке фонарик, спускается по той же лестнице и Константас, вздыхает («Еще дом подпалит»), забирается в постель и закрывает глаза.
Однажды старичок сказал мальцам, которые, разинув рты, смотрели, как он, причмокивая губами, разводит всякие порошки и кристаллики и оживляет на белом листе бумаги лица людей, что он хочет всех сфотографировать. Пусть они придут с кроликами (все ужпялькяйские сорванцы выращивали их), пусть скажут родителям, что он и их сфотографирует на фоне деревьев, возле частокола, всех до единого.
Долго перед черной коробкой фотоаппарата, установленной на треноге, пушил свои усы Казимерас; переминался с ноги на ногу, словно стоял на угольках, Константас; терпеливо дожидаясь, пока голова старичка вынырнет из-под черного покрывала, застыла Константене, готовая расхохотаться в любую минуту; поправляла узел платка в крапинку старая Даукинтене; сын Визгирды сфотографировался возле лошади; скрипя голенищами сапог, примчалась со своим малышом Криступене; приковылял белый как мел Криступас — уже третий осколок свинца извлекли из его тела доктора.
Потом все вертели в руках эти снимки и диву давались: какое сходство, как живые!..
Глядя на этого старичка-фотографа, Визгирда почему-то все время думал и о тех, которые своими самодельными телескопами первыми открывали звезды, о врагах, которые, желая испытать свое лекарство, выпивали смертельную дозу с бациллами чахотки, об ученых-изобретателях, обо всех, кому человечество (это слово довольно часто встречается в речи Визгирды) должно быть благодарно. В душе он всегда почитал тихих подвижников и презирал тщеславие (которое было свойственно и Казимерасу, и Криступасу).
Таков Визгирда. Он ценит ремесла, покупает только хорошие, добротные вещи. До самой старости ему будет служить коса «Гарантия», он знает толк в материалах, знает, что из чего сделано, все сравнивает с вещами, изготовленными в старые времена. Вообще он обожает в разговоре сопоставлять то, что было, с тем, что есть.
И хоть у него нет ни верстака, ни кузни, Визгирда порой способен смастерить какую-нибудь вещь лучше, чем кузнец Кайнорюс или столяр и плотник Ужпялькис. Приглядывается к умельцам, смотрит, как делают другие, и учится у них потихоньку. И старается не ударить лицом в грязь — никому не уступит. Не допустит, чтобы его вещь была хуже. Терпелив. Иногда бросит: «Живи мои родители чуть лучше, они бы меня обязательно какому-нибудь ремеслу обучили», — и глаза его наливаются слезами, словно пронизывающий ветер швырнул ему в лицо прах его убогой земли. Хоть Визгирда и скуп, но жене и слова не скажет, когда видит, как она с миской супа идет через сосновую рощу к Криступасу — несет старичку-фотографу ужин. Вскоре Визгирда купил фотоаппарат и своему сыну…
Как только Криступас немного оправился после операции, он снова стал созывать к себе друзей. И был таким же доверчивым, как прежде. Визгирда и презирал его, и любил.
Зато каким подозрительным и настороженным становился взгляд второй жены Криступаса по мере того, как подрастал их младенец. Она все примечала — и кто охапку сена принес, и кто копейку припрятал. Все это отдавалось больно в ее душе. Криступене толкала мужа кулаком в бок и приговаривала: «Иди, смотри, делай то, что другие делают». Но тот и в ус не дул: «Да хватит, всего у тебя вдоволь». Она указывала ему на Визгирду и Кайнорюса — вот это мужчины.
В доме Криступаса все чаще вспыхивали перепалки и ссоры. Со звоном падали ведра, визжали дети: «Ты… тебе… твою… ты…» — «Ах ты… чуга, …пивец!» — кровавая, рвущая глотку брань. Раньше Тякле Визгирдене, стоя во дворе, еще прислушивалась, как они ругаются, а теперь норовит как можно скорее шмыгнуть в хлев или в избу. Задыхаясь, ковыляет по тропке мать — старая Даукинтене. «Пойди, Тякле, посмотри, как бы они там головы друг другу не размозжили».
Прикрывая руками лицо, чтобы его не ушибли какой-нибудь летящей табуреткой, снует Юзукас, который не в силах понять, почему они не могут по-человечески договориться, объяснить, чего друг от друга хотят. Юзукас презирает и отца, и мачеху.
Собрав свои проявители и закрепители, ретируется со двора Криступаса и фотограф — бог даст, поспокойнее место найдет. Но куда там! Приютится у кого-нибудь на день-другой и снова возвращается к Криступасу. Волны злости пенятся, брызжут в лицо старика — они куда ядовитее, чем его химикаты. Криступас поднимается на чердак и просит прощения за себя и за жену.
Такое вот творилось тут, когда Казимерас предложил назначить бригадиром своего брата, не успевшего еще и раны залечить. Он, надо думать, знал про Криступаса далеко не все. Целыми днями Казимерас либо ловил на озере карасей и линей, либо, сидя в своей избе, часами глазел на большак. О том, что делается в деревне, Казимерас и знать не хотел, и только изредка до него доносились обрывки звучавших там, в долине, песен и брани.
Криступас присылал к нему своего мальчугана, чтобы одолжить спичек, табака, соли и прочего.
— Когда вы мне корыто вернете, которое брали, чтобы ребенка купать? — напоминал Казимерас. Одалживал он неохотно, хмурясь. — Все клянчите, своим обзавестись не можете. Только норовите у других… — говорил он, латая челноком сеть или вытряхивая из трубки пепел.
Казимерас льнул к Накутису, Ужпялькису, Каушпедасу, хотя и понимал, что он для них чужой. Частенько он хаживал в местечко, собирал всякие слухи. Чутье подсказывало, что теперь его время — за все ему воздастся. Соседи, что побогаче, стали уважительнее говорить с ним. Заходили они и к нему домой. Казимерас ловил каждое слово и порой разговаривал с ними так, будто был хозяином всех этих полей. Если кто-нибудь упоминал о брате, Казимерас морщился. Шалопут. Он что-то утаивал от самого себя, и что-то невысказанное было во всех его делах и мыслях. Ни с того ни с сего он становился злым и раздражительным. Стоило ему только подумать о брате, как мысли его теряли стройность и вспархивали, как напуганные птицы.
Еще больше все запуталось в голове Казимераса после разговора с Барткусом. В тот вечер, втянув голову в плечи, Казимерас брел из забегаловки домой: дернул же его черт за язык — предложить в бригадиры брата Криступаса! Более неподходящего для такой должности человека днем с огнем не найти. То, что работа бригадира не сулит Криступасу ничего хорошего, Казимерасу было ясно. Но он не сомневался — брат согласится. Ему дай только волю, — ухмылялся в сумерках Казимерас.
Кто-то неизбежно останется в проигрыше, только не Казимерас. Горластая, самоуверенная Константене даже не заподозрит, что она лишь орудие в чужих руках. Ее хлебом не корми, только дай выступить на собрании, подписать акт; дай ей почувствовать, что нынче ее власть, но пусть председательша знает, как быстро этой власти можно лишиться. Чем больше Константене будет зависеть от других, тем пуще будет кичиться.
В тот вечер, когда Казимерас брел из забегаловки, эти мысли просто не давали ему покоя: он то весь напрягался, то вскидывал голову, то снова съеживался… Перед глазами то и дело мелькало продолговатое лицо Константаса; Криступас похлопывал рукой по крупу оседланного скакуна. («Ему дай только волю», — снова ухмыльнулся в сумерках Казимерас.) А что, если брат в яму полетит?.. Как будто не знаешь, думал он, ты ведь уже раз с Мильджюсом встречался, разве не помнишь, что он тогда сказал… И Ужпялькис — какие слова он однажды бросил тебе в лицо… Константене всегда выкрутится. А Криступас влипнет. Посмеет ли он, Казимерас, усесться тогда в теплое, согретое братом седло?
И снова Казимерас увидел себя в забегаловке — сидит и разговаривает с мужиками, и все его, раскрыв рты, слушают. Только Криступаса тут нет — если он, привязав буланого к коновязи, войдет, все разговоры мигом прекратятся. Казимерас видит себя, не спускающим с дверей глаз. Что-то уже сказано шепотом, о чем-то Казимерас уже договорился, и ничего не изменишь. Опасность ему не грозит, его никто не тронет. Теперь рядом с ним может примоститься и Криступас, под ногами которого яма. Брат ее выкопал, брат и подскажет, как в нее не провалиться. Криступас будет носиться по соснякам, мчаться туда, куда понесет его буланый, сверкающий своим крупом. И еще лицо Константаса, застывшее, изумленное, еще его панические слова — только бы не услышали. Ша, тише. Берегитесь! «Тпру! Но!» — орет во всю глотку Криступас. «Ты… там…» — это все, что может сказать своему брату Криступасу Константас. Но он, Казимерас, который все знает, тут ни при чем. Казимерас ловит в расставленные силки зверьков. Он закусывает в местечковой столовой, перечисляет кое-какие фактики, но, странно, они касаются не Накутиса, не Константене, а его брата Криступаса: тот никогда никого не заподозрит. Рано или поздно Криступас вылетит из седла. А те двое еще будут держаться. Их просто не возьмешь. Кто-то должен быть козлом отпущения, и вот тогда явится он, Казимерас. Явится и скажет: «Мой дед был экономом, и я…» — «А что, у вас с Криступасом разные деды, что ли?» — «Он не такой, для этой работы не подходит». Потом Казимерас видит себя с веретеном в руке, сети чинит — на рыбалку поедет. Туман, разбухшие от дождей поля, где-то слышны голоса женщин, хлопочущих на огородах, потом: «Оп! Но! Оп!» — молотилка увязла.
Криступас влетает во двор.
— Тпру! Иди помоги.
Казимерас не поднимает головы, продолжает чинить сеть.
— Какого черта ты по этому проселку поехал, надо было мимо Накутиса, мимо Кайнорюса. Это дальше, но дорога лучше — песок. Совсем у тебя головы нет, — говорит Казимерас и старательно вынимает из сети травинки.
Криступас постоял немного и ускакал в поля, где мужики пытались вытащить увязшую молотилку.
— Оп! Но! Оп! Еще разок! — кричит Криступас.
Земля теплая, размолота колесами, вытоптана скотиной, пахнет гниющими корешками, ячменем, овсом. Чьи-то босые ноги с закатанными по щиколотку штанинами (не Константаса ли?) едва успевают за плугом, нарезающим жирные, сверкающие пласты земли. Галдят напуганные грачи. «Оп! Но! Еще разок!» Казимерас оглядывает сеть — а эта дыра откуда?
— Вот так братец, — слышит он сзади слабый голос матери.
Она приближается, опираясь на палку, но Казимерас не обращает на нее внимания, забрасывает сеть… Потом сердито кричит на мать:
— Ты чего сюда нос суешь? Чего тебе надо? Что ты понимаешь? Я что ли ему эту работенку подсунул? Если не хочет, пусть не работает. Мне-то что?..
Преследуемый такими видениями, он и не заметил, как переступил порог избы Визгирды.
…Старая Даукинтене смотрела на стоявшую на столе закоптелую лампу, Визгирда мерял шагами избу, а сестра стелила постель. Видно, муж и жена были в ссоре.
— Садись, Казимерас. В местечке был?
Слово за слово разговорились. Кое о чем умолчав, а кое-что и переиначив, Казимерас принялся рассказывать. Криступаса, наверное, бригадиром назначат.
— Криступаса?! — удивился Визгирда.
Старая Даукинтене не сводила с них глаз.
— Все-таки свой, — пробурчал Казимерас. Помолчал. Потом ни с того ни с сего добавил: — Ему дай только волю, — и рассмеялся.
Визгирда по-прежнему ходил по избе, то и дело подтягивая сползающие портки. Прокопченная дымом печь, углы, кучка поленьев, на шкафчике горшки, миски с недоеденной картошкой.
— Ты своего брата дураком считаешь? — сказал Визгирда. — Волю, видишь ли, ему подавай! Небось, руку-то приложил, чешется ведь?
— Титьваймать! — стукнул кулаком по столу Казимерас. — А сам ты где в войну был? В овчарне отсиживался? Титьваймать!
— Вон! — Визгирда повернулся к печи, у которой поблескивал топор.
Уже не первый раз Визгирда тянется за топором — когда-нибудь пустит его в ход, и баста. Жизнь-то у него наперекосяк… Потому-то Тякле Визгирдене и прячет от него все острое. А сегодня как назло топор оставила там, где чурки колола. Вот садовая голова.
Но и на этот раз все кончилось хорошо. Казимерас пулей вылетел в дверь, прихватив с собой поллитровку, которую сам же выставил на стол. В открытую дверь ворвались ветер и шум дождя. Потом со двора Криступаса донеслись голоса: — кто-то то ли стонал, то ли ругался — не поймешь. Кто-то стоял во дворе с фонарем в руке, а вокруг толпились зеваки — может, снова что-то стряслось, может, пьяный голову себе размозжил или телке пришло время телиться; мне-то что, — прошептал, подтягивая портки Визгирда, и вернулся в избу. Темно, хоть глаз выколи, Казимерас исчез, растаял в этой тьме. Но во дворе Криступаса горит свет.
— Что там такое? — спрашивает старуха, стараясь перекричать шум, который только что сотрясал стены и долго еще будет отдаваться в ее почти полумертвых ушах. Голос у Даукинтене хриплый, слабый, как полыхание закопченной лампы.
— Не поймешь, — машет рукой Визгирда.
— Что ты сказал? Что? — прикладывает она руку к уху. Ей хочется встать и идти во двор, в темень. Но теперь, когда двери закрыты, старая Даукинтене не слышит, что за ними творится (самого крика она не слышала: только поняла по лицу Визгирды, догадалась по знакам, которые лишь она разбирала).
Тякле Визгирдене прислонилась к беленой печке.
— Господи, — шепчет она и рвет на груди блузку. Откидывает голову назад, ловит ртом воздух. Старая семенит к печке, ищет валерьяновые капли — они в шкафчике, там, где спички, соль, ложечки… Она приводит дочь в чувство, берет за руку, ведет к кровати, стоящей у низкого оконца, укладывает ее — лежа, не поднимая головы с подушки, можно в утренней дымке увидеть и сосновую рощицу Диржиса, и свет в окне Анупраса, да что там увидеть, — узнать, когда они ложатся, когда встают, что делают. Ведь не один живешь на свете. И порой только этот серый проселок, эти простые знаки соседского житья-бытья успокаивают тебя и утешают. Засыпаешь с серой ниткой проселка перед глазами, которая светится в сумерках, просыпаешься — а она, как и вечером, перед тобой, смотришь, прислушиваешься: вот в сарайчике за стеной шумно взмахивает крыльями красный петух. А порой, когда работаешь или просто идешь по проселку, в душу вдруг закрадывается такая тревога, словно донесся до тебя какой-то далекий гул, или звон колокола… и не поймешь, откуда плывут эти белесые, пронизанные лучами облака — от Сантакос или Дусмянос, не поймешь, день ли, вечер ли, солнце уже село, но еще светло, и снова на душу ложится тревога за все, за судьбу мальчонки: что его ждет, когда вырастет?.. Тревога и за мужа, и за Криступаса; может, с Малдонене что-то стряслось, пойду-ка поговорю с Анупрене. Сходишь, посмотришь, чем люди заняты, что делают, потолкуешь, послушаешь и, глядишь, отлегло от сердца.
Старая Даукинтене посидела рядом с дочерью, которая бессмысленно смотрела в оконце, и снова засеменила к своей лавке. Забрался на печку Визгирда. И зимой и летом он спит там, положив руку под голову, или думает о разных разностях, а порой зажигает лампу — читает.
Старуха смотрит во тьму, в которой трепыхается красноватый, чадящий огонек лампы: он то почти гаснет, то вспыхивает, освещая зев печи, кучку хвороста, смолистую чурку, от которой каждое утро и каждый вечер хозяйка отщипывает лучины для растопки, расставленные на столе и покрытые чистой марлей миски, ведра, полные воды, и чугунок с начищенной картошкой — старая Даукинтене смотрит, все ли к утру готово, проверяет, есть ли спички, хватит ли щепок для растопки. Только утро будущего дня может выдаться серым и пасмурным, и все приготовленное останется нетронутым. Выкарабкается из кровати ребенок, а горячего, помазанного вареньем блина ему не придется отведать. Мать его дышит тяжело и неровно. Положив руку под голову, смотрит во тьму ее муж; откуда-то доносятся голоса — не Криступас ли это распелся? Из-за этого ветрогона Визгирда чуть не проломил Казимерасу голову. Но если в избу ворвется какой-нибудь негодяй, он убьет его, и баста. Будет защищаться из последних сил, и пусть потом делают, что хотят.
Старуха смотрит в темноту. Верткие змейки пламени, отражаясь, извиваются в ее испуганных глазах. Кажется, от лучины, чадившей в ее избе, возгорелся огонь тех вечеров, когда парни, бывало, режутся за столом в карты, а девки прядут, ткут или щиплют перья… («Тякле, посмотри, нитка оборвалась… Зачем ты Криступелиса толкаешь?..»)
Это отголоски прошлого века. Минувшие дни. Старуха осталась такой, словно ее дети еще не выросли, и их надо опекать, как маленьких. Константене называет ее старой клушей, и дети сердятся — зачем всюду нос сует. Не по душе ей невестки, а уж она невесткам — не приведи господь! Ни с кем не уживается, один день поживет у Криступаса, другой — у дочери, соберет вещички — и на большак, к Казимерасу. Посидит у него подле оконца, поцапается с невесткой и снова семенит в долину — по внучонку, мол, соскучилась… по Юзукасу. Ехала бы она в город к дочкам. Жила бы там без забот, каталась как сыр в масле, зачем ей здесь горе мыкать — так не раз говаривал Константас. Разве он не знает, что здесь ею все тропки проторены и что все вокруг — кровное. Как же без нее внучок вырастет? Все здесь свое, родное. И порог, и камень, на котором она любит сидеть, и большак, по которому пастух ввечеру гонит стадо, и голос вернувшегося сына, и час вечерней трапезы, когда чистят картошку, и пес, который сломя голову мчится ей навстречу, как только Юзукас спускает его с цепи. Только через этот порог она перейдет в иной мир, и последний звук, который еще долетит до ее гаснущего сознания, будет голос сына или внука. А может, клекот аиста, дуновение ветра или скрип дверей.
Когда старая Даукинтене поднималась еще с первыми петухами, ставила на огонь чугунки, месила тесто или сажала заспанных, вытащенных из теплых постелей детей на горшочек, или еще раньше, когда была не замужем и ждала сватов, ей не было дано ни на миг поднять таинственную завесу будущего. Видела — растут, тянутся вверх ее сыновья и дочери, но знать не знала, ведать не ведала, каких они приведут в дом зятьев или невесток. А главное — что случится в мире на коротком ее веку; не знала, не ведала, что будет столько машин, что самолеты… войны… Сколько еще будет всего, чего не увидят ее глаза! Всю жизнь она как бы в кромешной тьме, и из этой бездны голос ее уже не долетает до детей, и она сама почти уже не слышит, хотя видит их там, высоко, на свету, слышит их гомон — они же словно заживо похоронили ее в яме времени. Но ее глаза и руки знают, что только большая любовь творит на земле чудеса, и все великое рождается из великой любви. Больше неоткуда. Поэтому старуха и опекает внучонка, стараясь вдохнуть в его душу священный огонь. Так заботится она обо всех, и сладостно звучат для нее детские и отроческие имена. «Тякле, Тяклюте!» — выкликает их память, словно по лесу бредет. Прибегали ободранные, голодные. Хлеба, молока! Дай и дай. Но больше всего сердце у нее болело из-за Криступаса; самый маленький, самый слабый из всех, бледный, как и Юзукас, смотрит голодными глазками, следит за каждым движением; опекала Криступаса, словно предчувствуя, что с ним может что-то дурное стрястись. И никогда не звала его так грубо, как Казимераса — «Казис!», или другого — «Константас!.. Эй ты, Константас!» Криступелис был добрым и доверчивым, ее тайной надеждой, она никогда не слышала от него ни одного грубого слова. Если бы был жив отец, то он, может быть, ругал бы Криступелиса — известное дело, любовь отца иная, чем у матери — такие дети больше всего нуждаются в ее любви. И неправда, что все они перед ней равны, одинаковы. Всегда кого-нибудь из них любишь больше, с одним из них связываешь все свои сокровенные мечты.
Старуха гасит лампу, усаживается на кровати за печкой и начинает молиться… Эти четки, поцарапанные, истертые, перебирала еще ее мать, и старая Даукинтене почти чувствует, как скользили по ним пальцы ее родительницы, как застывали, наткнувшись на какую-нибудь трещинку или шишечку, чтобы вслушаться в мертвую тишину, как вслушивается сейчас и она…
Когда-то они считали себя шляхтичами. Две ее сестры в Польше — бог весть, живы ли они, писем от них нет, уже целую вечность ни слуху ни духу. Ядвига и Каролина.
Старуха произносит их имена, и губы ее шепчут, как бы шелестят — шшы… пшы… Стоит кому-нибудь упомянуть Варшаву или Краков, как старую Даукинтене охватывает какое-то странное волнение: ей не терпится скорее вмешаться в разговор, сказать, что ее сестры живут там, то ли в Варшаве, то ли в Кракове. Сестры, которых она никогда в глаза не видела. Вся деревня знает, что две ее сестры живут в Польше, две сестры, о которых она беспрестанно думает. Старуха разговорится и покажет вам позеленевшую от времени, медную с орнаментом шкатулку, в которой держали бусы еще мать, прабабушка… Старая Даукинтене будет что-то лепетать, трогать старинный герб и надпись.
— Шляхта задрипанная, — шепчет Визгирда, переворачиваясь на другой бок.
Иногда после охоты или прочесывания леса к Визгирде заходит со своими бойцами Юодка, его дальний родственник. Они говорят, делая вид, будто ничего об этом родстве не знают, хотя тон разговора такой, что, кажется, кто-нибудь из них возьмет и скажет: «Ведь мы дети троюродных братьев».
Вечереет. Небо бледное, как лицо больного. Такой бледностью залита и изба Визгирды с обклеенными бумагой стенами, выщербленным полом, столом, на котором поблескивает бутылка водки, лежат куски скиландиса[3] и сала, огурцы. Юодка, сапожник Скарулис и Аполинарас сидят за столом на лавке. Скарулис отламывает кусок хлеба. Мизинцы на больших руках длинные, скрюченные. Когда смотришь на его руки, так и видишь, как Скарулис проводит мизинцем по лезвию сапожного ножа, берет гвоздики, прижимает подметку… Аполинарас, рослый, краснолицый, пересмешник, не поднимая головы, наворачивает сало, на вид он веселый, добродушный, но, чтобы понять его, надо видеть, какими глазами он смотрит на приглянувшуюся ему женщину. Все трое в хорошем расположении духа. Лицо Скарулиса просто светится спокойствием, от него веет даже некоторой торжественностью, как от человека, сделавшего большое дело. К Визгирде они завернули после успешного прочесывания леса.
— Мы уже почти всех выловили, — говорит Юодка.
Скарулис одобрительно кивает. Аполинарас уминает сало, по-прежнему не поднимая головы. Лицо его все больше багровеет — не дожидаясь своей очереди, он опрокидывает стаканчик. Что бы они тут ни говорили, ему, похоже, все равно.
— Одного тяжело раненого увезли в больницу. Если выживет — может, покажет, где их гнездышко. Никуда не денется, должен будет показать, — и Юодка тянется за скиландисом.
Косясь на составленные в углу винтовки, Визгирда заранее всех предупреждает, что он не собирается примыкать ни к тем, ни к другим. Я не Криступас, говорит он, пялясь в окно.
А в это мгновение Криступас, зажав под мышкой краюху хлеба, шатаясь, спускается с пригорка Визгирдаса к своей избе. Голова у него опущена, ноги заплетаются, может, что-то стряслось, думает Визгирда. Надо бы и его позвать, но бог с ним. Визгирда задергивает занавеску, чтобы никто не увидел, как возвращается Криступас, и впивается взглядом в Аполинараса. А зачем ты эту «кочергу» таскаешь, спрашивает он глазами. Юодка сидит, подперев подбородок. Ни в какие разговоры он не пускается. И слова, и жесты у него вялые. Вот если бы сюда зашел Криступас, думает Визгирда, но… он бы не дал мне рта раскрыть. Наконец хозяин не выдерживает и задает Аполинарасу вопрос о «кочерге» вслух. Аполинарас только пожимает плечами — он еще не набил желудок, не насытился. В уголках его мясистых губ играет бог весть кому предназначенная усмешка, а может, это только кажется, что он ухмыляется: он всегда такой — язвительный, за словом в карман не лезет, но когда мужики всерьез толкуют, ему делать нечего. Все тут ловят каждое слово и движение Юодки, почтительно-испуганно смотрят на него Визгирдене, Константас…
По избе снуют дети. Их так и подмывает потрогать составленные в углу винтовки, патронташи… Ах, если бы им все это отдали! Они бы натянули заляпанные глиной сапоги, нахлобучили бы меховые шапки, надели бы широченные ремни, пристегнули бы к ним пистолеты!.. «Стой! Беги! Стрелять буду! Руки вверх!» — орут они, выбежав ненадолго во двор. Все словно ошалели.
Визгирда придирчиво разглядывает троицу.
— Знаешь, Визгирда, что я тебе, скажу, — вдруг говорит Юодка, положив на стол вилку. — Чья бы корова мычала, а твоя молчала. Думаешь, мы забыли, где ты был в конце войны? Не знаем? Может, ты уже забыл тот полдень, когда мы с красноармейцами нагрянули к тебе? Твоя жена только увидела нас, смотрю — овец в хлев погнала. Етитьтарарай, думаю, совсем ополоумела баба: на дворе полдень, а она овец в хлев гонит. Сразу смекнул, где ты. Да ладно, думаю, на сей раз не тронем, приду попозже, поговорим с глазу на глаз, если откажется, тогда… Не успел — в другое место меня направили.
Визгирдене как шла к столу, так и застыла: в одной руке — сыр, в другой — кувшин с молоком. Зырк на понурившегося мужа, зырк на Юодку.
— Ну-ка, иди, иди сюда, — говорит тот.
Вдруг обрадовавшись, хозяйка принимается стрекотать.
Значит, ты тогда все понял, ох, Юодка, Юодка. А я все думала, чего это он так странно усмехнулся, увидев меня с овечками. Ай-яй-яй, сколько я тогда страху натерпелась! Не знаю уж, что и делать, кидаюсь туда, сюда, и вдруг меня осеняет: загоню-ка я овец в хлев, тогда красноармейцам и в голову не придет, что там бункер, тогда там не станут искать. Гоню, значит, я овец, гоню, а ты, Юодка, смотришь на меня и смеешься. И таким странным показался мне твой смех, только на душе почему-то полегчало, и я сама не почувствовала, как сказала тебе: «Зайди в избу, хоть молока выпьешь». Ай-яй-яй, как я тогда была благодарна тебе за то, что ты их увел, хотя сначала думала: это ты их притащил. Видишь, как нелегко узнать человека, подумай только. А ты чего, как кот, зажмурился, — поворачивается она к мужу, — наливай, не видишь разве: пусто в стаканах.
Визгирда проводит рукой по лицу, глазам, снова поглядывает в окно. От самого холма до избы стелется выцветшее, как его рубаха, жнивье. В другом окне, далеко, у самого горизонта, виднеются плывущие по небу позолоченные стайки облаков. В их сторону тянется голое, всхолмленное осеннее поле, залитое лучами заходящего солнца.
— Пейте, мужики, — говорит Визгирда и отводит взгляд от окна: перед ним застывшее лицо Скарулиса, жирный рот Аполинараса с мясистыми раскрытыми губами — надо же, и он не ест.
— Нет, — качает головой Юодка, — зло берет и стыдно: на твоем холме, вон там, — он показывает в сторону горы, — солдаты окопались, головы кладут. За что? За твою землю, за нас. А ты в бункере торчишь. Где, за каким столом я очутился? Все вы ждете, чтобы готовенькое подали, вам бы только хапать.
— Только не я. Я никогда чужого не брал…
— А мы что, по-твоему, брали?
— Однако!.. — вскидывает голову Визгирда, но никто его не слышит.
— Будешь хватать как миленький, а эти мои слова и не вспомнишь.
Юодка некоторое время молчит, не сводит глаз с Визгирды.
— А что было бы, если бы немцы?..
— Худо было бы. Всем нам каюк. Но у некоторых еще и другой расчетец был, — говорит Визгирда, по-прежнему глядя в окно. Теперь у него в мыслях белый, обсаженный ракитами большак, грохочущие по нему машины.
— У кого это расчетец был? У генерала Плехавичюса? Сколько людей из-за него головы сложили! На кладбище, небось, бываешь, видел? Почитай, по семнадцать человек в ряду лежит.
— Нет больше их могил, перекопали.
— Значит, надо было. Вот и решайте, — говорит Юодка после паузы, — с кем вы, куда вам. Если б не мы! — он окидывает взглядом своих бойцов. — Ээ, да что с вами попусту говорить. Выпей, Скарулис, чего молчишь?
— А что тут скажешь, и так все ясно. Земля его держит…
— Да, я хозяин, земля меня держит, — отзывается Визгирда.
— Смотри ты мне, — Аполинарас ставит свой стакан.
— Сиди, не стоит, — машет рукой Юодка. — Трус он — вот кто, — показывает он на Визгирду.
— Я?! Трус? — удивленно моргает Визгирда.
— Я коммунист, — говорит Юодка. — И все мои родичи. А ты кто такой? Ах, да, хозяин. А рассуждаешь не только как хозяин. Тебе хотелось бы, наверное, быть птицей поважней. Вот и борись за правду — покажи, на что способен. Ворчишь, брюзжишь. Нет у тебя такого права. Криступас может так говорить, только не ты. И не строй из себя невинную овечку. Я тебя серьезно предупреждаю, при мужиках.
— Криступас… Он и шаулисом[4] был, такой-сякой…
У Константене даже глаза заблестели: это ее слова. Ее так и подмывает наброситься на Криступаса, но она только раскрывает рот, как рыба, а сказать боится: Юодка для нее авторитет. Власть. Тут надо знать, что и когда говорить.
— Был, это верно, но когда увидел, что тут творится, не стал дожидаться повестки, сам на фронт пошел.
Константене словно не слышит. Знай клюет себе оставшиеся в миске крохи скиландиса. Лицо у нее серое-серое, Визгирдене даже диву дается, сколько на нем морщин.
— А кто ж он, по-вашему, такой? — наконец не выдерживает она. — Бродяга, отщепенец, пьяница. Он и теперь пьяный явился, своими глазами видела. Видно, опять, со своей благоверной цапается.
Теперь мужики пропускают ее слова мимо ушей. Лишь у Константаса лицо вдруг вытягивается. Э… нехорошо, срам.
— Только вспомню, как Криступас на фронт уходил, боже, боже, — начинает Тякле Визгирдене. — Даже слезы у меня из глаз брызнули… Жена его, значит, сидит у куста смородины ни жива ни мертва, двоих детишек обнимает, а он себе идет, размахивает полами шинели, даже не прощается. Побудь с Эльжбетой, говорит он мне, просунув голову в дверь. Прихожу, а Эльжбета плачет навзрыд, так рыдает, что дух у нее захватывает. Может, не свидимся, говорит. Ну, я бегом за Криступасом, думаю, задержу, но куда там — он уж за холмом. Сломя голову из дому умчался. И вправду — не свиделись.
— Да он и в войну связь с красными поддерживал, — поднял палец Константас. — То-то. Вот рисковый мужик был. Ведь это риск, а как же… ну вот… — заговорил он.
— Да уймись ты, болтун несчастный, — усмиряет его жена, чувствуя на себе одобрительный взгляд Визгирдене.
— Что за женщина была Эльжбета, что за женщина! — говорит Тякле.
— Ну чем же она была лучше других? Из другой глины, что ли? Не такая, как все? И когда с ней жил, к другим бегал.
Визгирдене оглядывает свояченицу: кривоногая, маленькая, шаркает по полу валенками. Не чета Эльжбете! Того и гляди, лужица под ногами заблестит. Похвасталась бы еще тем, что, когда Эльжбета болела, обчистила ее сусеки до последнего зернышка.
— Ой, надо смотреть в оба, ой, надо беречь чужое как зеницу ока, а руки так и чешутся… — отчаявшись найти более удобный случай, пытается вмешаться Константас.
— Замолчи! — топает ногой Константене.
Константас вздрагивает, опускает глаза, потом, призвав на помощь всю свою смелость, говорит:
— Что ты на меня кричишь? Разве я что-нибудь плохое сказал?
— Замолчи! — вскрикивает Константене. — Раз ничего не смыслишь, то и молчи.
Юодка ухмыляется — пора откланиваться.
— Не уходи, побудь еще, рано ведь, — усаживает его Визгирдене.
Все бросаются уговаривать Юодку.
Какая-то неведомая сила тянет их друг к другу, но стоит им сойтись, как они начинают коситься друг на друга, ищут, к чему бы придраться. Неплохие, вроде бы люди, но по глупости или из чрезмерной осторожности готовы вступить в сговор с самим дьяволом. Каждого из них можно срывать, как листочек, хотя они и колются, и обжигают.
Юодка интересуется такими людьми, как Анупрас: в артели лошади дохнут, а виновного никак не найдут. Занимают его и Накутис, и Константене. А Криступас? До сих пор никто не знает, кем был Амбразеюс, с которым он якшался. «Ты в мой огород не суйся, — резанул он однажды Юодке. — Я же в твой не суюсь». Еще неясно, не приходит ли к нему Миколас Мильджюс. Другой на месте Криступаса мог бы даже тропку к его берлоге показать, но как же, покажут они тебе. Главное, чтобы их не трогали. Прошлой ночью сгорели склады Наглиса. Кому теперь красного петуха ждать? Поди знай. Ну чего вытаращились? Я же о вас думаю. Что у тебя за жизнь, Визгирда? Кто ты, Константас? Один трясется от страха; второй горло на лугу дерет, героя из себя корчит; третий поскребется, как мышонок, и снова замолкает; четвертый все чего-то ждет, к чему-то крадется; пятый злится на всех, особенно на близких, словно живет не среди людей, а на необитаемом острове. Свали всех в кучу и получишь змеиное гнездо. Разве они могут все разом чего-то желать? Каждый в свою сторону тянет, но когда одно рубишь, эхо по всему катится. А может, только так кажется? Другой, пожалуй, радуется. Кто же эту подозрительность посеял? Чего они, скажите на милость, поделить не могут? Каждый из кожи вон лезет, чтобы к чему-то пробиться первым, но другие неусыпно его стерегут.
Взять, например, Криступаса. У кого-кого, а у него удобных случаев тысячи; он то впереди, то за чьими-то спинами, словно какая-то невидимая сила бросает его из стороны в сторону. Ему никогда и в голову не придет остановиться, подумать, сколько проку и сколько убытка, что выгадал и что потерял.
(«Ты все кого-то из себя корчишь, — сказал ему однажды Визгирда. — Многое делаешь напоказ. Все уже привыкли к этому, только и ждут, что ты сделаешь, что скажешь. И делаешь ты все это, зная, что от тебя чего-то ждут. И ходишь с этакой оглядкой, думаешь, кто-нибудь вот-вот бросится следом. Если не взрослый, то ребенок…» — «Сынок мой, — сказал Криступас. — Он за мной по пятам ходит. Я его на летчика выучу». — «Только, смотри, сам голову под топор не суй». — «Я зла никому не желаю». — «Всякие попадаются. Другой и слушать тебя не станет». — «А я знаю, Визгирда… я прекрасно знаю — станет».)
А может, тут есть что-то такое, чего я и впрямь не могу понять, думает Юодка, косясь на книжонки Визгирды, сложенные на краю лавки. А иногда Юодка говорит без всяких обиняков:
— Почему тебе наша власть не по нраву? Ты нас что, врагами считаешь?
— Да не враг ты мне и не друг.
— Смотри-ка!
— Какого черта?! Ты еще в пастухах ходил, когда я свадьбу справлял, а теперь нос задираешь?
Юодка с минуту молчит и снова спрашивает:
— Вот ты все лес рубишь. Хочешь дом построить?
— Может, и построю, а тебе что?
На том разговор и кончается. Юодка берет со скамьи винтовку, щупает ее, нахлобучивает шапку — и напрямик через поля. Наступит день, когда Визгирда заговорит иначе. Юодка знает от Барткуса, какие перемены их ждут.
Эти разговоры надолго останутся в памяти Визгирды. В ушах будут звучать слова, которые он сказал Юодке — как смело, как умно он говорил. Теперь они там, в волости, пошевелят мозгами, вспомнят Визгирду. Он бы им еще не такое сказал, да все не успевает: Юодка в его избе долго не задерживается, покрутится, осмотрится — и за дверь.
— Ты сам не веришь в то, что говоришь, — огрызается иногда Юодка, застыв на пороге. — Нет у тебя столько злости. Знаю я таких, — улыбается он.
Каких это «таких», бормочет себе под нос Визгирда, подтягивая портки. С кем это он меня сравнил, кто я ему — пастух? У него еще молоко на губах не обсохло, когда я на вечеринки бегал, а теперь — «таких»!..
В апилинковом совете на столе Барткуса стоит макет местечка и его окрестностей (Бернарделис слепил). Новые дома, фермы, скверы. Изредка Барткус что-то поправляет, переносит какой-нибудь домик, втыкает возле него стебелек (дерево) или прилепляет крылечко — гуттаперчевые кубики, захватанные пальцами, потемнели. Спроси Барткуса о будущем местечка, и он начнет рассказывать — только слушай: словно по мановению волшебной палочки ширятся площади и улицы, открываются залитые светом скверы, зеленеют деревья, посаженные прошлой осенью, когда привозили раненых и убитых и мальчишки-оборвыши прибегали смотреть на них.
Барткусу нравится, когда кого-нибудь надо склонить на свою сторону. Больше всего он ценит свое красноречие и поэтому очень доверчив: увидит, как слушающий начинает одобрительно кивать, и тут же поверит, что убедил его. А ведь нелегко, ох, как нелегко убедить здешних жителей: они слушают, но думают о своем. Вот если наклонишься над ухом и что-то шепнешь, как тайну, если дашь почувствовать, что уважаешь его больше других, он весь превратится в слух. Однако житейского опыта у Барткуса маловато. По натуре он энтузиаст, душа у него нараспашку. По утрам Барткус делает зарядку, поднимает штангу, растягивает заржавевший эспандер и садится за учебники геометрии или алгебры. Пуще смерти он ненавидит болтунов и злопыхателей. Вообще-то он тугодум, но то и дело подхлестывает себя, учится действовать быстро и решительно. Вот почему он всю зиму в проруби купается и еще бог весть что придумывает. «Надо свой характер переделывать, закалять волю», — любит повторять Барткус, потому что характер у него и впрямь не из легких. Старожилы шутят, что он как та жемайтийская лошадка: если ее раз подстегнешь, она потащит телегу, медленно, не озираясь, хоть доверху ее камнями нагрузи, но если все время будешь назойливо понукать, она и лягнуть может и так заартачится, что с места ее не сдвинешь, сколько ни лупи; правда, немного надо, чтобы она задорной рысцой пустилась, умей только держать вожжи в руках. Тем не менее это не рабочая и не ярмарочная лошадь. Твердые бугры мышц, лоснящаяся кожа. Ее не запряжешь с теми, что стоят, отвесив губы, на паровом поле, не запряжешь и с ломовой — та будет тащить так, что только треск в ушах, эта — только постромки тянуть, а если окажется в одной пристяжке с клячей, будет тащить одна, роя носом землю. Раньше на таких лошадей спрос был невелик.
Найдя такое сравнение (к слову сказать, его подсунул Казимерас), все ужпялькяйцы тотчас же успокоились. Всюду только и слышно: «Жемайтийская лошадка… Что жемайтийская лошадка скажет…» Однако никто не знает, что Барткус и в самом деле жемайтиец. А ведь не будь в Ужпялькяй Барткуса, все бы тут выглядело куда печальней: уже и улочка гравием посыпана, уже и обочины липками обсажены (ученики посадили), уже то там, то сям слышно, как стучит молотилка, фыркает тракторишко; то возле амбаров, то возле гумен толпятся мужики, дожидаясь первых возов с зерном. Но пока вид, открывающийся из оконца апилинкового совета, весьма унылый, а в это утро — особенно.
Еще как следует не рассвело, туман, скудный свет в окнах. Сквозь морось смутно проступают контуры домов — заржавевшая жесть на крышах, неподметенные крылечки. Покинутая мельница, заколоченная досками аптека с надписью «Моцкус» на стене.
Что-то выискивая, возле обшарпанного двухэтажного дома снует мальчуган Скарулиса. На крылечке, зевая, потягивается сам хозяин. Через грязное оконце за его спиной видно, как накрывают на стол: картошка в мундире — очистят, посыплют солью и будут есть. Из другого оконца, заткнутого тряпками, на Скарулиса смотрит какая-то старуха — может, Хохлова? — лицо у нее длинное, с крючковатым носом. И гудят, громко гудят колокола местечкового костельчика, которые раскачал кривоногий Инкус, разбрызгивая грязь, мчатся в школу дети, а на втором этаже, над головой Барткуса, сидит за расстроенным пианино барышня-учительница и поет.
«Этого, — думает Барткус, — только нам и не хватало».
тянет барышня-учительница. Нарочно, желая его подразнить. Но попробуй с ней заговори — она только плечиком поведет, откинет назад косу и скроется, сбежав вниз по расшатанной лестнице, только полы юбки мелькнут перед глазами. Барткус слышит ее, когда встает и когда ложится, а она всегда такая — словно насмехается над ним. Вот и обойдись, человече, без закалки! Пока он слышит ее там, наверху, пока чувствует ее за стеной, особенно в полночь или по вечерам, когда она, стоя перед зеркалом, распускает свои длинные волосы, когда там вдруг замирают все звуки и кажется, что даже стены превратились в слух, — покоя у него не было и не будет.
Распахиваются двери, в густом тумане возле мельницы визжит пилорама и, когда она замолкает, слышно, как журчит разлившаяся вода (всю неделю лило), скрипят колеса, позвякивают конские подковы. Над костельчиком, белеющим на пригорке среди купы кленов, с криком кружат вороны. Трезвонит школьный звонок, а дети все еще идут. Вылетают со дворов, нахлобучивая на ходу шапки или застегивая фанерные ранцы. В такую вот рань и долетают до Ужпялькяй ночные, жуткие, леденящие кровь вести. Иногда привозят убитых, сообщают о пожарах. Что-нибудь да случается ночью в лесной чаще, на обочинах дорог, и сюда, в Ужпялькяй, ночь тянет свои когти, в окне апилинкового совета она отражается сполохами далеких пожарищ — о многом Барткус мог бы рассказать этой барышне, ибо ничто так не сближает людей, как чувство неуверенности. И не случайно красивый, сияющий образ соседки-учительницы высвечивается в душе Барткуса. С ней Барткус не такой, каков он на самом деле: сделается грубым, нахальным, почти циником — но и это на барышню-учительницу большого впечатления не производит.
Застыв у оконца, Барткус долго смотрит на улицу. Звуки этого утра, спокойные и миротворные, сулят что-то доброе. Местечко, словно выплывает из памяти, где все бесконечно старое: и этот костельчик, и этот вороний грай в дымке позднего осеннего утра, и детские голоса, и скудный свет в окнах, через которые видно, как накрывают на стол, стелют постели, провожают из дому детей, мужей. И даже Барткус в эту унылую минуту не верит, что на том месте, где нынче стоит почерневший домик местечковой почты, поднимется белое здание комбината бытового обслуживания, а рядом вырастут универмаг, столовая, детсад… Даже он, Барткус, какой-то старый, тусклый, случайный в этой жизни, стоит у окна с тяжелым сердцем, словно кто-то его обидел или горько разочаровал. Сколько было таких рассветов, сколько надежд, разочарований за этими окнами, освещенными керосиновыми лампами, сколько ночей хлестал ливень по стенам ужпялькяйских домов так, как этой ночью.
С четырех сторон сюда сбегаются дороги, с четырех сторон сюда стекается время, чтобы потом взорваться какой-нибудь знаменитой датой, как нарыв. Барткус уже успел ознакомиться с историей Ужпялькяй. Есть у него и ее свидетели, да и древностей он собрал немало.
Местечко основано в начале XV века, когда были заложены первые камни в фундамент костела. В незапамятные времена на этом месте горел жертвенный огонь. Примерно в конце XVI века тут были построены мельница, ночлежный дом, а чуть позже — чесальная мастерская… Под макетом нового, будущего местечка лежит и карта старого Ужпялькяй. И когда будут строить новые дома и площади, без нее не обойдутся.
В этом каменном доме с высоким и широким лестничным маршем, с заржавевшими железными перилами еще в начале восемнадцатого века размещалось какое-то казенное учреждение. В 1831 году здесь был штаб повстанцев, здесь они заседали, когда их полки выступали то на запад, то на восток. Чуть ли не пять раз бунтовщики отступали и снова возвращались, но укрепиться им так и не удалось. В подвалах этого дома Барткус нашел и кое-какие документы тех лет. Ужпялькяй был очагом восстания и в 1863 году. Одного Даукинтиса, то ли родного, то ли двоюродного брата прадеда Казимераса, казаки шашками зарубили. Рухнул он на обочину возле старой сосны, там, где дорога сворачивает на Швянтишкес. Говорят, защищался Даукинтис в яме, неподалеку от сосны, вскинув над головой винтовку. Он продержался несколько минут: конные казаки окружили яму, одни рубили бунтовщика, другие крушили винтовку. Какой-то казак зашел сзади и так рубанул, что рассек беднягу надвое. Последние мгновения медленной смерти. Что мелькнуло в глазах умирающего? Серый шпиль костельчика, высокая сосна, облака, лицо палача? Вешали их на сосне, рубили, крестили огнем, ставили на колени — не потому ли один из холмов и поныне называется Горой висельников. Не из тех ли времен доносится вороний грай, и не эти ли тяжелые тучи плыли над шведскими захватчиками, над восстаниями, над барщиной? И чего удивляться, что ужпялькяйцы теперь такие кривоногие, согбенные, и в глазах у них отражается нитка проселка или копны ржи, белеющие на холме.
— Барышня-учительница, вы меня слышите, барышня-учительница! — не выдерживает Барткус. — Пожалуйста, потише. Почему вы, барышня-учительница, такая язвительная, разряженная, не желаете ни о чем думать? Где ваш отец? Где ваш брат, сестра? Знаю, скоро не будет того, чем жива ваша душа. То, что вы стремитесь во что бы то ни стало сохранить, чем дорожите и гордитесь, истлеет. Вы мещанка! Вот кто вы, барышня-учительница. Я вас насквозь вижу, — кричит он, — вы мещанка!
Через несколько лет, грозя кому-то костылем, он закричит еще не так, когда залечит коленную чашечку, раздробленную пущенной из-за угла пулей.
Барткус косится на окно почты, где сортирует газеты Эльвира. С битком набитой сумкой выходит оттуда ужпялькяйский почтальон Страздялис, горбатый, щуплый, но очень подвижный и быстроногий человечек. Он оглядывается и пускается в путь-дорогу. На высокое цементное крыльцо выбегает вдова Бяржене и из большого никелированного таза выливает помои прямо на голову старика. С портфелями в руках выходят два ее сына — расфранченные, надменные, словно ходят они не по грязным улочкам Ужпялькяй и словно не их мать только что накормила картошкой в мундире. С завернутой в испачканную бумагу едой спешит к своему мужу Скарулене. Корчась, словно ему приспичило, поспешно открывает двери магазина хозтоваров Акуотелис. Шмыгает внутрь, запирается на ключ. Небось, снова пришел на работу с «бачком горючего». Следом за ним появляется еще какой-то пьянчужка, стучит в дверь, но Акуотелис открывает не сразу — видно, тоже к своему «бачку» приложится.
Смрад от этого «газоля» стоит над столами, смешивается с картофельным паром, дерет ребятам горло. Апчхи! — чихает Барткус и, как стоял с эспандером — секретарь собирался перед работой чуть размяться — так и пустился к магазину: люди они или скоты?!
Густой туман, окутывавший поля несколько недель подряд, вдруг расступился, словно кто-то его раздвинул, и в просветах засияло небо, синее и высокое. Утром, когда Криступас с Казимерасом собирались рыбачить, над ложбинами еще висели клочья тумана, а на юго-западе, возле самого горизонта, ползли озябшие, исхлестанные ветром облака. Занималась огненно-красная заря. Она неуклюже ощупывала своими лучами почерневшие от ливней крылечки, дверные ручки, пороги, оставленные на полях плуги и бороны и, пробиваясь сквозь кроны деревьев туда, где Криступас и Казимерас затыкали паклей дыры в днище лодки, принималась лизать жухлые ольховые листья, устилавшие землю; казалось, их вот-вот затянет инеем и, когда мужики с сетями зашагают через луга, они, эти луга, совсем заиндевеют, и скованная стужей земля будет хрустеть под ногами. От одной этой мысли Казимерас съежился, потер руки, словно он стоял на покрытой инеем траве, в которую уже ни плуг, ни борона не смогут вгрызться.
Но в полдень повеял легкий теплый ветерок. Только мельница стоит — зерно не подвезли.
— Как будто ковшом вычерпнули, — говорит Криступас, бредя по руслу реки, воды которой отхлынули далеко от берегов. Кучи прогнивших листьев, завалы из сучьев, хрустящих под ногами, не успевшая еще обсохнуть галька. В нос ударяет запах рыбы и гнилой травы. Изредка Криступас касается плечом склонившейся ивы, и мелкие, как рыбья чешуя, листочки, сыплются на его шапку и одежду. Он весь с ног до головы опутан паутиной. Криступас поглядывает то на изъеденные водой берега, то на обмелевшие заводи и броды и попыхивает папироской. Он то и дело замедляет шаг, поскольку то там, то сям сверкнет какая-нибудь крупная рыбина. Криступас останавливается, показывает рукой Казимерасу — тише, тише. Тот, малость отстав, пробирается с лодкой через россыпи камней и отмели. На лице — живая обида. Так и хочется крикнуть Криступасу, чтобы подождал его, но Казимерас молчит: крикнет — всю рыбу распугает.
Криступас вскарабкивается на кручу, оглядывается с высокого берега. Омут сверкает, как голый череп, дно его выложено черными, словно прокопченными камешками, пахнет баней, наверное, той самой, которая тут когда-то стояла. Видно, как вдоль и поперек на глубине шастают щуки, темные, как камни или вода, почти прозрачные.
В густой, свалявшейся массе водорослей возле брода поблескивают чешуей рыбы — голавли, плотва — никак не могут выбраться из плена. Они косяками выплывают из-под коряг, из пещерок, заводей. Осторожные, пугливые, готовые в любую минуту юркнуть в сторону. Но дорогу им преграждает сеть, которую тихо ставят Криступас и Казимерас. Поставив ее, они усаживаются на берегу и курят, поглядывая на воду. Криступас вдруг вскакивает и замирает: со дна только что взмыла огромная щука, тихонько подстерегавшая жертву, схватила плотву, из щучьей пасти вытекла кровавая струйка с чешуей, чешуя закружилась белым вихрем в мутной воде, и хищница скрылась.
— Видал? — мокрыми дрожащими пальцами Криступас вынимает изо рта папироску.
— Ага, — кивает Казимерас.
Из кустов вылезает сын Криступаса Юзукас, весь исцарапанный, обожженный крапивой. Он принес рыбакам обед — хлеба, жбан молока, кусок окорока. Казимерас сглатывает слюну. Мужчины принимаются есть. Криступас жует, но глаз с сети не спускает. Только вода еще мутная, течение несет водоросли и ветки — сколько жердей наломано, чтобы рыбу загонять! — по-прежнему вихрится чешуя. Не поймешь, много ли рыбы попало в сеть. Рыбины там и сям переворачиваются в воде, сверкая животами или боками, дергают поплавки, но могут дернуть и так, что сеть в мгновение ока сплющится и ляжет на дно. Криступас готов в любую минуту броситься в реку, — сеть старая, той щуки, которая плотву схватила, ей уж точно не удержать. Рыбак смотрит в воду, отламывает хлеба и протягивает буханку сыну.
— Отломи и ты.
— Отломи, отломи, — протягивает свою краюху и Казимерас. Юзукас упирается — сыт, мол. Пока шел лугами, он выпил добрую треть молока из жбана, но об этом, конечно, ни слова.
Юзукас сидит, обхватив руками испачканные колени, уперев в них подбородок, и смотрит на рыбаков. Глаза у него глубокие и синие-пресиние. Одежонка вся в волосах буланой лошади — перед тем, как отправиться сюда, Юзукас малость покатался, — он и теперь думает, как бы ему поскорее смыться отсюда, потому что двоюродный брат Альгимантас ушел на пастбище, вот и он, Юзукас, туда махнет, чтобы еще поездить верхом.
— Альгиса не видел? — спрашивает Казимерас (Альгимантас — его сын). Юзукас мотает головой — нет, не видел. Он вместе с Альгисом из школы вернулся, но пусть лучше дядя Казимерас не знает, где его сын, а то домой погонит. Но и на пастбище бежать еще рановато. Юзукас отходит в сторону, забирается под вербу и начинает хватать голавлей, плещущихся меж камней, в траве.
— Эй, вы, берегитесь! — кричит он через минуту, замахиваясь рыбешкой, бросает ее вверх, голавлик описывает в воздухе круг и падает у ног закусывающих рыбаков.
— А ну живо на берег! Зачем рыбу пугаешь? — злится Казимерас: настроение у него сегодня никудышное. Полдня потратил он на то, чтобы уговорить Криступаса пойти в бригадиры, но тот, как очумелый, не может оторвать от реки глаз. Нет для него на свете ничего важней, чем река, вода и рыба. И сын. Сына он любит.
Казимерас ходит за Криступасом по пятам, и, хоть убей, не знает, как уломать брата. Несколько раз он говорил ему, что Визгирда чуть не убил его топором, но и это не подействовали на Криступаса. Для него что голос брата, что шелест ветра в траве — один черт.
— Шшш… — говорит Криступас, осторожно раздвигая ветки, и лезет в воду.
Казимерас не выдерживает, хватает брата за рукав, начинает трясти и орать благим матом — пусть упрямец видит: сжатые кулаки; пусть чувствует: гнев, сила. Но Криступас, не спуская глаз с сети, отвечает:
— Не мешай.
— Ведь это ж такая выгода! Ты что, совсем ослеп?! — кричит Казимерас.
— Вот и иди, — бросает Криступас.
— Пойми — семья у меня такая…
— А у меня? — мысли Криступаса перекидываются на Юзукаса. — Не желаю я больше ссориться с людьми, навоевался, хватит с меня.
Они усаживаются на мысе своего луга под черемухой, возле почти высохшей топи, по краям которой в сенокос краснеют тяжелые гроздья смородины, косари срывают ягоды и, отмахиваясь от комарья, пригоршнями запихивают их в рот, — усаживаются и смотрят на медленное течение воды, которая, испаряясь, повисает вдали теплым осенним туманом. Я весь там, где маячат эти желтые леса, ловит себя на мысли Криступас.
— А помнишь нашего отца? — спрашивает он Казимераса.
— Я уже, почитай, батраком был, землю пахал. Все работы в хозяйстве на мои плечи легли. А ты крестьянской работы так и не отведал. В город улизнул.
— Поэтому-то ты и хочешь теперь взвалить ее на меня.
— Теперь все по-другому, все общее, никакой работы тебе делать не надо, ты начальник, разъезжаешь себе верхом на лошади и посвистываешь.
Криступас начинает хохотать.
— Начальник, говоришь? Был!.. Был десятником, был прорабом на стройке… Я ведь… — и, порывшись во внутреннем кармане пиджака, Криступас достает какой-то документ и протягивает брату. — Но ты смотри, об этом никому.
— Теперь тебе самое время наверстать, рассчитаться.
— Мне? Рассчитаться? За что? Никакой вины за мной нет. Дорога моя была прямая, как струна, — говорит Криступас с подъемом, со свойственным ему пафосом. — И кончается она здесь — я возвращаюсь туда, откуда ушел двадцать пять лет тому назад. Хотя, кто знает, может, мне еще удастся в город перебраться.
— Ну чего ты все в город рвешься? Пожил там — хватит. Побудь теперь среди своих. Все здесь свои, все, с кем ты вместе рос…
— Нет, нет, ничего я здесь не узнаю́. Только реку, поля…
— Говоришь, как малое дитя.
Некоторое время братья сидят молча.
Криступас только теперь отрывает взгляд от реки; его вдруг охватывает такое чувство, будто они снова молоды. Положили косы, сели, пахнет сеном, стрекочут кузнечики. Тело томит легкая приятная усталость. Только черемухи, которая так расцветает по весне, нет — на ее месте прогнившие пни.
Потом, похоже, начинается дождь: он хлещет по листьям деревьев, по воде, по калужнице, пузырьки прыгают, лопаются, разлетаясь брызгами. Такой ливень длится долго, он льет сутки, недели напролет, и пастухам не остается ничего другого, как прятаться под деревьями или в сторожке, вырезать свистульки или сбивать «масло» из тычинок водяной лилии. Так под кровлей из склонившихся верб сиживал здесь когда-то в проливной дождь Криступас, так теперь здесь порой сидит Юзукас, который пасет корову или лошадь, — что-то вырезает, смотрит в воду. Еще долго здесь под кронами будет сидеть в ливень мальчик и что-то вырезать из дерева. Все трое видят теперь одно и то же: вязкий лоскуток топи, испещренный следами копыт и босых ног. За спинами рыбаков в аире вдруг раздается какой-то шелест, кто-то плюхается в воду.
— Выдра, — ворчит Казимерас.
— Водились они тут и раньше.
— Только бы в сеть не угодила.
— Помнишь, однажды у меня меж ног шмыгнула, — говорит Криступас.
— Не в заводи ли Визгирдаса мы тогда рыбалили?
— Я тоже… когда на удочку ловил, видел, — говорит Юзукас.
Все стоят на берегу, смотрят на глубокую нору, у которой бурлит вода.
— А это правда, что угри горох едят?
— Едят, сынок.
— Иду я однажды по росистой траве… — начинает рассказывать Казимерас.
Потом они вытягивают сеть, вытряхивают листву, вытаскивают застрявшие щепки… Окунек, которого Казимерас никак не мог выудить своими мокрыми руками, снова портит ему настроение.
Криступас велит Юзукасу развести костерок. Чуть согревшись у огня, Казимерас встает — пойду, мол, домой.
— Что поделаешь, — говорит он. — Не хочешь — не надо. Обойдемся и без тебя. Когда спохватишься, будет поздно.
— Чего ты меня учишь, думаешь, не понимаю? Стоит вам пошевелиться — я уже все вижу. Да и так ясно: в потемках ты, брат, бродишь!
— Я?!
— Ты. Такой уж ты уродился.
— Гром тебя разрази! Надо же — сказать мне такое в лицо! Я совсем не понимаю, что у тебя на уме. Дурак ты! Дурак последний.
— Вон! — Криступас хватает сеть, которую Казимерас хотел было забрать.
— Может, скажешь, твоя? Быстро, однако, ты все забываешь, голодранец! — кричит Казимерас, пятясь с сетью в руках.
— Да подавись ты своей сетью! Все вы подавитесь.
Летят искры, потрескивает огонь, дует легкий ветерок, и вместе с ним сюда долетает шум ужпялькяйской березовой рощи, который изредка заглушается гудом высокого леса.
— Не унывай, сынок, — Криступас гладит Юзукаса по голове. — Что поделаешь, не унывай.
Юзукас сидит, обхватив обеими руками исцарапанные коленки, подавшись вперед, и смотрит, как пламя жадно пожирает собранные им хворостинки. Взгляд мальчугана печален и глубок. А Криступас снова поглядывает на воду. Глаза у него бесцветные, как небо, умытое ливнями: лицо заросшее, со впалыми щеками, белое как мел — он еще не успел прийти в себя после выстрела.
Где-то на лугу возле леса, звякая цепью, подпрыгивает лошадь, раздается чей-то голос «кузя, кузя», — это Казимерас кличет свою кобылицу.
Юзукас будет рыбачить с отцом до темноты. Вдвоем. Старой дырявой сетью. И будет этот полдень долгим, мелководным, полным запахов рыбы, водорослей, ила и истлевшей листвы. Криступас не устанет грести по заводям, а Юзукас — бегать за ним следом, подавать сеть, спички, торбу или жердь и собирать рыбу, которую выбросит на берег отец. Запыхавшийся, обожженный крапивой, исцарапавший в кровь лицо и ноги, он будет мчаться по первому зову отца и без зова, а отец будет спрашивать его, как дела в школе, рассказывать, как выглядело когда-то русло реки, где какое дерево росло, сколько на своем веку поймал он рыбы…
И сын забудет, что, отправляясь сюда, он мечтал только о том, как бы поскорее убежать на пастбище и покататься верхом на лошади. Не вспомнит он об этом и тогда, когда увидит пасущихся на лугу лошадей, только перейдет на другой берег реки, чтобы двоюродный брат Альгимантас не заметил его, не окликнул, не явился сюда, где они вдвоем с отцом и вокруг только вода и рыбы… И все, что было в тот день, вдруг почему-то сопряглось в его юной душе, свелось к тому сумеречному мгновению, когда он с торбой и жердью стоял на высокой, устланной прогнившими стволами круче и смотрел, как там, внизу, в маленькой, как щепка, лодке, его отец тягается с грозным, бурлящим течением Швянтойи. На Криступаса накричала председатель колхоза Константене: почему лоботрясничаешь, браконьерствуешь, она-де сейчас составит акт. Константене уже начала было рыться в своей сумочке, но, услышав удары топора в сосняке, стремглав бросилась призывать к порядку другого нарушителя.
Хоть и громко кричала Константене, но Юзукас был уверен, что там, внизу, тягающийся с рекой отец не слышит голоса свояченицы. Охваченный каким-то смутным страхом, мальчонка вдруг пустился к реке и немало удивился, увидев, что отец как ни в чем не бывало привязывает лодку.
— Что стряслось? Ты чего так запыхался? — спросил Криступас.
Юзукас не знал, что и ответить, и про Константене далее не заикнулся. Отец положил ему руку на плечо и сказал, чтобы он, пока они вместе, никогда ничего не боялся, и оба зашагали по полю. С одной стороны текла река, с другой — чернел лес, над кронами деревьев стоял протяжный, сулящий скорые сумерки гул, и плыл тихий голос отца, и им обоим светили пожелтевшие леса…
Бригадиром избрали Ужпялькиса.
— Ну теперь все, — сказал Казимерас Визгирде.
— Что все?
— Теперь вам крышка. И килограмма зерна не увидите. Константене тоже.
В глазах у Казимераса запрыгали бесенята, и Визгирда, глядя, как он вьется перед ним вьюном, подумал: не замыслил ли Казимерас снова что-нибудь дурное. Ни с Константене — ей только под актами подписываться, речи толкать, неважно с какого амвона (таково было мнение Казимераса о свояченице), — ни с Ужпялькисом или Накутисом (те в одну дудку дуют) им, Казимерасу и Визгирде, мол, не по пути. Визгирда долго будет ломать голову над этими словами Казимераса, но никак не сможет понять, своим умом Казимерас до всего этого додумался, или кто-то его научил. Не мог надивиться он и на Константене: в такой раж баба вошла! С близкими почти не разговаривала, некогда ей, видите ли, было — каждый божий день то в райцентр, то в местечко. Казалось, горы свернет. Может, она там с кем-нибудь шашни завела, или кто ее приворожил, — слыханное ли дело, чтобы женщина из-за чего-нибудь другого так переменилась, говаривал Визгирда, следя за тем, как Константене, зажав под мышкой сумочку и сунув в муфту руки, мчится через холм к большаку.
— Вот увидишь, останешься соломенным вдовцом, — говорила Тякле Константасу.
— Ну, а в постель она с тобой ложится? — донимал его Визгирда.
Константас отводил взгляд в сторону. Он всячески пытался оправдать жену: делами по горло занята, не до того ей.
Константене была депутатом апилинкового совета, членом женсовета, входила в разные комиссии… Но больше всего любила выступать на собраниях. Надо было видеть, как, навалившись на трибуну, она говорит с ужпялькяйцами, ругает их, честит, объясняет, кто что делает плохо, как нынче следует работать и думать. А какие их ждут перспективы! Константене не скрывала, что они, мол, темнота, закоснелые, замшелые, как пни, но это наследие старых времен, крепостного права, за это еще писатель Тумас-Вайжгантас стыдил их; подтолкнешь — пойдут, не подтолкнешь — стоят на месте, говорила она, делая многозначительные паузы между словами, чтобы у земляков было время поразмыслить. И слушали они ее, раскрыв рты, выпятив подбородки, чувствуя, что стыдит она их вполне заслуженно.
Пусть они сначала наведут порядок в своих дворах, говаривала представителям власти Константене, разобьют цветники, пусть читают газеты. Надо их понемногу приучить ко всему доброму и прекрасному. И начинать следует с малого, говорила она, повторяя чьи-то слова.
— Может, ты и правду говоришь, — сказал однажды после долгих ее увещеваний Визгирда и тяжело вздохнул, — но что из того?
— А ты так сделай и увидишь.
— Скажем, я сделаю, а другие?
— Что, другие? — Ты разве на других смотришь, когда тебе в нужник приспичит? А?
— Мне кажется, не под ту дудку ты пляшешь, — не уступил Визгирда. — Можно подумать — все от тебя зависит. Есть еще головы и там…
— Вот-вот! — кидалась в самую пучину Константене. — Шило всегда из мешка вылезет. Ты еще и сам не понимаешь, что сказал, молчишь… Ну давай с тобой подумаем. Тебе все еще не ясно? Ну да, ты же сам признался, что у тебя головы нет, а у меня, Визгирда, по крайней мере, своя голова на плечах!
Шмыгая носом, мимо них, бывало, пройдет Накутис. Подбежит Криступене, послушает их спор, поохает, помотает головой, помашет руками, словно защищаясь от назойливых ос, промямлит «господи, ты, боже мой» и снова мчится к скотине или к ребенку. Где же это твой бог? — спрашивала у нее председательша, но Криступене только всплескивала руками. Да ну вас! Где это видано, где это слыхано, ну вас! — отмахивалась Константене и опрометью бежала прочь.
Подходили к ним и Кайнорюс, и Анупрас; останавливался, возвращаясь со спиртзавода, Криступас — он туда на работу устроился. Нахлобучив на самые глаза шапку с козырьком, слушал их, странно улыбался и щурился, как от солнца. Константене всех собирала вокруг себя. Только дома ее редко видели. Хлопоты по хозяйству легли на плечи Константаса. Он сам стряпал, но от его стряпни у едоков частенько схватывало животы, и по вечерам, сидя за столом, Юзукас слышал, как кто-то с шумом сбегает с крылечка. Это Константас пулей вылетал во двор, не успев даже попросить племянника, чтобы тот постоял возле хаты — дядя, видите ли, очень боялся темноты. Поев, Юзукас отправлялся на другую половину избы и, пристроившись под закопченной лампой с болтающимися хрустальными подвесками, листал газеты, выискивая в них статейки о колхозе «Луч». Константас вырезал эти заметки и вклеивал их в школьную тетрадь Юзукаса. Мальчонка замечал, что дядя при этом очень волновался: то на часы глянет, то в окно; далеко на пригорке был виден огонек. Как только раздавались шаги, Константас вставал и выходил на крыльцо.
Случалось, Константене возвращалась даже после полуночи. Молча снимала платок, стряхивала с бордового пальто капли, распускала перед зеркалом волосы, совсем не реагируя на горькие упреки расхаживающего вокруг нее Константаса. Разве так можно? Еще кто-нибудь застукает… Она, бывало, молчит, молчит и вдруг как заорет!.. Вся семья вскакивала с постелей. Ее вопли даже Визгирды слышали. Константас больше не приставал к жене. Молчал. Шут с ней. Он ходил по избе, заложив руки за спину.
Она возвращалась с репетиций. В горнице Наглиса они готовили вечер. Подоив коз, приходили сестры Бразджюнайтите, Ошкутис, иногда забегала Тякле Визгирдене, дочка Казимераса Геновайте, несколько парней, что жили по ту сторону большака. Артистов не хватало, и Константене все ломала голову, кого бы еще привлечь, агитировала даже Визгирду и Анупраса. Согласился и Константас, которого она долго уламывала, — он считал, что у него прекрасное произношение. Когда Константене возвращалась, они репетировали дома, и Криступене, кормя ребенка или стеля постель, часто слышала грохот передвигаемых стульев и перебранку. К величайшему удивлению соседки, кричал и ломал стулья Константас, который при жене даже рот раскрыть боялся. Однажды Криступене в полутьме сеней чуть в обморок не упала, столкнувшись с мужчиной в шляпе, с черными закрученными усами, который влетел во двор и закричал благим матом, чтобы ему подали карету. Это был Константас, который играл роль какого-то важного барина.
— О господи, как я перепугалась, — рассказывала Криступене на следующее утро Тякле, — всю ночь дрожала. Как бросился вон — оба ведра с пойлом опрокинул! Свиньям несла. Поднимаю голову, а передо мной стоит какой-то усач… О господи… Вдруг слышу: не бойся, невестка. Только потом поняла — Константас! В рассудке повредился. И дверь на засов заперла, и окна закрыла. О господи…
Но на представление Константас не явился — может, у него живот схватило, а может, испугался. Минуту торжества, к которой с таким тщанием и выдумкой готовила его жена, прошла мимо него, и Константас из-за этого еще долго сокрушался, пытаясь разжечь в себе ничем не обоснованное тщеславие — я бы там такие тирады закатил.
Зима прошла в репетициях, в подготовке вечеров. Старожилы, которые помнили еще времена, когда труппы играли в ригах, а вечеринки устраивались в сараях, с удовольствием ходили смотреть, как веселится молодежь — их сыновья и дочери.
Однако по весне, перед самым главным представлением, ребята, сбежавшиеся к клубу с крашенками в руках, даже ахнули от удивления: двери выломаны, окна выбиты, декорации изодраны, костюмы, шляпки, косы изрублены… Самые активные самодеятельные артисты получили записки с угрозами. Константас не знал, куда спрятать свою тетрадку. Ну точно в штаны наложил, смеялась Визгирдене.
Потом посыпались жалобы, пошли ревизии. Долго никто не мог взять в толк, кто доносы пишет. Константас договорился до того, что стал во всем винить Накутиса и Ужпялькиса. Это, мол, их рук дело, сами воруют, но хотят свалить вину с больной головы на здоровую. И Константас поднимал свой указательный палец. Казимерас потирал руки — теперь такие делишки раскроются, только держись! Он Барткусу еще когда говорил: нечего назначать бабу начальником…
Лицо Накутиса словно окаменело. Он водил комиссии, отпирал гумна, показывал подписи Константене и пожимал плечами, робко выпятив подбородок — ему что, он ничего не знает.
Не хватало кормов, скотину приходилось поднимать веревками. Анупрас сгноил корма. Константене ездила в район, надеясь получить ссуду. Но, видно, задолжали ужпялькяйцы дальше некуда. Вскоре против председательши было возбуждено уголовное дело. Я ведь говорил… Сколько раз я говорил, твердил Константас, не суйся куда не следует — обожжешься.
Накутису что, не он квитанции подписывал. Факт к факту, дело к делу — все педантично было собрано районной прокуратурой. А сколько разговоров! Прокурор, санкция, нанятые свидетели, адвокаты… — Эти слова не сходили с уст. Дети видели, как у их отцов, когда они произносили эти слова, вздувались вены на лбу и краснели затылки. Отцы ставили себя то на место Накутиса или Ужпялькиса, то на место Константене или прокурора или вдруг воображали, будто они главные свидетели на суде: «Да будь я на его месте…» — кричали они, и голоса их уподоблялись грому. «Если бы меня послушались… — говорили они. — У его же стола стоял…» — голоса гремели так, будто ужпялькяйцы говорили с трибуны — может, тогда-то и появилось здесь присловие «как с трибуны говоришь».
Не было в округе человека, который не знал бы о чем-нибудь больше, чем другой, и каждый старался подчеркнуть свою осведомленность в разговоре, хотя, когда кого-нибудь припирали к стенке, он тут же отказывался от своих слов. Все раскрыли глаза, навострили уши. Ужпялькяйцы листали судебные книги, припоминали конституцию, законы.
Вдруг кто-то вспомнил, как однажды вечером вдоль леса тарахтели возы, как Константене сбросила кому-то мешок с зерном, как Накутис велел подписаться под фиктивным актом… Словом, на поверхность всплыла уйма грязных делишек.
Был самый паводок. По разлившимся речкам и лужицам Константене то и дело бегала в местечко. Ее жесты и движения сделались резкими и решительными, словно она пробиралась сквозь обступившую ее толпу. Только по этой беготне ужпялькяйцы и догадались, что у Константене есть еще кое-какие надежды. Все факты свидетельствовали против нее. Конечно, не одна она виновата, но поди докажи.
Словно в лихорадке повсюду шнырял Казимерас.
— Распутают… Все ниточки распутают, — говорил он.
— Может, и ты к этому руку приложил? — окинула его взглядом Тякле Визгирдене, даже не подозревая, что истина глаголет ее устами. — Может, что-нибудь знаешь, скажи, — допытывалась она у брата.
— Может и знаю, но каждому овощу свое время, — потирал он руки, избегая почему-то взглядов соседей. Виноват, не иначе, думала Визгирдене.
Вдруг все прояснилось; были арестованы Накутис, Анупрас, Ужпялькис — подделывали подписи, фиктивно списывали добро… В один прекрасный день Казимерас примчался к Константасу и давай кричать: пусть теперь Константас ему, Казимерасу, спасибо скажет, пусть ползает перед ним на коленях, пусть все перед ним шапки снимут, говорил он, задыхаясь и ужасно волнуясь. За что это? — удивилась Тякле, которая пришла во двор к Даукинтисам. Она еще спрашивает, за что, пуще прежнего раскричался Казимерас. Мол, если бы не он, Константене давным-давно сидела бы в тюрьме.
— Сибирь ей грозила, Сибирь! — кричал он, поглядывая на большак.
— Ты только, ради бога, не ори, — осадил его Константас. Лицо его выражало беспредельную растерянность.
— Теперь-то чего бояться, чего? — кричал тот, поворачиваясь к каждому по очереди. Теперь что хочешь можно говорить, вот… И если бы не он, Казимерас…
— Стало быть ты к этому руку приложил, — шагнул к нему Визгирда. — Я так и думал — ты! — тыкал он пальцем в грудь Казимераса. — Он бы и Криступаса продал.
Странно улыбаясь, наблюдал за ними Криступас, следили разинув рты мальчишки.
— Только без драки, — сказала Тякле.
— У, гад!.. — сплюнул Визгирда.
— За что это? За что это ты теперь так Константене защищаешь? — спросила у мужа Тякле. — Давно ли ты ее последними словами поносил, давно ли говорил, что так ей и надо? Может, не говорил, может, теперь отпираться будешь?
Размахивая руками, подбежала Криступене: на пригорке мелькнул красный платок Константене — она быстрым шагом шла по большаку.
— Говорил! — сказал Визгирда. — Говорил и буду говорить. Я всегда все в глаза говорю.
— Подумаешь, нашел чему радоваться. Что это за добродетель такая? И что ты за нее имеешь? Важничает, кричит…
— Замолчи, — заорал Визгирда, — хорош у тебя братец. Ты что в адвокаты к нему нанялась? Шляхта задрипанная. Обмана я не терплю. Обмана и коварства. Вот кто на тебя донес! — сказал Визгирда Константене, прибежавшей сюда как на пожар. Под мышкой — потертая сумочка, разбухшая от документов и квитанций. Визгирдене хотела было повернуться к председательше, но Казимерас вдруг вышел на середину круга:
— Ну, говорил… Еще в тот первый вечер я Барткусу все выложил. И тебе не раз правду говорил, — обернулся он к Константене.
— Как псы… — покачала головой Криступене.
— Комедия, — поддержал жену Криступас. — Я говорил, — покосился он на Казимераса, — не буду играть в твоих комедиях.
— Ты не думай, это не комедии, — вновь вмешался Визгирда. — Он бы тебя…
— Ну и что? Что тут такого! Нашел из-за чего горло драть! — заросшее лицо Криступаса тронула улыбка. — Идемте лучше в избу.
— Знате, слыхали, знате, — пробормотал невесть откуда взявшийся Кайнорюс.
— Иуда, — промолвила Константене.
Но Казимерас не слышал.
— Обвиняет! Она еще меня обвиняет! — восклицал он. — А знаешь ли ты, милая свояченица, кто первый начал доносы строчить? Накутис! Твой любимчик! Накутис. Как увидел, что хвост задымился… Одно счастье, что я вмешался.
— Что же ты раньше не сказал, если такой хороший? — снова закричал через головы всех Визгирда, но Казимерас пропустил его слова мимо ушей и продолжал:
— Барткус с Юодкой мне и говорят: рассказывай, что там на самом деле, все выкладывай. Ну, я словечко, другое, сами понимаете, что значит к месту, да вовремя сказать. Я, милая свояченица, с первого дня был с тобой заодно, только понимал, что нам это бремя не по плечу, вот если бы еще Криступас…
Тут Константене разразилась такой бранью, что Казимерас тотчас же замолк: ее честь навсегда запятнана, а он еще праведником прикидывается. Почему он сразу ей в глаза не сказал, если все видел, почему помчался туда, почему не предупредил, почему ждал, когда все это случится, какой прок ей теперь от такого вмешательства Казимераса. Но тот стоял на своем: не миновать ей Сибири, никак не миновать — вот какие силки расставил Накутис. Казимерас еще долго бы клялся и божился, но Константене, бормоча себе под нос: Иуда, Иуда, направилась в избу и сняла там свою роскошную каракулевую шубу с лисьим воротником. Больше она ее никогда не наденет. Председательшу ждали узкая поношенная стеганка с замусоленным от постоянного прикосновения к коровьему животу плечом, ведра с пойлом и коромысло. Искариоты… — шептала она. Хотела им добра. И вот чем они отплатили, вот как поняли, поддержали. Но и в эту минуту она не плакала — такое уж черствое сердце было у этой женщины.
Так закончились те полные неуверенности годы, промелькнувшие, как метеор, в низком ужпялькяйском поднебесье, годы, обдавшие здешних жителей сверкающей пылью, летящей из молотилок, от вспахиваемой супеси, из груд провеянного зерна и с кривых тропинок; эти годы растворились в зубчатых лесах, тянущихся до самого горизонта, унеслись куда-то вдаль. Только Визгирда, выйдя во двор, будет все прислушиваться к чему-то тихими вечерами, чего-то ждать, увидит стекающую с конских морд воду, и ему будет мерещиться, что где-то далеко в пуще кто-то валит деревья, и их эхом будет дышать круча Малдониса, освещенная теплыми лучами заходящего солнца. Позже, когда рука Константаса или Казимераса обопрется о шершавую старческую палку, когда они, застыв в своих дворах, глянут на далекий большак — а он всегда был для них далеким, — на большак, по которому когда-то, в дни их малолетства, проходили войска кайзера и царя, — они всегда будут вспоминать ту пору, когда и их задело великим крылом времени…
И если кто-нибудь станет писать хронику этого колхоза, пусть обязательно вспомнит то раннее утро, когда в пустой горнице Наглиса загорелся первый луч, скользнул по подоконнику, потом по полу и задрожал на грязных листах бумаги, устилавших стол, на который навалилось несколько мужчин и одна женщина — может, в ту минуту Константене и пришла в голову мысль назвать свой колхоз «Луч»? Пусть вспомнит бледного Бернардаса Бендорюса, который в то утро распахнул стеклянную дверь на крыльцо, как Константене усаживала его за стол, рассказывая о колхозных новшествах, пусть летописец глянет на ее лицо, каким оно было в ту минуту, когда люди вышли на поля, пусть опишет, как хрустела под их ногами скованная стужей земля, а в небесной вышине трепыхались жаворонки, пусть опишет то светлое, лучащееся надеждой утро и то, как хлопал дверьми в избе Наглиса Казимерас, как приходил Визгирда, чтобы просить зерна или лошадь, как теплыми летними вечерами готовилась к маевке молодежь или как в саду гоняли мяч, тот самый, который Юзукас едва успевал вытаскивать из пруда, пусть опишет большой сад и первую толоку по сбору яблок — как их грузили дети, которых созвали со всех дворов, как таскали ящики на чердак, где пряно пахли разложенные плоды, и как мальчишки вгрызались в них зубами. Пусть опишет эту усадьбу с широкими гумнами, огромной ригой, пусть еще добавит, что дочка Казимераса Геновайте, чуть шепелявя, но зато с большим чувством выводила на вечеринках: «Отец, пусти гнедого на лужок», — и этим летописец многое скажет тем, кто видел и помнит те времена, а уж тому, кто не видел, всего не расскажешь…
Как многие и ожидали, бригадиром стал Казимерас. Отчасти он заменял и нового председателя, который появлялся в Ужпялькяй только для того, чтобы поймать какого-нибудь пацана со снопом колосьев, или, выклянчив бутылку, напиться; он никогда «не видел», как рубят казенный лес, тащат из сарая солому… Поэтому и любили «за доброе сердце». Когда председателя угощали, лица женщин, усаживавших его за стол, сразу же округлялись, становились мягкими, ясными и ласковыми, глаза ярко и доверчиво сияли. Только Казимерас ругался и плевался. Может, он чересчур важничал — ужпялькяйцы за это частенько над ним подтрунивали, — но от таких угощений всегда отказывался. Понемногу острословы присмирели.
— Положи сноп! — сказал однажды Казимерас Юзукасу, который пытался стащить с поля овес.
— Жалко, что ли?
— Положи. Кто тебя воровать научил? Отец? Отец тебя никогда этому не учил. Сам? Своим кроликам тащишь? Положи, и чтобы я никогда больше этого не видел.
Точно такие слова услышали от него и Криступене, и Константас, и Визгирдене, и таким непонятным и чужим сделался для нее брат, что она даже прослезилась. Но Казимерас придавил сапогом сноп ржи — сестра хотела было схватить его — и властно, требовательно повторил:
— Положи. Последний раз тебя предупреждаю. — И зашагал прочь, оставив ее посреди поля, у этого снопа. — Визгирдене стояла и озиралась вокруг, поглядывала на опушку леса, которая вдруг затянулась белесой, холодной, обжигающей сердце дымкой.
— Положи, — отдавался в ушах Тякле голос брата.
В светлый апрельский день, когда в окна стучали ветки набухшими почками, а небо было высоким, голубым, хотя дули быстро подсушивающие почву ветры, прошел слух: где-то в городе покончил с собой Вигандас Мильджюс. За несколько недель до смерти в дневнике, читая который, все пожимали плечами, не в силах что-либо понять, он взывал к какому-то раскаянию, молил о каком-то снисхождении, может, даже любви, которой ему не довелось испытать в детстве в доме эгоиста-отца. Кое-кто даже склонялся к мысли, что своей нелепой смертью Вигандас хотел искупить вину брата Миколаса — она слишком его давила. Эта мысль как-то всех задела — одних раздражали всякие разговоры о Вигандасе, другие шушукались по углам, но никто почему-то не хотел признать, что он и впрямь очутился в мучительном, безвыходном тупике, вообще некого было винить в его смерти, и сам Вигандас никого не винил, но многие злились на него, презирали его, словно он так поступил только из-за слабости или в отместку кому-то. Вигандас был намного сильнее и умнее, чем многие думали, но не тщеславный и тем более не жестокосердный, как кое-кто пытался его изобразить. Однако, чего греха таить, в некоторых, писанных за несколько недель до смерти словах Вигандаса, нет-нет да и прорываются горечь и бессильная обида.
«…Я прозябал в уголке, как какой-нибудь преступник, — писал он. — Я был послушным и униженным, однако все равно кому-то чем-то мешал. Для меня не жалели грубых слов, приклеивали чуть ли не к голому телу ярлыки — им, конечно, никто приклеивать их не станет, потому что они всегда держатся золотой середины, довольны собой, не стремятся к совершенству, даже бравируют этим, и тут некоторые могут проявить чувство весьма сомнительного юмора, который, надо признаться, пользуется большим успехом. Однако хватит ныть — все равно никого не переубедишь, никого не переделаешь, только будешь в их глазах еще более смешным и жалким, — писал он, обращаясь к себе то во втором, то в третьем лице.
Ты чистый, я знаю, сокрушаешься из-за своего целомудрия, что тебе еще остается. А мне говорят — не знаешь диалектики. Дело здесь не в диалектике, дело здесь в человеке. Или — или, выбирай. Быть или не быть — вот вопрос, — кричал Вигандас Мильджюс, и душа его рвалась в когда-то гулкую, но вдруг оглохшую и омрачившуюся даль.
Другой так и проживает свой век, словно давным-давно сделал выбор, и, сам того не подозревая, порой высмеивает себя, порой скулит и великодушно позволяет другому подтрунить над собой. Или, виноватый, оправдывается: так надо, так должно быть, я иначе не могу. Посторонние глумятся над ним, презирают, жалеют, ненавидят, пока он не вскочит и не закричит: поймите наконец, я иначе не могу. Чего вы ко мне привязались, уйдите, просит он. Одно он чувствует и знает: если не подчинится внутреннему приказу, вся его жизнь лишится смысла, да что там его — всему миру конец. Так ему порой кажется, такое значение придает он своему существованию. Может, у него слишком обостренное самолюбие, может, он слишком жаждет славы, наше время таких не терпит, и все-таки не стоит слишком глумиться над таким человеком, и это я говорю не для того, чтобы защитить себя и оправдать. Есть такая разновидность людей: они могли бы быть умными, даже хитроумными, а живут тихо, посвятив себя чему-то, пожертвовав собой, с легкомысленными хитрецами им не по пути, и порой диву даешься, как человек не понимает другого, какая непроходимая пропасть их разделяет. Иной так и кончает свою жизнь — ожесточившийся, погрязший в пороках, непонятый, вечно чему-то сопротивляющийся, не услышавший ни единого слова, которое бы свидетельствовало о том, что его ценят и уважают, — это иногда приходит потом, такого человека «открывают», и только после того как проштудируют всю его жизнь, примут во внимание то, к чему он каждую минуту, на каждом шагу стремился, после того как взвесят его добрые и дурные дела, то, от чего он по какой-то причине отрекался, что когда-то отвергал, вот тогда и выяснится, что мы имели дело не только с пороками и странностями — за ними стояло нечто бо́льшее.
Пишу и удивляюсь самому себе — какая чепуха, разве только из-за этого так невмоготу, хотя порой кажется, что не одного себя я защищаю (видите, какой праведник!) и оправдываю. Но кто скажет мне спасибо (и опять! — придирается к каждому моему слову кто-то бесконечно враждебный и недоверчивый)?
Но одно я понял всей душой, всем своим существом: за добро и красоту — а это должно быть нерасторжимо — надо бороться не на жизнь, а на смерть, бороться каждый миг, без оглядки на других, ибо каждая попусту потраченная минута — это взгляд в сторону, на то, что делает другой. Начинаются рассусоливания, переговоры. Они заразительны. Чем дальше, тем больше я ими стал увлекаться, все более чутко относиться к таким абстракциям, о которых сейчас пишу и которые мгновенно выкристаллизовываются, застревают где-то в горле и тают, плавятся, заливая все тело каким-то домовитым, тонизирующим теплом. Но это только оправдания, софизмы, краснобайство, от которых попахивает чрезмерными претензиями и которые способны и утешить, и успокоить, и… Они обладают большой силой, позволяют так приукрасить самого себя, что, ах, как влюбишься в собственную персону, и ничего другого и не останется, как вздыхать над собой, словно в руках у тебя кубок с драгоценным, животворящим, чуть ли не священным напитком, без которого все человечество умрет от жажды или задохнется; видно, я так и жил, кто знает, может, так я и дошел до тупика — на таком пути, как мой, он неизбежен.
Не знаю почему, но все, что на мой взгляд (наверное, я так и остался неисправимым романтиком) могло быть значительным, даже величественным, становится тусклым, болезненным, спорным или посредственным. Боюсь самодовольной, крепко стоящей на ногах, упивающейся своим могуществом посредственности, знаю, как она пронырлива, как умеет приспосабливаться, приживаться, укореняться, как трудно ее, слепую и глухую, одолеть; боюсь чего-то косного, равнодушного к горю и погибели, спешащего обозвать это чуждым, индивидуалистическим или еще похлеще. В поведении отдельного индивидуума, в его самых бескорыстных поступках, или как их там называть, не желают почему-то видеть того, что бы его оправдало или возвысило. Историческая логика здесь действует безотказно: гордый дух романтиков обернулся символистской болью, загадочностью, серостью, ночными шорохами, мучительными рассветами, вслушиванием в себя, потом — грохот, взрыв, ломка форм и логики, крики, химеры, всплывающие из глубин подсознания, слишком едкая и нетерпимая ирония, предсмертный сарказм, отчужденность и отрешенность, когда никому ни до чего нет никакого дела, когда каждый существует сам по себе, замкнувшись в своей скорлупе, не обращая никакого внимания на другого, делая что-то невразумительное, что какой-то стороной касается и другого, и тебя, но какой именно — не поймешь. Все существует как бы в разрозненном виде, механически, без прочных уз. Но хватит об этом. Эта тема давно не дает мне покоя, я даже хотел писать по ней диссертацию, собирал материал, штудировал все виды искусства, сколько еще здесь можно сделать открытий, но опять… Опять мне хочется слишком многого.
Дует весенний ветер, от которого набухают почки, небо высокое и ясное, и снова сеятель щедрый отборное сыплет семя… Наклоняюсь к тебе, как к колодцу, в котором сверкают, переливаясь, звезды, — пахнет мшаником, гнилой древесиной, животворной травой и полевыми валунами. Куда этот запах манит, куда зовет? Почему он так щекочет ноздри? А иногда оттуда смотрят светлый полдень и облака, белые легкие облака.
Иногда слышу, как шумят ливни. Ветер ерошит соломенные, отшлифованные залатанными коленками крыши, крестьянин убирает жердь, уносит на чердак лестницы и веревки. Как притягивает взгляд все, что он делает, к чему прикасается — может, потому, что от всего этого скоро не останется и следа. Как убыстряет свой бег время! Все, к чему я готовился, все, что намеривался делать, уже никому не нужно. Кто не поспевает за своим временем, тот заболевает прошлым, и все для него становится чужим и непонятным…
Плывут клочья низких взъерошенных облаков, ветер без устали гонит их в сторону Акрополя. Ливни в Северной Литве; из туч, согнанных сюда со всех концов света, хлещет дождь; смотрят в ливневых сумерках глаза мальчонки. Льет как из ведра. О снедающая душу печаль, о бесконечная тоска! Под какими созвездиями теперь ходит твой рок, где витает твой дух?..»
В похоронах Вигандаса Мильджюса разрешили участвовать только тем, кто сопровождал гроб от самого города. Их, не считая оркестра, была маленькая горстка. Криступас Даукинтис шел сзади, изрядно отстав от провожан. Но когда после траурного реквиема заиграли марш — это был сюрприз прибывших из города музыкантов, за который апилинковой власти здорово влетело от власти районной, — у всех вдруг потемнело в глазах. Криступас не знал ни куда идет, ни что делает — пошатываясь, он протиснулся к яме и первым бросил на гроб горсть песка.
Вернувшись домой, Криступас швырнул в угол шапку, навалился на подоконник и долго смотрел на почки деревьев, которые колыхались на сухом ветру.
Пришло время и Бернардасу отправляться отсюда. За эти несколько лет он сильно изменился: возмужал, кое-что перенял у Юодки, Скарулиса и других, кое-что — они у него. Он словно выплеснул то, что когда-то не умещалось в нем, глаза утратили тот несколько лихорадочный блеск, когда хорошо видишь одну какую-нибудь сторону явления и считаешь, что в этом и кроется суть, больше и говорить не о чем, и спорить не стоит.
Когда Юодка заговорил с Бернардасом о Вигандасе, Бернарделис только покачал головой.
— Ну чего этому человеку надо было? Чего не хватало? — удивлялся он, набивая свой вещмешок.
— Я и говорю, — Юодка смотрел на замызганный рюкзак, на поношенную одежду, которую заталкивал туда Бернардас. — И Таутгинас Майштас говорил, что с ним надо было вот так, — и он сделал недвусмысленный жест.
— Ты бы лучше помолчал. Еще скажешь, что Таутгинас Майштас был более прав, чем мы? Что бы с нами стало, если бы мы пошли за ним? — Бернардас встал и глянул в окно: по залитому заходящим солнцем склону полз тракторишко, поднимая клубы пыли; ветер нес ее, и она оседала на почерневший и без того костел. А напротив простирались поля, истосковавшиеся по трудолюбивым рукам.
Сколько в этом штабе было когда-то разговоров, восклицаний, покрякиваний, вздохов, ругани! Запах пропитанных потом полушубков и портянок, табачный дым, стоящий столбом, скрип нар, дух чеснока и лука, пробирающая до костей сырость, заиндевелое утро, санная колея, расстилающийся над лесом запах пороха и карбида…
На грязном, стертом сапогами пороге, как бы не отваживаясь двинуться дальше, гасла теплая полоска света, в ней, точно его гладили чьи-то невидимые руки, тихонько мурлыкал, прищурившись от солнца, котенок, сытый, толстый, видно, дитя той, пугливой, как ласка, кошки, которая постоянно тут отиралась, норовя что-нибудь схватить и юркнуть в дверь, — какой тут смех стоял однажды, когда она вот так же сиганула из избы.
Несколько лет, увязая по пояс в снежных сугробах, бродя по болотам и перелескам, бойцы Юодки гнались за почти разбитым, но еще злым и жестоким врагом. Пули пригвождали этого врага к земле, как щепки летели клочья его одежды, его разыскивали в подвалах, на сеновалах, в кучах половы, заглядывали на кухни, запрещая стряпать рождественские или пасхальные блюда, обнюхивали миски и тарелки, хотя Бернардас против многого протестовал и делал все, что мог, чтобы избежать таких крайностей.
На какое-то мгновение Бернардасу даже почудилось, что последние вражеские бастионы пали — он сдался, рухнул на землю, и не хотелось ему больше вставать и взваливать на плечи свой вещмешок, но опять же — долг. Надо. Надо.
Глянул на Юодку, поправил козырек фуражки, и айда, разговаривая на ходу с ребятами, вылетающими из дворов и подворотен. Щурясь от солнца, они шли за Бернардасом по пятам; рассказывая друг другу всякие небылицы. Дорога, дорога; дорожная пыль, оседающая на одежду и деревья, трепыхающийся свет на кронах, свет на вешних лугах…
Бернардас шел по большаку, весело посвистывая, чуть покачивая плечами, — где-то его ждали дела поважнее.
ЭХО
В ту осень сын Криступаса Юзукас стал ходить в школу.
Сидит он на последней парте, у самого окна, спрятавшись за спины одноклассников. Чтобы увидеть его, учительница должна отойти в сторонку или встать на цыпочки. Юзукас — махонький мальчуган с серьезными, выразительными глазами, в которых светится какая-то печальная отрешенность. Когда Юзукаса вызывают, он вздрагивает и, стараясь собрать разбегающиеся в панике мысли, сосредоточенно смотрит куда-то в бок. Он избегает чужих взглядов, подолгу молчит, а если что и скажет, слова его напоминают обрывки тихой и долгой беседы. Есть у Юзукаса привычка — подпирать кулаком щеку, но уроки он готовит старательно.
Теперь он выводит черточки и петельки. Не даются они ему, хоть плачь, какие-то кривые, скрюченные. Но Юзукас старается вовсю. По тому, как он держит ручку, как покусывает губы, видно: одолеет, справится. Нет-нет да и наклонит набок головку, полюбуется на свои каракули и снова принимается за работу.
Юзукас — чистенький, в рубашке с белым накрахмаленным воротничком, в темно-сером пиджачишке с медными пуговицами. Сшит пиджачок с фантазией, даже стильно, портной, видать, свое дело знал. Правда, Юзукасу он широковат, но тщательно вычищен и отутюжен, от глажки чуть лоснится, кое-где залатан и изрядно побит молью. Глянешь на Юзукаса и сразу представишь себе женщину, примерявшую на него пиджачок, перешивавшую пуговицы, переделывавшую воротничок. Претензия на элегантность, недурной вкус, заботливость и… нищета. Ребята заметили это сразу. Как только увидели, завопили: франтик-кантик-финтифлюшка.
Учительница несколько раз вызывала Юзукаса к доске. Пока он там пыхтел, она успела разглядеть и даже срисовала покрой пиджачка. Сын ее одного роста с Юзукасом, и она сошьет ему такой же. Потом она попросила, чтобы Юзукас показал руки — чистые ли ногти? Ногти чистые, но обкусаны. Она заметила, что и рукава слишком коротки — ясное дело, пиджак с чужого плеча. Пахло от него плесенью и дорогими духами.
Из сундука, окованного железом, старая Даукинтене вытащила костюм. Когда-то его носил ее двоюродный брат, сестра которого была замужем за искусным портным, хворавшим чахоткой. От пиджачка еще пахло мелом, известью, паленой шерстью и паром, клубившимся из-под утюга, — Юзукас часто сиживал за столом портного и смотрел, как он кроит материю, метит ее мелом, тычет в нее иголкой, утюжит.
Послушный он был мальчуган — что скажут, то и делает. Учительница посадит его так, чтобы не горбился, и он сидит, не шелохнется; велит ему взять ручку — берет; скажет писать — пишет; положить ручку — положит, и все тихо, без единого звука. Положит и еще оглянется, не слишком ли громко? Совсем он на других детей не похож. Те орут, вопят, суют свои исписанные каракулями тетрадки — сразу видно, родители нарадоваться на них не могут. А Юзукаса никто не баловал; пока он сам своей работой не будет доволен, никому не покажет.
Только почувствует, что учительница стоит за спиной и смотрит на него, засмущается, посадит кляксу, весь зардеется, попытается спрятать тетрадку и еще больше размажет чернила.
От учительницы веет свежестью и духами. Так пахло и от его тетки (она работала в парфюмерном магазинчике). Учительница наклоняется над задыхающимся от стыда мальчуганом, сжимает его горячую ладошку, размашисто выводит петельку за петелькой, буковку за буковкой читает полушепотом: «Мама». Голос у нее нежный и напевный.
Когда-то она училась музыке, любила заниматься сольфеджио, играть на пианино, но больше всего ей нравилось красиво, каллиграфическим почерком, подражая древним письменам, переписывать ноты и буквы.
Юзукас по инерции выводит несколько букв, так, как написала учительница, и сам диву дается, как здорово у него получилось — почти как у нее. Но потом снова неудача, снова все вкривь и вкось.
— Не старайся так, держи ручку свободнее, — говорит учительница. — Пиши, ни о чем не думай.
На следующем уроке Юзукас выучил два-три куплета песни.
поет учительница. Красиво поет. И голова, и руки, и сама она — всё движется как заведенное: легко, задорно, заразительно. И кажется, что в такт песне вот-вот вылетят кони со всадниками в седлах. Но вторая половина песни Юзукасу не нравится.
Через окно он видит сломанные мальчишками яблони, узенькую полоску луга у речушки — из нее они пьют на переменах воду, — видит коня, тянущего по большаку телегу, и почти ощущает запах конских яблок сквозь облако пыли; как топчутся на картофельном поле мужики и бабы, но где же славные богатыри, о которых поется в песне? Ни одного богатыря нет. А песня и впрямь могла бы быть прекрасной, хоть бери и складывай ее заново. Навсегда войдут в нее картины и запахи этого полдня, когда Юзукас, нацарапав первую в жизни букву, смотрел в окно. И будет эта песня ширмой, скрывающей и красоту, и убогую печаль его детства, будет солью на ране, разорванным в кровь волдырем, болячкой, которая, того и гляди, перейдет в гангрену.
Юзукас ждет, когда кончатся уроки, и он увидит Альгиса, сестру, Визгирденка, Анупрят.
Последний урок — игры. Мальчики встают напротив девочек — надо повернуться вокруг своей оси, хлопнуть в ладоши, присесть. Юзукас притрагивается к теплой ладошке девочки и видит, как соседка улыбается, опускает глаза. Наверное, он снова ошибся, сбился с такта.
Девочка — маленькая, хорошенькая, с двумя белыми бантиками, в белых чулочках, в белом переднике. Ее искусно связанная пелеринка в белую полоску похожа на душистый колокольчик. О, как благоухал этот колокольчик в жаркий летний полдень, когда Юзукас впервые увидел его на луговине возле хлева Визгирды! Смотрел на него и не мог насмотреться — какой он белый, как пахнет. Юзукас позвал детей, но никто из них дива не увидел.
Дружно взявшись за руки, они водят хоровод вокруг каменного памятника и поют:
Юзукасу нравится попадать в такт и смотреть, как поет учительница. Он подражает ей, разевает рот, и голос его тает в ее голосе, захлестнувшем все его существо. Из-под ботинок клубится пыль, со звоном падают камешки. Девочка снова поднимает на него глаза, ясные, полные света, и они вопрошают: знаешь ли ты, что теперь нужно делать?
— Повернулись, встали в ряд и начали сначала! — говорит учительница, и дети послушно бегут на свои места.
Чуть пошатываясь, с буханкой хлеба под мышкой, по мощенной булыжником улице со спиртзавода бредет отец Юзукаса. Возле школы он останавливается и начинает озираться: где же его сын, но тот прячется за чьи-то спины.
— Мы не в прятки играем, пройди вперед, — говорит учительница.
Юзукас делает вид, будто не видит отца, и встает впереди. Только бы он не позвал, только бы не подошел! Да нет, куда там…
— Юзук! — кричит отец.
Он подходит, протягивает сыну горсть леденцов, облепленных табаком. Так рушатся воздушные замки и любовь оборачивается позором — никто из его одноклассников не должен знать, что он еще маленький, а пошатывающийся, небритый мужчина с буханкой хлеба под мышкой — его отец, ибо у девочки отец — органист, живут они в доме с крылечком, за голубым заборчиком, у них широкие окна, белые занавески, уйма цветов, все там очень красиво, и мачеха не поносит девочку последними словами, не сбрасывает со стола тетрадки, не заставляет сушить на плетне мокрый — после ночи — матрац и не орет, чтобы все слышали и видели. Ее отец не приходит пьяный, и никто там не ругается.
«Хоть бы он помолчал», — думает Юзукас, угрюмо наклоняя голову.
Появление отца как бы обнажает весь ужас его жизни.
— Иди, чего же ты стоишь? — подталкивает его кто-то, и он сломя голову летит к отцу, падает, встает, потирает колено, бросает на отца жалостливый и презрительный взгляд, и плетется туда, где стоит Дильбис, конопатый, с лошадиными зубами. Юзукас сжимает кулаки и тузит его изо всех сил, а его маленькое сердце колотится в груди. Он тузит Дильбиса и плачет. Но учительница не видит их. Не видит и отец — он уже ушел своей дорогой.
— Дети, вы слышите меня? — окликает их учительница и несколько раз хлопает в ладоши. — Ну-ка, начнем сначала, повторим еще раз.
Через некоторое время Юзукас снова начинает смотреть украдкой на девочку — поняла ли, видела ли?
Она похожа на одну из его двоюродных сестер. Юзукасу нравится ее имя и все, что она говорит или делает. На переменах и после уроков, он, обгоняя всех, пролетает мимо нее, показывает свою удаль, хочет, чтобы она его заметила, всюду ищет ее и невыразимо страдает, если кто-то подтрунивает над ним или окликает его не по имени, а по прозвищу. Если ее на уроках нет — все бессмысленно. Можешь спрашивать его, можешь не спрашивать, знает он урок, не знает — ему все равно. Придет раньше всех, заглянет в ее парту — на месте портфель или нет? Даже «в одно местечко» он крадется тайком, чтобы она не увидела в окно. Все, что его радует, все, что заставляет прыгать, стрекотать, связано с ней. Маленькая Беатриче, благородная Лаура, беседующая с прекрасными дуэньями. Нет, не верится, что она может играть и визжать, как ее подружки-грязнули. Она — свет, озаряющий все в его убогом мире. Когда он съеживается от стыда или грызет от обиды ногти, он думает о ней: что бы она сказала, увидев его? Мысли о ней догоняют его в самых неподходящих местах, и ему не нужны ни плотский опыт, ни знания, чтобы понять: любовь, которую по воле судьбы он испытает позднее, будет только отсветом этой, выплеснувшейся из его ребячьей души. Позднее, соблазняя его плотскими усладами и терзая неуемной похотью, природа будет стремиться к одному — к тому, чтобы приумножить его род, но мало чем обогатит. Чего же добивалась его природа в те годы? В семь лет любовь его была такой же, как и та, которой суждено прийти пятнадцать, двадцать лет спустя… И за каждое яблоко, сорванное с древа познания, он будет изгнан с позором через врата этой любви. Она придет не раз, окутанная неземным сиянием и тайной, и завесу ее он никак не сможет приподнять, хотя и почувствует, что за ней таится другая любовь, серенькая, повседневная, унылая, снедаемая угрызениями совести. Может быть, поэтому он никогда не сблизится с женщиной, чей образ осенен неземным светом. Он будет сторониться ее, чтобы не замарать, или — что еще страшней — не обмануть. И носить ему до смерти эти вериги, мучиться, тосковать по той, недосягаемой, которая, мнится ему, машет издалека и глядит лучезарными глазами, вспыхивающими лишь на мгновение.
Ох, если бы кто-нибудь проложил мосты над такими безднами!.. Но стоит ли? Ведь это мираж. Метафора. Это была попытка расправить плечи, и кто знает, может, неземной, целомудренный свет еще вспыхнет на каком-нибудь повороте его долгого пути? Всемогущая, вездесущая, все исцеляющая — где она, такая любовь? Всю жизнь, исступленно и слепо, он будет к ней стремиться.
На переменах они грызут яблоки, оглядывают высеченные на памятном камне знаки или толпятся перед дверями, у которых чернеет бачок воды с алюминиевой кружкой на цепочке и вяжет не поднимая глаз старая сторожиха. Они визжат и обзывают друг друга.
— И-ы-ы-ы! — кричит Палайджюте, длинноносая, долговязая девчонка.
— Вот тебе! — показывает ей фигу сын трубочиста Ряубёкас.
Юзукас молча стоит в сторонке, но если какой-нибудь старшеклассник выкинет коленце, то он покатывается со смеху, чтобы и его заметили.
Ряубёкас со всеми задирается, всех обзывает. Дети дразнят его по-всякому, но и он в долгу не остается. Толкает Юзукаса, и через минуту они уже катаются по двору в пыли. От пиджачка отлетает медная пуговица. Ряубёкас не дремлет, бац по щеке, Юзукас дает сдачи, и красная струйка крови течет у противника из носа. Но тот не унимается, замахивается локтем.
— Только попробуй! Титваймать! — прокладывая себе дорогу, к Юзукасу подлетает высокий, рыжеволосый Альгимантас, его двоюродный брат. Ряубёкас пускается наутек. Юзукас с Альгимантасом подходят к перекладине, где, размахивая единственной рукой и зацепившись ногами, раскачивается солдатский сын Червонцев. Из его карманов дождем сыплются пустые гильзы, копейки, всякие там железки, скомканные папиросы «Бокс».
После уроков Юзукас ковыляет к дверям, на которых написано: «III, IV, V классы». Стоит, прислушивается, заглядывает в замочную скважину. Двоюродный брат сидит, вперив глаза в доску; роется в портфеле сестра — она вся в слезах, видно, опять схлопотала двойку. Басит вызванный к доске Визгирденок.
Домой Юзукас пойдет с Альгимантасом.
Как только раздается звонок, Юзукас вытаскивает пенал, складывает карандаши и кисточки, забрасывает за спину фанерный ранец (Альгимантас сколотил), стягивает на груди веревкой, чтобы не подпрыгивал, когда он, Юзукас, пустится под гору. Им с Альгимантасом надо еще порыскать по кустарникам, постоять на мостках, нарвать хмеля, набить карманы дикими яблоками, может, и порыбачить, может, и в сосняк Мильджюса слетать или перегнать лошадей на пастбище.
Чего только они не вытворяют в перелесках и песчаных карьерах! Визгирденок, Альгис, его брат Феликсас, Аугустас Кайнорюс, Анупрята. Юзукас только слушает их, прыскает, хихикает, краснеет, смущается.
— Как выбеленный! — визжит он, показывая на Аугустаса, сидящего под навесом Визгирды на бревнах.
Иногда к ним подбегают девчонки и слушают. Послушают и давай визжать.
— Как вам не стыдно! — одергивает их Визгирдайте.
— Ты мне, дылда, нервы не порть, — ворчит Визгирденок, рыхлый, недобрый мальчишка с темным пятном под левой лопаткой.
С полным ведром воды, льющейся через край, подходит мать. Все замолкают.
— Э-э-э! — орет Палайджюте, замурзанная, оборванная девчонка, и Юзукас, перехватывая ее взгляд, видит, как она смотрит на ребят постарше — Аугустаса или Феликсаса. Взгляд у нее цепкий, как крючок. Лгунья, ломака, всем язык показывает, всех передразнивает.
Густеют сумерки, откуда-то с чердака выпархивают летучие мыши, шелестят тонкой пленкой крыльев, носятся над головой, издавая ультразвуки. Какая-нибудь заблудится и пикирует прямо на детей.
Сверля темноту горящими глазами, ухает в дупле сова.
— Что там у тебя? — спрашивает Юзукаса дядя Константас, стоящий во дворе.
— Летучую мышь поймал.
— Покажи.
В горсти трепыхается странная тварь — ни птица, ни мышь.
— Подумать только, — говорит старая Даукинтене. Она встает с лавки и, опираясь о посох, идет к Юзукасу: он и сам, как летучая мышь. — Всякую хворобу в руки берешь, отпусти ее.
В сумерках, пронизанных ультразвуками, снова раздается шелест крыльев.
— Вымой руки и садись ужинать. Суп на столе стынет, — говорит старуха.
На освещенном крыльце стоит отец и курит папиросу.
— Ох, уж эти дети! Не поймешь их, — рассказывает Визгирдене брат Константас. — Иду намедни мимо овина, смотрю — взобрался на оглоблю и волосы из конского хвоста выдергивает.
— Кто ж это? — спросила Визгирдене.
— Юозас. «Ты что, лягушонок, делаешь? — опрашиваю. — Кобылица как лягнет…» Но это не все. Слушай, что дальше было. Прибежал ко мне на днях Малдонис. Запыхался, палкой машет, кричит и все в сторону поглядывает. Он и так невнятно говорит, а когда рассердится, тут уж совсем ничего не поймешь. Оказывается, дело такое: привязал он у речки свою кобылу — зверь, а не лошадь, злая, за версту на человека скалится, чужака и вовсе к себе не подпустит. А эти гаденыши подкрались, накрутили хвост на палку, вот такую — вершка четыре, не меньше, и давай волос выдирать. А твой верхом. Увидели Малдониса, и врассыпную.
— Ничего не понимаю… Зачем им конский волос понадобился?
— Для лесы… Они из него лесу вьют.
Константас переводит дух и жалуется дальше.
— Ничего нельзя оставить — из-под носа утащат. Всё что-то мастерят. Наш сидит у чулана на камне и стучит. Пойду, говорю, гляну, что он там сооружает. Подхожу потихонечку, смотрю — ухнали расплющивает. У меня их полная коробка была, ни одного не осталось. Подковал я третьего дня кобылу, а вчера смотрю — подкова шатается. Чья же, ты думаешь, работа? Их — не иначе. Шныряют повсюду, все тащут, только успевай оглядываться и стеречь. Скоро начнут подковы отдирать. Да о них словами не расскажешь.
— Ну уж… Станут они тебе из конского копыта гвозди выдирать! — качает головой Визгирдене.
— Еще как станут! Ты их не знаешь, — поднимает палец Константас. — Я на них насмотрелся. Вижу, что это за твари, ой-ой-ой. От них ничего не спрячешь — ни шурупчика, ни гвоздика, все винтики повыкручивают. Рыщут, снуют по закоулкам, только бы что-нибудь найти. Слов не хватает.
Топоры, пилки, долота просто мелькают у них в руках. Самое большое их сокровище — заброшенные усадьбы, подвалы и гумна, оставленные хозяевами. По весне река приносит им всякую всячину.
Когда дом пустеет, Юзукас забирается на чердак к Константене, где стоит тяжелый дубовый сундук. Чего там только нет: расшитые блестками платья; книги с занятными картинками, покрытыми шуршащей папиросной бумагой (сквозь нее, как сквозь туман, мелькают льды Антарктиды, белые медведи, пантеры, пышные тропические леса); серьги; маленький оловянный ящичек, пахнущий ладаном; старые деньги; шляпки. Много затейливых вещичек он находит под половой и кровельной решетиной.
Иногда в самый разгар поисков Юзукас хватает чесалку и начинает рубить тонкие, струящиеся сквозь щели кудельки солнечных лучей. В их свете дрожат тысячи золотых пылинок. «Как живые», — удивляется Юзукас. Такие же пылинки он видел под микроскопом у двоюродного брата. И обрываются эти лучи со звоном, как натянутые струны. Разрубит, а они тут же соединяются снова и снова. Хозяйка много раз заставала его врасплох: стоит весь в пыли, едва дышит и машет своим «мечом». Ну и доставалось же ему на орехи! Потому-то он все жмется к маленькому оконцу и следит за тем, как на холмах пасут скотину Константас с женой. Если они домой не спешат, он снова принимается за работу. Через оконце видны кусты сирени, в которых неистово чирикают воробьи, слышен свист ветра. Юзукас ходит вокруг дымохода, жадно вдыхает запах сажи и кострики. А порой часами не сводит глаз с ласточкиных гнезд, прилепившихся к стрехе, — как прочно и красиво они сработаны, какие они удобные и мягкие… Почти касаясь его лица, проносятся прыткие ласточки и о чем-то щебечут на своем языке, побаиваются его, как огромного черного кота… Если бы не страх, что его застанет здесь хозяйка, Юзукас и не уходил бы отсюда.
Совсем другие вещи находит он на своей половине чердака. Это сверкающие карнизы, медные трубы, старые пуговицы с какого-то мундира, примус, диван, ободранные кресла, шляпки, перчатки, платья, ридикюли, туфельки на высоком каблуке, разношенные ногами его матери.
В овин Визгирды привезли молотилку. Слетелись туда все деревенские мальчишки. С самого утра не смолкает их гомон. Только и слышно: «Мощность, цилиндры, дизель…» Сдвинув набекрень шапку, распахнув пиджачок, шныряет среди них и Юзукас Даукинтис.
— Вылитый отец, — говорит, глядя на него, Константас.
Раздувая порыжелые усы, хлопочет в овине и другой дядя Юзукаса, Казимерас, смотрит, в порядке ли весы, какие есть гири, с какого сеновала начать.
— Тебе чего здесь надо? — спрашивает Казимерас Юзукаса. — Иди домой.
— Еще чего!..
Юзукас проводит пальцем по черной, покрытой пылью поверхности мотора, где отлиты металлические буквы WT. Что они означают?
Двоюродный брат Юзукаса, сын Казимераса Альгимантас, выжал двухпудовую гирю и стоит теперь, окруженный всеми.
— Дай и я попробую.
— Нет, надорвешься.
Юзукас чувствует такой прилив сил, что, кажется, горы свернет.
Визгирденок вертится возле мотора, шарит глазами — что бы стащить.
— Выжми эту, — говорит Юзукасу Аугустас Кайнорюс и подкатывает к нему гирю.
Отец его возится с мотором. Аугустас, тот словно из какой-нибудь легенды — голыми руками загнал овчарку Каушпедаса в конуру, а потом, как она ни скулила, вытащил ее оттуда за цепь. Об этом мужики и толковали сейчас.
— Главное не бояться, — рассуждает Константас. — Если хоть чуточку себя выдашь… если только пес почует, что трусишь, накинется — и конец тебе… прыгнет на шею, загрызет.
— Может, оно и так, — соглашается Казимерас — Но что с того? Одно дело знать, другое — уметь.
Константас любит поучать и наставлять. Он старается все понять. Знания заменяют ему смелость, способности — все. Вот и сейчас он крутится среди мужиков, каждому совет дает, каждого окликает.
— Эй, ты, осторожнее! Смотри, обвалится, ногу придавит, — слышится его голос.
Аугустас играет гирями. Тот самый Аугустас, который самых норовистых лошадей укрощает; который нагишом влетает в воду, распугивая стайку купальщиц, только что вязавшую снопы; который, несколько раз перевернувшись в воздухе, ныряет в реку с самого высокого обрыва; Аугустас, который выше всех взлетает на качелях в сосняке Мильджюса.
— А вдруг сломаются?.. Вдруг поскользнешься?.. Попробуй удержись! — воскликнул однажды Юзукас, стоя на опушке леса и глядя, как высоко мелькает над елями голова Аугустаса. Да, так, как Аугустас, никто не может. При одной мысли о качелях у Юзукаса дух захватывает. Сколько ему еще поглядывать на стершиеся заклепки, сколько прикидывать, прочны ли они, и замирать от страха: если сломаются, умрешь на месте. Только Аугустасу все нипочем: слова не скажет, вскочит на качели, раскачается и взмоет вверх. Юзукас не раз, ежась от страха, забирался на качели, но раскачать их так, чтобы перекувырнуться в воздухе, не мог. Ничего не попишешь, надо прямо признаться: смелости у него мало.
Да и силенок не ахти сколько, как он сейчас убедился. Легкие гири, и те едва выжимает.
— Надорвешься, — говорит Константас. — Силы-то кот наплакал.
Юзукас уносит гирю за овин и там, из последних сил, вступает с ней в поединок. Но ничего не выходит. Какой же он слабак! От ярости он принимается пинать ногами сосенки. Если бы мог, с корнем бы их повыдирал.
А там, в овине, звенят смех и голоса… Все встали в кружок, смотрят, как двухпудовая гиря подрагивает в руке Аугустаса. Сам он красный, вены вздулись. Бух! И свинцовая груша падает на землю.
— На, пощупай, — показывает мускулы Аугустас. — Как кость, как железо.
Визгирденок все еще вертится возле мотора.
Поглаживая нагретую гирю, Юзукас вдруг ловит на себе взгляд Аугустаса. Глаза у него стального оттенка, искры так и сверкают в них.
— Не вешай носа, — говорит Аугустас. — Придет и твое время. Маленький я тоже такой был.
— Правда?
Юзукас поворачивает козырек шапки к Аугустасу.
— Немец, — смеется кто-то.
— Ладно, могу и немцем побыть. Прячьтесь.
— Да иди ты, бирюк! Скиландис — вот ты кто.
— Плохой ты человек, Визгирда.
— Заткнись, кому сказано! Молчи, когда я говорю. Держи язык за зубами! — бросает Юзукас фразы, которые слышал от отца.
Не поднимая головы, трудится Кайнорюс, неторопливый, с цепкими руками. Что ни слово — то «знате, знате». Это «знате», как шуршание папиросной бумаги, как пламя немецкой зажигалки, которую он то и дело достает из кармана домотканого пиджака. За это его и прозвали Знате.
Ему нет никакого дела до силищи сына, он не слышит, как стрекочет в овине бойкая, черноглазая дочка Фелиция, которую тискают и лапают все, кому не лень.
Иногда к мальчишкам подкрадывается угрюмая Криступене с изогнутым, как совиный клюв, носом. Шаркает своими ботинками — шарк, шарк.
— Где ведро? Где вода? Я им покажу! Они у меня быстро остынут! А ты чего здесь околачиваешься? — кричит она на пасынка и забирается на сеновал. Бесенок, сущий бесенок.
В другом конце овина смеется Фелиция.
— Гогочет, словно ее раздели, — говорит верзила Аполинарас, глядя, как Фелиция вытряхивает из-за пазухи полову. Грудь у нее высокая и полная. Фелиция ловит взгляд Аполинараса, поднимает глаза. С минуту она смотрит на него не то пытливо, не то призывно. Лицо у нее распаренное, зрачки большие, темные волосы рассыпаны по плечам. Потом она снова отдается упоительному безумию смеха.
— Ой, не могу, ой, задыхаюсь!
Опершись о столб, стоит, кусая губы, Аполинарас. В сосняке топочут и ржут лошади. Тихо, однообразно, спокойно стучит молоток Кайнорюса, — никак не может человек болт открутить.
День-деньской хлопочет Кайнорюс в своей кузне, точит лемехи, подковывает лошадей («С этими подковами и подохнут», так провожает он чалых и каурых, когда подкует. «Если дети ухнали из подков не выдерут», — добавил бы Константас).
Вокруг Кайнорюса всегда полно детей — глазеют, следят, как он расплющивает железо, багровое, вязкое и мягкое, или хватают гвозди, роются в груде лома, и, если кузнец поймает кого за шкирку, тот, как бы прося прощения, бросается раздувать горн или подавать инструмент. Юзукас из кузни никогда ничего не украл. Заметив, как он впился глазами в какую-то железяку, Аугустас сказал однажды:
— Бери, если нужна.
— Нет, спасибо, чего там.
Аугустас понимает Юзукаса. И Альгис понимает, и отец. В доме у Юзукаса скоро устроят бал, отпразднуют дожинки. В старой картофельной яме разведен огонь — пиво варят. Мачеха велела ему подбрасывать поленья, а он примчался сюда, в кузню: хмеля нарвал, дров принес — с него хватит.
Кайнорюс поднимает голову. Где клещи? Где отвертка? Сгинул и Визгирденок.
— Знате, знате, может, ты взял?
Юзукас краснеет.
— Он не возьмет, — заступается за него Аугустас.
Кайнорюс шарит глазами по траве. Визгирдене не может на него надивиться. Она никак в толк не возьмет, в кого же его дети уродились — дочь, как лесная фея, по опушкам бродит, сын по крышам лазит или голый бегает по лугам. Как ласки, честное слово. Жена у него — сухарь, неряха, крикунья.
В тихие вечера пронзительный голос Кайнорене раздается за березняком, заглушая мерные удары молота.
— Ты что, знате, говоришь? — спрашивает Кайнорюс и поднимает голову.
Жена не отвечает. Визжит как будто ее режут — телок сбежал, лисица курицу стащила, веревка запропастилась, забот невпроворот, хоть лопни.
Однажды вечером крики эти были заглушены пением. Пели ее сын и дочь, сидя под березой на краю поля. Визгирдене своим ушам не поверила: родители молчуны и рохли, а у детей такие голоса!
Дом Кайнорюса стоит на опушке, на супеси, среди вишен и кустов малины. Мальчишки то и дело руки к ним тянут, ни один не пробежит мимо. Но до вишен и малины и дотронуться не успевают: раздается крик Кайнорене, а вслед за ним и собака белая начинает тявкать, дай бог ноги унести. Сучка, одуревшая от криков хозяйки, лает, не зная, на кого бросаться. Но вот из кузни с молотом в руке выходит Кайнорюс.
— Чего, знате, кричишь?
— Ах ты, господи! — всплескивает руками Кайнорене. — Да эти байстрюки уже весь сад переломали, а он все: чего, знате, кричишь?
Вот какие байки часто рассказывает Визгирдене. Взгляд у нее не то, что у других деревенских баб, — цепкий, любую странность у мужчины заметит (может, потому, что и ее муженек, которого она пуще огня боится, тоже не без причуд).
Если верить Визгирдене, жизнь и привычки у мужиков самые непонятные: скрюченные, косолапые, они слоняются по холмам, ошиваются у овинов. Один — как тетерев, другой — как петух леггорнской породы, третий — только поставь миску на стол — хап, хап, и пусто. И еще мало им. Утробы ненасытные. Такими останутся в памяти деревни местные мужики. Слово ее — будто резец, кисть или перо. Здешние мужики, как дети, сами не понимают, чего мелют, куда идут, что делают, а как буйствовать любят, кичиться! Свинство какое-нибудь сделают и чуть ли не святых из себя корчат. Ну просто диво дивное. Когда откроешь им глаза, скажешь, они еще и злятся.
И если где-нибудь рдели лица сельских бабенок, а в самые хмурые дни то там то сям звенел смех, все знали: там побывала Тякле Визгирдене. Словно щедро брызнувший из-под супеси и суглинка, звенел смех, который никогда не иссякает, как не иссякает мужская гордость, проявляющаяся самым неожиданным образом и в самых неожиданных поступках. А теперь вот Визгирдене стоит на пороге овина, смотрит, как Кайнорюс ищет отвертку, приседает, шарит в карманах, пожимает плечами.
— Знате, знате, только что была под рукой. Может, ты взяла?
— Я, что ли? Слыхали, я его отвертку взяла! — смеется Визгирдене, подергивая углы платка, смеется громко, чтобы все обратили на нее внимание. Потом она подходит ближе, оглядывается, — может, еще кого высмеять, может, эта отвертка, или как ее там, у Кайнорюса в руке или под ногой, или… Но вдруг Визгирдене замолкает: сын то и дело оглядываясь, чешет к риге.
Мотор собран, коробка передач в порядке. Мужики выпрямляют спины, закуривают. В сосняке ржут лошади.
Изредка слышно, как кто-то под пригорком орудует лопатой. Там хлопочет Визгирда — сад задумал развести.
— Ступай к мужикам, потолкуешь с ними, — говорит подоспевшая Тякле. Но муж не слышит. Она машет рукой и идет в хлев. Буренка лижет телка, поворачивает к хозяйке голову, мычит, глаза у нее теплые, как осенний туман. Телок мотает головой, тычется мокрой мордой матери в шею, а та не спускает с него глаз.
— Никто твое дитятко не тронет, чего мычишь?
Блеют, жмутся к загородкам ягнята — теплые клубы тумана, живое руно, а когда лягут скопом — словно камни.
Мужики покурили и разошлись: кто пошел к лошадям, кто в ригу, а кто и возле мотора остался. Аугустас и Альгис по очереди крутят ручку. Густые редкие звуки, — пух, пух! — огонь, клубы дыма, запах газоля дразнят, как зов далекой дороги, щекочут ноздри Юзукаса.
— Может, свеча перегорела? — Юзукас всюду сует свой испачканный мазутом нос. — Это свеча? Ишь какая! — говорит он, встав на цыпочки.
Подумать только, эта штука, искрясь, дает такую силу мотору!
Снова путается под ногами Визгирденок. В сосняке ржут, бьют копытами лошади. А у реки ярится жеребец. «Еще сюда прибежит. Этого не хватало».
Все бегут, спешат, из рук переходит кружка с пивом. Криступас принес — угощайтесь. Отведал отцова пива и Юзукас, теперь ходит сам не свой. Кто-то бросил его шапку в маховик, и она крутится, вычерчивая круги. Это ж надо! Юзукас неотступно следует за машинистом — пусть объяснит что к чему, как молотилку остановить. Мотор вдруг захрипел, как прирезанный петух: глухо, прерывисто; но он еще загрохочет в сумерках! Мужики подстегнут лошадей и выедут на большак, рассмеются женщины, завизжат дети, кувыркаясь через голову, и что-то обязательно случится, потому что каждый будет волен делать, что хочет.
— Когда поедешь под гору, натяни вожжи, вот так, и упрись ногами, — учит Альгимантаса Константас Даукинтис.
— Сама не знаю, что это с ребенком делается, — разводит руками Криступене.
— Белены объелся, что ли? — восклицает Визгирденок.
— Отойди! А то как двину!
— Сопляк!
— Сам сопляк! Боишься?
— А ты и семи килограммов выжать не можешь.
— Запросто выжму.
— Иди ты!
— Плохой ты человек, Визгирда!
— Хочешь, Юзукас, вместе поедем, — предлагает Альгимантас.
— Куда?
— В местечко, на склады.
— Дай я буду править. Держись!
— Да вы сосны сшибете, будьте вы трижды неладны! — ругается Казимерас. Он пробует зерно на зуб, провожает подводы.
— Как орехи, — говорит Константас.
Всех ошарашил шепелявый Альгис, сын Казимераса — примчался, стоя в телеге, и улетел, щелкнув кнутом.
— Ты зачем коня гонишь? Пусть отдохнет, — говорит отец.
Скрипя голенищами сапог, носится мачеха Юзукаса — вся багровая, нос, как птичий клюв, да еще набок. Обсыпана половой, косточки всем перемывает. Больше всего ей нравится толковать с Кайнорюсом, пристает и к Аполинарасу, но не она теперь у него на уме.
В картофельной яме, у клокочущих котлов сидит Криступас: обмолотят его ячмень — придется угощение выставлять. Визгирда уже прибегал сюда, опрокинул пару стаканчиков и сейчас, подтягивая сползающие портки, ходит по сумеречному двору, собственную ригу не узнает.
Юзукас и Визгирденок устроились за скирдой. Остальные примостились кто как.
— Ш-ш, — говорит Визгирденок.
На другой стороне скирды кто-то шепчется, шелестит соломой. Замолкает. Снова шепчется. Не мачеха ли?
— Не надо, не трожь. Ах…
— Идем лучше отсюда.
Визгирденок морщит брови.
— Корова.
— Может, ревнуешь?
Чуть поодаль, уперев ноги в бревна, бабы уминают хлеб с салом.
— Где же Фелиция? — спрашивает одна, облизывая жирные пальцы.
— Явится!..
— Кто это сюда лезет?
— Ах ты, хитрюга!
— Получишь по рукам… Аполинарас!..
Мелькает чье-то лицо с синяками под глазами. Криступене приносит кувшин.
— На, пей, — и протягивает кувшин в темноту, пересыпанную шепотками. В сосняке, у телег, всюду шепот. Взрослые забыли детей, и те носятся где попало, только глаза сверкают.
Машинист сидит, склонив голову к мотору. Засаленная стеганка стянута широким ремнем. Зеленая солдатская фуражка. Вокруг — бочки, бачки, прямо как руины. Тут же жбан с пивом.
— Ты чего не пьешь? — спрашивает Юзукас.
Вокруг мотора ходит Визгирденок, насвистывает, голову задрал, правая рука в кармане. Видно, опять что-то стащил.
Поправляя платье, мимо него проходит дочь Кайнорюса Фелиция. Щеки у нее горят. Она оборачивается. Поднимает голову и машинист. Слышно, как кто-то шуршит в кустах. Ночь еще дышит тайной, хотя все вдруг смягчилось. Женщины перестали жевать.
— Где это ты пропадала? — бабы смотрят на Фелицию, на ее платье и лицо.
Глаза у нее опущены; идет как во сне. Все бесшумно заворачивают остатки еды.
Юзукас щупает электрические лампочки, разглядывает вольфрамовую нить. Не поднимая головы трудится Фелиция, напротив — Аполинарас. Шаг у него тяжелый, плечи широкие. Он все поглядывает на Фелицию. А у той голова наклонена набок, движения точные, скупые, словно важнее всего для нее сгрести за раз весь пучок, чтобы ни одна соломинка не упала. Аполинарас поднимает полупустые вилы, ржут лошади, гудит мотор. Смех и болтовня кончились. Теперь — только работа. Казимерас взвешивает мешки.
Раскаленная докрасна чугунная труба плюется искрами. Бум, бум — огненная плазма брызгает на землю, отскакивает, оставляет черные пятна, они и по весне будут заметны, когда все покроется зеленой жадной отавой. Мужики сушат смазанные солидолом сапоги. И Юзукас. И Визгирда. И Константас. Чем жирнее смажешь, тем лучше.
— Ну и силища, ну и звук!.. — говорит Константас. Мотор гудит, словно добивает кого-то ритмичным, упругим звуком, который ударяется о свод овина, отлетает, тает в перелесках, плывет над пустынными вечерними полями к большаку, где уже белеет первый иней. Только здесь, у овина, тепло от света, огня и гуда. Дрожит коробка передач. Кажется, кто-то огромными ладонями хлопает себя по плечам. Тихо падает снег.
— Завтра придется надевать сермягу, — говорит, глядя на небо, Константас.
Снежинки падают, липкие, большие, как платочки. Они быстро тают на одежде, на конских спинах, плавятся на черной поверхности мотора.
— Витаутас (так зовут Визгирденка), снег идет! Снег идет, видишь или нет? — кричит Юзукас, подлетая к двоюродному брату. — Завтра пойдем на коньках кататься. Пойдешь?
Юзукас протягивает руку, ловит падающие снежинки. Первое прикосновение зимы, влажное, холодное, липкое. Придет зима, и они, мокрые, разгоряченные, будут бродить по кустарникам, увязая по пояс в сугробах, сдвинув набекрень шапки, сняв промокшие варежки; придет зима и пришлет им праздничные инкрустированные открытки, дух свежего каравая, ретивые вьюги и ветер. По вечерам они будут кататься на коньках или плавать на льдинах. Вот почему Юзукасу так хочется влететь в овин, где люди задыхаются в пыли, и крикнуть: «Уже зима! Зима! Слышите? Выходите-ка! Выходите! Умойте снегом лица, изъеденные пылью!»
Падают снежинки. Во всю грохочет мотор. Только первого снега и не хватало.
— Светло, — говорит Константас. — Луна за тучами.
И все глядят на небосвод.
— Ты чего такой невеселый? — спрашивает Юзукас у машиниста.
— Я, что ли? — ерзает машинист. — Правду говоришь. Ноет у меня вот здесь. Езжу, езжу, по дворам, люди чужие, а спроси у меня, где мой дом, сам не знаю.
Юзукас молчит, потом вдыхает полной грудью воздух и говорит:
— Эх, будь я на твоем месте! — И на мгновение представляет, что сидит, вот так, на бревне, дрожа от грохота мотора, измазанный, покрытый пылью. Ах, где же тот мальчуган, который уставится на него горящими глазами, как на великого кудесника ночи? Где эта ночь, на каком краю света?
— И впрямь невесело, — говорит Юзукас. — Я вот подумал…
— О чем?
— О том, что ты очень, очень далеко отсюда.
— Правду говоришь, пострел. — И, помолчав, добавляет: — Значит, машинистом хочешь стать?
— Да ты только позволь!..
— Большого ума тут не требуется. Одна морока быть машинистом, вот что.
Как часто Юзукас слышит эту нотку усталости в голосе у взрослых. Стоит ему радостно броситься им навстречу, как его тут же обдают печалью.
— Видишь ли, — говорит машинист, — я к тому же еще и музыкант, а музыкант всегда один, без жены, как сапожник без сапог.
— Как Амбразеюс! — восклицает Юзукас.
— Никакого Амбразеюса я не знаю. Я издалека, из Жемайтии. Слышал?
— А где она, Жемайтия?
— У моря.
— Ух ты, у моря!
— Жемайтия — это Литва, — говорит машинист и в неверном свете пламени начинает чертить на снегу карту и объяснять, где что.
— Ясно. Теперь мне очень даже ясно. Это хорошо, что ты из Жемайтии.
— Из Жемайтии. Только скитаюсь я не со скрипочкой, а с мотором, да это, пожалуй, одно и то же. Никакой разницы, — говорит машинист.
— Ты уж скажешь! — выдыхает Юзукас. — Ты уж сравнишь. Говоришь невесть что.
— Тяни скорей, черт тебя дери! Ремень скинь! — рычит выбежавший во двор Визгирда, хватает коробку передач и бросается с ней наутек. В овине гаснет свет, мотор замолкает.
— О боже, милосердный! — стонет кто-то, уронив голову на стол. Среди снопов, там, где мужики кого-то волокут, стоит Константас и светит фонарем. Это Фелиция. Мужики выносят ее во двор, кладут на телегу, и телега катит с грохотом по большаку.
…Побелевшая, с раскрытым ртом, лежит в телеге Фелиция, и снежинки садятся на ее ресницы. Не зная, куда девать свои огромные руки, крутится среди мужиков Аполинарас. За его спиной багровеет пучок окровавленной соломы.
Ужас понемногу рассеивается.
— Может, легко ранило, — говорит Константас, и Юзукас вдруг вспоминает, что отец обещал завтра хряка прирезать. «Завтра пойдем на коньках кататься», — мелькает у него. Но радость, искрившаяся в его глазах, уже потускнела. Ему жалко Фелиции; Фелиции, которая стонет в тряской телеге; Фелиции, которая не раз одаривала его пригоршней земляники, крыжовника или вишен, хотя их строго-настрого запрещала срывать ее мать; Фелиции, которая так весело смеется и которую почему-то называют распутницей. Жаль и брата ее, Аугустаса, очень жаль.
На следующее утро он будет долбить носками ботинок, смазанных солидолом, тонюсенький звонкий ледок и оглядываться на белую крышу избы Кайнорюса, на восходящее солнце, на леса, оглядываться и думать о Фелиции. Нет-нет да и остановится, чтобы прислушаться: авось, снова застучит молотилка.
Разговор двоих в темноте. Беззвучный, только угадываемый. За стеной жует жвачку скотина, спокойно и мерно дышат дети, шурша тюфяком, переворачивается с боку на бок старая Даукинтене (она живет то у одних, то у других). У Криступаса в доме еще звучат голоса, молотьба в этих дворах закончена, но Визгирде сдается, что он не запер дверь. Потом он спохватывается: не мое уже это, мне-то что?
О чем ты думаешь? Почему ты молчишь? Столько лет мы прожили вместе, и дети уже выросли, а ты, кажется, так и не сказал мне ни одного ласкового слова, от которого на душе становится теплей. Войду, бывало, в хату, вконец намаявшись за день, вернусь с огорода ли, из хлева ли, от скотины, первым делом печку затоплю, квашню заведу, кручусь как белка в колесе, мальчугана одеть надо, накормить, а суставы так ломит, чувствую себя чужой, даже глаз не подниму, ничего не вижу, словно и не мое здесь все — и дети, и дом, и я сама. Лягу, бывало, спать и все на проселок смотрю, словно жду чего, может, думаю, кто придет… Иногда за всю ночь глаз не сомкну. За окном, глядишь, рассвело, утро, за стеной петух — хлоп крыльями, вставать пора, и будто голос Криступаса слышу, а порой вроде Казимераса, или мать все зовет, думаю, что-то стряслось или стрясется. И почему я должна себе голову морочить из-за них, взрослые, слава богу, не дети, а все-таки каждый заботит.
Штопаю, бывало, латаю мальчугану одежонку или еще что-нибудь делаю — всякие мысли в голову так и лезут, так и лезут. И такая порой усталость охватывает, такая слабость, прямо суставы ломит. И сама не ведаешь, что это — то ли мука, то ли счастье, только вся ты словно в адском огне, помрешь — не заметишь. Помню, Эльжбета, когда рожала, так страдала, а лицо сияло. Вот и не знаешь, мука это или счастье…
Визгирда смотрит в темноту. Думает. Эхом отзываются его мысли, отлетающим от свода овина, от крутосклонов и перелесков, окрашенных в алый цвет заката.
То, что ты называешь счастьем, — гадость. Мне, мужику, этого мало, слишком мелко это для меня. Взять Резёкаса — все бросил и ушел, и Путримас, и Криступас — все на распутье, меня, может, господь позовет, как отца, царство ему небесное, до австрийской земли дошел, покойник… По правде говоря, то, что бабе счастье, для настоящего мужика сплошная гадость.
— Ты что такое мелешь? Из пекла сбежала, что ли? Кто-нибудь из твоей родни там, право слово, в котле кипел.
Взять твоего брата Константаса. Разве он мужик? Только и знает: за женину юбку держаться.
Тишина и тяжелые вздохи. Тякле сложила руки на груди, он — сунул под голову. Мысли тихие, словно вода течет. Разве что зажурчат на стрежне и тихо вольются в омут. Давным-давно река мысли проложила русло, и никто его не изменит. Те же преграды встретятся ей на пути, те же извивы и отмели, те же откроются ей картины — потонувшие в дымке дали, отливающие смутным светом крутосклоны, подернутые туманом леса, звончатый крик журавлей; заросли орешника и скрип колес на пыльном проселке, а изредка — грохот телеги, спешащей на рынок по скованной стужей земле.
…И видится жене: стоит он на берегу, смотрит в воду, подтягивает сползающие штаны. Или сидит весной по вечерам на склоне и слушает, как соловьи заливаются. Что с ним? Над росистыми лесами плывет месяц, кочуют туманы. Остановится где-нибудь на краю луга и слушает — он позже всех ложится. Время бежит и бежит, пока не доберется до Великого Океана. Каждая волна штурмует свою преграду, то накатит, то снова отхлынет… Вода… вода и тени предков, мелькающие в ночи — все холмы и долины исхожены ими, засеяны, ощупаны. Тихим шепотом отзываются голоса, как аукнется, так и откликнется. Одна плоть, одна и душа, а ты думал: заговорит плоть — душа отзовется.
Сон не идет, и Визгирда сетует на себя: мог бы еще немного почитать. И лампу зажигать не надо — в комнате светло от первого снега. Светятся двери, стены, окна, светится белая печка, дрова… Тихо, только изредка доносятся песни и смех. Криступас водится со всеми, скоро дурного человека от хорошего не отличит… Что ты знаешь о добре и зле, спросил он однажды. Земля всех уравняет, все мы слепы. Ты говоришь, как пророк, сказал я. Все свысока, все так с важно, словно ты и не нашенский, а откуда-то издалека, словно ты гость, приехал нас уму-разуму учить, словно мы с тобой свиней не пасли, на вечеринки не хаживали, с одними и теми же девками не плясали. Правда, потом ты нас презрел, уехал и не захотел вернуться. И не вернусь, ответил ты, кто раз ушел, тот не вернется, но не чужой я вам. Шут тебя знает, кто ты, сказал я. Это Амбразеюс тебя с пути истинного свел. Меня? С пути истинного?! Это ты… только один путь видишь, а что прикажешь тому, у кого их тысячи? И власть, говорю, ты хвалишь. А мне сдается, она большую ошибку делает, обещая все на свете. Разбалует людей, обмякнут они и будут ждать манны небесной. Многое нравится мне, но и плохое есть. Люди всегда будут тягаться друг с другом. Что одному хорошо, то другому худо. Достатка во всем никогда не будет. Надо об этом говорить прямо. А нынче… все головы вперед устремлены. Что же нас ждет впереди? Старость, упадок, смерть. Чем же утешаться в беде? Кому-то вроде бы не доверяют, что-то скрывают. Но что скроешь, если все на виду… Терпеть — удел каждого, а нынче… об этом ни слова; что ни случится, мчатся друг к другу, крик, гвалт, жалобы. А праведников сколько, каждому правду подавай! Верно Криступас говорит: «Где ты, правда? Если у тебя не мои глаза, так чьи же?»
Не спится и Юзукасу. Он смотрит широко открытыми глазами в темноту. На противоположной стене мечутся отсветы пламени, справа светит окно. Юзукас прислушивается.
Вчера зарезали борова, и, кажется, визг его до сих пор стоит в ушах. Кровь хлынула из раны на ботинки, боров вырвался, пустился по полям, хромая и хрипя. Падает, снова поднимается, бежит от догоняющих его мужиков, а когда кидается в сторону, кровь хлещет из раны, словно из корыта. Багровая плазма, огненная жижа, багровый визг в только что убранном огороде, сосняке, за ригой… Раньше, бывало, прячусь, суну голову под подушку, а теперь смотри не смотри — хряка все равно прирежут, легче ему не будет. Выхожу во двор и гляжу, думаю: если мужики могут, смогу и я, пора привыкать, когда-нибудь придется и мне… А тебе не боязно? — спрашивает сестра. Конечно, боязно, отвечаю, и думаю: нет, не смог бы, не понимаю, как взрослые могут. И слез я у них никогда не видел. Недавно Аугустасу бревном ногу придавило — он даже не пикнул. И Фелиция ни одной слезинки не пролила. Не понимаю, как это взрослые терпят? Может, им не так больно. Меня только обзови или хворостиной огрей, сразу заплачу, а потом буду злиться на себя. Погоди, сказал Аугустас, и твое время придет. Я и восьми килограммов не выжму, а строю из себя бог весть кого, дескать, горы могу свернуть. Мы с сестренкой между рамами жуков давили! А если бы я отцу сказал, какие она слова говорит… Визгирденок крылышки у стрекоз отрывает, у кузнечиков ножки выдергивает… Они, говорит, сами их теряют… И впрямь сами; вот, смотри, оторванная ножка трепыхается, а кузнечик, глядишь, ускакал, и червяк, если его разорвать и на крючок нацепить, еще дергается в воде; Визгирденок и воронят из гнезда выбрасывает, а в чем они виноваты? Гадкие они, сказал он как-то. Сам ты гадкий, потому и видишь везде гадости. А он кричит: «Заткнись, бирюк!» Всем он придумал прозвища: я у него бирюк, сестра — жердяка, Альгимантас — легавый-шепелявый, никого по имени не называет, ходит, как петух, а попробуй задень — двинет чем попало, намедни так сдавил мне шею, что в глазах потемнело, думал, конец, отпусти, кричу, потом и кричать не мог, а он все равно давит. Может, ему приятно всех мучить? Будь я на месте Альгимантаса, я бы ему показал.
…Думаешь, им больно, сказал Альгимантас, вырвав у трепыхающейся рыбы глаз. Разума у них нет, не то, что у людей, ничего они не чувствуют; и псих ничего не чувствует, мертвый, почитай. А ты откуда знаешь, сказал я. Пескаря за живот вытащишь, а он по песку ползет, бороздку оставляет — так и знай, где эти бороздки, там пескари и водятся. Визгирденок выдирает крючок вместе с потрохами… А я кролика убить не могу; одна крольчиха, белая такая, шелудивая, шебаршила в соломе, детеныши у нее уже шерсткой обросли, посадил я ее на клетку, взял за уши, дал молотком по голове, потом еще раз, не сильно, чтобы не больно было, а она как метнется, как заскулит, поняла, бедняжка, что с ней сделать собираются, я-то думал, она мне глаза выцарапает, ан нет, вырвалась из рук, спрыгнула наземь, зашуршала, сверкнула красным глазом, и я будто услыхал: ты в мою клетку лазил, гладил меня, молоко в черепке приносил — интересно, почему кролики не лакают при людях? — неужели и ты такой?.. Вот что, по-моему, сказала крольчиха. Отшвырнул я молоток, бросился домой, сердце колотится, еле дух перевел, вбежал в избу и говорю: идите посмотрите… Мачеха нашла крольчиху около сарая. Сидит, бедняга, клевер жует. Ну, мачеха взяла ее за задние лапы и хвать о столб… Если бьешь, бей без жалости, сказал Альгис, двинь так, чтобы на месте… Я ни черта не боюсь, бац — и каюк. Он просто рвется к клеткам. Как отец, говорит Визгирдене, тот тоже зверьков изводит, силки понаставил, всех покалечил. Прикончил, кричит Альгис, вылезая из-за сарая с крольчихой в руке, она еще живая, подрагивает. Шкуру сдирай! Не понимаю, как они могут. Потом разрежут шкурку, жик-жик ножом по живой, кости, по пищеводу, вырежут «штаны», потом вспорют у хвоста брюшко, подденут палкой ноги, повесят и тянут шкуру за края, словно мешок для сушки сыра… Был в округе такой Пакштас, он с живых собак шкуру сдирал. Вой стоял жуткий, говорит Казимерас. Сдерет шкуру, вспорет живот и сунет руки в теплые, дымящиеся кишки. Ни дать ни взять — ожерелье, ну и сравнение он придумал. Когда-нибудь я повешу его Альгимантасу на шею. Ну, бирюк, держись, закричит он, а что он мне сделает? Ничего. Что это — всякие мысли в голову лезут и еще это сравненьице: «ожерелье». Порой бывает так: думаешь, ты первый что-то открыл, а глядишь, другой давно это знает, давно заметил это или что-то похожее, и диву даешься, когда о том же самом слышишь от других. Интересно — мысли у людей словно перекликаются; о чем думает один, о том же думают и другие. Невидимка, кричит сестра Визгирдёнка, чего с тобой в прятки играть, ты и так все время прячешься, и хвать меня крапивой по ногам. Эй, ты, жердяка, обзываю я ее, как Визгирдёнок, и голос у меня такой же, как у него. Нет, ты только подумай, говорил я однажды Альгимантасу, когда он разделывал тушку. Жил зверек, радовался, прыгал, скакал, а теперь, глянь, вон что от всей его красы осталось. А что, если и с людьми так? Зарыли — и человека как не бывало, только кости. А ты думал — не одно и то же, говорит Альгимантас. По-твоему, — иначе; по-твоему, — у человека разум? Все одно, никакой разницы, говорит Альгимантас, разделывая на росистой траве еще теплую тварь. Я стою под безлистым кленом, и по спине у меня мурашки бегают от этих слов и собственных мыслей. Как ты можешь так говорить, упрекаю я Альгимантаса. Все равно, отвечает он, та же смерть, что у кролика. Помню, схватил я комок глины и швырнул ему в голову. Как ты можешь… А что, разве неправда, ответил Альгимантас, стоя под мокрым безлистым кленом. Правду скрывать нечего. Иногда можно, сказал я. И твой отец, и Визгирда, все скрывают правду. Что же они скрывают? О какой ты правде говоришь? Я о трусости говорю, твой отец трус; вот как я отомстил ему. Если уж тебе так хочется правды, знай: ты сам кролик. Ну, бирюк, ты у меня еще поплачешь… А ты… ты скрываешь свою шепелявость, кричал я убегая, но Альгимантас уже меня не слышал. И хорошо, что не слышал. Он такой хороший, Альгимантаса я больше всех люблю, и так о нем сказать, реву я, сжимая кулаки. Ужас! Ужас! Какой я, какой… неблагодарный.
Через неделю от снега и следа не осталось. Визгирда снова отправился сажать деревца.
Долго он раздумывал, разводить сад или нет: земля никудышная, ничего не взойдет. Начало положил его мальчуган: посадил рябину, яблони, клен. Теперь Визгирда знай себе в саду хлопочет.
— Одержимый, — говорит Визгирдене жене Константаса, и обе смеются.
— Ты зачем копаешь? — спрашивает, держа коня за поводья, Казимерас. — Земля-то не твоя.
— А ты и рад.
— Да она у меня все соки высосала.
— Думаешь на печи отлежишься? Все равно придется вкалывать.
— Ну уж не так, как раньше. Заметил, как все мигом на молотьбу слетелись?
— А сколько намолотили?
Оба замолкают.
— Молотить пойдешь?
Визгирда словно не слышит. Только жик-жик лопатой по щебню. Изредка кирпич попадется или камень.
— Отцова изба здесь стояла, — говорит Визгирда. Голос у него, как всегда, обиженный, с нотками укоризны. — Тогда еще — говорит он, — надо было сад развести. Была у отца такая задумка. Росли бы здесь сейчас высоченные деревья. — Он поднимает кирпич, показывает Казимерасу и добавляет: — Глянь, как сохранился, даже не крошится. Еще на дусмянском кирпичном заводе обжигали. Раньше, бывало, если что делают, так надолго, не то, что нынче. Один бок у него в копоти — в печи сидел. Чего доброго, и ты руки над ним грел.
— Тьфу! — сплевывает Казимерас. — «Раньше да раньше», просто уши прожужжал.
Визгирда отшвыривает кирпич и снова принимается за работу. Казимерас стоит и смотрит, как он копает.
— Все равно тебе плодов с этих деревьев не собрать, не успеешь…
— Если бы все так думали, — говорит Визгирда, — ничего бы на свете не выросло.
— Иди лучше в колхоз, там все-таки трудодни насчитывают.
— А что я за него получу? Горсть половы?
В огороде жена Визгирды выкапывает мокрую свеклу. Туман такой, что в двух шагах ничего не видно. Чуть поодаль стоит Константене. Она прислушивается к разговору мужиков. Сейчас, когда власть ее кончилась, все на свете бесит ее.
Весело насвистывая, вертится вокруг риги Константас. Водрузил на крыше жердь — рычаг для подачи снопов устроит, и работа как по маслу пойдет.
— Иди молотить, — сидя верхом на лошади, кричит Казимерас.
На пашне грохочет трактор. Увязая в жиже, разбрызгивая грязь, он тянет за собой два плуга и две бороны. Надо проследить, сколько вспахано, думает Казимерас. Если к вчерашнему добавить то, что сделали сегодня, получится немало. На лошади такой кусок за неделю не вспахать. А, может, и за две.
Казимерас и сам не замечает, как лошадь пускается рысцой.
А трактор все тарахтит и тарахтит.
Визгирда прислушивается, оглядывается, бросает лопату и семенит в кусты.
Никогда он во двор к Ужпялькису не заходил, не наведывался к Казимерасу, Диржису, никогда своего поля не покидал. Потому-то ко всему вокруг — и к омуту, и к проселку, и к ивняку, и к рябине, багровеющей на краю поля, у большака, и даже к камню, вокруг которого вечно сидят деревенские мальчишки, — имя его и прилепилось.
Чалая поворачивает голову и смотрит на него спокойными глазами. В глазах понятливой скотины вся жизнь самого Визгирды: и тот день, когда он поднимал опрокинутую телегу, и то утро, когда тащился на базар с визжащими поросятами, заколоченными в ящики; и отсвет кручи Малдониса, когда он по вечерам, бывало, поил свою чалую лошадь в речке, и отзвук топоров, стучащих в пуще, куда он собрался за бревнами.
Визгирда гладит лошадь по крупу, хлопает по шее, треплет холку, смотрит, не трет ли сбруя. Лошадь поднимает переднюю ногу, и хозяин оглядывает подкову, щупает, дергает — кровь, гной… и бок оцарапан, даже шкура разодрана.
Чалая смотрит на Визгирду, круп у нее подрагивает, она словно ждет, что хозяин вглядится в нее, еще раз погладит, и от ее взгляда такая тоска захлестывает Визгирду, что он мотает головой и ругается на чем свет стоит. Вот гады! Как обращаются со скотиной! Может, уже загнали. Дармоеды! Попадись мне только, негодяй, я тебе покажу!
Он идет в кусты, лошадь за ним. Раздувает влажные ноздри, тычется в бок, жмется к нему. А цепь звяк-звяк… Тепло на лужайке, со всех сторон деревья, ни ветерка, хоть свечу зажигай. Только по тому, как мчатся облака и раскачиваются сосны на круче Малдониса, можно догадаться, какой ветер. Ребята приходят на лужайку греться. Это еще что такое? Кто это вздумал костер жечь? Вот я их! А что возле топи чернеет? Не сын ли Криступаса землю копает? Что, в другом месте червей нет?
— Чтоб духа твоего здесь не было! Чтоб я тебя больше не видел! — кричит Визгирда. Мальчуган вздрагивает и пускается наутек через кустарник. Весь лужок кротами изрыт.
Визгирда ботинком затаптывает землю, раскопанную Юзукасом, и переминается с ноги на ногу на вязком, заросшем потемневшей кугой берегу. Вода мутная, зеленая от травы и ила, ни одного карасика не осталось, а сколько их здесь по весне, в паводок!..
А вот полоска, вытоптали овцы; вот брод, сюда водит он корову на водопой; вот мостки, на них его жена белье полощет; камень, с которого они зачерпывают воду; ивы с разросшимся лозняком, срезать прутья даже Криступасу не разрешают.
Полоска земли, лоскуток, испокон веков хранимый в сердце, заговоренный от сглаза, ивнячки, облюбованные воробьями; камни; ложбинки. Даже птицы, залетающие сюда, ближе душе Визгирды, даже голос соловушки в его ольшанике звучит иначе, словно только для него заливается этот певун, только для него цвенькает качающаяся на ветке пестрая птичка. За ригой ежи целым семейством живут; Визгирда часто видит, как его мальчуган носит им в черепке молоко. Жаль, во время молотьбы вспугнули семейку. В прогнившем дупле по вечерам ухает сова. Даже лоскуток неба, нависающий над его глинистым пригорком, дороже ему, чем весь небосвод, даже звезды светят здесь теплей. А туманы, оседающие на его ложбинках, а теплая, дымящаяся земля, а комья глины, крошащиеся меж пальцев! Как хорошо идти босиком за бороной, подстегивать лошадь, сворачивать возле ольшаника, ссыпать картофельную ботву и траву в кучу, лемехом отвоевывать у кустарника на один вершок земли больше, чем в прошлом году, видеть, как твой мальчуган спешит, спускается с холма с обедом, завернутым в холстинку, как хорошо подхватить его под мышки, посадить на подрагивающую лошадиную спину, потрепать лошадь за ухо и сказать: «Но-о, чалая, но-о». Словно живой, дышит здесь тобою каждый ком земли. Глядишь, бывало, на деревья, и кажется: возносятся они от твоего взгляда все выше и выше, крепнут, затягиваются их раны и стройнеют стволы. Так ты глядел на своего мальчугана, на его непокорные кудри, на его руки и, когда видел, как он вразвалку топает к дверям избы и пытается дотянуться до засова, ты говорил себе: вот… вот, что такое любовь. Так ты глядел на свою скотину, на сбрую, на тягло, на избу, и бесконечная вера твоя и воля охраняли их от погибели.
Стоит сейчас Визгирда во дворе, смотрит на пригорок, где тарахтит трактор. За рулем сидит бойкий паренек, и боль искажает лицо Визгирды: боже мой, как пусто стало там, где прополз этот тракторишко, все вешки надела стер, выворотил все камни, кустарники, господи, какой жирный, какой черный чернозем открылся, какой багряный суглинок, а щебень еще теплый, еще дымится, как кишки прирезанной скотины, как выпотрошенные из куриного желудка камешки. Вольница здесь для земных ветров, холод обрушится на окна, затянет стекла, и не будет ни щепы, ни лучины, откуда их возьмешь, кожушок не набросишь на плечи, не сядешь у окна на студеной заре почитать газету. Есть, — слышится в избе твой собственный крик, от него звякают миски, а кошка, обнюхивавшая их, пулей летит под кровать. До чего же она запаршивела, твоя кошка, да и жена — страшилище, стоит посреди избы, на провалившихся половицах, ни жива ни мертва от твоего крика.
— Курвы! — рявкает Визгирда, глядя, как этот тракторишко въезжает в ивняк, и когда выезжает оттуда, ни одного деревца, ни одной ветки и в помине нет. — Курвы! — кричит Визгирда, хватает лом, мчится сломя голову и еще издалека размахивает им над головой. — Все отняли, а взамен что дали? Горсть половы! Чужие поля обрабатывать гонят! Курвы! — орет он, борясь со своей женой, которая пытается отнять у него лом. — Убирайся, а то как двину!
Бойкий паренек, гордо правивший трактором, не успевает выключить мотор, выпрыгивает из кабины и шмыгает в кусты, но Визгирда его не видит. Он стоит перед трактором, размахивает ломом.
— Езжай! Езжай! — кричит он грозно надвигающейся на него машине, но не отступает ни на шаг, не трогается с места, бац по ней ломом, раз, другой, спотыкается, летит под гусеницы, встает, замахивается еще, но тут подлетает Визгирдене, и одному богу известно, как она успевает оттащить его в сторону. Заляпанный грязью, Визгирда вырывается из жениных рук, снова набрасывается на грохочущее чудище, колошматит гусеницы, трубу, кабину, руль, трактор хрипит, как раненая зверюга, напрягает все свое металлическое тело, вдруг поворачивается, подпрыгивает на месте и — пуф, пуф, пуф, — замирает, глубоко увязнув в земле. — Ишь, гадина! — кричит Визгирда и все еще не может опомниться.
Только вдвоем — с двоюродным братом — Юзукасу разрешают лазить по всем закоулкам усадьбы и кустам. И вот удивительно: что бы Юзукас там ни делал — захочет, скажем, штуковину какую или деревце потрогать, — он всегда исподлобья глядит на Визгирдёнка, как будто спрашивает: можно, разрешаешь? И впрямь, от Визгирдёнка — от его безмолвного запрета или разрешения — в усадьбе зависит все. Он может в отцовых владениях сделать снисхождение, может и запретить. Уверенность течет в его жилах, она делает его жестоким и вызывает в других боязливое уважение. Эту боязнь чувствуют и сыновья Казимераса, весь надел которого — супесь да суглинки, чувствует ее и Юзукас, чей отец почти все промотал. Есть на отцовой земле и холм, и обрыв, усыпанный земляникой, и пруд, и плоский камень, обросший лишаями, на котором Юзукас любит сидеть и гладить рукой его грубую, шершавую, покрытую солью поверхность, а лишаи, сколько ни пытайся, ни за что не оторвешь; есть на отцовой земле и песчаный проселок, и покосившаяся ракита у реки, и луг, на котором весной бродят длинноногие аисты, выискивают лягушек; есть топь, обрывающаяся у брода Кайнорюса, — вязкая, кишащая пиявками, заросшая травой, закрытая от солнца ивами; есть березняк, но есть и Константас, который разгуливает с топором по этому березняку, ощупывает каждое деревце. «Свои, небось, не рубит, все к нашим подбирается», — долго еще будут звучать здесь эти слова. Но больше всего Юзукасу хочется, чтобы здесь было больше деревьев — берез, елей, сосен, а если б еще и дубов! Несколько дубков он и сам посадил, но когда еще они вырастут…
Отцу до всего этого и дела нет. Он не скажет: мой ольшаник. Он и знать не знает, где кончается, где начинается его земля.
Главное здесь — лужок, и начинается он у высокого тенистого обрыва, по которому, увязая по ступицы в песке, тарахтят в летний зной нагруженные сеном или клевером телеги. Есть там и родничок, туда три семьи с ведрами ходят по воду. Вода в роднике прозрачная, студеная, выпьешь — сразу взбодришься. Сколько бегал туда Юзукас со своими дружками! В воде, среди мерцающих листьев и облаков, узнавал он свое разгоряченное лицо, припадал и пил, пил, чувствуя, как ледяная влага холодит желудок. Утрет рукавом рот, переведет дух и снова пьет. И в воде блестят его глаза, и бьет из самых глубин земли струя за струей, и колотится, трепыхается маленькое сердце, и ноздри щекочет свежий дух родника. «Эй, ты, ненасытный, хватит», — кричат дружки. «Еще простынешь!» — слышится голос дяди Константаса, стоящего на обрыве, но его заглушает грохот телег с сеном, проносящихся над головой Юзукаса — тучами клубится пыль, садится на разморенные ольхи; телеги снова мчатся на луга и возвращаются битком набитые, скрипя несмазанными колесами, а вдали, за лесом, слышны как бы раскаты грома.
Одно дорогое воспоминание до сих пор не вянет в душе.
Он еще очень маленький, лет трех, не больше, сидит на прокосе и смотрит, как чуть поодаль мать сгребает сено. Темноволосая, в светлом платье, она торопится — то ли оттого, что вот-вот хлынет дождь, то ли оттого, что дитя не кормлено, то ли оттого, что спать ему пора. Идет она мимо с охапкой и говорит: «Подожди минутку, я сейчас… сейчас приду, сынок». Она успевает дотянуться рукой до протянутого цветка и взять его — не зря же Юзукас так старался. Этот стебелек и протянутая рука — единственная память о матери, обо всем ее облике, дрожащем в полуденном мареве.
Если Юзукаса не берут с собой двоюродные братья, он плетется за взрослыми, сторонясь только Визгирды и жены Константаса. Увидев, что Визгирда направляется к своим кустам, Юзукас тут же летит к Визгирдене. Куда тетка, туда и он, ходит за ней по пятам. В сарай — первый, бегом. Там, в сарае — сусек, откинешь крышку и в нос ударит запах скиландиса, хлеба, тмина, аира. Какой вкусный хлеб печет тетушка! Но Юзукас ходит за ней не потому, что голоден; стыдно, когда чужие кормят, не дай бог, чтобы кто-нибудь его угостил — малыш вспыхнет, зальется краской. Просто ему нравится, как тетка Тякле откидывает крышку, выпускает из сусека эти запахи, нравится, как она смеется, смотрит на него, разговаривает, нравится смотреть, как хлопочет у печки, месит тесто, скоблит дежу, и еще ему очень нравится, когда она зовет его по имени. Тетушка все время пропадает на огороде, срывает помидоры, щиплет укроп, ищет огурцы, выкапывает брюкву. Увидит, что Юзукас идет по стерне или картофельному полю, и еще издали кричит:
— Юзук! Юзук! — выпрямляет ноющую спину, смотрит, как он идет, и щурится от солнца. — Ты что это все время глаз щуришь?
— От света.
— Хочешь брюкву — выкопай.
От ее одежды веет травами и овощами, руки у нее спокойные и сонные, налитые теплой тяжестью земли. Иногда, словно ребенок во сне, шевельнется порезанный травой мизинец и снова отдыхает. Тетушка никогда не размахивает руками — теплые, ласковые, они не поспевают за словом. Другое дело руки жены Константаса, те словно прячутся от чужих глаз, все время в чем-то копаются, что-то указывают другим. У мачехи руки обидчивые, нетерпеливые, схватят что-нибудь, ощупают и тут же отшвырнут.
Сын Криступаса Даукинтиса рос без матери. Отец возил его от одних родичей к другим.
Первый раз отправился Юзукас в путь-дорогу, когда мать еще была жива. Они переезжали из города, где в первые дни войны разбомбило их домишко.
Юзукас сидит в кузове машины у матери на коленях. День светлый, солнечный, осенний, небосвод теплый и высокий. Дорога блестит, как бритвенный ремень. Мимо бегут желтые купы деревьев, над далекими холмами плывут тени облаков, но путников они не задевают. Мелькают пригорки, солнце опускается все ниже. Изредка лучи его вспыхивают в окне газика, который подпрыгивает сзади, или загораются где-нибудь вдали, на холме. По дороге — насколько хватает глаз — вслед за ними катит вереница крытых брезентом, битком набитых машин. Они обгоняют телеги, нагруженные мебелью, баулами, узлами. Юзукас видит лица мужчин, сидящих в этих машинах. Смеющиеся, прокаленные солнцем лица. Один высовывает из кабины голову и, размахивая руками, что-то кричит ему.
Юзукас жмется к матери и словно тает от ее тепла и ласки. Все образуется, все уладится, снова вернутся старые добрые времена, говорит отец. Взгляд его блуждает по окрестностям, где желтеют суслоны ржи, маячат усадьбы-отшельницы и деревья. Кончик папиросы незаметно подрагивает.
— Что ты такое говоришь, Криступас? — замечает мать, прижимая Юзукаса. — То, что было, никогда не вернется.
Отец все смотрит на дорогу. Юзукас сворачивается в комочек, льнет к матери, зажатый стульями и баулами. Его почему-то очень занимает, на сколько приближается и отдаляется газик, мечущиеся по холмам солнечные зайчики манят его, а длинная, крытая брезентом вереница машин даже немного пугает. Ему очень хочется увидеть конец вереницы, но как он ни вытягивает шею, конца не видать.
И вдруг в этом хрустальном сиянии полей, в этой разлитой повсюду благодати замельтешили какие-то тени, быстрые и подвижные. Юзукас увидел, как вдали, над холмом, там, где вроде бы чернел конец вереницы, в воздух поднялся земляной столб. Две-три тени с угрожающим гудением приблизились к ним.
— В кювет! — закричал кто-то. — Живо!
Он даже нахохлиться не успел, как тут же, за его спиной, брызнул свинцовый дождь. К счастью, дождь этот быстро прекратился. Юзукасу еще не раз доводилось ездить по дороге, когда матери уже не было в живых. Вдвоем, с отцом. Но то были унылые, слякотные дни — чернели обломки мостов, в руинах лежали города и не было никакой благодати. Отец все чего-то искал в городах своей юности. Но почти повсюду встречали его заколоченные двери, пустые, осиротевшие скверы, уныние. Бывало, остановится у какого-нибудь дома и говорит — здесь, Юзукас, была парикмахерская, здесь — кондитерская, там — ресторан. Многих слов Юзукас не понимал, от этого речи отца казались еще таинственнее. Возле одной темно-серой стены, зияющей глазницами окон, они простояли довольно долго — там была ткацкая фабрика, там когда-то работала мама.
Однажды на них с лаем набросилась собака, дверь открыл мужчина в пижаме и, утихомиривая рвущуюся с поводка огромную черную овчарку, пригрозил: «Спущу!» В другом месте сгорбившаяся настырная старушка с накрученными на бигуди волосами ласково улыбнулась и, радушно кивая головой, сказала: «Милости просим, господа, заходите». — «Сумасшедшая», — сказал отец, когда они спускались по лестнице.
Многие знали отца, частенько останавливали его на улице. Юзукас диву давался, откуда у него столько друзей и знакомых. Они встречались у домов со странными надписями, на перекрестках. Особенно запомнился ему темный, облупившийся, кирпичный дом с круглой оконной нишей, выходящей на асфальтированную площадь, за которой грохотали поезда.
Много лет спустя Юозас найдет этот дом, долго будет ходить по жалким коридорчикам, разглядывать комнату с прогнившими половицами, старую мебель, чувствуя на себе взгляд седенькой старушки, стоять у окна, где когда-то по утрам и вечерам, завязывая галстук, косился на площадь его отец. Седенькая старушка не выдержит и спросит, кто он такой. И когда он ответит, что когда-то здесь жил его отец, что-то выплывет из густого тумана ее памяти: да, да, жил такой, разговорчивый, франтоватый молодой человек, он потом навестил ее с двумя детьми — мальчиком и девочкой. «Значит, вы и есть его сын? Господи, жив ли он? А ведь я была на двадцать лет старше…» — скажет она и мелкими шажками, такими ходит старость, отправится ставить самовар. Сидя на старой софе с высокой спинкой и помешивая серебряной ложечкой чай, он почувствует прикосновение к чему-то до боли дорогому и попытается представить, как выглядела в те дни площадь напротив этих окон, какой видел ее по утрам отец, когда брился, какие пальто и платья носили люди, сновавшие по ней.
Всюду будет он искать следы отцовской юности, раскладывать старые, оцарапанные детскими ногтями открытки и фотографии; как бы предчувствуя, что смерч войны скоро пораскидает их в разные стороны, люди охотно снимались и обменивались фотографиями, выводили на них незатейливые слова и куплеты, непременно добавляя, что дарят «на долгую и добрую память», хотя не очень-то верили, что память эта и впрямь будет долгой, что сохранит она какую-нибудь черточку знакомого лица, случайное слово, жест или привычку старого друга, характерную только для него и ни для кого больше.
Разыщет Юозас руины и другого, разбомбленного, дома. Дом этот стоял недалеко от замка, где река, сделав большую петлю, ныряет в тенистую, заросшую дубами долину, оставив на западе голые холмы, усеянные домишками. Взгляд Юозаса все время будет притягивать огороженный двор заброшенного заводика.
…Около полудня на балкончике дома появлялась чернобровая невысокая женщина с ребенком на руках. Это и была мать Юзукаса. Она показывала рукой на тусклый песчаный проселок, петлявший среди запыленных садочков, и говорила, что скоро там появится отец. Приземистый мужчина выскальзывал из заваленного жестью заводского двора, щурился от солнца и по тусклому песку проселка шагал домой. «Идет», — говорила мать.
Ржавые жестяные крыши, лодчонки на берегу, плесы и ржавчина, кругом одна ржавчина. Ею пронизан воздух, тронуты деревья и, кажется, само небо. На запад от заводика тянулись холмы, сверкал крутой извив реки, переливалось голубое, бесконечное небо, испепеленное палящим удушливым зноем. На утопающем в зелени островке — красные, раскаленные руины замка, а вокруг дрожащее марево… Кажется, даже река неохотно катит свои воды. Какие-то всадники с саблями наголо когда-то вылетели из ворот замка, ускакали на запад и не вернулись. Такую сказку сказывала мать, и ребячью душу снедала неясная тоска. Юзукас отводил взгляд от голубого простора, впивался серьезными, любознательными глазами в мать, словно вопрошая о чем-то или умоляя: ну, пожалуйста, расскажи что-нибудь еще…
Трудно сосчитать, сколько женщин опекало Юзукаса, сколько лиц, расспрашивая, уговаривая, склонялось над ним, сколько рук совало ему игрушки и протягивалось к нему. То были руки, ненадолго оторвавшиеся от работы или от собственных детей. Бывало, Юзукас поддастся, шагнет навстречу, а их, глядишь, уже и нет. Так он будет обжигаться и позже, всюду натыкаясь на обманчивость ласки. Юзукас делал вид, будто ничего не слышит, не замечает. Сидит и возится с какой-нибудь дареной погремушкой. Много любви, много доброты вокруг, но где то плечо, к которому можно прижаться? В любви Юзукас будет неумолим — никакой неправды, никакой двойственности, особенно, если любовь бездушна и попахивает пошлостью. Большой и светлой, идеальной, — вот какой он жаждал любви. Он никогда не взглянет на будничное — всегда будет глядеть только на необычное.
В пяти семьях успел пожить Юзукас до семи лет. Шумом и гвалтом оглушил его дом дяди Повиласа, брата матери. Там каждый закоулок был обсажен цветами: тюльпанами, мятой, нарциссами, рутой. Как они пахли по праздникам, когда двоюродные сестры собирались на вечеринку!
Лица разгоряченные, руки торопливые, каждая из сестер поглядывает через плечо другой в зеркало, а их мать сидит в кресле, сложив руки на переднике, и глаза ее сияют добротой. «Скорей, сестрицы, скорей!» — кричит Але. Только старшая, Ангеле, не спешит, смотрит куда-то серыми глазами и с затаенной нежностью трогает росистую рюмку тюльпана. Голова ее своенравно склонена набок, тугим веночком уложены косы. «Ты что, не пойдешь?» — спрашивает Але и, схватив Юзукаса под мышки, крутит его, а потом чмокает горящими губами. «Фу, какой, все платье мне смял», — «Там еще не так сомнут». Ангеле и слова не скажет, сидит, и сумрак, запрудивший комнату, словно струится из ее глаз. Тот, кого она ждет, придет, когда совсем стемнеет. Придет и непременно стукнется головой о дверной косяк — уж очень он длинноногий. Ангеле почти с ним не разговаривает, услышит его шаги, рассмеется и тут же замолкнет. Лампу не зажигают, и в густеющие сумерки частенько врывается стук дождя и свист ветра — изба стоит на самой опушке леса. Когда тихо, то слышно, как за лесом-бором поет собравшаяся на гулянку молодежь, как плачет гармоника. И еще видно, как по вечерам полыхают летние закаты, как сполохи заливают холмистые дали и дороги. Все умещается в этих вечерах: и далекий писк трясогузки, и маячащая на пригорке, на самой развилке, одинокая береза, и узенькие тропки, и скрип калиток, и привычные звуки затихающей домашней возни.
Когда кавалер Ангеле уходит, Юзукас хватает тетку за руки — они то быстрые, то дрожащие от неожиданной радости, то усталые, словно желают покоя и себе, и другим. Войдет, бывало, коренастый, пропахший древесиной и прудом дядя Повилас. День-деньской он тешет дуги и полозья для саней. Войдет, молча снимет шапку, положит ее аккуратно на лавку и тянет руку к ложке. Ест аппетитно, медленно, изредка поднимет голову, спросит о чем-нибудь. Еда немудреная — свекольник. Свекольными листьями весь двор усыпан, крыльцо, даже порог. Их уминают и гусята, и свиньи. Юзукас, бывало, сидит на лавке или в постели и следит за тем, как тетка бродит по росистому огороду с мешком в руке и пихает в него ботву, а сам поджимает под себя теплые ноги. Юзукас с удовольствием хлебает свекольник. Навернет миску, встретится с бабушкой глазами, всегда что-то говорящими ему. Бабушка придвинется поближе и сунет ему в руки кусок рафинаду или какое другое лакомство. А то, бывало, вытащит откуда-то копейки и дает тому, кто в город едет, купи, мол, что-нибудь моему постреленку. О других своих внуках она говаривала: «У них родители есть, с голоду не умрут». Бабушка очень старая, она едва волочит ноги. Юзукас запомнит только ее беспокойные глаза в глубоких глазницах да шевелящиеся губы…
Сидящие за столом все понимают, но делают вид, будто ничего не заметили: усмехаются и еще ниже склоняются над своими мисками. Разговор продолжается, а тетушка, сияя добрыми глазами, приносит Юзукасу вторую миску свекольника. Здесь никто ничего ему не запрещает, но он — глядишь — стынет где-нибудь в уголочке, чтобы не путаться под ногами. Частенько наезжают гости. Они сушат мокрые сермяги и попоны, выпрягают и снова запрягают лошадей, и он не успевает разобраться, кто среди них свой, а кто чужой и приехал, чтобы дуги купить.
Этот глухой, затерявшийся среди лесов уголок будет жить в его памяти гулом дождя, паром мокрой одежды, мягкими ударами топора, запахами пруда и ракиты, тоненьким медоточивым голосом, окликавшим его по имени, когда все вокруг умолкало. То был голос Ангеле, все допытывавшейся, кого он любит, словно такое признание ничего не значит для ребенка; странно, но он никогда не сказал ей, что ее-то он точно не любит. Какие слепцы эти взрослые! Какие глупые! Ангеле разговаривала с ним, как с недоумком, хотя он все время отталкивал ее от себя и обиженно, морща лоб, кусал губы. Господи, как она его расхваливала: и ласковый-то он, и умный!.. Как мог защищался он от этой нежности. Было в ней что-то стародавнее, никому не нужное, заплесневелое. Должно быть, все домочадцы это чувствовали, всех угнетала и стесняла эта слащавость, навязанная Ангеле. Двоюродные братья откликались на все ласковые слова, с какими обращалась к ним сестра, они угождали ей непреднамеренно и что-то скрывали. Чуткий слух Юзукаса частенько улавливал в мужских голосах сладенькие нотки Ангелиного голоса, и ему становилось противно. Владыкой в доме был ее голос — здесь царил неписаный закон, завещанный всей родне умирающим отцом, которого уважали и в деревне, и в семье: дети должны быть внимательны друг к другу, помнить, что они братья и сестры, одинаково любить отца и мать и не уподобляться кукушатам. Завет отца здесь соблюдали свято. Когда двоюродные братья и сестры собирались в родной избе, они снова превращались в детей, и на них с фотографии на стене глядел их родитель, строгий, немолодой, с волевым подбородком и густыми волосами, сделавший все, чтобы под этой крышей долго не угасал согревающий всех огонек. Ангеле этим злоупотребляла — вот чего не предвидел покойный. Не предвидел, что над всем будет довлеть мораль старой девы.
Пространным был нравственный кодекс их рода, листали его чересчур богобоязненные пальцы, и он выцвел, стерся, пожелтел, пока не был совершенно растоптан одной из воспитанниц, удравшей с каким-то прощелыгой за тридевять земель.
Юзукас изо всех сил противился заплесневелому духу дома, однако слащавый, медоточивый голос Ангеле всюду настигал его, и он стеснялся, краснел, словно он не ребенок, а какой-нибудь преступник. Этот голос выволакивал его на свет божий, о чем-то допытывался, удивлялся его упрямству и снисходил к нему лишь тогда, когда все начинали уверять, что он и впрямь очень застенчив. Потом, забившись в темный угол, Юзукас удивлялся: какие они глупые, почему они сами так делают, что он весь краснеет от стыда, а потом поражаются, охают, ахают, словно им это нравится.
Слащавый тетин голос настиг его и тогда, когда он, уже подросток, лежал в холодной больничной палате и смотрел на заиндевелое окно, за которым неистовствовала вьюга. Вдруг кто-то побарабанил по по стеклу и несколько раз позвал: «Юзулюк!» Он не успел еще узнать этот голос, а его уже окатило волной стыда. Он увидел осклабившиеся лица своих друзей: Альбинаса и Панавиокаса. Они крутились возле него, а он стоял в больничном коридоре, кутаясь в серый халат, и смотрел, как тетя Ангеле роется в своей корзинке и вытаскивает оттуда заиндевелую банку меда, пирог…
Десять верст прошла она по завьюженным полям, в самую метель, чтобы увидеть его, а он, неприветливый, противный самому себе, стоял в оцепенении и, приноравливаясь к ее тону, лопотал какие-то ласковые слова, которые даже самые близкие никогда не услышат от него, а на другом конце коридора друзья строили рожи и шипели: «Юзулюк… Юзулюк…» Это имя, как насмешка, прилепилось к нему не на год и не на два, он услышит его в коридорах школы, оно долго не отстанет от него, порождая отчаяние, стыд, возвращая назад, к поре настойчиво навязываемой любви.
В той деревне остались порывы ветра, обжигавшего его раскрытую грудь, струи родника и студеные бурлящие речушки, гроздья спелой малины на лесных просеках и потрескавшиеся глинистые стежки; остались там и цокот копыт вспугнутого лося и лисьи норы, устланные желтеющей листвой, затишки на болотах и солнечные луга с порхающими мотыльками, высокие орешники, папоротники, вечера с неожиданно нахлынувшей прохладой, когда на дорогу падают желтые полосы теней и голос тети зовет его со двора на ужин; осталось и конопатое лицо соседского мальчишки, и льняные волосы двоюродной сестры, взъерошенные ветром…
Какая-то неведомая сила тянула их друг к другу. Бывало, набегаются или подерутся из-за какой-нибудь игрушки, а потом поднимут друг на друга глаза и стоят, молчат.
Когда дом пустел, чаще всего по воскресеньям, они усаживались с двоюродной сестрой в каморке и начинали что-нибудь мастерить. Юзукас пытался сделать себе машину из шестеренок стенных часов — она должна была молотить спелые ржаные колосья. В те минуты глаза его отчетливо видели поле спелой ржи и большак, по которому с базара или ярмарки возвращались родичи; а еще запали в память полыхающие яркими красками лета пионы под окном, и тюльпаны, и сухой треск пчелиных крылышек, и цветы ромашки, и васильки… Юзукас молча трудился с двоюродной сестрой под громкое тиканье стенных часов, почти не поднимая головы. Изредка он оборачивался, смотрел на курносый нос, своенравно сжатые губы, внимательные глаза, цепкие, проворные пальцы. Работа быстро надоедала ей. Она все отбрасывала в сторону и ходила по каморке надутая, словно кто ее обидел, и почему-то угрожала Юзукасу: погоди, мол, скажу отцу. «А что ты скажешь?» — «Что не хочу с тобой быть». — «А кто тебя неволит? По мне, езжай, куда хочешь. Езжай на базар, на ярмарку. Куда хочешь». — «В другой раз возьму и поеду». Юзукас пожимал плечами и еще ниже склонялся над своей машиной. «Ладно уж, не сердись, я тебе прощаю». — «Что ты мне прощаешь? Что я сделал?» — «Игрушку у меня отнял». — «Да что ты? На, возьми». — «Нет, теперь мне не нужно. Отнял и держи». — «Да ты сама ее сюда положила». — «Не стыдно врать? Смотрит мне в глаза и врет. Ох, и достанется тебе». — «За что?» — «За то, что врешь. Всем скажу, какой ты врун».
Потом они снова усаживались рядышком и принимались возиться со своими игрушками.
Услышав скрип колес, она выбегала во двор, но ни разу на него не пожаловалась. Это была честная и понятливая девочка. Но и она ни с того ни с сего начинала порой его донимать: почему ты на меня так смотришь? О чем ты думаешь? Скажи все-все, что в голову придет, стрекотала она и хлопала себя по коленкам. Иногда она смотрела на него такими глазами, что он чувствовал себя грязным и гадким. «А я все знаю, — говорила маленькая ведьмочка. — Ничего ты от меня не скроешь!» — «Я ничего и не скрываю». — «Вот и неправда». — «Не скрываю» — «Нет, скрываешь». — «Скажи, что не скрываю». — «Не скажу». Юзукас вскакивал и принимался ее тузить, но через минуту они снова беседовали как ни в чем не бывало. «Что ты снова на меня смотришь? Чего тебе надо? Подумаешь, большое дело, не хочешь — не надо, играй один», — и она снова делала вид, будто разобиделась.
Там, в светелке, где стояли старая прялка и большие пахучие шкафы, он слышал, как идет время — неровным, прихрамывающим шагом, на тонких, как ячменный стебель, ногах. Время как прыжок кузнечика или бездна тишины, бездна, в которой эхом отдавались звонкие медные удары… Открывались дверцы степных часов, и из дупла выскакивала кукушка; охраняемая двумя безмолвными гномами, она четыре или пять раз выкрикивала «ку-ку», потому что было уже за полдень, значит, скоро в доме начнется привычный гул и зазвучат голоса.
Иногда Юзукас и его двоюродная сестра так увлекались своим делом, что забывали обо всем на свете: сидели, прижавшись друг к другу, распутывали какие-то проволочки, откручивали шестеренки, и пальцы их то соприкасались, то отдалялись, но и этого они не чувствовали. Монотонное течение времени толкало их друг к другу. Ее волосы иногда касались его щеки, ее пальцы встречались с его пальцами, и Юзукаса захлестывало тепло, а во внезапно наступившей тишине появилось что-то страшное. Казалось, из всех углов кто-то смотрит на них и подслушивает. Нарисованные на картине ангелочки вдруг переставали плясать и застывали в ненатуральных позах. Вздрагивали губы у женщины на фотографии в черной рамке, и Юзукас чувствовал какую-то смутную вину. «Твоя мама все слышит и видит», — говорила девочка. «Ну и что?» — «Она знает, какой ты». — «А какой я? какой?» — «Скажу, только не сейчас, потом, когда приедут родители». — «Ты, как маленькая, все родителей ждешь». — «И ты бы ждал, если бы они у тебя были». — «У меня есть отец». — «Если он есть, почему он не приезжает? почему, а?.. Может, он забыл тебя? Может, он и видеть тебя не желает?» — «Мой отец не такой». Сухие желтые полосы полуденного солнца, мерцавшие на стенах, тускнели в мгновение ока, и Юзукас снова слышал, как идет время. Любопытство и насмешка вспыхивали в глазах его двоюродной сестры. А иногда, когда солнце светило в окна, глаза ее делались прозрачными, чистыми, как вода у брода: глянешь и увидишь мелкие зернышки ила на дне. Но частенько в ее взгляде мелькали неуловимые проблески страха. «Слышишь, как деревья во дворе шумят?» — говаривала она и добавляла: «Давай играть, чего ты замолк? Это вот колесико покрути… Смотри сюда, куда ты смотришь?»
Он видел ее шею, видел, как от порыва ветра за окном каморки дрожали, трепыхались тени листьев, смотрел на них и думал: вот-вот хлынет дождь, и будет тогда грустно и тоскливо.
Не в те ли мгновения вкрались в его сердце тайная печаль и ожидание? Шорохи и шум листвы и потом будут пробуждать в нем те же чувства.
В дождливые дни или вечера вся семья щелкала орехи. Хозяин, устроившись поодаль, принимался за резьбу. Когда он разжимал ладонь, перед домочадцами представал гномик с сердитым сморщенным личиком, острым носом и перекошенным беззубым ртом, грызущим орех. Все смотрели на него и почему-то думали о тете Ангеле…
Думал Юзукас и об отце, который нежданно-негаданно постучался сюда в один из вечеров, когда мужчины только что попарились в бане и щелкали в избе орехи.
Когда Юзукас шел с отцом к опушке леса, его двоюродная сестра сидела на пороге приклети и горько плакала, а их верный друг, рыжий щенок, жалобно скулил, бросался то к нему, то к ней и лизал ей ноги.
Позже, когда Юзукас приходил сюда или добирался до мелколесья, где возле пруда сереет глинобитный сарай и открываются, словно в огромном окне, глинистые холмы да гудящий, убегающий на восток большак, его душу всегда охватывала непонятная радость и тоска. Что-то похожее испытывал он в солнечные полдни, сидя на застеленной цветастым покрывалом кровати и глядя на отбрасывающие тень и стучащие в окно ветки смородины. Потому-то он всегда так жадно вдыхал запахи пруда и ракиты, запахи необъятного мира своего детства, похороненного под высоким, осеняющим эту усадьбу небосводом.
…И снова большак, лунное раздолье полей и неба. Соревнуясь с машиной, мчится луна. Мужчины стоят в кузове и поют. Поют о военных дорогах, разлуке, поют так, что кровь стынет в жилах и леденеют пальцы. Какая мощь, какая тайна! Нет таких высей, до которых не долетели бы мужские голоса, нет таких подвигов, которые не были бы мужчинам по плечу. «Еще спойте, черт бы вас побрал», — высунув голову из кабины, кричит шофер. Нет этой ночью человека важнее того, кто гонит свою машину на сумасшедшей скорости.
Возле леса на большак выходит патруль. Проверка документов. «Можете ехать», и опять шуршит земля, усыпанная кленовыми листьями. Те, кто проверяет, — с винтовками и в плащах, сверкающих в лунном свете.
Потом на голову беженцев посыплется стекло, раздастся крик из высокого окна: «Спасите! Убивают!» — и отец ворвется первым в подворотню, а когда вернется, на лице его и руке будет кровь. Юзукас не раз увидит, как он дерется и защищается — сын будет реветь над ним, лежащим на булыжнике, на лестнице, и не сможет понять, за что же отца бьют.
Тогда, залезая в кабину, отец сказал: «Никого не оставлял в беде и не оставлю». Иногда он бывал страшен и неумолим. Но как Юзукас гордился им, когда он первенствовал в мужской компании! Взять хотя бы те минуты, когда отец затягивал песню, положив руки кому-то на плечи.
Дальше они ехали медленнее, без песен. Отец сидел рядом, держа на весу обвязанную руку и вперив хмурый взгляд в одну точку. Лужки пахли осенней отавой; в тумане бродили деревья. Юзукас смотрит на отца, и ему так хочется защитить его от чего-то злого, неизбежного. Он спрашивает, правда ли, что луна будет гнаться за ними до самого города. «Правда, сынок», — отвечает отец. Там, в деревне, луна была совсем другая. Багровая, пропахшая туманом, она плыла над лесом, над лугом, где звякала цепью пегая кобылица.
Отец застегнул пиджачок, наброшенный на его худые, острые плечи, но холод все равно пробирал Юзукаса до костей.
Дорогу пересек поезд. Уже видны трубы, дымящиеся в кровавом свете восходящего солнца, и фабричные корпуса. Но здесь еще деревня, и росистые яблоки в придорожных садах отливают багрянцем. Старый человек стоит в подворотне и провожает их долгим взглядом. Потом потягивается и бредет к полю, с которого убрали клевер. Там возле мерно жующей коровы сидит женщина, и белые струи парного молока хлещут в подойник. Мальчуган в длиннополой сермяге с развевающимися рукавами пасет стадо.
Вот и город. Узкие, мощенные булыжником улочки, высокие ступени кафедрального собора, мастерские, заспанные лица… Но солнце уже греет его лицо, накаляет жесть на крышах, лестницы. День будет долгим и жарким.
В комнате, куда его, спящего, внесли, Юзукаса ждет чашка кофе и булочка, намазанная маслом, — он долго будет помнить запах кофе и вкус булочки. Потом он тонет в белой пуховой постели.
Сквозь сон он слышит, как отец прощается со всеми, Юзукасу хочется встать и идти, но он никак не может продрать глаза; чувствует острую боль, но не знает, что плачет; слышит только, как хлопнули двери. Чей-то голос заставляет всех умолкнуть. Изредка все заглушает грохот вагонов. Юзукасу кажется, что жарко, как в аду, и что дом скоро опустеет. Все собираются куда-то, и он во сне ждет, когда они уйдут.
Наконец он отваживается открыть глаза. Первое, что он видит, — сжатые губы и рука с накрашенными ногтями. Рука водит по губам чем-то красным. Рядом — серая согнувшаяся спина, это бабушка роется в шкафу. «А это подойдет?» — спрашивает бабушка, держа в руке какую-то растянутую одежонку. Юзукас смекает, что обе они, и бабушка, и тетка, отражаются в зеркале. Теперь тетка зачем-то размазывает по лицу розовую липкую кашицу. Скулы у нее выпирают немного, глаза большие, блестящие. К тетке протянут длинный ковер с красными краями, расстеленный на полу комнаты. У дверей висит какая-то одежда. Где отец, пронзает Юзукаса, когда он придет? Он смотрит на туалетный столик, губную помаду, гнутые острые ножнички, пузатый флакончик. Странные штукенции! Когда тетка уйдет, он примется их обнюхивать, ковырять и никак не сообразит, зачем они ей нужны.
Вдруг Юзукас замечает свою руку, она лежит на белых кружевах подушки, маленькая, грязная, в трещинках, как песья лапка. Он быстро прячет ее, натягивает до подбородка одеяло и чувствует, как горят у него оцарапанные осокой ноги, потрескавшиеся от бурой болотистой воды. Быстрыми, решительными, но легкими шагами подходит тетка. От нее пахнет духами, она наклоняется над ним, протягивает руки к нему, замурзанному, утонувшему в чужой постели. Тут как тут и бабушка. Обе ничего не говорят, только смотрят на него, но лица у них такие разные: холеное, пахучее, с блестящими глазами — у тетки, изъеденное морщинами, старое — у бабушки.
Юзукаса долго купают в белой ванне, трут голову, и руки опять разные: неуловимые, ныряющие в белую пену руки тетки и старые, медлительные — бабушки: притронутся к его телу и долго не могут подняться вверх.
И вот он сидит в высоком кресле, болтает ногами, изображая баловня, берет из белой тарелки черные; спелые вишни. «Ты чего ногами болтаешь?» — говорит тетка, и солнце, искрящееся в зеркале и на посуде, тотчас меркнет: за окном хлещет надоедливый осенний дождь, и мысли Юзукаса снова переносятся в поля, где ветер бьет в распахнутую грудь, где желтеют кустарники и увядают цветы. Юзукас задумывается, наклоняет чашку, и чай проливается на скатерть. Тетка шлепает его по руке, начинается ссора. Скрип стульев, торопливые шаги, шорох плаща. А виноват во всем он, хоть провались сквозь землю. «Не смей трогать ребенка! — кричит бабушка. — Ты меня не учи, я знаю, что делаю, семерых вырастила и тебя, милая. И его выращу!» — «Ради бога, прошу тебя, не заласкай ты его», — говорит тетка.
Хлопают двери, в комнату врывается дождь. «Ешь», — говорит бабушка. Ешь да ешь. Хочешь не хочешь — все равно.
Когда он остается вдвоем с бабушкой, она ему все разрешает, можешь хоть на голове ходить. Бабушка жарит блины, латает его одежонку или вяжет носки — на стеклах оседает пар, в горшках что-то булькает. «Сейчас она придет. Увидит… Это ее…» — говорит бабушка. Она — это тетка. А они с бабушкой, как заговорщики, всегда заодно. Иногда тетка и бабушка ссорятся. «Вот и поезжай в свою деревню!» — кричит тетка, и бабушка никак не может кончиком спицы попасть в петлю и вытянуть ее.
По вечерам Юзукас стоит у окна — когда же отец придет? — и смотрит на рельсы. По ним, разбрызгивая искры, грохочут ночные поезда-странники, мужчины в железнодорожной форме стоят на подножках, мелькают розовые, зеленые или желтые огоньки.
По вечерам в этом доме тихо звякают стаканы и тарелки: сюда приходит хозяин — низенький мужчина в комбинезоне, испачканном сажей. Он снимает возле печки рюкзак и вытряхивает из него уголь. Теперь за столом сидят трое. В печи ярится пламя, бабушка ставит на стол еду, а тетка толкует с хозяином о том, что работа у поездного кочегара вполне доходная, от службы в магазине тоже кое-что перепадает, — вот, это варенье, — тетка тычет замасленным ножом, — откуда, думаете?.. Лица горят, глаза темнеют, хозяин встает и ворошит угли («Хорошая штука — уголь»). По вечерам, смыв сажу, хозяин жадно откусывает белую булочку, намазанную маслом, косится на чужого ребенка, и тетка из кожи вон лезет, чтобы понравиться низенькому.
Поутру Юзукас и бабушка направляются на базар — старуха кутается в широкий платок, берет с собой плетеную корзину, пахнущую клубникой.
Мощенная булыжником улица то карабкается на пригорок, то срывается вниз, туда, где шумит-гудит просыпающийся город, исторгая из труб клубы дыма и пара. Юзукас останавливается у витрин магазинов, у фотоателье, там, в окне, выставлена и его фотография — жалобно смотрит на него почти незнакомый мальчик, дитя чужой любви, дитя бедности и лишений. Юзукасу почему-то стыдно смотреть на себя, он замедляет шаг возле молокозавода — серого здания с сырыми, будто ошпаренными стенами, дрожащими от гула сепараторов. В темном проеме дверей спортивного зала, Мимо которого Юзукас с бабушкой тоже проходят, порой мелькают боксерские перчатки или мячи. За воротцами рынка Юзукас видит старух, сидящих за столиками и зорко стерегущих груды фруктов, бидоны с молоком. Больше всего его привлекают серые жестяные банки со сгущенным молоком и ароматное мороженое, которое продавщицы почему-то зачерпывают ковшиком. Но бабушка болтает со старухами, словам конца нет, не до мороженого ей. Однажды Юзукас увидел, как в бабушкину корзину запустил руку замурзанный цыганенок да еще подмигнул ему, как сообщнику, своими черными глазками. Юзукас промолчал. Цыганенок с украденной булочкой шмыгнул в толпу и давай над ним смеяться, язык показывать. Каких только людей на свете нет!
Всякий раз, когда они, сделав все покупки, возвращаются через высокие заржавевшие ворота, из глубины сада, где стоит зеленый домишко с крылечком, выходит дебелая женщина и окликает их. Она торопится, тяжко ступая по садовой траве, и еще издали протягивает ему булочку. Вспотевшая, запыхавшаяся, в платье, запачканном мукой, она выносит ему пахучую, еще теплую булочку. Кто она? Почему каждое утро угощает его?
В долгие полуденные часы он пропадал на чердаке, в складике, где крепко обосновался. Старые тряпки, стулья, кресла, статуэтки, всевозможные механизмы — чего там только не было! Целыми днями он что-то чинил, высекал, долбил, вытачивал, не замечая голубей, влетавших и вылетавших через крохотную щель в крыше. Но Юзукас чувствовал, что где-то на железнодорожной станции или в старом порту, в пригороде, возле реки, эти его постукивания отдаются сухим негромким эхом, почти бесследно исчезающим в городском гуле.
«Теперь-то мы расстанемся, — сказала однажды тетка. — Завтра приезжает твой отец».
Полдня он простоял у окна. «Отец всегда отец, какой бы он ни был», — сказала бабушка. Юзукас молчал. Куда он увезет его теперь? «Поедешь домой, в деревню». Но он уже считал себя городским жителем, хотя дворовые мальчишки и называли его деревенщиной. Что он в городе увидел? Поезда, пароходы, пантер и львов в зоологическом саду. Юзукас хочет быть горожанином, хотя и охотно вернулся бы домой. Но где его дом? Только услышит слово «отец», и просыпаются самые сокровенные надежды. Будто кто-то наказал ему всегда ждать отца. Где бы он ни был, что бы ни делал, он должен ждать отца. «Отец всегда отец, никто его не заменит, — говорила бабушка. — Отец только один».
«Где покормят, там ему и хорошо», — сказал дядя. Ничего подобного! Ему хочется иметь дом, в котором можно делать все, что заблагорассудится, и в котором ни перед кем не надо лебезить.
Бабушка печет булочки, готовит еду, шьет одежду, ходит по магазинам. Когда устанет, сядет у окна, смотрит и вздыхает. «Поедем вместе». — «Куда я там теперь денусь? Позже приеду. Через год. Навсегда». Ее одежда пахнет кострикой, блузка застегнута проволочной булавкой со сплющенной головкой. Руки у нее старые: намается, пока что-нибудь нашарит. Бабушка очень добрая.
Вечером, когда деревья парка бросали на землю длинные тени, улицу пересекли двое — мужчина и женщина. Отца Юзукас узнал сразу. «Идет!» — влетел он с криком в кухню. Бабушка стала наводить порядок, собирать разбросанные вещи.
Больше всего ему понравилась блестящая бумажка, которой была обернута плитка шоколада, подаренная шикарной незнакомкой. Незнакомка эта все время поправляла пышные, светлые, нежные, как шелк, волосы и смотрела на прочих как-то свысока. Юзукасом она почти не интересовалась. Да и отец был совсем другой — бросил на софу кожаные перчатки и шляпу так, словно и ему чем-то здесь не угодили. Отец сидел, откинувшись на спинку стула, заложив ногу на ногу, и в разговоре почти не участвовал. «Разве тебе такая жена нужна?» — спросила бабушка, когда незнакомка на минутку вышла. «Может, и не такая», — ответил он. «А как ты собираешься ее одевать? Жить где собираешься? У нее что — квартира, свой дом?» — «Ничего у нее нет», — ответил отец.
«Когда твой папаша снова пожалует?» — посмеивался потом дядя.
«А откуда мне знать!» — отрубил Юзукас и подумал: а что, если тайком собрать свои пожитки и уйти куда глаза глядят?
Однажды — это было в дождливое утро, только-только забрезжило — какой-то человек приблизился к его кроватке. Юзукас открыл глаза и вздрогнул — на него смотрело заросшее щетиной, провонявшее сивухой лицо. С помятых полей шляпы капала вода.
«Вставай, поедем!» Но бабушка, стоявшая за спиной отца, стала ругаться — в такой-то дождь? «А вам какое дело?!» — огрызнулся мужчина, и только теперь Юзукас узнал его. Он наспех оделся и, уже направляясь к дверям, увидел, что бабушка пытается что-то всучить отцу: пригодится, мол, в дороге. «Ты возьми», — сказала она внуку. Но ветер уже распахнул двери и заметался по комнате, срывая со стола салфетки.
Так Юзукас оставил этот дом.
…Он видит себя в полночь — заблудился в выложенном кафелем коридоре. Под белыми круглыми колпаками горят большие лампы, свет их необычен, и самое страшное — у света есть запах, острый, вышибающий слезу. Юзукаса вдруг осеняет: да ведь это же запах порошка, которым посыпаны кафельные полы и белая посудина. Если потянуть за цепочку, с шумом хлынет вода, но что за штукенция, почему ему сказали «Если приспичит, беги в эту комнату», Юзукас и малейшего понятия не имеет.
Во всех комнатах тихо, только гудит этот белый свет в коридоре. Юзукас смотрит на него как зачарованный. Изредка сюда долетает далекий, устрашающий шум ночного города — это мчатся поезда, снуют машины. Юзукас стоит в задумчивости, потом опускается на пол.
Комната двоюродного брата завалена книгами. Это учебники по химии, естествознанию и географии. Юзукас с утра до вечера сидит и листает их. На полках — минералы с застывшими в них остатками допотопных животных. По мнению Юзукаса, это самые обыкновенные камни. Однако, если кусочек такого минерала поместить в колбу с жидкостью, то из колбы вдруг вырвется зеленый и красный огонь и повалит дым. Углекислый газ (CO2) — выводит двоюродный брат на грифельной доске. То и дело слышны слова: кальций, водород, кислород… К двоюродному брату частенько приходят дружки, все в зеленых фуражках. Это студенты. Они переписывают всякие формулы, спорят…
Иногда Юзукас берет кусок какого-нибудь минерала, прикладывает к уху и слушает сухой шепот атомов. Глухая тишина вселенной. Ледяное дыхание смерти. Двоюродный брат ходит как одурелый. Он все время в запарке. Даже за столом в одной руке вилка, в другой — книга. «Ты хоть бы поел как человек», — говорит ему мать. Она набожна, но о боге здесь и не заикаются. Двоюродный брат хохочет с полным ртом. Он еще кусок не проглотил, а уже в лабораторию летит. «Если эту штуковину, — он показывает Юзукасу крупицу вещества, зажатую пинцетом, — опустить в колбу, — и он опускает ее, шипение, фонтан огня, в воздух поднимается сухое облачко сизого дыма, — то получим… что? Что мы получим, я спрашиваю?» — и начинает в поисках ответа лихорадочно листать учебники.
Юзукас слышит здесь имена Галилея, Ньютона, Фарадея, Эдисона; он знает о том, что какие-то события произошли задолго до нашей эры, а другие теперь, в двадцатом веке, но ему, по правде говоря, не очень ясно, в каком веке — в двенадцатом или девятнадцатом — он приехал в этот город. А еще раньше была война, а в седой древности люди воевали копьями и мечами. Знания у него весьма приблизительные, но последовательные. Главное, он должен знать наизусть даты: когда изобрели винтовку, когда появился первый автомобиль, первый самолет или паровоз… Кто их изобрел? Имена изобретателей звучат, как заклинания. Что касается счета годов, то дела обстоят довольно скверно, а тут еще это слово «эра». Юзукас знает, кто первый упомянул Литву — здесь она с уст не сходит. По глубокому убеждению Юзукаса, Литва — самое большое государство в мире. Важно знать еще и то, откуда все берется, где начинается и где кончается. В лаборатории двоюродного брата все обретает иной смысл. Даже вода, помеченная здесь формулой H2O, и та как бы лишается запаха; она не из пруда, не из деревянной бочки; она — жидкое тело, которое может существовать и в твердом виде. Она может разлагаться на водород и кислород. Подумать только — этот газ и взрывается, и вырывается из пробирки.
«Ну, ты чепуху городишь. Вода, какое же это тело?!» — кричит Юзукас, чувствуя себя бесплотным. Двоюродный брат хохочет. Как полоумный. Ему поверить, так все состоит из атомов, из маленьких, невидимых глазу частиц, которые все время движутся. Движутся и движутся, вечно, без устали, всегда. Да, немыслимые вещи говорит его ученый двоюродный брат.
Мальчуган носится по комнатам, трогает все руками и спрашивает: «И этот стол из атомов? И стул? И камень? Все-все? Почему же они не отделяются друг от друга?» — кричит он и стучит кулаком по столу. «Кто — они?» — «Ну, эти атомы». — «Это твердые тела». — «Вот тебе на, опять тела. Почему они не разлетаются, эти твои атомы?» — не унимается Юзукас. «Для того, чтобы они разлетелись, нужны определенные условия». — «Значит, их вроде бы и нет, они могут совсем исчезнуть, превратиться в ничто?» — «Могут, — говорит двоюродный брат. — А после их исчезновения остаются формы и идеи в чистейшем их виде», — и он принимается чертить ромбы, кубы, прямоугольники. Это, если верить ему, идеальные формы. «Геометрия, понимаешь?» — улыбается он Юзукасу.
Юзукас чувствует, что есть еще и такие вопросы, на которые даже брат-всезнайка вряд ли ответит, и вопросы, на которые тот ответит, городя несусветную чепуху. Что-то он уже наплел, если хорошенько подумать. «Почему же мы эти тела видим, если они из невидимых атомов?» — спрашивает Юзукас.
Однажды двоюродный брат долго изучал рисунок «органа зрения» — глаза, где было показано, как в зрачке, словно в линзе, преломляются лучи и получается перевернутое изображение. «Вот такое, головой вниз», — говорит двоюродный брат. «Почему же оно перевертывается? — допытывается Юзукас. — И у животных оно тоже перевертывается?» — «Нет, только у человека». — «Почему?» — «У тебя все почему да почему. Откуда я знаю!» — сердится двоюродный брат. «Должен знать, если считаешь себя таким ученым». — «И узнаю». Но сбить двоюродного брата с толку не так-то просто — он огрызается, злится, ему хочется все знать, разгадать, объять. Он свято верит в науку, ходит по комнатам с книгой в руке и бормочет всякие слова. Носит очки, гоняет в футбол. Признает же только одно — науку! Наука вознесет его на недосягаемую высоту. Он и теперь там, на высоте, и смеется над всеми. Они — маленькие глупые людишки, слабые и жалкие. Зато материя — вечна.
По вечерам, когда, одурев от знаний и разговоров, Юзукас и двоюродный брат выходят из дому, мириады звезд сияют в небе над маленьким загаженным двором, а в высоком окне горит свет, и там, наверху, сидит закутанная в шаль мать ученого двоюродного брата и вяжет не поднимая головы, словно важнее всего на свете вывязать последнюю петельку, пока не раздался бой ночных часов и не сверкнула падающая звезда.
В спальню Юзукас пробирается через комнату далекого родича портного. Иногда, присев на табурет, он наблюдает, как тот шьет. Портной совсем еще молодой парень. Здесь все пышет жаром, пахнет паленым. Один бог знает, когда портной встает, он работает и работает — кроит, примеряет, шьет. Но Юзукас знает, что у него чахотка, что часть его легких омертвела, и в грозной тишине слышит иногда, как в отвердевших, словно минерал, легких, делая свое гибельное дело, кишат бациллы смерти.
И здесь Юзукас гостил недолго. В последние дни ему больше всего запомнилось зеленое, ровное, залитое лучами закатного солнца поле стадиона, где двоюродный брат, усадив его на забор, играл в футбол…
Тогда как раз проходил матч. Юзукас так хлопал, что ладони горели. Гол! Еще один гол! Ура! В воздух летят шапки, Юзукас подскакивает, поднимает вверх обе руки.
Под гром оркестра идет он рядом с двоюродным братом и несет мяч. На холодном осеннем ветру полощутся знамена, вдали, на самой кромке поля, сверкают крылья планеров.
— Ты когда-нибудь летал? — спрашивает Юзукас идущего рядом парня.
— Конечно, мы же планеристы. Могу и тебя снарядить в полет, приходи завтра.
Но завтра — хоть он всю ночь не спал, все думал о полете — этого завтра не было. Утром он шагал рядом с отцом по глинистому проселку и поглядывал на черное руно туч, заслонившее горизонт, на небо, где в струях ледяного света сверкали белые крылья планеров. Пронизывающий встречный ветер пробирал до костей.
«Больше тебе не придется уезжать из своего дома», — сказал отец. «Какого дома?» — хотел спросить Юзукас, но печаль сдавила ему горло.
Он мысленно видел прокуренную комнату — в ней праздновали победу футболисты. Юзукас не мог оторвать взгляда от капитана — вытянув длинные ноги на стуле, тот что-то жевал и вертел в руке мяч.
«Ты чего так смотришь?» — «Подари ему мяч», — сказала какая-то девица. Девицы крутились возле парней, сопровождая каждое слово хохотом, а Юзукас уплетал пирожные и конфеты, которые пригоршнями сыпали ему в карманы; это тебе не тетка, которая не спускала с него глаз и смотрела, как он ест, это тебе не бабушка, которая, боязливо оглядываясь по сторонам, разматывала косынку и выуживала оттуда копейки, здесь денег никто не считал, здесь всего было вдоволь, из бутылок с шампанским шумно вылетали пробки, гудели голоса, летали конфеты. «На, лови!» — крикнул ему через стол капитан, и мяч, описав в воздухе кривую, очутился в объятиях Юзукаса. «Ура!» — футболисты встали, выпили за нового «капитана» — чтоб, мол, вырос сильным и ловким.
Ах, если бы эти веселые ребята-футболисты знали, чем станет для него этот мяч, как он будет стукаться о его грудь и отзываться эхом, когда Юзукас приохотится играть в «квадрат» на запыленном школьном дворе или в сосняке, под боком у Визгирды!..
СТУДЕНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ
Пришла зима.
— Лужицы ледком затянуло, снежком припорошило, как мукой, — слышит Юзукас поутру голос дяди Константаса.
— Да и тот, как метелкой, с холмов смело, — добавляет Константене.
Так здесь заговаривают зиму. И никому она больше не страшна. Пришла, приковыляла, словно старуха, усыпала деревья морозными блестками, при виде которых у мальчишек загораются глаза. Но порой в голосах взрослых и нотки страха звучат.
Там, в городе, Юзукас видел бы заиндевелые локомотивы, клубы пара над ними, видел бы улицы; в чугунной печурке полыхали бы угли, а он вертелся бы вокруг бабушки, которая пекла бы блины. Но и старая Даукинтене уже здесь, вернулась в свою родную деревню.
Встает Юзукас поздно, когда чуть оттаивают окна. Слышит на рассвете шаги отца, голоса мачехи и бабушки; старуха все время норовит дать какой-то совет или наставление, и мачеха частенько ее поругивает. Не лучше со свекровью ведет себя и Константене. Юзукас слышит, как они говорят со скотиной, о чем толкуют, вернувшись из хлева или, отправляясь в поле; слышит, как в чуланчике глухо и размеренно гудят жернова — старая Даукинтене нет-нет да раскрутит их, приходит сюда муку молоть и ее дочка Тякле Визгирдене, тогда они вращают жернова вдвоем, наведывается и дочь Визгирдене, после нее за еще теплую ручку жерновов берется Константене и крутит, крутит, остерегаясь вырытой тут же, под ногами, картофельной ямы — яму давно надо бы засыпать, потому что она уже подбирается под самый фундамент избы, только некому взяться за это, к тому же и земля замерзла — так оправдывается Константас, которого почем зря честит жена. Взобравшись наверх, крутит жернова и Юзукас; потом придет молоть мачеха. И будут крутиться эти жернова, пока не занесет белой пылью весь этот чуланчик, их лица — нынче ужпялькяйцам кое-что за трудодни все же перепало. Дядя Константас высекает эти жернова из камня, во все стороны летят искры, а одежда дяди пахнет мукой, серой и камнем.
Юзукас все еще нежится в постели, когда уходит отец, одевается сестра.
Потихоньку, все еще огибая выныривающие из темноты пороги их жизни, струится ледяная река времени, в которой уже барахтается мачеха, его отец, сестра… Мачеха и сестра в отсветах печи чистят картошку.
— Смотри, как чистишь, — говорит ей мачеха. Тишина. Юзукас весь съеживается.
— Сказано тебе было — срезай потоньше!
Начинается. Уже пенится, бурлит злоба. Сестра что-то говорит, мачеха ей с лихвой возвращает. Слышно, как стукается об стол брошенный нож. Сестра скрывается за печкой, вытаскивает носовой платок и принимается, шмыгая носом, плакать.
До чего же ему все это надоело! Сколько раз Юзукас видел, как сестра сжимала пальцами мокрый носовой платок, как по ее щекам текли слезы. Нет, ему ее не жалко. Хоть бы плакала так, чтобы другие не слышали. Так нет, ходит по избе вся в слезах. Даже мать, кажется, смотрит на нее с фотографии с укором. «Сиротинушка!» — говорит Визгирдене. Сестра опять в слезы. Зато слез Юзукаса никто здесь не увидит.
На крылечке раздаются голоса — это Константас и его жена отправляются в хлев.
Сквозь незамерзшую щелку в стекле Юзукас глядит во двор — заиндевелые кровли, сосняк и ели на снежной равнине; на востоке занимается заря, из труб валит дым, и тает над светлым березняком серпик месяца.
— Уже декабрь на исходе, — говорит, возвращаясь из хлева, дядя Константас. — Пойду в баньку, дров принесу. Надо перед праздником выкупаться.
В баню они пойдут втроем — отец, дядя Константас и Юзукас.
Натягивая на себя широкие штаны двоюродного брата, он думает, как бы скорее дать стрекача, незаметно взять из сарайчика лыжи — и в школу.
Возле соснячка его уже поджидает Визгирдёнок.
— Подождите, сейчас лошадь запрягу, подвезу, — подтягивает подпругу Визгирда. Будут они ждать — на лыжах это тебе не на санях.
Как крахмал, хрустит снег; холмы как бы сами наклоняются и расстилаются перед ними, чтобы, подняв их на свои горбы, забросить как можно дальше, в долину. Если коченеют пальцы, ребята отшвыривают палки и пускаются бегом к большаку, туда, где их ждет Альгимантас.
Отец Юзукаса, Криступас, бывший полковой трубач, все еще отмачивает всякие шутки. Однажды в лютую стужу разделся догола, вытащил во двор старичка-фотографа, проявлявшего негативы, и говорит: «Сфотографируй», а сам забрался в сугроб, трет себя снегом, даже пар от волосатой груди идет. Пока старичок примерялся, торчал под черным покрывалом, Криступас весь обледенел.
— Надо закаляться, — сказал он Константасу, который был в валенках и переминался с ноги на ногу, и отправился дрова колоть.
— Я бы тут же какую-нибудь хворь подцепил, а ему хоть бы что, — говорил потом Константас.
— Железное у него здоровье, — поддержал его Визгирда. Без валенок, рукавиц, шапки-ушанки и кожуха он на двор ни шагу. Константас еще и ватные штаны носит. А Криступас полуголый, в летней фуражке расхаживает в самую злую стужу, и ничего — ни кашля, ни насморка.
Без Криступаса нигде не обходятся. Всюду он выкидывает коленца. Недавно на вечеринке у Ужпялькиса обнял Сиргедене, мужеподобную бабу с тяжеленной ручищей, прославившуюся тем, что всю жизнь со своими пожитками кочевала от одного мужа к другому и при этом всякий раз объявляла, что наконец нашла золотого человека: трудяга, а уж какой порядок да хозяйство! Однако не проходило и недели, как она снова прилетала назад, ругая на чем свет стоит своего последнего избранника. Теперь, мол, одна буду жить. Покрасит, бывало, Сиргедене плетень, ставни, а через некоторое время снова заколачивает их, перебирается к своему новому мужу и… возвращается назад, возбудив очередное дело о разводе и предъявив иск о возмещении понесенных убытков.
Так вот, Криступас обнял эту женщину и затянул:
Но еще больше все удивились, когда по деревне пошла гулять весть о том, что он к Сиргедене захаживает.
— Может, ему только такой бабы и не хватало, — подвел итог Визгирда.
Зима, эта щепетильная, ласково призываемая старушка, теперь превратилась в бабу-ягу: шлет метели, снег, пока не выбьется из сил. Середина зимы. Днем солнце взбирается на небосвод, чтобы оглядеться по сторонам, посмотреть, хорошо ли снегом укутаны холмы и равнины. Лютует стужа, трещат заборы. По вечерам, запирая хлева, ужпялькяйцы слышат тихое мычание скотины, видят ее испуганные глаза. По ночам скулят собаки и воют волки. В печах долго полыхает огонь.
Теперь в деревне пора зимних работ. Вот Анупрас идет в сарай с набитой сеном корзиной; вот лошади обнюхивают у колодца обледеневшее корыто, вот Анупрене несет охапку промерзших выстиранных покрывал. Над полыньями у брода клубится пар.
Бригадир Казимерас Даукинтис стоит на холме и озирается. Работы кончены, можно и передохнуть.
На днях, пьяный, он полез в драку. Четверо мужиков с трудом привязали его веревками к кровати. Веревки врезались до костей, и теперь суставы ломит. Глаза Казимераса просто сверкают от ярости, на некоторые усадьбы он даже смотреть не может. Охваченный бешенством, он как на крыльях летит к брату Криступасу: хоть в карты поиграет. Да он бы еще не так летел, только бы подальше от такой жизни и от своей жены, которая все пилит и пилит его. А какого черта? Чего ей не хватает? Он и в польском плену горя хлебнул, с голоду всяких зверьков и ворон ел, но даже там ему было лучше.
Зверьков он ловит и сейчас. Во всех перелесках расставлены его силки и капканы. Каждый день он ходит их проверять. Дичь — большое подспорье для семьи. Находит Казимерас и другие источники существования: рыбачит, плетет сети, сучит веревки, катает валенки, выделывает шкурки. Скатанные им валенки никто из родственников не носит: для своих такие катает, что они через день-другой расползаются, а вот жители округи не могут на них нарадоваться. Вот и пойми этого человека: сколько раз его брат Константас срамил, ругала сестра Тякле — ничего не помогает. Из первосортной ее шерсти катает валенки для других, а для нее — из отходов, и то надо еще ползимы прождать, а когда сделает — только ткни пальцем и… насквозь.
Весь день Казимерас просидел у окна, глядя, как ветер гонит по большаку снежную пыль. Сидел и думал о своей горемычной доле. У печки тихо хлопотала жена. С утра по большаку шли и ехали люди — кто на базар, кто в костел, кто в лавку, и снег пылил из-под полозьев, из-под конских копыт, из-под валенок; снежная пыль клубилась над долинами и взгорьями, застя бледный диск солнца, которое стыло над озерами и пущами. Множество их, знакомых и незнакомых, прошло мимо его окна. Женщины, которых хлестал ветер и обжигала стужа, в прилипших к ногам юбках шли, словно их гнали, и косые лучи солнца вонзались им в спины.
Время от времени думы Казимераса прерывал стук топора — это старик Людвикас, живший по ту сторону большака, колол дрова. Зазвонили колокола — поначалу маленькие, потом большой, и с каждым их ударом казалось, светлеет день и небосвод становится выше. Солнце, достигшее зенита, чуть склонилось к западу, удлинились тени… Вернулись с покупками те, кого Казимерас видел на большаке утром. Морта, Анеле, Мария… Бывало, поют на вечеринках, обхватив друг дружку за талию, раскачиваются в такт, хохочут; веселые они были и шустрые, а теперь попробуй заговори хоть с одной — облает из-за какого-нибудь валенка, загубленного зверька, незаписанного трудодня или вообще безо всякой причины.
Чтобы никто не мешал ему размышлять, Казимерас выгнал детей во двор, но жена как назло не переставала хлопотать у печки — то ворошила угли, то переставляла горшки. Есть ему не хотелось; его совсем не волновало, что она там делает — варит ли, жарит ли, а может, просто так стучит-бренчит, ждет, когда он отзовется. Но он не станет откликаться, пусть себе стучит.
— Иди есть, чего расселся? — она поставила на стол миску с супом.
— Спасибо, не хочу, — ответил он с тоской в голосе.
— Что ты сказал?!
— Спасибо, говорю.
— Ишь ты, какой вежливый. Будто из другого теста. Еще благодарить будет!..
Вот и поговори с ней! Уперла в костлявые бока руки, сама в саже, юбка грязная, в глазах угольки злости так и пылают. А раньше, бывало, Казюк да Казюк. Глаз оторвать не может, что бы он ни делал, ее взгляд на себе чувствовал, смотрит, словно сто лет не видела.
…Уходил он из ее приклети во время сенокоса поутру, когда солнце, спелое, сочное, как непочатый плод, висело над перелесками, казалось, протяни косу — и дотронешься до него. Казимерас брел по росистой траве, закатав портки, и на каждом шагу, в каждом прокосе жила мысль о ней. Он старался скосить как можно больше, чтобы она, придя, удивилась — ой, как много скошено. Когда она приходила, трава в прокосах уже была сухой и стрекотали кузнечики. Усаживались где-нибудь в тени и ели. Казимерас видел ее икры, тугие, загорелые, видел, как она смущается. А сейчас так сморкается при нем, не дай бог. Но может быть, у него тогда другие глаза были и видел он по-другому. Какая усадьба у ее родителей была! Когда Казимерас с ее братьями, встав в кружок, по вечерам затягивали песню, эхо откликалось на другой стороне озера. А теперь она годится только на то, чтобы воробьев пугать, настоящее пугало — бери и ставь на грядку. Качается-гнется, как былинка на ветру. Вот что делает время. Все меняется, ничего не остается… Так размышлял Казимерас, вытряхивая пепел из трубки.
Он попытался было плести сеть, но только сломал челнок.
— Пойду, — сказал он и снял с гвоздя шапку. — Пусть хоть ветром обдует.
Ветер студеный, упругий, просто рвал из рук дверь. На крылечке его встретила рыжая сучка. Скуля и повизгивая, она бросилась к хозяину, словно бог весть сколько прождала, пока он выйдет, и такая привязанность светилась в глазах собачонки, что Казимерасу даже грустно стало. Если бы с ним что-нибудь стряслось, никто бы его так не пожалел, как эта собачонка, выла бы по ночам, не находя себе места, нюхала бы следы и предметы, к которым прикасался ее хозяин. Любит Казимерас эту сучку, но все равно накинет ей петлю на шею, когда ему надоест закапывать щенят. И шкурку снимет, которая, если ее хорошо выделать и натянуть, будет звенеть на маевках, свадьбах и дожинках.
Казимерас постоял во дворе, заглянул в сарай — может, хорек приманкой соблазнился, но нет: капкан пустой, только вонь во всех углах.
На балках сидят голуби, и их теплое, домовитое воркование не утихает даже в такую стужу.
выводит Казимерас свою любимую песню, взбираясь по лестнице, приставленной к балке. Лестница соскальзывает, но, падая, Казимерас еще успевает прокричать начало третьей строчки куплета «прискака…» и сильно прикусывает язык. Потирая ушибленное колено, он ковыляет к телеге, ругается, но мелодия песни по-прежнему звучит в воздухе: кто-то поет ее звонко, сильным голосом, и голуби щурят пронизанные светом глаза.
Когда Казимерас, прихрамывая, выбирается из сарая, солнце, заиндевелое, хрупкое, как стеклянный диск, повисает над усадьбой Накутиса. Казимерас на минутку задерживается на холме — на прорезанный лыжней склон уже ложатся тени, но перед закатом солнце еще бросает на долину пучок своих лучей: там все горит и сияет — сосняки, заснеженные кручи, леса.
Может, надо было сходить в соснячок, думает Казимерас, капканы проверить. Но нет, не стоит, пока доберешься до лесочка — солнце сядет и ударит мороз… «А то, что какая-нибудь зверюшка будет метаться в петле, тебе не важно?..» — говорит чей-то голос, не жены ли, и Казимерас как бы видит под сосенкой в сугробе мечущегося зайца. Снег вокруг вытоптан, верхушки деревцев сломаны, тропинка усеяна серыми плотно спрессованными катышами — это все, что остается от заячьей жизни.
Казимерас сплевывает и, услышав, как, падая на снег, прошелестела слюна — вот это морозец! — ускоряет шаг.
Стоя на холме, который назывался Кябяшкальнис, по сторонам озирается средний брат Казимераса Константас. Он в сермяге, в шапке-ушанке, шея обмотана шарфом. В одной руке у него бачок с керосином, в другой — мешочек с солью. За пазухой ворох газет. Константас возвращается из местечка, окна которого светятся на холмах, отражая лучи солнца. Брат Казимерас уже окинул взглядом усадьбу Малдониса, расположенную по ту сторону реки и увидел, как скотник Анупрас с корзиной в руке вошел в сарай; теперь взгляд Константаса зацепился за собственную избу. Сарай вроде бы заперт, стежка к хлеву пуста, но двери… Константас щурит глаза, — двери, кажется, настежь. Там, наверное, возится его Кастуте. Только бы она на крышу хлева не полезла, не дай бог лестница пошатнется!.. И коса вроде бы на месте висит. Каждую минуту в голове Константаса роится уйма бед, он смотрит на свою избу, и лицо у него такое, словно его вот-вот исказит ужас. Всюду его Кастуте подстерегают опасности, она все время чего-то не замечает, и если бы Константас постоянно не предупреждал ее, с ней бы давно стряслась беда. Потому-то он и следует за ней по пятам и выкрикивает: «Куда лезешь? Ты что, не видишь? Осторожней, смотри, корова боднет!..»
Живут они теперь тихо-мирно, никуда не спешат, детей у них нет, да и хлопот по дому не бог весть сколько: корова, несколько поросят, овцы… Константас все делает медленно, словно хочет продлить каждую работу или занятие. И хлев он построил чуть ли не в полверсте от избы, а баньку — еще дальше. Пока сходишь туда, пока сюда, глядишь, уже и вечер. Да и день-то больно короток, любит рассуждать Константас, навестив соседей. Только по весне дни станут длиннее, начнется сенокос, потом надо будет жать рожь, возить, молотить, и, глядишь, надо идти в хлев с фонарем. И этой зиме уже недолго гостить. Что у нас теперь? Февраль. Солнце с каждым днем все выше: вот настолько, на ладошку, скоро наступит равноденствие, а с ним и весна.
Недавно отелилась их корова, через месяц-другой появятся ягнята, тогда двери избы будут постоянно открываться по ночам. Светя себе закопченным фонарем, Константас и Константене в вьюгу и стужу будут ходить в хлев, долго хлопотать у кормушек, поить новорожденных молоком, поправлять их подстилки и разговаривать друг с другом. Ткнется в бок корова, повернет к ним мокрую морду теленок, и из глаз его будет струиться тепло. Другие бабы даже завидуют Константене, которая знай расписывает преимущества своей жизни: мол, что толку от детей, одно горюшко. Вырастишь — упорхнут, как воробьи, только их и видел, говорит она, так поворачивая разговор, чтобы ни у кого и сомнения не осталось: дети ей и вправду не нужны. Не терпит, мол, их, и все. Константас в такие разговоры не вмешивается, отводит глаза в сторону, словно боится не только соседям в лицо взглянуть, но и вообще что-нибудь увидеть. Во всем поддерживает он свою жену, но в этом с ней не согласен.
Константене все делает не так, как другие деревенские бабы. Она в другое время и скотину кормит, и отдыхает, и огород полет, и одевается лучше, по-городскому. Под низким закопченным потолком ее избы колышутся, позвякивая, хрустальные подвески. У Константене огромный, сохранившийся еще с царских времен самовар, серебряные ложечки, несколько хрустальных рюмок, какие-то фарфоровые безделушки, стены увешаны картинами, буфет из дорогого дерева с резными львиными лапами… Многое поражает гостя, когда он впервые попадает в их избу. Диковинные вещи сразу же бросаются в глаза. Поймав взгляд гостя, хозяйка принимается рассказывать, какая мебель стояла в комнатах господ в Петербурге, у которых она служила. Разговорившись, Константене невольно начинает подражать господским манерам, разыгрывает какую-нибудь сценку, представляя то того, то другого.
Если хотите, она расскажет вам о первых днях революции, с ее уст слетят имена царей: Николая, Петра Первого, его сестры Софии, похороненной в Новодевичьем монастыре, царицы Екатерины или Александра. Вы услышите от нее о византийских временах, о Константинополе, о древнем Риме, Иуде, Понтии Пилате, Каине, Нероне, услышите и рассказ о Иове, сверкнет вифлеемская звезда, указывавшая путь трем царям, направлявшимся с дарами к младенцу.
Однако, когда темень окутает все предметы в их горнице, вдруг наступает глухая тишина и долгими становятся паузы между словами. Выждав, пока бабы управятся по хозяйству, Константас и Константене отправляются в гости. Один вечер проведут у одних, другой у других…
Пора и на боковую, скажет Константас, покосившись на часы. Но Константене вспомнит еще какую-нибудь историю, а между тем Визгирдене накроет на стол, Криступене убаюкает своего ребенка, старая Даукинтене постелет свою жесткую постель, и чьи-то детские глаза будут вглядываться во тьму, различая какие-то призраки, явившиеся из глубины веков. Каких только ужасов нет на земле, чего только не случилось за долгие столетия! И хорошо, что этот пытливый ребенок, всматривающийся в темноту, живет в теплой избе, где в печи дотлевают угли, где беззаботно щебечет его братишка; хорошо, что есть на свете уверенный, оберегающий тебя от всех напастей голос отца…
Так эти люди ходят по вечерам к соседям, увязая в сосняке в глубоком снегу.
Жена Константаса — это не Криступене, которая постоянно спешит куда-то. Каждый жест этой бойкой бабы словно вызов. Константене смотрит на нее и диву дается: «Уж как хватанет!.. как заорет!..» Не похож на своего брата Константаса и Криступас: каждый порог он переступает с шумом, со всеми он знаком, куда ни пойдешь — всюду он. Константас проскользнет как тень, долго переминается на крылечке, долго обвыкнуться не может… Слова у него редкие, словно старательно отмеренные зерна истины. Он любит наставлять, предостерегать, чуть что — поднимет палец: «Это не трожь, сгоришь, я вижу, даже не думай, у меня своя голова на плечах, знаю…» Всюду он сеет семена своей правды, только нигде они почему-то не всходят. Мудрость его какая-то безжизненная, шуршащая, как полова, людям больше по душе другая правда, та, которую выкрикивают сытые, горластые мальчишки, та, о которой говорят довольные лица хозяев и откормленная скотина, а правда Константаса будто ветром продута. Что бы Константас ни говорил, никто ему не поддакнет и не возразит, поэтому он должен то и дело поднимать вверх свой предостерегающий перст и повторять одни и те же слова. Мало-помалу, он освоил искусство убеждения, но по достоинству это оценить могут только те, кто совершенно не знает Константаса. Поэтому-то он и любит бывать там, где может застать врасплох залетного гостя, ни разу его речей не слыхавшего и не знающего, как ужпялькяйцы живут. Главное в жизни Константаса — истина, мудрость, а ее за долгие годы размышлений и сомнений он накопил много. Константас, скажем, никак не может взять в толк, почему тот поступил так, а этот — этак, почему надо было ссориться, сердиться, почему нельзя было по-хорошему… Всюду он видит какие-то безвыходные тупики или неправедные пути-дороги, все ему кажется клубком противоречий, и не потому ли жизнь от него требует столько замечаний, предостережений и комментариев. Послушать Константаса, вывод один: вот если бы он там был… если бы! Но почему его там не было? Кто расставил этому человеку такие силки: вечно он тусклый, как тень, сторонний наблюдатель, пытающийся вставить хоть слово, и его просто нельзя не заметить. «Я никому не мешаю, — обожает говорить он, — и мне никто не мешает», — но прозвучавшая в его голосе жалобная нота свидетельствует о том, что ему все-таки мешают.
Уже давно его имя ужпялькяйцы используют как сравнение, оно чуть ли не в пословицу. Только и слышно: «Константас… как Константас… не будь Константаса… говоришь, как…» Куда бы Константас ни шел, что бы ни делал, все «как»; эти «как» словно уголья, поэтому человек здесь даже ступать должен осторожно. «Но в чем он виноват, чего вы от него хотите?» — кажется, выпалит, не выдержав, Константене. «Ничего, ровным счетом ничего», — ответят невидимые насмешники, а она протиснется сквозь толпу и ему проложит широкую дорогу.
В воздухе слышится глухое потрескивание: на реке ломаются льдины. «Это под ракитой, которую мы с Криступасом на днях опустили в воду, чтобы ее не разорвало, потом, если примерзнет, зубами не отдерешь, — думает Казимерас, приближаясь к дому Криступаса. — Эх, сколько бы я из этой ракиты башмаков сделал…»
Сработанные Казимерасом деревянные башмаки стучат по чистому льду заводи, где собрались дети. Мальчишки гоняются друг за другом, катаются на коньках, дерутся. Среди них и младший сын Казимераса Альгимантас. Он долбит прорубь. Видно, не шибко умаялся на молотьбе. Ватничек его облеплен половой, в пыли, за ушами и на шее сереют две ее полоски. Мутные капли пота катятся по щекам. Он вкалывает так, что пар идет. Но волосы аккуратно зачесаны, впереди — волна. Изредка Альгимантас что-то вспоминает, весь пунцовеет и вдруг как долбанет киркой изо всех сил по льду — вода заливает одежду, которая тут же твердеет как жесть. Так он пытается заглушить стыд, который испытал в сарае возле молотилки. Старался он там вовсю, без остановки болтал и смеялся, но надо же было такому случиться! Взвалил последний мешок с зерном на сани, вытащил у сестры Геновайте облупившееся зеркальце и расческу — сколько раз за такие кражи сестренка колошматила его своими крепкими кулачками! — намочил гребень в бачке с водой и принялся причесываться. Волосы слиплись, посерели от пыли. Не отрывая взгляда от зеркальца, он прижимал к макушке хохолок, приглаживал его, слюнявил и не заметил, что вокруг собралась стайка женщин. Какое-то время они молча наблюдали за ним. Наконец одна, не Тякле Визгирдене ли, не выдержав, сказала: «Как барышня… Ну точно барышня», — подтвердила она собственные слова. «Ха-ха-ха», — прыснули все. Один голос выделялся особенно. В краешке задрожавшего в руке зеркальца Альгимантас успел увидеть круглый рот смеющейся от всего сердца Дануте — это в ее честь, заглушая все вокруг, целыми днями звучал его голос.
Вспомнив ее смех, Альгимантас так саданул киркой, что оглушил несколько рыбешек, которые тотчас перевернулись кверху брюшком.
Подойдя к проруби, Юзукас принялся их вылавливать веткой. Щупленький, шустренький, с бледным лицом, в тонкой одежде, с фанерным ранцем, в котором бренчали цветные карандаши, он крутился вокруг своего двоюродного брата. Мальчуган не скрывал своей радости: сегодня он получил три пятерки — по истории, по рисованию и по географии, и в мыслях все еще переносился то за Уральский хребет, где дымили трубы заводов и высились груды черного угля, то на бескрайние просторы Северного полюса…
Стоит он, чудится ему, среди ледяных торосов, где-то воют белые медведи. День ослепительно яркий и долгий, но солнце уже садится. Лучи чуть согрели кромку льда и теперь освещают колею от саней эскимосов. Может, недавно Нансен проехал, а может, какая-нибудь другая экспедиция пустилась на поиски заблудившегося попутчика. Вскоре ударит такой мороз, что все эскимосы мигом слетятся в свои юрты. Засияет бесконечная полярная ночь, отпылав перед этим пурпурным закатом и зарницами. Ни один живой звук сюда не пробьется — ни из Норвегии, ни с Аляски, ни с земли Франца Иосифа… И так вдруг Юзукасу сделалось страшно, что он схватил Альгимантаса за руку и прижался к нему.
— Альгис, эй, Альгис!
— Чего тебе? Ну что?
— А ты знаешь? Ты веришь, что когда-нибудь мы будем друг от друга очень очень далеко? — вполголоса прошептал Юзукас. — И будем звать друг друга, как будто с Северного полюса…
Потом он чуть успокоился и спросил:
— А ты что-нибудь слышал про Северный полюс? Он там, в той стороне, — Юзукас показал на обрыв, тени которого уже ложились под ноги, но свет, пронизывавший заиндевелые ветки ракит, еще мерцал на противоположном берегу среди ягод калины.
— О полюсе? — Альгимантас поднял со льда рукавицы.
— Говорят, там стоят лютые морозы.
— Кто говорит, Константене?
— В книгах написано.
— А… — зевнул Альгимантас. Читать он не любит, не науки у него на уме, куда деревенские парни, туда и он. Альгимантас работящий, послушный, но очень стыдится, что шепелявит. Ребята его дразнят: шепелявый-кучерявый.
— В книгах сплошное вранье.
— Не всегда, — возразил Юзукас. — Ты что, в школу больше не пойдешь? — спросил он, помолчав. — На днях учитель спрашивал, куда ты запропастился.
— Не знаю. Весной, может, и покажусь.
Альгимантас заглядывает к Юзукасу все реже и реже, а если заглянет, то ненадолго — говорить-то не о чем, не то, что раньше: бывало, оба что-нибудь приколачивают, вырезают, разговаривают, забыв про все на свете. Кто куда — а он к Юзукасу мчался.
— Учись, не глупи.
— А работать кому?
— Ты не из-за этого в школу не ходишь, — сказал Юзукас.
И откуда только такое чувство: с каждым днем они отдаляются друг от друга. Еще осенью голос Альгиса гремел в коридорах школы, вместе уходили, вместе возвращались домой. Скольких детей уже нет! Скоро в школу перестанут ходить сестра Юзукаса, Визгирдёнок, не ходят уже дети Анупраса… Только он один, самый маленький, будет ходить, пока не кончит все классы.
Сидя на печи и изредка поглядывая в окно, за которым колобродит вьюга, Юзукас любит читать о путешествиях, великих подвигах и войнах. Верит, что когда-нибудь подвиг совершит и он. Совершит и осыплет всех благами — отца, сестру, мачеху, не забудет и Альгимантаса. Тогда они наконец поймут, какой он был. Однако кем бы он ни стал — лучшим из лучших, смелым из смелых, — ему этого мало. Мечты его не знают границ. Порой он так входит в раж, что начинает размахивать руками, словно произносит речь или кому-то грозит, что-то бормочет или выкрикивает, чихая от пыли. Поднимает с подушки взлохмаченную голову отец, слышно, как об пол возле печи стукают чурки, которые бросила мачеха, сквозь открытые двери врываются студеные клубы пара. Серо, пасмурно. Мечты, конечно, не насыщают, они только возбуждают еще больший голод. Но от них сильнее бьется сердце. Какие глухие, нетерпеливые удары, даже самому страшно, что их невозможно утихомирить.
Теперь он стоит, повернув набок козырек шапки, и смотрит на Альгимантаса. Несколько дней тому назад Юзукас читал о князе Альгимантасе, всадники которого когда-то носились по гродненским, полоцким и смоленским сугробам — их славой как бы овеяно и имя двоюродного брата.
Альгимантаса осеняет такая идея: он здесь воткнет и заморозит кол, накинет на него колесо, привяжет к нему жердь, прикрепит к ней санки и покатит с ветерком… — рассказывает он, забыв про свою шепелявость. Вот так, говорит он, схватив Юзукаса, и кружит его в воздухе.
— Ай-яй-яй, братцы, — раздается чей-то голос на берегу. Там с бачком керосина и мешочком соли стоит Константас. — Головы свернете, ишь как расшалились. Лучше бы в местечко сходили, соли, «Беломор» или «Казбек» мне купили, — обращается он к Юзукасу.
— А ты чем занят? — огрызнулся Альгимантас. — Все ребенка посылаешь.
— Во-во, — поддерживает его Юзукас. — Я тебе не мальчик на побегушках.
Он все еще обуян гордыней.
— Так что, я — мальчик на побегушках? Я? — спрашивает Константас.
— Своих детей заведи, тогда и посылай! — говорит Альгимантас.
— А ты кто такой? Мужчина? У тебя еще сопли под носом не высохли.
— Погоди, придешь когда-нибудь просить лошадь или привезти что-нибудь — тогда посмотрим, — говорит Альгимантас.
— Что, не дашь? Твои разве лошади?
— Посмотрим.
— Что ты там бормочешь, шепе… — Константас делает над собой усилие, чтобы не назвать племянника шепелявым. — Фу, какой.
— Только и знаешь просить мальчишку, чтобы услужил тебе. Скоро захочешь, чтобы он портки твои держал, — не уступает Альгимантас.
Константас обиженно машет рукой и отправляется своей дорогой — мальчишки вконец испортили ему настроение. Но им до дяди нет никакого дела — Альгимантас по-прежнему долбит лед, а рядом, задрав голову, словно его соратник или телохранитель, стоит Юзукас.
Широко расставляя ноги и размахивая во все стороны руками, к ним на коньках скользит их двоюродный брат — сын Визгирды Витаутас, на нем толстые домотканые штаны и ушанка.
— Ставлю одну ногу, — говорит он, приближаясь к ним, — и оп!.. — Витаутас отталкивается от льда, — ставлю — и…
— …оп! — передразнивает его Юзукас, глядя, как Визгирдёнок шлепается, и разражается хохотом. Смеется он звонко, вскинув голову, скаля мелкие, с искрошившимися краями зубы. — Ха-ха-ха! — гремит над заводью. — Рыбу!.. Смотри, он рыбу оглушил!.. Так шлепнулся… аж лед треснул!.. и… и…
— Ты замолчишь?! — кричит сын Визгирды. Брови нахмурены, лицо посинело от злости. — Сейчас я тебе глотку заткну!
Смех затихает и вместе с ним гаснет свет, трепетавший на заснеженном прибрежном склоне среди калин. Это капли крови; они струятся у Юзукаса из носа, хотя Визгирдёнок не хотел его так сильно ударить, теперь он сам вертится вокруг Юзукаса, прикладывает к его ушибленному носу снег и извиняется.
— Не хнычь, успокойся, я нечаянно, говорю тебе — нечаянно!
— Ну, ты, ублюдок! — цедит Альгимантас, но руку на Визгирдёнка не поднимает — не хочет с ним связываться. — Зачем мальца обижаешь?
— А чего он не слушает, что ему говорят.
— Почему я его никогда не трогаю? — говорит Альгимантас. — Он маленький, сирота, как ты не понимаешь?
— Ничего, пусть закаляется, крепче будет.
Некоторое время они не разговаривают, молчат.
Юзукас отходит в сторону и вглядывается в глубину. Лед здесь чистый, прозрачный. Косой луч солнца рассекает его надвое: тут — царство сияющего света, тут ныряют бойкие рыбешки, а там — тьма, от которой несет стужей. Только тонкая корочка льда отделяет Юзукаса от глубины, где другая жизнь, другие миры, которые в любой миг могут разверзнуться. Подобное чувство охватывает Юзукаса, когда он притрагивается к темечку своего младшего братишки, где под тонкой, как курительная бумага, пленкой — кажется, нажмешь посильней, и лопнет — испуганно пульсировали жизнь и весь нехитрый его умишко.
— Ты только посмотри! — кричит Юзукас Альгимантасу.
— Ага, — говорит Альгимантас, опускаясь рядом на колено.
— Здесь и раки зимуют?
— Раки?
— Ну да. Забираются под коряги или под камни, где теплее.
— Температура воды везде одинаковая, — вмешивается Витаутас Визгирда.
— А тебя никто не спрашивает. Молчи, — говорит Юзукас. — Знаток нашелся!
Глянув куда-то поверх их голов, Витаутас толкает Юзукаса, и тот падает на лед.
— Шапку надень, — говорит Витаутас.
— Ты сбросил, ты и надень.
— Подними, говорю, шапку.
— Сам подними.
— Слыхал?! Ты мне нервы не порть.
Юзукас, как самый маленький из всех, обязан слушаться Витаутаса: он должен быть всегда рядом, исполнять малейшие его прихоти. Витаутас Визгирда — злой, завистливый и деспотичный, двинет чем угодно, только задень его. Ему бы приказывать и руководить. Ослушайся — тут же почернеет от злости. А прихоти его бывают просто унизительными. Одно время он запрещал Юзукасу дружить с Альгимантасом. («Если будешь с этим шепелявым-кучерявым путаться, то лучше мне на глаза не попадайся. Чтобы твоей ноги в нашем доме не было», — сказал он.) Играют они, скажем, где-нибудь на дернине, дружески меж собой толкуют, вдруг Визгирдёнок бросит какую-нибудь пустяковину в траву и велит, чтобы ее подняли и ему подали, а ослушаешься, Витаутас до тех пор из тебя «собаку» будет делать — гнуть к земле, — пока в затылке не затрещит. Юзукас, бывало, противится из последних сил, а если и выполняет его приказы, то так, чтобы не почувствовать, что подчиняется, хотя порой заупрямится — делай что хочешь, не заставишь. Черная ненависть обитала в душе Визгирдёнка. Всех он называет по фамилии (даже свою сестру), на всех покрикивает, а если кто начинает обзывать его или задевать отца, Витаутас просто чернеет. Кто знает, почему он не терпел Каушпедаса и его сына Видаса, хотя втайне его и уважал. Постоянную войну он вел и с сыновьями Анупраса — Балисом и Стяпонасом…
Вспыхнувшую было потасовку прерывает приход Видаса Каушпедаса. Видас — сухопарый, очень аккуратный мальчик, вежливый, всегда красиво одетый. У него велосипед с широкими покрышками, часы, фотоаппарат, на крыше своего дома он соорудил мельницу, и в ветреные вечера со скрипом крутится динамик, освещающий не только избу Каушпедаса, но и края его сада. Все давно свыклись с мыслью, что Видас будет инженером. Отец его, приземистый, с черными густыми усиками, хитрыми глазками, теперь председательствует в колхозе. Визгирда его не любит, Каушпедас, как он выражается, — сволочь. Жена председателя, красивая, с высокой грудью, с большими сверкающими глазами, хлебосольна со всеми ровна. Но Визгирду ни на работу, где он может ее встретить, ни на проселок, по которому она гуляет, не выгонишь.
Изба Каушпедаса расположена в той стороне, где старый большак, обогнув избу Казимераса, убегает на запад, — за холмом, который похож на откинутую голову, колени и груди (там теперь вовсю полыхает студеный закат). Тякле Визгирдене сегодня уже заходила к Марии (Каушпедене), но не застала ее. Почти каждый день она забегает сюда, чтобы поговорить с председательшей; частенько Тякле со странным облегчением отмечает про себя, что и Каушпедас уже не тот, и красота Марии блекнет — все проходит.
Когда по округе прошел слух, что Мария выходит замуж за Каушпедаса, который только что вернулся из Америки, Визгирда в отместку посватался к ее подруге, и та, долго не раздумывая, согласилась. Обе свадьбы справили одновременно, а Визгирда даже сманил гостей и музыкантов Каушпедаса, и веселье длилось чуть ли не неделю — пусть она (Мария) знает, как ему весело.
Трудно понять, каков Визгирда на самом деле: вспыльчивый, угрюмый, замкнутый, не желающий ни с кем иметь ничего общего — таким его считало большинство, — или слишком застенчивый, способный как никто другой из мужиков снести унижение. Порой Тякле не может налюбоваться на него, а порой ни с того ни с сего начинает над ним глумиться; это обычно кончается у Визгирды яростным приступом злобы, которую вызывают отчаяние и мука. В глубине души Визгирдене панически боится своего мужа. Это ее идол. Но идол, кем-то поверженный. Ахиллесовой пятой Визгирды была любовь к Марии, которая с такой легкостью отреклась от него, от Визгирды, который всегда говорил, выпячивая свое я: «Если я сказал… если я пообещал… мое слово!..» В его устах это звучало как клятва. Однако одну клятву безнадежно нарушил он сам: клятву отплатить Марии тем же — полным равнодушием.
Еще в первую осень после свадьбы, бывало, сидел он у окна и смотрел, как на холме, неподалеку от большака, грузят в телеги снопы ржи, которые, мелькая, летят прямо в руки Марии; или, бывало, бродил с топором по подлескам, — и Тякле боялась, чтобы он не наложил на себя руки. Долго не выходили у него из головы и сама Мария, и дом, где звучал ее голос, где она прикасалась к разным вещам, стелила ребенку постель, накрывала на стол или гасила лампу. По вечерам Визгирда ходил, как бы прикрываясь от закатного солнца, по двору, за которым начинался прямой, убегавший в необозримый мир большак, а когда возвращался в избу, принимался говорить невесть что: мол, все продам и подамся в Бельгию, Аргентину или Австралию. Мол, и духа моего тут не будет. Тякле по ночам не могла сомкнуть глаз: пуще огня жгли сердце эти слова мужа.
— Приходи ко мне, — говорит Видас Каушпедас Визгирдёнку. — Новости послушаем. У меня новое радио. И мама просила, чтобы я тебя пригласил. Приходи, покажу, как надо проявлять негативы.
— Отец его не пускает, — говорит Юзукас.
— Ты замолчишь?! — вспыхивает Витаутас. — Матрац сними с плетня.
Альгимантас, не проронив и слова, долбит лед.
— Пойду, пожалуй, — говорит Альгимантас.
— Не уходи, побудь еще, — просит Юзукас. — Рано ведь.
Альгимантас с минуту колеблется, смотрит на мальчика — куда ему деваться. Позвал бы к себе, но мать будет недовольна, еще выгонит. К тому же и работа ждет.
Альгимантас и Юзукас подходят к Видасу, который разложил на льду схему радиоприемника и объясняет Витаутасу, как надо включить конденсаторы, в каком месте усилитель звука. Говорит он складно, скороговоркой, едва успевая глотать слюну.
Оба, постояв немного, удаляются по льду.
— Ну и пусть, очень мне надо, — говорит Юзукас.
Альгимантас молчит. Взгляд его блуждает по заметенным снегом берегам реки.
— Не принимай близко к сердцу, — успокаивает он Юзукаса. — Ты же знаешь, какой он, Визгирдёнок.
— Уж очень он задается.
— Во-во. Когда-нибудь за все ответит.
— Я на него долго сердиться не могу, — говорит Юзукас.
— Я тоже… не умею…
— Да мы с тобой похожи, — Юзукас ускоряет шаг. Там, где лед гладкий, он скользит, обходит полыньи, заглядывая в них.
— Смотри не провались.
— Вижу, — говорит Юзукас и, помолчав, спрашивает: — А ты веришь, что наши летчики Дарюс и Гиренас через Атлантику перелетели?
— Конечно. О них и песня сложена, — говорит Альгимантас. — Храбрые были люди. Литовцы.
— И самолет, говорят, сами сделали?
— Сами.
— Ты смотри! Вот это да! Вот это головы!..
Уже темнеет, то там, то сям сквозь ольховые ветки мелькают огоньки — Константас идет с фонарем в хлев. Вода у бродов не замерзла, над полыньями клубится пар.
— Почему броды не замерзают?
— Там течение быстрее. Не успевают.
— Как это не успевают?
— Лед не успевает наслоиться, вода все время сбегает, все движется, потому и не застывает.
— Все равно мне неясно.
— Что тебе неясно? Это проще простого.
Юзукас качает головой:
— Нет, не проще простого, не скажи.
Он пытается представить, как это происходит: мороз наклоняется к течению, обдает его стужей со всех сторон, а течение шмыг в сторону, и не поймешь, какой воде лучше — то ли той, что подо льдом, то ли той, которая прорывается через отмели и нагромождения льда.
— Теперь все рыбы на дне заводи.
Так, разговаривая, они проходят мимо двух валунов, торчащих, из-подо льда у брода Визгирды, мимо проруби, из которой Визгирды черпают воду, мимо брода, где Анупрас поит лошадей, останавливаются у топи Юзукаса, возле ракиты. Их дорога, прямая и ровная, устлана льдом — ни ложбинок, ни холмов. Здесь, где вода спокойна и глубока, под слоем белого пушистого снега — нет ни заячьих следов, ни птичьих, — эта белизна освещает спускающиеся сумерки.
— Весной, — говорит Юзукас, — когда потеплеет, льдины по реке поплывут. Вот такие. Отколи и дрейфуй хоть до Швянтойи, хоть до океана.
Так они удаляются: один маленький, шустренький, другой высокий, чуть сутулый, в портках на вырост и стеганке. Падают на них блестки инея, словно осыпались они от звонкого эха деревянных башмаков, от эха, которому вторят заснеженные берега. Юзукас и Альгимантас замедляют шаг возле баньки Константаса: над ее крышей клубится пар, может, уже и Визгирда кончил мыться, он всегда моется последний, в одиночку. Их так и подмывает войти внутрь, чтобы немного согреться, но они не решаются — слоняются вокруг, заглядывают в оконце.
Из сосновой рощи за ними наблюдает Визгирдене. «А мой? Где же мой?» — озирается она по темнеющим подлескам.
Возле заводи вспыхивает свет. Это ее Витаутас хвастается перед Видасом своим новым фонариком. Темной ночью его луч достигает небес, ощупывает далекие леса или — как плеснет в окно Константаса, тот даже вскакивает с постели. «Звереныши, ни дать ни взять звереныши», — говорит она и, сложив трубкой ладони, кричит:
— Витаутас!.. Витялис!.. Витук!..
Тякле ждет, когда замолкнет эхо, вдыхает всей грудью студеный воздух, собирается снова крикнуть, но спохватывается: чуть не сказала — Юзук! — сын Криступаса ей словно родной.
— Чего орешь? — выныривает из сосняка Визгирда. Под мышкой у него большой никелированный рукомойник, веник; от разгоряченного лица валит пар.
— Тьфу, как напугал, прямо в дрожь бросило, — и Визгирдене, оглядев мужа, спрашивает: — Парку хватило?
— Еще бы… так натопили, что уши чуть не задымились, — как всегда говорит Визгирда, словно укоряя кого-то.
— Интересно, где наш пострел? — волнуется Тякле и снова вглядывается в темнеющие подлески.
— На заводи, где же еще. Вон его фонарик светит.
— А он там не с… — вырывается у нее, но она спохватывается — чуть не ляпнула: с Видасом — сыном Марии.
Она еще несколько раз зовет сына, и зову этому вторит эхо над перелесками, заливая их теплом.
Над лесами встает месяц, большой и тяжелый, как летом, когда ее, Тяклите, маленькую девочку, которая гнала с речки скотину или возвращалась с братьями из лесу, где они вдоволь наедались малины, брусники или орехов, заставал врасплох голос матери, зовущей на ужин; голос, пахнущий вечерним прудом или лесными болотцами, по которым бродили деревенские дети, пока у них не потрескаются ноги; голос, пронизанный луговым туманом; голос, от которого веет уютом и загадочными сумерками избы. «Тякле, Константас, Казимерас! — долетает этот голос через годы. — Криступас, Криступелис, Криступюк!»
Однако не все этому голосу повиновались сразу. Криступелиса, бывало, от смородинового куста не оторвешь, или как припустит — первый, опрометью. Совсем как Юзукас…
Сестра наспех приводила их в порядок и вела домой. Высокая девочка-подросток в тонком ситцевом платье, измазанная ягодами. Трудолюбивая, как пчелиная матка, такой она была, такой и теперь осталась: ходит по дворам, защищая от острословов Константаса, нахваливая доброту Криступаса, — она печется о его сыне, заботится обо всех.
И в этот вечер, словно услышав старый зов матери, они соберутся в избе Криступаса. На пороге Тякле встретят глаза матери, почти ослепшие, озабоченные; где она так долго была, почему днем не зашла? — спросит мать и, помолчав, добавит, что видела, как дочка шла к Каушпедасу, видела, когда она возвращалась, думала, что зайдет, но смотрит — свернула Тякле в ригу, потом в хлев. Что же ты там так долго делала? — будет допытываться старуха, оставив дочери краешек лавки. Некоторое время она будет сидеть неподвижно. Ей восемьдесят лет, ее руки покоятся на подоле юбки, застывшие, омертвевшие, они не столько покоятся, сколько чувствуют, прислушиваются, прижимаясь одна к другой, как неживые, и нет у них никаких желаний, только мизинец на правой руке чуть шевелится, словно чего-то ищет, но вот, наконец, и он находит свое место и унимается, только в ее старых глазах, словно какие-то шаловливые твари, прыгают тоненькие, как бы привязанные к колпаку лампы огоньки — и пламя, которое полыхает в печи, пожирая влагу в дровах и докрасна раскаляя кирпичи, уже скоро погаснет, превратится в тлеющие уголья и тепло — не так ли живой огонь сожрал все, что было в ее костях. И ничего ей больше не расскажут ни дочь, ни сын, ни невестка Константене. Жизнь кончилась. Только внучка она еще опекает, еще гладит его морщинистой рукой — может, замерз, может, не ел, дайте же ему поесть! Она ни на миг не спускает с него глаз, ибо голос матери никогда не позовет Юзукаса из леса, когда он, озябший, голодный, будет плестись вечером за своими друзьями, умоляя их: не пойдем домой, еще рано, свернем к заводи, побудем еще немножко у большого камня…
…Она умерла в самую пору цветения садов, когда, прямо-таки захлебываясь, считала кому-то годы жительница здешних лесов — кукушка.
Тякле Визгирдене часто вспоминает, как ранним апрельским утром умирающую мать Юзукаса везли к докторам.
С вечера Визгирда смазал колеса, приготовил в телеге место для жены. В путь они пустились в полночь. Вместе с больной Эльжбетой ехали ее сестра Ангеле и Казимерас (Криступас был на фронте). Казимерас нетерпеливо понукал лошадь, натягивал вожжи — он возмущался тем, что не нашлось ни одного человека, который пожелал бы пуститься в такую даль. Все оправдывались: весна, работ по горло… А разве ему, Казимерасу, не надо работать? Такое семейство кормит, а тут еще щуки начали нереститься — полно их на затопленных приозерных лугах, сколько бы он их поутру наколол, но если надо, то надо. Он не Константас, который ответил: «Столько ехать, еще что-нибудь случится». Примерно так говорил и Визгирда. «Бабы не мужики», — решил Казимерас и, сплюнув, забрался в телегу. Но как он ни понукал лошадь, та едва волочила ноги. Дорога была скользкая — всюду наледь, облизанная весенними ветрами, а лошадь как назло не подкована, и Визгирдене все думала, что зря он запряг гнедую — сколько времени потратил, пока подготовил телегу, смазал колеса, лучше бы уж лошадь подковал.
Казимерас всю дорогу молчал, и Визгирдене не выдержала, сказала, что не надо было ему ехать, раз так не хотелось. «А кто бы поехал? — отрезал Казимерас. — Может, Константас или твой муженек?» Ей и вправду было стыдно: ну что это за мужики — невестка при смерти, а они отнекиваются.
В лесу, по которому они ехали, веяло весной. Светил месяц, сверкали посеребренные ели. Морозец наспех отливал на ветках ледяные шарики, от конской морды клубился пар. Больная лежала на спине и широко раскрытыми глазами смотрела на зеленоватое весеннее небо, на восточных окраинах которого медленно наливался восход, где-то далеко, в той стороне, кричали чибисы, журчали ручьи. Потемневшее, землистое лицо Эльжбеты озарялось немеркнущим весенним светом.
Все будет, как прежде, — будут расти дети, открываться двери хлевов и риг, будет стоять по вечерам во дворе Визгирда, плестись за своей женой Константас, — только как сложится жизнь Криступаса и его мальчика, Визгирдене никак не могла себе представить: вернется ли он с фронта — в последнем письме писал, что лежит в госпитале. Мысленно Тякле увидела заколоченные окна Криступаса и Юзукаса, который ходит за ней по пятам: «Ты хоть коня подстегни», — сказала она Казимерасу. «Подстегиваю, не видишь, что ли», — ответил он и натянул вожжи. Словно это было вчера, стоит перед глазами Тякле та ночь — лицо больной, озаренное негасимым светом; сестра Ангеле, похожая на придорожное распятие, голос Казимераса и чужие, отсвечивающие льдом поля, которые ездоки увидели перед восходом солнца, когда выезжали из лесу. Вскоре вынырнуло и само солнце — огромное, прохладное после ночи, — и словно не способное превозмочь собственную тяжесть, оно на некоторое время зависло над яркой и ровной кромкой горизонта, за которым, должно быть, простирались другие поля и город, врезавшийся своими зубчатыми башенками в мягкость восхода.
Притих, втянув голову в воротник кожуха, Казимерас, а лошадь, как бы почуявшая запах сена, пустилась легкой рысцой.
Уже занялся день. Размокший снег, посверкивавший на обочинах, ручьи, толпы людей — в основном солдаты. Изредка на западе раздавался глухой — словно раскаты грома — грохот. Хмурилось. Они добрались до мельничной плотины, и лошадь, точно она знала, что у ее хозяйки здесь какие-то дела, на минуту остановилась. Тякле вдруг вспомнила, что положила в телегу пук шерсти — хотела отнести ее в чесальню, — но увидев, как больная ловит ртом воздух, срывая с шеи платок, сама подстегнула гнедую. Эльжбета все же догадалась о намерении золовки: «Зайди, Тякле, зайди. Мы подождем».
Больница была похожа на станционный зал ожидания: высокий потолок, огромные окна, на скамьях сидели и лежали раненые. Отовсюду доносились стоны.
Они нашли укромное место и стали ждать, пока к ним подойдет кто-нибудь в белом халате.
«Зачем вы ее сюда привезли?» — спросил доктор, показав на больную. Чувствуя на себе внимательный взгляд Эльжбеты, женщины второпях принялись объяснять: раньше, когда больная училась в здешней гимназии, тут была большая больница. «Раньше, не теперь», — сказал доктор и, сорвав с шеи Эльжбеты бинт, в который она вцепилась руками, стал осматривать горло. Их обступили женщины в больничных халатах. «А дети у нее есть?» — спросила одна. «Мальчик и девоч… ч…» — попыталась ответить Эльжбета, но «ч» словно застряло в горловой ране. Никто больше ни о чем ее не спрашивал — женщины в больничных халатах продолжали разговаривать, словно Эльжбеты и не было здесь. Визгирдене вдруг поймала взгляд больной, блуждавший по сторонам, — Эльжбета будто кого-то искала, оглядывая раненых; попробовала встать, но рухнула на носилки. Потом она слабым голосом стала упрекать Казимераса и Визгирдене: зачем они зря тратят время, утруждают себя, она знает, что все равно ничего не поможет. Эльжбета говорила и все время озиралась вокруг. Один раненый, коренастый, с русыми волосами и перевязанной рукой — сестры только что провели его мимо — привлек ее внимание, и Тякле вдруг поняла почему — чем-то этот солдат был похож на Криступаса: такой же рост, сложение, волосы, даже походка…
Стол в операционной был подготовлен в мгновение ока, и стоящей поодаль Визгирдене было видно, как доктор, склонившись над Эльжбетой, что-то режет, сшивает… «Только у нас здесь негде ее положить, — сказал он, забинтовав рану. — Сами видите… Надеюсь, дома условия получше?» — «Муж на фронте, какие уж там условия». — «Все мужья на фронте, — сказал врач. — А ваши дома?» — «Моего еще не призвали, а Криступас добровольцем ушел». — «Какой Криступас?» — «Ее муж». Доктор покосился на Казимераса, который переминался у дверей. Не ждавший вопроса Казимерас принялся объяснять, что он, дескать, отвоевался — возраст не тот. Вот Визгирда с Константасом еще могли бы. «Ты что это мелешь?» — напустилась на него Визгирдене. Доктор отвернулся. Оглушительный, как взрыв, звук сотряс окна. И в самом деле, почему там, на передовой, нет Константаса, Визгирды, почему только Криступас?.. Последние слова, которые Криступас сказал Константасу и Визгирде, были: «Мои товарищи погибают, а я что, буду сидеть сложа руки?»
Это случилось через месяц. Кровать с больной вынесли во двор и поставили под кустом сирени. Деревня с самого утра готовилась к празднику, и Визгирдене, прибрав избу, пришла к Даукинтене — постели проветрить, подмести, навести порядок. Она отыскала метлу, вышла во двор, но почувствовала взгляд Эльжбеты, от которого у нее словно руки отнялись. Тякле охватил ужас — она и сама не могла понять отчего. «Подметаю, подметаю, нагнув голову, — до сих пор еще вспоминает Визгирдене, — и чувствую, что Эльжбета не спускает с меня глаз, даже руки у меня затекают, и делаю не то, что надо; чувствую, что она собирается мне что-то сказать, и боюсь, словно в чем-то провинилась перед ней. Вдруг слышу: «Зачем ты подметаешь… подойди». Я выпрямилась, развела руками. «Праздник ведь», — хотела было сказать. Но словно дар речи потеряла — она так смотрит на меня, словно насквозь видит. «Подойди, поговорим», — слышу слабый голос.
Сверкали дали, маленькие перистые облака плыли по небу, из труб поднимался дым, и во всех дворах были настежь распахнуты двери.
«Может, и хорошо», — наконец промолвила Эльжбета. «Что хорошо?» — допытывалась у нее Визгирдене, увидев, как она смотрит на ребенка, стоящего на каменном крыльце. Тякле помахала ему.
Щурясь от солнца, подошел маленький светловолосый мальчик. Эльжбета тронула его за плечо — как статуэтку… Вдруг в чаще закуковала кукушка. Ее кукование доносилось из вековой дали, оттуда, где все уже было и где все еще будет.
Когда Эльжбета приезжала из города в гости, они вдвоем с Тякле ходили в чащу по ягоды.
…Стоял полдень, в высокой траве бесчинствовал ветер. Далеко забрели они тогда, рассказывая друг дружке о днях своей юности, о заботах… У обеих горло сжимало от радости. У Тякле в люльке уже пищал ребенок, ничто, кажется, не омрачало и жизни Эльжбеты, была Криступене весела, смеялась, гнула к земле ветки орешника, раздвигала траву. Высоко в небе сверкали кучевые облака, шумели деревья — Эльжбета и Тякле брели по отаве своей юности к самой счастливой поре своей жизни… Вдруг Криступене замолкла и, прильнув к Тякле, тихонько сказала: «Я жду ребенка…» Налетел ласковый ветерок, обнимая их, — казалось, чьи-то широкие руки раздвинули отяжелевший от ягод малинник, и от прикосновения этих рук зашумели, зашелестели молодые побеги.
Как-то странно сомкнулось то мгновение с этим, когда смерть пришла, чтобы грубо оторвать ее от ребенка, стоявшего в сторонке, и тот самый ветерок, который когда-то прошуршал в малиннике, ерошил ее волосы, а в голосе кукушки, который звучит уже столько лет, таилось мучительное предощущение тех дней, когда ее ребенок будет бродить по той же чаще с друзьями, когда их, ободравших колени, набегавшихся всласть, голодных, настигнут вечером голоса матерей, зовущих ужинать, только он, Юзукас, никогда не услышит голоса своей матери.
Он часто будет вспоминать то утро, голос кукушки, подметенные стежки, надраенные окна… Вспомнит Юзукас и другое утро, когда, одетый в длинный пиджачок двоюродного брата, он вышел во двор, где уже стояла телега с гробом.
…На кладбище ему сказали, чтобы он зачерпнул горсть песка и бросил на гроб. Он любил бросаться песком, всюду вокруг дома был песок, песчаные стежки, песчаные ямы… Зачерпнул. «Бросай, бросай». Звякнула лопата, стукнулись о крышку гроба комья земли, лопата за лопатой… Что они делают?! Он хотел схватить одного из могильщиков за сапог, столкнуть его в могилу, но, заплакав, только попятился назад, с ужасом принялся смотреть на яму, потом зарыдал навзрыд, вырвался из чьих-то рук, снова бросился к яме, кто-то удержал его, попытался утешить, но он что-то кричал сквозь слезы, голосил, пока пустая телега тарахтела по корням сосняка, по полоскам света и теням, которые бесшумно ложились на мягкий мох и хвою.
Какая это была утрата, он осознает гораздо позже, когда вырастет.
Он без всяких колебаний уступил права матери мачехе, называл ее мамой, ибо был убежден в том, что обращение здесь ничего не значит. Но обращение значило все. Он полагал, что эта женщина ему полностью заменит мать. Но почему он с таким упорством, сам того не понимая, домогался ее любви, и так часто, обиженный, понуро брел прочь?
На мачеху он никогда не жаловался и, как мог, защищался от жалостливых и сочувственных взглядов. Нет, он не чувствовал себя обделенным, и ему было совершенно непонятно, почему Тякле Визгирдене иногда говорила, что родная мать любит по-другому, что у нее и руки, и глаза другие.
Женщины удивлялись, почему Юзукас такой: никому не перечит, не повысит голоса — отругают его, а он — в сторонку. Посмотрели бы на Витаутаса Визгирду! Вся его осанка как бы говорила: только заденьте, только троньте! Не похожи на Юзукаса и его друзья: Римантас и в особенности Альбинас Малдонис, который, если его похвалят, тут же начинает мотать головой и задирать ее как можно выше, словно кто-то любуется не налюбуется им, словно голос матери возвещает всем: «Альбинукас! О, он вам не ровня, его просто так не возьмешь!»
Только любовь матери, слепая, безграничная, может вселить в душу уверенность, без которой немыслимы ни борьба, ни успех в жизни, уверенность, что ты единственный, непревзойденный, необходимейший. Не потому ли Альбинас будет всюду предъявлять свои права и злиться, почему не он, почему не ему, как его могли забыть; он будет беспрестанно рваться вперед, а Юозас, напротив, — ждать, идти на попятный, дожидаться, пока кто-нибудь на него не заорет. Он будет искать в себе каких-то очевидных преимуществ или способностей, а когда их не найдет, почувствует себя никчемным, никому не нужным. Его никто не любит, но за что, собственно, его должны любить? В глубине его души совьют гнездо безверие и скептицизм. Он будет жаждать любви, которая приняла бы его таким, какой он есть, жаждать ее, но не верить ей. Он будет ежиться от постороннего взгляда. Любовь матери — это мост в мир, к другим, это простертые руки, это бесконечный зов «приди». Юозас будет слышать другой голос, голос, который гонит его прочь, давит. Везде ему будут чудиться глаза, которые смотрят на него с недоверием. «У всех дети как дети, а этот!..» — будет кричать на него мачеха, как бы помечая его клеймом ничтожности. Она не захочет признавать за пасынком каких-либо преимуществ. Он не посмеет проявлять своих вкусов, у него не будет своего стиля, он постарается никогда не попадаться на глаза. Никчемность, глупое тщеславие, даже просто глупость — увы, не всегда призраки. Для Юозаса таким призраком станет мучительное чувство отверженности.
Позже, гораздо позже, окинув взглядом пустынные и постылые владения своей жизни и видя, как чужие матери балуют, защищают своих детей от сглазу, от оговоров, все им прощая и всячески превознося их несуществующие достоинства, позже он поймет, какую обиду нанесла эта маленькая, задиристая, эта вечно недовольная женщина.
Визгирдене накрывала на стол, когда кто-то тихо постучался в дверь.
— Входите, — воскликнул Визгирда.
Дверь открылась не сразу — кто-то пытался нашарить защелку (Тякле еще подумала — может, Криступас). Вошел Юзукас. Закрывая дверь, поздоровался, снял шапку.
— Пусти, — Визгирда сам захлопнул дверь.
Тякле застыла на минуту, держа в руке миску с картошкой, и бросила сыну:
— Смотри, твой друг пришел.
Но тот даже не обернулся. Сидя на кровати, он штудировал карту Европы четырнадцатого века.
— Не слышишь, что ли? — снова прикрикнула Визгирдене на сына. — Проходи, чего там стоишь, — сказала она Юзукасу.
— Пусть убирается, — сказал Визгирденок. — Никто его не звал.
Он все еще сердится на Юзукаса за то, что тот наговорил ему на льду замерзшей заводи. Визгирда-старший подтянул портки.
— Иди картошки поешь, — позвала Визгирдене.
— Спасибо, я сыт, — Юзукас попятился к двери и почти незаметно, как и появился, исчез.
Ему частенько приходится ходить по дворам, что-нибудь выпрашивать: то его посылают к кому-нибудь одолжить соли, то табаку, то спичек. Но что он пришел просить на сей раз? Куда ему идти теперь? Отец еще не вернулся, а дома полно народу. Немного поколебавшись, он отправился кататься на лыжах. Пролетая через сосняк, Юзукас услышал голоса в своем дворе, а вскоре увидел и Визгирдене, спешащую к ним.
— В избу… идите в избу, — подхлестывает Визгирдене мачеха, которая несет пойло свиньям. Мороз обжигает ей икры.
В избе Константаса гремит смех. Ха — ха — ха! — слышится хохот Константене — так смеяться она научилась, когда была в городе в услужении у адвокатов и артистов. Ей вторит другой голос, сочный, грудной. Не Мария ли, жена Каушпедаса, смеется? Что ее сюда привело? Визгирдене заглядывает на другую половину избы. Под закопченным потолком колышутся хрустальные подвески.
— Чего это вы так разошлись? — окидывает она их пронзительным взглядом. — А ты как здесь очутилась? — спрашивает Тякле у Каушпедене.
— Кого звали, тот и отозвался, — смеется Константене. — Твоего муженька оговариваем, — добавляет хозяйка.
У Визгирдене сердце так и зашлось. Константене снова начинает хохотать, показывая золотой зуб. Мария только что ей рассказала, как Визгирда приходил березу рубить.
— Да иди ты, — говорит Визгирдене, — его и палкой не заставишь.
— И без палки примчался, видно, что-то пронюхал.
Тякле опускает глаза.
…По ночам всегда кто-то крадет у нее Визгирду: он встает, подходит к окну, смотрит в него и курит. Ох, уж эти долгие бессонные ночи, с прохладными, пепельного цвета рассветами, когда все предметы в доме кажутся Тякле чужими. Бывало, встанет, чтобы накрыть проснувшегося ребенка, и вдруг такое чувство нахлынет, словно, кроме нее, никого в избе нет.
Трудно понять этих женщин. Тякле почему-то недолюбливает Каушпедаса — неразговорчивый, всегда в одежде из дорогого материала, которая сидит на нем как влитая. Мария частенько посмеивается над исступленной застенчивостью Визгирды — она насквозь видит этого мрачного, сторонящегося всех человека. Встретит где-нибудь Тякле и спрашивает, почему ее муженек боится через их двор пройти. «А вы еще бо́льшую собаку заведите!» — отрубает Визгирдене.
— Так вот, — начинает Мария, — развешиваю, значит, я белье и вижу — ходит он с топориком по березняку за ригой, вроде что-то ищет. Увидел меня, остановился, на минуту задумался, смотрю — идет. Прямо во двор…
— Подумать только, — говорит Константене. — Он же боится и ногой туда ступить.
— Я и говорю — пронюхал, что мужа дома нет…
И снова обе: ха-ха-ха…
Кривой березовый сук нашел, говорит, на черенок для лопаты сгодится. Заходи в избу, говорю я ему, кваску отведаешь. Выпил он кваску, нахлобучил шапку, пошел было к выходу, тут увидел корыто со свежатиной и говорит: «Зачем здесь мясо держите? Лучше отнесите в чуланчик, мы так в чуланчике…»
— Ха-ха-ха, — громко скандирует Константене. Ей вторит сочный, грудной голос Марии. Только Тякле не до смеха.
— Эх, ты, рохля, — бормочет она, вспомнив вдруг, что ее муж на вопрос, почему он не ходит к Каушпедасам, принялся настойчиво доказывать, что он и к другим не ходит, не любит по чужим дворам шляться, и говорит это так, словно оправдывается. Так вот кто обо всех злое говорит — Мария. Завидует муженек… во всем он Каушпедасу завидует. Скрывая свою рану, он стал даже прикидываться отшельником. Теперь ей понятно, почему муж так ведет себя. Пятнадцать лет мы с ним прожили, думает она, а я так его и не сумела понять. Тякле вспоминает, как ходил он по вечерам вдоль ржаного поля, как лаяла на него овчарка Каушпедаса, как часами простаивал во дворе, поглядывая на запад, и Тякле становится так грустно, как и в первые годы после замужества, когда ворочалась она в постели после ухода мужа в поле и смотрела в ожидании рассвета на петляющий через сосняк проселок Диржиса. Ночи как пустота на сердце. Не успевало стемнеть, как уже светало. Эти сосняки, вечера и ночи, белесые, прозрачные, пронизанные болью, — как глубоко все это запало ей в душу, наверное, и в последнюю минуту ее жизни все затянет этой пепельной мглой, а сама она наполнится другим ожиданием.
— Не сердись на меня, — кутаясь в платок, говорит Мария и притрагивается к ее руке. — Тебе больно, я вижу. Ну, посмеялись, поболтали — и забудем об этом.
Не забудешь, никогда этого не забудешь, думает Тякле, пряча под платок седеющие волосы.
На столе закопченная лампа под пышным абажуром, под потолком позвякивают хрустальные подвески, в заиндевелом окне сверкают звезды; отливает студеной вечерней синевой…
Сквозь сосенки видно, как во дворе Визгирды мелькает огонек. Это хозяин идет за книгами, которые свалены в хлеву в старые овечьи кормушки. Смех, раздававшийся в избе Константене, обжег Визгирду — он сразу же узнал сочный, грудной голос Марии. Визгирда распахнул двери хлева, еще немного прислушался, потом принялся рыться в груде книг. Некоторые из них принесла из дома настоятеля сестра, другие купил он на базаре сам, многие на чужих задворках и чердаках собрал сын Витаутас, которому он наказал брать книги только по садоводству, пчеловодству, ветеринарии, естествознанию, истории или географии — такие никогда не устареют. «Только про политику чтоб мне не носил», — сказал отец.
Когда в избе Константене послышались смех и шаги, Визгирда уже подобрал изрядную стопку книг для вечернего чтения, хотел взять еще журналы, в которых пишут об этом дураке Чемберлене; была там и его фотография — здоровается с Гитлером. Вдруг Визгирду разобрала такая злость, что он даже принялся бормотать себе под нос: «Дурак! Круглый дурак! Отдал этому людоеду Судеты, а когда вышел из самолета на аэродроме, еще и похвастался: «Я привез вам мир!» Какой ты мир привез, трус несчастный. Гитлер сразу понял, что ты трус, по твоему поведению, по тому, как ты держался…»
Его мысли прервали чьи-то приближающиеся шаги, частые, быстрые, словно идущего подстегивала стужа. Через минуту Визгирда увидел валенки, юбку… Легкий взмах руки, высоко поднятая голова, улыбающееся лицо… Так близко к избе Визгирды Мария еще не подходила. Вот его рига, на чердаке сложены вешала, скособочившийся хлев, сосны со старательно обрубленными ветками, подметенное крылечко, низкое заиндевелое оконце, в котором мелькает тень ребенка, утепленные тряпками и паклей рамы. Сколько человеку надо приложить стараний, чтобы все это было: и деревья, и избы, и тень ребенка в заиндевелом окне, и он сам со стопкой пожелтевших книг на пороге сарая! Потихоньку задув лампу, он смотрит на приближающуюся женщину. Визгирда чувствует, как весь покрывается потом, словно его обдало чьим-то жарким дыханием. Сдвинув шапку на затылок, он проводит рукой по лбу. Сверкающие звезды на небосводе вдруг словно окропило росой, теплой мглой залило заснеженные поля. Но… шаги понемногу удаляются, теперь Мария уже на холме, хотя еще слышно, как снег хрустит под ее ногами, но и эти звуки уже тонут в студеной тишине. Снова веет леденящим кровь холодом. Где-то брешет собака. На полустанке в Трумбатишкисе гудит поезд. Он придушенно пыхтит, из топки валят горячие клубы пара, которые на глазах превращаются в мелкие ледяные кристаллики — может, их сиянием так прекрасна эта ночь. Потом снова раздаются шаги Марии, но уже далеко, на другом холме, где небо почти касается земли. Небосвод рассекает падающая звезда. Почти на земле сгорела, думает Визгирда, не сразу осознав, что нечасто ему приходится видеть, как падают звезды. Он своим глазам не верит — что же такое стряслось, может, еще одна упадет; и стоит, полон ожидания. Но другие звезды сияют, как сияли. Так бывает всегда: не сразу осознаешь, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Даже смертельно раненный человек не сразу понимает, что с ним произошло: вскакивает, говорит еще какие-то глупые слова, пытается улыбнуться или что-то стряхнуть с одежды, но вдруг его охватывает ужас, а вместе с ним гаснет и сознание. Тогда уже все. Так и умирают. Не так, как мы себе представляем, умирает человек. Иногда уходит даже с мыслью о том, как он выглядит со стороны, пытается что-то сыграть. Случается, вся жизнь человеческая — игра…
Как только Визгирда отводит глаза от небосвода, снова вспыхивает падающая звезда — жди не жди, бди не бди, все равно будешь застигнут врасплох. Эта звезда, видать, долетела до земли, думает Визгирда, упала там, на моем холме, у самого ивняка.
Довелось Визгирде быть свидетелем и не такого звездопада.
Было это, перед самой Великой Отечественной войной. Стояла светлая звездная ночь. Он лежал на холме под деревом и диву давался — сколько звезд, хоть пригоршнями черпай. Дул теплый ветерок, пахло пахотой и цветущими садами — казалось, все дворы усыпаны цветами. В сиянии ночи Визгирда видел распаханные лоскуты своей земли, видел избы Диржиса, Даукинтиса, Ужпялькиса, видел на западе башни местечка… и трубы вроде бы дымились… занималась дымчатая, но багровая, как кровь, заря.
Рядом с Тякле стрекотал сын, протягивал ей стебелек одуванчика и все время о чем-то спрашивал у нее, допытывался. Покоем веяло от ее голоса, но лицо было такое, словно стряслась беда; только теперь он понял, почему у нее такой тихий голос: это отца с ними нет — ушел куда-то, оставил ее с ребенком, и неизвестно, когда вернется.
Вдруг на севере что-то сверкнуло, залило все небо от края до края, словно кто-то громадной метлой провел по нему, и раздался такой звук, будто полчища скворцов вспорхнули с веток. Он все еще своим глазам не верил, хотя отчетливо видел: мгновение небо было чистым, только кое-где мерцали крохотные, едва различимые звездочки. Зеленоватый, словно стекло, небосвод был бесконечно высок и весь иссечен лучами рассвета. Где-то выли сирены, над местечковыми крышами клубился черный дым. А он все смотрел в небо. Такого до жути прекрасного купола ему ни разу не приходилось видеть. Кажется, пора уже было браться за работу, выгонять скотину на пастбище, но у него не было сил оторвать глаз от небосвода.
Наверное, это был сон, но до сих пор Визгирда не может поверить, что это был только сон…
Не спится в этот вечер и Юзукасу. Он стоит на холме Казимераса и прислушивается — авось где-нибудь раздастся голос отца.
Во всю свою мощь светит месяц; просто не верится, что его, такого маленького, источившегося осколка скальной породы, хватает для того, чтобы осветить эту огромную, высокую ночь. Какой яркий свет, какие ясные тени! Сверкают на юго-западе одетые в блестящую мглу леса, и над речной долиной клубится туман, а там, на востоке, где белеет шпиль костельчика, это сияние отливает серебром. Чем дальше за леса, туда, где непролазные топи, тем стужа злее. И какая тишь! Каждый звук — лай собаки, треск упавшей ветки или хруст льда — эхо, словно по хрусталю, доносит до горизонта. Там уже ничего живого нет, кроме этого звука, который катится по стволам закоченевших деревьев, по озерному льду и взгорьям. Птицы падают с веток, как камни. Где-то в пуще нет-нет да и завоют волки — аау… аау…
В избах погашены огни, все уже спят. Сверкают от мороза окна дяди Константаса, сверкают окна Визгирды. От долгого катания по холмам мальчик весь взмок, и знай он, что теперь больше сорока градусов, был бы осмотрительней.
Ему страшно за отца: свалится пьяный в сугроб — сразу превратится в ледышку. Если бы где-нибудь раздался его голос, Юзукас тут же бросился бы ему навстречу. Но не слышно ни звука. Эта тишина пугающая, сулящая что-то дурное, она как некая ледяная оболочка ночи, которая в любую минуту может рассыпаться в прах.
В сердцах пнув обледеневшее конское яблоко, которое, гремя, как камешек, отлетело в угол хлева, Визгирда закрыл двери. Во дворе он еще с минуту постоял, прислушался, потом вошел в избу. Сел возле низкого заиндевелого оконца и принялся листать газеты и книги. Пожелтевшие, холодные, отдающие хлевом страницы с грязными покоробившимися краями — Визгирда трогал их, оторвавшись от всяких работ. Он любит читать довоенные хроники, разглядывать картинки. Прочтет о какой-нибудь заграничной стране и узнает, какие там природные богатства, есть ли ископаемые, руда, каменный уголь, какие у этой страны колонии, сколько жителей, что там развито больше — промышленность или торговля, какие самые большие города, много ли лесов, озер… Перед глазами мелькают названия: Исландия, Бельгия, Дания, Голландия, Люксембург. Крохотное государствишко, закопченная европейскими поездами станция, а надо же… Или взять, например, Голландию. Никаких ископаемых, ее в один прекрасный день всю может залить водой, но зато какое сельское хозяйство, какое животноводство!
Сын его, Витаутас, скрючившись на лавке, рисует портреты князей в коронах.
— Хоть немножко похожи? Покажи, — говорит отец.
Потягивая папироску, Визгирда долго смотрит на рисунки, и с каждой затяжкой глаза его больше мутнеют. Он начинает рассматривать рекламные страницы. Мыло «Кипрас Петраускас», фотоаппараты, велосипеды, тракторы, веялки — Визгирда изучает их долго, весь даже изогнулся, чулки «Коттон» — Криступас привозил такие из города Тякле. Зубная паста, пудра, лак. Все это для городских дамочек. Заграничное. Ничего, даже своей спичечной фабрики не было, да и та принадлежала шведам… Бывало, в день отправки бекона все дороги забиты телегами. Куда только этот бекон девали? За рубеж увозили, куда еще. Оружие всё покупали, а зачем это оружие, разве такое маленькое государство может кому-нибудь дать отпор, все равно более сильные проглотят его, если не немцы, то поляки, хотя, по правде говоря, в восемнадцатом году им здорово всыпали.
Но все это карликовое величие, карликовые рассуждения; как и человек: чем он ничтожнее, тем выше ставит свое «я». Были и здесь такие, все кричали «мы, мы!» И Визгирда равнодушным не был, бывало кровь в нем так и закипит.
Визгирда невольно принимается считать в уме знаменитостей — ученых, поэтов, художников, спортсменов. Чем больше он их насчитывает, тем больше злится. Его охватывает такое чувство, словно кто-то все время его обманывает. Поэтому он и говорит: правду пиши, зачем человеку пускать пыль в глаза. Наговорят, наобещают, кажется, все делают для твоего блага, но по трезвом размышлении убеждаешься — сплошной обман: кто тебя видит, кто знает, где ты, что делаешь спустя рукава, а что от чистого сердца. Кричат, кричат, и ты сам не замечаешь, как начинаешь откликаться. Такие вот делишки.
За рекламными страницами следуют военные картинки. Танкетки катят по пыльным дорогам Абиссинии, тянутся вереницы солдат и пленных, зенитки направлены в небо… Парни в униформах, еще не подозревающие, что их ждет. Будущие жертвы концлагерей, спокойно расхаживающие по пражским, парижским и варшавским улицам. И десяти лет не прошло, а какие перемены! Коротким дуновением времени смело все, чем он жил раньше. Снова пришлось начинать все сначала. В новый фундамент вмуровано несколько старых кирпичей — никуда от наследия предков не денешься. Эта земля единственная, и другой никогда не будет, никто не даст. Видишь, как воспевает ее поэт. И Визгирда начинает читать Майрониса.
Строки того же поэта звучат и в ушах Юзукаса. Весь заиндевевший, с багровым от стужи носом, он, стоя на холме, озирается вокруг, стараясь увидеть, что же за теми далями, откуда берет начало эта красота.
— Что за дивная ночь! — восклицает он, оглядываясь, но от мороза у него тут же перехватывает дыхание. — В небе звезды взошли, — вдыхает он полной грудью воздух. — И мерцают, как будто бы глазки, — продолжает Юзукас и прислушивается. — Всходит месяц, и в окна, вблизи и вдали, он заглядывает к нам без опаски. — Месяц и вправду отражается в оконце Сиргедене. — Затих уж и сиверко, снег не метет… — Но на этом вся красота и кончается. Сиверко — это что-то такое, чего Юзукас не может представить себе, понять, это словно живое, но ни с чем не сравнимое существо…
Растирая щеки, Визгирдене пересекает рощицу, влетает в избу и, увидев мужа, обложившего себя книгами, принимается ворчать:
— Тоже мне профессор нашелся, лампу гаси, керосину капля осталась, может, в такой мороз сбегаешь купить, нос высунуть боишься, — говорит она, раздеваясь. — Рохля, право слово, рохля, — бормочет она, забираясь под теплое одеяло, и осеняет себя крестным знамением.
Визгирда слышит ее слова, догадывается, почему она так говорит, но мысли его теперь далеко. Он стоит у окна и курит. Что значит ворчанье его жены, когда его душа цепенеет от холода? Почему он не уехал в Бельгию или Аргентину? Поинтересовалась ли когда-нибудь Тякле, о чем он думает, разглядывая эти пожелтевшие книжонки и карты? Она все время попрекает его Марией, но не одна Мария тут виновата. Есть более важные причины. Разве Тякле может это понять? Она растит его сына. Но кем станет его сын? К чему будет стремиться? Сможет ли он, отец, указать ему путь в жизни?
Он снова впивается невидящими глазами в статейку, под которой подпись: АМБРАЗЕЮС. Потом еще прочитывает заметку о книгоношах, и мысли его начинают вертеться вокруг политиков. Есть у него среди них свои кумиры, у которых, по его мнению, головы что надо, но и с этими кумирами Визгирда нет-нет да и ввязывается в спор. Тон у него, как всегда, укоризненный. Провинились кумиры перед ним, неприметным хлеборобом, ибо первыми отреклись от своих деклараций или вообще не верили в них. Не может Визгирда с ними счеты свести.
Потом он выходит во двор, чтобы вслушаться в тишину. Стоит на морозе и смотрит на запад. Туда, где виднеется изба Кайнорюса, и еще чуть дальше. В деревне Жалёйи живет Андрюс Жалнерюс, потерявший в маньчжурских снегах обе ноги. Сколько раз Визгирда догонял его на санях, сколько раз втаскивал на них и слышал, как постукивают о доски деревяшки Жалнерюса, которые он сам привязал проволокой к культям. Может, и этой ночью Андрюс бродит по сугробам, вспоминая маньчжурские холода, бродит на своих обрубках, молясь этой студеной ночи.
Увидев стоящего на холме мальчика, Визгирда несколько раз зовет его — пусть домой идет, еще, не дай бог, замерзнет. Но голос у него хриплый, словно потрескавшийся от табачного дыма.
— Ты чего кричишь? — спрашивает Тякле, когда он снова входит в избу.
— Ребенок на морозе. Ты что, не видела?
— Юзукас? Ах ты, господи, боже мой! — говорит Визгирдене.
На них устремлены огромные глаза Витаутаса. Накинув кожушок, он выбегает во двор.
— Сдурел, что ли? — кричит он Юзукасу, увязая в сугробе. — В избу ступай, кому сказано, оглох, что ли?
Но Юзукас не слушается — катит в сторону местечка Кябяшкальнис.
Был уже поздний вечер, когда он дотащился до своего дома, развязал веревочки на лыжах, прислушался. Хотел было снова пуститься в дорогу, нагнулся, чтобы привязать лыжи, и остолбенел — руки словно деревянные, пощупал щеку — и ее не чувствует, пошевелил пальцами на ногах — как мертвые. Юзукас принялся растирать снегом лицо, руки. Потом бросился в избу, стал шарить за печкой. Вдруг раздался голос мачехи:
— Ты где был?
— У Альгимантаса.
— Отца нигде не встречал? может, у Визгирды? или к Казимерасу завернул?
— Нет, там его точно нет.
— Замерзнет где-нибудь, и конец.
— Может, поехать за ним?
— А где ты его найдешь? Все равно за ним не уследишь.
Такого усталого, такого беспомощного голоса мачехи Юзукас никогда не слышал.
— Ты еще сам замерзнешь. Поешь и ложись.
Юзукас подходит к окну, прислушивается; прислушивается, вытаскивая из печи чугунок с теплой похлебкой, прислушивается, поднимая ложку. В эту ночь он не уснет, будет слушать и ждать… Ребенок видит: отец его будто на краю пропасти, отодвигается от нее, кричит, но кто ему поверит, кто протянет руку помощи? И кричит он, чтобы никто не заподозрил, будто он и впрямь в ней нуждается. Порой Юзукас презирает отца — все люди как люди, только он… Воли у него не хватает — вот что! И неизвестно, скажет ли когда-нибудь Юзукас, что своими словами и делами его отец превзошел медлительную речь и долгое существование других… Чем же отец превзошел их? «У каждого своя дорога, своя судьба», — порой бросает Визгирда, глядя, как брат Криступаса Константас размахивает большими, никому не нужными руками.
Мальчику не нравится, что взрослые вздыхают, произнося слово «жизнь» так, словно это их привилегия. «Поговорим, когда доживешь до моих лет», — говорит ему отец. «Будто я теперь ничего не знаю», — возмущается Юзукас. «Кузнечик», — говорит отец. Юзукасу хочется обо всем судить теперь, не мешкая, но, как разумно он ни говорит, взрослые только улыбаются. Какая чепуха — поговорим, когда доживешь до моих лет!
Но чего хотеть от ребенка? Разве он видел, какими глазами, сидя на куче бревен, смотрел старик Людвикас на зимнее солнце или на то, как шли люди по узкому, заметенному снегом большаку и огненный холод обжигал их лица, разве слышал, как ворочается на печи старая Даукинтене, разве знает, о чем думает Визгирда, читая свои пожелтевшие книжонки, разве он знает, что чем дальше, тем тяжелее шаг, и там, на вершине… Откуда ему знать, как им там, на вершине, до которой они добирались, плутая, падая, карабкаясь изо всех сил (иной до нее так и не добрался), откуда ему знать, какое солнце сверкнет на мгновенье, когда та же дорога, которая вела вперед и вверх, начнет спускаться вниз, в постылое царство удлиняющихся теней.
Криступас, шатаясь, идет по пригорку. В расстегнутой шинели, без шапки, без рукавиц; он тяжело дышит — такое ощущение, будто он с кем-то борется. Перед его глазами простирается местечко с узенькими, покрытыми инеем улочками, с закрытыми ставнями, с жестяными крышами, залитыми лунным светом, и гладкой ледяной поверхностью раскинувшегося справа озера.
— Они спят! — кричит Криступас. — Спят, зарывшись в подушки, натянув на головы одеяла, чтобы не слышать, как потрескивают на морозе стены и заборы! Мороз и Криступас. Криступас тягается с морозом. Ничего он не боится, ничего ему не надо, он устоит перед всеми. Оказавшись возле апилинкового совета, он ругает власть, а когда пойдет по сосновой роще, обругает и лесовиков[5].
— Бендорелис! — орет он. — Никто не знает, кто такой Бендорелис! Совесть и честь солдата — вот кто такой Бендорелис! Это блик солнца на штыке винтовки. Генералы должны перед ним вытягиваться в струнку! Никто не сравнится с Бендорелисом! К нему не подмажешься, ему не подмигнешь!
Эти обрывки восклицаний и ругани, лежа рядом со своими женами, слышат его друзья Акуотис и Скарулис, слышат сапожник и цирюльник Гарункштис, человек с изуродованным лицом — лицо ему рассекли штыком, когда он прятался в стоге от мобилизации, кроме того, одна нога у него короче другой, и Юодка, сплевывая, тогда еще сказал: «Хромой ведь, какого черта в солому полез?»; слышит Вайнорас, сына которого убили лесовики, слышит Барткус, слышит бывший волостной старшина, рыхлый мужчина в зеленом галифе, слышит доктор… Криступас будит всех. Слышит его и вдова Каружене, все местечковые вдовы его слышат, а их много, чуть ли не в каждой четвертой избе… Все слышат. И мысленно провожают его до угла соседнего дома.
— Пойду посмотрю, — говорит Акуотис. — Может, он с поллитрой. — Подумал и потянулся за портками.
— Куда ты пойдешь? Спи, — жена обнимает его тощее, маленькое тело. Спит Акуотис, как ребенок, — скорчившись, подтянув колени к самому подбородку, не хватает, чтобы он ткнулся носом в высокую и сочную грудь супруги, с которой собравшиеся в местечковой закусочной мужики не спускают глаз, когда Акуотене подает им закуску и напитки. Сегодня Криступас к ней не заглядывал. Иногда она ему и лишнюю рюмку нальет. Такой уж он человек: когда платит — платит втридорога, когда нет — дай ему задарма, и все тут.
— Лучше я взгляну, — говорит Акуотене, накидывает платок и исчезает в дверях. Клубы пара, словно чьи-то ледяные руки, обнимают ее за плечи, скользят по бедрам. — Ну и холодина, — говорит она, ежась.
Перед глазами мелькает лоскуток гладкого, отшлифованного стужей неба и звезды, но там, на юге, светит месяц, и каждая морщина на снегу видна еще издали. Озеро, роща Стракшисов, холмы… Там, где тлеет красноватый огонек, Акуотене и Криступас когда-то сумерничали. Одного только она не ожидала, что Криступас, этот славный парень, уехавший отсюда, когда ей было всего семнадцать, так вот вернется на родину: без дорожного мешка, без ничего.
Акуотене возвращается в избу. Подходит к люльке и начинает качать младенца. Густые волосы с шелестом соскальзывают с плеч, закрывают лицо… С подушки смотрят на нее глаза побледневшего мужа — провалившиеся, полные тревоги. При таком свете месяца все кажется призрачным: и горница, и жена, и дети, и голос Криступаса, бредущего по сугробам.
Сон окунает всех в зеленые бурлящие воды, подсылает своих злополучных пророков. И тени пращуров по ночам витают над нами. Все утраченное, обещанное не забудется вовек. Даукинтис выступает из царства сна и опять исчезает в нем: ему чудится ночь, когда все дома будут залиты сиянием месяца, как камни на кладбище. И наступит такой вечер, когда старик Великис больше не выйдет во двор, чтобы выкурить самокрутку, а его сын не будет до блеска начищать свои ботинки, и лодка Акуотиса, нагруженная рыбой и сетями, не будет скользить по гладкой поверхности озера. И никто не будет вспоминать Криступаса, стоящего на коленях в старой усадьбе у высокого обрыва Балтойи, там, где дети до сих пор находят человеческие кости и черепа. Под снегом — пни замерзших, вырубленных деревьев сада. Это то место, где воткнул в землю посох первый Даукинтис. Давно это было, триста или четыреста лет тому назад. Столько времени растет это древо рода Даукинтисов и роняет семена. Но семена эти недалеко падали. Здесь Даукинтисы рождались, здесь и помирали, пока не пришел Криступас, бродяга, скиталец, больше всех оторвавшийся от своего рода. Потом появился его сын, за ним последует сын сына, так и пойдет. Только вспомнят ли потомки, как в далекую студеную ночь, вытирая обледеневшие слезы, стоял на коленях в старой усадьбе Криступас, пытаясь найти следы своего рода? Криступас, единственный из всех них, не верящий ни в бога, ни в черта, не удостоившийся благословения, чужой, с разрывающимся от боли сердцем, которое еще никто не услышал. Здесь, среди руин старого дома своих предков, погребенного под снегом, он долго стоит, глядя на белую башню на холме, выплывающую из сумрака.
Странными зигзагами вьется глубокая колея его житейской дороги.
Рано утром, когда все спят, Криступас Даукинтис отправляется на работу. Все удивляются — когда только он отдыхает, когда спит? В метель, когда хороший хозяин и собаку во двор не выгонит, в проливной дождь, по расхлябанным проселкам идет Даукинтис на работу. Ему нравится, когда ветер рвет одежду, бьет хлопьями снега в лицо, ему нравятся пущи, когда осень дует в свой медный рожок и дорога без конца и без края особенно в такую ночь, которую его мать, старейшая жительница здешних мест, назовет самой студеной на своем веку; ночь, когда в северо-восточной Литве вымерзнут вишни и яблони; ночь, когда все лежат ломая голову: хорошо ли накрыты картофельные ямы, и ужас охватывает при мысли, что утром, как только солнце поднимется над озерной гладью, бросит свои лучи на заиндевелые подоконники и пороги, им придется вылезать из постелей, притрагиваться к дверному засову, липнущему к пальцам, брать ведро и плестись к обледенелому колодцу, долбить лед, носить воду, дрова или, запрягши закоченевшего гнедого, куда-то ехать по делу.
Для Даукинтиса такая ночь словно вызов. Что же, он его принимает. Пускается напрямик по сугробам. Неважно, что за погода на дворе — только бы идти. Посмотрим — кто кого. Еще ни разу он не лежал, хворый, в постели. И не будет лежать. Я все выдержал — об этом он кричит на каждом перекрестке. А в это время его мать не смыкая глаз думает: «Господи, бедняжка ты бедняжка, что с тобой стало? Бывало, накрою одеяльцем, а теперь — словно в отместку кому-то лежит полуголый в сугробе… Может оттого, что я о нем больше всего пеклась. Почему Константас в ватных портках, почему Визгирда всегда в полушубке, а мой как нарочно…»
Там, в долине, среди сосенок виднеются белые крыши, горят еще огоньки. Наверно, его ждут. Надо спешить. Но что это? Созвездия вдруг закачались, обрушились на него, как на фронте, когда он упал раненый, чья-то рука толкнула в сугроб, поставила на колени и поспешно принялась накрывать белыми, мягкими покрывалами. Кто-то нашептывает ему ласковые слова, обкладывает со всех сторон чем-то невесомым, гладит, но, когда он поднимает голову, чтобы посмотреть, где он и что с ним, та же невидимая рука толкает его назад и снова принимается торопливо засыпать белыми холстинами. Не первый он в роду Даукинтисов, кого вот так заметает, не ему первому дышит в лицо смерть, но Криступас тот, кто всегда бунтовал и сопротивлялся. Он напрягает все силы, сбрасывает с себя эти белые холстины — шут с ними, хоть и мягкие! — поднимается, но снова кто-то швыряет его на землю, и он начинает ползти, как на фронте, когда перебирался через линию огня. Только теперь над головой свистят ледяные стрелы мороза. Они вонзаются в него, толкают, но он еще пытается понять, что же с ним стряслось. Неужто конец — смерть? Мой ребенок… Юзукас… где он? Полусидя, он показывает на долину и бормочет: «Там… там мой дом…» Но в ответ слышит горькие слова: «У тебя нет дома, ты пьянчуга, ты последний человек, Криступас, никому ты не нужен…» — «Я? — спрашивает он. — Я, что ли? Я, который их так любил… Нет… Никогда, никогда», — и, придавленный непосильной ношей, поваленный наземь, выбившийся из сил, потерявший способность сопротивляться, он видит чье-то угрюмое лицо, теплые крыши деревенских изб и что есть мочи принимается кричать.
С шумом открываются двери Визгирды, потом его избы. Два человека, один большой, другой маленький, сломя голову бросаются на холм. Вслед за ними бежит женщина. «Я спасен», — говорит Криступас, глядя на сына, который, обгоняя всех, приближается к нему, и засыпает сладким блаженным сном, сквозь сон он слышит голоса, чувствует, что кто-то тормошит его, тянет, будит. «Вставай, вставай!» — раздается голос испуганного мальца. Откуда-то с лаем прибегают собаки, обнюхивают его лицо, лижут ботинки. Это и понятно, ведь он всегда любил собак. Собак и лошадей.
В избе из кармана шинели выпадает несколько леденцов, облепленных табаком — гостинец для сына. Мальчик наклоняется, чтобы поднять их, но, услышав, как стукается об пол обледеневшая рука отца, отшатывается. Лампа освещает белое как полотно лицо. Визгирда стягивает с пьяного сапоги, отдирает портянки, примерзшие к ногам. Что-то бормочущего и отбивающегося от них Даукинтиса снова погружают в снег и растирают, пока понемногу не начинают розоветь щеки, оживать руки и он не открывает затуманенные глаза.
Несколько дней Криступас не приходил в сознание. Он метался в постели, куда-то рвался, ругался, каялся, плакал…
— Выздоровеет, — успокоил доктор, когда больной наконец уснул. — Только не рассказывайте ему о том, что было, даже не заикайтесь. И не будите его, пусть несколько суток поспит.
И вот пришел долгожданный день. Даукинтис открывает глаза и, щурясь от света, смотрит в окно: скворечник на высокой верхушке клена, хлев, обросший мхом, конек риги, соснячки, обвеваемые потоками чистого воздуха. Ветки клена, которые колышет ветер, стучат в стекло.
— Весна пришла, что ли?
— Нет еще, Криступас.
— Где же я был? — спрашивает он.
— Спал, — жена ставит у постели стакан с малиновым чаем.
— Так долго?.. Который теперь час?
Задрав голову, Криступас смотрит на этажерку у изголовья — там тикают часы. Одиннадцать. Пора на работу.
Глаза поблекшие, бесцветные, злые огоньки уже погасли.
Возле постели, усевшись в ряд, смотрит на него Визгирда, Казимерас, Константас. Женщины возятся на кухне. К Криступасу снова подходит жена. Взгляд у него недоверчивый, настороженный. Со стены с укором смотрит Эльжбета. Он вглядывается в ее глаза — нет, в них не укор — нежность. «Вставай, Криступас, собери потихоньку свою одежду и выйди. Я жду тебя, как ждала прежде. Помнишь?» — «Я всегда тебя помню». — «Видишь, Криступас, а раньше ты все лгал, выкручивался. И кольца никогда не надевал. Ты уж такой. А теперь что от тебя осталось?» Ничто его так не исцеляет, как эта тихая, всепрощающая любовь. Промелькнет, вся белая, вся в тюле. Женщина, которую никто ему не заменит, из-за которой он все время цапается со своей второй женой, ибо она не умеет чтить дорогую ему память.
К постели ковыляет старая Даукинтене. Она смотрит на сына так, словно заключила с ним какую-то тайную сделку, о которой никто, кроме них, не догадывается. Криступас говорит с ней без слов, показывает глазами на фотографию.
— Ты мне что-то сказал? — шамкает старая, нагибаясь над ним.
— Ничего, — говорит он и отворачивается к окну. Снова эта пронзительная голубизна неба, эти гудящие почки на ветках, соснячки, конек риги…
В сенях раздается звонкий смех Константене, с горячим пирогом в руках входит Тякле и пытливо вглядывается в лицо брата. Криступене начинает греметь стульями — приглашает всех к столу. Там уже сидит Казимерас и рассказывает, что в Шимоняйском лесу была большая перестрелка, много убитых и раненых. Снова убитые и раненые… уже который раз, думает Криступас, и в него угодила чья-то, пущенная наугад пуля.
— Ты только голову не подставляй, — говорит Визгирда Казимерасу.
— За меня можете быть спокойны, я знаю, с кем имею дело, с кем говорю, — отрезает Казимерас.
И они переводят разговор на хозяйственные дела.
— А еще что-нибудь за трудодни дадут? — спрашивает Визгирда.
— Должны дать, я председателю говорил, — Казимерас опускает глаза. — Но разве меня слушают? Делают, что хотят, и всё.
— Зачем же ты им служишь? Уходи, — говорит Визгирда.
— Легко сказать — уходи, а работать кому? Если не я, так другой, все равно кто-нибудь найдется. Думаешь, от этого лучше будет?
— А ты себе цену не набивай, — ехидно говорит Константене. — Пляшешь под их дудку, и всё.
— Конечно. Можно подумать, что ты бог весть сколько добра нам сделал! — затягивает узелок платка Визгирдене.
— Да никто тебя ни о чем не просит, — вставляет Константене.
— Просит не просит, но если видишь, что можешь человеку сделать добро, — делаешь. Случаев таких немало, — говорит Казимерас.
— Тьфу! — сплевывает Визгирда и встает из-за стола.
— Хоть при боль… не ругайтесь, — умоляет Визгирдене.
В глазах старой Даукинтене тревога. Потом Тякле, пододвинувшись к Казимерасу, начнет клянчить: может, он ей хоть меру зерна подбросит, может, клевера. Шмыгая горбатым носом, снует Криступене, раскрыв рот, прислушивается к разговору Константене. Константас вскидывает голову. Теперь они все чужие, поэтому и злятся друг на друга. Здесь всегда так: если двое, трое или четверо начинают о чем-то шептаться, советоваться или из-за чего-то торговаться, другие затихают, хотя прикидываются, будто ничего не видят и не слышат. (Привычка Криступене.)
Подложив под голову руку, Криступас лежит на старой софе с выпирающими пружинами и смотрит в окно, за которым колышутся ветки дерева. Теперь все волнует его, выглядит новым — и крыша риги, и сосны, и небо, и голоса в комнате — все как будто на старой, забытой картине.
Хотя теперь середина зимы, но кажется: на берегах реки уже подсохли тропинки… Выйдет он с Юзукасом, оглянется вокруг, нарежет лозы для корзин и для верши.
— Где ребенок? — спрашивает он.
— Куда-то умчался… Может, на реку.
В чуланчике гудят жернова. Константас уходит кормить скотину. Встает из-за стола и Казимерас. По комнате струится запах вареного мяса и щей.
— Есть будешь, Криступелис? — допытывается жена.
Криступас смотрит на нее, откинувшись на подушку, словно в толк не возьмет, откуда взялась эта замызганная горбоносая баба, чего она от него хочет.
— Давай.
Криступас берет ложку, спрашивает:
— Скажите же наконец, где я был?
Он продолжает смотреть в окно, за которым дрожат на ветру ветки дерева. Господи, какой чистый воздух, какой свет!
— Далеко, очень далеко ты был, — говорит жена.
— Я и сейчас далеко.
Вечером, наточив топор, он выходит во двор, чтобы наколоть дров. Все небо пламенеет. На востоке сгущаются дымчатые, цвета золы сумерки, светится белая кучка дров, крыша риги. Печально и протяжно гудят жернова, так гудели они, когда шла Великая Отечественная война и было ему, Криступасу, четыре годика. Мужикам раздавали повестки в армию. В такую вот пору ушел его отец и не вернулся; ушел Андрюс Жалнерюс и вернулся без ног; ушел Криступас и вернулся с осколком свинца под сердцем. Монотонное, угрюмое гудение жерновов в студеный зимний вечер. В такие вечера хватали рекрутов, в такие вечера деревня получала самые дурные вести. В такую вот пору под гуд жерновов уходили ужпялькяйцы, оставив все, и больше никто их не видел — ни матери, ни жены, ни дети.
Тусклый, красноватый свет, дрожащий на подоконниках, на стежках, на крышах, полон какой-то душераздирающей скорби.
— Сил у тебя еще маловато, — говорит Константас. — Пойди передохни.
Звонко насвистывая, брат рубит возле риги хворост. Криступас кладет ему руку на плечо и спрашивает:
— Брат ты мне или не брат?
— Брат, — Константас опускает глаза.
— Подними голову и скажи: да, я твой брат.
Криступас снова прислушивается к гуду жерновов.
— Много пьешь, — говорит Константас.
— Нет, не брат ты мне, — Криступас затягивается дымком папиросы. — Трудно тебе быть моим братом, трудно быть кем-нибудь, а в особенности братом. Ты только зовешься братом. Думаешь, я не знаю, ты ведь не отвез мою Эльжбету в больницу. Не отвез. Будь ты моим братом, ты бы со мной так не говорил.
— А что я могу еще сказать? — Константас озирается: где же плетушка; жена его давно уже прошла в хлев.
— В самом деле — что ты можешь? Что вы все можете? Многое мне здесь не по нраву, и подлаживаться ни под кого не собираюсь. И ты мне не нравишься, и твоя жена. Не по душе мне и Казимерас: я ему вроде и не брат, думает, что он большой и хитрый, а он — дурак. И Визгирда такой же: весь в землю ушел. Но я еще поживу, еще похожу по ней, никто не видит, как я хожу. Разве что мой мальчуган. Для него это должно быть важнее всего. Но почему, скажи мне, — говорит Криступас, глядя на застывшее лицо Константаса, — почему вы такие?
Из хлева доносится голос Константене:
— Ты, наконец, придешь или нет?
— Иду, — кричит Константас, поднимая с земли плетушку.
Мимо Криступаса, сопя своим птичьим носом, с вязанкой дров пролетает Криступене. Сквозь заиндевелое оконце смотрят на него жалостливые глаза старухи-матери.
Вот и Юзукас с охапкой стеблей малины.
— Погоди, тятя! — кричит он издали. Красный, запыхавшийся.
…Полдня лазил он по березнякам, выламывая стебли малины. День был погожим, солнечным. Изредка до его слуха долетали звон колоколов и удары молота из кузницы Кайнорюса, отсюда виднелась его кровля; отсюда Юзукас видел и крышу своей риги, возвышавшуюся над линией извилистого холма.
В лицо дул теплый ветерок, невесть откуда веяло терпким запахом, в котором Юзукас учуял дымок пороха. Им овладела вдруг какая-то дурманящая, непонятная радость. Все вокруг он как бы видел и воспринимал душой оправившегося от болезни отца.
Какой-то человек в кожухе подошел к нему и спросил:
— Ты чей?
— Криступаса.
— Какого Криступаса?
— Даукинтиса.
Человек в кожухе помолчал.
— Ты ему скажи, чтобы по ночам не горланил, а то плохо кончит.
— За что?.. Он тяжело болен.
— Это нас не касается… Да и сам ты… — он оглядел мальчика с головы до ног, — не путайся под ногами, — добавил он и скрылся в березняке.
Юзукас только теперь заметил, что здесь вырыто немало заваленных снегом ям — из одной торчали заляпанные глиной бревна и какое-то тряпье, несло запахом сырой земли. Какой-то бурый зверек, скаля зубы, заскулил у самых ног, Юзукас замахнулся на него лыжной палкой, но зверек не испугался. «Может, бешеный?» — подумал он, пятясь от него. Потом прогремел выстрел. Целили в зайца — косой, застыв возле камня, привстал на задние ноги, прядал ушами, нюхал воздух и прислушивался. В эту минуту пуля его и настигла — он взлетел вверх, словно его подбросили и, жалобно визжа, рухнул в снег.
Юзукас со всех ног бросился домой.
Через несколько недель у Криступаса снова стали собираться картежники.
Время еще довольно раннее (теперь, как уверяет Константас, дни длиннее). Не успеет Криступене внести в избу охапку дров, как уже летит с ведрами свиного пойла в хлев. Криступас сидит на софе и разглядывает карты. Чистый, старательно выбритый, волосы причесаны на прямой пробор, в зеленом галифе, в зубах папироса, кончик которой едва заметно подрагивает, и пепел осыпается прямо на колени. Рядом с ним Альгимантас — рыжие, как пшеничные колосья, волосы, спереди — волна, нос с четко вырезанными ноздрями, утончающийся книзу. Как они все похожи, думает Визгирдене, греясь возле печки. Юзукас подкладывает в огонь поленья и присматривает за Викторелисом, который ползает по полу, пытаясь поймать трепыхающиеся у печки сполохи пламени.
— Смотри, чтобы искра на голову ребенка не упала, — говорит мать Викторелиса.
Если бы кто-нибудь Юзукасу сказал, что из этого крохотного капризного существа когда-нибудь вырастет крепкий, плечистый мужчина, который будет называть его братом, он бы никогда не поверил и только рассмеялся бы.
— Мое сокровище, мой ангелочек, — шепчет его мама. Хорош ангелочек, ухмыляется Юзукас.
Теперь у них дома — мир, но Юзукасу это не очень нравится. Когда отец спокойно беседует с мачехой, пасынок крутится неподалеку, стараясь выказать свое равнодушие. И все же он чувствует себя обделенным. Что-то отталкивающее есть в переменчивой жизни отца и мачехи — то ругаются, то снова все хорошо. В этом есть что-то жалкое, какой-то непомерный энтузиазм. Даже воздух, которым они дышат, вызывает у Юзукаса отвращение. Но он молчит, держится. Все равно их согласие временное. Как только оно исчезнет, отец снова найдет своего сына. Но Юзукас старается быть справедливым к обоим. Пускай, их отношения — не его дело. Он — не сестра, которая, бывало, хнычет и жалуется. Велят ей набрать в яме картошки, а она сидит и плачет:
— Посмотри, разве другие дети столько работают, как мы?
— Набирай! Кому сказано! — сердится Юзукас.
— Сам набирай! Из кожи вон лезешь — только бы ей угодить.
— Еще скажи «ей»!
— И скажу!
— Эх ты, болтушка, бегаешь по дворам и слезы льешь!
— А ты бирюк!
Слово за слово, и начинается перепалка.
— Как ты не понимаешь, — говорит он, сам удивляясь своей мудрости и суровой правде, — ведь мы для нее чужие, а ты хочешь, чтобы она о тебе пеклась больше, чем о родном ребенке.
Но и эти слова не действуют на сестру. Ничего, «подействуют» его крепкие кулачки. В яме вдруг раздается такой визг, словно в ней сотня крыс передралась. В ужасе Юзукас смотрит, как сестра мчится в избу жаловаться.
— Ты зачем сестру обижаешь? — спрашивает отец, отстегивая ремень.
— Я ее не обижаю.
— Как же не обижаешь, — кричит сестра. — А кто в меня картошкой запустил!
— Я в тебя картошкой запустил? — кричит обозленный Юзукас — Как ты только можешь врать? Как? — возмущается он, ужаснувшись ее вранью.
Крики частенько раздавались и во дворе Визгирды — там тоже брат колотил сестру, только по другой причине.
Сестра врала, искажая каждое его слово, выдумывая всякие небылицы. А как она ластилась к другим, чаще всего к Визгирдене, как умела подольститься, изобразить из себя обиженную. Мало того, она и его учила врать. Этого сестра от него никогда не дождется! Почему он должен врать? Дороже всего для него была правда, с которой ни сестра, ни Визгирдене, ни мачеха здесь не считались, которую они попирали, раздирали в клочья, не желая видеть истинного положения вещей — одни его обижали и поносили, другие утешали и раззадоривали, словно он сам не знал, как себя вести. Они раздражали его своими расспросами, допытываясь, что ему мачеха дает есть, бьет ли его… Это было невыносимо. Омерзительно.
Юзукас думал, что прекрасно знает, кто когда виноват. Сестру презирал — никакой гордости, никакой выдержки. Есть и сироты с шипами. Ему хотелось быть только справедливым, но ему нравилось, когда мачеха хвалила его. Ласкающую ее руку он отвергал: не отстранить ее — значит совершить предательство, значит исподволь угодить ей. Юзукас не ел, если мачеха подсовывала ему кусок послаще. Глядя на нее в упор, он спрашивал: «А сестренка ела?» Несправедливость он отметал, и, казалось, такой мальчик достоин всяческого уважения. Мачеха почему-то бывала добра то с ним, то с его сестрой, то снова с ним — дескать, какой ты послушный ребенок. Но Юзукас старался, чтобы обоим любви доставалось поровну, и отказывался принять незаслуженную долю, неизвестно за что дарованную ему. Только сестра почему-то не хотела замечать этих его благих намерений. Юзукас страдал, когда она была неправа или не слушалась мачехи. «Вот почему она тебя не любит!», говаривал он ей. Прозвище подхалима его оскорбляло. Он не шел ни на какие сделки ни с сестрой, ни с мачехой, ни с теткой Тякле.
Он часто видел, как, вернувшись с мотыгами с огорода, сестра и мачеха хлебают простоквашу или борщ: тяжелые, сбитые о комья пересохшей глины ноги сестры, ее плоскостопие вызывали у него жалость; он видел, как она дует, прийдя с луга, на затекшие пальцы; видел, как они обе, намаявшись на молотьбе, вешают свои ватники, облепленные половой, греют суп в чугунке или мирно толкуют за столом на кухне. Юзукас радовался этому, но радость обычно длилась недолго. Что-то все равно случалось, сестра пряталась за печку и, прислонившись к кирпичам, облупленным Викторелисом, его цепкими ногтями, принималась плакать. Он смотрел на нее растерянный и думал, что теперь мачеха неправа. Слезы сестры обычно говорили об обиде. Без окриков и понуканий она охотно бралась за работу, словно хотела что-то наверстать, что-то доказать себе или другим, и бросала вдруг работу, будто кто-то больно ударил ее по рукам.
Здесь так заведено, говаривал Константас, если один ребенок плачет — ласкают другого, один хорош — другой плох. Кто знает, может, в его словах и была доля правды, ибо после отъезда сестры свою злость мачеха вымещала на Юзукасе — он чувствовал себя так, словно над ним раньше глумились, словно он был орудием в чьих-то грязных руках, орудием против собственной сестры. Теперь, когда нужда в нем отпала, его отшвырнули прочь. Как ни старался Юзукас угодить мачехе — это ему не удавалось. Но он упрямо твердил самому себе: она такая, как все матери. Он защищал ее от пересудов и сплетен. Мачеха есть мачеха, говорили все, однако он отрицал это старое неписаное правило. А сестра, казалось, только и ждала, когда начнут ее спрашивать, утешать, лить из-за нее слезы, — может, поэтому она без устали привирала. Юзукас же упорно продолжал домогаться любви мачехи. Он чувствовал себя и впрямь достойным ее — такой справедливый, послушный ребенок, никогда не лжет, никому не жалуется, языкастые бабенки даже стали злиться, что ничего из него не вытянешь. Однако все его усилия шли насмарку, наталкивались на глухую стену. Он никак не мог понять, почему мачеха отталкивает его и — что еще страшней — убеждена, что и он врет, жалуется на нее как сестра, все делает по чьему-то наущению, чаще всего Тякле Визгирдене. Как будто у него своей головы на плечах нет. Большей несправедливости и быть не могло. Никто, кроме отца, почему-то не хочет видеть, какой он на самом деле, ему пытаются навязать что-то свое, уговаривают, ругают и честят, пекутся и жалеют бесконечно (бабушка) и — самое страшное — цапаются из-за него, хотя он и ни при чем.
Быть мачехой нелегко, и слово «мачеха» в том смысле, в каком его понимали в деревне, здесь совершенно не годилось. Эта бойкая, нервная женщина вела себя с пасынком вроде бы так, что никто ее ни в чем и упрекнуть не мог. Но Юзукаса не любила. Он и не требовал любви, но инстинктивно к ней тянулся, как будто это была не мачеха, а родная мать. И никак не мог взять в толк, почему на него так часто обрушивается слепая и незаслуженная ярость мачехи, такая лютая, что он весь цепенел от отчаяния. Юзукас жаждал ее любви, как пожелтевший стебелек — света, но что было бы, если бы эту любовь легко заслуживали чужие дети — что тогда оставалось бы для своих? Если что и волновало душу, так только жалостливая улыбка детской невинности, обращенная к омрачившемуся солнцу.
Но эта женщина не понимала и его отца. Она металась, спотыкалась, как лошадь, запряженная в доверху груженную телегу, лошадь, которую беспрестанно понукает и сечет кнутом нетерпеливый возница, а телега все ни с места. Эта телега и впрямь увязла, но увязла на таком расхлябанном пути, что надо было сворачивать на совершенно другой, об этом ей не раз говорил Криступас, но мачеха, привыкшая к тому, что все ее бьют и поносят, продолжала двигаться по старому пути, единственному, какой она знала. То был путь, изъезженный чужими колесами, пагубный, сумрачный, полный стонов, а ее муж, напротив, предпочитал ездить налегке, вдоль рощ, чтобы вдоволь насладиться красивыми видами; его никто не понукал, не любил он и на других оглядываться. Один раз живешь, только один, говаривал он, глядя в подернутую голубой дымкой даль.
Полыхают березовые дрова, — оправившись от хвори Криступас их много наколол, — добела раскалились кирпичи печки и чугун. Во все стороны брызжет жар и лижет заиндевелые окна.
— Видишь, уже тает, — Константас отодвигается подальше от окна, через которое струится узкий ручеечек ветра. — Еще грипп схватишь.
— А ты всего боишься, — удивляется его сестра.
Константас только руками вертит.
Полдня он, насвистывая, носил из риги доски, тесал, пилил: сколачивал скворечники. Возле крутился Юзукас, подавал доски и гвозди; останавливались женщины с ведрами воды и диву давались: еще только начало марта, а он уже скворечники мастерит.
— Скоро прилетят, — уверял всех Константас, и с каждым разом удары его молотка делались громче. — Видишь, уже с крыши течет.
Он устроился на солнцепеке, под навесом, и, когда капля срывалась вниз, запрокидывал голову, оглядывался.
В серых верхушках кленов хозяйничал весенний ветер. В рощице Визгирды, вторя молотку Константаса, стучал дятел.
— Видишь, — Константас показал молотком Юзукасу на заросший сосенками обрыв возле своей баньки. — Уже лоскуты земли сереют, скоро весна, скоро и аисты прилетят.
Мальчик даже затопал ногами от обиды: и вправду на обрыве уже серел лоскуток земли, даже отсюда было видно, где обрывается его, Юзукаса, лыжня.
— Еще денек-другой, — говорил Константас, — и лед набухнет, а тогда уже, почитай, и весна. Аистиное гнездо надо бы устроить на крыше, да все времени нет. На, подержи! — протянул он Юзукасу доску и тронул рукой камень. — Уже теплый. То-то и оно. Может, уже и соки забродили.
Константас выломал ветку клена, потом долго оглядывал верхушку: где бы тут скворечник приколотить. Когда скворцы прилетят, поздно будет искать.
— Лучше бы ты нужник себе сколотил, — потеряв терпение, сказала жена.
Константас всегда по чему-то тоскует, чего-то ждет. Но больше всего он ждет весны, когда наступит пора сева; ждет трелей жаворонка, первой набухшей почки, далекого крика чибиса над окутанными мглой льдинами, когда они, ударяясь о деревья, проплывают мимо; ждет первой травы, первого грома. И не может надивиться, как быстро летит время — кажется, вчера еще стояло лето, а нынче уж и зима кончается. Давно ли Юзукас был вон каким, от горшка два вершка, а теперь… Как ребенок, радуется Константас, обнаружив первого червяка; можно понять детишек — тотчас пускаются рыбу удить, но чтобы взрослый мужик от этого ликовал, как-то странно всем. Заметив что-нибудь новое, Константас отправляется к Визгирдене и объявляет об этом таким тоном, словно великое открытие сделал: «Уже появились пауки, мушки летают. Ага… То-то и оно… уже летают…», «Большая для бабы радость — мушки летают! Облепят еду, будут кусать детей… Взялся бы ты лучше за какую-нибудь работу, чем чепуху молоть!»
Каждое новшество в природе как бы воскрешает давние надежды и обеты Константаса.
К вечеру, когда снова ударил мороз и заполыхало небо, собрал он свои инструменты, зашагал к хлеву, где хлопотала его Кастуте, и с жаром стал уверять ее, что надо выпустить телка — пусть порезвится, но, обруганный женой, замолк.
Теперь, сидя в избе Криступаса и прислушиваясь к треску поленьев в печи, Константас мысленно видит, как стужа снова затягивает ледовой коркой лужицы и прогалины, которые отогрело мартовское солнце, и сам он чувствует себя как будто замурованным в ледяную хату.
Криступене приносит горшок с дымящейся картошкой, и все, кто только изголодался, садятся за стол. Поев, Криступас устраивается в низком обшарпанном кресле. Он в башмаках на босу ногу, в исподнем с закатанными рукавами; чуть улыбаясь, он разглядывает свои карты и курит. Шаркая кирзовыми сапогами, из кухни в горницу влетает его жена.
— Дайте мне! Я покажу! — кричит она и проводит рукой по губам.
Она садится рядом с мужем, складывает между колен руки и начинает всем телом раскачиваться. Потом что-то вспомнив, вся съеживается и, прикрыв рукой рот, зевает.
— Ой, какая зевота напала, не могу.
Визгирдене внимательно смотрит на нее.
— Они оба как один человек, — говорит Константене.
— С Криступасом, что ли? — удивляется Тякле.
— Да что ты, Криступас совсем другой. Удивительно, как только они вместе живут. Вот с сыном Казимераса Феликсасом они были бы пара. У обоих одно на уме: хватать, загребать, орать, — говорит Константене.
— Что у них за жизнь, — машет рукой Визгирдене, привычно запихивая под платок волосы.
— Черт побери, никудышная карта, — ругается Казимерас.
— Все-то ты, Казюк, недоволен, все ворчишь, — откликается из своего темного угла старая Даукинтене.
— Сказала… как будто ребенка пожурила, — говорит Константене. Не любит она свекровь.
— Старость не радость, ничего не поделаешь, — отзывается дочь.
Криступене продолжает раскачиваться. Чем-то нерадивым и алчным веет от этого раскачивания, которое до основания обнажает убожество ее жизни и натуры. Криступас на жену даже не смотрит. Чистенький, как какой-нибудь интеллигент, он тасует карты.
— Ничего с такой картой не сделаешь, — жалуется Казимерас.
— А я сделаю! — кричит Криступене, с каким-то бесстыдством бросает карту и, снова сложив между колен руки, начинает раскачиваться из стороны в сторону.
— Откуда только ты их тянешь, — нагибается над картами Казимерас.
— Ха-ха-ха! — звонко скандирует Константене, ей вторит приглушенный смешок Визгирдене.
Когда они умолкли, вдруг стало слышно, как кошка лакает пролитое молоко.
— Брысь, паршивая, отсюда! А то как дам! — пинает ногой кошку Криступене.
— Вы только держитесь, — говорит сын Казимераса Феликсас и шмыгает приплющенным носом.
Привстав на цыпочки, в карты заглядывает Юзукас — к кому попала нарисованная им вчера карта?
— Только не подсказывать, — грозит пальцем Казимерас.
— Ты, Дровокол, смотри, — кричит из своего кресла Криступас. (Феликсас на спиртзаводе дрова колет.)
— Ну-ка, — Криступене бесшумно бросает на стол две теплые замусоленные карты.
— Ишь, какой, — говорит Константас, косясь на перепачканное лицо Юзукаса. Константас смотрит в окно на луну, плывущую среди туч.
— Ах, так! Я вас спрашиваю! — принимается кричать Дровокол, вскочив из-за стола.
— Ну чего глотку дерешь, словно тебя на раскаленный кирпич посадили? — укоряет его Визгирдене и тихо добавляет: — Хоть бы голос у тебя был, как у человека.
— Уж это всегда так, кто должен молчать, тот говорит. Как и неуч всюду любит показывать свою ученость, как трус — свою смелость, — вполголоса говорит Константене и косится на своего мужа.
Потом, когда пыл картежников остывает, взоры всех почему-то обращаются на Юзукаса — на кого он похож? На отца, на мать или на дедушку и бабушку?
Об этом уже не раз и не два было говорено. Это старый, почти неразрешимый спор. Одно время придерживались мнения, которое навязывал всем Константас: мальчик похож на деда, с которым большое сходство имеет и он, Константас, он все нахваливал Юзукаса, не забывая при этом добавить, что и он, Константас, как и сын Криступаса, обожал в детстве читать книги, у него была замечательная память. Но Константаса оспаривала Визгирдене: этот ребенок — вылитая мать. Константас заартачился и стал доказывать, что Юзукас больше похож на отца. Не выдержав, вмешалась Константене, которая молча долго ждала случая, чтобы разбить их в пух и прах. Она вышла на середину избы, встала перед всеми и, всплеснув руками — это было свидетельством ее величайшего удивления (примерно так она говорила и на колхозных собраниях), — принялась запальчиво уверять, что они все словно ослепли и только и знают — отец, отец, Константас, дедушка. Только это и знают. Она так разошлась, что всем хорошенько досталось.
— Так на кого же он похож? — отважилась спросить Визгирдене.
— На кого?! Да смешанный он! — отрубила Константене. — А родичей матери куда девали?! — сказала она таким голосом, каким однажды обратилась к своим судьям, спрашивая их всех вместе и каждого в отдельности: «А где вы были, когда я крала?!»
Все замолкли. Константене подтолкнула ребенка к свету, и когда тот, оборачиваясь и щурясь, прикидывал, куда бы улизнуть, ткнула в него указательным пальцем с наперстком — этот спор оторвал ее от вышивания.
— Нос, брови, губы, лоб — чье это все по-вашему? — не унималась она. — А уши, вот этот изгиб, откуда, спрашиваю я вас? — И так дернула ребенка за ухо, словно он нашкодил. Потом, немного успокоившись, тыкая иголкой в вышивку, снова спросила: — Разве у него есть какое-нибудь сходство с Константасом? Или с отцом? А может, с бабушкой? Говорите только для того, чтобы говорить, что один сказал, другие повторяют, словно своих глаз нет.
В наступившей тишине громко вздохнул Константас. Он отважился возразить ей. Начал тихо, издалека, подняв вверх палец, прищурившись.
— Все равно, — воскликнул он, вдруг согнув палец и потянув им, как крючком, мальчика к себе. — Все равно, — заявил он, — сходство какое-то есть!..
— С кем же?! — спросила его жена, оторвав взгляд от вышивки.
Не выдержав этого взгляда, Константас уступил:
— С отцом (на сходстве с ним, с Константасом, он не решился настаивать), — сказал он и принялся излагать свои доводы — дескать, имеются черты матери, но и черты отца тоже имеются, и отцовских черт больше. — Да вот хоть походка — бывало, и я стою вот так, но в армии, когда…
— Да ну тебя, болтун! — сказала его жена, но все остались довольны мнением Константаса. Только Криступас почему-то обиженно нахмурил брови: ему не хотелось, чтобы сын был похож на него, ибо, чего доброго, и доля сына будет такая же треклятая, как и его.
С Юзукаса разговор переметнулся на Викторелиса, потом упомянули и Витаутаса — он-то уж точно вылитый Визгирда; долго колебались, к какой ветви причислить детей Казимераса. Моркунасы — такова девичья фамилия их матери, — вылитые Моркунасы, уверял Константас: сплющенные носы, продолговатые лица. Ходят (Константас показал, как они ходят) сутулясь. Никто в роду Даукинтисов так не ходил.
Если бы кто-нибудь со стороны глянул на них, собравшихся здесь при свете лампы, то удивился бы: до чего же они все похожи. Старательно, с тщанием вылепленное лицо Криступаса, которое долго скребли, прихорашивали, пока все не подогнали. Криступас всю жизнь стремился к красоте. Ему хотелось, чтобы его дети были хорошо воспитаны, никому не завидовал, ни к кому не испытывал ненависти, его душа, как только могла, защищалась от скудомыслия, озабоченности, она была чиста, как у ребенка, Криступас умел наслаждаться мгновением, и все, что заслоняло это мгновение, он инстинктивно отталкивал от себя, отвергал, может быть поэтому на него так злилась эта женщина, влачащая из последних сил донельзя стертую лямку жизни. Криступаса влекло к далям, залитым солнцем, к солнечным бродам на реках — ко всему, что озарено светом.
Они по натуре своей были чужими друг другу, и если первое предложение жизни Криступаса надо было начать словом «как», то ее — словцом «сколько», ибо важнее всего для нее было обилие и количество. Криступас был намного лучше тех, кого она ставила ему в пример, он был благороден, но начисто лишен цепкости, ухватистости, поэтому и оказался за пределами шкалы ее ценностей. На светлолицего Криступаса сразу же обрушилась ее ненависть. Криступене была живым воплощением обиды, словно кто-то толкнул ее и вдобавок сказал: «Иди и ищи что хочешь». Она жила в слепоте: как ее однажды толкнули, так она и кидалась из стороны в сторону, не зная, чего ей больше всего нужно, не давая себе ни минуты передышки, точно ее секли жгучими розгами, — позднее Криступене эти огненные удары обратила на мужа. Началу каждой их перебранки предшествовали ее слова: «Что скажут люди? Посмотри, как люди живут, сколько у них всего, что они едят…» После таких слов Криступас принимался выть, как раненый зверь. «А я не человек? Кто я для тебя? У меня своя жизнь, понимаешь — своя! Мне, может, наплевать на то, что у других. Большое дело: едят! Жизнь дадена не для еды. Понимаешь?»
Ничего она не понимала. «Вы только посмотрите на него: жизнь! — кричала она. — Да у тебя ширинку нечем прикрыть — жизнь!» — «Ты только ширинку и видишь!» — «Иди ты, хиляк. Ты что, лучше других, что ли?» — «Лучше не лучше, но я им не завидую. Может, того, что у меня есть, нет у них», — как всегда с пафосом говорил Криступас.
Их разделяла глухая, нерушимая стена, по-разному они на все смотрели, по-разному думали и чувствовали.
Черты Криступаса, только более мелкие, и у Казимераса. Глянешь на него и, кажется, понимаешь, почему он все время ругается, отчего у него такой въедливый голос. Рука незримого мастера здесь потрудилась весьма прилежно, но явно перестаралась. Равнодушно, с ленцой и натугой вытесанное лицо Константаса осталось незаконченным, застывшим, с торчащим носом. Может, поэтому в душе Константаса засела какая-то обида, которая и заставляет его всех упрекать, учить, давать советы, словно он боится, что, если только он вовремя не вмешается, еще одна работа будет сделана скверно или случится какое-то несчастье. Ему все что-нибудь да не так, все нехорошо, то не на месте лежит, это не в порядке. Константас все выше будет поднимать голову, но это будет гордость человека, который никогда не играл сколько-нибудь значительной роли, однако не желал в этом признаться ни себе, ни другим.
Зато с какой уверенностью были начаты черты Тякле, заботливо вырезанные и красивые, как у Криступаса, пока она со смехом не отпрянула — ладно, хватит, и так хорошо — и, запихивая под платок волосы, поспешила к своим делам. Этот ее смех звучит и поныне, а глаза полны восторга и удивления, особенно когда она смотрит на детей.
Но работа еще не закончена. Природа еще прилежно лепит черты Юзукаса; одна-другая черточка рода Даукинтисов проступает и на лице крохотного Викторелиса, и когда первоначальное древо истлеет дотла, тот же ваятель — природа — еще долго будет работать по памяти, как работала она, подверженная обновлению и изменчивости, со дня возникновения этого рода, и тем самым из непостоянства и хаоса сумела донести и сохранить как дорогую реликвию ту или иную черточку, свидетельствующую о ее вечности и неколебимости. И может, когда-нибудь случайно упавший луч света вырвет из темноты их, усевшихся за стол, чтобы поужинать, как вырывает сейчас, и кто-то, возможно, обрадуется этому сходству, как радуется сейчас Константас, обнаружив свои черты на лице своего племянника — Юзукаса…
Колесо истории делает круг и назад не возвращается, но людские судьбы зачастую повторяются, хотя, как любит говорить Константене, может, и впрямь под солнцем ничто не вечно.
Криступене кладет карты, и какое-то доброе, дотоле неизведанное чувство захлестывает ее. Она чувствует, что способна на большое самопожертвование. Ее сердце еще умеет любить. Разволновавшись, она говорит с таким пылом, как будто дает присягу. Она и пасынку чем только сможет поможет. Разве ее вина, что не может его любить как собственное дитя. Но ее рука умеет еще быть щедрой и не всегда в ее доме царят недоразумения и ненависть. Порой ее лицо становится чистым и ясным — когда она наклоняется над своим Викторелисом, когда ставит на стол еду, потчует гостей или беспечно разговаривает с Криступасом. Она еще умеет нравиться и порой бывает по-юношески задорна…
Теперь, глядя на них всех сидящих за столом при свете лампы, она невольно вспоминает годы своей юности.
То было глубокой студеной зимой. Накормив скотину, принеся воды и дров, она сидела в своей каморке возле сундука с приданым. В избе, где круглые сутки трещал огонь в печи, ее трясло от холода. Неужто грипп, подумала она, кутаясь в шерстяную шаль.
С раннего утра она чистила свеклу, разжигала огонь, помешивала сироп в кастрюлях. Однако когда эта темно-синяя, пропахшая свеклой жидкость, превратилась в сладкую, липкую кашицу, половник у нее забрала невестка, которая теперь колдовала над кастрюлями вместе со своими детьми.
Не первый раз ее прогоняют от уставленного яствами стола, не первый раз она слышит счастливые звуки достатка — на сей раз это были клики детей брата с измазанными сиропом ртами. С того дня, когда ее заставили пасти стадо, и позже, когда кулак Жаркус повалил ее на солому, она превратилась в орудие труда, которое видит только жадные, хищные, скрюченные лапы, хватающие, урывающие что-то, уступающие ее друг другу. Ужас охватывал ее, жуть…
Пастушка, отверженная, батрачка… Ничего она не знала, кроме хлева, скотины, риги…
Кулак Жаркус, бывало, стоит и смотрит, как она подметает ригу, сгребает солому. Иди, подай, принеси, говаривал он, чеши через крапиву, вязни босыми ногами в осенней грязи. Хе-хе, говаривал он, показывая носком ботинка, где еще надо подмести. Всё для него, всё его — полные закрома зерна, на чердаке избы висят окорока, полти сала, колба́сы, скиландис, а батракам не позволит и косточку обглодать, лучше собакам бросит. (Может, поэтому теперь Криступене ни себе, ни другим ничего не жалеет; если кого-нибудь бог пошлет в ее дом, все, что только у нее есть, ставит на стол — угощайтесь.) Бывало, корову ли доит, набивает ли силосом кормушки, или, взобравшись на лесенку, вешает полти сала, — Жаркус уже тут как тут, тихо скользнет внутрь и стоит. Всюду догонял ее этот взгляд, обжигающий икры, ошпаривающий, как крапива или бодяк, может, потому, что была она задорней и трудолюбивей, чем другие. Однажды, в зимний день повалил он ее на солому… Хе-хе, сказал он, глядя, как она поправляет на себе одежду. В другой раз она боролась с ним до тех пор, пока не выбилась из сил, пусть делает, что хочет. Неизвестно, что он ей пообещал, но с того раза она все здесь делала как-то иначе, сама ловила взгляд Жаркуса. Хозяйка была при смерти, и Жаркус говаривал: «Хе-хе… ты здесь будешь хозяйкой. Работай, как для себя. Присматривай за девками, я за всеми уследить не в силах». Хе-хе, раздавался его смех, когда ее лицо искажалось от боли — руку ли она ушибет, нога ли, пальцы ли занемеют. Он вырастал словно из-под земли. Еще его не слышно, не видно было, а она уже чувствовала его взгляд, и так выворачивал душу этот его смех, что страшно становилось — так вползает вор, так поодаль от всех, где никого не дозовешься, начинается роковая ошибка, в которой один обязательно должен стать жертвой. Непонятную власть имел над ней этот престарелый крякающий и кашляющий мужчина; набитые доверху овины, хорошо ухоженная скотина, сильные и норовистые лошади, их сверкающие крупы, скрип сбруи, запах пота, дегтя и навоза, запах сваленных на задворках бревен, сладковатый запах зерна — все это слилось с зовом ее молодой плоти, обернулось разъедающим потом, испепеляющим жаром, едкой полынью, бодяком, опаляющим руки. Кроме работы, она ничего не видела и не слышала. Покормит поросят или напоит телка и летит ухаживать за Жаркувене, от которой остались одни глаза; ложкой раздвинет губы и вливает в рот жидкость, выгребает из-под нее, меняет постель… Жизнь здесь угасала, задыхалась от жары, смрад хвори привлекал рои мух, они жужжали на задворках, за хлевом, над ямами, где Жаркус закапывал павших лошадей, туда она мчалась рвать для утят крапиву, и все опрометью, бегом. Всё для Жаркуса, всё Жаркусу. Словно какая-нибудь преступница; бывало, упадет возле риги бревно, или конь ударит копытом, или вдруг раздастся смех парней, она только вздрогнет, прислушается и дальше мчится. Восемнадцатилетняя, загорелая, с потрескавшимися ногами, с исцарапанными руками, с глазами, полными ужаса, словно все здесь было живо только ею, словно все держалось на ее плечах. Любви она так и не узнала. Глаза ее не умели восхищаться, ласкать, лелеять, ждать или радоваться. Что-нибудь перекусит, вытрет о подол руки, и бегом, к чему ни притронется — тотчас же забывает, бросает, снова хватает, снова что-то ищет. У нее была только видимость желаний, жадных, ненасытных, как самовозгорающееся в страду пламя, оставляющее после себя только пепел, раздробленные камни, торчащие там и сям, как призраки, руины. Зола, туманы… Собаки, растаскивающие внутренности прирезанной скотины, смрад падали, телящиеся коровы, горячие внутренности забитой скотины, визг, стук и спешка — вот чем была ее жизнь. Шуршание и писк мышей в соломе, лазающие по стенам крысы, шмыгающие из-за углов хорьки, сытое пыхтение жующих коров, тыкающиеся в подол телята, свиньи, рвущиеся к корыту, равнодушное удовлетворение, которое светится даже в глазах животных, когда она, застегивая дрожащими пальцами блузку, вставала с соломенной подстилки, хихиканье Жаркуса. Чего хнычешь, сказал он, теперь ты можешь здесь хозяйничать. Видишь, моей жене уже совсем конец. Иди накорми скотину, не стой. И она хозяйничала: выпроводила вечно хохочущих и кривляющихся девок, трудилась и за парней. Хе-хе, говаривал Жаркус, а ты шустрая. Тебе и платить не надо, хе-хе. Придешь этой ночью ко мне? Придешь? И она приходила. Откинув на подушку вялую руку, она пролежала всю долгую рождественскую ночь, когда, по преданию, и скотина обретает дар речи, прислушивалась, как скребутся мыши, и думала о Жаркувене. Сжимая безжизненными пальцами ее руку, умирающая хозяйка рассказывала, как муж ее бил, показывала, куда он ее ударил, где и какие у нее были синяки. «Не ходи за него, даже если он перед тобой на колени встанет, не ходи, — дышала она ей в лицо болезнетворным жаром. — Пусть он подавится своим хозяйством, пусть все сгниет, не ходи за него, меня до времени в гроб загнал, теперь на него и смотреть не могу».
Она почти не слушала ее. Пошла бы, даже если бы он меня и убил, думала. Каким бы ни был, пошла бы. Она с тем же рвением хлопотала по хозяйству. Но однажды, когда она вытаскивала из печи горячие караваи хлеба, кропила их водой и раскладывала по полочкам — Жаркувене уже не было в живых, — вдруг, как всегда, послышалось хе-хе невесть откуда взявшегося хозяина. «Уж очень ты быстрой стала, — он осклабился и посмотрел на ее округлившийся живот. — Одна хочешь со всем хозяйством управиться». Она подумала, что он из сочувствия с ней так говорит. «Ничего, — проговорила, — мне только дай». — «Вот-вот, ты только и норовишь что-нибудь ухватить, вижу», — сказал Жаркус, глядя, как она прижимает к груди каравай. «Ты о чем, хозяин?» — «Вот о чем, — и он показал на сложенные на подоконнике сыры и крынки с маслом. — Куда один сыр девался? А это кто лизал? — ткнул он в масло. — И колбасы уже не хватает, я вижу». — «Так ты все это от меня стережешь? Поэтому ты за мной по пятам ходишь?» — удивилась она. «Может, и поэтому, хе-хе», — и Жаркус скрылся в дверях. Во дворе грохнулось наземь бревно. «Но, но! Куда прешь на оглоблю, но!» — покрикивал батрак, запрягавший гнедого. Великая драма ее жизни началась: несколько дней она ходила сама не своя, ко всему притрагивалась как будто чужими руками. Осунулась, все выжидала момент, чтобы подольститься к Жаркусу и сказать ему то, что не давало ей ни минуты покоя. И когда все уже, казалось, стало как прежде, когда она однажды бойчее, чем обычно кормила скотину в хлеву, снова подошел Жаркус, но он уже больше не хихикал, только притронулся к ее плечу и стал говорить, что она должна отсюда уехать; он, конечно, приплатит, даст в придачу меру-другую зерна, сам отвезет ее к брату, хоть сейчас, если она хочет. «Ну как, договорились?» — Жаркус посмотрел на нее так, что ей страшно стало. Все поплыло у нее перед глазами. Она смотрела на хрюкающую возле ее ног свинью — сытую, откормленную. Жаркус говорил — будет им на свадьбу. Вот тебе и свадьба. «Никуда я отсюда не пойду», — сказала. «Выгоню, если по-хорошему не желаешь», — уходя, проворчал Жаркус, а она осталась здесь, около своей хрюшки, словно приросла к загону, не в силах оторвать рук от заляпанной навозом жердочки, нагретой лучами закатного солнца, и одна ее часть как будто отделилась и в постыдно раздувающемся платье прошелестела мимо смеющихся во дворе батраков, мимо шушукающих девок и унеслась в теплые, какие и бывают в середине лета перелески, побрела по лугам, вдоль топей, а другая часть, грязная, со слезящимися глазами, осталась здесь, около свиньи. Некоторое время она так стояла, потом схватила мотыгу, которой вычищала корыта, и саданула хрюшку сперва в бок, потом в голову, потом стала бить куда попало. «Вот тебе, проклятая, подавись! — кричала она, ворвавшись в загон, и что есть мочи потащила корыто. — Подавитесь все моими слезами и по́том! За что я тут из кожи вон лезла, за что?»
С тех пор она делала все, чтоб только выбиться из сил, перенапрячься, таскала мешки, поднимала тяжести, волокла плетушки с соломой, но плод оставался жив, требовал своего, и она, намаявшись, вдруг бросалась к кадке с квашеной капустой или огурцами, пихала в рот кислые яблоки, поздние овощи. Так уж совпало: когда наливались и округлялись в саду и на огородах Жаркуса осенние плоды, резвились жеребята, когда все развивалось, росло и цвело, она должна была задушить свой плод. И теперь здесь, у Криступаса, когда начинает телиться корова, когда она, Криступене, смотрит на сосущих молоко поросят или телка, когда видит этот неутолимый голод маленьких визжащих тварей, ей вспоминаются годы, когда некуда было спрятать свое дитя — после долгих переговоров сына согласилась взять сестра, которую уговорил брат — и сегодня снова у нее болят груди, как тогда, когда она украдкой мчалась через кустарник кормить своего младенца. Поросята, которые лезут к своей матери, молоко, струящееся по морде телка, — часами напролет смотрит она на них, смеется над их визгом, над их кривыми ножками, пока отчего-нибудь не приходит в раздражение. «А, проклятая, получила, — кричит она, колошматя корову по морде цепью. — Будешь знать, как лезть! будешь знать, как бегать, будешь знать, как лягаться! Вот тебе, еще хочешь!» Корова, которая щиплет сено из охапки, поросята, перемахивающие через загородку, когда она приносит ведро с пойлом, пасынок, ждущий лакомства или хлеба, все, кто голодны, нетерпеливы, все, кто лезет к ней и устремляет на нее взгляд, — возбуждают в ней теплое чувство, а порой ярость, ибо всюду она встречается с такой жаждой, с таким голодом, каким сама преисполнена до краев. Все, кажется, тянутся к ее добру, зарятся на него, ждут, когда она что-нибудь сделает, но самое странное, что если кто-нибудь — Криступас или Юзукас — пытается ей помочь, она приходит в еще большую ярость, потому что ей не нужна помощь, — пусть все видят, как она из кожи вон лезет. «Это тебе не дом Жаркуса, — иногда срамит ее Визгирдене. — Чего ты так носишься, сколько у тебя этого хозяйства. Подожди, пока наседка закудахчет, тогда и иди яичко искать». — «Ну тебя», — отмахивается Криступене и хватается за какую-нибудь работу, которая уже сделана, была бы только причина на всех кричать.
Когда никто не слышит, она с остервенением работает, скороговоркой сыплет обидные слова, кого-то укоряет, дает отпор, сводит старые счеты, ругает Визгирдене, соседей, которые, кажется, завидуют ей, как когда-то она завидовала Жаркусу и невестке.
Где это видано: ее вынудили отречься от собственного ребенка, а теперь она должна растить двоих чужих! Никто ее здесь не понимает. Даукинтисы только привыкли к ней, к ее приступам нежности и злобы, привыкли удивляться, пожимать плечами и уже совершенно не придают значения тому, что она делает. И ее сердце не лежит к ним. Чужие они для нее. Кто ее поймет — Константене, у которой никогда детей не было, Визгирдене, которой ни до чего на свете дела нет? Только ее Витукас да еще, может, Криступас или Константас. Как призрак она здесь.
В тот день она подметала стежки во дворе, осматривала свое приданое: у невестки она жила одной мыслью — выйти замуж, и все ждала сватов издалека. Решила, что не дождется. Когда она сидела в каморке, лицо ее казалось запущенным и бесцветным. Студеный зимний свет, пучками лучей падавший на ее узорчатую сорочку, мелькнул в заиндевелом окне, но лица ее не коснулся. Она глядела на белые, отточенные ветрами сугробы, из которых торчал край плетня, на глубокие, проторенные ее ногами стежки в хлев, в погреб, в ригу. Был конец февраля, и солнце уже, видать, чуть-чуть пригревало, ибо в дверях хлева, выискивая зерна в оттаявшем навозе, копошились куры. Кем-то напуганные, они бросились во все стороны. Увязая по колена в снегу, во двор влетела пегая, хорошо откормленная лошадь. С саней спрыгнул коренастый мужчина в коротком кожушке, зеленых галифе и перебросил через круп лошади вожжи. Другой остался в санях. Пока первый возился с упирающимся конем, она успела увидеть и лицо Криступаса — это был он. Моложавый, раскрасневшийся от мороза. Она еще удивилась, почему он так дергает за уздцы лошадь и все время покрикивает «тпру» таким голосом, словно не удерживал ее, а подхлестывал. Ее вдруг осенило, что он хочет покрасоваться перед ней, поэтому так старается. Ей стало почему-то стыдно. Штаны его сзади обвисли, хотя в боках широкие, словно надутые, швы неровные…
Из саней вылез второй мужчина, старый, с красным мясистым носом. Он стоял, пялясь на угол хлева, где были свалены бревна, — брат ее работал лесником и продавал древесину. Старый не понравился ей с первого взгляда. Некоторое время так и стояли рядом: один — неуклюжий, в тулупе, другой — в летней кепке, в начищенных сапогах. И смотрел этот, в сапогах, не на угол, где были свалены бревна, а на юго-запад, туда, где виднелись высокая зубчатая стена леса и белый, почти касающийся ее вершины холм, освещенный лучами клонившегося к северному краю леса солнца. Неподалеку от этого холма начиналась широкая просека, вязкие брусничные перелески, озеро, кустарники, которые она исходила вдоль и поперек в годы ее пастушества, — при одной этой мысли ноги ее запылали, словно снова потрескались, оцарапались, обожглись о крапиву; там, на юго-западе, виднеется и высокая крыша избы Жаркуса.
Вскоре к приезжим подошел ее брат. Немного поговорив, они направились не к бревнам и не в избу, как она надеялась, готовая броситься убирать светелку, а в хлев. Не собирается ли брат продать ее буренку?
Когда она выскочила во двор, мужчины переминались возле коровы, а тот, в галифе, уже рылся в бумажнике. Изо рта у него торчала дорогая папироса, в углах губ играла странная улыбка. Деньги он отсчитывал так, чтобы все видели, сколько у него еще осталось.
Сколько раз потом она увидит его таким, беспечным, смеющимся, увидит его лицо на базаре, возле прилавков, всегда, когда он тянется за бумажником, чтобы тотчас же его без всякой надобности опустошить; сколько раз такое его лицо вызовет у нее ненависть и желание удержать его легкомысленную руку, вырвать из нее деньги!
«Комедия», — любил говорить Криступас. Неизвестно почему он ломал эту комедию: может, хотел порисоваться, может, считал себя свободным от всех земных забот; может, льстило ему недолгое чувство превосходства: сгорбленные спины, взгляды, брошенные исподлобья, втянутые в плечи головы. Разве Криступас хочет видеть только таких людей, торговаться с ними, ловчить? Нет, никогда. Избавьте его, ради бога, от таких компаний!
Вот и теперь перед ним стоял один из таких мужчин — долговязый, с тонкими повисшими руками, он ловко сунул в карман почти на треть денег больше, чем надеялся получить, и теперь, чуть подавшись вперед, ждал, что еще скажет человек в галифе.
Анупрас обиженно хмыкнул — кто-то сосватал его Криступасу, как знатока, прекрасно разбирающегося в скотине, но не успел Анупрас и взглянуть на корову, слова произнести, как сделка была закончена.
— Кто же эту корову доить будет? — проворчал он вполголоса.
Тогда-то, словно из-под земли, выросла маленькая, лет тридцати женщина, и сказала, что корова принадлежит ей и что брат не имеет права продавать ее. Наступила тишина.
— Ну, раз так… — протянул Криступас, шагнув к ее брату, но хозяйка коровы схватила его за руку и что-то прошептала. Немного поколебавшись, покупатель в галифе направился к выкрашенной в зеленый цвет избе с крылечком, а рядом трусила эта женщина.
Через четверть часа они уже сидели за столом и пили ржаной самогон из синих, отдающих холодом, рюмок, закусывая маринованными грибами. Криступас все время косился на сидящую рядом женщину, наполнял рюмки, без умолку говорил, пробовал кушанья, рассказывал о войне, о городах, в которых ему довелось жить или побывать. Она очень удивилась, услышав, что теперь он промышляет торговлей. И такого названия — Ужпялькяй — она не слышала.
— Где этот Ужпялькяй?
Все замолкли: ни брат, ни его жена такой деревни не знали. Жили они среди лесов, выезжали редко. Мало кто и их навещал — разве что покупатели древесины. Криступас принялся рассказывать о своей жизни — вдовствует, дескать, двое детей… Но его попутчик был хмур и неразговорчив. Навалившись обеими руками на стол, он запихивал в рот еду. Он уже давно махнул рукой на Криступаса: что бы тот ни говорил или ни делал — все ему казалось сплошной ерундой, а вот то, что он сам делал — это другой коленкор. Чем-то попутчик смахивал на Жаркуса.
Вечерело. Солнце уже цеплялось за верхушки деревьев. Криступас вдруг примолк: по столу скользнула тень, плетни и деревья уже припорошил иней, но свет еще падал на далекую стену леса и белеющий в сумраке холм.
— Непривычно мне здесь, — сказал Криступас. — Всюду пущи, одни пущи…
Сквозь заиндевелое оконце струился синий сумрак. Поблагодарив за угощение, Криступас долго жал ей руку, и в ее глазах мелькнула унылая и студеная тень: обещал когда-нибудь заехать, дескать, понравилось ему — только теперь она почувствовала жаркое прикосновение его руки. А брат с невесткой уже выгоняли из хлева корову. Криступас нетвердым шагом двинулся к саням…
Недели две спустя он и снова приехал. На сей раз один. Посватался. Она согласилась не раздумывая. Уехала, любезно со всеми распрощавшись, утирая слезы. Только досадовала, что забыла надеть сорочку с узорами по краям, которая лежала на дне сундука под рулонами тканей.
На полдороге их застигла вьюга, и Криступас должен был несколько раз слезать с саней, тащить увязшую лошадь, поправлять сбрую.
До Ужпялькяй они добрались в полночь. Вьюга к тому времени уже унялась. Светила полная луна.
— Какой пустырь, — сказала она и подумала о том, как здесь придется жить. — Вокруг нас дремучие леса, там никто не видит, что ты делаешь, а здесь…
— Здесь мы все в куче.
Это ей не понравилось. Она косилась на дремотные избенки. Они здесь меньше, чем у нее на родине, больше скособочились, сразу видать, что здесь плохо живут.
Криступас начал ей объяснять — вот изба брата Казимераса, там, в долине, среди сосенок, живет его сестра Тякле Визгирдене, а это его дом. На южной половине избы обретается брат Константас со своей женой, а на северной — он, и она увидела заметенное снегом крылечко, дверной косяк с вырезанными буквами К+М+Б.
Она еще не подозревала, с какой обидой будет хлопать этими дверьми, не знала, что и сапоги мужа, и кожух, и сани, и лошадь, и даже попона не его — все одолжено…
Они выгрузили из саней сундук, но лошадь выпрячь не успели: во двор вышел мужчина с озабоченным лицом. Поприветствовав ее, он взял вожжи. Лошадь была в мыле, и мужчина стал упрекать Криступаса: зачем так гнал, чего так спешил, не мог раньше выехать. Грубый окрик Криступаса заставил его замолчать.
Вот и кухня: печь, шкафчик, ведра — от всего несло студеным запахом мочал, только печь дышит едва уловимым теплом. В другой комнате — софа, стулья, шкаф, этажерка, на ней часы с фосфоресцирующим циферблатом. Сюда она и свой сундук для приданого поставит. Пока Криступас пытался нашарить спички, она успела все осмотреть. Чувствовала, что в комнате есть еще кто-то, кроме них. Зарывшись в одеяла, спал ее пасынок. Она хотела было наклониться над ним, но удержалась, поймав на себе чей-то взгляд. С фотографии, висящей на стене, на новую хозяйку смотрела мать мальчика. Позже всевидящие глаза покойницы, то грустные, то за что-то тихо упрекающие, будут настигать ее всякий раз, когда она разозлится или разобидится. О многом они могли бы ей поведать. Поведать и посоветовать…
Пройдя на цыпочках через комнату, она открыла шкаф, из которого выпали лисий воротник, туфельки на высоком каблуке, черная потертая сумочка, набитая бумагами — то были квитанции ссуд и поставок.
…Шелестя, соскользнуло с нее платье, и только сейчас она почувствовала, какое у нее еще упругое, властное тело. Звякнула отлетевшая от лифчика пуговица — единственный мертвый звук среди живого шороха и шелеста.
Так начались слепые ночи неуемной страсти. В Криступасе и в ней проснулось что-то, что было сильнее их. И не было ни меры, ни передышки.
Утром их разбудил ребенок. Он стоял у кровати, держа в руке пуговку от лифчика. Сквозь окна сочился голубой свет, за стеной хлопали двери, хрустел снег. «Кастуте, куда ты, Кастуте. Дай, я поднесу», — и два силуэта — один высокий, другой сутулый, маленький — проскользнули под самым окном.
Надо было затопить печь, накормить скотину. Она заговорила с мальчиком.
— Как тебя зовут?
— Юзукас.
— Ты знал, что я приеду?
— Знал.
— Ждал?
— Ждал.
— Холодно было спать?
— Нет.
— Кто я тебе буду?
— Мама.
— А где твоя настоящая мама?
— Умерла.
— Есть хочешь?
— Хочу.
— Ладно, сейчас сварю.
Отвечая, Юзукас разглядывал пуговицу.
Были и такие минуты, когда она, жарко натопив избу, забиралась на печь, мальчик читал осетинские сказки — тоненькую книжку в темной обложке с парящими над хребтами Кавказа орлами; или сказки о Синей Бороде, о волшебной лампе Алладина, Али-бабе и сорока разбойниках, коте в сапогах и золушке, которую в зимнюю стужу выгнали искать подснежники. Под завывание вьюги за окном или под треск плетней мачеха рассказывала, как бегала босиком по насту за стадом, как ей приходилось гнуть спину у Жаркуса. Затекшие ноги, исцарапанные в кровь икры, крапива, бодяк, можжевельник, топи, кишащие гадюками, разъяренные быки, бешеные лисы и собаки, бегающие ночами по голове крысы, волки, подкапывающиеся под фундамент хлева, овцы, лезущие на стену, кровь в хлеву, на снегу, кровь на доске, когда мачеха заржавевшим гвоздем насквозь проткнула себе ногу, гной, гангренозная ступня, раскаленное железо, выжигающее раны, горящие копыта лошадей, поваленные наземь жеребята, визг, крики, грохот — все это укоренилось в памяти ребенка, срослось со сказками, слилось с его собственными впечатлениями, дополнило их, словно и он там жил, бегал за стадом, стерег от волков овец; воображение рисовало ему далекий край, леса, огороженную высоким частоколом усадьбу, там летом стоит адский зной, на ржаных полях растет один только бодяк, над дворами кружат и кружат ястребы, лютуют неслыханные морозы, белеют непролазные сугробы, по ним мчатся отощавшие волки, рыси прыгают на людей, может, даже шакалы воют, гиены… Не хватает там только тигров и крокодилов — таким ненасытным было его воображение. Но зато какое высокое, какое синее летнее небо он видел там, в этих лесных просветах, где столько клюквы, где так жарко, так душно, просто пекло — какие там должны быть студеные родники, какая там, должно быть, живительная сень!..
Была в доме Криступаса и другая радость: убой скота, оживленные мужские голоса, горячее жаркое, дымящиеся щи, желтые струи молозива, сытые рты, первый крик ее ребенка, жадно тянущиеся к груди губы, первые зубки…
Потом начались обиды.
Многое было общим в здешнем быту — из одного и того же родничка три семьи брали воду, по той же дорожке ходили в ригу… Она всегда была только орудием труда и хорошо запомнила одну истину: у всех пальцы гнутся только к себе. Ей хотелось жить так, чтобы все с завистью смотрели на ее избу, ей хотелось как можно скорее наверстать упущенное, но мужу ее до этого не было никакого дела. И мало-помалу сгущались тучи ненависти. Вскоре Криступас узнал, что она своего ребенка отдала сестре — это было выше его понимания, но еще более странным было то, что она не чувствовала за собой никакой вины. Как отличалась эта женщина от Эльжбеты! В душу закрались тоска, отчаяние, посыпались горькие упреки. Все чаще он задерживался в местечковой забегаловке, проматывал все деньги.
Пусть гром разразит такого человека, сказала она однажды, свой ребенок голодает, а он все тратит на чужих. Да еще и чужой ребенок путается под ногами. Конечно, он ни в чем не виноват. Но от этого еще обидней. И она лепила Юзукаса так, как ей подсказывала ее ненависть.
Наконец картежники разошлись. Проводив их, Криступене принялась стелить постели. Старая Даукинтене устроилась в темном углу, куда едва проникал свет лампы, и принялась шелестеть страницами требника. Криступас лег на широкую софу с выпирающими пружинами. Одна рука под головой, в другой — папироса. Как бы сгибаясь под ношей времени, жалобно тикают часы — четырехугольная цинковая коробочка с фосфоресцирующим циферблатом. Цифры меняются, искрятся и напоминают Криступасу новогодние карнавалы в городе, шумные пирушки, музыку или тихие и мирные семейные праздники. Часы бьют двенадцать. Под их удары поднимали бокалы с шампанским. Был у них дома обычай отмечать дни рождения детей, именины, помолвку, бракосочетание… От них остались только красивые названия. Его вторая жена не надевала белой фаты. По такому поводу больше за его столом не собираются ни друзья, ни близкие. Праздничное, взволнованное лицо женщины, ее глаза, искрящиеся радостью, теперь только воспоминание. Когда гости разойдутся, никто уже ему не шепнет сокровенных слов. И лежит он напрягшись, словно прислушивается к какому-то далекому эху, словно слышит звук чьих-то приближающихся шагов — ведь сегодня день его первой помолвки.
У стола, держа в руке лампу с закопченным стеклом, стоит женщина в широкой поношенной сорочке. Она как бы натыкается на ледяной, бесчувственный взгляд мужа — уже который год в его доме не отмечаются семейные праздники. Только в дни рождения детей он требует, чтобы изба сияла, чтобы натопили баню и все сели за стол, вымывшись.
— Лампу гасить? — спрашивает женщина.
— Гаси.
— Здесь будешь спать?
— Здесь.
На миг их взгляды скрещиваются, выдавая все, что скопилось в них за три недели его болезни.
Криступене подносит лампу к узким губам. Свет, затрепыхав, гаснет. Слышно, как она шлепает босиком к кровати, начинает зевать и потягиваться. В кроватке пищит меньшой, шелестит солома тюфяка, и в наступившей тишине молится старая Даукинтене. Тикают часы…
Яркий, яркий лунный свет. Густые сосенки стоят в глубоком снегу, отбрасывая четкие тени. Сияют обледеневшие крыши. И снова Криступас один.
Он плохой муж, плохой отец, плохой человек. Илом занесло его солнечные заводи и броды. Криступас лежит, подложив под голову руку. Ему кажется, что он свободен, но эта женщина еще докажет, еще скажет ему, кто он на самом деле. Как он посмел стремиться к чему-то бо́льшему, хотеть того, чего она не хочет! Такие, как он, не знают ни роздыха, ни покоя. Их секут кнуты рода, стегают до тех пор, пока они не лишаются рассудка или, как животные, не опускаются на колени. Теперь от его тела осталась только изношенная оболочка. Теперь ему все безразлично, теперь ему все равно, думает он, мысленно представляя себя маленьким ребенком, который ползает вокруг стола. Зеленоватость весеннего небосвода, набухающие почки, теплая серость крыш; потом все затягивает кровянистой мглой, кто-то тянет его к себе, окунает в хлюпающую глину, которая течет по бокам и впитывается в его одежду, тело толкают вниз, пока его не накрывает по самую макушку чистой прозрачной водой; в ней колеблется какая-то странная растительность, плавают рыбы и отражается высокий небосвод. Вода начинает давить на него, зажимает ему рот, заливает уши, и такой гуд стоит в висках, что кажется — он вот-вот взорвется.
Старая вздрагивает от его криков и второпях начинает молиться.
— Криступас, — зовет она испуганным голосом.
— Что, мама?
— Ты уже встаешь?
— Надо, пора.
Она нашаривает шлепанцы, которые всегда ставит под кровать в одно и то же место, находит палку. Пока разводит огонь, пока готовит еду, Криступас одевается — сапоги, портянки, сермяга, к его удивлению, совсем сухие и теплые, только он долго не может найти шапку.
Протягивая ему завернутую в бумагу еду, старуха боязливо спрашивает, чего это он так ночью кричал. Язычки пламени прыгают в зрачках ее округлых глаз, на лице забота, словно она готовит его в дальнюю дорогу. Подает ему варежки, новые, двойные — связала, когда он хворал.
Потом, подойдя к боковому окну, смотрит, как он пересекает соснячок Визгирды и, свернув к холму, исчезает в сумраке звездной ночи.
Размахивая крыльями, в хлеву заливается петух. Старуха начинает суетиться, словно ее ждет уйма работ.
Таким утром мужики, бывало, отправляются на базар с песней. Снова зорька занялася… Красивый голос был у ее мужа. Когда он затягивал, все выходили, чтобы послушать его. Не хуже голос и у Криступаса. Криступас — ее поскребыш. Ее затаенная печаль и страх. Колотится в глухой тишине сердце, когда она начинает думать о Криступасе.
Еще далеко до зари, но воспоминания о других рассветах, когда она, проводив мужчин, разжигала огонь в печи или отправлялась в чуланчик крутить жернова, наполняют поля теплой добротой. Поля, по которым уходит Криступас.
Накрыв Юзукаса, старая снова забирается в постель. Та же тишь, к которой прислушивался Криступас. Хрустальная тишь, в которой дробятся звезды, рассыпаясь на сверкающие пылинки.
Старуха научилась двигаться почти бесшумно, но Криступене, ее вторая, непризнанная сноха, все слышит. Ее грубый голос распугивает все мысли старой Даукинтене — не накрыла, видите ли, Викторелиса.
— Чего это ты бродишь по ночам, как привидение, — говорит сноха. — Он что, сам не мог взять себе еду? Маленький он, что ли?
— Да ладно тебе, — отмахивается старая. Поднявшись, Криступене ставит на огонь горшки — теперь ей принадлежат рассветы. Но звуки, доносящиеся из кухни, — нетерпеливы и как бы выдают обиду. Старую вдруг захлестывает лютая ненависть к своей снохе, ко всем ее снохам, укравшим у нее сыновей, и она, дав себе слово весь день не отвечать на ее вопросы, складывает на груди руки. Только заботиться о внучке́ ей никто не возбранит. И никто не возбранит ей сиживать у оконца…
Плотно сжав губы, закрыв глаза, старая Даукинтене лежала в постели, и холодные лучи зимнего солнца касались ее старого, морщинистого лица. Порой она поправляла узелок белого в крапинку платка, заталкивала его по старой привычке под подбородок, чмокала высохшими губами, поворачивалась лицом к свету, который сочился сквозь низкое, запорошенное снегом окно.
Она крепко поссорилась со снохой — за что та пасынка Юзукаса, ее любимого внучка, все ругает и гонит из избы — то дровец ей принеси, то картошки, то огонь разведи. Что бы ребенок ни делал, все нехорошо. А ведь он маленький совсем, что он разумеет. «Если бы могла, сама принесла бы», — говорила она ворочаясь на соломенном тюфяке. «Да ты не волнуйся, не переживай, — пропела сноха. — Никто твоего сиротинушку в обиду не даст, не бойся. И не суй носа, куда не следует». — «Ладно, ладно», — говорила старая хриплым голосом, не вставая с постели. Но убедить сноху ей так и не удалось. Тогда-то она и повернула лицо к оконцу. Пусть сноха знает: внучонка, пока жива, она никому не позволит трогать.
Ей чудилось, что ребенок такой же маленький, как и девять лет тому назад, когда, ухватившись за юбку, он шел рядом с ней на базар, испуганно оглядываясь по сторонам. Сидит он на холодном полу, голодный, грязный, и возится с какой-нибудь пустяковиной, найденной под лавкой или под кроватью. Пальцы его посинели от холода, и сам он весь закоченел. Где же отец, почему он не возвращается, думает старуха, прикованная хворью к постели. Связала бы ему свитерок, носки или варежки, да спиц в руках не удержать. Пыталась раза два подняться, звала Юзукаса, просила, чтобы подошел, хотела дать ему рафинаду, кусочки которого прятала под подушкой, все от себя отнимала и ему давала. «Юзук, — кричала она хриплым голосом, — подойди же. Юзук, ты что не слышишь?»
Юзукас не слышал, а может, и не хотел слышать. Закрывшись в чуланчике, он лупой ловил лучи зимнего солнца, подпаливал ими измочаленные концы рукавов своего пиджачка и прижигал бородавку на руке. Боль пронизывала его, как укол иголки, и тогда он крохотную огненную точечку направлял на край стола и ждал, когда загорится дерево. Запах дыма доставлял ему невыразимую радость, он обнюхивал и ощупывал маленькую ранку — дырочку, выжженную в древесине. Когда мачеха отругала его, он тайком вытащил книгу по астрономии и принялся ее читать. Но ему очень трудно было представить себе, какими громадными являются солнце и другие звезды, отдаленные от земли на миллиарды световых лет. Когда-нибудь ему будет позволено взглянуть на небо через телескоп, и он увидит огненную корону солнца и протуберанцы, увидит приближающиеся к земле и удаляющиеся от нее созвездья, но вряд ли какие-нибудь телескопы расскажут, что чувствовала его бабушка в тот студеный зимний полдень, лежа у низкого, запорошенного снегом оконца; солнце навсегда останется для него маленьким, заиндевелым, повисшим над далеким лесом, таким, каким он поймал его лупой в тот зимний день, когда вдруг, не докричавшись ни до одного из своих близких, умерла его бабушка.
Еще с вечера она почувствовала себя плохо: шумело в ушах, ломило суставы. Не прошла тяжесть и днем. Мысленно старая все звала внучонка. Потом чуть успокоилась, легла на спину, зажмурилась и вдруг почувствовала осторожное, испуганное прикосновение — словно маленький ребенок подошел к ней на цыпочках и принялся гладить ее лицо. Она даже моргнуть боялась — не вспугнуть бы его.
То были зимние лучи солнца — их приятная, едва уловимая ласка. Лучи дрожали на узорчатой сорочке, касались рук старухи, скользили по лицу, ласкали и гладили морщины, и она улыбалась кому-то далекому, недосягаемому, незримому, случайно забредшему в ее студеное жилище.
Озаряя низкий край неба, солнечная колесница катила своей дорогой. Солнышко — верный спутник ее работ, ее радетель и кормилец. Когда-то оно оглядывало пустующие закрома, первым вбегало в ригу, когда бабы шли набивать половой мешки; оно пригревало ее спину, когда она мяла и трепала лен; свет его струился сквозь пальцы, когда она пряла; лучи его трепетали на испачканных мукой досках, когда она в чуланчике крутила жернова; солнце, опутывавшее своими нитями люльку, далекое, до времени погружающееся во мрак, бессильно перед стужей, захватывающей дыхание, старое, умаявшееся зимнее солнце, тщетно стучащееся в заиндевелое оконце. Как жадно впитывали его далекую ласку все поры белого изможденного лица старухи! Солнце навевало далекие воспоминания, куда-то еще звало, подбадривало и вместе с тем как бы прощалось со старой на веки вечные. Но сил подняться у нее уже не было, не ее нога нажимала на жужжащую прялку, сновал по избе внучок, мычала, высунув голову из хлева, буренка, из печурки на пол падали искры и головешки, тоскливо гудели посреди зимы жернова, под стрехой риги ворковали голуби, застывали те мгновения жизни, когда она, старая, еще так была нужна везде и всем. Вслед за зимами наступало лето с долгими теплыми вечерами, с высоким, какое бывает только в страду, солнцем над холмом; заколыхалась белая рожь, прошелестел, словно чей-то вздох, ветер; она стояла в проеме риги и веяла зерно; ударяясь о стволы сосен и кручи, над округой плыло эхо ее валька. И всюду с ней было солнце, повитуха всех ее работ, солнце, сопутствовавшее ей с раннего утра ее юности до позднего вечера ее старости.
Однажды в полдень она с бабами полола свеклу на огромном помещичьем поле. Стояла жуткая жара, земля была тверда, как камень. Ох, если бы появилось облачко и заслонило этот адский небесный огонь! Так жарило тогда, так пекло, что даже в глазах темно становилось, и белые языки пламени извивались у самых ног, воздух дрожал, как раскаленное стекло, даже белые бабочки падали, не успев взмахнуть крылышками. Замолкли кузнечики, перестали жужжать пчелы. По небу ползли белесые облака, но сквозь их завесу пекло еще сильнее. Все ждали дождя с грозой и громом. Но то, что случилось, всех напугало больше, чем гром среди ясного неба: потемнело, подул легкий ветерок, замерцали звезды. На мгновение наступила мертвая тишина. Дети с криком бросились к матерям, замычала скотина. Поднялся такой переполох, что никто не знал, куда бежать, за что хвататься. До конца жизни не забудет она ужаса, который охватил их тогда, когда в самый полдень вдруг наступила ночь. Уж лучше пусть печет, пусть жжет лицо, руки, плечи, подумала она, куда лучше, чем такой ужас. Она со всех ног пустилась по полям куда глаза глядят…
Вот и теперь старухе кажется, что солнце вдруг скользнет вниз — почему так робка его ласка? — и воцарится вечная ночь. Ночь и стужа, сковывающие все живое. Она все еще тянется к свету, но чувствует, что по лицу уже ползут тени. И потом почему так тихо стало в избе? В сенях слышны шаги, это ее сын Константас, он молча садится за стол и начинает вертеть руками. По соснячку спешит дочь Тякле, раздался, похоже, и тихий, тающий басок Криступаса, кто-то, крича тоненьким детским голоском, бросается к ней, но она так и не открывает глаз. Солнце уже садится. Тень сходит с ее лица, и оно становится мстительным и суровым. Старуха инстинктивно пускается на маленькую хитрость: по своему долгому житейскому опыту она знает, что любви лишается прежде всего тот, кто не умеет скрыть, как он ее жаждет, не умеет приворожить ее всякими уловками и притворством. Пусть покидает ее и этот последний луч, пусть. Она поворачивает голову в сторону, и вдруг ее, старую, всю заливает светом. Солнце, которого она полдня так ждала, солнце, которое испуганно, такими короткими шажками приближалось к ней, бредя по бесконечным снежным равнинам, вдруг оказывается рядом, заливает ее всю, она подтягивается, рука, как оброненный предмет, падает с кровати, плотно сжатые пальцы разжимаются: легкое воздыхание и…
— Кончено, угасла, — говорит ее бесплодный сын Константас.
Когда кровать обступили дети, когда, примчавшись из чуланчика, к старой кинулся ее внучек Юзукас, она лежала с чуть раскрытыми губами, словно кому-то улыбалась, и гаснущий, теплый, зимний свет дрожал на ее помолодевшем лице.
…По холмам и долинам ползли тени. Огромное багровое солнце опиралось о черную кромку леса. Приближалось время вечерней трапезы, время долгой звездной ночи и отдыха.
Через минуту-другую во двор войдет вытянувшийся подросток — Юзукас, любящий читать книги по астрономии и представлять себе необозримые галактики, выйдет сын покойницы Константас. Какая стужа, скажет Константас, окидывая взглядом звезды. Их там на небе миллиарды миллиардов, и все величиной с солнце, подумает Юзукас. Одна звезда пролетит мимо другой, ярко сгорая. И словно далекий гром, прокатится по галактикам. Может, это и правда, что у каждого человека есть своя звезда, скажет Константас. Какая ерунда, подумает Юзукас. Их там миллиарды миллиардов, их свет до нас доходит за тысячи световых лет. Они все во много раз больше, чем Земля. Слишком большая роскошь для человека, для такого крохотного создания, иметь такие светила. Вот если бы они были такими, какими они нам кажутся, я бы еще понял, подумает он, трогая свою лупу.
Другое солнце, крохотное, близкое, свое, как теплая ладошка внука, видела бабушка. Солнце — спутника ее работ, горемыку-солнце этот мальчик будет называть только оптической иллюзией…
Орудия труда Криступаса — лейка, метла, совок, грабли. В беленном известкой погребе, сквозь низкие оконца которого почти не проникает свет, он проращивает солод. Струи горячей воды, пар, валящий едкими клубами, запах перегретой рассады. Но желтые огоньки ростков, от которых лопается одежка зерна, не успеют увидеть солнце. Высушенные, растертые жерновами, они будут ссыпаны в котел, где будут бродить и клокотать во всю свою недобрую мощь, пока их не одолеют, дистиллируют, процедят и они не превратятся в капельки коварной жидкости, от которой расширяются вены и багровеют лица и которую накапают в бидоны и разольют по цистернам.
Вот и теперь под началом бригадира Айгулиса мужчины грузят бидоны с этой жидкостью в машину. Все вышли посмотреть. Только Криступасу некогда — работает не разгибая спины.
— Иди и ты поработай, — говорит он Юзукасу.
Тот вылезает из угла. Лицо у него белое как бумага. Еле держится на ногах.
— Что случилось? — спрашивает отец.
— Ничего.
— Если ничего, бери метлу и подметай.
Какая там метла, если Юзукас не знает, жив ли он, есть ли у него руки…
Всё здесь его очень интересует, все он норовит потрогать. В стене, возле дверей, он заметил черную костяную коробку, точно такую, как для сапожной ваксы. Однажды, будучи еще совсем маленьким, он нашел такую коробочку в чьей-то избе под кроватью. Ощупывал, обнюхивал, не в силах надивиться ее запаху. И теперь не выдержал, сунул руку: посмотрит, что там внутри. Вдруг кто-то хватанул стальными клещами его пальцы да как начал трясти — кажется, живьем в пасть какой-то адской машины затянет. С трудом удалось оторвать от этой коробочки руку. Ни жив ни мертв, доковылял до отца и видит: рука цела и кровь не течет, и пальцы все на месте, но все равно глазам своим не верит. И вместе с тем тайком радуется — будет что Визгирдёнку и другим друзьям рассказать.
Криступас подмел солод, натянул серый свитер, запер двери и, перекинувшись шутками с мужчинами, обступившими машину, отправился в цех. Ноги у него, как у старого кавалериста, — кривые, шапка потешно сдвинута на бок, в зубах папироса, прищуренные глаза смеются.
Стучат поршни, гудят приводы. Кто-то открутил кран и обдал Криступаса и Юзукаса облаком пара. В гомоне голосов выделяется смех Дровокола. Склонившееся к закату солнце льет свой свет прямо в высокие и широкие окна цеха, и в облаке пара сверкает радуга; черные запотевшие трубы, тоненькие чуткие стрелки, стеклянные трубочки, указатели…
— Как в бане, — говорит Криступас сыну, бредущему сзади. Они идут, остерегаясь шестеренок и приводных ремней. Мысленно Юзукас видит поверженного исполина: закутанные брезентом плечи, весь он из чугуна и стали; чугунный лоб в испарине, исполин ежится от отвращения, изрыгает брагу, которая стекает в какую-то речку. Стекают чистые капли, выжатые из капилляров его металлического тела. Судорожно подпрыгивают стрелки — чуткие показатели его агонии.
Мужчины подсовывают под заржавевший кран пустые консервные банки.
— Пейте, — Дровокол протягивает всем жестянки с бурой, зловонной жидкостью.
— Сам пей, — говорит Криступас.
Он озирается по цеху, словно что-то ищет. Потом, отыскав жестянку, начинает возиться возле какой-то медной трубки. С другого конца цеха за ним наблюдает мастер Юодка — высокий, в потертой куртке. По сравнению с ним другие мужчины кажутся карликами.
Любимое занятие Юодки — охота. Как только лужицы затягивает ледком и на поля ложится первый снежок, Юодка отправляется охотиться на птиц, волков или зайцев. На обратном пути он всегда заходит к Криступасу. Юзукас не раз пробовал вкусное, пахнущее ветром жаркое, только в нем почему-то попадаются дробинки, иногда их столько, что можно зубы сломать. Юзукас собирает эти дробинки и складывает в кучку — свинец ему всегда пригодится; свинец и пустые со стреляными капсюлями гильзы. Особенно ему нравится, когда мужчины в застолье песни затягивают.
— Ты что там, Даукинтис, делаешь? — улыбнувшись, кричит Юодка.
Криступас прячет за спиной жестянку.
— Тебе пить нельзя.
— Я не себе наливаю.
— А кому?
— Ванагелису отнесу. Он боится здесь показываться.
Ванагелис, щуплый, неказистый человек, во дворе котельной колет дрова. Удары у него сильные, он высоко замахивается топором с длинным топорищем. Криступас показывает на него и добавляет, что за такую работу человек и впрямь заслуживает награды.
— Смотри у меня, — грозит ему Юодка пальцем, — чтобы ни капли. Всякие коленца потом выкидываешь, а я не успеваю тебя из бед выручать, к тому же, говорят, ты и меня спьяна поносишь.
— Это что — угроза?
— Ты не слишком хорохорься. Пока я тут начальник.
— Что думаю, то и говорю…
— Твое счастье, а может быть, несчастье, что ты слишком добрый. Добрый со всеми.
— Не тебе меня учить. И ты, я вижу, не очень-то разбираешься.
— Ну, ладно, ладно…
На том они и расстаются. Хороший, добрый человек Даукинтис — Юодка это знает. Только не может он понять, что ему с этой добротой делать. И работник он незаменимый — вкалывает за троих — словно с кем-то соревнуется. Не без гордости называет себя пролетарием. Он мостил площади, строил мосты, прокладывал большое Жемайтийское шоссе, работал в ресторанах… Скажешь не то слово — положит совок, и будь здоров.
Из котельной высовывает голову Рудавичюс, некрасивый мужчина, у которого очень красивая и веселая жена. В глазах у него всегда печаль. Огорчают его и дочери — обе учатся из рук вон плохо.
Рудавичюс подмигивает Криступасу. Отшвырнув жестянку, Даукинтис топает в котельную. У огромной высокой печи уже стоят Дровокол, скотник Дауётас, за печкой, выискивая что-то, роется в замусоленных тряпках трясущийся старик с искрошившимися зубами, в длинном пальто. Найдя что-то, он подходит к мужчинам, показывает и спрашивает: «Кто потерял? Надо положить на место». Протянув им какую-нибудь тряпку или железяку, он снова топает за печку.
— Зачем ты, папаша, этот хлам собираешь? — спрашивает Криступас.
— А? — вопрошает старец и прикладывает к уху маленькую, как ракушка, ладонь.
— Совсем в детство впал, — говорит Дауётас, крупный мужчина с вспыльчивым норовом.
Старик шмыгает, как испуганный зверек.
— Ишь ты, слышит, — говорит Дровокол.
— Какой ты наблюдательный, — отзывается Криступас.
— Когда надо, я все замечаю.
— Наблюдательность твоя яйца выеденного не стоит. Нет у тебя в жизни своей колеи.
Криступас подходит к старику с жестянкой в руке.
— На, выпей.
Тот ежится — ни за что, но рука сама тянется. Он выпивает.
— Старость, ничего не попишешь, — говорит Криступас. — Все мы старости дождемся.
Мужчины стоят у пылающей печи. Рудавичюс сгребает совком угли, и отсветы пламени начинают плясать на стенах. По лицам струится пот. Рудавичюс проводит рукой по лбу. Уже много лет он топит эту печь. Подбросив уголь, он стоит, глядя на печь, и сполохи огня трепыхаются на опаленном пламенем лице. Высоко поднимая топор, колет дрова Ванагелис. Ух, ух…
— Надо бы и ему отнести, — взяв бутылку, Криступас выходит во двор.
— Плохо, если завод закроют, — говорит Рудавичюс и кладет совок.
— Они здесь как у бога за пазухой, — сопит сплющенным носом Дровокол.
— А закуска у нас есть? — спрашивает вернувшийся Криступас.
Рудавичюс разворачивает скиландис, хлеб…
— Я тебе только в одном завидую, — жена у тебя… — говорит Криступас.
— Не завидуй, еще неизвестно, какая она на самом деле… — отзывается кто-то.
Сполохи огня лижут стены здания. Мужчины закусывают. Пахнет тмином и чесноком. Юзукас сглатывает слюну, а вместе с ним и все рабочие. Они отщипывают по кусочку, мысленно представляя себе женские руки, которые мололи это мясо, набивали… Красивая жена у Рудавичюса, нравится она Криступасу. Но сам Рудавичюс почему-то печален.
— Все они хороши, пока спят, — говорит Дровокол.
— А ты откуда знаешь? — спрашивает Криступас.
Дровокол ухмыляется — не знает, что и ответить.
Взобравшись по лестнице, они устраиваются на печи. Рудавичюс проверяет наружную дверь.
— Пойду Ванагелиса позову, — говорит Криступас.
— Что ты все время из-за этого Ванагелиса голову себе морочишь? — удивляется Рудавичюс. — Ты что его не знаешь: мигом директору доложит.
— И без него докладчики найдутся, — Криступас косится на бригадира Айгулиса, который только что взобрался на печь. Вялый, жующий мясо не столько от голода, сколько по привычке рот, крохотные блестящие глазки. Он делает вид, будто ничего не видит и не слышит. Упитанный, в ватнике с расползшимися швами. «Твоя песенка спета», — думает Рудавичюс.
Все знают, что жена Айгулиса ушла с другим, и это как бы определяет их отношение к нему. Айгулис ест, ни на кого не обращая внимания. Но никто не уплетает с такой жадностью, как Дровокол. Он первый в работе, первый в разговоре, первый и здесь, в еде. Там, где трудится Дровокол, другим делать нечего. Его язык прямо-таки вязнет в трясине слов. В его речи оживают все слова, какие он когда-либо слышал. Это не столько говор живого человека, сколько треск какой-то без умолку тарахтящей машины, заглушающей стук лопат, удары топора и молота. Нет такого русского слова, которое он не произнес бы по-литовски, и нет такого литовского слова, которое он не произнес бы по-русски. Там, где трудится Дровокол, Криступас не может работать — перепонки лопаются. Он жалеет своего доброго и трудолюбивого племянника. «Это руками таких, как ты, — не раз говорил он ему, показывая на здания поместья, — и эти хоромы построены, и этот овин, в котором твоих прадедов крепостных до смерти секли».
Нет равного Дровоколу в работе, но нет равного и в сквернословии. «Дровокол!» — презрительно шипит кто-то. «Дровокол, — с тоской произносит Криступас. — Придумай ему самую тяжелую работу — все сделает!» Дровокол — это жалкая тень Криступаса: не щадя себя, и он в юности катал камни, таскал бревна… «Теперь другие времена, Даукинтис», — сказал бы Юодка. «Да я и сам знаю, винокур», — отрезал бы Криступас.
Юодке очень не нравится, когда его так называют.
Мужчины продолжают закусывать — пухленькая, тепленькая ручка Айгулиса, твердая рука Юодки, тихая, осторожно отщипывающая хлеб — Рудавичюса, щедрая, кормящая своего ребенка — Криступаса и еще чья-то проворная, почти незаметная, пытающаяся схватить самый лакомый кусок. И глаза. Чьи-то зоркие, наблюдающие за всеми ими глаза…
Уже смеркалось. Здесь тепло и уютно. Огонь освещает их лица, слышно, как в углу устраивается на ночь старик Дарбенас. Может, и Рудавичюс заночует, порой здесь коротает ночь и Криступас…
— На, Юзук, — Криступас протягивает сыну кусок скиландиса. Слово «Юзук» для мальчика, как удар по голому заду. Он чувствует себя мужчиной — сидит с мужчинами и ведет себя, как они: предложи они ему выпить — выпил бы…
— Бери, бери, чего стесняешься? — говорит Рудавичюс.
— Я этого ребенка никак понять не могу, — начинает разговор Криступас, — позовешь — не откликнется, краснеет, ежится, словно собственного отца стыдится.
Пот прошибает Юзукаса.
— Нехорошо, сынок, — мотает головой Рудавичюс. — Отца надобно любить. Отец только один. Никто тебя не будет любить так, как отец.
— Я его на летчика выучу, — хвастается Даукинтис.
Рудавичюс хмурится: плохо учатся его дочери. Но и Юзукасу летчиком не быть: он любит рисовать, запоем читает книги… Покуда он и сам не знает, кем будет, но когда-нибудь они еще вспомнят этого мальчика, сидевшего с ними в котельной на печи, и уже теперь отсветы ждущей его славы освещают их лица, играют на стенах, точно пламя, вырвавшееся из огромного горнила. Он видит их как бы из далекого будущего, смотрит на них, стараясь запомнить все их черты. Горло сжимают спазмы волнения. Да, да, когда-нибудь они его вспомнят, поймут, кто сидел с ними, — ну и что, что сейчас его почти никто не замечает.
— Ты слишком высоко летаешь, Даукинтис, — говорит Рудавичюс. — Лучше бы под ноги смотрел.
— А у меня под ногами то, что и у всех, — яма, — говорит Криступас.
И впрямь я высоко летаю, думает он. Единственная моя надежда — этот ребенок. И я все спрашиваю себя, что его ждет, кем он будет. И тревога закрадывается в душу, что он такой тихий, всех сторонится, только смотрит, наблюдает, слушает…
Привыкший всюду первенствовать, больше всего в жизни ценивший настойчивость, Криступас никак не может согласиться с такими качествами сына, да еще признать их достоинствами. Он хотел бы его видеть другим, таким, чтобы каждый его жест, каждое движение кричало на весь мир: это точно, я буду летчиком.
Юзукас уже встречал в жизни таких летчиков, которые обожгли свои крылышки. Разве его отец не один из них — обжегшихся и разочаровавшихся? Предчувствие подсказывает ему, что теперь здесь требуется что-то другое и в первую голову — чтобы слова не расходились с делом, поскольку пока что он слышит от отца только пьяное бормотание о его глупых мечтах… Он хочет жить чем-то таким, что отличалось бы постоянством и смыслом. Уже ясно, куда завело отца его легкомыслие. Юзукас жил так, словно знал, что на свете есть что-то самое важное, оно важнее того, что ценят и чем живут взрослые.
Он трудолюбив, но хозяйственные работы не привлекают его. Не последний он среди своих одногодков, но и не первый. В жилах такого ребенка бьется гордость, может, даже бо́льшая, чем нужно. Да, он будет, думает он о себе в третьем лице, будет ученым или поэтом. Кем-то будет, и в этом нет сомнения.
Жизнь, текущая по жилам рода Даукинтисов, уже иссякла, исчерпала себя. Она должна хлынуть либо с еще большей силой, либо… совсем угаснуть. Жалость и стыд вызывает у Юзукаса жизнь отца. А что такое его дядья — Казимерас, Константас? Все время они пятились назад, но пятились горделиво, балагуря и зубоскаля; пятились, пока не очутились у того предела, где скопилось все, что привело и к бессмысленному бунту Криступаса, — оскорбленная гордыня, уничижение, коварство, угрызения совести. Хватит балагурить, хватит размахивать руками, хватит, хватит! — кричит беззвучно ребенок. Хватит строить из себя того, кем ты не являешься. Кто-нибудь должен воспарить и выпрямиться во весь рост. Даруй этому мальчику лисью хитрость дяди Казимераса, пристальный взгляд Константаса, пагубную, праздничную доброту отца, и то бы ему чего-то не хватало: не хватало бы суровости, свойственной роду его матери, привязанности к старым обычаям, не хватало бы искусных рук дяди Повиласа, который вырезал из дерева какие-то злые, скрюченные фигурки, не хватало бы жадной хватки скальпеля, скрупулезности, чтобы никогда ни на йоту не уклониться от того, что однажды было тобой предначертано.
Уже теперь в глубине души Юзукас их презирает: слишком мало и ничтожно то, что они делают, чем живут. Никто для него здесь не может быть примером; уже теперь он чужой для них, он, который больше всех сросся с их родовым древом, но который от него и больше всех оторвался.
Может, он и впрямь будет летчиком, думает Рудавичюс, оглядывая мальчика. Если отец так считает, может, так оно и будет. Я не считаю, я знаю, говорит себе Даукинтис.
Юзукас отрывается от своих мыслей. О чем это они переговаривались шепотом? Почему так переглянулись? Что здесь произошло?
Айгулис уплетает скиландис, глядя на Юзукаса своими блестящими, на выкате, глазками. Взгляд у него какой-то колючий — словно его кто обидел. Рудавичюс что-то шепчет Айгулису, показывая на ребенка. Айгулис понятливо кивает. Бессвязно тараторит Дровокол, и голос у него, как всегда, такой, словно он от кого-то защищается. Айгулис продолжает уплетать скиландис.
— Смотри не подавись, — говорит ему Криступас. — Будет тогда у Дровокола работа. Но и колом он из тебя кусок не выбьет.
— Ты тоже… вот этим кусочком, — показывает тот на Юзукаса, — не подавись.
Старик Дарбенас наконец ложится. В окне светят крупные звезды, на стенах колышутся отсветы пламени. Тепло старику будет здесь.
— Я пошел, — Юодка вытирает обрывком газеты губы и руки. — И чтобы тихо у меня. Если что-нибудь услышу — всем влетит. Через полчаса чтоб ни одного здесь не осталось. Договорились?
Рудавичюс кивает, в круглых глазах Айгулиса вспыхивает насмешка, но их тут же обволакивает равнодушием и ленью.
— Думает, что мы дурачки, — говорит Айгулис.
— Ты о чем? — спрашивает Рудавичюс.
— Он всегда загадками говорит, — басит Криступас. — Но, я думаю, пора уже кончать это представление.
— И ты, Даукинтис, боишься? — спрашивает Айгулис.
— Я?! — удивляется Криступас. — А кого мне тут бояться? Тебя? Кому ты теперь, когда закроют завод, служить будешь?
— Знаем мы тебя: тебе ничего не стоит всех послать к черту, но ты, друг, поосторожнее.
Вот кого я больше всех не терплю, думает Криступас, людей, которые пугают всякими намеками.
— Одно счастье, — говорит Айгулис, — что у тебя много заступников.
Он нагибает голову и что-то лепит из хлебных крошек. Большая ответственность давит на плечи Айгулиса, он должен всюду быть, все видеть.
— Твое здоровье, — говорит Криступас, и мужчины только теперь замечают, что Айгулис в кожаных штанах и его правая рука в кармане.
— За меня можете не волноваться.
— Руку из кармана вытащи, — приказывает Криступас Айгулису.
Непонятную роль играет на спиртзаводе этот человек. Одни его сторонятся, другие к нему липнут, в глаза ласковы, а за глаза его последними словами поносят, хотя никто толком не знает, за что.
Айгулис встает — пойду, мол, принесу еще кварту.
— Все равно не сегодня-завтра этот заводик прикроют, — лицо Айгулиса злорадное, округляется, как у женщины. Ишь, хочет, чтобы его дурным словом не поминали.
— Все эти реформы не обошлись без его участия, — говорит Рудавичюс, когда Айгулис уходит.
Дровокол начинает ругаться: пес, черт, оскопленный петух леггорнской породы… Все, что когда-то говорилось об Айгулисе, мутным потоком срывается с уст Дровокола.
— А тебе-то он чем не угодил? — удивляется Криступас.
— Ты еще за него заступаешься?! — ярится Дровокол. — Не знаешь, что он про тебя сказал?
— Да мало ли какое слово может вырваться.
— Что-то не понимаю я тебя, Даукинтис, — говорит Рудавичюс. — Он на тебя помои льет, кусает исподтишка, а ты его оправдываешь.
— Не испытываю я к нему никакой ненависти и не верю, чтобы он мне желал плохого — я же ему этого не желаю.
— Никто тебя об этом не спрашивает.
Дровокол продолжает поносить Айгулиса. Это чистейшее недоразумение: может, Айгулис кому и строит козни, может приглашает комиссии, но таким, как Дровокол, он ничего дурного сделать не может.
— Дурень ты, дурень легковерный, — говорит племяннику Криступас. — Не видишь, не знаешь, а говоришь. Может, он как раз за таких, как ты? Может, он и неплохой человек, но только несчастный — где его семья, какими ветрами его сюда занесло? Что ты понимаешь, что ты знаешь? В шкуру его влез, что ли?
Слова его гулко звучат в кромешной темноте котельной.
— Пойди огонь разведи, погас, — велит Криступас Рудавичюсу.
За широким окном бродит черная, занесенная углем мартовская ночь.
— Все мы легко можем стать Айгулисами, — размышляет Криступас. — А ты, Дровокол, первый. Тебе только что-нибудь посули, покажи, и начнешь ползать и ластиться. И никакой вины не почувствуешь. Все хороши, когда спят.
Тяжело поднимаясь по лестнице, возвращается в котельную Айгулис. Он запыхался, побледнел.
— Сердце, — он расстегивает ватник и солдатскую гимнастерку, приваливается к трубе. Ловит ртом горячий, удушливый воздух.
Рудавичюс пристально смотрит на него, потом берет из его рук бутылку и говорит:
— Я слышал, ты неплохой человек.
— И кто же это выдумал?
— Совет, — говорит Криступас.
Все смеются.
— А я и не знал, что тут у вас какие-то советы.
— Ты много о чем еще не знаешь…
— А что, Феликсас тоже в этот совет входит? И Криступас, старый забастовщик и горлопан?.. — Айгулис косится на Криступаса, словно хочет сказать, что знает о нем куда больше, чем другие, только никому об этом не обмолвился.
— Рука руку моет, — говорит Рудавичюс.
— Ну что, полегчало? — спрашивает Криступас у Айгулиса.
— Уже лучше.
Айгулис выпивает рюмку и впивается взглядом в Дровокола.
— Такие вот делишки, Феликсас. Говоришь, советы; советы, которые распадаются, когда кому-нибудь из их членов улыбнется удача, и начинают создаваться после неудачи?
— Не всегда, — обижается Криступас.
— Это ты, Дровокол, — Айгулис наклоняется вперед, — всегда в совете… в совете, который ничего не значит.
— Ты его Дровоколом не зови, — говорит Криступас, который сам же дал племяннику такое прозвище.
Феликсас начинает сопеть своим сплющенным носом, что-то бормотать, но Айгулис его перебивает:
— Погоди, я еще не кончил. Совет, каждый член которого прихлебатель, лизоблюд… А твоя линия, где она, твоя линия, Феликсас Дровокол?
— На какую это ты нас сходку кличешь? — говорит Криступас. — Раньше, перед войной, когда я работал на жестяной фабрике, приходили к нам люди, которых называли агитаторами, и так говорили: зачем вы работаете? как вы работаете? сколько вам платят за это? Говорили, что мы должны высоко держать голову, предъявлять свои права. Раньше частенько такие к нам приходили…
— Надо и теперь так говорить, ой, надо, — вставляет Айгулис.
— Штрейкбрехеры мы, что ли? — вопрошает Криступас. — Видишь, человеку нужны резиновые сапоги, комбинезон, вот и выпиши… Ведь ты председатель месткома. Выпиши! А ты все называешь его Дровоколом, хотя он за десятерых работает. Ты подал заявление, я тебя спрашиваю? — обращается он к Феликсасу.
— Да он, может, и писать не умеет.
Наступила неловкая тишина, в которой они по совести толковали с Дровоколом. Криступас сам его сюда устроил. И они вместе уйдут, если завод закроют. И их пути разойдутся навсегда. И не только их, а всех, кто сейчас в котельной.
— Ну что, выпишешь? — спрашивает Криступас у Айгулиса.
— Ладно. Пусть будет по-твоему. Но знай: скоро эта коровушка перестанет доиться.
— А сам ты куда денешься? — допытывается Рудавичюс.
— О! Долог еще мой путь, — таков ответ Айгулиса.
Все они привыкли о любой новости судить по словам Айгулиса: рано или поздно все то, о чем он упоминает в разговоре или на что обращает внимание, становится важным. Айгулис всегда добивается своего. И черпает он свои новости не из кабинета директора, а из какого-то более отдаленного источника. Не поймешь, кто поддерживает Айгулиса, откуда эта его тайная сила и уверенность в себе, которая чувствуется в каждом его слове. Иногда тон его бывает просто угрожающим. Они часто слышат, как он говорит: «Мы еще посмотрим… Нам не надо…» Хотя голос у Айгулиса слабый, шуршащий, но слова его производят внушительное впечатление; кажется, уже одно его прерывистое дыхание придает им какую-то магическую силу. Рабочие завода часто видят, как он в конторе глотает таблетки, которые запивает остывшим чаем из термоса. Айгулис никогда не спешит. Он долго изучает разные квитанции, документы. Со стороны кажется, что более миролюбивого и несообразительного работника, чем он, трудно найти. Он всех привлекает своей добротой, но доброта эта какая-то прилипчивая. Говорят, что своими теплыми, пухленькими ручками он не одного погладил так, что тот долго, ох, как долго помнил его. Но одно Айгулис без сомнения обожает — власть. Ему нравится, что все чувствуют его силу, нравится, что его сторонятся. Хитер, как лиса, говорят о нем одни. Настоящая липучка, уверяют другие. Третьи его называют угрем. Это единственный человек, которого никто не может понять до конца, и поэтому все осторожничают с ним.
…Разговор, как всегда, начинает вертеться вокруг политики — они поминают Кремль, Черчилля, Трумена, говорят о бактериологическом оружии, колорадском жуке, Корее… Говорят, что многое теперь должно измениться, и папиросы подрагивают у них меж пальцев.
Они расходятся, попыхивая в темноте папиросами, тихонько разминувшись в узеньких коридорах, снимая с вешалок испятнанную сажей одежду, сунув под мышку потрепанные портфели, на прощанье пожав друг другу руки…
Мартовская ночь светла и свежа. В вышине горят мириады звезд, шурша, плывет по реке шуга, гудит электростанция, выбрасывая из почерневшего жерла трубы яркие искры. Я знаю, думает Криступас, я чувствую самые таинственные узы, которые соединяют людей и разъединяют. Знаю, как плохо Айгулису.
Они проходят мимо электростанции, сворачивают к реке, по которой плывет шуга. Слышно, как вдали, где-то на полустанке Трумбатишкис, заливается гудок поезда. Компания останавливается, прислушивается. Потом Криступас начинает что-то пылко объяснять племяннику, который шагает, понурив голову, и, не понимая слов дяди, кивает ему на каждом шагу.
Сзади плетется Юзукас.
Раньше они частенько так сиживали у печи в котельной. Но эти посиделки были последними. Через неделю всех пришибла весть, что арестован директор спиртзавода.
Видели его редко. Чаще всего вылезал из «газика» или влезал в него. Всегда с битком набитым коричневым портфелем, в длиннополом пальто с широким меховым воротником… Он чем-то был похож на доктора и имел привычку всем подавать руку — даже Юзукасу.
Пошли всякие слухи. Одни говорили: что-то темное всплыло в его прошлом, другие — что он допустил большую растрату. Все рылись в своей памяти, пытаясь по-новому обмозговать то, что директор когда-либо говорил.
Зачастили комиссии, посыпались повестки в суд. Проверяли, пломбировали машины, опечатывали склады — уже который день висела пломба на солодовом цехе, где работал Криступас. Люди собирались в кучки, судили-рядили и так и сяк.
Всеми делами занимался Юодка, сердитый, неразговорчивый. За ним бегал запыхавшийся и явно оживившийся Айгулис.
Чуть ли не три года проработал на этом спиртзаводе отец Юзукаса. Мальчик долго будет помнить солодовый цех с низким потолком, клубы пара, горячий запах солода и то, как отец аккуратно подметал между рядами, потом, сложив в угол орудия своего труда, присаживался на лавочку, чтобы закусить (еду приносил ему сын); вспомнит Юзукас и запах резиновых сапог отца, запах одежды, пропитанной потом, печальные глаза Рудавичюса, когда тот, опершись о совок, бывало, смотрит на огонь; вспомнит Дровокола, его сиплый голос, испачканные маслом газеты, которые они там читали, передавая их из рук в руки, или он по их просьбе читал им; вспомнит их разговоры в яме закопченной котельной и те полуночные звезды, которые встречали его за воротами спиртзавода, те полуночные шорохи, которые заглушал далекий и призывный гудок поезда, — и от этого звука перед ним как бы открывались необозримые пределы чужой и его собственной жизни.
ДРУЗЬЯ
В ту зиму Юзукас сдружился с Альбинасом Малдонисом.
Когда Альбинас с отцом первый раз пришел в школу, все дети бросились во двор, чтобы посмотреть на них. Малдонюкас — так его все называли — махонький, с высоким выпуклым лбом, с продолговатым лицом, глядя на детей глазами перепуганного зверька, провел отца по затихшим коридорам школы, стуча деревянными башмачками, и, остановившись возле печки напротив учительской, стал дожидаться звонка. Верзила Дилбис, шмыгая носом, несколько раз обошел вокруг Малдонюкаса, окидывая его взглядом с ног до головы, и все вдруг увидели, какой у Альбинаса потрескавшийся, заскорузлый кожушок, который верзила Дилбис не преминул ощупать своими пальцами в чернильных пятнах. Однако Альбинас не обратил на это никакого внимания: он глядел в окно, за которым над белой колокольней со срезанным молнией шпилем кружились кем-то напуганные вороны. Отворилась дверь. Из нее вышел учитель физики с журналом в одной руке и с просвечивающимся кругом в другой, при вращении этот круг издавал сухой треск, похожий на электрический разряд. На пороге он еще что-то сказал своим хохочущим коллегам-учителям и, отбросив черные блестящие волосы, которые все время падали ему на глаза, направился в четвертый класс. Влетая в двери класса, дети еще успели заметить, как он удивился, увидев Альбиноса и его отца, преградивших ему путь.
Все сидели, раскрыв учебники, когда они втроем появились в классе. Отец тянул сына назад, но тот рвался в класс, совал учителю книги и тетради и кричал, что они должны ему устроить экзамен, он все знает, все понимает.
— Ишь ты, — удивился учитель, вытирая испачканный мелом рукав, и, улыбнувшись, взял потрепанный учебник.
Малдонюкас набросился на книгу, как голодный на еду. Принялся читать без передышки. Все быстрей и быстрей.
— Я ему только несколько буковок показал, — словно оправдываясь, сказал отец.
Потом, решив несколько задачек, Малдонюкас юркнул за парту и впился глазами в доску.
И все вдруг почувствовали, что отныне глаза учителей будут устремлены на этого мальчика с неровно подстриженными волосами. Он ворвался и как бы одним махом стер их усердие за год. Казалось, еще ниже склонилась голова сына садовника Гелажюса, Витас локтем прикрыл протертый лист тетради, кто-то ни с того ни с сего начал с остервенением чинить карандаш, а Юзукас, прильнув к парте, ловил наэлектризованной янтарной ручкой клочки бумаги; вперив угрюмый взгляд в доску, сидел Дилбис, его длинные ноги в тяжелых башмаках, казалось, еще больше загромоздили узкий проход между партами. Все вдруг приободрились, к чему-то приготовились, и долго шептались сидевшие на первых партах отличницы — Марите и Бернадетта.
Альбинас почти никогда не поднимал руки; когда его спрашивали, он вставал не сразу, неохотно, сделав вид, будто не расслышал вопроса; отвечал чуть ли не обиженно — зачем его дергают из-за таких пустяков. Если ученики не знали, о чем их спрашивают, они инстинктивно поворачивались к нему. Когда другие растерянно ждали или в испуге пятились от доски, он бросался вперед, и отличница Марите почему-то очень в таких случаях обижалась.
Он всегда старался быть первым и злился, когда кто-нибудь опережал его и хватал мяч. Обиженный, он толкал Юзукаса, которого учитель физкультуры поставил в первый ряд, потому что был он чуть выше своих одноклассников. На Альбинаса не действовали ни едкие словечки, ни смешки, хотя дети то и дело подшучивали над ним, особенно Марите, на каждом шагу. Восхищения он явно не вызывал, и позже Юозас немало удивится, когда услышит из уст выросшего Альбинаса признание в том, что он все время чувствовал себя Квазимодой. Но где были колокола, которые раскачивал калека? Где его целомудренная Эсмеральда, обняв которую горбун умер, и только спустя много лет в глубоком подземелье собора нашли их останки, — эта книга потрясла Альбинаса, еще когда он пас овец.
— Северный ветер, — говорит мать Альбинаса, — поэтому так быстро выстуживается изба, — и, наклонив кувшин, смотрит, прищурив близорукие глаза, не осталась ли еще на дне капелька молока для ребенка.
В их избе всегда холодно, и отец, маленький, желчный, целыми днями торчит на печи и листает пожелтевшие молитвенники или газеты, в которых много пишут о колхозах, о войне в Корее, о колорадском жуке, об атомной бомбе. В избе Малдонисов часто произносится слово «американцы». Для Альбинаса — это карикатурно пухлые, пузатые человечки, увешанные пистолетами и бомбами, дергающие за ниточки тощих марионеток, а их самих дергает дядя Сэм. До чего они гадкие, ничтожные и отвратительные. Это слово отдает чем-то заплесневелым, застоялым, как запах их избы, которую никогда никто не проветривает, ободранных газет, которыми обклеены стены, молитвенников отца; отвращение у него вызывает и герой романа Пятраса Цвирки гробовщик Крукялис и его бизнес. Американский, сатанинский, панский… Именно в таком порядке выпалит Альбинас эти слова на уроке, когда учитель попросит его назвать прилагательные с таким суффиксом. Это слова из повседневного лексикона отца, слова, пропахшие временами польского господства, богадельнями, ладанками. Треск прогнивших еловых веток, пламя преисподней, хохот бесенят, — скривившись и выставив рога, они поджаривают нанизанных на вертела и вилы человечков.
Маленькие, но алчные огоньки фанатизма сверкают и в прищуренных глазах отца. Последние костры инквизиции. Галилей, Джордано Бруно (Альбинас уже читал о них). Отец пугает его и мать адским пламенем, тем, что придут, мол, американцы. Альбинас меряет щербатый пол избы шагами бравого солдата Швейка и скандирует: американцы, черти, паны, как тараканы. И смех его звучит совсем не по-детски. Что-то безрассудное есть в жизни его родителей. Эти пухлые смешные человечки — добрые гномы отца: они явятся сюда и накажут его врагов, проучат сына-неслуха, залатают крышу, законопатят дыры в фундаменте, накормят скотину. Все сделают добрые гномы — отцу не надо будет даже с печки слезать. Малдонис привык, чтобы за него работали другие. Сам палец о палец не ударит. Раньше он нанимал батраков, за которыми присматривал и которыми командовал. Командует он и поныне, хотя никто его не слушает.
Альбинас презрительно сплевывает сквозь чуть пожелтевшие зубы, садится за книгу, и кто-то словно обнимает его ласковыми руками.
— Альбинук, сыночек, — доносится до него тонкий голос матери, но сын отталкивает ее, хотя еще совсем недавно, бывало, прижимался к ее впалой груди, и скрученные ревматизмом пальцы матери еще помнят, как вздрагивало его тельце, помнят его тепло. Ребенком, бывало, хватал все, что попадалось под руку, что-то показывал пальцем, но тогда мать лучше понимала его, чем сейчас, когда он усвоил человеческую речь.
Он пописывает письма в редакции. Его очень занимает все, что происходит на свете, и он нисколько не сомневается в том, что где-то существует справедливость, которая и его, ребенка, не обойдет стороной. По вечерам, прильнув к старому разболтанному приемнику, который он нашел на запустелом чердаке настоятельского дома, Альбинас ловит последние известия, гоняет привычной рукой стрелку — черную скиталицу — по шкале, по далеким городам, которая добирается до них, бредя по сугробам, как добирается и горбатый почтальон Страздялис, приносящий каждый день еще пахнущие типографской краской газеты.
На какой-то миг стрелка застывает и, как бы к чему-то прислушавшись, прыгает в сторону, вонзаясь в расцвеченные огнями города, ныряя в бездонные омуты тишины; вынырнув, она пробивается через металлический треск, взвизгивания, сердитый лай голосов, которые, состязаясь друг с другом, стараются Альбинасу что-то внушить. Стрелка, подрагивая от шума, ползет дальше по шкале, и вдруг все заливает звучный зеленый цвет. Льется мелодия скрипки, как льется свет луны.
— Ты пойдешь спать или нет? Вот возьму сейчас метлу! — ворчит на печи отец.
Ребенок вздрагивает и приглушает звук приемника.
…За окном свирепствует, дико хохочет вьюга: подскакивает к окну, швыряет в стекло хлопья снега и удирает, откатывается куда-то на опушку леса. Альбинас ловит себя на мысли, что никто так хорошо не написал о вьюге, как великий русский поэт Александр Пушкин. Какая-то магия таится в его имени и словах полупонятных строф. Альбинас как зачарованный смотрит при свете закопченной лампы на его портрет: сонные большие глаза, рука, подпирающая подбородок. Кажется, Пушкин слушает вьюгу.
— А теперь, — доносится с печи голос отца, — почитаем евангелие от Матфея.
Шипы терновника, пути пилигримов, раскаяние грешников; они стегали себя хлыстами и прутьями, ползали на коленях, морили голодом плоть, прозябали в промозглых подземельях, дабы изгнать из себя беса, который затаился в глубине души, коварный, он может далее ангелом обернуться, о, горе нам, грешным…
— На колени! — кричит староста одного из старейших в этом краю костелов, и одежды его отливают изумрудом и сапфиром.
Маленький тиран, чтобы заставить кого-нибудь повиноваться себе, он должен говорить не своим голосом, а голосом кого-то другого, великого и всемогущего. Пугая ужасами ада во имя великого искупления, во имя бессмертия души, во имя алчущих и страждущих, гремит его голос.
Но неисповедимое могущество бога мальчика уже так не пугает.
Близятся праздники, из всех деревенских труб валит дым. У раскаленных печей хлопочут бабы, вокруг вертятся ребятишки, глотая слюнки. Бабы месят тесто, пекут булочки. Невелик был первый урожай в колхозах, но на праздник в закромах у каждого хоть горстка муки да сыщется. По просторным закромам Малдониса зря рыщут мыши, принюхиваясь к сохранившимся запахам. Не работал Малдонис в колхозе ни дня и не собирается работать — таково его решение. Из-за злой мести торчит он в избе, и никто его не волнует. Коли они такие добренькие, пусть придут и посмотрят, как он живет, пусть землю ему вернут.
Здесь все затянуто паутиной и засыпано пеплом скуки. Только иногда, в редкие минуты мать Альбинаса садится у окна и начинает что-то напевать. Напевает монотонно, то тонким, то зычным голосом. И это пение, какое-то гнетущее, угрюмое, уносящее грезы ребенка (а может, и его матери) далеко, далеко, туда, где поспевает рожь; косить ее вышли мужики в деревянных башмаках, о них мальчик знает по сказкам, легендам, песням, а, может, эти самые мужики совсем рядом, может, там, на той стороне реки. Раньше, когда он был совсем маленьким, мать рассказывала ему о ведьмах и феях, бродящих по лугам и полям и отстирывающих полотно до такой белизны, до такой белизны… — певуче растягивала мать, и как же ему, этому ребенку, не тосковать по феям, по этим полотняным дорожкам, которые они расстеливали по берегам рек, не тосковать здесь, где такая грязь и запустение.
Динь-дон — гудят колокола в местечке, тревожа студеный солнечный день.
— Перекрестись, — кричит с печи отец, и ужас охватывает ребенка, хотя он уже давно не слушает отцовских наставлений, давно не верит в бога.
Позже как злой рок Альбинасу будут мерещиться эти дни детства в неприбранной, залитой зимним светом избе, и он сам, голодный, унылый, сидящий где-нибудь в теплом месте за книгой, и брань отца, и маленький мальчик, который в один из таких дней долго дергал в сумраке ручку кухонной двери, пока не вошел в избу. Это был Юзукас.
Вернувшись из школы, Юзукас долго катался на лыжах напротив Малдонисовых окон и диву давался, что здесь то на одном холме, то на другом видны следы лыж. Попытался и он промчаться на лыжах по этим холмам, но ему негде было разбежаться — не по таким горкам катался он со своими двоюродными братьями. Взобравшись на самый высокий холм, он долго смотрел на Малдонисову избу; никаких признаков жизни — окна на западной стороне избы были заколочены, одно крылечко заметено снегом, другое, на северной стороне, утопало в тени. Может, Малдонисы через окна лазают, не поймешь. Жидкая струйка дыма говорила о том, что тут живут, однако из других труб валил не такой дым — густой, тягучий, пахнущий свежими булочками. Изредка до слуха Юзукаса доносились гулкие удары колокола — белый шпиль костела хорошо был виден с холма. Он сверкал, взмыв над темно-зеленой лентой леса; по опушке, вдоль речной долины, петлял проселок — по нему сын Малдониса каждый день шел в школу.
Юзукаса томила тревога: он получил две двойки по математике и знал, что если не решит заданные на завтра задачи, получит третью. Помочь мог только Малдонюкас.
Решившись наконец, Юзукас въехал в Малдонисов двор, снял лыжи и, прислонив их к прогнившему частоколу, вошел в сени.
В кухне было темно. Лицо обдало горячим паром. Спотыкаясь о горшки, Юзукас успел стянуть с головы шапку и поздороваться с Малдонене, нарезавшей картошку для свиней. Какая-то живая тварь выскользнула у него из-под ног и, дико визжа, бросилась прочь. Это был поросенок.
Малдонене ответила Юзукасу не сразу. Он подошел к высокому, наполовину заколоченному оконцу, чтобы близорукая хозяйка увидела его.
— Ааа! Сын Даукинтиса! — воскликнула Малдонене, теперь уже встречая его, как долгожданного гостя, и Юзукас тотчас же почувствовал какое-то свое смутное преимущество.
Это чувство еще больше укрепилось в нем, когда его ввели в избу со щербатым полом и стенами, обклеенными рваными газетами. Обшарпанный стол, лавки, лики святых, утыканные по бокам еловыми ветками. А уж запах! Застоялый, тяжелый. День, оставшийся за окном, был подобен глотку студеного живительного воздуха: белые сугробы, долины, покрытые толстым слоем снега — сверкающим, искрящимся жиром, которым их смазали феи. Чуть дольше взгляд мальчика задержался на стеблях прошлогодних цветов, торчавших из высокого сугроба.
По весне Малдонене сажала несколько кустов георгинов, высевала мак, чьи яркие огоньки, трепыхавшиеся на ветру, долго багровели в траве, даже в самую невыносимую жару. В нем, в этом маке, было что-то от глупых грез этой женщины, от ее тонкого, пронзительного голоса, когда она, бывало, вспомнит что-нибудь из своего прошлого — с мамой Юзукаса они ходили в одну и ту же школу, — когда, бывало, произнесет слова «гимназия, молодость» и, подперев щеку узкой рукой с истерзанными ревматизмом пальцами, о чем-то задумается. Юзукас, пролетая с деревенскими ребятишками мимо избы Малдониса, частенько видел, как Малдонене стоит во дворе у захиревших яблонь или у громоздкой почерневшей риги с провалившейся, крышей. Она оглядывалась, все время чего-то ожидая.
Не было здесь такого предмета, который не резал бы глаза, от которого не веяло бы запустением, хотя каждый, кто забредал в этот двор, всегда заставал Малдонене за какой-нибудь работой. О ней, об этой работе, она и начинала разговор, который перемежался горькими жалобами и стонами. Она чем-то была похожа на того аиста, которого Юзукас однажды видел неподалеку от дома в гнезде, свитом на верхушке березы: облезлый, с серой шеей, он размахивал огромными грязноватыми крыльями, не в силах вылететь из гнезда, где клекотали его голодные аистята.
В углу за крохотным грязным столиком, уставленным горшками и алюминиевой посудой, сидел Альбинас и читал толстую пожелтевшую книгу; тут же лежала другая. «Крепостное право» — прочитал Юзукас. Медленно, словно ему трудно было оторваться от книги, Альбинас поднял на него глаза.
— Ты что это читаешь? — приблизился к нему Юзукас.
— «Всадника без головы», — не сразу ответил Альбинас и глянул на мать. Та кинулась убирать посуду.
С печи донесся голос Малдониса, и Юзукас вдруг понял, что не стоит обращать ни малейшего внимания на то, что здесь происходит, ничего не надо видеть и слышать, потому что это не имеет ничего общего с Альбинасом: Альбинас живет где-то в другом месте, он здесь чужой. Когда отец заговорил, боль исказила лицо Альбинаса, и Юзукас это заметил.
Как будто прячась от кого-то, они склоняются над книгой.
— Всадник без головы… Живой?! — спрашивает Юзукас. Щурясь от света, Альбинас рассказывает, о чем эта книга.
…Мчится по прериям лошадь с всадником без головы, то приближаясь к плоскогорьям, то ныряя в ущелья, но цокот копыт доносится издалека и удивительно отчетливо со всех сторон видна тень лошади со странным всадником.
Все эти картины впитал мозг Юзукаса вместе с тухлым запахом плесени и спертого воздуха, вместе с желтыми лоскутами солнца на стенах и заляпанным грязью столиком, и позже все книги, которые он будет листать с Альбинасом, будут отдавать не прериями, а этим запахом, и в воспоминаниях воскреснет то мгновение, когда он впервые переступил порог избы Малдониса. И почему-то ему будет казаться, что в нем, в том мгновении, заключена мучительная, невыразимая тайна не только Альбинаса, но и его самого, тайна, многое предопределившая в их жизни.
Потом они оба принялись решать задачи.
Ручка с толстым пером просто летала без остановки в руке Альбинаса. Ей были чужды всякие сомнения — такое бойкое перо Юзукас видел только в руке учителя.
— Картошки было посажено столько-то мешков… — доносился до него голос Альбинаса, — икс будет равен игреку… и если мы икс выразим через игрек…
В голове Юзукаса все смешалось. Он никакого понятия не имел об уравнениях с неизвестными. Что это за штуковина? Зачем они нужны? Как с их помощью можно обозначить любое число? Это ему упрямо втолковывал Альбинас («Запомни, ими можно обозначить любое число»). Юзукас старался запомнить, но видел перед собой только мешки, которые тащат в погреб, и картошку, которая вот-вот засыплет его с головой. Ему подали блокнотик и приставили к заржавевшим весам — взвешивай, отмечай, считай. Видать, решили его заживо похоронить в каком-то картофельном погребе. Ничего другого не остается, как послюнявить карандаш и выводить цифры. Только подумал он об ужине, и горло сдавил спазм — и на ужин, конечно же, ему подадут дымящуюся картошку.
Боясь выдать себя, показать, где он очутился, Юзукас понимающе кивал головой и, придвинувшись поближе, повторял за Альбинасом:
— Это добавляем к тому, это отнимаем, а остаток… Но где ж он, этот остаток? А… Вот он… Хорошо, поехали дальше, теперь мне ясно, теперь мне все ясно.
Так вот чем он должен заплатить за то мгновение, когда, оторвав взгляд от доски, он уставился в окно, за которым, отряхивая с веток снег, прыгала синица — крохотное создание с желто-зелеными перышками — закоченевшая, голодная, обезумевшая, с пожелтевшими от стужи коготками, прыгала и пела.
мысленно выводил Юзукас, всячески растягивая слова и мотая головой.
— Даукинтис! — прикрикнула учительница.
Белый как мел, он протиснулся между партами и, глядя на испещренную цифрами доску, потупил глаза и уже больше их не поднимал. Когда учительница вывела ему жирную двойку, он еще раз посмотрел в окно: птичка по-прежнему сидела на ветке. Какая несправедливость! Учительница сама научила его этой песне, а теперь кричит:
— Придешь с отцом! Последний раз тебе говорю — придешь с отцом! Без отца на глаза не показывайся.
— Ладно, не буду показываться.
— Что ты сказал?
— Ничего.
К счастью, Альбинас об этом не напомнил ему. Сидя рядышком, они теперь принялись болтать о всякой всячине. Клонившееся к закату солнце ласково грело их спины. Мальчики листали книги. Альбинас доставал их из своих тайников: из-под топчана, из-за ободранной обивки стен, из-за картин, изображавших святое семейство, из щелей в потолке — куда он только их не совал! Вальтер Скотт, Купер, Сервантес, Свифт, Рабле…
— Вот эта, — помахал он перед носом ошеломленного Юзукаса, — лучшая на свете книга!
Но тот, глянув на рисунок, только поежился: великан, проглатывающий маленьких человечков, войско, целые стада быков, корабли и даже города.
— «Гаргантюа и Пантагрюэль», — объявил Альбинас.
— И ты в такое веришь?
— Эх, браток! — Альбинас вознесся на недосягаемую высоту. Потом долго читал о крохотных и воинственных лилипутах, заковывающих в кандалы свифтовского великана…
Солнце уже зашло, когда они отправились кататься. У обледенелого колодца прикрепили лыжи. Западную часть небосвода заполонил какой-то пронзительный багрянец. Приглушенной синевой отливали крыши. Скрипя, летели по лыжне их лыжи. На востоке всходил месяц — белесый осколок какой-то глыбы. Щеки пощипывал мороз. Ребята глядели с холма и диву давались — как красиво! Глядели и, казалось, были очень довольны друг другом. Юзукас показывал на реку, на брод, над которым клубился пар — Анупрас обычно пригонял туда на водопой лошадей, — и оба даже вскрикнули от удивления.
Какие только огни не полосовали этот небосвод, какие только видения не проплывали над заиндевелыми опушками, где и серебряная изморозь, и ледяное сияние звезд, и тугой высокий свод неба вторит каждому, даже самому тихому звуку!
…Выходил Визгирда во двор и прислушивался; выходил и Константас; останавливалась на минутку, тихо заперев двери хлева, Визгирдене; стоя на холме, оглядывал ночную ширь Криступас; не в силах унять сердцебиение, выбегали во двор Альбинас и Юзукас, оглашая тишину свистом, и этот свист свидетельствовал о том, что они оба готовы к долгому походу на лыжах.
…Наступал вечер, из пущи ветер приносил прохладу, которая словно еще больше высвечивала звезды на низком небосводе; всходил большой и тяжелый месяц, заливая розовым сиянием лес на востоке.
Собирались тучи. Однако вьюги и бури всегда налетали с юго-западной стороны, принося с собой то снежные вихри, то клубы проселочной пыли, то мычание перепуганной скотины; оттуда, где вечерами на закате раздавалось ворчливое пыхтение далекого паровозика, веяло жгучей стужей, и все вокруг: крыши, косяки дверей, деревья — вдруг покрывалось инеем.
Но в северо-западной стороне начиналась весна. Там полыхали густые мартовские зарницы, слышался первый клик чибисов над холмами и лугами, затянутыми тонким и ломким ледком, начиналась в той стороне, где осенью в поднебесье таял журавлиный клин, и солнце, подбодренное птичьими трелями, вонзалось своими первыми лучами в ледяной панцирь.
Наступала пора паводков, и поля окутывал густой, непроницаемый туман, сливающий все звуки воедино — в один протяжный шум победно шествующей весны, объемлющий все до самого горизонта. Вспенивались ручьи, начинала клокотать вода. Стоя у своей риги, Визгирда прислушивался, как по реке с грохотом плывут льдины. Обходя разлившиеся ручьи, останавливался Константас, возвращавшийся домой из хлева или из баньки. Он обычно брал кирку и лопату и отправлялся долбить ледяные заторы. Иногда приходил ему на подмогу Юзукас — разлившиеся ручьи и ему преграждали дорогу в школу.
Как только прояснялось небо и вода в реке немного спадала, ребятишки вытаскивали из риги просмоленную лодку и плыли по лугам или вокруг затопленных ив, глядя на воды, которые изредка подхватывали своим течением и их челнок. Тогда Визгирда-меньшой вонзал в размокшую почву шест или норовил ухватиться за ствол дерева. Порой из своей лодки ребятишки видели, как там, в бурлящем течении, поднимает свои корни или крону дерево, выпрямляется во весь рост и снова плюхается в воду, как сраженный стрелой великан. Вода тотчас же затягивала его на дно и начинала швырять на камни, уносить в затишки, которых в этих местах было несметное множество. У мыса Вилюнаса, словно огромная перерезанная аорта, река разветвлялась на рукава, разливалась во все стороны, но дальнейший ее путь был ровнехонек и прям. Но если бы их лодку подхватило хоть раз большое течение, не прошло бы и минуты, как она очутилась бы в водовороте и затонула.
Велика и страшна была мощь разлившейся воды. Однако ребятишки всегда желали, чтобы половодье было как можно бо́льшим, таким, каким никто еще его не видел, и чтоб обязательно грозно ревела вода, ломая огромные деревья и опрокидывая камни плотины.
Весна должна была нагрянуть одним махом, все изменив вокруг, даровав земле чибисов, аистов и низко летающих над землей ласточек, предвестников первой грозы и ливней, после которых все буйно зазеленеет. Но перед этим еще предстояло облазить ивняки на берегу речки, поворошить высохший бурелом, осмотреть размытые овраги и обрывы, всласть побродить по воде. Потом они будут искать первую землянику, первого кукушонка, первый василек, и тот, кто раньше других найдет их, зальется радостным криком, и от этого крика будут звенеть все кусты и закутки. А потом пусть вдруг придет осень. Пусть придет, чтобы они услышали высоко в небе курлыканье журавлей, чтобы внезапно нагрянули заморозки и чтобы утром, проснувшись, они увидели побелевший мох на крышах, услышали мычанье скотины в хлевах, чтобы перед их взором предстали кусты с оголенными ветками, листва которых зашелестит под ногами, когда они, охваченные тревогой, пустятся вдоль лесных опушек и речек туда, где, может быть, уже в свои медные трубы трубит осень, приглашая их на высокие холмы. А когда они соберут все до последней волнушки и замерзшую бруснику, тогда пусть придет зима, пусть все заметет снегом, пусть обрушится стужей и вьюгами и пусть загонит раков в глубокие ямы спать. Только пусть изредка нет-нет да и мелькнет просвет, чтобы они видели, что́ там — в глубине и в дальних далях. И чтобы легким был полет их лыж.
Пусть вертятся, пусть гудят великие жернова времени!..
Их души вечно жаждали перемен. Все в жизни должно было прийти сразу, чтобы они не знали, ни как упиться этим, ни как этому надивиться.
Спустя некоторое время они уже рылись в школьной библиотеке и на складе, где были свалены горы всяких книг.
— Это — про старину, про крестоносцев, про крепостное право, это — о путешествиях, войнах, революциях, шпионах, это — из современной жизни, а эта про науку, — говорит Альбинас, откладывая в сторону тоненькую книжонку, в которой нарисованы скелеты вымерших животных, копья, топорики. Похожий топорик Альбинас нашел на огороде, и ребята частенько ощупывали эту находку, которую несколько тысячелетий тому назад смастерил какой-то прапрапрапрадед. Есть у них и осколок скальной породы с отпечатком рыбьих жабр и кусочек янтаря — застывшая капелька с застрявшим в ней жучком. В белом песке на склоне холма они обнаружили чьи-то черепа — видно когда-то там было капище; человеческие кости нашли они и в сосняке, у баньки Константаса; Юзукас и Альбинас знают, что время может исчисляться световыми годами. Бесконечность этого времени куда-то отступила вместе со скандинавскими ледниками, прошумела лесами и пущами, в памяти которых еще, похоже, запечатлелась какая-то солнечная лужайка с жужжанием пчел у выдолбленного в дереве дупла.
— А эта про что? — пристает к Альбинасу Юзукас.
— А эта интересная? — спрашивает сын их соседа, плотника Ужпялькиса Римантас, медлительный, неуклюжий парень.
— Прочитай — и узнаешь, — отвечает Юзукас.
— Я возьму вот эту. И эту. — Римантас вытаскивает книжки то из одной кучки, то из другой, но на него набрасываются его однокашники.
— Это моя! Я выбрал, я! — кричит Юзукас.
— Ладно, ладно, пусть будет ваша, — разочаровавшись в своих новых друзьях, цедит Римантас и берет книжку, на обложке которой изображен сидящий под пальмой негритенок. — Для начала хватит, — бросает он молоденькой библиотекарше.
Та приходит в изумление, увидев, сколько книг набрали Альбинас и Юзукас. Отворяется дверь, и в библиотеку входит четвертый их друг — Гинтаутас с кочкарника. У него грубые черты лица, широкая грудь («Она будет вся увешана столькими-то медалями, в четыре-пять рядов вдоль и поперек», — хвастается он, бия себя кулаком в грудь.)
— Мне про войну, про чекистов, про шпионов, — говорит он, глядя поверх голов своих товарищей.
— Ну, даешь, братец, — Альбинас швыряет на столик библиотекарши груду покрытых пылью книжонок.
Поднимается такое облако пыли, что все начинают чихать и смеяться. Но библиотекарше не до смеха: целых полдня она прихорашивалась, красилась, пудрилась, а теперь ее лицо совсем посерело от пыли. Мало того, на стуле, под огромным цветком, где все так красиво было сложено, сидит Юзукас, болтая ногами, схватив журнал, который она приготовила для своего жениха, и читает.
Сколько раз она из-за этих сорванцов опаздывала на свидание, сколько раз они, эти проказники, появлялись тогда, когда они с женихом только начинали шептаться, а этот парень, жених ее, заведующий механическими мастерскими, заставал на стуле, поставленном специально для него, вот так развалившегося Юзукаса или Альбинаса.
Все ближе весна. На карнизе чирикают воробьи; ломая подтаявший лед, тащатся лошади, везут из закромов зерно, в притворе костела молится стайка прихожан — выносят чей-то гроб.
Ослепленные сверкающими ручьями, обалдевшие от света и трелей жаворонков, друзья бредут домой. Проходят мимо ферм, мимо пасущейся скотины, заляпанной навозом, засохшую корку которого не отодрать и конским скребком. Белая взопревшая кожа паха, неприкрытые раны тела и земли, из которой уже несмело пробивается травка — лучи солнца оживят эту землю в одно мгновение.
Влажный ветер колышет верхушки деревьев, в лесу пахнет мохом и живицей. Ревя и выплескиваясь из берегов, несет огромные глыбы льда река. Местами ее поверхность гладкая, ровная и теплая. Юзукас, Римантас и Альбинас бредут по пригоркам вдоль сосновых рощиц, вдоль чащи; слева — река, широкие луга, холмы, Вскоре и сеятели выйдут в поле. Друзья катаются по ноздреватому снегу, по льду, облизанному весенними ветрами, и спины их сгибаются под бременем книг. Во дворе их встречает мать Альбинаса. Юозас с Римантасом, прыская, шмыгают в сторону, в кусты. Упреки и брань мачехи вскоре обрушатся на пасынка. Достанется дома и Римантасу, но рука матери ему не страшна. Другое дело, когда в дверях сарая появляется облепленный стружками отец и начинает снимать ремень.
Ужпялькене мчится к Даукинтисам жаловаться — Юзукас сводит ее сына с пути истинного, и он, ее Римантас, уже целыми днями напролет просиживает над книгами — бежит к Малдонене, та летит к Даукинтисам, от Даукинтисов к Ужпялькисам и так без конца.
Встречаться им строго-настрого возбраняется, но попробуй удержи их. Запыхавшийся, заляпанный грязью, к ним часто прибегает Гинтаутас. Отца у него нет. Хоть родители Римантаса и очень строгие, но чтобы доказать, что он их не боится, Римантас позже всех возвращается домой и проказничает больше, чем другие. Чем чаще отец его сечет, тем больше он старается показать свою смелость. Друзья им гордятся.
Время сказок о Красной Бороде, о волшебной лампе Алладина, об Али-Бабе и сорока разбойниках, о резвом скакуне, вихрем взлетающем на стеклянную гору, где в заточении томится прекрасная царевна, кончилось, хотя в боязливом карканье ворон над сумеречными сосновыми рощицами Юозасу еще долго будут мниться жалобы двенадцати братьев, превращенных в черных воронов. Волнуют его и сказки о гадком утенке, о людях, обернувшихся зверями или птицами, о тех, кто не может рассказать о своих злоключениях, потому что отняли у них голос, лишили их дара речи.
Ветреными ночами Юозас читает предания и легенды о Вильнюсе, и старые улочки и дома этого города навсегда пропитываются воздухом времен шведского нашествия, а в безоблачном небе плывут вереницы облаков, таких же, как те, которые проносились над площадью перед ратушей, когда солдаты вели на плаху приговоренного к смерти преступника; весенним ветрам никогда не удастся высушить пятна крови на стене у Остробрамской часовни, которые оставил какой-нибудь пронзенный копьем шведский латник.
Настала пора приключений, подвигов и путешествий. Друзей оглушило громкое «ура!», вырвавшееся из окопов, кони, мчащиеся гибельным вихрем, цокот копыт. Порой мальчишки успевали увидеть и искаженное от ярости лицо мчащегося впереди командора. Или долго простаивали в изголовье парализованного героя; герой почти беззвучно шевелил губами, желая что-то сказать им. Вдруг друзья торжественно замолкали. Неожиданные порывы смелости и величия гнули их, как ветер гнет деревья.
Четвертый класс, пятый, шестой…
Опустошив местечковую и школьную библиотеки, они отправятся в клуб-читальню совхоза, открытую в бывшем помещичьем амбаре, и, пугая упитанных крыс, многочисленный род которых хозяйничал здесь со времен крепостничества, будут запихивать за пазухи и за голенища сапог обгрызенные газеты, а между тем косоглазый заведующий, выдувший целую бутылку вина, будет спать блаженным сном напротив печки, которую никто целыми неделями не топил, а когда проснется, попытается отогреть замерзшие чернила; он будет долго стыдить сорванцов за то, что они-де повсюду ищут дураков, и хотя он все видит, но ему неудобно говорить: вы ученые, может, вы понимаете больше, чем я. Но они быстро заткнут ему глотку: «Если ты будешь так говорить, — скажет Альбинас, — мы в газету напишем, какой тут у тебя порядок. Книги гниют, стены в дырах, у печки куча дров, только ее никто ни разу за зиму не затопил, а вот заведующий, хитрец, греется — сидит и хлещет вино. Разве такой должен быть порядок в клубном учреждении? Разве такой?»
Уже в сумерках они выскальзывали во двор, и на них обрушивалась рассвирепевшая вьюга или ливень, и надрывали животики и лезли из кожи вон, чтобы перещеголять друг друга — что-нибудь посмешнее сказать или выкинуть…
Настоящей эпидемией стали в школе приключения Тарзана. Выцветшие, потрепанные, сотни раз склеенные и разодранные, без начала и конца книжонки тайком переходили из рук в руки. Если какой-нибудь мальчуган ни с того ни с сего принимался аукать, кривляться или лазать по деревьям — все знали: он Тарзан.
Тарзан — какой-нибудь хилый паренек с желтым лицом — то и дело разглядывал высокие клены, крутился в поисках «удобного местечка», поглядывая, на какую бы верхушку дерева взобраться.
Казалось, не было для них ничего невозможного, недосягаемого, хотя иной боялся в сумерках нос во двор высунуть. Альбинас с Юозасом тарзаньей болезнью переболели легко, однако, когда в школе раздавались обезьяньи крики, и они не отставали от других, а учитель зоологии и истории, поправляя очки и тыкая палочкой в рисунки, изображающие эволюцию живого мира, поглядывал на учеников с испугом, отводя глаза в сторону, словно не верил тому, что видит или может увидеть.
За Альбинасом и Юозасом сидел Кячёнис, длиннорукий парень с серым обезьяньим лицом. Всем Тарзанам Тарзан, горилла и шимпанзе в одном лице. От избытка сил он не знал, что бы ему такое сделать. Однажды учитель увидел, как Кячёнис размахивает на крыше школы руками и что-то кричит своим одноклассникам, собравшимся во дворе. Учитель и рта не успел раскрыть, как этот ребенок мелькнул в воздухе и — плюхнулся в сугроб. Почти полчаса было потрачено на то, чтобы вытащить его оттуда — визжащего и кусающегося.
Вот почему, рассказывая об эволюции человека, учитель пугливо косится на класс. Как наставник, он все время твердит о нравственности, о примерном поведении, но эти одичавшие твари только потешаются над ним. Однако конец всем их проделкам положили не нравоучения, а другое — эпидемия скарлатины.
Хворал Юзукас и прежде. Вкус хвори был ему хорошо знаком: какая-то пресная тошнота во рту, какой-то сладковатый запах, исходящий от тела, рука, как у скелета, глаза, следящие за всеми, склоненные над постелью лица, которые видны так отчетливо, что все морщинки — как под увеличительным стеклом, их можно сосчитать. И руки, ухаживающие за тобой, помогающие тебе встать с постели, женские руки, напоминающие то время, когда ты не мог обойтись без их помощи; зависимость от каждого предмета или звука; тревожные шорохи и топтание в сенях, слова, произносимые шепотом, и нежданный, невесть откуда залетевший луч на одеяле, подоконнике или стене, лица, пропахшие стряпней и ветром; стакан кипяченого молока, булочка, намазанная медом, правда, она почему-то не лезет в горло, хотя глаза по старой привычке и радуются; бесприютные дрожащие сумерки, тревога от скрипа закрываемой двери или запираемой калитки и слух о болезни, со скоростью молнии облетевший деревню, только друзья почему-то не приходят…
В ту пасмурную и долгую зиму, когда к подоконнику подкатили сани с доктором, который, причмокивая губами, раскладывал холодные трубочки, Юзукас видел их, своих друзей, видел, как они спускаются с холмов в багровом свете заката со сложенными крест-накрест лыжными палками за спиной; друзья то выныривали, то снова скрывались в снежном вихре.
— Пить… дайте пить, — просил он пересохшим ртом.
Хворь одним махом отбросила его назад, позволив товарищам вырваться далеко вперед. В том, какой он еще слабый, он окончательно убедился, когда попробовал в их присутствии встать, но тут же рухнул у их заснеженных башмаков, хворь его лизала и лизала своим теплым шершавым языком, как мокрого шатающегося теленка. В раскаленном тигле его сознания, словно угли, тлели всякие видения: отец бросает на пол возле печки охапку дров, закрывает дверь, подходит к нему и спрашивает, что у него болит и что ему купить. О! Если бы не это сочувствие озабоченных глаз, которое он ловил краешком своих воспаленных зрачков, если бы не эти руки и голоса, поднимающие его из пагубной бездны, в которой он ворочался с боку на бок. Никогда он так мучительно не чувствовал свою причастность к ним, как в тот раз.
Не успел он оклематься, как его застала врасплох весна. Он сидел в постели, заваленный рисунками, спичечными коробками, кусочками картона, из которых он лепил и клеил всякие безделушки: храмы и ларчики со множеством ящичков, такие, какие не раз видел в местной аптеке, — он клал туда старинные монеты, подаренные ему Визгирдёнком, почтовые марки, пуговицы и хрустальные бусинки из гирлянды Константене. Однако это занятие его уже не увлекало, не хотелось ни смотреть на эти безделушки, ни вертеть их в руках. Весна хлесткой лозинкой ударила его по пальцам, равнодушно перебиравшим этикетки со спичечных коробков и, поставив на ноги, вытолкнула на кухню, где он всласть наелся скиландиса и колбасы, и с каждым съеденным куском к нему возвращался прежний аппетит. По сосновой рощице пробежали его простоволосые друзья, над ригой заклекотал аист, высоко в перистых облаках засияло солнце.
Через несколько дней, жмурясь от солнца, он зашагал в школу. Все ученики бросились ему навстречу. Водили его между партами, показывали учебники, объясняли задачи. Потом всей ватагой помчались к памятнику, где, поднимая пылищу, гоняли мяч. Никто Юзукаса не задевал.
Садясь за парту, которая пустовала всю эту зиму, он встретился с чистым взглядом девочки. Попытался представить, что тут в его отсутствие о нем говорили, наблюдая каждый день его пустующее место, как по утрам произносили его фамилию, когда учительница спрашивала, кого нет в классе…
…Вот и теперь похожая на испуг слабость, которую он испытывал несколько лет тому назад, разлилась по всему телу. Доктор велел ему снять рубашку, постучал по груди, посмотрел зрачки, повертел его, взяв за плечи, и принялся выводить что-то по-латыни. Юозас старался держаться, хотя его бил такой озноб, что он никак не мог застегнуть рубашку — все пуговицы куда-то ускользали от него. Записка, которую дал ему доктор, не сулила ничего хорошего: его направляли в районную больницу. Он вышел, и сестра проводила его взглядом.
Весна. В небе кружат аисты. Серые лужайки, серые взлобки, расстели пиджачок и грейся. Ослепительно светит солнце, отражаясь в уличных ручейках и лужах. Понурив головы, тянут возы с зерном лошади, и крупицы подтаявшего льда летят из-под копыт в глаза и лицо. На холме, где стоит школа, горланят ребятишки. Кто-то издалека кричит ему: «Уроки еще не кончились, куда ты идешь?» Но он даже не оборачивается: семенит, подгоняемый хворью. В ушах звучит еще слово «изолятор». Это, наверное, обитый цинком погреб с круглыми стенами, глубокий, как колодец.
Тонким, изломанным узором стужи уже затягивало окна, когда его, в сером больничном халате, ввели в палату. Сосед Юзукаса, желтый, как свечка, старик со впалыми щеками, впился в него сверкающими, остекленевшими глазами. Молча глянули на него и другие больные.
Со двора, где веяло прохладой и где двое мужиков пилили дрова, с ворохом белых простыней пришла медсестра. Ее тронутые морозцем щеки пылали ярким багрянцем, похожим на тот, каким на закате залило небо. Глаза у нее были ясные и чистые. Улыбаясь, словно кто-то ее насмешил или сказал какое-нибудь ласковое слово, или доверил какую-нибудь тайну, она сказала:
— Ложись, да поживей… Ну что это ты?!
Последний клочок одежды он сорвал с себя как бинт, присохший к ране. Пускай! Но вся его смелость улетучилась вмиг, когда она протянула ему два пузырька для анализа. Это был не только срам, это была ненависть.
Как только девушка ушла, он увидел сиделку, которая вязала у окна в коридоре — двери палаты были раскрыты настежь. Вот кто за него может заступиться.
Сквозь сон он слышал ее шаги, быстрые и стремительные, словно белесая весенняя ночь, пронизанная смрадом смерти, придавала ей силы или горячила кровь. Сестра несколько раз заглянула в палату, и Юзукас почему-то поверил, что главный больной здесь — это он.
…Где-то трезвонил телефон, кто-то, задыхаясь, ловил ртом воздух. Потом на белую часовенку стали садиться снежинки. Они тихо и мягко сеялись над взгорками и оврагами. Он чувствовал, что кто-то в этой бесконечности ночи находится с ним рядом.
Вдруг старик, сосед по койке, дико закричал, вскинул голову и стал, как бы тягаясь с кем-то, метаться. Однако сопротивлялся он всего лишь несколько минут. Вытаращенные глаза внезапно застыли, изо рта послышался какой-то свист, словно кто-то задувал свечу, и сбежавшиеся врачи и сестры уже ничем не смогли ему помочь.
Когда покойника унесли, какой-то мужчина, сидевший на койке, принялся бить себя кулаками в грудь и каяться — какой он, дескать, великий грешник, как все в его жизни спуталось и смешалось, хотя он, видит бог, никому не желал зла. Бог его и впрямь видит, богом он может поклясться. Он, дескать, перед людьми виноват, а не перед ним. Ему всегда не хватало воли, он пьянствовал, путался со всякими девками, это их вина, что он так опустился, что даже своих собственных детей забыл, и теперь один как перст.
— Эй ты, перестань, ради бога! — крикнул кто-то из глубины палаты.
Старик умер, ни с кем не примирившись, никому не простив. Он был мстительный, завистливый и сквалыга к тому же. Близкие, которые явились за трупом, были в растерянности. Махонькая высохшая женщина в черном муслиновом платке плакала навзрыд. Рядом с ней стоял, потупив глаза, сын покойника с нахмуренными бровями, а чуть поодаль переминались с ноги на ногу какие-то молодые рослые парни. За всю болезнь старик ни разу не подпустил их к себе, не считал их своими детьми, и вот теперь топтались они возле трупа как безмолвные свидетели его вины.
Вечером у Юзукаса подскочила температура. Сестра глянула на термометр и даже вздрогнула. Она сама обложила его подушками и принялась успокаивать. Он смотрел в ее глаза, залитые добротой, пил свежий запах простынь, и мнилось ему, что теперь — холодный зимний вечер, и мороз замуровал окна, а через них сочится голубой неуютный свет. Где-то скрипит калитка, звякает ведро, приходят и уходят люди, на пороге, нахлобучив зимние шапки, толпятся его друзья, а отец все время кричит, чтобы они закрыли двери, чтобы не напустили холодного воздуха, а ему, Юзукасу, приказано-де лежать и не подниматься.
Потом его глаз выхватил из сумрака приветливую морщинистую руку, намазывающую на краюху хлеба масло. Рядом на столике дымился стакан чая.
…Заложив руки за спину, Юзукас расхаживал по коридорам, все время встречаясь то в одном, то в другом конце с высоким подростком в сером больничном халате. Сиделка вязала, сидя у окна; с какими-то блестящими коробочками туда-сюда бегала сестра. Было время ужина, всюду оживление, пахло свежим хлебом, кофе, джемом, лапшой. Сестра, пробегая мимо, больно ущипнула его за ухо, и он никак не мог сообразить, ни что ей сказать, ни как поступить. Не успел он вернуться в палату, как с порога услышал шум. Пришли Панавиокас и Альбинас. Постукивая по большому никелированному рукомойнику, Панавиокас приблизился к его койке, Альбинас подбежал, вскинув руки вверх, прогремело мощное «ура!». Друзья поздоровались.
— Кормят хорошо? — спросил, косясь на дверь кухни, Панавиокас.
— Во! — хотел было ответить Юозас, но, поймав удивленный взгляд сестры, замолк. Он и друзей принялся утихомиривать. На их вопросы отвечал морщась. Ему стало неловко за них: так вести себя при сестричке! — Ты хоть руки из карманов вытащи, — обратился он к Панавиокасу, но тот только слизнул с краешка губ бурую слюну и осклабился.
Друзей распирало от радости — их освободили от экзаменов.
— И тебя освободили. Чего не радуешься? — похлопал Юозаса по плечу Альбинас, примеряя на себя серый больничный халат. Панавиокас поглядывал на коробки с инструментами, как бы прикидывая, что стянуть, и тайком запихивал в карманы халата сигареты, спички, которыми запасся загодя.
— Так-то, теперь мы — семиклассники, — сказал Альбинас и повернувшись так, как будто изготовился метнуть диск, швырнул в угол портфель, набитый книгами.
— Где у вас тут интересное местечко? — спросил Панавиокас.
— Здесь не кури.
— А ну-ка отведи нас скорей туда, куда царь пешком ходит, — поддержал друга Альбинас.
— Сестричка, где у вас тут туалет? — воскликнул Панавиокас и посмотрел на нее невинными глазами.
Сгрудившись у крохотного, заляпанного известкой оконца, они затянулись дымом, потом, вернувшись, оглядели свои койки, полотенца и потребовали, чтобы как можно скорее несли еду.
Это был последний вечер, когда в палату дохнуло еще привычным морозцем, а в белейшей миске супа, которую на стульчик осторожно поставила сестра, отразились розовые тучки. Закончились тихие вечерние прогулки Юзукаса в сером строю больных, закончились долгие часы сидения возле высохшего фонтана в парке, где каменный карапуз обнимал огромную рыбу, едва удерживая ее в своих ручонках. В тот вечер Юзукас так и не увидел, как к часовенке подъехала машина с гробом, как женщина вывалила в мусорный ящик кровавые бинты и куски гипса, он так и не услышал, как шумит, грохочет город…
Больничному режиму был объявлен бойкот. Температура никогда не поднималась выше нормы. Пищу друзья смаковали даже тогда, когда у них не было никакого аппетита. Головы на подушках оказывались только тогда, когда возле дверей раздавались шаги врачей, а стоило только закрыть двери, как эти подушки начинали летать по палате, и длинные хвосты из перьев тянулись за ними в воздухе. Тишина воцарялась лишь тогда, когда они принимались играть в карты. Гадкие, неблагодарные мальчишки! Входя в палату, сестра только пожимала плечами и укоризненно поглядывала на Юозаса — ухо у него еще пылало от того щипка. Но не мог же он отставать от своих друзей. Панавиокас поднимал на сестричку свои невинные глаза и начинал нахально врать, склонив в ее сторону продолговатую голову. Странно, но и она, как та их учительница, кажется, верила его словам, и те же волны нежности омывали его неправедную душу.
Они немного утихомирились, когда в палату привезли Вайтасюса, избалованного учительского сынка, мальчика с вечно заспанными глазами, от которого пахло не больничной койкой, а теплой домашней постелью. Он расставил на подоконнике банки с вареньем, укутал шарфом шею и, удобно устроившись, углубился в чтение толстой и совершенно никчемной книги. Читал он и когда приходило время ужинать, и когда троица отправлялась во двор; и по возвращении они заставали его за чтением. Даже принимая пищу, — а уплетал он без передышки — Вайтасюс все равно поглядывал в книгу. Все сразу же прониклись к нему презрением, хотя учительский сынок был намного старше их, смотрел на них свысока, но вместе с тем и немножко их побаивался.
— Бьюсь об заклад, что из этого человека ничего путного не выйдет, — сказал Альбинас, задыхаясь от духоты в палате.
Панавиокас слизнул с краешков губ бурую слюну:
— Такого неженку я еще в жизни не видывал!
— Я тоже! — воскликнул Юозас, и все вдруг замолкли: с порога сквозь сползшие на нос очки на них смотрел отец Вайтасюса, полуглухой человек, который каким-то непостижимым образом ухитрялся улавливать именно такие слова.
Вайтасюс — глаза, глядящие на них исподлобья, пресыщенный рот, все время жующий бутерброды — заразил их скукой и отрыжкой. Но однажды в полночь этот рот был искажен ужасом. Палатную тишину вспорол крик. Вбежавшая сестра успела увидеть клочки горящей бумаги, вылетающие из-под ног брыкающегося Вайтасюса. С бешеной скоростью он нажимал на «педали» устроенного ему друзьями «велосипеда». С тех пор к Вайтасюсу прилипло прозвище Циклоп. Но и после этого урока он нисколько не изменился, и троица махнула на него рукой.
Через некоторое время в палату вошел Римантас. Друзья приветствовали его громким «ура!», и, не успев даже застегнуть халаты, все выбежали во двор. У ворот морга, набив карманы камнями, больных уже дожидались местечковые пацаны — дело в том, что, забравшись на крышу погреба во дворе больницы, друзья, особенно Панавиокас, постоянно дразнили их.
Этот темно-зеленый бугор был любимым их местом. Отсюда видна была вся окрестность с большаками, над которыми клубилась пыль. За высоким дощатым забором-стеной грохотали машины, гулко и монотонно гудел город, впитывали зной черепичные крыши, а на базарчике подле немецкого воинского кладбища, оставшегося еще с Первой мировой войны и почти разоренного, бабы уже торговали первыми овощами, мороженым…
В конце двора стоит часовенка. Двери ее всегда открыты, и оттуда тянет прохладой глубокого и темного погреба, такой же точно прохладой, какую Юзукас ощущал когда-то, спускаясь прямо из летней духоты и пылищи в подвал молочной лавки, где иногда продавали мороженое. Само приближение к той часовенке невольно заставляет руку сжиматься, но не по той причине, что в потной ладони он прячет денежку, нет, в часовенке никто мороженого не продает, там стоят гробы, валяются венки из жести, там обмывают и обряжают покойников… В прохладной полумгле погреба лежит старая женщина: на ней черные брезентовые туфли, черное с глубокими складками платье; лицо у нее белое, а руки сложены на груди.
Со скрипом открываются заржавевшие ворота, въезжает грузовик, слышно, как шофер откидывает борта, во дворе мужчины перестают тесать доски и медленно направляются к машине. На минутку сверкнет крышка гроба: скоро его забросают жестяными венками и увезут по пыльной летней дороге. Увезут к месту вечного успокоения.
Подойдя поближе, друзья порой видят и самих покойников, лежащих на равнодушных досках — там деловито и бесстрастно выполняет последние свои процедуры смерть: мокрой тряпкой, которую безносая держит в волосатой руке, проводит она по белой как мел груди, лицу, ногам, рукам покойника… Привычные больничные будни с умирающими и выздоравливающими, с едким запахом карболки, в котором друзья все явственнее улавливают запах лета. Они нетерпеливо считают дни.
— Мне только неделька осталась, — говорит Юозас.
— Этим летом ты все равно не сможешь ни купаться, ни рыбу ловить.
— А кто мне запретит?
В один пасмурный полдень повели их, примолкших, печальных, в рентгенкабинет. Шли они по темным коридорчикам, по лесенкам, то спускающимся вниз, то взмывающим вверх. За крохотными оконцами лил дождь. В тишине были слышны шорох дождя и шелест ветра, и вздохи, которые изредка доносились из какой-нибудь палаты.
Когда-то в этом красном кирпичном доме с круглыми башенками и балкончиками, с парком, фонтаном хозяева закатывали шумные пиры, гремела музыка. Позже здесь открылась богадельня для увечных и убогих. В годы войны сюда привозили раненых. Чего только не видели и не слышали эти стены! Не об этом ли шелестел дождь в листве молоденьких лип. Капли ударяли и ударяли в оконное стекло, барабанили по жестяной крыше. Первый раз друзья почувствовали себя участниками какого-то злополучного шествия, где даже звук собственных шагов кажется таким предательским и пугающим. Шли тихо, их то и дело обгоняли тележки, на которых позвякивали пузырьки с лекарствами, изредка всех их пугал смех врачей, доносившийся из кабинетов, пугали встречи с бледными больными. Потом они, полуголые, съежились у двери, над которой светилась красная надпись: «ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Римантас еще пытался продемонстрировать мощь своих мускулов, но никто на него даже не взглянул. Ждали. Прислушивались.
— Пожалуйста, — распахнула дверь женщина.
Там было темно и тихо. Полыхала красная лампа, склонившись к которой, женщина что-то писала.
— Без изменений. Можете идти, — раздается голос.
…Теплая ладонь сжимает его руку чуть выше локтя, он чувствует прикосновение металла к груди, и всевидящий глаз рентгена впивается в его легкие.
— Дыши! Глубже дыши. — Треск прекращается, перестают вибрировать стенки. — Без изменений!
— Что значит «без изменений»? — спрашивает Юозас, натягивая рубаху.
— Это значит, что ты здоров, — говорит Альбинас.
Вскоре из-за стенки раздается и голос Альбинаса, отвечающего на вопросы.
— Фамилия?
— Малдонис Альбинас.
— Год рождения?
— Сорок первый.
— На что жалуешься?
— Ни на что.
Сейчас раздастся: «Без изменений». Но врач произносит какие-то слова по-латыни, и женщина, сидящая у лампы, быстро записывает их.
— Тебе еще придется у нас немножко задержаться, — говорит доктор.
…Альбинас сидит в конце коридора на лавке. Лицо у него чернее тучи.
— Сволочи! — ругается он. Это любимое слово его товарища — Гинтаутаса с кочкарника, но более подходящего Альбинас в эту минуту не может подыскать. — Сволочи! — повторяет он вполголоса. — Отстаньте, чего вы лезете!
Товарищи еще пытаются его утешить, смотрят на него сочувственными глазами и всячески сдерживают вдруг обуявшую их радость, почти гордость: завтра им вернут одежду. Их ждут лето, ветер, реки, луга…
…Хлещет дождь, дует порывистый ветер, стемнело, потому что вечер; скоро ночь. Тикают стенные ходики, качается их маятник. У Юозаса никогда не будет другого такого друга, которого ему хотелось бы утешить так искренне, как тогда, в годы его отрочества, он хотел утешить Альбинаса, заточенного в кирпичном здании больницы.
— Будь здоров, — говорит Альбинасу Вайтасюс, ковыляя по больничному коридору. Его ноги немного не сгибаются в коленях, поэтому он ходит, как будто скользит по льду, выбрасывая далеко вперед тяжелые свисающие руки.
— Здоров будь, — Альбинас косится на стоящего в конце коридора отца Вайтасюса с узелком в руке — он принес сыну одежду. Очки сползли у него на кончик носа, глаза старого учителя, цепкие и недоверчивые, смотрят на мальчишек: может, кто-нибудь из них снова что-то ляпнул про его отпрыска?
Прояснилось. Юозас с Альбинасом стоят у окна и смотрят на пустынную круглую площадку, где воюет с костылями какой-то мужчина. По наклону его головы, по тому, как он ставит костыли, можно догадаться, чего ему стоит каждый шаг. Однако передвигается он довольно энергично и проворно, протискиваясь сквозь толпу близких, пытающихся ему помочь. Потом взгляды друзей скользят по теплым, освещенным закатным солнцем высоким стенам больницы, за которые изо всех сил цеплялся обрызганный дождем плющ. Сияют узенькие окошечки башен, среди стройных деревьев возле фонтанов разгуливают больные, бегают с бельем санитарки, две женщины тащат огромный котел с забеленным супом. Ворот и часовенки отсюда совсем не видно.
— Вот твоя одежда, Даукинтис, — сестра, его добрый ангел, протягивает ему узелок. Глаза ее так же чисты, полны насмешливой нежности, как в тот, первый вечер. — Только смотри, больше сюда не возвращайся, — добавляет она, не в силах удержаться от соблазна провести рукой по его волосам. Волосы у него густые, непослушные, растрепанные, русые. Краешек уха все еще полыхает от того прикосновения. Но он смотрит на нее по-мужски сдержанно, почти дерзко. Два месяца голос ее обжигал его и освежал; он думал о ней по ночам, ждал, когда она поутру откроет дверь палаты и покосится на его койку, стоящую в углу, у самого окна, через которое в эту пору несмело просачиваются лучи рассвета; два месяца он был убежден, что нет для нее здесь больного важнее, чем он, и, может быть, по этой причине в конце дня, когда раздавали ужин, здесь так радостно сверкали тарелки, искрились вилки, окна, а матовое стекло двери, за которой мелькал ее силуэт, раздавались ее шаги и смех, было для него какой-то таинственной завесой.
— В жизни не видела такого парнишечки, — сказала она как-то, — который бы так истосковался по любви и нежности. Только подойдешь, и он поворачивает к тебе клюв, как вороненок.
Она не ошибалась: он всегда до боли жаждал любви, которая приняла бы его со всеми пороками и недостатками. Но где найти такое огромное, такое вместительное сердце? Ему никогда не было суждено беспечно плескаться в его живительной чистоте.
Он смотрел, как сестра уводит в палату Альбинаса. Тот шагал чуть-чуть впереди, понурившись, сгорбясь, втянув голову в плечи. Юзукас в нем словно узнавал самого себя — такое свое отражение он видел в кривых больничных зеркалах.
Хочется пуститься вдогонку, что-то крикнуть. Руки комкают пожелтевшую папку с историей болезни, которую сестра забыла на подоконнике. На ней красивым и быстрым почерком — этот почерк напоминает ему, как учительница, сжав его ручонку, вывела первые буквы, напоминает и ручку Альбинаса с толстым пером, которое летало по клеточкам тетради, — написана его фамилия и цифра 451. Эту цифру сестрица вывела в тот вечер, склонившись над его кроватью и обдав его ласковым морозцем, которым веяло от ее щек, в тот вечер, когда окно затягивало тонкой коркой льда, а во дворе двое мужчин пилили дрова и на веревке сушилось белье. Эта папка уже успела выцвести на солнце; она покрылась пылью, в нее проникли бактерии смерти. Он бежит, держа эту папку в руке, и слышит свой охрипший голос: «Сестричка… сестричка…» Она оборачивается, удивленная, равнодушно забирает у него папку и уходит.
Вот и отец. Приземистый, хромоногий. Он шагает по пустой площадке, зажмурившись от солнца, посасывая сигарету. Возле высокой стены, заросшей плющом, отец останавливается, обращается с каким-то вопросом к женщинам в белых халатах, и эти женщины, все, как по команде, поворачиваются в сторону широких больничных дверей, откуда вот-вот должен выйти Юзукас.
— Подождем Панавиокаса, — оглядывается Юозас.
Едва очухавшись, они снова начинают выкидывать коленца.
Теплый вечер. Низко летают ласточки. Время от времени доносится скрип колодезного журавля или позвякивание ведерка. Криступас с Панавой сидят в садике за маленьким столиком, на который изредка осыпается ворох лепестков. Над белыми мисками с медом жужжат пчелы. Криступас ставит на столик бутылку ликера. Рядом с ним садится и жена Панавы — Панавене.
Она только что вернулась из больницы. В теплых сумерках под окном спит ее ребенок, закрытый тонким муслином, — девочка-крохотулька с черными волосиками и сморщенным ротиком. Лицо у матери бледное, изможденное. Волосы собраны в хвостик, и только теперь, может, первый раз в жизни Криступас видит, какие красивые и благородные у нее черты — скулы, линия шеи, высокая грудь. Глаза ее светятся нескрываемой радостью. С ней заговаривают бабы, пришедшие с ведрами, чтобы зачерпнуть воды из ее колодца. Присев на минутку за столик к мужчинам, она поднимает чарку и, чокнувшись со всеми, ставит обратно. Они ждали девочку, вот девочка и родилась, говорит Панавене. С мальчишками одно горе. Есть и то их не дозовешься. Точно гости. Взять хотя бы ее сына, уже вечер, а его где-то черти носят. Придет весь ободранный, грязный, ног не вымоет, пока хлыст в руки не возьмешь.
Юзукас улыбается. Сын-то ее тут же, в нескольких шагах, спрятался за грушу; нагнул ветку и делает Юзукасу какие-то знаки.
— Чего тебе? — спрашивает он, нахмурив брови. — Это? Это?.. — и когда никто не видит, тычет пальцем в зажигалку, рюмку, сигареты, лежащие на столе. Видно, снова что-нибудь отмочил, если к столу подойти боится. Но Панавиокас качает головой. За его спиной высокий обрыв, заросший кустарником; изредка оттуда, снизу, доносится плеск воды и перезвон камешков, падающих из-под ног Панавиокаса в реку. Он висит на самом краю обрыва и кажется, если загремит, то еще, чего доброго, за конец скатерти ухватится и, как какой-нибудь пьяница, падая со стула, утащит ее со всеми яствами.
— Надо бы здесь заборчик поставить, — косится Панава на кустарник. — Дочка, когда начнет ползать, еще, не дай бог, свалится.
— До чего же пригожий вечер, — Криступас смотрит на дома местечка, окутанные теплыми сумерками. — Кажется, сейчас во всех дворах праздник.
Прямо перед его носом промелькнула ласточка.
— Ты чего по сторонам глядишь, поешь-ка меда, — говорит Панава Юзукасу.
Изредка откуда-то со дворов доносятся бабьи голоса. Где-то вдруг заблеет коза. Пахнет черемухой, садовым цветом. Теплыми волнами перекатывается вечер. В долине у реки неистовствуют соловьи.
— В такую пору, — мать Панавы садится за столик, — кажется, жил бы и жил на белом свете.
Старуха жует впалым морщинистым ртом свежий хлеб, и Юзукас, глядя на нее, вспоминает свою бабушку, которая тайком совала ему кусочки рафинада; видит он и старую Даукинтене, сидящую на лавочке возле избы. «Юзук, Юзук», — зовет она хриплым голосом, опирается на палочку и пытается встать. Думает о ней и Криступас.
— А давно ли мы были молодыми? — вздыхает мать Панавы.
— И вправду, — поддакивает Криступас, жадно затягиваясь сигаретным дымом. Голос у него тихий, вкрадчивый.
— Подойди, — шепотом зовет Панавиокас Юзукаса. Слова его как шелест кустарника на ветру. Улучив момент, Юзукас скрывается в кустах. Он спускается по откосу к реке, и Панавиокас начинает объяснять. Такое, мол, дело: в Диржисовом сосняке, неподалеку от избы Юзукаса, свалена изрядная куча костей. Утильсырье. Чистые денежки, только подсчитай, горячится Панавиокас, выводя какие-то цифры на песке.
— Ну и что? — спрашивает Юзукас.
— Какой ты, братец, непонятливый! Денежки… Там зарыта колхозная кобылица.
— Дуська Константаса, — уточняет Юзукас.
— Ты еще маленьким был, может, и не помнишь, давно это было, три-четыре года тому назад.
— Два года тому назад, — говорит Юзукас.
— Все равно. От нее теперь одни только косточки остались. Чистенькие, беленькие — бери и грузи на телегу. А что, мы, брат, и телегу добудем. Это тебе не какие-нибудь бумаженции собирать, не барахло, не разбросанные по полям кости, которые эти собаки (местечковые пацаны) все до единой собрали. О, если бы они знали про этот клад!.. Ты мне покажешь то место, где он зарыт, — Панавиокас кулаком ткнул Юзукаса в бок.
— Да вроде бы зарыт клад, — процедил Юзукас. Ему снова захотелось меда, и он направился было к столу.
— А это ты видел? — зачастил Панавиокас. — Это… это… — в его руках сверкнул фонарик, блеснула зажигалка, маленький замочек, лыжные подковки, зашелестели немецкие деньги… — Бери, все твое. — Он вдруг вывалил все эти вещи на песок. — Я тебе еще добавлю. Все у тебя будет, только пожелай.
— Так давай, — Юзукас не мог оторвать глаз от этого богатства. Украл где-нибудь, подумал он про себя.
— Бери. Мне не жалко. Пользуйся, сколько влезет. Думаешь это наворованное? Нет. Только будь мужчиной — никому ни слова, ни гу-гу. Помнишь Робин Гуда? Про Тарзана читал? Вперед, а? Помчались! — сверкая глазами, говорит Панавиокас. — Хватай все это, да живей, только потише, чтобы они там не услышали.
С лопатами в руках они двинулись по росистым полям люцерны и тимофеевки, на чем свет стоит ругая этого старого мошенника Рагайшиса, который на этот раз уж ни одной косточки у них не стащит.
Рагайшис был приемщиком макулатуры. Кривоногий, зимой и летом не вылезавший из ватных портков, с пухлыми красными щеками, на которых четко проступали тонкие кровеносные сосуды, с крохотными бесцветными глазками, которые как-то отрешенно и странно глядели на мир. Он вечно крутился возле старой риги на берегу реки, все углы которой были завалены макулатурой. Рагайшис любил восседать на этом хламе и греться на солнце, обхватив руками колени и близоруко щурясь. Низенький, толстопузый, он походил на статуэтку восточного божка, которую Панавиокас тоже где-то стянул, не раз показывал Юзукасу и предлагал другим пацанам. Однако Рагайшис тотчас же просыпался, стряхивал с себя блаженную дремоту, как только в школе раздавался последний звонок. Иногда он встречал ребят у серевшего неподалеку нужника, куда они забегали, внезапно вырастал перед ними на стежке между двумя высокими домами, которая вела с улицы в эту будку. Тут он и начинал свою разъяснительную работу. Не хватает сырья, а макулатура, сами понимаете… — агитировал он, размахивая клочком газеты, в которой его учреждение удостоилось высоких похвал за выполнение и перевыполнение планов. Он смотрел на ребят такими глазами, что казалось — вот-вот схватит кого-нибудь из них и потащит туда, где высились горы столь ценимого им хлама. Поэтому чаще всего они подходили к нему ватагой, чтобы подразнить. И всегда долго торговались. Но Рагайшис не уступал. Ничего другого не оставалось ребятам, как возвращаться домой не солоно хлебавши, и ворчанье старого калеки, его почти бесовское хихиканье еще долго отдавалось у них в ушах.
…Минут через пятнадцать-двадцать они уже орудовали лопатами в сосняке. Из-за леса вставала огромная багровая луна, над лужайками клубились туманы, ликовали соловьи. Панавиокас и Юзукас рыли, не поднимая головы, и пот струился с них ручьями.
— Глубоко, — сказал Панавиокас.
— Черт бы его побрал, — выругался Юзукас, вытирая рукавом пот. Он не раз видел, как у отца во время работы к спине прилипала мокрая рубаха — теперь у него между лопатками текла струйка. Поэтому и говорил он, как отец.
Еще несколько гребков лопатой, и клад был обнаружен, в нос вдруг ударило таким смрадом, что оба, не сказав друг другу ни слова, побрели каждый своей дорогой.
Отец стоял во дворе и ждал. За его спиной размахивала руками мачеха.
— Где ты был? — спросил отец у сына.
Пес Саргис с радостным лаем бросился навстречу Юзукасу, но вдруг остановился, повернулся и, жалобно поскуливая, убежал прочь.
— Нигде.
— Это не ответ. Я спрашиваю, где ты был?
Юзукас стоял, потупив взгляд. Пусть наказывают, пусть судят, пусть ругательски ругают. Даже Саргис, его испытанный друг, теперь был заодно с отцом и мачехой. Он крутился возле них, чуть заметно вилял хвостом и преданно заглядывал им в глаза. Сквозь слезы Юзукас принялся упрекать их и объяснять: ничего у него нет — ни тетрадей, ни книг, ни лески, ни зажигалки, ни крючков… — скороговоркой говорил он и грязной рукой тер щеки.
— Не понимаю, что здесь общего, — пробормотал отец.
Тогда он им выложил все без остатка. Ведь если хорошенько, если здраво поразмыслить… О, будь на его месте Панавиокас, он бы убедил их. Юзукас думал, что хоть мачеха его поддержит. А она напустилась на него так же свирепо, как и отец. Есть, мол, не даст, к столу ни за что не подпустит.
— Ты ремень возьми, ремень! Я бы так его отметелила, что он бы у меня…
Но отец ее как будто и не слышал.
— С кем рыл?
— С Панавиокасом.
— Да ну! Зачем Панавиокаса приплел? Тот парень как парень. А вот ты…
— Не твое дело, — набычился отец, но мачеха уже бросилась к пасынку с розгами. Отец схватил ее за руку. Вырываясь, мачеха принялась браниться. Так всегда: все из-за него, все распри из-за него. Почему отец все время защищает его, не позволяя ей ни одного плохого слова о нем сказать? Вот и сейчас. Выгнал бы лучше из дому навсегда. Он отошел в сторонку, огляделся, в ночи таился какой-то соблазн, какая-то жуть. От нее, от этой жути, веяло каким-то почти неуловимым, но все более крепнущим смрадом падали, который даже самый терпкий, струившийся отовсюду запах черемухи не мог заглушить. Почему-то как раз такими ночами испокон веков откапывают могилы и случаются всякие святотатства.
Два человека — муж и жена — ругались в залитом луной дворе, а он, маленький злодей, бегал от одного к другому, жалобно поскуливая. Потом отец, по обыкновению не сказав больше ни одного слова, сунул в руки ему лопату, и они вдвоем побрели по окутанной туманом лужайке.
Когда яма была засыпана землей, отец спросил:
— Ты и вправду с Панавиокасом рыл?
— Неужто и ты мне не веришь?
— Верю, малыш, но надо и свою голову иметь на плечах. Тебе прикажут откапывать могилы, и ты кинешься откапывать? Ведь и это, если поразмыслить трезво и здраво…
Он не договорил. Такое сравнение совсем озадачило Юзукаса. Как близко, оказывается, от затаенной подкрадывающейся мысли, которая, если всерьез подумать, порой бывает такой простой — странно только, что она никому не пришла в голову раньше, — как близко от такой мысли или замысла до преступления или святотатства. Может, поэтому он и принялся с остервенением отнекиваться — все равно, дескать, не виноват.
— Ты из мухи делаешь слона! — закричал он отцу.
— Вот-вот, — заговорил Криступас, — слон вырастает и из более мелкой штуковины, чем муха, понимаешь?
Ничего его сын не понял. Он просто не хотел понимать. Криступас глянул на своего отпрыска, и тот показался ему таким непонятным: ходит с опущенной головой, руки плетьми болтаются, весь — неуживчивость, враждебность. Как, когда просмотрел он своего малыша? Кому он все время дарил свою нежность, кого ласкал?
— Хватит, малыш, — сказал он с тревогой. — Не спорь. Только пообещай мне, что больше так делать не будешь. И чтобы я тебя с Панавиокасом не видел. Ты у меня полную свободу получил, а что из этого вышло?
Криступас еще не знал, что сын его давно уже плутает по темным закоулкам своей натуры — и куда они только его приведут? — все время отводит в сторону взгляд, чтобы как можно скорее удрать от своего родителя.
Местечковые подвалы и задворки, по которым он лазил вместе с Акуотелисом или Панавиокасом, втягивая своими чувствительными ноздрями запахи плесени, пыли и еще чего-то, были не просто подвалами. Немыслимо было понять, что они там искали. А книги и журналы, которые они ухитрялись красть из колхозной библиотечки, самым гнусным образом обманывая косоглазого заведующего; а бутылки с обломанными горлышками, которые они продавали, залепив какой-то бурой кашицей все трещины и дырки? Он и драться-то начал, порой проявляя звериную жестокость, защищаясь ложью и слезами, чтобы только его не приперли к стенке, не обезоружили — пускал он в ход и хитрость, и медоточивую лесть, которую уже успел перенять от Панавиокаса. Все это могло укорениться и в нем. Были в нем и другие природные задатки, которые проявляются обычно незаметно, расцветают буйным цветом, воцаряются, всюду предъявляют свои права, пока не обернутся пороками и гибелью.
Со всем этим Криступасу с каждым разом придется все чаще сталкиваться, не минуют его и такие минуты, когда он будет смотреть на своего отпрыска, подавленный, ошеломленный, словно не узнавая его и не зная, как на него повлиять. И только сыновний взгляд, брошенный украдкой, такой чистый, порой такой умоляющий или тайком, с испугом спрашивающий о чем-то, сумеет снова всколыхнуть в отце самые нежные чувства. Кузнечик, скажет тогда Криступас, улыбаясь из-под козырька фуражки, и рука как бы сама протянется, чтобы погладить Юзукаса, удержать, но куда там, разве его удержишь — глядишь, уже мчится, только песок из-под босых ног во все стороны летит. С кем же такого парнишечку сравнишь — с кузнечиком, конечно.
Каких только детей в этой школе не было! Акуотелис и Панавиокас считали себя Робин Гудами, другие расхаживали, увешанные стрелами, с луками, как индейцы: оглашали округу воплями, как дикари, убившие мамонта. Они первыми достигли Северного полюса, облазили все тропики, первыми на самолетах перелетели через Ла-Манш, ходили по их крыльям. Они приходили из школы домой, преодолев множество опасностей, и матери даже не подозревали, с кем разговаривают, кого шлепают по заднице.
Измазанный, пожелтевший, всем придумывающий прозвища горластый сын местечкового каменщика и трубочиста Ряубы, с которого не спускали глаз такие же крикливые, бдительные неряшливые сестры, порой, усевшись за их спинами, вытаскивал завернутый в замусоленную бумагу бутерброд, клал его на парту, выжидал до тех пор, пока весь класс не пропахнет колбасой, скиландисом, ветчиной или салом и, увидев, что все уже на него глазеют, принимался, довольный, потирать живот. А, говаривал он, вдыхая запах лакомства. А… И обнюхивал, вертел, оглядывал еду до тех пор, пока все не начинали глотать слюнки, боясь и взглянуть в его сторону. Тогда-то он и принимался чавкать, хрумкать, аж глаза на лоб лезли.
Однако бывали и такие дни, когда Ряуба сновал между партами, вынюхивая запах чужой еды, или, метнувшись, как зверек, выхватывал из рук какого-нибудь слабака лакомый кусочек и, кинувшись к дверям, принимался жевать. Ему почему-то хотелось, чтобы другие видели, как он жует, чтобы глотали слюнки, но не могли отнять у него его куш. Да и попробуй у него, которого стерегли две крикливые ябеды-сестрицы, что-нибудь отнять? Кроме того, он и сам был не лыком шит, быстр и ловок, как ласка. Даже самый резвый лыжник школы, конькобежец и бегун Бярженас не мог его догнать.
Ранними утрами, когда из местечковых труб столбом валил дым, собираясь в низкое большое облако, затемнявшее бледное, всходившее над безмолвным озером солнце, в класс вваливался неуклюжий Вайткус с заячьей губой и щеками, отутюженными стужей. Появлялся он чаще всего в тот момент, когда учительница уже отмечала в журнале, что сегодня его на уроках нет. Каждое утро он одолевал почти десять километров, шагая по сугробам, чтобы вечером, как путник, вернувшийся из долгого странствия, или труженик, справившийся с непосильной, изнурительной работой, вернуться в теплую отцовскую избу, и, показав исчерканные учителями тетради, взяться за ложку.
Спустя некоторое время, когда оттаивал снег, примерзший к башмакам Вайткуса, Юзукаса кто-то тыкал в бок: моргая покрасневшими веками, Вайткус просил, чтобы Даукинтис показал ему свою тетрадь. Дети называли его слоном, и по его заскорузлой коже то и дело гуляла нагайка их насмешек. Вайткус сносил это терпеливо, смирившись со своей долей. Тяжко было смотреть, как могучая ручища берет обгрызенное перо или пихает в портфель смятые тетради.
Как только начиналась перемена, в классе поднимался такой шум, словно под парты шмыгнула крыса. Это Янкус, задрав правую ногу почти до затылка, пританцовывая, переходил на левой из одного конца класса в другой, помахивая однокашникам в воздухе узкой, пухлой, как ручонка младенца, правой ногой. Сколько раз Юзукас и другие дети пытались повторить его трюк, но у них ничего не выходило. Дело в том, что правая нога Янкуса была короче и тоньше левой. Задрав эдак ногу, он, удивляя идущих в школу учеников, спускался на санках с холма, на котором пригорюнился костельчик.
Все сновал по классу сын вдовы-староверки Львов с пухлым курносым носом, только и искавший, с кем бы подраться. Где он только не проходил, всюду стоял плач и вой. Только сын Бражене с длинным красным носом, весь пропахший ветрами, водил с ним дружбу.
Возвращаясь из школы, Юзукас частенько видел, как сверкают на льду возле мельничной запруды коньки Бярженаса. Вокруг всегда собирались зеваки, местечковые пацаны, в том числе и Кястас Скарулис; отец его, народный защитник, погиб во время перестрелки. Сын был полной противоположностью отца, крупнолицего, плечистого. Кястас — худенький, курносый — жил в одной из почерневших хат неподалеку от кузницы и мельницы. Большинство тамошних женщин были вдовами.
Все над Кястасом подтрунивали: эти мелкие черты лица, эта худоба — казалось, лозинкой его насквозь проткнешь, — и огромные глаза, ярко-голубые, наивные… Над ним бы еще пуще измывались, если бы не Альбертас Юодалькснис, тоже выросший без отца, как Кястас, сутулый, одетый в тряпье. Взявшись за руки, они с Кястасом гуляли по улочкам, а сзади плелось несколько таких же беспризорных оборвышей. Их карманы всегда были битком набиты взрывчаткой, от них пахло порохом, карбидом и капсюлями. В один из дней у всех перехватило дыхание от дурной вести: взорвался капсюль и смертельно ранило Юодальксниса…
Однажды Юзукас, проходя мимо заводи, увидел стоявшего с удочкой Скарулёкаса. Хлестал дождь, и капли звонко стукались о закопченный солдатский котелок, в котором плавало несколько рыбешек.
— И это все, что ты поймал? — удивился Юзукас.
— Шш… — Скарулёкас бросил взгляд на тонувший в сумерках кустарник: потеряв друга, он стал еще боязливее. Юзукас показал ему местечко получше и сам поймал несколько окуньков.
— Может, у тебя есть что-нибудь пожевать? — потянул ноздрями воздух Скарулис.
— Ладно, принесу.
Юзукас уже направился было домой, но Кястас удержал его.
— Подожди, мне кажется, ты не вернешься.
— Почему? — удивился Юзукас.
— По-моему, ты врешь. Покажи ранец.
Юзукас показал.
— Ну вот, видишь, — извлекая из ранца бутерброд, сказал Скарулёкас.
Как ни божился Юзукас, как ни клялся, что совсем забыл про этот бутерброд, Кястас не верил ни одному его слову. Не спуская глаз с поверхности воды, с искрящихся и лопающихся пузырьков, из-за которых даже не видно было поплавка, он качал головой и все время твердил:
— Нехорошо так, нехорошо. А я-то думал, что ты лучше других. А ты, оказывается, врун. Жадина и враль. Ты чего на меня глаза таращишь? Скажешь — нет? Думаешь, я совсем дурак, не вижу, как вы надо мной… издеваетесь? И ты такой, и ты с ними заодно. Ты… — Скарулис чуть не плакал.
Юзукас увидел, как нырнул поплавок, но не рыба была у него на уме. Эта жалоба Скарулиса, прозвучавшая в ливневых сумерках, пронзила его насквозь. Они уселись под деревьями, разложили небольшой костерик, стали греть над ним руки и слушать, как дождь шуршит в ольховых листьях, как хлещут по реке его струи.
— Ну скажи, разве я не прав? — ткнул худеньким плечом Юзукаса в бок Скарулис. — Без всякого вранья скажи, — продолжал он и почти умоляюще добавил: — И ты меня презираешь. Ведь и ты меня презираешь, а?..
Юзукас молчал, подбрасывая в огонь щепки, пожирал его алчный жар глазами, словно прятавшимися от этих унылых, ливневых сумерек. Скарулис говорил правду.
— Не знаю… не знаю, почему так происходит, — Юзукас подпер коленями подбородок и подался вперед. — Я не подумал… как другие дети, так и я… — и оцепенел, услышав, с каким презрением Скарулис произнес:
— Потому что ты мерзавец! Все вы мерзавцы! Понимаешь? Все, все! — воскликнул он, встав. — Панавиокас тебе друг, Акуотис тебе друг, всё хулиганье — твои друзья. Ну, ничего, Львов тебе еще покажет, где раки зимуют.
Юзукас вскочил, собрался было наброситься на Кястаса с кулаками, но глянул на закопченный солдатский котелок, в котором плавали полуживые рыбки, на траву, на которой лежал расползшийся от ливня бутерброд, и передумал. К тому же Скарулис схватил удочку и шмыгнул в крапиву. Под ногами лежал камень, валялись здесь и палки, в другого он бы запустил ими, но в Скарулиса — нет. Со Скарулисом, этим худощавым, белоголовым мальчуганом, глаза которого светились простодушием и чистотой, он не мог быть недобрым…
Пришел Юзукас домой с опущенной головой, решив завтра же все выяснить, но не успел: на другой день, не стерпев вечных оскорблений Львова, он подрался с ним. Они тузили друг друга на пустыре возле школы, пока не пролилась кровь. Ничего не видя перед собой, вставая и снова падая, он набрасывался и набрасывался на этого задиру, пока тот, спасовав, не дал стрекача.
— Браво! Вот это мужчина! — подбежал к Юзукасу Панавиокас, вместе с другими детьми наблюдавший за дракой. Но Юзукас первым делом встретился со взглядом Скарулёкаса, он долго и пристально глядел исподлобья на Кястаса, прикидывая, не наброситься ли на того, но в яркой голубизне глаз этого ребенка не нашел никакого ответа.
Спустя некоторое время Скарулёкас с матерью куда-то переехали…
Хилые пацаны военных лет, полчищами следующие по пятам за взрослыми, подражающие им, держащие руки в карманах широких сползающих штанов, плюющиеся семечками, пронзительно свистящие в два пальца, оглядывающиеся по сторонам, кого бы тут задеть, — шатались по кривым улочкам, околачивались у заборов, крали опущенные в воду бидончики с молоком, яблоки, опустошали огороды; воришки, сорви-головы, драчуны, они выныривали из почерневших от времени изб и трущобы, прозванной Вдовьей слободкой, где все заросло крапивой и одичавшими кустарниками. Там жили их матери, таскавшие за рога блеющих коз, их бабушки, сидевшие на солнцепеке на камнях и завалинах. Самодельными острогами они поддевали рыбешек, стреляли из рогаток в воробьев, мастерили пугачи, прыгали с мельничной плотины, смотрели, собравшись в стайку, как разбежавшийся по раскаленной от солнца жести Бярженас, несколько раз кувыркнувшись в воздухе, прыгает с торчащих свай. Они швырялись камнями, устраивали безжалостные кулачные бои, не щадя порой даже своих матерей и бабушек. Шустрые, неугомонные. Таким был Панавиокас с продолговатой головой, с обвисшими ушами, вечно готовый куда-то удрать, провонявший махоркой; а глаза невинные — даже не переставая врать и красть, он смотрел на человека прямо. Утащив из-под носа у продавщицы пустую бутылку, Панавиокас тут же ее кому-нибудь сбывал и, насвистывая, скорчив невинную мину, ссыпал в карман копейки, а потом принимался снова выслеживать добычу. Панавиокас всегда приводил с собой какого-нибудь мальца, чтобы тот видел, как он «работает». «Ты чего здесь ошиваешься?» — спрашивала у него продавщица. «Нравится», — бывало, отвечает он и глядит ей прямо в глаза.
Позднее жуткой смертью умер его отец: сгорел от вспыхнувшего в желудке спирта. Люди нашли его в чертополохе у кузницы. Из почерневшего рта клубился синий дымок. Сиргедене еще пыталась его спасти, но куда там…
Природа одарила этого паренька удивительным музыкальным слухом, ласковостью, ловкими руками фокусника. Тому, кто слышал, как он поет, тому, с кем он ласково и сердечно заговаривал, никогда и в голову не приходило усомниться в его честности. В него беспрекословно верила молоденькая учительница, которой он постоянно мозолил глаза, словно хотел, чтобы та обыскала его карманы, из которых всегда вываливались смятые рубли, спички, зажигалки, окурки. «Откуда это у тебя?» — спрашивала она, смущенная его невинным взглядом.
Зимняя стужа загоняла их в избы, вёсны выманивали их на солнцепек и склоны. Когда теплый ветер высушивал откосы, когда солнце накаляло камни и кирпичи, а вода в реке немного спадала, они просто сходили с ума — босиком взапуски бежали по снежным заплатам, лазали по деревьям, и собаки и кошки, испуганно лая и мяукая, шарахались от них в сторону.
Сын Акуотиса — конопатый, приземистый, плечистый, нетерпеливый, пронырливый, чем-то похожий на своего лучшего друга Панавиокаса, только грубей и вспыльчивей его, — иногда приводил Юзукаса к себе домой, показывал приобретенные им вещи: марки, рубли, литы, испорченные часики. Юзукас продал Акуотелису книги, которые оставил ему Амбразеюс и не смог выманить у него Визгирдёнок. Хватая Юзукаса за рукав, Акуотелис принимался рассказывать ему о Робин Гуде. Голова его всегда была полна каких-то странных затей. Как-то весной, когда на солнцепеке задорно чирикали воробьи, Акуотелис уговорил Юзукаса бежать из дому: устроимся, мол, в лесу, соорудим себе жилище или нет, лучше будем путешествовать в товарняках, на чем попало. «Чего ты боишься? Чего? Поехали! Поехали!» — кричал он.
Подружившись с городскими ребятами, Юзукас сразу смекнул, что они другие. Кроме них, в школу еще приходили дети из Дусмянос, Сантакос…
Притягивали сюда и сады, ломящиеся от плодов, огороженные высокими заборами; свисающие гроздья смородины, крыжовник… Были дворы, куда они боялись и ногой ступить, — Юзукаса манил зеленый просторный дом доктора, не меньше привлекал его и другой, стоявший по ту сторону улицы, напротив развалюхи Акуотисов: желтый, утопавший в цветах, с широкой стеклянной верандой, на которой Юзукас видел одетую во все черное монахиню; она сиживала с книгой, на черном переплете которой Юзукас однажды заметил золотисто-желтый крест. Полыхали пионы, жужжали пчелы, все увядало и чахло от зноя, где-то совсем близко бабы, подоткнув подолы, били вальками белье, кормила грудью своего младенца Акуотене, все вокруг шумело, спешило, задыхалось от зноя, только эта женщина, одетая во все черное, сидела в прохладной тени на веранде, и Юзукас с какой-то непонятной остротой чувствовал и покой, царивший там, и отрешенность, и ничем не стесненный простор. В каждом дворе, за каждым порогом — другие миры, другие предметы, другой воздух. Везде, куда только он впервые входил, что-нибудь да ошеломляло его, приводило в изумление: то стенные ходики, то ларец для приданого, то прохлада в горнице, то стол, лавка и занавески, то стоящий посреди комнаты цветок — словом то, чего не было в его собственном доме.
…В тот год Юзукасу позарез нужны были длинные штаны с кармашками и ремень с широкой пряжкой; к пиджачку он пришил солдатские пуговицы и погоны. Раскаленным добела гвоздем он выжигал в древесине дырки, мастерил пистолеты, красил их всякими красками, палил из пугачей по воробьям, по доскам, по учебникам; в тот год Визгирдёнок ему чуть не выбил глаз — Юзукас не давал себя в обиду, ни одна их драка не кончалась вничью, его сила озадачивала даже более старших ребят, задевавших его. В тот год в самую жару, в самое пекло его крольчиха принесла одиннадцать крольчат, которые один за другим подохли, и он забирался в пропахшую омерзительной вонью клетку, вытаскивал их за мягкую шелковистую шерстку, едва превозмогая тошноту, засеял все задворки многолетним люпином, посадил деревца: рябину, кленочки, яблони; сконструировал ветряную мельницу с будкой, дверцами, жерновами; оборудовал убежище, притащил в него уйму каких-то железяк, старые деньги, книги, динамик, и искорки тока обжигали его пальцы.
Вместе с другими мальчишками он разорял осиные гнезда (однажды он вернулся весь в укусах), тыкал палкой в барсучьи норы, дразнил собак; их влекло все, что внушало страх, что надо было преодолевать, чтобы после можно было гордиться: босиком бродили по гадючьим гнездам, взбирались на верхушки самых высоких деревьев, и некоторые из мальцов даже испытывали удовольствие, когда родители, сняв ремни, гонялись за ними. Они были из породы загоревших на солнце скитальцев, большинство которых уже не ходило в школу и только ждало, когда сможет уехать. Один за другим они оставляли Ужпялькяй и разлетались кто куда.
ПРОБУЖДЕНИЕ
Настал август — сухой, безоблачный. Поднимая тучи пыли, над волостью свирепствует ветер. В обмелевшей реке ловят рыбу местечковые пацаны. На обочинах трепыхаются просвечивающие деревца, блестит над лужайками паутина, со стуком падают на землю спелые яблоки. Одноногий Барткус стоит на асфальтированной площади местечка и поглядывает во все стороны — сколько скособочившихся домов снесено, на их месте строят новые, однако магазин хозяйственных товаров, почта и это двухэтажное громоздкое здание с выходящей на улицу лестничной платформой, под которой копошатся куры и снуют кролики, все еще стоят. Но окна чисто вымыты, кое-где и цветы видны. Конечно, еще уйма всякого хлама в подвалах старых домов и на чердаках. Недавно сделали капитальный ремонт и в апилинковом совете — может, потому Барткусу теперь всюду мнится запах известки, лака и свежей древесины. На днях в подвале апилинкового совета нашли несколько антикварных вещей: ворох старых молитвенников, спрятанные в медном сундучке не то письма, не то записки, заржавевший меч и кандалы, пару стершихся монет. Еще неизвестно, куда эти вещи денут. Они бы очень подошли его музейчику. В его музейчике есть и кусок свинца, раздробившего ему коленную кость, и одежда погибших активистов, и напечатанные в лесном бункере прокламации, и листовки с угрозами. Теперь в лесах тихо — зреют орехи, желтеют листья, уйма грибов.
Над головой черной тучей проносятся скворцы. Они еще не улетели. Это последние стайки. Спешат собрать оставшиеся ягодки, чтобы, странствуя по чужим краям, там их посеять.
В высоком небе, курлыча, летят журавли — там, и вышине, наверняка нет ветра, потому что полет их медлителен и торжествен. Поднимая тучи пыли, свирепствует ветер. Все дворы опустели, тихо, только где-то на мельнице слышно, как пилят доски, да откуда-то с холма, на котором печалится костел, доносятся детские голоса. Скоро там, где стоит зеленый двухэтажный домик, зазвенит колокольчик. «Вот видите? Разве я не говорил, — сказал бы теперь Барткус любому из тех, кто когда-то посмеивался над его целлулоидными макетиками, — разве я не говорил, что время быстро летит, с той осени уже восемь лет прошло. Вот видите, сколько в этом местечке света».
Потом, проковыляв по скрипучей лестнице на чердак, где когда-то жила барышня-учительница, Барткус выпивает стакан вина и, обеими руками облокотившись об узкий подоконник, всматривается вдаль: вся в ржавчине жестяная крыша магазина хозяйственных товаров, река, мост, на другом берегу носятся как угорелые босоногие детишки Савицкаса, кажется, их целый десяток в той лачуге, белый костел на холме, один из старейших в здешних краях. Памятник архитектуры, охраняется государством (такую дощечку прибили совсем недавно).
Школьные коридоры вымыты, во дворе стоят парты, еще пахнет лаком, учебниками, мелом. Примостившись на лестнице, друзья листают только что приобретенные книги. Ноги у них потрескались от болотной воды, оцарапаны о колючки стерни, кое-кто из мальчишек — в ботинках. Вокруг тихо и пусто. Таким, наверное, будет и этот учебный год.
Когда Юзукас начал посещать школу, здесь еще учились его сестра, Альгимантас, Визгирдёнок, Аугустас Кайнорюс, Анупрята… Всюду звучали знакомые голоса. Поздней осенью, слоняясь по вечерам по темнеющим коридорам школы, он дожидался своего двоюродного брата Альгимантаса. Теперь же никого из них он больше не увидит в школьном дворе.
— Как быстро летит время, — Юозас смотрит на поля, где тарахтит комбайн.
— Что правда, то правда, — отзывается Альбинас.
Виновато улыбаясь, мимо них ковыляет Вайткус — четвертую осень подряд он приходит сюда с теми же учебниками; устраивается на последней парте и впивается покрасневшими глазами в доску.
Еще пять долгих лет Юзукас будет учиться в этой школе, но никогда больше в ее коридорах он не услышит голоса шепелявого Альгимантаса, не подойдет к сестре. Уже процокали их деревянные башмаки по зимнему насту. И не по большаку, а прямо, через сосновые рощицы, он будет ходить теперь по утрам в школу.
Сын садовника Гелажюса — он сидит у Юозаса за спиной — тычет его в бок и протягивает душистое, желтое, разрезанное на четыре части яблоко. Юозас впервые так пристально всматривается в его лицо. Один кусок яблока берет Альбинас, другой — Римантас.
Втянув голову в узкие плечи, листает только что купленный учебник Стонис.
В класс входит учитель литературы, высокий, в новехоньком костюме, и, придирчиво оглядев всех, раскрывает журнал. Присутствуют те же: Гелажюс, Юозас, Альбинас, Римантас Ужпялькис, Стонис, Марите, Гражина, Бернадетта, Нийоле. Притихшие, истосковавшиеся по учебе. Те самые, которых накатившей волной знаний с каждым годом будет уносить все дальше, поднимать на все более высокий гребень, вливая в их жилы гордость и уверенность в себе. В одиннадцатом классе они сфотографируются на память. Из тех, кто одиннадцать лет тому назад первый раз вместе с Юзукасом распахнул двери школы, останутся немногие.
читает учитель.
— Кто написал это стихотворение?
И Юозас в мертвой тишине класса произносит имя Майрониса, произносит и снова вспоминает Альгимантаса, который никогда не услышит этой замечательной строфы.
В класс входит учительница русского языка и литературы. Старенькая, седенькая, с белым воротничком и белыми манжетами. Пять лет подряд она будет вдалбливать им в голову, когда надо писать мягкий знак, когда две «н», когда одну. Князь Игорь, сон Святослава, войны половцев и варягов. Основание Москвы, кремль, татарские орды, протяжные, полные горючей тоски и силы песни степняков, пророческие слова Гоголя. Придет Ломоносов, оборванный, но даровитый рыбацкий сын; печальный сирота Шевченко, певец порабощенных народов, которого секли на конюшне и который жил в ссылке; горестный Кольцов, грустный Лермонтов («Люблю отчизну я, но странною любовью», — как отличается его любовь от пушкинской!). «О, Волга, колыбель моя!» — раздастся стон Некрасова. И здешние кустарники, исхоженные Юзукасом в детстве, и стежки окажутся вдруг где-то на берегах Волги XVIII столетия, где волоком волокут баржи могучие бурлаки, где высокие утесы и сосны («На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна»), кружащиеся над ними вороны, может, карканье их доносится еще из времен Святослава. Всякие исторические и литературные детали и эпизоды будут группироваться по какому-то особому подсознательному принципу, крепко срастутся с жизнью Юозаса, наполнятся неуверенностью, надеждами и чаяниями отроческих лет. Этапы ссыльных, гордое одиночество поэтов-романтиков, пророчески звучащие стихи, рок. Ощущение простора, солнечного раздолья, свистящего ветра — пробуждающаяся душа поднимала на опасную пугающую высоту обособленности и отрешенности; ощущение, что некоторые мгновения человеческого существования вдруг оборачиваются такими картинами, озаряются таким ослепительным светом, что в них таятся красота, трагизм, величие, любовь и еще что-то такое, перед чем бессильно само время.
Кочует по степи вместе с мальчуганом горемыка из горьковского рассказа, в лохмотьях, заросший щетиной, голодный, но до чего же трогательна их дружба, их любовь! В тишине замершего класса дрожащим голосом Юозас будет читать рассказ об этих людях, необыкновенно четко представляя себе все, в особенности степь. Потом — промозглый, бесприютный Петербург, горькие, жаркие споры интеллигентов-чахоточников, глухонемой Герасим, гладящий тяжелой рукой собачонку по имени Муму…
Равнодушие, жестокость, обреченность — как все это уязвляло в те годы его душу. Старый Брисюс, закоченевшая белая кошечка, пронзенная стрелой; Йонюкас (из рассказов Билюнаса), едущий на заляпанной навозом телеге по весенним полям и во всю глотку орущий: «Ах, пион, цветочек алый!» Все это непостижимым образом сопрягалось с ним, существовало рядом.
Зима обещает быть долгой и студеной — может, потому так хороша осень; зима с донелайтисовыми мужиками в лаптях и с солнышком, которое «с каждым днем поднимается все выше и выше», с рассветами, пронизанными морозами и влагой, с печалью и тоской, звучащей в клекоте аиста: кого он нынче выкинет из гнезда — яйцо или своего птенца, когда он вместе с аистихой, отогревшись, снова полетит на сохнущие опушки в поисках гадючьих выползков, на ловлю ящериц и лягушат в сырой еще чаще?
Словно предчувствуя это, Юзукас наспех перелистывает учебник, выслушивает учителей, объясняющих им программу нынешнего года, и как только кончаются уроки, очертя голову мчится на луга.
Улетают на юг из своих гнезд, устроенных в тронутых желтизной топях и болотах, курлычащие журавли. Терпко пахнет картофельным полем, землей, мхом, волнушками, которые мальчишки собирают, возвращаясь из школы. По высохшим глиняным проселкам тарахтят возы с соломой. Где-то со стуком падают наземь спелые плоды. Где-то в тучах пыли стучит молотилка, тянется по ветру паутина. Еще стрекочут кузнечики. Еще греет солнце, дует влажный освежающий ветерок, и только клики журавлей в высоком поднебесье, только сухой блеск стерни, шепот пожухлой зелени, неожиданно опустевшие поля, оголившиеся пригорки, долины, сбросившие свой зеленый наряд, уже свидетельствуют о том, что лето подходит к концу. Что-то раздирающее душу есть в этой смене времен года, особенно в сентябре.
— Пустые колосья, полова, солома, — говорит, провеивая зерно, Константас. — Раньше, бывало, несколько сеновалов набивали. А сена и клевера было — риги ломились. А уж пшеницы! Сыпалась, как жемчуг… как орехи…
Жена Константаса возится в риге. Маленькая, в одежде, к которой прилипла полова, загорелая, только белые полосочки у глаз, там, где сбегаются морщинки, когда она жмурится от солнца. Константене прислушивается к рассуждениям мужа, но перебивать его не отваживается, только шмыгает носом, молчит.
— Ай-яй-яй, — наконец не выдерживает она и выпрямляется во весь рост. — Риги, видите ли, ломились! А в колхоз ты почему не пошел? Чего все лето по кустам проваландался? Ты только посмотри, сколько нынче другие заработали, сколько всего понавезли со складов Ужпялькис и Казимерас. Мелешь языком и сам не знаешь что. Жемчуг! Орехи! Тьфу!..
— Ты чего это меня, как мальца, передразниваешь? Кто я тебе?..
Константене ерзает, не знает, к чему прицепиться. Ответила бы ему, да так, чтобы…
Курлычут высоко в небе улетающие журавли. Вот собрались над избой в стаю, посоветовались с минутку и клином потянули на запад.
— Вожак, — говорит Константас, глядя на журавлиный клин. — Там, впереди, вожак, летит чуть поодаль от других. Он и курлычет по-другому, — добавляет он, прислушиваясь. — Ни одного не оставит. Про всех помнит.
Посоветовались журавли, сосчитались и полетели. Вот и еще один клин.
— Где? — Константене прикладывает руку ко лбу. (В эту же минуту в своем дворе стоит Малдонене, прикрыв близорукие глаза рукой; лицо ее исхлестано летними ветрами и обожжено зноем. По ту сторону реки, по сосновым рощицам сломя голову носятся дети, Альбинас, Юозас, Римантас, летают так, что земля дрожит.)
Отставшие от клина журавли летят чуть ниже, чем те, что в строю, размахивают крыльями, курлычут. Кто знает, услышит ли их клин, почти растаявший там, вдали. Но странно: клин медленно разворачивается, ждет.
С помойным ведром из избы выходит Криступене. Скрюченная, она рубит свободной рукой воздух:
— Чего это вы глазеете? Стряслось что? — останавливается она.
— Журавушки улетают, — отвечает Константас. — То-то, — говорит он самому себе. — Уже осень, через неделю-другую и стужа нагрянет, — он поглядывает на клены во дворе, на крышу избы (чуть ли не каждую осень он ее латает) и снова всматривается в даль; лучи солнца ласкают гладкую поверхность холмов, деревья, избы, сваленное у риги тягло, сбрую, конские скребки, плетушки, трепала, рассохшуюся ступу. — Передохнем малость, — Константас садится на замшелый камень. — Теплый, — гладит он его.
Штаны его на коленях залатаны, рукава домотканого пиджака потрепаны. Он сидит, весь в полове, на камне и смотрит на свои руки.
— Уже не за горами… не за горами зима. И работы подходят к концу, картошку выкопаем, ячмень обмолотим.
Его разговор перебивают куры — вылетают с кудахтаньем из курятника, впереди петух.
— Это еще что? — удивляется Константене. — Может, хорек? Пойду-ка посмотрю.
— Ну-ка ну-ка, не Малдонис ли по пригорку идет? Поможет мне крышу чинить. Ну-ка, посмотрим…
— Ты чего это кадык так выставляешь? — говорит Визгирдене бурчащему во дворе индюку. Она направляется с кошелкой в сарайчик, там поднимает крышу сусека, и оттуда тотчас же вырываются всякие вкусные запахи. Нюхал бы их Юзукас и нюхал…
— Журавушки улетают, — говорит Визгирда, когда она с караваем хлеба в руках выходит во двор.
Над выгнутым Каушпедасовым холмом летят журавли. Визгирдене, прижав к груди мучнистый каравай, какое-то время смотрит на запад, потом снова возвращается в сарайчик, отрезает кусок скиландиса, берет сыр, все складывает в кошелку. Вдруг кто-то шмыг ей под ноги.
— Тьфу! Чтоб тебя! Напугала, окаянная! Тьфу!
Лениво прищурившись, на нее смотрит черная кошка и облизывается. Тякле отщипывает кусочек и бросает лакомство на землю. Кошка тотчас же его проглатывает и снова смотрит, ждет, потом подходит и, тихо мурлыча, начинает тереться о ноги; ничего доброго не сулит зеленый блеск ее глаз.
— Ты чего привязалась ко мне, как несчастье какое? Брысь, окаянная! — топает ногой Визгирдене.
Кошка шмыгает прочь. Сердито бурча, подбегает индюк. Красный кадык отливает кровью. Распустив крылья, он норовит броситься на кошку.
— Кыш, дрянь ты этакая! Ты когда-нибудь успокоишься? — напускается Визгирдене на индюка и смотрит на запад.
Небосвод широкий и теплый, как шелк. Над лужайкой, где совсем недавно ее сын боролся с Юзукасом, играл в квадрат или «чижика», висит паутина. По берегу реки, через ольшаник Визгирды, идет какой-то человек — не почтальон ли это Страздялис, может, письмо от сына несет, нет, сворачивает в сторону.
Визгирда по-прежнему смотрит на запад.
Уж которую осень, говорит сама с собой Визгирдене, провожаю я журавлей. Помню, однажды с Криступасовой Эльжбетой бродили мы по пойме, как той осенью кричали журавли. А однажды я по воду к роднику пошла… Интересно, кто там так громко белье полощет, подумала она и обернулась к реке, откуда доносились удары валька.
— Ну уж бьет, ну уж бьет, — говорит она.
Стоя в своем дворе и оглядываясь, удары валька слышит и Константас.
Как это я раньше не слышала этот стук валька, думает Визгирдене. Может быть, девчонки Казимераса белье полощут. И как они к реке шли — прозевала, словно не в себе была, говорит она, и до нее снова доносится курлыканье журавлей. Но что это? Все время не над нами кличут, говорит она, не над нами, то над Малдонисовой избой, то над большаком…
С холма, на склоны которого уже ложатся тени, веет прохладой. Слышно, как где-то за кустарником кто-то бьет вальком белье. И такими пустыми вдруг кажутся Визгирдене ее жилье, сарайчики, рига, изба, такая пустота под сердцем, хоть плюхнись на эту теплую серую землю, прильни к кривой березке, прижмись к дверному косяку или иди и иди по размытой водой канавке через огороды, в поле, которое весенние паводки занесли песком и галькой, и заговори с Пеструхой, мычащей под синим небом.
Сколько помню, говорит Визгирдене, журавли всегда улетают в самые пригожие дни, когда воздух свеж и тих, а вот в апреле, когда забурлит вода, в тумане из-за спешки и не различишь, то ли чибис кличет, то ли клекочет журавль. Вдруг она поворачивается к своему мужу, словно впервые его увидев:
— Ступай же ты в избу, ступай, ради бога, довольно, хватит уже, ступай поешь, я вот сырка несу, скиландиса. — Но Визгирда и в ус не дует. — Как столб стоит, с таким мужем только в пекло, — говорит она, — лучше бы я тебя совсем не встретила. — Потом, немного успокоившись, она замечает: все длиннее становится тень, падающая от холма, а там — серая рига Каушпедаса, нет камней, возле которых, бывало, лежали ее овцы, нет в помине ивняка… До сих пор глаза не могут к этому привыкнуть; она косится на серую одежду мужа, на серую лужайку, на камень, на крышу избы, на сруб… Кладет руку на теплую покорежившуюся древесину, гладит ее — кажется, всю ее жизнь впитала эта теплая, эта терпкая серость.
Визгирдене входит в избу и только теперь впервые замечает, как здесь тесно: в угол задвинуты прялки, изъеденные древоточцем (дома они так и не построили), стертый челнок, доска, стол; она кладет на него хлеб, сыр, кусок скиландиса. Тут и горшки, накрытые марлей, солонка, пахталка, печурка, кочерга, лавка, на которой любила сиживать ее матушка.
Накапав себе валериановых капель, Тякле выпивает их, еще раз косится на мужа, стоящего во дворе, шуршит соломой, вытягивает ноги, складывает на груди руки, замечает матушкины четки на полочке, потом выглядывает в окно: стежка, которая ведет к Диржисам, исчезает в осиннике на пригорке, там столько света, такие высокие белоствольные березы. Пройду через этот осинник, пройду… — говорит она, вставая с кровати, — посмотрю, что делает Анупрене. Тьма, тьма, вся жизнь теперь тьма, не видно, кто куда идет, ничего не слышно. Может, Константас и правду говорит: кто же виноват, говорит он. Муж так ругал и колотил Анупрене, что ей больше не хочется ничего ни видеть, ни слышать — все опротивело. И пищу она не принимает, ни кусочка. Никого ей из окружающих не нужно, замкнулась в себе.
— Как далеко слышно, как далеко, — удивляется, берясь за свою работу, Константас.
Анупрене сидела в углу под раскачивающимся маятником стенных часов (тик-так…) и сбивала масло. Голова вскинута, глаза впились в одну точку.
— Доброго здоровьица, — говорит Визгирдене с порога. — Чего ты так сидишь? Смотри, сметана через край льется. — Она подсаживается к Анупрене, показывает, как надо сбивать, спохватывается, сказав, что сметана уже с крупинками и теперь надо только сбивать, проводит по верху пахталки пальцем, облизывает его — вкусное, хорошее, желтое масло, как от нашей коровы, — сказала. — Ты что, совсем оглохла? — вдруг спрашивает она у Анупрене.
Снова эти куры — куд-ку-дах, куд-ку-дах, снеслись что ли в траве? Скрипнули двери, в комнату входит Анупрас, смотрит на обеих исподлобья и, покрутившись по избе, снова выходит во двор. Приносит воды, потом направляется в хлев, в ригу Диржиса, хлопает дверьми, швыряет возле хлева палки.
Вбегает дочь Анупрене Ева, бойкая, вечно смеющаяся, с зеркальцем в руке.
— Вот, тетушка, посмотри, — откидывает она со лба короткие черные кудряшки, — меньше стала эта родинка, ведь правда, меньше?
Да где там меньше, такая же, хотела было ответить Визгирдене — у ее сына тоже родинка под левой лопаткой, она знает, что родинки не уменьшаются, не исчезают, но не сказала этого. Сидит, спрятав руки в широкий подол домотканой юбки, гладит одну другой, успокаивает, проводит кончиками пальцев по набухшим венам и не спускает глаз с этой девчонки.
— А она, тетушка, исчезнет? Ведь исчезнет?
— Не знаю. А ты что, уже кого-то присмотрела? Парня, говорю, подцепила?
— Ох, тетушка, ты не знаешь, до чего же мне стыдно, — всплескивает руками Ева, и в глазах ее вспыхивают искорки, — правда, теперь уже не так, а вот раньше, раньше мне казалось, что все только и норовят увидеть эту мою родинку, я прятала ее, не знала, как и причесаться. Иду, бывало, и боюсь, как бы ветер не подул. А теперь вот посмотри — меньше стала…
— Да что это с тобой сделалось, не понимаю, никогда ты никому своей родинки не показывала, даже мне, а теперь — радуешься, не понимаю, — прищуривается Визгирдене и вдруг даже откидывается от удивления, хлопнув себя несколько раз обеими руками по коленям. — Признайся, есть у тебя парень? Кто такой? Хороший ли?
— Ой, тетушка, душа, а не человек, уж такой хороший, такой хороший, хоть…
— Кто такой?
— Неужто не знаешь? Альгис. Вашего Казимераса Альгис. Альгимантас.
— Ах, Альгимантас! А я-то думала, что Аугустас Кайнорюс.
— Фу, нет! Он такой… даже страшно мне. Боюсь на него глаза поднять, как преступница какая. От него только и слышишь: чего сидишь, как святая Магдалина, зачем тебе эта ромашка? — и уже подъезжает, уже хочет обнять, поцеловать. Покажи, говорит, мне эту свою родинку, покажи, фу, противный, однажды еле ноги унесла, а он хе-хе-хе, чего ты такая, как…
— Да не сбивай ты это масло, — говорит Визгирдене матери Евы, — ради бога, иди сюда, детка, иди, помоги ей, я больше не могу.
Дочь садится рядом с матерью, кладет свою руку на ее руку, обе потихоньку сбивают.
Пряди на лбу у Евы расступаются, обнажая темную полоску. Очень она ее портит, очень, думает Визгирдене. А такая девка, такая красотка, а уж весела, а уж шустра, как юла.
Сейчас еще полдень — высоко в небе, предвещая долгую звездную ночь, по-прежнему летят журавли, однако их голоса тают где-то в лучах спелого заката. Никакой тяжести не чувствую, — говорит Визгирдене, оглядываясь. Как рукой сняло. Видишь, как бывает, когда к другим приходишь.
На овсяном поле слышно: «Тпру! Нооо!» Это Аугустас Кайнорюс покрикивает на лошадь.
— Куда на вожжи лезешь, вот курва, — пинает он ее.
— Ай, братцы, нехорошо, нехорошо, так нельзя, — говорит Константас (это жеребенок его Дуськи).
Константас пришел просить ребят, чтобы они помогли ячмень свезти. Пристал к племяннику Альгимантасу: может, подсобишь, я заплачу.
Тот вилами солому сгребает, рыжие волосы зачесаны, впереди прядь фестоном, немного застенчивый, в солдатских брюках и сапогах. Он уже мужчина, высокий, крепкий.
— Подсобил бы, да времени нет, работа, — Альгимантас чуть шепелявит.
— Знаю я твою работу, знаю.
Аугустас, самый здоровенный парень в округе, стоит, воткнув в стерню вилы, и смотрит на Альгимантаса. Они закадычные друзья. Лицо у Аугустаса строгое, отрешенное, он смотрит и молчит. Никак не может взять в толк, почему Альгимантас отводит в сторону глаза, краснеет, как рак, когда с ним заговаривают о Еве.
— Не убудет тебя, если подсобишь, — упрекает племянника Константас. — Кончишь это возить, и приезжайте, оба с Аугустасом приезжайте, вечером поллитра поставлю, покалякаем, как-никак — свои.
— Ладно, дядя, ладно, свезем, — берет вожжи Аугустас. — Только одной поллитровкой не отделаешься, нам две, не меньше…
— Обалдеете. Две много, слишком много, ага, то-то…
Чуть поодаль стоит сестра Аугустаса Фелиция.
— Чего же вы, дядя, в прошлый раз, когда у нас были, — говорит она Константасу (голос у нее низкий, звонкий, но в нем звучит обида), — все время моему отцу кричали: «Да черт с ним… Я бы не пошел, я бы в суд подал… Или схватил бы его вот так, за шкирку и — за дверь!» О чем это вы кричали там? Я в каморке с ребенком была, все слышала.
Константас подходит к Фелиции. Слышно только:
— Нехорошо… так нельзя… брюхатую, с ребенком, оставить. Отец же он ему, где это видано! — удивляется он и, похоже, первый раз произносит слова, которые, чем дальше, тем чаще будут слетать с его губ. — В наше время… это редкость!.. Ни один, упаси бог… чтобы кто-нибудь посмел…
Это пролог его нового рассуждения и удивления, пролог нового мотива, который в дальнейшем будет все чаще повторяться, пока не закоснеет и не превратится в старческое ворчание, на которое никто не будет обращать внимания, будь это хоть тысячу раз правда.
Здесь, на теплом осеннем овсяном поле Диржисов, Константас со своими извечными рассуждениями о порядочности чувствует себя как никогда на своем месте, чувствует, как глухая стена, отделяющая его от других, рушится, — и Фелиция, и Аугустас, и Альгимантас внимают его словам: «порядочности, честности — вот чего не хватает», а главное — слышат, понимают его, и ему не надо назойливо навязывать им свою правду, как он порой это делает, хотя он, Константас, знает: того, кто не хочет понять, кому твоя правда не нужна или невыгодна, не убедишь, хоть из кожи вон лезь.
Довольный, но, как всегда, словно с одеревеневшим от удивления лицом, Константас направляется домой. Там он говорит:
— Будет толока. Надо только за поллитрой в местечко сходить, а ты, жена, какого-нибудь петушка прирежь, — добавляет он, выходя из сумрака избы во двор.
— Да ты уже сейчас как пьяный, — стоя у печки со смолистой чуркой в руке, бросает ему вслед Константене.
Прямехонько сидит в седле Казимерас — он выехал, чтобы посмотреть, как идут работы. Староверские вдовы попотчевали его квасом, от которого немного кружится голова, поэтому он так придирчиво поглядывает на баб, копающихся в теплом песке на картофельном поле — может, еще какая-нибудь картофелина в земле осталась. Картошка здесь отменная, ранняя, оставшаяся еще с лета. Бабы работают споро, в его сторону даже голов не поворачивают. Набухшие узлы вен, широкие задницы. Из нагретой шири полей нет-нет да и подует ветерок, небо чистое, как слеза, и звонкое, еще почти не тронутое будущими, но легко угадываемыми холодами, и журавлиный крик звучит здесь не приглушенно, не исчезает и не тает где-то вдали, а внятно и гулко. Эти птицы отсюда видны как на ладони, все дальше на запад летит их стройный клин.
— Работайте… работайте, — Казимерас кружит вокруг баб на своей лошади. — Вон картофелину оставила, — говорит он Каушпедене и ловит себя на мысли, что и его дед, урядник, тоже скакал на лошади по полям, вспоминает и вытягивает лошадь хлыстом, копыта только цок-цок по стерне.
— Тпру, разрази тебя гром! Куда тебя несет! Еще испугаешься! — кричит он на лошадь, очутившись у облупленной ограды староверского кладбища. На каменных воротах — древняя дата. Она напоминает о бунтах и мятежах, в которых участвовал и его дед; о том времени рассказывал, бывало, и отец. В кладбищенской гуще деревьев свет пробивается только отдельными пучками; ложится он на каменные глыбы, замшелые, утопающие в траве среди лозняка. Косые кресты, византийские письмена и даты, имена…
Динь-тилинь… тилинь… — доносится из долины. Там, возле маленькой деревянной молельни, стоит в сапогах бородатый Радзивон и бьет по жести. Жилистый, кривоногий, в широкой рубахе, весь облепленный стружками, может, у него еще и топорик за поясом… Пришли они сюда из Пскова, Владимира, Новгорода или Ярославля… Хорошие люди, искусные мастера. Деревня не раз приходила им на помощь, когда случались пожары или другие бедствия.
Засучив рукава рубахи, стругает доски Пятрас Ужпялькис. Он делает для ребенка люльку. Стружки, сухие, белые, как кости, с каким-то въевшимся в дерево запашком, струятся по его рукам. Скоро родится последний в его семье строптивый, с почерневшим от крика ртом человечек, который будет есть его хлеб и величать отцом, крохотный человечек, который будет ходить за ним по пятам.
Дай бог и в будущем году такую осень. В саду со стуком падают на землю яблоки.
Казимерас слезает с лошади, привязывает ее к коновязи и направляется к Ужпялькису.
— Кого решил в кумовья позвать? — спрашивает Казимерас, вдыхая запах жухлой листвы, которая уже успела кое-где устлать тенистые овраги и пригорки.
Поговорив с Ужпялькисом, Казимерас отправляется обратно. Лесок Мильджюса, лужок Малдониса… Изба сестер Бразджюнайтите издали светит своими окнами — известкой белена. Старшей сестре так ничего и не удалось узнать о своем сыне, пропал в войну без вести, хотя сам Бендорюс обещал разыскать его или что-нибудь узнать о нем. Вот и Розалия, ходит между сосенками с лукошком, собирает грибы, как той далекой дождливой осенью.
Казимерас скачет сейчас по проселку, по которому когда-то пришел он к Бернарделису Бендорюсу, скачет мимо изб Кайнорюса, Каушпедаса, Накутиса, потом сворачивает на большак, который всегда жил в каждой его мысли, но странно — был почти незаметным, как часто остается незаметным то, что рядом, главное… Эти старые ивы — эти невесть откуда забредшие попутчики, эта белизна, этот полный смысла звук, когда произносишь «большак». Остановись и прислушайся, слышишь, как тарахтят по стылой тверди телеги, хотя до зари еще далеко.
Не было в словаре Казимераса слова, которое он произносил бы чаще, чем это: Казимерас — и не только Казимерас — все время поглядывал на большак, чувствовал его, то и дело спрашивал, кто идет по большаку, — по большаку шла вся его жизнь.
Дочери Казимераса, Она и Генуте, подоткнув подолы, полощут возле брода белье, и крохотные рыбешки косяками носятся вокруг их икр, а те, что побольше, тычутся в эти икры своими тупыми носами. Бурлит вода, в кусте калины жалобно пищит какая-то пичуга. Над водой качаются черные перезрелые гроздья волчьей ягоды. Изредка, напуганный звуком валька, с ветки слетает листочек и, медленно кружась, садится на воду. Старшая, Она, выпрямляет ноющую спину, откидывает мокрой рукой растрепанные волосы и, развешивая на олешинах пеленки, слышит: журавли. Их курлыканье не одинаково и не в одно время слышно над всеми ложбинками этой земли, повсюду, где гудят жуки, тянут свои сети пауки и, на минутку оторвавшись от своих дел, стоят люди.
Генуте нагибается, зачерпывает воду, обливает шею, проводит по ней рукой. Как хорошо, говорит она. Потом намыливает руки, ноги… Ты только посмотри, говорит она, бабочка, ах, какая бабочка. Настурция, говорит она, настурция — это мой цветок, и, подняв над головой влажную марлю, плавно кружится.
— Ну как — идет мне? — спрашивает она у Оны. — Все невесты тюль надевают. Еве нравится жасмин, а еще анютины глазки, они такие печальные-печальные. Юзукас их, бывало, все нюхает… — Потом, услышав скрип телеги на проселке, говорит: — Может, уже кончили ячмень возить? Знаешь, Аугустас… — и, прикусив заколку, начинает закручивать мокрые волосы, потом снова: — Знаешь, Аугустас… — растягивает она первые слоги его имени и вдыхает всей грудью пряный, напоенный хмелем воздух, который — только произнеси имя Аугустаса — становится свежей и прохладней.
О́на еще несколько раз бьет вальком по белью — трах-трах-трах! — эти звуки слышит, летя с друзьями по лугу Малдониса, и Юзукас, но он не останавливается. В детстве он любил смотреть, как бабы полощут белье, как двоюродная сестра Генуте топит в пенистом щелоке руки, разводит под котлом едва занимающийся огонь. Любил он слушать, как эхо вторит в кустарнике стуку неугомонного валька. Эхо, возвращающееся от обрыва, от риги; стук валька, молотилки.
Вот и теперь останавливается он у тихой заводи.
— Слышите?! — говорит он своим приятелям. — Слышите, какой звук? — и в глазах его вспыхивают искорки. Потом все, то подбегая к воде, то пятясь от нее, начинают выкрикивать бог весть что, блеют, воют, кукарекают…
В греческом мифе рассказывается об одной нимфе, которая из-за мук неразделенной любви так высохла, что от нее остался один только голос. Другой вариант мифа гласит: нимфа была наказана женой Зевса Герой за болтливость и краснобайство. Она заговаривала Геру, пока Зевс гостил среди нимф, и за это Гера обрекла ее на немоту. С тех пор она может только повторять окончания услышанных слов.
По бродам, усыпанным розоватым песочком, мимо ив плывет лодка Криступаса. Вода ударяется о борта, тихо кружит в заводях, где поблескивают рыбы, много их, особенно там, у дуба, занесенного землей, и в глубоких омутах, над которыми, как призраки, колышутся стебли травы.
Криступас тихо поднимает весло, так же тихо опускает его, перевешиваясь через борт, смотрит в глубину, где дрожит его отражение: но он его не замечает, а если бы и заметил, то сам бы испугался, такой он осунувшийся, заросший щетиной, с горячечным взглядом; совсем не то лицо, которое он видел раньше, когда у зеркала причесывал на прямой пробор свои волосы. И вода здесь, в этом заливчике, какая-то мутная, с берега веет духотой, запахом сухой плесени; кажется, там, в ивняке, еще царит летний зной, но уже бессильный, умирающий… Криступас смотрит в даль, где вода, зажатая между двумя высокими берегами, мощным неистовым потоком бросается вниз; там прохладно, над водой стригут ласточки, там подувший с берега ветер словно метлой гонит мелкие волны, издали доносится запах суглинков, ила, такой знакомый ему, зимогору, запах черемухи — сколько ее росло на мысе у Даукинтисова луга: некоторые деревья повалило бурей, другие снесло паводком, третьи сгинули сами. Там и течение сильнее, вода словно с пригорка по черным камешкам бежит. Криступас пытается выгрести на этот стрежень, пусть несет его мимо черемухи по этим тенистым затишкам, но встречное течение подхватывает его лодку, тянет назад, относит к ивняку. Криступас опускает весла. Успеет туда выгрести, вихрем промчится.
Нет, здесь не стоит забрасывать сети, слишком глубоко, кроме того, — подводные течения; уйма речушек вливается сюда. Вода сегодня поднялась.
После того как разрушили мельничную запруду, река перестала мелеть, а раньше, по субботам и воскресеньям, бывало, с утра только и ждешь отлива; посылаешь мальца посмотреть, видны ли уже оба камня возле брода Визгирды; малец, бывало, воткнет щепку, отметит уровень воды, а через полчаса мчится, чтобы снова проверить. Когда и маленький камень возле брода вылезет из воды, взваливаешь сеть на плечо и отправляешься, насвистывая, рыбачить, ходишь по еще мокрым почерневшим корягам… Что будет, если вся вода из озера вытечет? Никому это и в голову не приходит. Раньше, когда Криступас еще пастушонком был, здесь столько рыбы было. Заберешься в бурелом, и только успевай тянуть. Но говорят, эта река совсем изменит свое русло, потечет по кратчайшему пути, ее воду спустят в Швянтойи, вырубят кусты, все сровняют с землей, превратят в пахотные земли, в культурные пастбища, и следа не останется от тех мест, по которым Криступас когда-то бродил, где его сын собирал ракушки или ловил рыбу; не будет тех заводей, где мы, покрытые пылью, потные, облепленные ржаными остями умывались, где купали лошадей, не будет и тех ласковых, прогретых солнцем отмелей, где, визжа, плескались девки, тех кустов, куда они шмыгали переодеваться, оглашая своим щебетом и озаряя своей наготой все заросли: этот смех, бывало, помогал тебе увидеть, какая здесь вокруг красота, какие в лугах прекрасные цветы, какое здесь все близкое и родное, и деревья эти — такие свойские.
В верховье уже, говорят, работы начались, пригнали бульдозеры, копают, роют. Криступас останавливает лодку. Он ничуть не удивился бы, если бы оттуда, с верховьев, откуда летят журавли, донесся какой-нибудь грохот. На берегу — какой-то шум, галдеж. Это мальчишки, с ними и его «кузнечик», куда они так мчаться?
Криступас кладет весла, закуривает. На самом краю заводи, под склонившейся вербой, щука следит за малейшим движением рыбака. Полосатая, в темно-зеленых и светлых пятнах. Зоркий глаз хищницы мгновенно замечает Криступаса, и ее хитрость и коварство, извиваясь, как бы сворачиваются в клубок.
Тихо в этой заводи и тепло, словно солнце выплеснуло сюда весь свой жар.
Бранясь, размахивая обеими руками, мимо гонит стадо хромой Арционас. Потрепанный, исхлестанный ветрами плащ, рожок, мешочек, кнут. Лицо красное, как кирпич. Целыми днями напролет он на ветру и на солнце. Это последний пастух в здешней округе, на этих лугах. Неуклюжий, замызганный, сквернослов — мальцы, известное дело, не обойдут его стороной. Криступас швыряет папиросу в воду, налегает на весла, делает несколько мощных гребков в ту сторону, где клокочет вода и стригут ласточки; мимо проносятся орешники, оставляя во рту вкус спелого ядра, вот и березовая роща…
Вот и эти водовороты — лодка, подпрыгивая на упругих волнах, пролетает мимо мыса Даукинтиса, мимо черемух — любимые деревья Криступаса: клен, ива и черемуха, которая о своем существовании как бы возвещает издали; весной никогда не пройдешь мимо черемухи… Где теперь эти черемухи, на стволах которых он вырезал девичьи имена? Как они шелестят, говорит Криступас, Аполония, говорит он, на этот мыс я всегда приходил с Аполонией, гладил, бывало, душистую кору, прижимался к выступу ствола, откидывал голову, роса говорила и приглашала на буйный праздник ветра и трав; тело ее одурманивало, ей-богу, одурманивало. А порой как начнет хохотать, как начнет хохотать или смотрит большими теплыми глазами, а в них такая нежность, преданность, вожделение, кажется, я по мельничной лестнице с мешком зерна поднимался, когда встретил этот ее взгляд, я еще рассмеялся, а когда жернова умолкли, забрался на чердак мельницы, нашел ее, подметающую пол. «Это ты?» — сказала она там, среди мешков… А теперь, как она смотрит теперь, с какой тоской. «Это ты?» — спросила она, даже не подняв головы. Как хорошо, что ты пришел, сказала она и еще что-то тихо сказала, так тихо, что я тогда ничего не услышал, сказала руками, глазами, все во мне подавив, и заманила в тенета своей бунтующей плоти. Кри-сту-пас… Кри-сту-пас… ах, Криступас, словно кричит она теперь с луга, окутанного туманом, из зарослей черемухи. «Почему ты так быстро все забываешь, Криступас?» — вдруг врывается голос Эльжбеты.
Да, у него были женщины, но таких, которых он страсть как хотел понять, таких, которые ловили бы каждое его движение, было только две — Аполония и Эльжбета.
Аполония пришла, закутанная в вечерний туман, налетела, как порыв ветра, гибкая, льнущая к нему — просто не верится, что она была, хотя она была, была здесь Аполония, может, не совсем такая, какой он сейчас ее видит, но была — она возникла из того, чем он жил, что окружало его с малолетства, взволнованная, полная неуверенности в собственном и его, Криступаса, будущем, такой она предстала перед ним и сейчас, только, может быть, еще более реальной, чем была на самом деле. Так вот значит почему его так тянет на берега этой реки. Как только выдается свободная минутка — он тут же к реке, на луга — нарезать прутиков, накопать для корзин корней; никто здесь так искусно не плетет таких красивых корзин, как Криступас, любит он ходить и по грибы, и по орехи…
Он берет весла и пытается грести против течения, лицо у него просветлело, снизошла какая-то ясность — вот что, говорит он, вот куда унесли меня эти воды — Аполония.
Он часто вспоминает ее, когда плывет по реке, или ходит по заросшему черемухой мысу, однако не придает этому никакого значения, как и всему, что делал, что ему нравилось, что его радовало. Но на сей раз он не увернулся: Аполония — дохнуло из зарослей черемухи, перешло через мелеющую студеную обжигающую реку: вот почему он приходил в такую ярость, когда его называли развратником. Вот… вот; склонял он голову, отводил в сторону глаза, смотри теперь на эти туманы, на эти броды и отмели, словно говорил ему кто-то, на эти ветры, на эти теплые, ласковые закаты… на этот клевер. Он весь съежился при мысли, что впереди его ждут еще осинник, дельта с желтыми лоскутками песка, вялой, застойной водой, лесными завалами, где полно подохших мышей и рыб. Течение здесь было быстрое, и лодка Криступаса, подпрыгивая, стремительно неслась к Дельте.
Другую женщину звали Эльжбета. Она никогда не кричала, шила, вязала, растила его детей; когда он возвращался, подавала еду, стелила постель, видела его легкомыслие и глупость, но только снисходительно улыбалась, защищала его от насмешек, от сплетен… Уж такой он, уж такой он и есть, говаривала она. Что с того, что он к другим бегает, пускай… увидит красивую женщину — из кожи вон лезет, ни за что его не удержишь, ну точно ребенок; вы только посмотрите на него, какие он себе ботинки купил, какие на нем шляпы, галстуки, запонки, какие у него портсигары, какие папиросы, какими духами он душится, ты хоть в лепешку разбейся, но достань ему в городе такие духи, чтобы он пах то земляникой, то еще чем, такой уж он и есть, — говаривала она, тыча иголкой в узор вышивки.
Такую свою Эльжбету, вышивающую, защищающую его и оправдывающую, Криступас почти не вспоминал; он вспоминал другое: белые накрахмаленные занавески, скатерти, салфетки и то, что всегда в его доме было просторно, прибрано, чисто, что ему было необыкновенно хорошо жить — ходи куда хочешь, делай что хочешь, Эльжбета дурного слова не скажет, одно знает — вышивать. Только теперь Криступас осознал смысл многих ее поступков, взглядов и слов, однажды сказанных ему Визгирдене: «Любила… Эльжбета очень тебя любила… она мне такие вещи о тебе рассказывала… как ждала, положив на колени вышивку…»
Все глубже погружаясь в себя, откапывая себя, настоящего, непридуманного, Криступас заново открывал и этих женщин. Господи, до чего же у него было скверно на душе, когда он сегодня собирался на рыбалку! С какой неохотой он брел к этой мутной, разлившейся реке! Все ему опостылело, но больше всего опротивел ему не кто-нибудь, а он сам — такой отпетый, обреченный, никому не нужный, что, казалось, испепели его молния, он бы даже не дрогнул; он еле ноги волочил, бродя по этим своим лугам.
Теперь лицо его чуть просветлело, глаза ожили и снова как бы готовы были всему радоваться, всем любоваться; то, что за долгие годы накопилось, наслоилось в его душе, то, что каждый день он от себя скрывал, что нетерпеливо, с какой-то обидой отталкивал, отвергал — все это вдруг пронеслось, прошумело вместе с водой. Но там… осинники… дельта… желтые лоскутки песка светятся издали, по краям вода черная, как смола, грязь, кишащая пиявками, камыши, попискивающие птицы, протухшие мыши, вот какая-то тварь, высунув морду, нюхает воздух, даже усики подрагивают, шерстку ощетинила при виде Криступаса; запустил в нее дубинкой, увязая в иле, поволок лодку через камыш… Здесь, в прохладной тени, где деревья переплелись ветками, а ледяная вода лижет их ноги, здесь, в широко разлившейся Дельте, где слышно, как журчит, устремляясь в другие, более широкие поля и луга, вода Швянтойи, Криступас привязывает лодку; как бы кожей ощущая шелест и свет, которыми залиты осинники, он поднимается на откос и вдруг вспоминает, как под свист пуль тащил на себе раненого, потом, как сквозь кордон конной полиции нес гроб своего друга, как богатеи бросали в них вазончики с цветами, ночные горшки.
Он останавливается на берегу, оглядывается, и все пережитое волной, облаком накатывается, наплывает на него и проносится мимо, и какая-то тяжесть наваливается на сердце, и кто-то словно винит его. Но ведь я… но я… — бормочет Криступас, вдруг отвернувшись от Дельты, и идет дальше, и какой-то крик вызревает в нем и с каждым шагом делается все громче и громче. Как они не понимают… я… я… — бормочет он и радуется, увидев там, по ту сторону реки, на широком лугу, у самой Швянтойи, своего «кузнечика», стоящего с друзьями возле дуба. Вытянув руку, он показывает им на верхушку — и что он там только такое увидел? Наверное, молния что-то выжгла — Криступас хочет крикнуть ему, но услышит ли Юзукас, пусть идет своей дорогой, даже отсюда видно, как им хорошо возле того дуба.
И мы в детстве к этому дубу прибегали, вспоминает Криступас.
До позднего вечера затянулось у Константаса празднование дожинок. Кроме Альгимантаса и Аугустаса, были там Казимерас и Тякле Визгирдене… Поначалу Криступас все время подначивал Казимераса:
— Ты чего пыжишься? У нас с тобой одна кровь в жилах течет, не так ли? Всю Дельту занесло. Может, не видел? Не Дельта, а настоящая трясина.
— Да там же в старину призраки бродили… Ага, то-то… — начал Константас. — Топь, настоящая топь. — И многовековая угрюмость, звучащая в этом слове, послышалась в голосе Константаса. — Омут.
— Черт бы ее побрал, эту трясину, — сказал Казимерас. — И я однажды иду, смотрю…
— Светлячки по ней бродят, — сказал Константас. — Раньше как бывало? При царе, во времена крепостничества…
— Ничего вы не смыслите, — перебил их Криступас. — Бабы там…
— О, господи! — всплеснула руками Визгирдене. — Кто только там их не видел… Вот мой муженек однажды…
— Одни завалы…
— Ух… …лять, — весь побагровев, выругался Альгимантас.
— Ты как ругаешься! — напустился на племянника Криступас. — От брата Дровокола перенял?!
— Ты чего на него орешь? — сказала Тякле. — Он женится.
— Ему не такую девку надо. А такую, чтобы аж ржал, — сказал Криступас.
— А ты-то сам, шибко ли ржал? — вскочил Казимерас и впился зубами в свою старую трубку с обсосанным мундштуком.
— Снова… снова, как мушки жужжите. Совсем к земле прижмитесь, никто вас тогда не заметит, вас тогда совсем не будет…
— Ну уж, — вскинул голову Казимерас, — еще как будем!
— Дерьмо. Одно дерьмо в этой Дельте, — сказал Криступас.
— Срам, срам так цапаться. Наши отцы по-доброму, по-хорошему…
— Эх! — махнул рукой Криступас, опрокинул чарку и затянул: — Все ре-ки ка-ме-нис-ты… а все девки но-ро-висты! Ох! Нет стакана, чтобы выпить. — Потом: — Все ре-ки…, — выводил он, стараясь что-то заглушить в себе, подавить.
— Тоже мне пение, — прошамкала Визгирдене, пряча под косынку седеющие волосы.
— Ох, и летал он в заросли черемухи.
— Все, бывало, к девкам спешит, услышит, где вечеринка, где играют, и мчится.
— Аполония, — сказал Криступас.
— Какая еще Аполония? Ах, эта Апалюте? Та самая, которая заполонила… Теперь вспомнил…
— Которая это? — полюбопытствовал Константас.
— Да дочка горбуна… Апалюте… — и себе под нос: — Так он и вокруг нее увивался? И тут поспел? Все, бывало, летит, летит, услышит гармошку…
— Не смей ты ее называть Апалюте, — насупился Криступас. — Аполония…
— Ничего девчонка, ничего… Так это ты с ней по черемуховым зарослям таскался? Смотрю однажды — имя вырезано, я еще тогда подумала, чье же это имя такое странное — Аполония?.. — скороговоркой выпалила Визгирдене, все более удивляясь, словно перед ней еще одна старая тайна раскрылась.
— А глаза… какие у нее были глаза? Ты видел? Как, бывало, глянет…
— Глаза… глаза как глаза, как у всех.
— Глаза, — и Криступаса снова окутало теплой, манящей тайной глаз. Аполония смотрит, бывало, на него и смотрит, но почему-то все время издали…
— А я на волосы ее не могла налюбоваться, — сказала Визгирдене, — ах, какие красивые были у нее волосы, рыжие такие, когда она, бывало, по плечам их распустит, мы все завидовали ей… Нет уже Палюте, истлела давно.
— А ты что думала, столько времени прошло, — Константас положил на стол руки.
— Глаза, — выдохнул Криступас. — Аполония…
— Вот она, твоя Аполония… ты что, не видишь? — Визгирдене обернулась к двери, в которую только что вошла Криступене, раскрасневшаяся, более привлекательная, чем обычно.
Криступас медленно повернул голову, оглядел жену с ног до головы.
— Все они для тебя были Аполониями, — уколола Визгирдене, — поэтому ты так за ними и бегал.
— Воистину, — поспешил что-то вспомнить Константас.
Воистину, подумал Криступас, все, как одна, ее голос, губы, белизна тела, талия… каменистые эти реки… Закат, теплая вечерняя заря, туман, краюха месяца… в туман куталась… Приди, приди, говорила она, повторяла, и такие чувства сразу накатывались, аж в глазах темно становилось. Вскинув голову, Криступас затянул: — Не могу стоять, говорить с тобою, — а потом: — На горе той ивы, — наконец, свою любимую — тысяча шажочков… И Иду дорогой, большаком иду.
Лился, разлился, поднимался в недосягаемые выси его голос.
— Господи, я еще в жизни не слышала, чтобы так пели, — сказала Визгирдене. — Не к добру это, наверное.
— Ну, ну, — начала, было, Константене, которая вошла в комнату с дымящимся чугунком. Она Криступаса всегда не любила. Говори они не о Криступасе, а о другом, она сказала бы: «Все ли бабки подбиты? И кто же это подбил?» А Криступаса она, как кошку, ткнула бы носом в его собственное дерьмо.
На короткий миг мелькнули перед Криступасом все их лица, такие красноречивые, такие… Что ему теперь спеть, что ему теперь сказать? Но тут же спохватился — не кто-нибудь, а Константене пришла ему на помощь. Ах, спой, сестрица, что ж ты не поешь, — начала выводить она. Не эту, не эту, просил Криступас. Вот эту я бы вам затянул: Погиб я, матушка, погиб я, родная, — но это песня Панавы, надо, чтобы он ее спел… Так и слышу, как он затягивает… в сто раз лучше, чем я; надо, чтобы у каждого была своя песня, Панава мог бы солистом стать. В солисты и я годился. А теперь — дерьмо. И потом изо всех сил: И зачем… зачем, — перешел на крик, — зачем ты, матушка, меня… и взял высоко, высоко…
— Давайте петь, давайте, ты, Тякле, спой, пропой своего соловушку, затяни красивая птичка, затяни, — кричал Криступас. — И ты, Константене, поди сюда, я обниму тебя.
— Уй… …лять, — пробасил Альгимантас, — …лять, какие песни, — когда Константене вместе с Визгирдене затянули: Соловушка, красивая птичка, почему по утру не поешь ты? — выводили они, раскачиваясь из стороны в сторону. Почему не поешь? — вопрошал Криступас и, обхватив голову, шатаясь, вышел во двор. Когда они кончили петь, Визгирдене спросила у Аугустаса, как поживает его сестра Фелиция с ребенком, одна, без мужа.
— А в мужьях этих что за прок, — отмахнулась Константене, — вот один уже…
Вечер, горят звезды. Роса, сверкает роса, говорит Криступас, горькая роса… это слезы деревьев, и снова на него накатывается песня, стремительная, вихревая, неудержимая песня, рвущаяся в недосягаемые выси, с паузами и взрывами, затейливо петляющая мелодия с Криступасовыми разрядками и учащениями, с быстрым, неожиданным тактом… солдатским тактом, спотыкающаяся, падающая, снова поднимающаяся, плачущая, но всегда живая, звучащая где-то у того предела, за которым открываются такие доступные ей одной выси, как любовь, тоска, жажда забвения…
Никто здесь так не будет петь, как певал порой Криступас! Долго еще здесь будут его вспоминать… долго еще здесь будет не хватать пения Криступаса. Всей жизни ужпялькяйцев, их лугам, деревьям, стежкам, всему, что они любили, позарез нужна была именно такая песня, в которой уже тогда, в тот еще теплый осенний вечер, все, должно быть, уловили что-то неотвратимое. Такой стесняющей дыхание боли, которая чувствовалась в песнях Криступаса, наверное, никогда еще не было — разве что только в тот вечер.
Криступас огляделся, подошел к риге, где была привязана кобыла Казимераса — Сибирячка… Катюша, как там, погодите, а любовь Катюша сбережет…
Весь взмыленный, то и дело останавливаясь, прислушиваясь, вдыхая всей грудью запах лугов, картофельной ботвы, пашни, росы, мчался через кустарники сын Криступаса. Осенний, еще теплый вечер впитал в себя все: и клик журавлей, и эти песни…
— Ты чего так орешь? — подбежал к отцу Юзукас.
— Кузнечик… — сказал Криступас, — когда-нибудь ты сам удивишься, какой ты был кузнечик.
Сын только рассмеялся:
— Ступай в избу. За тебя стыдно.
Юзукас еще вернется в этот теплый вечер, ко всем словам, которые он здесь слышал, и в которых в редкие минуты как бы почувствует тот их прежний вкус, какой им был присущ, когда они слетали с губ его близких, он еще вернется в этот вечер, смутно угадывая в нем затаенный смысл своей жизни, широкие корни своего рода, откроет для себя старые, уже вымирающие аукштайтийские слова. Громом гремел Казимерас: пионы, петушки — это из его любимых песен; гроза, жернова, закрома, плетушки, ступа, честность, стыд — это уже лексикон Константаса… Никто не произносил эти и другие слова так неповторимо сочно, может, даже с некоторой торжественностью, как он. Зеленя, солнце — это женские слова. Окно, настурция — это слова Геновайте. Это песни его отца — Криступаса. За время своих скитаний он уже многое успел растерять, раздарить, развеять. У каждого свои слова, свои изречения, некоторые из них уже стерлись и исчезли на ветру, на солнце, под дождем, на задворках, в траве, рядом с вещами, которые они когда-то выражали. Эти слова будут хранить в толстых словарях, в музеях, однако там их звучание будет абстрактным, малозначащим, стерильным…
…Разбивались зеркальные озера, замутнялись заводи, броды, тускнели чахлые клены, заметенные пылью извилистых стежек, заляпанные грязью.
Утром, нахлобучив шапку с ободранным козырьком, Криступас прошел мимо своей сестры, стоявшей во дворе, и только рукой ей махнул — дескать, не спрашивай; не заговаривал он и с другими встречными бабами — те оглядывались, переминаясь с ноги на ногу возле своих буренушек: как же это так, всегда, бывало, что-нибудь смешное скажет, бывало, глянет так, что они и бегают веселее, и работа лучше спорится.
Через несколько месяцев Криступас немного очухался, но уж мало кому доводилось слышать, как он поет.
Как только забрезжит рассвет, Юзукас, прислушиваясь к курлыканью и кликам улетающих осенних птиц, отправляется по дымящимся речным долинам в школу; идет он не один, а с Альгимантасом Малдонисом, с Римантасом Ужпялькисом. Юзукас все еще живет впечатлениями давным-давно промчавшегося детства:
— …Полез я под корягу, тяну, тяну руку, там такая рыбина, такая рыбина, Альбинас! — рассказывает он, приближаясь с друзьями к школе. — Я только ее за хвост, но чем глубже ныряю, тем труднее до нее добраться. Наконец, схватил — бок какой, а спина какая, трогаю, трогаю кончиками пальцев, тащу ее, заговаривая, весь под корягу залез, а она вдруг как махнет хвостом, как махнет… и шмыг в глубину, а рыбина во-о-от такая! Один раз она мне даже приснилась: тяну ее так осторожно, пальцами едва касаюсь, а когда подплыла ко мне, я ее еще по голове погладил, покрутилась, покрутилась, посмотрела на меня своими глазищами, разинула несколько раз рот и уплыла, но красиво так, медленно… и, казалось, захоти я, позови, она бы снова приплыла. Знаешь, Римантас, если чего-нибудь очень-очень хотеть, очень-очень, — Юзукас сжимает кулаки, — то ты весь… весь превращаешься в сплошное осязание, в слух, весь горишь…
— А сегодня, знаете, что мне снилось, — рассказывает он уже в классе с подметенным, опрысканным водой полом. — Иду я, значит, по льду, и так весело стучат мои башмаки, ветер дует с берега, снег вихрится, из всех труб и банек валит дым, и мне так хорошо, так хорошо, что я и не почувствовал, как потеплело, как начал крошиться лед; слышу, наползает на меня лед (как это я раньше этого не слышал, а?), перепрыгиваю с одной льдины на другую, нет-нет, страха у меня никакого, только вот что я вспомнил: падая со льдины, ясно увидел — несколько замерзших стрекоз и сосновую шишку, взъерошенную, как… И что все это должно означать, вы не знаете?
Так вот каков он, этот Юзукас, уже не мальчик, а подросток, но иногда в нем нет-нет да и заговорит еще не накричавшийся всласть ребенок, он хочет все увидеть, понять, пощупать, он везде бывает, вечно ему не сидится на месте, вечно он спешит, рыщет повсюду.
— И человека порой так чувствуешь, — говорит он, — так ясно видишь, что не может он иначе ни вести себя, ни говорить, и сам не знаешь почему, придумываешь о нем всякие истории, строишь догадки, примеряешь, что ему подходит, что не подходит, смотришь на него и иногда просто всего его схватываешь — вот какой он, вот какой его жест, вот как он говорит, вот что держит в руке.
Со многими интересными людьми встретится Юзукас и в школе.
В класс входит учитель истории и естествознания.
— Ну и сорванцы, — смотрит он на них сквозь очки.
Никто не сидит на своем месте, только девочки, они болтают, повернувшись друг к дружке.
На этих уроках они узнают, что у одних животных лучше развит слух, у других — зрение, третьи, например, рыбы, чувствуют и слышат при помощи полосок на боках. Раки, совы, летучие мыши, пчелы, кузнечики…
От учителя истории и естествознания Юзукас и его однокашники впервые услышали слово «инстинкт»: в ходе длительной эволюции инстинкты несколько меняются, приноравливаются к условиям.
Юзукасу и его друзьям не терпится узнать: меняются, приноравливаются к условиям, а как это наглядно увидеть, понять, осознать? Они хотят узнать все сейчас же. Эти дети — воплощенная нетерпеливость.
Случайность, взаимосвязь, причинность, наследственность, родство… Здесь они слышат, что в природе все имеет причинную связь, здесь они увидят потрясающую бессмысленность и хаос. Нет, учитель не хочет признавать никаких случайностей, в природе все: каждое насекомое, червячок — целесообразно и необходимо.
— Видите, — учитель показывает им свою богатейшую коллекцию мотыльков, — видите, какой вырез крылышек, какая симметрия, какие краски!
Все, по мнению учителя, имеет свое предназначение, все тесно взаимосвязано, повсюду царит такая гармония, что только приходится удивляться ей и слушать ее, как какую-нибудь величественную симфонию.
Однако для молоденькой учительницы, короткие и решительные шажки которой гулко звучат между партами, для молоденькой учительницы, которая позже стала преподавать этот предмет, все это — сущая ерунда. Резким движением указки она сметала с лица земли целые виды животных, целые миры. Что для нее какое-нибудь насекомое? Она никогда под увеличительным стеклом не изучала останки какого-нибудь окаменевшего животного. Она улыбается, она пышет здоровьем, все от нее без ума. Учила она их и геометрии, и алгебре. Первыми ее словами, сказанными на уроке математики, были: извольте, вот она, эта строгая причинность — если A ≥ B, то B не существует при условии, что… если так, то… Таким образом… В этих ее словах еще содержались отвлеченные, но чем-то уже пугающие понятия, такие, как необходимость, неизбежность, закономерность.
«Логика», — вывел Юозас большими буквами на своей тетради и надолго замолк.
Иногда этот учитель забирается так далеко, что начинает рассказывать о людях, которые могут ладонью читать в кромешной тьме. Так-то, инстинкт самосохранения… Ах, этот учитель! Он еще чего доброго продекламирует по-латыни Вергилия, приведет цитату из Цицерона или Аристотеля. И, слушая его, они частенько теряют дар речи и чувствуют себя так, будто оказались лицом к лицу с величайшей тайной. Всё объять, постичь, предугадать — когда, как, откуда! Очутиться в самом пекле жизни, у самой ее колыбели, слиться с чем-то вселенским! Сколько раз директор предупреждал учителя, чтобы он так далеко не отклонялся от программы… Недопустимо, чтобы какая-нибудь муха или шмель, бьющий крылышками об оконное стекло, увели их на идиллические лужайки, где резвятся нимфы. Ах, эти непонятные взрывы энтузиазма, этот низкий, дрожащий голос, который становится резким, сухим, педантичным, как только учитель открывает программу, этот голос приказывает, требует…
— На сей раз хватит, — взяв журнал, он даже не отметил, кого нет в классе. На следующем уроке они кое-что услышат о том, как образовались земная кора, горы, реки, но самое интересное — это останки редких животных, найденные во время раскопок, увязший в капле смолы, называемой янтарем, какой-нибудь жучок, уголь, железо и другие полезные ископаемые. К слову сказать, это уже область учительницы химии, худощавой, крикливой особы, которая, бегая от одного конца доски к другому, выводит химические формулы веществ, реакций, показывает, какие соединения получаются от смешения одних веществ с другими.
— Смотрите! Смотрите! — кричит она. — Есть здесь равенство? Какой должен быть коэффициент? Что мы получили?
Там, возле столика, уставленного колбами, начинает что-то потрескивать, попискивать, булькать — из колбы вырывается белесый дымок, и запах тухлого яйца наполняет весь кабинет…
Юозас пинцетом поддевает кусочек коричневого вещества, вертит его — какая мощь таится в нем, какая сила!
— Чего она все время кричит? — спрашивает Юозас у Альбинаса.
— Молчать! — топает поношенной туфлей учительница, но Юозас не унимается.
…Ничего не поймешь, что она там бросила в колбу; чем больше она кричит, чем больше показывает, тем меньше сама понимает. Ей лишь бы потрескивало, клокотало, дымило, лишь бы только какая-нибудь реакция происходила. Нет, они не в состоянии здесь услышать, как жужжат атомы в тишине молекул, как гудят от упругости минералы, как пожираются частицами железо, сталь, камень, — всё. Оксидация, коррозия… — скороговоркой сыплет она, — вот, вот, — и показывает.
— Из-за этой своей спешки она когда-нибудь не то вещество бросит и все ее колбы вдребезги разлетятся, взорвутся, как атомная бомба, — говорит Юозас.
— А ты не волнуйся, — говорит Альбинас, — она не из тех, кто видит и слышит атомы. Стряпуха. Только все ее горшки пригорели.
Потом снова порядок, лад…
— Энергия из ничего не возникает и никуда не исчезает, — бубнит учитель физики, вытирая доску. — Наука устанавливает закономерности. Пока еще не все закономерности известны, однако… — физик смотрит на кого-нибудь из нас (чаще всего на Стониса). — Может, вы откроете какой-нибудь закон, — продолжает он, улыбаясь, и широкой ладонью поправляет черные растрепанные волосы. — Итак, сегодня мы с вами познакомились с мельчайшими частицами — протонами, нейтронами, квантами.
— А тут нет ничего сложного, — говорит он на следующем уроке. — Двигатель внутреннего сгорания. Почитайте учебник и все поймете. Клапан, поршень, свеча, здесь почти все так же, как в паровой машине, только он действует по принципу взрыва, а там…
О подобных вещах Юозас уже слышал от своего ученого двоюродного брата, но ему до сих пор не дает покоя вопрос: почему квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов? Что такое иррациональное число? Много вопросов мучает его.
После урока химии, а порой и истории, в класс влетает на тонких каблучках учительница французского, уи пардон, не влетает, а впархивает, как какая-нибудь напоенная солнцем бабочка, шелестящая своими коротенькими сухонькими крылышками; красные губки бантиком, головка вскинута, пардон, говорит она, извиняясь за то, что столкнулась с учителем истории, выбила у него из рук учебники, журнал, иллюстрации, карточки, на которых перечислялись темы уроков, вопросы, и даже коллекцию мотыльков.
— Дайте мне журнал, — говорит она учителю, а тот, бедняга, весь багровый, заикается, и только теперь класс замечает, что он весь испачкан мелом, замечает, какая у него густая с проседью борода, какие толстые стекла очков, а кто-то даже вспоминает, как сухо щелкает футляр, в который он их прячет после урока.
Долгое время Юозас думал, что учителя живут по-другому — нет, нигде не встретишь такого ада, как у них дома. Большинство из них всегда было чем-то неудовлетворено, и об этом можно было судить по одному-другому непривычному, нечаянно вырвавшемуся или не к месту сказанному слову. Юозас не переставал удивляться, почему Великая Педагогша все время возвращалась к чеховскому «Человеку в футляре», — этот человек в футляре внушал ей дикую ненависть, презрение, может, даже отвращение; видно, в нем было что-то и от нее самой. Однажды Юозас не выдержал и ляпнул:
— Но ведь в футляре может быть и скрипка.
«Чего это вы так придираетесь к футляру?» — хотелось ему еще спросить у нее, но не хватило смелости: учительница так глянула на него, что у Юзукаса перехватило дыхание.
— Да, да, — спохватившись, сказала она, — все зависит от содержания.
Что такое футляр? — спрашивает себя Юозас. Это погоны отставных генералов, униформы, заслуги, условности, что-то старинное, мертвое, это то, под чем копошатся бактерии стужи, одиночества и смерти, и Чехов это прекрасно чувствовал. Но как же всего этого не видела Великая Педагогша? Она сама в футляре! — осенило его. Чинная, строгая, требовательная, она не вылезает из него ни на минуту, ни на миг, не видит себя со стороны и потому ей так противен человек в футляре…
Или, например, учитель истории — ужасный педант, требующий, чтобы все загогулины были выведены тщательнейшим образом, весь погруженный в учебники и программы, чего-то там ищущий, что-то отмечающий карандашом, говорящий тонким, медоточивым, порой жалящим голосом, так вот, этот учитель истории как только «забирается» в древнюю Грецию или в Рим, словно преображается, и голос его делается низким, громоподобным, все струны в нем звучат!
И другие учителя что-то скрывали и от себя, и от других, пытались замаскироваться — кто криком, кто топаньем ног, кто угодничеством, смешанным с педантичной требовательностью; кто вел себя словно дирижер у пульта: замолчите, замолчите, чтобы ни гу-гу у меня — кажется, махнет палочкой, и ученики запоют стройным хором — такое множество тем, столько они усвоили материала, но нет: ходит между партами Великая Педагогша, заглядывает в их тетрадки («Как написал?» — спрашивает она и сама себе отвечает, бесчисленное множество раз поправляя ответы своих подопечных). Здесь владычествует только один голос — голос спесивой, все знающей, все понимающей Великой Педагогши, и поскрипывают они своими толстыми перьями, листают учебники и молчат, как мышата.
Юозас и не заметил, как пришла зима… За окнами класса разбушевалась вьюга, влажный холод пронизывал насквозь. Он сидел с Альбинасом на последней парте возле окна. Ветер проникал сквозь щели, обжигал руки, и все бегали на переменах греться к печке. Там начиналась толчея, свалка — кто кого одолеет. Рядом с Юозасом частенько оказывалась Нийоле, бойкая, вечно улыбающаяся девчонка с лукавым прищуром, единственная из всех носившая школьную форму, всегда успевавшая туда, где погорячей, пристававшая к Юозасу, только он всегда этого не замечал. Он стеснялся своей одежды на вырост, горбился, мерял огромными шагами коридор. Все они — и он, и его друзья — не умещались в своей оболочке: одни слишком быстро вымахивали (Стонис), становились сладкоголосыми, ласковыми, мечтательными, как девчонки, вечно улыбались, ходили расфуфыренные, какие-то ханжески прилизанные, другие ёжились, икали, похихикивали, толкались между партами, висели на турнике, расхаживали, напрягши мышцы. У них все время что-нибудь валилось из рук, они непременно за что-нибудь цеплялись, что-нибудь опрокидывали, и какая-нибудь девчонка подтрунивала над ними: размазня, рохля. Более обидных слов не было, и мальчики самым неожиданным и странным способом пытались отыграться, и конечно же это не оставалось незамеченным, а иногда служило предметом новых подтруниваний и насмешек. Почему-то они всегда не ладили с родителями, учителями, одногодками. То их надо было подхлестывать, то держать в узде, то ругать. Легче легкого было их обидеть, оглушить криком, опалить презрением. На некоторых из них любил покрикивать физрук, других сковывала требовательность Великой Педагогши. Неровно, по-разному пульсировала кровь в их жилах — ни с того ни с сего они вспыхивали или мертвенно бледнели… Приходили с заплывшими глазами, с припухшими лицами; бывало, засыпали на уроке, не в силах следить за объяснениями учителя, замечтаются — в такие минуты их лица светлеют, что-то в них успокаивается, отстаивается.
Особенно остро свое душевное смятение чувствовал Юозас, порой в нем что-то накапливалось, ворочалось, как ледяные глыбы, пыталось вырваться наружу и пуститься по снежным полям, иногда придавливало своей тяжестью, сверкнув на короткий миг своими острыми гранями, чтобы снова все привести в движение, заставить клокотать и опрокидываться. Над всем этим словно парили геометрические фигуры, понятия, которые он не знал куда девать. О том, что этих пацанов, особенно Юозаса, мучило, что кипело в нем, гудело, обжигало, жалило, никто почти не говорил. Это было неосязаемо, отвратительно, эгоистично, ничтожно, интимно, микроскопично мало, однако, многие из этих ребят и особенно он, Юозас, чувствовали: здесь, в этих затаенных, замалчиваемых интимных тайниках и дебрях начинались бурные реакции, расщепление личности на что-то, чего и частицами не назовешь. Здесь таилась гигантская энергия, энергия непонятных желаний, чувств и мыслей, вызывающая штормы, обвалы, несущая подлинную погибель, отчаяние, тоску, ненависть, боль или любовь; все это многие из них поверяли своим дневникам; девчонки об этом нашептывали своим подружкам и заливались краской, когда кто-либо, перехватив какую-нибудь их записочку или дневник, пускал по рукам, которые с такой жадностью набрасывались на чужую тайну. Они считали себя то избранными, то чересчур порочными, то чересчур добродетельными.
Были и такие, которые не хотели с другими водиться, иметь что-либо общее, они что-то скрывали в себе, подавляли, стараясь обскакать других и во что бы то ни стало выделиться; такими они и останутся, ибо когда-то себя убедили в своей исключительности, стало быть, и жизнь у них должна быть какая-то особенная. Для многих из них внутренняя травма стала основой существования, порой даже смыслом жизни или призраком, преследующим их повсюду…
Юозас, как мог, старался что-то обуздать, укротить, понять. Что же он видел у себя дома? Медленную агонию отца, которую все наблюдали с удивительным равнодушием, притворяясь, будто ничего не видят; проклятья, зависть, алчность и презрение мачехи. Освободиться, выкарабкаться, преодолеть во что бы то ни стало — вот что билось в каждой его жилке. К этому Юозас всегда будет стремиться из последних сил, ни перед чем не останавливаясь. Доброта, снисходительность, взаимопонимание — вот что, как он полагал, могло помочь некоторым людям, вот в чем было их спасение; легко, просто, но нет, им этого не надо, им лучше биться не на живот, а насмерть. Почему? Что за призраки заставляют их поступать и жить так? Нет, нет, так нельзя, надо пробиться к чему-то, что освободило бы тебя, принесло бы спасение — к добру, к красоте, иначе чего стоит твоя жизнь, что ты дашь другим, если у тебя самого ничего нет?
Говорил он с придыханием, бессвязными, отрывистыми фразами, путая слова своего диалекта с литературными, то ругаясь, то замолкая, то снова принимаясь что-то доказывать, широко и решительно размахивая руками, обрывая разговор на полуслове, прислушиваясь, вглядываясь в какую-нибудь стену, поле или дерево, как будто это помогало ему разобраться в мыслях, говорил, вдруг затихая и снова принимаясь убеждать, не столько, может, своего собеседника, поскольку не очень-то знал, что тот чувствует, чем живет, о чем думает, сколько кого-то другого, немого, глухого к его словам, непреклонного; но слова дробились, крошились, ломались, становились такими неживыми, такими чужими, — не потому ли чистота его изумленных глаз была куда красноречивее, чем речь.
Складная скороговорка Альбинаса удручала его; когда Марите, как горохом, осыпала его словами, он затыкал уши. Его просто охватывало отчаяние, когда он писал сочинение на заданную или свободную тему, когда задумывался, в правильном ли порядке написал слова, в том ли месте поставил точку; задумывался, когда лепил эпитеты к существительным, когда искал красочные народные глаголы — это в первую очередь заботило учителя, который ставил двойки за грамматические ошибки. Юозас бился до тех пор, пока совершенно не обалдевал и уже не мог связать слова в самое обыкновенное предложение. Единственным утешением для него было то, что, обернувшись, он обычно видел искаженное нечеловеческими усилиями цыганское лицо Витаутаса Визгирды, лицо со сверкающими дикими глазами. Это были глаза хищника, подстерегающего в непроницаемых водах свою жертву. Одному богу известно, что мелькало в темном его сознании в тот момент, когда его мощные челюсти вгрызались в кончик металлической ручки. То, бывало, прильнет к тетради, весь замрет, то снова отшатнется, но в тетради — ничего, кроме криво выведенного весьма твердой рукой названия темы, жалких наметок плана и одного-другого предложения, состоящего из подлежащего, сказуемого и какого-нибудь дополнения, да еще нескольких слов, растянутых так, чтобы они заняли на странице как можно больше места.
Одновременно с первыми звуками звонка, возвещающего об окончании мук Витаса, раздавалось клацанье его челюстей — он догрызал изжеванный кончик металлической ручки с таким треском, словно кто-то пробовал на прочность пасхальные крашенки, и треск этот, бывало, раскалывал тишину в классе.
Союзы «почему-потому» были для Юозаса что вилы, раздирающие его на части — казалось, даже суставы трещат; спросив однажды о чем-нибудь, он, хоть кровь из носу, старался найти ответ, а где его, этот ответ, взять, каким он должен быть? Юозас открывал свои записи и принимался выписывать слова, цитаты. Однако порой все препоны как бы рушились, что-то вдруг прорывалось, разливалось широким потоком — как легко тогда текли у него слова, предложения, какой приобретали они вкус и силу, как устремлялись к цели! Порой, когда он не чувствовал деспотического контроля разума, когда забывал все вокруг, все эпитеты, деепричастия, запятые, предлоги, они с радостным трепетом и нетерпением сами находили свои места, выстраивались в стройные ряды со всеми интервалами и паузами. Не контролируя себя, он легко, почти изящно, выполнял и сложнейшие гимнастические упражнения на перекладине, параллельных брусьях. Порой он с друзьями бывал необыкновенно остроумен и наблюдателен, а иногда бессильно размахивал руками, безнадежно мотал головой, как какая-то марионетка, которую дергают за невидимую ниточку. Он завидовал прочности скал, ему хотелось стоять, как дереву, там, среди снегов, где петляет проторенная им тропка, где манящие холмы в голубой дымке.
…Дул ветер, оттачивал бока сугробов, на голых ветках кленов чирикали воробьи, солнце нагревало черную исцарапанную парту: к концу уроков оно добралось до парты Нийоле, и когда та, прищуриваясь, оборачивалась, почувствовав его взгляд, Юзукас отрывался от окна. Ее глаза — со зрачками, как бы усеянными мелкими зернышками глины, в них прозрачность воды, журчащей у бродов, в них, в этих глазах, все его спасение. Порой Нийоле грозила ему кулачком, смеялась и, обернувшись, поправляла сползшую с плеча шлейку передника…
…Шелестели тонкие ветки кленов в школьном дворе, звенели пучки лучей, а порой так и не добравшись до парты Юозаса, они разбивались, рассыпались по ту сторону стекла всеми цветами радуги, рассыпались там, где виднелся бледный диск солнца, где у подножья холмов, на большаке, пылился снег, или тут же, в классе, над его головой, а порой лучи нежно и ласково гладили руки, лицо; но, бывало, весь класс снова пронизывало студеной и унылой влагой, все вокруг затоплял туман, мгла, покрывал иней, который поблескивал на солнце, прорвавшемся сквозь тучи, и, глядишь, кто-то из учеников, чаще всего Мешкенас, неповоротливый, закоченевший, пускался по партам с криками: весна! иней! посмотри! — и тянул за собой какого-нибудь однокашника к окну, в которое уже таращили глаза многие — Нийоле, Юозас…
Сверкнуть инеем… Умчаться вместе с ветром, испариться, улетучиться вместе с запахом живицы на солнцепеке… блеснуть звездой в поднебесье — все это было для них не только красивыми образами, поэтическими метафорами, но и глубокой, жизненно важной потребностью, угадываемой и осознаваемой только в редкие мгновения, потребностью слиться с чем-то, растаять и в то же время расти, развиваться, тянуться вверх. По-разному проявляет себя эта потребность в разные периоды жизни, и в разное время она находит то, что ей больше всего нужно.
Порой Юозаса и его товарищей тянуло к альтруизму, они просто не мыслили своего существования без всеобщего, универсального, без добра, принимающего их во всей их естественной наготе, порой они восхищались напористостью, силой, эгоизмом и таким образом жизни, которому неведомы ни робость, ни сомнения.
Там, в начале пути, Юозас как никогда чувствовал двойственность всех своих потребностей — тогда, когда ему хотелось всем обладать, все объять, вместить в себя, тогда, когда так трудно было развенчать себя, отречься хоть от маленькой частички того, что могло принадлежать тебе, но принадлежать не будет, ибо все равно всего не поймешь, всего не объемлешь, всюду не успеешь.
В девятом классе Юозас начал вести дневник, и первыми его словами были: «Какой я жалкий и безвольный, а еще смею думать о Нийоле, сравниваю себя с Альбинасом». Он безжалостно бичевал себя, и от этого становилось немного легче, словно он уже был не он. Однако через некоторое время с сожалением должен был признаться, что никуда от себя не убежишь.
Были в том дневнике и такие слова: «Зачем меня пытаются убедить в том, что мир бессмыслен, что все в нем — случайность? Почему, спрашивается, один должен и может быть великим, у всех на виду, другой — маленьким, а третий таким, словно его и вовсе нет? Предназначение каждого и важно, и велико, ничтожных, второстепенных людей не может быть. Другое дело, если они сами себя превращают в таких, тогда и винить некого, они сами свою жизнь опошляют, не борются за справедливое, прекрасное, они кокетливы, злы, саркастичны, а порой просто коварны и подлы. Надо думать, что все, что существует в мире, имеет куда более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд, более того — это надо чувствовать, видеть в каждом мгновении, ибо иначе — пустота или бесконечное брюзжание, спешка, бессмыслица».
В те годы, в начале пути, они как никогда много размышляли и спорили неистово, зло, обзывали друг друга эгоистами, размазнями, слизняками, ханжами. Кое-кто иронизировал, глумился. Смысл и цель в ту пору как никогда были важны, но где их было искать, если не в краю, в котором ты вырос. Должно быть никогда инстинкт самосохранения не бывает таким сильным, не ощущается так неоднозначность жизни, как в начале пути, когда шаришь в потемках, опираясь на то, чем тебя одарили другие. Кончиками пальцев, всеми порами своего тела каждый чувствовал то, что носится в воздухе, все субтильное, почти невыразимое, и это находило отражение даже в их дешевых каламбурах и проделках… Для девчонок важнее всего были самоотверженность, преданность, пламенные устремления, мечты, верность, однако были и такие, которые эти слова считали чуть ли не личным оскорблением или отводили глаза в сторону.
Зачастую их сочинения начинались словами: …оставить след… быть полезным людям… выполнять любимую работу… самоотверженно, отдавая всего себя без остатка… не мириться, не быть подлизами… Чуть ли не каждое их предложение звучало, как повеление или как присяга, хотя уже тогда некоторые умели угождать учителям и тем из своих одноклассников, которые были посильнее и поспособнее. Говорили, спорили в основном идущие впереди, тем самым возмущая тех, кто отсиживался за их спинами. Но во всех их речах, особенно в разговорах о себе, что-то непременно замалчивалось, приукрашивалось, принаряжалось — это была поза, попытка привлечь внимание других… Щит… И Юозас это особенно сильно чувствовал и в себе, и в своих однокашниках.
Декабристы, народники, первые проблески марксистской мысли. Гоголевские коробочки, собакевичи… Из мглы, из необозримых просторов России, из сумятицы и разброда, через грязь, через стужу, через ночь крепостничества, через звон кандалов к ним кто-то приближался, вставал, бунтовал, и голос учительницы порой звучал, как шепот суфлерши. Вжавшись в парты, они ждали, когда же великая волшебница взмахнет волшебной палочкой, и завеса спадет с их глаз, и рассеются туманы, в которых они только кое-что (очень немного) успели разглядеть, восторжествуют и здесь ясность, постоянство и порядок. Некоторые из них тянули вверх руки, пытались что-то объяснить. Нет, говорила учительница, усаживая их за парты. Но… — она вскидывала голову, поднимала, как дирижер, руки и, жестикулируя, принималась спрашивать даты, имена… И каждый ее вопрос заставлял их съеживаться, прятаться, словно за баррикады, за книги и за спины сидящих, потом подбадривающим жестом поднятой руки она позволяла им перевести дух. Кто-нибудь мог встать и, если ошибался, то все бросались скопом на помощь, но нет, не для этого она их вызывала. Итак: что автор хотел этим образом сказать, кого разоблачил, заклеймил, изобразил, возвысил? Привстав на цыпочки или отойдя в сторонку, она выискивала какого-нибудь неуча. Встань! Ты расскажи. Как стоишь?! Что ты тут городишь? Отругав, пристыдив, наглядно показав всю ничтожность и неуклюжесть их отрочества, учительница, бывало, вдруг смягчится, напустит на себя важность и серьезность, откроет учебник и, расхаживая между партами, начнет сорить цитатами, чтобы потом снова швырять в класс коварно извивающихся и шипящих змеек — вопросы. Эти вопросы пролетали над их склоненными головами словно невидимые копья, вонзались в сердца. Юозас, бывало, не успеет постичь их как следует, а уже ощущает боль, теряет дар речи, от испуга у него перехватывает дыхание, бешено колотится сердце, из-за его гулких ударов он не слышит и не понимает, что мелет, — может, пронесет, может, удастся угадать ответ, не молчать же, когда тебя спрашивают, но порой агония затягивается, и когда уже, кажется, все в порядке, когда ты, придя в себя, снова способен думать, даже спорить, вдруг на тебя обрушивается: «Садись! Два!» Словно метлой по лицу, которое тотчас суровеет: и здесь, и дома он должен идти против пронизывающего ветра недоверия. Но ничего, он еще докажет. Важно, чтобы он знал, почему не сумел ей объяснить. Учительница строга с ним, требовательна, постоянно, ежедневно. Он даже стал заикаться, отвечать по слогам, с паузами, ожидая, когда злой крик оборвет его мучения. Но зато ему, охваченному бессильной яростью, так понятны, так близки строки некоторых поэтов, перед ним раскрываются необозримые, залитые солнцем просторы, эта сосна на утесе, над высохшей речушкой, плывущие над ней тучки небесные, вечные странники, белеет парус одинокий.
— Даукинтис! — кричит учительница. — О чем мы говорили? Снова не знаешь? Садись!
Прощай, говорит он, горько надсмехаясь над собой. Прощай, свободная стихия, декламирует он, уносясь куда-то вдаль.
Ударяясь то в одну крайность, то в другую, они, наконец, начинают пережевывать то, что им подсовывают, хотя порой ни с того ни с сего вспыхивают, встают в раздражении из-за парт, что-то горячо доказывают, пытаются опровергнуть, оспорить или защитить.
— Нет, ты не прав, — по-русски, властно произносит учительница, греясь у печки, — Базаров был не прав. Печорин тоже. Базаров — нигилист.
Итак, Базаров. Он врывается в гостиную, где сидят увядшие старушки в париках, отставные генералы, врывается, как ветер, срывающий парики, сметающий с лиц пыльцу пудры.
— Хорошенько вглядитесь в этого нигилиста, — говорит учительница. — Его черты мы обнаружим в характерах революционеров более позднего времени. Это — явление…
Как плавно льются слова! И перед ними застывает суровое, аскетическое лицо. Потом из хаоса истории им удается вырвать конкретный объект, остается только сравнивать с ним других. Так начинается путь познания. Они уже в состоянии обнаружить всякие углы, группировать, расчленять, отыскивая общее. Развитие, преемственность, узы. Это незначительные, все еще бессознательные проявления Базаровского научного подхода, но они проступают все резче и резче, расширяются, растут, становятся достоянием их сознания, методом, категорией, свойством ума. Цель, направление, сознательность. Здесь очень важно правильно употреблять соответствующие смыслу слова и понятия.
Некоторое время Юозас слушает учительницу, весь дрожа. Ему удалось уловить одну ее мысль: все они чего-то недопонимали, все они в чем-то заблуждались, не сумели чего-то разглядеть… Ухватившись за крышку парты и раскачиваясь, он принимается склонять имена тех, кто в какой-то мере постиг и предвидел ход истории. В верхних подразделениях оказываются гении. Но когда он начинает их перечислять, у учительницы от ужаса глаза на лоб лезут, хотя по трезвом размышлении она должна была бы согласиться, что в его рассуждениях есть кое-какая правда, но только кое-какая. Ну и что из этого? Ему нужна вся правда, без оговорок. Гениальность есть способность предвидения, и все. Здесь как в математике: если приводится правило — никаких исключений. Но что же должен предвидеть он, Юозас Даукинтис?
По вечерам, гуляя по продуваемым ветрами кустарникам, он поглядывал на твердые, как скалы, тучи, позолоченные заходящим солнцем. Его влекло все бурное, мятежное, величественное и одинокое. Прилетайте, кавказские орлы, дайте шотландский плед, подарите угрюмый грохот волн, а еще лучше — отправьте куда-нибудь в ссылку, он, Юозас Даукинтис, все снесет, все вытерпит ради бессмертной славы. Усталым жестом он бросает на диван свою шапку и потрепанный портфель, закидывает ногу на ногу и задумывается, подперев двумя пальцами скулу.
— Что с тобой? — спрашивает озабоченный отец. Мачеха, та нисколько не удивлена — разве она не говорила, разве этого не следовало ожидать?
Но он даже рта не раскрыл, только повернул к ним свой окаменевший профиль. Пусть бранится, пусть лопнет от злости эта замызганная женщина, эта измазанная сажей баба: он здесь никогда не жил и никогда жить не будет. Его давно уже зовут в дорогу подвиги.
Им очарована отличница Марите, но он к ней равнодушен. Той, которая ему нравится, он не отваживается и слова сказать.
Он любит свой край, но почему в нем нет таких высоких гор, как Альпы, Пиренеи или Апеннины? Почему здесь нет широких рек, водопадов, не растут ни смоковницы, ни оливковые деревья? Почему не здесь родился Данте, Шекспир или Байрон? Говорят о глубокой древности, а эта древность восходит только к десятому веку. Что такое по сравнению с египетскими пирамидами, с архитектурными памятниками Рима и Афин старинные строения и замки Литвы? Как своей страной должен гордиться какой-нибудь итальянец или грек, стоявший у колыбели европейской цивилизации! Юозас слышал, что в его говоре сохранились какие-то древние индоевропейские звуки, но он этого наречия даже в школе стыдится… Но свой край, свою родину он любит. Бредет он по весенним лугам, перепрыгивает через ручейки, скандируя стихи Вайчайтиса:
— Есть край такой, текут где реки… — и все вокруг — трепыхающиеся над серыми холмами жаворонки, утопающие в туманной дымке леса, даже крыши изб — становится близким и дорогим. — О, отчизна! — восклицает он, приближаясь еще на шаг к пониманию этого непостижимого, загадочного края, но Альбинас охлаждает его пыл. — Это элегии, — бросает он глубокомысленно. Правда, первая строфа и в самом деле гениальна. Да! Только гениальности тут и не хватало!
Но странно: древности родного края Альбинаса почти не интересуют. «Незачем и не за что эту древность идеализировать!» «Олух!» — отрубает Юозас. Для Альбинаса не существует ни дат, ни имен, при упоминании о которых у Юозаса начинает бешено колотиться сердце. Альбинас не склонен печалиться из-за каких-то злополучно сложившихся исторических обстоятельств или роковых случайностей.
— Как же тебя такие вещи могут не волновать?! — диву дается Юозас.
Проходит какое-то время, и Юозас открывает для себя Достоевского. Ты обрати внимание… ты только послушай!.. — частит Юозас, семеня за Альбинасом, когда они через сосновые рощи возвращаются домой. Но тот и не думает обращать внимания. Не выдержав, Юозас хватает его за рукав и принимается что-то горячо доказывать. Иди ты знаешь куда!.. — говорит Альбинас, отталкивая его. Юозас стоит онемев. Альбинас ненавидит его, называет князем Мышкиным. «Давно ли ты восхищался Базаровым, а теперь на тебе, Мышкин? — донимает его Альбинас. — Что между ними общего?» — «Я им не восхищаюсь, я только говорю…» Альбинас и не думает слушать. Ему друг нужен был до тех пор, пока тот, смиренно кивая головой, внимал его россказням, но в Альбинасе вдруг проснулась ненависть, когда Юозас принялся втолковывать ему свои истины.
Так вот, этот Мышкин… — семеня сзади, говорит Юозас. Это не хозяин салона, это отринутая, отверженная совесть, которой всем не хватает, но которой стыдятся. В бога не веруют, но бог тут, рядом, печальный, отверженный, усталый. Он сам с ужасом смотрит на свои творения. А все смеются, пекутся только об одном — чтобы их кто-нибудь заметил… Порой они еще задумываются: о чем бы он, всемогущий, подумал, если бы увидел их подлости. Бог с растерянным, страдающим лицом, только такой бог интересует их. Как, например, ведет себя с ним Рогожин, другие? А Алеша? Алеша — это Мыш… Да иди ты, иди! — недовольно машет рукой Альбинас только потому, что это говорит не он, а Юозас. Когда сам Альбинас говорит — все должны слушать его не шелохнувшись.
Всё кумиры, кумиры, кумиры. Сколько их промелькнуло перед глазами, пока они, эти мальчики, протирали штаны на низких школьных партах. Они видели их издали, озаренных светом недосягаемой славы, ахали от удивления и уважения к ним, хотя сами подчас не знали, за что их так уважают. Ни один из них не отваживался приблизиться к этим кумирам. У подножий постаментов замирали голоса и смех. Ребят приводили сюда, как на выставку: расфуфыренных, не по-детски чинных, с наморщенными лбами. Кумиры так сковывали их отроческую волю, разум, чувства, что они превращались в персонажи, в героев и таким образом на короткое время как бы избавлялись от необходимости жить. Действительность! Какая она пошлая и плоская! Разве в живой речи услышишь глубокую мысль, разве люди умеют выражать свои чувства? Книжные герои были живее живых. И Альбинас, и Юозас в книгах искали точку опоры, заступничество, оправдание.
Они частенько чувствовали, как один учитель словно толкает их к другому. Если на уроках истории Юозаса хвалили за прилежание и примерное поведение, а на уроках родной литературы — за своеобразный склад мышления, то на уроках русского языка и литературы учительница окидывала его грозным и придирчивым взглядом. Казалось, все, что она о нем знает, это то, что он не выговаривает мягкий «н» и твердый «л», казалось, она только и ждет, когда он, произнося эти звуки, запнется, и он, конечно, запинался, словно летел куда-то в пропасть, перед этим собрав в кулак все силы, но уже загодя зная, что ему не удастся выговорить эти звуки, и с каким-то бессознательным удовлетворением позволял этой женщине торжествовать победу. Даже если ему и удавалось три-четыре раза произнести эти звуки — учительница почему-то пропускала это мимо ушей, — то в пятый раз он обязательно совершал ошибку; тогда на авансцену выходила Великая Педагогша, чинная, хозяйка положения, требующая внимания. Постучав карандашом по столу, как порой стучат вилкой по бокалу, она начинала долго и нудно читать мораль. Все отходили от этого стола, голодные, раздраженные, косились друг на друга, преисполненные святого гнева и возмущения от вечных наставлений и назиданий, а также от бледной чистенькой Марите, которая только и ждала, когда в нее, примерную и прилежную, ткнут пальцем, вызовут к доске и заставят исправлять чьи-нибудь ошибки. Ради одной избранницы, любимицы, ради того, чтобы одна она торжествовала, их почти всех поголовно объявляли неучами и невеждами. Эта исключительно прилежная девчонка, не спускающая глаз с учительницы, научилась при каждом их слове презрительно надувать губки, ответы ее сделались язвительными, такими, словно у нее была только одна забота — ужалить, наябедничать, и спорить, возражать было бессмысленно. Эти два существа, объединившие свои усилия, прямо-таки терроризировали их. Однако на уроках французского Марите оказывалась в тени своей подружки по парте, манерной Бернадетты. С каким презрением Марите иногда оглядывала эту красивую пустышку, какой мертвенной бледностью покрывалось ее лицо, когда не ее заставляли исправлять чужие ошибки, а Бернадетту, о, как тогда Марите поводила плечиками, какой становилась расчетливо-деловитой, как хлестко и язвительно звучал ее голосок! В сонме избранных на уроках французского оказывался даже Юозас, который считал себя истым Тартареном из Тараскона, хотя ему упорно навязывалась роль д’Артаньяна. Свергнутые со своих престолов Альбинас и Марите находились в горделиво-презрительной оппозиции и ходили с гримасой боли на лицах.
В полной тишине, какая обычно царила на уроках математики, больше всех говорил Видмантас, сухопарый, бледный; говорил и Альбинас, сдержанно и спокойно, умело приноравливаясь к тону Видмантаса; нагнув голову, как какой-нибудь бычок-двухлетка, раздувал ноздри Римантас, особенно когда к нему подходила с учебником в руке молоденькая, хорошенькая, вечно улыбающаяся учительница математики; порой он ни с того ни с сего порывался первым отвечать у доски, но, оказавшись там, терял какую бы то ни было способность мыслить: злился, краснел, бессильно поглядывал налитыми кровью глазами на друзей и только бордовое, надушенное платьице учительницы, ее чистая всепрощающая улыбка, словно холодный компресс, остужали накаленный лоб Римантаса. Учительница частенько задерживалась возле его парты и, бывало, наклонив голову, долго наблюдала за неуклюжей рукой Римантаса, выводившей какие-то цифры, и улыбалась. Но для любви нет ничего невозможного: неправильно решив пять действий, Римантас всегда в последнем получал правильный ответ и порой он даже ухитрялся объяснить, как это случилось.
На уроках литературы все как бы преображались. Словно туча, закрывшая солнце, куда-то в сторону отступали скука и неживая вязь фактов и чисел, всеми цветами радуги вспыхивали и переливались различные образы и видения, и мысли и чувства, которые долго приходилось сдерживать, вырывались наружу, как бы опрокинув все препоны и выбрасывая на поверхность всякие реликвии; попадались среди них и археологические ценности и скелеты давно исчезнувших животных; все эти зоологические, исторические, географические, химические или физические понятия и формулы на короткий миг словно наполнялись древней и таинственной жизнью, обретали свои запахи, возбуждали в Юозасе и его одноклассниках притупившиеся было ощущения.
Какая-нибудь пчела, которая билась крылышками об оконное стекло, или оживший на солнцепеке жучок манили их в луга, туда, где овраги, ложбины, валуны и узенькие, истоптанные босыми ногами тропинки, и длинная, ползущая тебе навстречу вечерняя тень холма. На уроках литературы жужжание пчелы было иным, чем на уроках анатомии. Предметы, животные, имена утрачивали свою отвлеченность, общие, интересные и важные для науки свойства и приобретали неповторимые качества — конкретные, интимные, дразнящие воображение, говорящие каждому из них в отдельности что-то свое.
Иные учителя оценивали учеников, судили, осуждали, сортировали: те трудолюбивы, те способны, те лоботрясы, те прилежны, те неслухи… Говорили о них вообще, хотя каждый из учеников заслуживал и жаждал особого внимания. И порой чем тусклее они были, тем больше желали, чтобы их выделили, заметили, обнаружили в них какие-нибудь особые свойства или способности. Ждали — кто же из учителей позовет меня, кто заметит, кто скажет, чего стою, на что способен. Дождавшись такого признания, тот или иной ученик взбирался на своего «конька» и уж больше не слезал с него. Был такой конек у Альбинаса, отчасти у Юозаса, у Стониса… Но сколько было таких, которые все чаще ждали и возможно будут ждать всю жизнь, не смея выразить своей воли, скромники, унижавшиеся перед кем-то, но вместе с тем жестокие, хватающиеся за первые попавшиеся ценности, покорно идущие по проторенным дорогам. Отчасти и Юозас был одним из таких или, как он сам любил говорить, одним из многих. Чье-то недоверие всякий раз вырастало перед ним, словно глухая стена. В этом смысле Альбинас был исключением, все ему верили — все, только не родители, которым почему-то и в голову не приходило признать за своим чадом какие-то преимущества, — учителя его постоянно поднимали на щит, даже не догадываясь о том, что тут, у Альбинаса за спиной, растет, крепнет другой мальчик, не желающий ни на шаг отставать от товарища. Это недоверие и высекло в душе Юозаса искру оскорбленного самолюбия. Один голос обращался только к нему, один человек видел только его, и этим человеком был учитель литературы. У Юозаса был самый зоркий глаз и самое чуткое ухо в классе. Глазами влюбленного ловил он каждый жест своего учителя.
Учитель этот был садоводом. Он приходил на уроки из сада. Возвращаясь домой, ученики видели его в саду. Он был садоводом и в школе — лучшего сравнения для него не найти. Они были деревцами, пожелтевшими, кривоватыми, застившими друг другу свет деревцами, требовавшими ухода, и то из них, которому уделялось чуть больше внимания, тотчас же расцветало.
Так случилось и с Юозасом.
После суровой и студеной зимы в первые дни апреля небо вдруг нахмурилось, над землей повисли тучи. В тумане грохотали и трещали льдины, как никогда был большой паводок, на холмах таял снег и тек ручьями, вода просачивалась в землю, набухали почки и только чибисы кричали где-то над большаком, за которым обычно садится солнце; наконец прояснилось, небо посветлело, на склонах холмов проступили почерневшие лоскутки снега, которые жадно впитывали тепло лучистого солнца, а ветер ерошил кустарники, сушил лужи, трепал деревья, ластился к корягам и камням, летал как угорелый от холмов к лужайкам, словно уже искал траву, которую можно всколыхнуть волной.
То тут, то там уже копошились жучки, и с сосен отлетала отслоившаяся кора.
Ожили и ребята, непонятная сила подхватила их, и они как будто полетели с ветром, прошелестели над верхушками сосен, сверкнули теплыми звездами в вешних сумерках.
— Ольха, — Юозас проводит рукой по стволу дерева. — Смотри, какая олешина.
— Уже твои овцы блеют, которых ты прошлым летом пас, — говорит Римантас Альбинасу.
— Да иди ты… — говорит Альбинас.
Потом Альбинас произносит слово «гений», и лица у Юозаса и Римантаса вытягиваются. Они пытаются спорить с ним, что-то ему доказать. Альбинас шагает по кустарникам и сосновым рощицам, вскинув голову, распахнув пальтишко, шагает широким шагом и говорит чуть отставшему Юозасу, не поспевающему за другом:
— Гений он и есть гений, и нечего тут больше болтать. Гении бывают двоякие — добра и зла. Толстой, Гёте, Шекспир — гении добра, а вот Наполеон — зла. — Дело в том, что они недавно прочитали «Войну и мир», поэтому и разговор такой вышел.
— Ну и сказанул, ох, ох! — удивляется Юозас. — Добра — зла! Как их отличишь, на каких весах взвесишь, откуда тебе известно, где начинается добро, где зло, где черное, где белое, — говорит он, горячась, чуть ли не задыхаясь. — Это тебе не цвета. К тому же, как ты сам знаешь, абсолютно чистого цвета нет, каждый, состоит из нескольких. Ты не видишь, ты почему-то не хочешь видеть переливов, нюансов, тебе бы только декларировать, вещать, а что именно, с чьего голоса, тебе все равно, — продолжает Юозас скороговоркой, перенятой у Альбинаса, но тот его не слышит: стоит на холме, оглядывает раздолье полей — там, внизу, шумит вышедшая из берегов река, чуть поодаль, на глиняном откосе, растет одинокое дерево, гаснет теплый вечерний свет, стригут ласточки. По верхушкам деревьев, то приближаясь, то удаляясь, летает ветер, жалобно попискивает какая-то пичуга. Юозас чувствует, что весенний ветер куда красноречивей, чем его слова, но они спорят, стараясь припереть друг друга к стенке.
— Ты ответь мне коротко и ясно, — требует Альбинас, — ты что выбираешь — добро или зло?
— Нет, ты погоди. Нам надо до этого кое-что выяснить, разобраться конкретно. Я не понимаю, на чем основывается твое утверждение, откуда у тебя взялась такая дилемма. Здесь какое-то недоразумение. Ты ведь думаешь совершенно иначе. Попробуй ухватиться за одну какую-нибудь мысль, определи какое-нибудь одно свое намерение, попытайся все объять одним чувством, а оно уже само распорядится, как все сгруппировать, отобрать по черточке, по штришку, по частичке. Тогда ты будешь последовательным и логичным, и это будет логика не вообще, а какой-то конкретный взгляд; вот тогда ты увидишь, что получится, увидишь, к чему приводят доброта, самопожертвование. Давай возьмем с тобой крайние случаи, они многое нам объяснят, вот тогда ты и в самом деле откроешь для себя толстовцев, а ты все твердишь мне и твердишь: толстовец я, Майштас или еще кто-то? А ведь это проявление одного и того же устремления… Нет, нет, ты, будь добр, докажи мне ясно, как теорему, как… Достоевский умеет доказывать. Или возьмем, — торопится Юозас, — случай крайнего эгоизма.
— Ха-ха-ха! — разражается хохотом Альбинас, привстав на цыпочки. — Братец, — говорит он, — ты меня не учи, ты мне ответь.
— Вот дураки, — Римантас сдирает кору с березы. — Давайте лучше сделаем свистульку и засвистим, го-го-го, может, какой-нибудь козел прискачет или козочка. Го-го-го, — гогочет он, — ты читал «Дафниса и Хлою»? Вот это книга! Хи-хи-хи, знаешь, как Дафнис, этот пастух, плакал, когда у него… когда, — прыскает Римантас, — в любовных делах он понимал меньше, чем бараны. Козочка, — говорит Римантас, — ты знаешь, козочка… — он весь трясется от смеха. — Го-го-го, — не унимается он, но, уловив насмешливый взгляд Альбинаса, унимается. Римантас всегда молча поддерживает Юозаса, они понимают друг друга без слов: оба хотят немногого, не метят в большие люди, а вот Альбинас вечно куда-то стремится, словно он и не здешний, поэтому раз и навсегда надо выяснить, куда же он так рвется. Может, его манит какая-нибудь великая цель? А может… Но уже теперь, пока есть время, в него надо вдохнуть священный огонь: они навсегда должны остаться товарищами, что бы с ними не случилось, кем бы они не стали. До сих пор они жили душа в душу, и горько видеть, как рушится их дружба. Уж теперь Альбинас готов Юозаса за что-то осудить, навязать ему что-то свое, бросить его. Но ни Юозас, ни Римантас о таких своих опасениях вслух, конечно, не говорят, даже не желают в том признаться, и если бы кто-нибудь огласил то, о чем они умалчивают или утаивают в их споре, они бы страшно обиделись, и стали бы горячо спорить, особенно Альбинас. Юозас, чего доброго, согласился бы, даже обрадовался бы тому, что глаза ему открыли, но каким жалким предстал бы он перед Альбинасом! Может, потому и разговор у них такой: все отвлеченности, общие места, ни щелочки, через которую можно было бы подсмотреть, какие они на самом деле, — чем больше слов, тем больше масок.
— Ну что бы было, — спрашивает укоризненным, полным презрения голосом Альбинас, — что бы было, если бы мы попытались все подогнать, как ты говоришь, под одно устремление, объять одним максималистским или другим каким-нибудь чувством или желанием, а? Субъективизм, и только.
— Чего ты так этого субъективизма боишься? Каждый жи… — начинает Юозас, но Альбинас его перебивает.
— Субъективизм, Юзулюк, никуда не ведет. Ты еще, братец, многого не понимаешь…
Услышав это уменьшительное «Юзулюк», Юозас вспыхивает, но сдерживает себя.
— Ха, — скаля пожелтевшие зубы, смеется Альбинас, но от этого смеха у всех почему-то муторно на душе, а больше всего — у самого Альбинаса.
— Тебе бы только поглумиться, съязвить. Схоласт ты, вот кто. Обо всем думаешь вне связи с целым. Прячешься за своими мыслями, а тебя самого за ними нет. Поэтому они у тебя такие. Воздушные шарики, куда ты с этими шариками хочешь взлететь? Вот ты говоришь — чувство справедливости, а я вижу самую обыкновенную зависть. Ты как наша манерная Бернадетта. Или Марите! Она тоже: справедливость, принципы, а за этой ее справедливостью и принципами — зависть.
— Хороший ты малый, Юзулюк, — говорит Альбинас.
Но Юозас продолжает:
— Ты повторяешь чьи-то слова, как попугай. Каждая мысль, каждая истина должны быть на чем-то основаны, подкреплены каким-нибудь конкретным фактом, внутренним или внешним. А чем она становится в отрыве от них? Кому она нужна без генезиса, без истоков, без познания или хотя без предощущения? Где и к чему приложима? Она мертва. Схоластична, понимаешь? Поэтому все для тебя просто. А я чувствую и понимаю куда больше, чем умею или могу выразить. Порой мои мысли и слова — как я сам, как мы, толкутся, лезут друг на друга, такие нетерпеливые, самолюбивые… Думаешь, меня очень волнует правда? — признается Юозас. — В споре я не столько ищу ее, сколько стараюсь показать, как много я знаю, какой я умный. Это отвратительно.
— И я, — вставляет Римантас.
— Нет, ты не отмахивайся, как всезнайка, — говорит Юозас Альбинасу. — Вот Руссо — это вот гений. Как я его понимаю, как он мне близок!
Порыв ветра подхватывает его слова, швыряет на верхушки печально шелестящих елей; превратившись в глухой и почти сладострастный рокот, они плывут по лесу, и снова слышится, как там, внизу, где паводком залиты луга, клокочет вода и ломаются льдины. Потом снова воцаряется тишина, в которой только потрескивает лед, да в розовой закатной стороне кричат чибисы. Уже почти стемнело, и там и сям над сосновыми рощицами, где эти чибисы обитают, мерцают мелкие, но низкие и яркие звездочки.
— Стендаль… Руссо… — передразнивает кого-то Альбинас. — И чего ты вцепился в этого Руссо? Он демонстрирует свое нижнее белье, подумаешь, — какое открытие.
— То, что демонстрирует, это верно, но…
— Что — но?
Юозас молчит, смотрит под ноги на шишки.
— Так что же ты выбираешь? — после паузы снова напускается на него Альбинас. — Это, братец, вопрос принципиальный. Отвечай: добро или…
Юозас обиженно хмыкает: он, дескать, не понимает, как здесь можно сделать выбор, кроме того, большинство его поступков определяет не он, а какая-то другая, глубоко сидящая в нем сила, и вообще, что означает, что сулит такое деление людей на группы? Бессмысленную толкотню, противоборство, нежелание понять других, вникнуть в их поступки.
— Вот теперь ты передо мной как голенький, — говорит Альбинас. — Ты трус, ты пойдешь на всякие компромиссы, уступки, увертки, будешь лезть из кожи вон и оправдываться.
— Зачем из кожи вон лезть, ведь я уже голенький? — говорит Юозас.
— Ну чего ты дуешься, чего? Ты же сам предлагал: взять какую-нибудь одну мысль, тенденцию и попытаться ее развить до конца. Вот я ее и развил. Недоволен, а?
— Это крайности, — защищается Юозас. — Стендаль и Руссо помогают мне искать… — он замолкает, косится на деревья: прямое, кривое, кривое, все кривые, по-своему согнутые, разветвленные.
— Что же они помогают тебе искать, что? — Альбинас впивается в Юозаса холодным изучающим, может, даже уже и презрительным взглядом. — Ну скажи, чего ты молчишь? Помогают искать золотую середину? Ведь так? А ты знаешь, что об этой середине говорят, знаешь? Так вот: тебе немного надо, только немножечко. И тебе, Римантас, тоже. Оба вы одним лыком шиты.
— Ну и что? — не поднимая на Альбинаса глаз, говорит Юозас. — Что тут плохого? Я и этой чуточки пока что не нахожу. — Он смотрит на хрупкий курослеп, потом переводит взгляд на дерево — не на березку ли, убежавшую далеко из лесу на самый край поля?
— Найдешь, не волнуйся. Оба вы найдете, — и Альбинас ретируется, уходит в сторону реки, размахивая полами своего светлого поношенного пальтишка. Римантас и Юозас, стоя рядом, провожают его глазами. Потом, как и подобает закадычным друзьям, почти заговорщически, болтая о чем-то и хлопая друг друга по плечу, отправляются вслед за Альбинасом. Вместе — и тепло, и надежно. Порывы ветра, перекатывающиеся по верхушкам сосен, еще больше их сближают.
— Если бы сейчас кто-нибудь встал бы нам поперек дороги, ну и надавали бы мы ему, а? Ох, надавали бы! — говорит Юозас.
— Я бы такого в клочья разорвал! — говорит Римантас и, внезапно обернувшись к Юозасу, спрашивает: как он, Юозас, считает, не пора ли проучить этого Малдонюкаса. И не просто проучить, а как следует, чтоб запомнил. Навеки запомнил. Чего он над ними все время издевается, кто мы для него?
— Э, — отмахивается Юозас, — он не измывается, он просто отроду такой. Пусть идет своей дорогой. Посмотрим.
— А тут и смотреть нечего, надо бы съездить по сопатке, и все. Сволочи, — говорит он и косится на избу Альбинаса, мимо которой они как раз идут: за окном, освещенным розоватым светом закопченной лампы, мелькает силуэт Альбинаса — Малдонюкас несет какую-то книгу, а сзади семенит его мать, то ли есть ему дает, то ли что-то говорит.
— Кушай, Альбинук, ты же голодненький, кушай, детка, — передразнивает писклявый голос Малдонене Римантас. — Детка моя, деточка, Альбинукас, цаца, ах, мой Альбинукас. А этот ее Альбинукас такие рога отрастит, что она сама не будет знать, куда от него бежать. Такому съездил по сопатке — и баста. Тогда ему будет ясно, что мы выбираем.
— Очень ему будет тогда ясно, — вторит Римантасу голос Юозаса, долетающий как бы из детства, из той поры, когда они кружили вокруг баньки Малдониса с выпирающими бревнами, а по ее крыше хлестал дождь.
— А ты, Юозас, видишь, — говорит Римантас, — какие концы Малдонис оставил? Уф, — отдувается он, отряхивая руки. — Твой дядя Константас хорошо говорит: Малдониса не поймешь, это такой человек, братцы…
Римантасу легко так говорить — над его отцом никто не глумится, легко говорить ему, сыну зажиточных и честных родителей. Потому, видно, Юозас, удаляясь от избы Малдониса, то и дело оборачивается и смотрит на мерцающий в кромешной, куда-то проваливающейся весенней темноте огонек в окне Альбинаса. Это было началом длительных распрей, началом всего. Первые атаки, первые удары, первые дуновения пропасти, разделяющей их и внушающей страх и тревогу.
Позднее этот гул, это буйство весны почувствовал и Юозас и что-то всколыхнулось в нем: прогрохотало вместе со льдами, прильнуло с ветром к склонам, взъерошило ветви ив, гладило, ласкало, пробуждало, приглашало, трепыхалось нежным и нетерпеливым росточком, истосковавшимся по солнцу, накатывало вместе с первыми грозами, ворочалось в мягких облаках. Он будет ходить по-над лугами, пиная и разворачивая пахнущий аиром, ряской и илом сушняк, разглядывая, что принесли паводки, что выворотили, что размыли, будет ходить и вырезать на стволах деревьев чьи-то имена, щиты, скрещенные мечи и государственные гербы, глазеть на нерестящихся рыб, на плавающую в лужицах лягушачью икру и ругаться. И в запахе гнили, и в кружащейся на воде траве, и в домовитом теплом дыхании просыпающейся земли ему вдруг почудится что-то женское, вожделенное. Он повсюду будет чувствовать присутствие Нийоле, видеть ее глаза; трепыхающийся над поляной мотылек и белейшие душистые цветы вереска — все вокруг напомнит ему о ней, свяжет его с ней, приумножит и, может быть, передаст ее красоту. Она, его возлюбленная, прилетит к нему вместе с весенним ветром, она, воздушная, она, объединяющая своим непостижимым, таинственным, бесконечно добрым существом все звуки, запахи и предметы воедино, она, неуловимая и всеобъемлющая одновременно.
С Альбинасом Юозас больше не разговаривает. Они как враги. Только зырк друг на друга, и все. Однажды Юозас его толкнул. Альбинас саданул Даукинтиса локтем, но тут же был повержен наземь.
— Негодяй. Не думал, что ты такой негодяй, — повторил Альбинас любимое словечко Гинтаутаса с кочкарника. — Тьфу, — сплюнул он, и Юозас за его спиной увидел осклабившуюся, торжествующую физиономию Гинтаутаса.
— Знаешь, кто ты? — сказал тот. — Ты — куница, — и, подражая не столько кунице, сколько белке, вылущивающей шишки или умывающейся лапкой, пустился вприпрыжку между партами.
В дневнике Юозаса, писаном в годы отрочества, много таких, например, записей:
«Читал до полуночи. Когда вышел во двор, свет в окне Альбинаса все еще горел. Где-то погромыхивал гром, сверкали зарницы. Было душно, нечем было дышать. Я уснул за чтением. Проснувшись, умылся студеной водой, попытался сосредоточиться, но от дремоты просто слипались веки.
Это была книга польской писательницы Элизы Ожешко «Мужик». Романтический фон, сочные реалистические мазки. Ожешко славит простого человека из народа, показывает благородство его души. Очень убедительные эпизоды…» (Следует перечень эпизодов).
Он очень огорчается из-за каждой неудачи. Инстинктивно подражает своим друзьям. Так, например, у отличника Р. С. есть такая привычка (или дефект): он долго свистит на уроке, пока не произнесет букву «с» и при этом морщит лоб. Его привычку перенял и он, Юозас. Странно, стоит ему начать так выговаривать букву «с», как он вдруг преисполняется уверенности в том, что отвечает не хуже, чем Р. С.
Терпкая осенняя плесень, запах жухлой листвы, луга, изрытые старательными кротами, студеная, темная, омывающая бурую прибрежную траву вода, — где они теперь, солнечные отмели и броды его детства, где эти рыбы, трепыхающиеся в отцовском неводе, где его голос, звенящий на лугу, кому он здесь нужен, что он значит для этого унылого осеннего дня, пыхтящего, как облепленный листьями еж, который обнюхивает еще тепловатую землю. Изредка ветер доносит с полей запах сжигаемой картофельной ботвы, и опять то же самое: закутанные в мешковину женщины, собирающие конский навоз, скучающая скотина, облезлые лошади с шеями, натертыми хомутами, со смиренными головами. Только приблизься, и они поднимут головы — бери и надевай на них сбрую.
Выломав палку, Юозас пробирается сквозь кустарник, рубя деревца, преграждающие ему дорогу. Попадись ему какой-нибудь зверь или враг, тотчас бы уложил на месте. Такой избыток сил, что даже теснит дыхание. Это — его меч, его дубина. И он мысленно переносится туда, где синеют непроходимые пущи, устланные истлевшими деревьями, туда, где тянутся непролазные трясины и болота, туда, где пробирались полчища крестоносцев! Может, ему удастся еще напасть на их след?
Куда только эта тревога не гонит его, чего он только не ищет. Он уже не тот шустрый мальчуган, который когда-то лазил по кустарникам, не тот мальчишка, который мог часами напролет, забыв обо всем на свете, изучать с помощью соломинки какого-нибудь жучка, собирать ракушки и кричать, наткнувшись на лисью или барсучью нору. От чего-то он безнадежно оторвался, что-то сам отринул от себя, но еще не сказал, почему, чего хочет, чего ему недостает, что надеется найти.
Он возвращался, весь облепленный паутиной. Поймав на себе пристальный взгляд отца, Юозас, как пес, забирался куда-нибудь в угол.
Надо один раз смириться с мыслью, что длинные дистанции не для меня, говорит себе Юозас, я слишком тяжел на подъем. Альбинас показал, как я бегаю: «Вот так, откинув голову, выбрасывая ноги в стороны». Вид и впрямь неважнецкий.
Он разглядывает себя в зеркале. Округлые плечи, неплохо развитые мышцы на руках и груди, шея с набухшими от долгих тренировок венами… Порой его охватывает разочарование, порой он вполне собой доволен — в зависимости от того, какими глазами он смотрит: разочарованный или уверенный в том, что в нем таится какая-то неуловимая сила или способности. Он находит те доказательства, которые ищет. Говорят — у страха глаза велики; не только у страха: каждое большое чувство наделено зорким зрением и не только зрением…
Он проводит рукой по вспотевшему лбу, по плечам — пот прямо-таки струится ручьями. Потом Юозас украдкой бросает взгляд на себя. Ни дать ни взять запряженный в телегу гнедой, косящийся через дугу на возницу и только ждущий, когда тот вытянет его кнутом. Ждет и сам еще не знает, как поведет себя — заартачится, застынет как вкопанный или будет плестись трусцой, как плелся, невзирая на угрозы хозяина. Одно только ясно — шага он точно не прибавит, как и сколько бы его ни лупили. Пусть радуется хозяин, что он, запряженный, хоть так тянет воз. Вот что они должны понять.
Но вместе с тем глаза двойника как бы оборачиваются и на него самого и вопрошают: чего тебе от меня надо? За что ты меня так стегаешь?
Метафора. Стало быть, отчасти он, Юозас, — и этот гнедой, и хозяин? Один в двух лицах… Ишь, какое сравнение, диву дается он. Многое ли оно может объяснить?
…Это, пожалуй, похоже на восхождение по невидимой лестнице. Однако сколько бы ты за один раз ни одолел ступеней, в другой раз приходится начинать сначала.
Каким бы совершенным, с каким бы торжествующим лицом ты не вернулся, оттуда, действительность все сметает и опрокидывает. И тебе в жизни никогда не удается быть таким добрым, благородным или мудрым, каким ты хотел бы или мог быть. Барахтаешься в той же луже, что и все остальные. Никто не видит, не замечает твоих усилий, возможно, никому они и не нужны, поскольку ни одно живое существо не поддерживает тебя в этой неравной борьбе. Куда там — еще и глумятся над тобой. Чего стоишь? Работай! Накричат, если не послушаешься, отругают последними словами. Им не нравится — дескать, не мешай работать, им некогда, они не любят таких красавчиков, такие им всегда поперек горла; и даже если бы ты никогда никого не упрекал, ты все равно — словно укор, словно заноза.
Бывает так, что тебе не сразу удается узнать себя в каком-нибудь неожиданно высветившемся зеркале. Господи, какое охватывает тебя смятение! Тут и смутный страх, и тревога — а вдруг обнаружишь какой-нибудь недостаток, увидишь что-нибудь крайне неприятное? Ты приближаешься к своему отражению инстинктивно, поправляя на себе одежду, невольно стараешься увидеть что-то привлекательное, свойственное только тебе, то, к чему ты давно привык, потом, как бы оправдываясь, разглядываешь себя с взыскательной требовательностью и говоришь себе в утешение: «Это я только сегодня такой… а вот если бы поднатужиться…» Чего-то ты в себе не желаешь замечать, от чего-то то и дело нос воротишь, что-то беспрестанно приукрашиваешь, но стоит тебе только сказать себе: «Это не я», стоит тебе только бросить на себя взгляд, словно на постороннего, как тобой тут же овладевает какое-то пренебрежение, чуть ли не презрение — ох, уж этот закосневший затылок, ох, уж эти глаза… И у тебя только одно желание — разминуться, пройти мимо… — Ты — это та раскаленная, живая атмосфера, которая вечно окутывает тебя, ты такой, ты никогда не видишь… Сотни твоих отражений продолжены другими и в других. Одни ты отвергаешь с гневом, разбиваешь в пух и прах, другими ты упиваешься, но все они другие, искаженные. Так кто же ты?
…Шагает в строю солдат. Как лихо он чеканит шаг. Марши, цветы, восторженные взгляды — не ему ли отдают эти почести? Что уж тогда говорить о генерале с нахмуренными бровями, возглавляющем шествие!..
Приходя к тебе, он приносит и свою вину, даже ту, которую мать-природа или просто случай взвалили на его плечи, но там, в строю, замечают не его ношу, не роковую случайность, а то, что он еле ноги волочит, что он именно такой, а не другой… Слабаков и нищих мы слишком далеко отринули от себя, от своей совести, передали под опеку всяких там учреждений… Чего доброго, мы им и всю свою жизнь передоверим и будут они наводить порядок в наших любовных делах, учить, как мы должны вести себя; и мы все будем делать с оглядкой на них, дожидаясь их заступничества, их правды…
Потом пришла любовь. Но пусть лучше о ней расскажет пожелтевший клочок дневника Юозаса.
«У Мильджюсовой рощицы мы копали картошку — была толока.
С пригорков открывался вид на наш двор, устланный кленовыми листьями — казалось, никто там не живет, серели только хлев с взъерошенной крышей и скособочившиеся плетни; отсюда виднелись и заросшее кустарником русло реки, и протянувшиеся на север луга, — мне хотелось, чтобы она краешком глаза взглянула на них и подивилась — как тут хорошо! Все время я им показывал эти красоты, но мои одноклассники почему-то ничего особенного вокруг не замечали: ни барсучьих нор, заваленных ветками орешника, ни зачахшего дуба-исполина на краю луга, ни глухо врезавшегося в суглинок проселка, ни поля — ничто их, похоже, не трогало.
Чуть поодаль от нас трудилась стайка женщин — Визгирдене, Каушпедене, Константене… Заглушая все голоса, покрикивала моя мачеха. Кроме Альбинаса и Римантаса никто на нее внимания не обращал. У мешков с картошкой переминались с ноги на ногу Визгирда, Казимерас, Константас…
— Ты там живешь? — вдруг спросила Нийоле, показывая в ту сторону, где топорщилась крыша нашей риги, окруженная верхушками кленов, которые мой отец подрезал (прошлой зимой деревья померзли).
Я неохотно кивнул. Потом все время поглядывал в сторону риги и не мог взять в толк, что же ей там могло понравиться.
За нашими спинами изредка раздавались такие крики, что перепуганные вороны полчищами взмывали с деревьев и долго, со зловещим карканьем, кружились над полями. Краешком глаза я все время поглядывал назад — мне не хотелось, чтобы женщины поравнялись с нами; поравняются, и тогда со всех сторон посыплется: Юзук, Юзук, какая-нибудь еще Юзулюкасом назовет, и первая полным именем назовет мачеха — до чего же мне не нравится, когда кто-нибудь из своих называет меня полным именем в присутствии знакомых. Что-то покровительственное, слишком ласковое звучит в их голосах, и эта ласковость как бы выдает меня, раздевает догола, кажется, меня присваивают, кажется, тычут в мою нищету, в мое ничтожество. Я ниоткуда, я родственник чей угодно, только не их, своих близких. Вот какой я! Настоящий сказочный рыцарь, не так ли? Но я все время только и слышал: «Ах, Даукинтёнок… Смотрите, Даукинтёнок!» — галдели женщины за нашими спинами. Вдоволь наслушался я этого «ах».
Наверное, со стороны я выглядел смешно: закатал штаны, попытался пристроиться к мужикам, к Альгимантасу, к Аугустасу, таскал тяжеленные мешки с картошкой. Казимерас дал мне лошадь. Когда я, стоя в телеге, подъехал к ним, Альбинас расхохотался:
— Смотри, ты уже начальником стал!
Усевшись на кучу картофеля, женщины запели. Затянула Константене, ей вторили Визгирдене, Мария… «Бывало, сгребаем или поем…» — выводили они, разевая рты, и ставя неправильное ударение на слово «бывало», и это «бы-ва-ло», исторгнутое из их гортаней, выплеснулось на полуденные поля, как солнце, обвеваемое душистой и теплой мглой, какая стоит обычно во время копания картофеля. Женщины пропели все песни, какие знали. Надо будет когда-нибудь их записать. Смеясь, они поглядывали на стоявших в сторонке мужей, словно вопрошая, те ли это славные молодцы, о которых поется в песне. Скрюченные, в сползших портках, как бы одуревшие от песен, слова которых долетали с опушки леса вместе с теплым, лениво веющим ветерком, мужики стояли подле кучи картофеля.
— Стоят как каменные, — шумели женщины, хохоча. — Ты только на моего посмотри, — ткнула кулаком Визгирдене Марию.
— Да и мой не лучше, — ответила та, и Визгирдене склонилась над ее бороздой (теперь они обе копали на одной борозде).
— Теперь вы что-нибудь спойте, — сказала одна из них после паузы.
— Юозас, затягивай, — подхлестнула меня Визгирдене, добавив, что у меня голос что надо. Я был готов сквозь землю провалиться. Терпеть не могу делать что-нибудь по указке. Я неохотно стал что-то мурлыкать, кто-то попытался подтянуть, но песня не заладилась, и все притихли.
Женщины принялись хохотать. Громче всех смеялась мачеха, раскачиваясь, сжимая между колен руки и мотая головой. Даже Визгирдене не выдержала и спросила, что же тут смешного.
— О, господи, неужто ты слепая? Умереть со смеху можно. — И ее снова затрясло.
Потом мы вчетвером — Нийоле, Яне, Альбинас и я — направились в осинник, где я нашел семейку боровиков.
— Нанизай на нитку и повесь сушить у окна, — сказал Альбинас. — Запасешься на зиму.
— Сам посуши их на своем прогнившем подоконнике, — отрубил я.
Альбинас покраснел как рак.
— Вы только драться тут не вздумайте… — приструнила нас Нийоле.
Мы развели костер. И вскоре вся опушка пропахла дымом. Ломая ветки и громко хрюкая, по лесной чаще промчался кабан. Нийоле сидела у костра, впившись взглядом в огонь, и сполохи играли на ее нежном лице.
— Знаете что, мальчики, — вдруг проговорила она и старательно поправила юбочку. — Пошли лучше на луг.
Мы прошли мимо барсучьих нор и свернули в орешник. Низко свисали гроздья рябины. Рощица — моя обитель, мой дом.
— Лучше бы ты нас к себе домой пригласил, — сказал Альбинас.
— Правда, Юозас! — воскликнула Нийоле.
Я молчал.
Яне с Альбинасом ушли чуть-чуть вперед. Я видел, как он все норовил положить ей руку на талию. В такие минуты Альбинас становился невероятно торжественным. Таким он был и на картофельном поле, когда, согнувшись набок, таскал Янинино лукошко. Янина же работала лениво, неуклюже, словно чужими руками.
Мы возвращались на машине, пели, и ветки яблонь ударяли нас по голове… Возле пруда девчонки долго отмывали руки и ноги. Тот день был весь полон какой-то пронзительной доброты. Не хотелось расставаться. Ах, как сближают такие мгновения! В школе мы — сама сдержанность, сплошные белые воротнички… Тот отличник, этот отстающий… А теперь все это рухнуло, рассыпалось в прах, как яичная скорлупа… Я все еще вижу руки Нийоле, вижу, как она моет картошку, как склоняется над прудом… Не было здесь ни тех, кто впереди, ни тех, кто позади, никаких знаков отличия. Может быть поэтому и Альбинасу, и Марите работа не понравилась: здесь они оказались в тени других.
Она живет в каждой моей мысли — живет ее голос, живут ее глаза, шелест ее платья, смех, я все время слышу ее, вижу и не могу отделаться от дурацких мечтаний. Я же даже ее пальчика не стою. Потому, наверное, и прячу изо всех сил свои чувства.
— Великий актер, — говорит Альбинас. Он насквозь меня видит…».
Я СЛЫШУ ТЕБЯ, ДУБ-ИСПОЛИН
Лунный свет, стрекот кузнечиков, соловьи… Но скоро все вокруг умолкает, потому что с запада надвигаются грозовые тучи. Как раскаленные глыбы скал, они перекатываются друг через друга. В воздухе накопились озон, опасность и тоска. Далеко, у самого горизонта, небо нет-нет да и сверкнет тусклым багрянцем. Молнии тихо чиркают по небу и гаснут. После каждой вспышки грохочут колеса Перуна, полосуют небосвод белые кнуты. Вот только что сверкнула молния, словно огромными растопыренными пальцами объемля все грозовое небо: видны каждый выступ облаков, каждая их впадина, каждое движение. При свете гаснущей молнии успеваешь увидеть и лица. Одно — чернявое, грубо вытесанное, округлое. Это Римантас. Второе — продолговатое, с большими выразительными глазами. Это Юозас. Лицо третьего уже утопает во тьме. Из темени, из протяжного шелеста леса слышен его голос. Он торопится что-то сказать и боится, что не успеет: в любую минуту может грянуть гроза; этот голос заглушает раскалывающийся гром.
Трудно понять, что звучит в голосе Альбинаса, — то ли какая-то обида, то ли предостережение или тайна, которую он долго и упрямо скрывает от всех; Альбинас говорит не столько с ними, с присутствующими тут своими друзьями, сколько с кем-то далеким, более мудрым и могущественным, который один только его, Альбинаса, понимает. Выслушает тот, далекий и всесильный, эти его сетования и кому-то о нем, Альбинасе Малдонисе, даровитом парне из Ужпялькяй, доложит. И куда-то его позовут. Где-то его уже ждут с распростертыми объятьями. Кто знает, может, там даже и слава ему уготована. На одной стороне — отчий дом, родное небо, поля, убогие проселки детства, на другой — туманный небосвод на востоке, другие, более широкие, может даже асфальтированные дороги и города… Долгий, видать, очень долгий предстоит ему путь. И в душе Альбинас клянется, что все, что он тут, на родине, испытал и увидел, он никогда не забудет. Но кое-кто здесь осмеливается называть его отступником, отщепенцем. В газете он описал свой спор с отцом по поводу религии; писал о хищениях в колхозе, о прокладке новой дороги, о строительстве клуба-читальни, даже о пропойце, заведующем старой библиотекой. В этих своих заметках он и про Казимераса с Константасом упоминал, и из самых лучших побуждений некоторые их мысли там процитировал.
Но Альбинаса уже порядком развратили похвалы. Пристальные глаза ужпялькяйцев, которые на старости лет только и делают, что смотрят, только тем и занимаются, что сортируют, сопоставляют, накапливают всякие наблюдения, давно заметили, что он придает слишком большое значение своей персоне, заважничал, даже не слышит, что ему говорят… Юозас, дескать, другой: он и более человечный и с каждым при встрече заговорит…
Снова вспыхнула молния, и теперь друзья высветились, словно какой-то скульптурный ансамбль: впереди стоял Альбинас; подавшись вперед, к нему почти прильнул Юозас; а чуть дальше от них держался Римантас. Возможно, они немного позировали перед кем-то невидимым, здесь подошла бы и темная, развевающаяся по ветру одежда, которую порывы ветра просто рвут в клочья, потому что что-то бурное и тревожное было в их душах. На всех лицах лежала печать восторга и экстаза, которые на короткий миг сблизили их. Потом снова начнется привычное соперничество. Альбинасу хочется всюду быть первым. Того, кто попытается его обскакать, он отринет и высмеет. Он хочет, чтобы при его появлении громко и внушительно произносили его фамилию.
Должно быть, его и впрямь ждут высокие дворцы с каменными лестницами. Множество людей будет там дожидаться приема у таких, как он, прижимаясь к старым статуям и колоннам. И не каждый из них удостоится чести войти внутрь.
— Ты в этом году в вуз не будешь поступать? — спрашивает Римантас у Юозаса.
— Нет. Хочу еще тут пожить, поработать, осмотреться… Может, через годик-другой…
Голос его чуть дрожит. Альбинас усмехается.
— А я — в мореходку, потом — в море-океан, — Римантас окидывает взглядом бескрайний грозовой небосвод. Там, на западе, его море: рушатся скалы и падают в пучину, терпят крушение корабли, и их обломки летят в пропасть, сияет объятый пожарами небосвод и кипит-клокочет раскаленная стихия. Потом воцаряется такая тишина, что слышно, как журчит фонтан Левиафана, где-то вроде бы поют сирены, и стоит на палубе капитан, приложив к зорким глазам бинокль, толпятся матросы в ожидании его команды. Пути аргонавтов. Римантас увидит берега Гибралтара, переплывет Баренцево море, обогнет мыс Горн, перед ним сверкнут башни Константинополя, и эхо его шагов взмоет над тысячелетними улицами Стамбула или Афин, выложенными почерневшим булыжником. Далеко-далеко уплывет он отсюда, из этого края со стожками сена, с низким порогом отцовской избы, с узеньким ручеечком, заросшим водорослями.
— Ты о чем задумался?
Юозас молчит. Он вдруг ни с того ни с сего вспомнил, как однажды — дело было в середине зимы — его в заводи охватило такое чувство, словно он очутился на Северном полюсе; он бросился к двоюродному брату Альгимантасу и давай говорить, пытаясь заглушить страх.
Спрашивают Альбинаса, куда он собирается поступать.
— Я уже вам говорил, — отвечает тот.
Пройдет немного времени, и будет Альбинас вышагивать по городским улицам, ходить на концерты и в библиотеки, но там частенько у него перед глазами будут возникать вдруг высокие утесы, стремительные броды его детства; во дворе будет стоять мать, будет ругаться отец, а он, маленький мальчик с неровно обстриженными волосами, будет читать старую, пожелтевшую книгу. Чего, спрашивается, этот оголец искал, на что надеялся? — такими вопросами будет он мучать себя в эти мгновения. И чистым, и прозрачным будет этот пласт воспоминаний, сквозь который он будет смотреть на мир.
Но случится это чуть позже, когда он пройдет уже через все двери, когда убедится, что никто его там, за этими дверьми, особенно не ждал. Он будет в сердцах хлопать этими дверьми, злиться в надежде найти свою, единственную, правду. Он навсегда останется ребенком, ищущим таких же ласковых рук, которые так радушно помахали ему еще тогда, когда, совсем маленький, он сидел на коленях у своей матери. Он будет требовать ласки. Во многих местах его встретят с усмешкой. Люди будут пожимать плечами в недоумении — чего он ищет, чего хочет? Он будет чувствовать себя соблазненным и обманутым, ибо ему нигде не удастся отыскать следы того Анонима, мысль о котором насквозь пронзила всю его жизнь, и работу Анонима, который его когда-то звал, но не соизволил дать своего точного адреса.
Примерно такими словами Юозас обрисовал одиссею Альбинаса в городе.
— А тебя, Юзук, сразу же заведующим фермой назначат, — сказал оскорбленный Альбинас.
Нет, он не думает, что сразу назначат, хотя чем черт не шутит, пытаясь совладать с собой, говорит Юозас, но в конце концов не выдерживает и язвительно добавляет:
— А ты приедешь на ферму с блокнотиком и очеркишко о заведующем накатаешь.
— А ты погоди радоваться, о таких, как ты, не накатаю.
— Ясное дело. Поинтереснее материальчик найдешь. Тебе кажется, что в другом месте тебя ждет что-то необычное, то, чего здесь ты и замечать не хочешь. Чепуха.
— Ааа, — отмахивается Альбинас. Его словно ветром подхватило, и неизвестно еще куда унесет.
Юозасу что-то не нравится в поведении друга, в его мыслях, ему хочется о чем-то поспорить, что-то опровергнуть, но он сам не знает, как это сделать. Допустим, он останется здесь, в деревне, будет честно и хорошо трудиться, но захочет ли с ним водить дружбу его бывший друг Альбинас, обожающий разглагольствовать о работе, о ее смысле, увидит ли он какие-нибудь преимущества здешней жизни? Нет. Юозас Даукинтис перестанет для него существовать. Впрочем, зачем он так морочит себе голову из-за этого Альбинаса? Кто для него Альбинас? Пусть идет своей дорогой.
Успокоившись, Юозас начинает убеждать себя: он, конечно, никого из себя не строит, он такой же, как все, ничуть не лучше, а вот Альбинас, тот во что бы то ни стало хочет выделиться, все время распространяется о своих убеждениях. Но в чем их значение для других, в чем, скажи, их значение, спрашивает Юозас.
— Так ты за кого в конце концов агитируешь? — поворачивается к нему Альбинас. — За тех, которые составляют серую массу? Кроме нее никого не видишь. Индивидуум…
— Ага! — срывается Юозас. — Понял! Другие для тебя как будто и не существуют, есть только ты, все твои мысли крутятся вокруг собственной персоны, а… а… — повышает голос Юозас, словно боится, что не сумеет высказать то, что понял. — Но странное дело, в твоих разговорах всё другие, для других, во имя других. Ох, как интересно! Ты перед другими пытаешься предстать в одном виде, а живешь совсем иначе. Вот почему и мысли у тебя такие бессвязные, нелогичные. Ай да ты, вы только посмотрите!.. — диву дается Юозас. — Я и спрашиваю, почему для тебя масса — то сплошная серость, то… Видишь, как он замирает, как застывает, объяв что-то, с одной стороны у него — альтруизм, самопожертвование, а с другой — выгода, слава. Желание жертвовать собой, делать добро другим — только поза, ему важно воспарить, выскочить, властвовать, может, даже тиранствовать, как его отец, — чуть слышно заключает Юозас, но Альбинас, кажется, и не слышит его тирады: отойдя в сторонку, разглядывает небосвод. — А может, — продолжает Юозас, — только эта «серая масса» и существует, может, никакого другого смысла, никакой другой цели не было и нет, кроме той цели, которую эта «серая масса» признает.
— Тебя раздражают те, которые хотят возвыситься, — обиженно бросает Альбинас. — Ты их ненавидишь, боишься, чтобы не заслонили тебя.
— Меня интересует правда, а какая же здесь правда?.. Ох, нелегко тебе будет…
— Человече!.. Может, не все будут такими смельчаками, как ты.
Влажный ветер шумит в кронах деревьев, гасит звезды, гонит грозовые облака, чтоб пролился дождь и утром все пробудил к жизни.
— Да, да, жизнь является самоцелью, — говорит Юозас.
— Но и ты этим не довольствуешься, хотя другого выхода не видишь. Зачем тогда читать мораль? Ты что ко мне все время пристаешь? Апостол нашелся. Жертвуй собой ради других, живи для массы, живи, если тебе так хочется, никто тебе не запрещает. Это чистейшей воды толстовство, и только. Болтовня Вигандаса Мильджюса. Да ты, может, и от Майштаса в восторге?
— Да, в восторге! Ох и умеешь ты все загаживать своими ярлыками, — после долгой паузы произносит Юозас. — Ты без них просто жить не можешь. Тебе наплевать на само явление. Находишь в словаре его определение и тебе этого достаточно… А у меня каждая формулировка вызывает подозрение, кажется мне односторонней…
В уголках губ Альбинаса играет нескрываемая усмешка, но вместе с тем выражение лица у него такое, как будто, кроме грозового неба, его ничего не волнует.
Не впервые Юозас сталкивается с чем-то неумолимым, непреклонным, с чем-то таким, чему он должен противопоставить все свое существо. Альбинас все делает обдуманно, хорошенько взвесив, он прекрасно знает, что ему нужно и чего не нужно. На пути к цели он не потратит ни одной лишней минутки. А Юозас плывет по течению. Никакой определенной цели у него пока что нет. И времени, которое так экономит Альбинас, у него хоть отбавляй, ума не приложит, куда его деть. В глубине души Юозас завидует Альбинасу.
Снова сверкнула молния, озарив высокий, словно громадная печь, небосвод. Юозас успел увидеть крылечко родного дома и стожки сена, составленные на лужайке; уже тогда, когда гости, обмыв удачную ярмарку, запрягали лошадей и натягивали на облучки попоны, упали первые капли дождя.
Будет дождь, сказал Константас, долгим взглядом окинув купол неба. Он не пил, не пел с мужиками, хотя полдня просидел за столом, дожидаясь, когда сможет рассказать о том, как был уланом, как перелетал на своем скакуне через препятствия. («Только песок из-под копыт. Только земля дрожит»). Но он так и не улучил минуты для своего рассказа, хотя, казалось, не раз раскрывал рот, пытаясь вмешаться в разговор мужиков. Так он и просидел за столом, прижавшись к крупу летящего через барьер скакуна, и никто не заметил, как из-под копыт взметнулся раскаленный на летнем солнце тридцать седьмого года жемайтийский песок.
Константас немного помешкал, подошел к брату Казимерасу, ссорившемуся с зятем, попытался было их примирить, но брат оттолкнул его рукой, Константас отлетел в сторону и с минуту, а может, и больше, стоял осоловелый, не соображая, что произошло, — тогда-то и сверкнула первая молния, которая озарила его изумленное лицо. Когда Казимерас ударил зятя, женщины с криками бросились врассыпную, Константас только пробормотал: «Красиво, нечего сказать, красиво так себя вести», — и пошел прочь.
Умолк и Криступас, весь день заманивавший гребельщиц на прокосы. Затягивая одну песню за другой, он и не заметил, как нахмурилось небо, как угас погожий день, утих ветерок, ласково колыхавший белые занавески в открытом окне. На частоколе сушились Криступасовы сети, и хотя еще утром сын ему сообщил, что река уж очень обмелела, — Криступас собирался на рыбалку, однако помешали неожиданно нагрянувшие гости.
— Кричи не кричи, до бога все равно не докричишься, — сказала Визгирдене.
Стемнело, набежали тучи. Все бросились запрягать лошадей. Константас потоптался возле брички, осмотрел оглобли, не удержался, чтобы не предупредить каждого, — мол, не летите, как угорелые, когда будете спускаться с горы, неровен час, подпруга лопнет, вожжи отвяжутся или колесом лошади ногу поранит… Упаси боже. Лучше трусцой, не спеша. Однако, заметив, что его советов никто не слушает — брички с грохотом выкатывались со двора, — Константас вернулся в избу.
— Ну, чего гремишь, стряслось что? — спросил он жену.
— А то, что ты — баба, а не мужик.
— Дай-ка поднесу.
— Да иди ты!.. А то как смажу тебе вот этой самой рукой, — и Константене показала липкую от пойла руку.
— Вот поди пойми, пораскинь мозгами, что с ней творится, чего ей от тебя надо.
Он вышел вслед за женой, остановился во дворе, огляделся. Решил, что быть ливню с грозой, если тучи куда-нибудь подальше не уползут. Пока что они все на одном месте толпятся. Ясное дело, доехать до Шилейкишкиса они не успеют, застигнет их дождь на Кябяшкальнисе или у большой вишни. И тогда они вымокнут до нитки. И вдруг поплыла перед глазами Константаса такая картина: искры, летящие из-под копыт, спотыкающиеся лошади, переворачивающиеся телеги… Понурив голову, словно он был в чем-то виноват, потопал он вслед за своей женой в хлев. Но тут его чуть не сбил с ног Юозас.
— Куда тебя нелегкая несет? Ты чего так летишь? — принялся он браниться, попятившись. Как же не лететь. Уже давно в потемневшую рощицу его нетерпеливым свистом заманивали приятели. «Уже иду!» — успокоил он их долгой и звонкой трелью, бросившись с пригорка в долину к ручейку, берега которого заросли ольшаником. На обрыв он взобрался оцарапанный, обожженный крапивой.
— Ура! — воскликнул Альбинас и, подпрыгнув, вскинул обе руки вверх.
— Может, песню грянем?
— Можно.
Они затянули песню.
— Куда пойдем?
— Давайте в Шимоняйскую пущу!
— Далековато.
— Рассуждаешь, как Константас.
— Ты чего улыбаешься? — спрашивает Юозас у Альбинаса.
— А мы записочку перехватили. От Нийоле…
— Кому? — Юозас замер.
— Донатасу.
Не может быть, думает он, чувствуя, как гулко колотится сердце. И вдруг он снова видит себя в лодке: высокие и крутые обрывы, дикие леса, залитые лунным сиянием; неистовствуют соловьи, журчит, перекатываясь через пороги, вода, мелькают зловещие тени… Таким когда-то был этот край, куда Юозаса пригнало отчаяние. Но какая здесь вокруг властвует тайна, до чего же тревожная царит красота!
— Русло этой реки старое, очень даже старое, — заговорил с ним однажды Константас, опираясь на косовище (они тогда сено косили). — Уже тысячи лет, как по нему течет вода, денно и нощно течет, без передышки, ты только подумай. И будет она еще течь, когда нас не будет… Видишь, какие берега размыла, какие обрывы понаставила. Мой дед еще помнит: этого мыска, где мы сейчас с тобой сено косим, в его время не было, вода прямехонько бежала… Видишь где…
Они забредали в траву, ощупывали истлевшие ракушки и почерневшие камушки, разглядывали толстенные, занесенные землей стволы дубов, которые когда-то омывала вода, и из глубины высовывали большие головы сиги, их тени рассекали солнечную поверхность воды, а на нагретые волны нежно садился ивовый пух.
Ветер волнами приносил с широких полей запах зелени, и волны эти разбивались тут же, у их ног.
— Трава уже перестояла, надо косить, — сказал, отбивая косу, Константас. Но они еще долго вышагивали по берегу реки, и дядя все рассказывал о том, где они с Криступасом пасли скотину, тыкал в какие-то замшелые наросты на деревьях, в лишаи на камнях, то и дело подхлестывая свои воспоминания о том времени, в котором еще жили его дед и прадед, и порой слова Константаса заглушались порывом ветра, налетавшего откуда-то с верхушек деревьев. Видишь, как качаются деревья, говорил он, задрав голову. Потом он вглядывался в далекий большак, который кроме него никто не видел и который петлял вдоль болотистой линии горизонта, в большак, по которому когда-то, поднимая тучи пыли, тарахтели телеги в Сантакос, Ажуолинас, Дусменос или Пашиляй! И теперь, кажется, можно различить полоску пыли, покрывшую горизонт. Какие яркие картины возникали в сознании Юозаса при этих словах! Под сенью кленов бродят лошади с нахлобученными на головы торбами с овсом, тяжело гудят жернова, медленно вращаются турбины… Кажется и он, Юозас, там был, сидел на попоне, пропитанной конским потом, грыз яблоки или сосал ярмарочные леденцы, и живительная кленовая тень следила за каждым его движением. Я знаю… я помню, — повторяет он мысленно, вслушиваясь в слова дяди.
Но что значат эти твои речи, дядя Константас? Что значат эти вздохи, эти паузы, которые наступали в самую летнюю страду в те давно минувшие годы? Какие мысли бродят в твоей голове, когда, берясь за косу, ты смотришь на луга, которые косил тысячи раз? Что значат твои слова, когда ты ни с того ни с сего говоришь: «Стареем… Ах, стареем», таким голосом, словно делаешь величайшее открытие и, не обращая внимания на громкий смех своей благоверной, только разводишь руками.
— И ты уже вырос, — любит говорить он Юозасу. — Скоро меня догонишь… Пахал я однажды возле старой яблони. Смотрю — ты ползешь, прямо по борозде. Вот такой (он показывает, какой), как гороховый стручок. Тебе чего надо, спрашиваю. Дай попашу, говоришь и тянешь ручонки к плугу. — Что же все эти его речи значат? И почему он всем рассказывает, как Юзукас, спотыкаясь, приполз к нему прямо по борозде и вызвался попахать за него. Почему он все время в лице этого ребенка ищет родные черты?
…Он приходил в самую жару, весь пропахший черной ольхой, родниковыми струями, травой, мхом, вешал косу и отправлялся в избу, чтобы закусить. В сенокос Юозас просыпался от стука дядиного молотка — Константас отбивал косу. Сев и жатва были самыми любимыми его работами… Он, у которого и жать-то было нечего, больше всего радовался наступлению жатвы — отправлялся в поля, чтобы посмотреть, не осыпается ли зерно, не пора ли точить косу, и в его голосе звучала невыразимая, несказанная радость. Как будто дождался он давно обещанной награды. Откуда же бралась она, выплескивалась, эта твоя радость, дядя Константас? Всегда с какой-нибудь ношей, с какой-нибудь плетеной корзиной или мешком, то и дело поглядывающий на деревья, ощупывающий срубы, пожитки и вещи, никто так не ощупывал их, никто так не умел называть их по имени, никто так не клал прокосы, не вспахивал борозду, не сеял…
В избе Константаса висит картина, яркий пшеничный цвет которой, прорвавшийся с горних высей, пробившийся сквозь темные тенистые ущелья, падает на землистый крестьянский порог. Этим светом залиты сени, этот свет мерцает на полу у босых ног стоящего в дверях человека. Во дворе, раздевшись до пояса, умывается коренастый, крепко сбитый парень, а ему в пригоршни прямо из кувшина сливает воду девушка, белолицая — кровь с молоком. Чуть поодаль, у воротцев, толпятся косари, в руках у них венки в честь дожинок. Вот и хозяин — приглашает всех в избу…
…Когда Юзукас был ребенком, он носил в кувшинах пресную воду мужикам, косившим на холме рожь. Пили они жадно, залпом, схватив жилистыми руками кувшин за шею (казалось, вот-вот придушат), и вода струйками текла по волосатой груди. Среди них был всегда и его отец — он последним брал из рук сына кувшин; бывал тут и дядя Константас — он первым прокладывал прокос; бывали Визгирда, Казимерас… Не счесть всех мужчин и женщин, которые на холме косили белую, шелестящую рожь. И изредка оттуда доносилась их песня…
Они стояли напротив высокого обрыва, размытого родниковыми водами и заваленного стволами вывороченных деревьев.
— На этом обрыве мы загорали на солнце, — сказал дядя.
И мы, хотелось добавить Юозасу.
Под ногами шелестели обточенные течением камешки, острыми лезвиями сверкал водоворот — если ткнуть палкой в стрежень, то можно ее сухим концом до дна достать.
— Чего лезешь, еще затянет, — сказал дядя. — Не одного уже затянуло. Раньше, бывало, даже лошадей утаскивало.
Интересно, правду ли говорит Константас, подумал Юозас. Разве что такого мальца утянет, который хочет сухим концом палки до дна достать.
Они шли и шли по течению, словно сама быстрина подталкивала их. Жужжали стрекозы, стрекотали под ногами кузнечики, хлопотали труженицы-пчелы и, напоминая о чем-то стародавнем, гудели, качаясь, вербы. Потом, усевшись на берегу, они долго глядели в воду. Жаль, что удочку не прихватил, — порыбачил бы, подумал Юозас.
Теперь, когда он отправляется на речку с удочкой, за ним обязательно увязывается какой-нибудь малец: он ему стрекоз ловит, червей копает, ахает, охает, когда ныряет поплавок, и без умолку трещит, где какую рыбу видел — ну точь-в-точь как когда-то Юзукас. Только удочками они редко рыбачили — не было крючков, не было лески…
По воскресеньям, когда открывали мельничную запруду и вода убывала настолько, что на бродах всплывали водоросли, мальчишки обували старые калоши, привязывали торбы и через люпин, через лужки и опушки отправлялись в сторону речки Балтойи, пугая семенящих в костел бабонек и привязанную в кустах скотину. Съехав по горячему обрыву к реке, они плюхались в ее бодрящую воду. Весь день не умолкали их голоса.
— Ребята, вы только посмотрите, какую я поймал рыбу!
— Да разве это рыба?
— Нет, ты посмотри, со своей сравни.
Прильнув к камням, забравшись под иву, стеная и пофыркивая, они ловили рыбу.
— Быстрей сюда, смотрите — какая щука!
— Ша, тихо, чего все время глотку дерете — всю рыбу распугаете.
Солнце метит в них своими огненными копьями, обжигает спины, плечи, и если кто-нибудь в шутку плеснет водой, то визг стоит на всю округу. В царапинах, в налипшей паутине, удят они, забыв обо всем на свете… Только изредка их усмиряет голос Криступаса или Казимераса — спрятавшись в ольшанике, мужики осматриваются, ищут место поудачливей, где бы забросить сети.
Они выпрямляли спины, только почувствовав прохладное прикосновение вечера, разгибали их, когда свет уже не достигал бродов и, обессиленный, мерцал среди смородины и кустов малины. Тогда рыбаки показывали друг другу свой улов, умывались, мыли руки.
Только Юзукас продолжал ловить рыбу.
— Хватит, оставь на завтра, — пытается, бывало, оторвать упрямого рыбака от валуна Витаутас.
Юзукас аж дрожит — губы посинели, зуб на зуб не попадает.
— Пусть себе ловит, — говорит Альгимантас. — Пусть гонится за ней до самой Швянтойи, авось поймает.
— Ты сам ее сюда пригнал… Вот такую! — кричит, мчась по траве, Юзукас.
Облепив смородиновый куст, они срывают ягоды и пригоршнями отправляют их в рот. Солнце, смилостивившееся над своими детьми, повисает на минутку над лесом, дарит им свое последнее тепло, сушит их одежду. И как только оно отворачивается от них, скатывается за лес, вся ватага отправляется домой. Первым шагает Альгимантас, сутулый, костистый, тонконогий. Рядом шлеп, шлеп Витаутас, пухленький толстячок с родимым пятном под левой лопаткой. Он с трудом переводит дух. Запыхавшись, их догоняет Юзукас, весь посиневший от холода. Вот такую картину частенько наблюдают по воскресным вечерам деревенские женщины, которые доят на лугах своих коров.
По пути все заворачивали в усадьбу Криступаса, где отец Юзукаса вместе с Казимерасом обычно делили улов.
— Черт бы побрал, какая никудышная рыба, сплошной мусор, — бранится Казимерас. — Эти «лягушата» скоро всю рыбу в Швянтойи загонят.
— Скоро вся рыба начнет посуху передвигаться, — не остаются в долгу «лягушата». — Научится летать. Вы такой страх на нее своими жердями нагнали — всю рыбу перепугали, не знает куда и деваться, в водоросли лезет.
— Ты чего тут, сопляк, мелешь, вон отсюда, — замахивается трепыхающейся рыбешкой Казимерас.
— Ха-ха-ха! — звонко, с тремя интервалами, хохочет Константене.
— Вот, лови!.. Ох, окунь!.. Еще живой, — кидает Казимерас рыбу Криступасу, и окунишко, едва различимый в сумерках, трепещется, реет, как летучая мышь, обдавая их мелкими брызгами.
Во дворах уже разведен огонь: женщины варят картошку, готовят сковороды для рыбы, и возле камней, заляпанных рыбьей чешуей, плотоядно облизываются кошки… Трах, тах — лопаются под ногами ребят рыбьи пузыри…
Но теперь Юозас стоит перед своими товарищами, и лица на нем нет: все его победы, все его спортивные достижения, упорство, воля, сила — все насмарку. Он слишком чувствителен к своим неудачам. «Так все-таки… Вот как, — шепчет он сам себе. — Я так и думал… я так и знал…»
— Ты чего там зубами клацаешь? — спрашивает Альбинас. — Иди сюда.
Юозас выныривает из сумрака, протягивает руку…
— Дайте…
— Что?
— Отдайте эту записку.
Оба его друга, словно сговорившись, хохочут.
Юозас поглядывает на небо, прислушивается к завыванию ветра. Альбинас усмехается.
— Вы врете! Врете, собаки! А это ты видел? — Юозас стукнул кулаком Римантаса.
До чего же он смешной, думает Альбинас. Ну разве не смешно, что от каждого словечка лицо его искажается гримасой, а краешки губ начинают дергаться. Окаменевший, застывший, в узком пиджачке с чужого плеча, он проходит мимо всех. Кто-то сомкнул его уста, сковал движения.
До седьмого пота работает он со штангой, но что из того? Может, пусть лучше о нем расскажут шустрый теннисный мячик, перекладина, отшлифованная его ладонями, спортивная майка, пропитанная потом, баскетки или долгие споры с друзьями, когда правда была на его стороне; пусть поведают о нем гул ветра, закаты. Пусть кто-нибудь расскажет о нем, пусть избавит от злых чар.
— Странный ты, Юозас, — говорит Альбинас.
— Какой?.. Какой?..
— Ну, чего ломаешься, словно и впрямь не расслышал. Странный, говорю.
— А ты сам, думаешь, не странный? Зубришь и зубришь по ночам. Когда бы не вышел во двор, всегда вижу огонь в твоем окне. А в школу приходишь и давай кричать: «Покажите, что задано. Ни одного урока не приготовил, ничего не читал!» — орешь благим матом и вырываешь из рук учебники. Допустим, не читал, зачем же так орать о себе? Кому какое дело — занимаешься ты или нет? Почему тебе так хочется демонстрировать свои недюжинные способности? Какой миф о себе хочешь создать? Все я… да я!
Удар в грудь, и Юозас вверх тормашками летит с обрыва. Вскоре падает и Альбинас. Руки крест-накрест, только ногами болтает и скулит.
— Еще скажи!.. — кричит Юозас. И на Альбинаса обрушиваются все ругательства, какие Юозас когда-либо слышал от своих двоюродных братьев. Весь род Даукинтисов бранится его устами. — Еще скажи хоть одно словечко, еще!.. — вопит он.
— Хватит, — удерживает его руку Римантас. — Говорю, тебе, хватит крови. Если я вмешаюсь, еще больше будет. Или, скажешь, мало всыпал своему зятю Казимерас?
Не сказав ни единого слова, Юозас уходит прочь.
Он уже перешел, было, брод, и шагал по лужайке, затопленной лунным сиянием, когда сзади услышал топот чьих-то ног.
— А ну-ка миритесь, — сказал Римантас. — Еще у вас будет время для ссор — не раз перегрызетесь.
— Прости, — пробормотал Альбинас.
Юозас попытался отмахнуться, но ребята вцепились ему в руки. Какое-то время так и шли — молча, понурив головы.
— Ладно… — Юозас выдернул руки. — Я тебе и на сей раз прощаю. Но мне жаль, что все время так… — и он пожал плечами.
— Думаешь, только тебе так, а мне нет? — разозлился Альбинас. — Но я не такой плохой, как ты думаешь. Поверь.
Я знаю, размышляет Юозас. Кто-то слепой, стоящий над нами, говорит нашими устами, это он все делает по-своему: то сближает нас, то снова разлучает, и порой я как бы вижу его злорадный оскал, слышу его смех. Но как часто этот смех вырывается из твоей глотки, Альбинас.
— Оба вы хороши, — говорит Римантас. — Вечно из-за чего-то цапаетесь, завидуете один другому.
— Может быть… — задумчиво тянет Юозас. — Нас должно было бы объединять то, что разделяет, но так не получается.
— Опять рассуждаешь, как апостол, — говорит Альбинас.
Знаю, думает Юозас. Ты на все наклеиваешь ярлычки. Но старая вражда…
— Ты, наверное, имеешь в виду нашу дружбу? — спрашивает Римантас.
— Нет, это не только дружба. Это что-то большее, это что-то такое, что должно остаться, даже если мы станем врагами.
— Он, должно быть, намекает на самоусовершенствование, — говорит Альбинас.
— И на это. Но твои слова не выражают и десятой доли того, что я хочу сказать. Нам еще не раз придется искать слова.
— Не будь пророком.
Они возвращаются по лужайке, залитой лунным сиянием. Римантас и Альбинас шагают по бокам, Юозас — посередке. Из-под ног выстреливают кузнечики. Заливается соловей. Подле ракиты, закатав штаны, друзья вброд переходят реку. И снова обрыв, мохнатая сосна и облака, повернутые ветром к югу. Сияет усеянный звездами небосвод.
— Может, искупаемся?
— Я — с охотой, — говорит Римантас.
— Разбежишься с этого утеса, и… — Юозас подается вперед.
Луне, видать, давно уже наскучили их позы — насмотрелась она со своих высей на них вдоволь. Смешные пацаны. Чего они хотят? Кто это сказал, что они лучше других, тех, которые были, и тех, которые будут? Кто им вдолбил в головы такую блажь? Видела она детей Эллады, видела детей на Конго, на многоводной Миссисипи, слышала сладострастный шепот влюбленных в оливковых рощах. Да нет, не на что ей тут смотреть, разве что… Но луну обволакивают тучи, невесть откуда налетает ветер, начинает хлестать дождь, сверкают молнии, перекрещиваются, ломаются тут же, у их ног, разлетаясь желтыми искрами.
Я и говорю, думает Юозас, не надо придавать слишком большого значения собственному мнению о себе. В самом деле, кто ты такой? Чем отличаешься от других? Разве ты не один из многих, не один из миллионов? И то, что ты изведаешь, уже миллионы раз испытали другие. Только в собственных глазах ты кажешься таким неповторимым, такой непреходящей ценностью. И для чего-то бережешь себя с таким чрезмерным тщанием. Мы обидчивые, плаксивые крикуны, готовые повсюду искать для себя выгоду, справедливость и смысл. И когда я думаю, какими миллионами единиц нас когда-нибудь будет подсчитывать история, то понимаю всю мелочность того, за что ты, Альбинас, так хватаешься, всю тщету этого вечного крика — «я, я». Все необузданное, все вожделенное, все непостижимое меня восхищает больше, нежели скудные плоды практицизма, нежели все то, что помечено чрезмерной осторожностью.
Мы не умеем ценить того, чем обладаем сейчас, того, что здесь, рядом с нами. Мы все делаем для чего-то более важного, более ценного, для того, что дает плоды не сейчас, а когда-нибудь. Это мы называем целью жизни. А ведь для каждого это слово имеет свой смысл, свое значение. Для многих оно означает ту пору, когда они что-то обретут, когда чего-нибудь добьются. Так мы и проходим мимо жизни. Мы сгибаемся под бременем перспектив и замыслов, мы все откладываем «на потом», на неопределенное время, даже свою жизнь откладываем. Кто мы без заслуг и без успехов? Ласковые, добренькие дети. Смотрим своими удивительно доверчивыми глазами и протягиваем свои аттестаты, характеристики, похвальные грамоты. Тот, у кого их нет, стоит, понурив голову, какой-то загнанный, заранее обреченный, словно ничего важнее этого на свете нет. Мы знаем, что там, куда мы бежим, ничего не найдем. Но все равно стремимся, спешим, рвемся. И некогда нам остановиться, и нет у нас времени, чтобы чем-нибудь полюбоваться. Мы падаем, встаем, и снова бегом, бегом. Я вижу уйму их — циников, ерников, кривляк, пересмешников, не знающих, за что ухватиться, все презирающих, хихикающих, потирающих от удовольствия руки; я вижу уйму людишек с крохотными хитрыми глазками, не в меру любопытных, выколачивающих у кого угодно признание, стремящихся во что бы то ни стало, кого-нибудь поводить за нос, извивающихся, словно бесенята на вертеле. Ах, что за хитрецы! Ах, как сверкают их глаза! Но чему они так радуются, отчего так пыжатся, над кем глумятся? Не над собственной ли тенью, которую они не сразу признали?
Вот какие мысли пронеслись в голове Юозаса, пока он слушал, как хлещет дождь. Дождь полосует дороги, дождь поит высохший суглинок, посевы, и люди, выйдя поутру в поля, увидят их темно-зелеными, увидят словно побитые градом растрепанные деревья и взъерошенные крыши изб.
— Юозас, эй, Юозас!.. — кричит из-за своего соснового укрытия Альбинас.
Юозас и не заметил, как промок до нитки.
— Иди сюда, чего стоишь под дождем, о чем думаешь?
— Гляжу в будущее, — улыбается Юозас.
— Ну и какое оно, это будущее?
— Немножко не такое, как ты себе представляешь.
— И что — я там хожу в отрицательных персонажах?
— Увы…
Загрохотал гром, еще сильнее зарядил ливень.
— Знаешь, а ведь Нийоле к тебе неравнодушна, — после некоторой паузы говорит Альбинас.
— Не до нее мне!
— А ты не отнекивайся.
— А разве я отнекиваюсь?
— Конечно. Ты всё на попятный да на попятный. Все видят, как ты ее глазами ешь. Но и она — чуть что, сразу же — Юозас да Юозас. Пусть Юозас сделает, Юозас принесет. Нравится ей твое имя склонять. Все о тебе с подружками шепчется.
У Юозаса от таких слов голова кругом идет. Римантас прыскает.
— Ты чего смеешься? — спрашивает Юозас.
— Вспомнил рассказ Альбинаса, как ты какой-то ящик тащил: напрягся весь, красный как рак. Альбинас еще сказал: «Это он так для Нийоле старается. Хочет показать свою силу».
— Он только других видит. В других свои странности замечает.
Дождь уже прошел. В лунном свете сияют мокрые деревья. На востоке еще полыхают молнии, однако улетающее облако все больше и больше оголяет небо. В свете зари оно сияет, как изумруд. Гроза теперь гремит над Сантакос. Вскоре мутные ручьи забурлят в Дельте.
Светлым выдастся утро занимающегося дня, если девчонка по имени Нийоле позовет его, да и он, Юозас, сумеет заговорить с ней голосом, какой порой звучит у него внутри; если позовет — Юозас… как ты живешь, расскажи; если о чем-нибудь его попросит, если глянет ласково, как бы приглашая, если будет готова оправдать его, понять, если… Но самому Юозасу кажется так: ей подавай идеального парня, балагура, острослова, такого, который всех девушек притягивает как магнит, а если ты не такой, если слово не такое скажешь, не так посмотришь, она только поведет плечиком, фыркнет и уже на Донатаса заглядывается. Юозасу этого вполне достаточно: презрение, пренебрежение вечно искрятся в глазах мачехи, она, может, только и ждет его очередной неудачи, провала, может… да мало ли у Юозаса всяких «может». Ничем Нийоле своей доброты не выказала, взгляд у нее острый, пронзительный, смотрит всегда с прищуром…
Какая же она, эта дева лугов, туманов, мглистых чащ? Бодрящая душу, как видения, навеянные звуками удаляющейся гармошки на вечеринках. Эти звуки наплывали откуда-то из-за леса — порой они возникали перед грозой или ливнем, когда ветер на холмистом проселке поднимал клубы пыли, которые уносились вместе с мелодией, звучавшей там, где трепыхались платьица и чернели широкие клеши штанов. Взлелеянная долгими закатами, скиталица лунных ночей, безымянная дева, безродная, напрочь лишенная запаха домашнего очага…
Эх, подвести бы ее к окну, показать бы ей неохватные стволы кленов, позолоченные солнцем, которое катится по холмам, провести бы по узкой тропке, то исчезающей в низине, то снова выныривающей наверх, это по ней ходил он в школу. Дорожные вехи, отмеченные замшелыми полевыми валунами, одинокими деревьями и оврагами. Порой возле толстой сосны он слышал, как в школьном дворе тренькает звонок, видел, как мчатся в свои классы ученики. И всегда издали он чувствовал взгляд Нийоле. «Я и в самом деле видела, что ты идешь», — о, если бы она так сказала!
Но случилось так, что в ту пору, на безоблачной заре жизни, лицо его закрыли унылые тени, и не было здесь ни запретного сада, ни соблазняющей Еву змеи, ни подлинных плодов познания. На долгие годы Юозас вынесет отсюда терпкую горечь поражения, ибо всё виденное им здесь, на родине, было слишком далеко от того, что могло вселить в него уверенность, а уж о чувстве превосходства и говорить-то нечего. Здесь уже вошло в привычку гнуть спину, отводить в сторону глаза, хвастливо и бесплодно разглагольствовать. И любовь здесь была такая же: съежившаяся, боящаяся постороннего взгляда. Он слонялся, не находя себе места, у него были тысячи обязанностей и обязательств, за ним числилась уйма долгов, но кто ему вернет долг юности? То, чем он должен был бы гордиться, гнуло его к земле. Он влачил свою юность, как ярмо. Она просыпалась посреди ночи, он тягался с ней, но, поверженный, падал наземь. Нет, Давид не одолел Голиафа, и тот, кто должен был стоять с гордо поднятой головой, бесстрашно принимать каждый вызов, склонял голову, приседал, как верблюд, чтобы на него взвалили еще большую ношу.
О многом пришлось им услышать за низкими школьными партами, но до крайности мало о том, чем они жили, что было для них важнее всего. Разве Эрот перестал метать в них свои стрелы, разве Афродита уже больше не выходила из пены волн, не блеял дряхлый Пан и женщины счастливыми глазами больше не провожали влюбленных? Почему здесь то и дело появлялись черные демоны и, не заклятые никем, не заговоренные, усаживались у великого жертвенника, словно званые гости? Или, может, мы называем их не теми именами, может, слишком ничтожны эти сдобренные изрядной порцией физиологии слова, которые мы знаем, — как бы в издевку стены сортиров испещрены совершенно другими? Во что превращается любовь, которая вещает ехидными устами кокетливой старой девы? Во что она превращается, когда ее имя мусолит своим писклявым голосом Великая Педагогша, бесчувственный педант или грозный директор, который то и дело стучит кулачищем об стол? Любовь — эта страшная, эта благословенная, эта страдающая богиня — глядела на них, обиженно нахмурив брови, в уголках ее губ играли гнев и отвращение. Она карает тех, кто не умеет склоняться перед ней и отдавать ей достойную дань уважения. Кто знает, может, она плутает в поисках своих старых жертвенников. Почему так много ее заменителей и так мало того, что насыщает любовный голод?
В это свежее, прохладное утро Юозас, словно заново родившись, пройдет по пустым коридорам, спустится по пахнущей мочалом узкой лестнице в полуподвал, войдет в учительскую, заглянет в спортзал…
Вещи — книги, тетради, старые учебники, дневники и журналы — полные тайного трепета, лежат в пыли. Никому не нужны снаряды и мячи в спортзале, перекладина, штанга, потрепанные карты… Глобус, по которому скользил он указкой в поисках Андов, Апеннин, Кольского полуострова, теплого течения Гольфстрим или притока, теряющегося в джунглях… Антарктический океан, юрты чукчей, занесенные угольной пылью Уральские горы, закопченные трубы заводов, тундра… Кто знает, может, беспокойство, томление духа когда-нибудь забросит его в эти края. Уже тогда на карте были и живые острова, и унылые зоны одиночества… Все кончилось. Бледный мальчик с полными печали глазами больше не подойдет к карте, он больше не будет крутиться возле жестяного бачка с водой и, отогнав кружкой льдинки, не зачерпнет живительной влаги, а старая сторожиха, вяжущая что-то на зимнем солнцепеке, совсем не удивится и не спросит, почему он пьет воду с такой жадностью, как будто кто-то навсегда запретил ему ее пить.
…Стряхивая с веток иней, прыгает синица, сияют снежные просторы, позвякивает колокольчик. Чей-то голос все время понукает: «Живей, живей! Идите. И вы, и вы». Засыпанные снегом, они вваливаются в коридор, устремляются в классы. Юозас ставит на подоконник кружку, выходит во двор, с минуту стоит, прищурившись, смотрит на освещенное солнцем снежное раздолье. Потом, увязая по пояс в сугробах, бредет по полям. За спиной двоюродного брата Альгимантаса болтается сколоченный из фанеры ранец, в нем краски. Там, в долине, клубится дым. Он вьется над сосновыми рощами и холмами. Может, кто-то варит обед, может, празднует дожинки, может, кто-то заколол свинью. Юозас войдет в избу, скинет пальтишко, вытрет край стола, положит краски и начнет рисовать, тщательно выводя нежные, округлые линии, подбирая цвета посветлей, близкие ему по духу тона и полутона, но не пройдет и пяти минут, как он вздрогнет от окрика мачехи, может, она еще влепит ему мокрой тряпкой по голове, а может, голос выпившего отца отвлечет его от бумаги, и если Юзукас не перестанет рисовать, то линии будут делаться все более ломаными и судорожными: забьется куда-нибудь в угол и будет изображать ели, зубчатые леса на горизонте… Он будет рисовать до тех пор, пока его снова не облают, не выгонят, и, если ему удастся незамеченным шмыгнуть в ригу, взять лыжи, то он будет кататься до заката, и перед ним откроются снежные поля и холмы. Он будет кататься, до поздней ночи.
«…А теперь отвечать будет… — слышится визгливый голос учительницы химии (уже по тому, как она произносит слова, ясно, кого она вызовет), — Юозас». Черт бы побрал, думает он, нехотя вставая из-за парты.
Вот он, толстяк из Тараскона: в стоптанных, запыленных башмаках, в пиджаке, трещащем по всем швам, столько отмахавший по равнинам Лотарингии, протискивается между партами, берет мел…
…А там, на стадионе, гремело: «Молодец! Ура!» Он стоял на пьедестале, высоко подняв завоеванный кубок.
…Стоя под покосившейся баскетбольной корзиной, куда пятиклассники без устали бросали мяч, еще не отдышавшись после успешного забега, Юозас смотрел, как Нийоле прыгает в длину. Словно в снятом замедленной съемкой кинокадре, во все стороны брызнули опилки, и на осеннем ветру долго развевались ее волосы. В бликах солнца он видел ее улыбающееся лицо. Она тотчас отыскала его взглядом, а может, ему так показалось… Только ногу поцарапала баскеткой… Так почему же ты тогда не подошел к ней, ах, Юозас, Юозапас. Не подошел ты к ней и на танцах, когда они кончились, тогда, когда она стояла и чего-то ждала в душных сумерках в школьном дворе.
Вот и снова ты ее видишь. Она подсказывает тебе, выпятив губки, как для поцелуя. Но ты еще не можешь прийти в себя от солнца Лотарингии. Ты смотришь ей в рот, и все, что ты слышишь, это только отдельные нечленораздельные слоги и шепот.
«Ну… ну, — барабанит по столу учительница. — Отвечай на вопрос, ты что, не слышишь?»
Он смотрит на узкие плечи химички: черное платьице с декольте, гусиная, в родинках, кожа. Учительница высокомерно выводит крохотную двойку. Экономное движение руки, длинный вьющийся шлейф подписи…
У этой дамы полно всяких прихотей. Здесь, в захолустье, ей делать нечего. Полюбовавшись немного своим почерком, она галантным жестом возвращает Юозасу дневник. Класс заполняют белесые сумерки Парижа XIX столетия. Мопассан, Верлен, Гюго… Нищие художники с мольбертами. На теплых каменных ступенях, где догорают последние отблески заката, шепчутся влюбленные… Под старыми арками мостов течет Сена…
Крутится, крутится старая пластинка. Приглушенный треск и шум. Но порой все заслоняет печальная виолончель или скрипка… Какие эти парижанки изящные, элегантные! Разве я не одна из них? Но здесь ее называют старой девой… Эти здешние крестьяне такие вульгарные, такие мужланы… «В кого она влюблена, как ты думаешь?» — «Наверное, в Мопассана…» — «Фея одиноких аллей… Она никогда не жила в нашей деревне…» — «А кто в ней живет? Кто в наше время в ней живет? Время, как река, проплывает мимо, оставляя нас в полной растерянности». — «Ты слишком склонен к философствованию…» — «А ты что, не слышал, как говорит Константас?..» — «Ты собиратель парадоксов».
Раздается звонок, и химичка встает со стула. Сложив сердечком накрашенные губы, она сует под мышку сумочку и, что-то беззвучно напевая, направляется к дверям — такое впечатление, будто она спешит на свидание, будто сверкающий паркет скрипит под ее туфельками. Но вдруг она отскакивает как ошпаренная — сумочка падает наземь, катится по полу помада… — на сей раз химичку чуть не сбивает с ног учитель истории Вайтасюс. Он крутится возле нее, пытаясь помочь. Сгорбленный, неуклюжий, в поношенной, испачканной мелом жилетке, с золотым брелоком…
Раскладывая на столике книги, он все еще что-то бубнит себе под нос и смотрит поверх очков в роговой оправе то на Юозаса, то на Альбинаса, то на Римантаса. Проказники. Только нервы портят.
Целыми днями Вайтасюс возится возле хлева. Дом его стоит подле моста, в долине, среди кустов. Учитель истории ставит загородки, возит на тачке навоз, распугивая кудахчущих наседок, подвязывает стебли помидоров или ветки яблонь, а за ним по пятам вечно следует ватага оборванцев — детей Савицкаса, с которыми его сынок не желает знаться.
В зной, в самую страду, кажется, что на окраине местечка скопилась вся пылища с узких улочек и что сюда хлынула вся жара. Пыль обычно поднимают проезжающие мимо машины и подводы. Осенью на покрытый пылью сад Вайтасюса обрушиваются полчища скворцов — он не успевает их отгонять, зимой с деревьев, растущих вокруг костела, слетаются вороны — в саду учителя всегда шум, птичий щебет и детский гам.
Порой в глазах Вайтасюса нет-нет да и сверкнут искорки подозрительности или обиды, словно кто-то обидел его недобрым словом. Голос у него слащавый, медоточивый, но стоит кому-нибудь из учеников провиниться, как Вайтасюс бросается к нему с такой поспешностью, словно собирается линейкой ударить по рукам. Раньше дети были послушнее, внимательнее, встретив учителя, всегда здоровались, стянув с головы шапку, а теперь влетают в дверь — только успевай увертываться.
У Вайтасюса болезненная, тучная жена, которая всегда провожает его до калитки, укутывает шарфом, застегивает пуговицы на пиджаке.
Странная страсть сжигала этого старого человека. Он обожал старину, древность, порой на уроках цитировал Платона, Демокрита или Лукреция, чьи бюсты глазели на него из всех уголков дома. Частенько он упрекал детей, что они не любят ближнего, что непорядочны — и эти слова звучали для них, словно какие-то древности, от них веяло чем-то заплесневелым, едким, душным, ученики сами не знали почему, то ли оттого, что голос у учителя такой слащавый, то ли оттого, что жизнь его пошла наперекосяк из-за хворой жены, женщины с увеличившимся от чрезмерной полноты сердцем.
Однако старый учитель весь преображался, как только заговаривал о великих исторических подвигах, как только с его уст слетали имена славных полководцев или завоевателей. Вены на шее набухали, лицо становилось багровым. В далеком, оторванном от его собственной жизни историческом времени Вайтасюса привлекали совершенно иные человеческие качества, чем те, которые он ставил в пример своим ученикам. Полки завоевателей налетали, как ураган, как огненный смерч, сея погибель и стоны. Путь их обычно был устлан костьми. Черным, моровым облаком обрушивались на континенты монголы с именем Чингис-Хана на устах… Свирепствовали финикийцы, гунны, турки-сельджуки. Одни цивилизации приходили на смену другим. Где-нибудь да возникала какая-нибудь мощная держава, войско которой опустошало и разоряло другие страны. На какие только муки не был обречен человек! Его жгли на кострах инквизиции, ему вливали в глотку серную кислоту или расплавленный металл, замуровывали заживо, нанизывали на вертела, выкручивали руки, выжигали глаза, вырезали языки. Что-то чудовищное, леденящее кровь надвигалось на детей, и они не знали, что говорить и что делать. Только спрашивали: что же значит их жизнь в этом необозримом пространстве и времени, полном ужаса и нескончаемых перемен. Кто они такие, что им делать?
О! Каким беспомощным было твое слово, старый учитель, хотя ты и рассказывал о самоотречении и подвигах (какой-то голландский мальчик спас свои родные Нидерланды от наводнения), о любви и замечательных деяниях — чаще всего их совершали старые и хилые люди, калеки и дети… Но в твоем голосе, учитель, слышались и цокот копыт, сеющих смерть, и звон копий и мечей… Как о каком-то своем приятеле или знакомом рассказывал ты о маленьком корсиканце, подчеркивая странности его характера, — их все, особенно Юозас, хорошенько запомнили, эти странности, словно побуждали к чему-то или роднили с какой-то тайной.
Вокруг них шла мирная и тихая жизнь. Каждый вечер по пыльной улице местечка пастухи гнали скотину, в небе зажигались звезды, с пригорков, засеянных клевером или люцерной, дул теплый ветерок, где-то поблизости печалилась гармошка и вспарывала тишину нестройная пьяная песня. Снедаемые смутной тревогой, мальчики уходили в луга, слушали, как шелестит ветер в ветках деревьев, глядели на месяц, сиявший над мглистыми лесами на востоке — а порой его рог мерцал тут же, над крышей отчей избы — и ты спрашивал себя: неужели все это исчезнет? И тебя захлестывала радость, что все это есть: и это низкое, теплое, пропахшее лугами и пашней небо, и эти реки, и эти озера, и этот большак, убегающий куда-то, к самому закату… И ты говорил себе: если кому-нибудь вздумается погасить и стряхнуть с купола эти звезды, мы поднимем их еще выше, ведь их судьба хоть немножечко, хоть капельку зависит и от нас. У нас должно быть что-то свое, ибо кто мы в безграничном пространстве и времени без крыши над головой, без низкого плывущего месяца, без дат в нашей истории, без любви, без имени, без ничего? Нескоро мы привыкнем к другому небу с более высоким куполом, но более редкими созвездиями, к душному полумраку улиц, исполосованному не тихо гаснущими молниями, а неоновыми лампами. Пока что у нас такое небо: низкое, теплое, пропитанное запахами лугов и перелесков, тумана и пашен… Оно на веки вечные останется в нашей памяти, ибо это запах нашей земли, земли, в которую мы впились, как клещи.
Вон там, показывал на обрыв над Балтойи учитель истории Вайтасюс, в незапамятные времена были могильники. (Загорая на солнце, детвора там частенько находила человеческие кости.) Но где только этих могил не было, попадались они и в дубовой рощице, возле баньки Константаса, и даже у большака. Это старые, очень старые могильники, говорит учитель. А там стоял за́мок, а там — гора Висельников… В этом каменном здании школы, где они учатся, — а построили его в середине XVIII века, — когда-то находился административный центр поместья. Во время первой мировой войны немецкие солдаты держали здесь лошадей.
По извилистой местечковой мостовой цокают копыта, во дворах слышно: «Fleisch, Butter, Milch!»
Но мысли Вайтасюса витают уже в другом месте. «Грюнвальд, — говорит он, широко растягивая губы. — Зеленый лес, Зеленый бор». Потом он что-то произносит по-гречески и по-латыни. Но ученики его не слушают: перед ними простирается бескрайний раздольный лес, где шумят тысячелетние дубы и плывут резвые тени белых облаков, ржавеют мечи и шлемы, развеваются разодранные знамена, и в просветах туч проступает свет, яркий, ослепительный. Весь горизонт утыкан огненными столпами — они кажутся громадными стрелами. Ветер треплет взъерошенную траву, поблескивающую острыми краями, залепляет глаза песком… Грозно шумит Зеленый бор, ему вторят дубы-исполины… О, мгновения, застывшие в веках, мгновения на пустом циферблате меридиана! Только уйми сердцебиение, и ты услышишь бег времени, увидишь, как в его свете дотлевают камни…
Вайтасюс складывает очки в футляр, вытирает испачканный мелом рукав, упирается обеими руками в стол, впивается глазами в учебник, но не скоро он найдет нужное место. В мертвой тишине шелестят страницы. Наконец кто-то отваживается, громко вздыхает, хотя и никак не может взять в толк, что тут стряслось, почему в классе воцарилась такая многозначительная тишина.
Здесь, среди этих протертых парт, у этой исцарапанной доски, под звуки тех же, набивших оскомину слов, пробежала чуть ли не вся жизнь Вайтасюса. Менялись только лица. Каждый год первого сентября мальчики и девочки после звонка вваливались в класс и ждали, когда с ними заговорит старый учитель. Но ждать они должны были все дольше и дольше. Расхаживая между партами, Вайтасюс заглядывал в учебники, в пустые тетради, косился на руки учеников. Он когда-то учил их родителей, старших братьев и сестер. Где они все теперь? Снова пришли новички. По сходству он угадывал их фамилии…
Пробегало несколько лет, они разлетались, как птицы, унося в клювах крошки знаний. Как скворушки, еще некоторое время кружились над садами, но корма находили все меньше и меньше. И наконец улетали в другие края. «Но птицы возвращаются, — говаривал старый учитель, глядя на сентябрьские поля. — Вернетесь и вы. Я знаю, рано или поздно вы сюда вернетесь…»
Противоположности не умещались в голове у Юозаса. Уж если добро — так добро, в чистом виде, без примеси. «Ну, а если зло…» — пускался он в рассуждения, словно принимал вызов, и вдыхал всей грудью воздух. «Не будь таким моралистом», — перебивал его Альбинас. — «Это я-то моралист? Ты что мелешь? — отзывался Юозас. — Только от тебя и слышу: будь — не будь. Ты, наверное, хотел бы, чтобы меня совсем не было? Увы, это не от тебя зависит…» — «Хо… хо!» — хохотал Римантас.
Сделав вступление с тартюфовскими реверансами (тартюфовские реверансы — слова Альбинаса; много таких его выражений было в их лексиконе), Юозас принимался рассуждать, все больше обрушиваясь на своего противника. «По-твоему получается так: решил, подумал, сделал. Как все легко и просто! Решил влюбиться — влюбился, ищу предмет любви… Разум выше всего. Но как часто он оказывается в плачевной роли служанки! Его можно сравнить с вконец растерявшимся гражданином, который размахивает руками, не зная, как оправдаться, как объяснить то, что случилось». — «Слыхали, Юозас. Все, о чем ты говоришь, мы уже слыхали», — перебивает Альбинас. Потом, как бы прося прощения, спрашивает: «Ну что толку в этих твоих рассуждениях?» — «Ты всю вину хочешь свалить на бедного индивидуума, а плечи его куда слабее, чем тебе кажется. Ты слишком многого требуешь от человека — ты не способен ни к состраданию, ни к любви. Согласись, какая-то часть нашего существа всегда говорит: хочу, желаю — и ведёт себя соответственно, а разуму остается только паниковать, хоть он и строит из себя господа бога. Он бесплотный, невесомый, он — чистое знание, но чем же он смотрит на мир, чем говорит и думает, если не нашими глазами, нашими устами, нашими мозгами, нашими желаниями?»
Альбинас с досадой отмахивается, и этот его жест больно ранит Юозаса. «Ну да, — выпаливает он. — Все что говорят другие, тебе не важно, а то, что вещаешь ты, — все должны слушать навострив уши» (это опять же выражение Альбинаса).
Юозас замолкает, ему почему-то вспомнилась Марите. Она — воплощение принципиальности, обижается из-за любого слова… Очень внимательно слушает, когда Юозас задает учителю какой-нибудь вопрос или ввязывается в спор. Марите всегда на его стороне и… наверное, немножко влюблена в него. Такая мысль приходит Юозасу в голову впервые. А Альбинас… Марите давно ему приглянулась. Он ревнует… Вот оно что! Но они уже не умеют замечать простых человеческих отношений.
Воцаряется тишина. Слышно, как вдали, над лесом, за Сантакос хлещет дождь и журчат, стекая с холмов, мутные ручьи. Уже, видно, забрезжило: небосвод на востоке чист и безоблачен, однако молнии еще посверкивают. Над ложбинами и оврагами клубится пар.
Там, где чужой взгляд обычно скользил по поверхности, Юозас находил обильную пищу для ума. Он зачастую сталкивался с такими вещами, о которых не скажешь ни да, ни нет. Единственное, что оставалось, — это пожимать плечами. Жажда удивления, стремление встретить что-то из рук вон выходящее, парадоксальное то и дело опережали другие его желания. Порой он вскакивал с парты как ужаленный, еще не в силах сообразить, что скажет, но, охваченный желанием кого-то ошеломить, положить на лопатки. Ему очень хотелось нравиться. Не столько волновало его то, куда летит посланный им мяч, сколько то, умело ли его поймали. Поверхностные, внешние явления были порой важнее для него, чем результат и сущность. За это он себя искренне презирал.
Слова тоже всегда обгоняли его мысль. Сказав однажды «почему?», он упорно искал ответа. Обожал патетические восклицания, которые требовали таких же высокопарных ответов. Не найдя их, считал себя невеждой. Чувствовал, что подлинная мудрость рождается в беспечной болтовне. Разлюбил поэзию: ложь. Кого больше всего занимает истина, тот не станет думать, как прозвучит его фраза, какое она произведет впечатление. А тут еще рифма, ритм… Как они стесняют и коверкают мысль! Все это только поза, наигранность. В нем вдруг проснулся божок позитивизма, старательный, скрупулезный, все сортирующий, сравнивающий, нестерпимо алчущий конкретности. Юозас ловил себя на том, что, оставшись один, разговаривает сам с собой и думает совершенно иначе, чем, скажем, в компании с друзьями: в одиночестве его мысль не нуждается ни в каком украшательстве. Тогда он по-другому себя спрашивает, спрашивает о том, чего и впрямь не знает, что ему позарез необходимо. Порой он приходил в полное согласие с самим собой. В беззаботном лепете ребенка он усматривал удивительную мудрость. Ребенок спрашивает, движимый подлинным незнанием, удивлением, напрягая весь свой умишко. И совершенно по-другому задают вопросы признанные авторитеты. Они спрашивают, заранее перестраховавшись. Авторитетно. Иногда они даже не удосуживаются спрашивать, только отвечают. Такова их профессия, призвание, это многое обуславливает в их мышлении. Странно, но точно так же спрашиваем и мы, говаривал он. Спрашиваем, движимые не незнанием, а по необходимости. Спрашиваем, равняясь на своих кумиров, на авторитеты, подражая им, спрашиваем не о том, что для нас действительно важно.
Посторонние взгляды его смущали. Один, мучаясь в тишине, задыхаясь от неуверенности, он спрашивает… нет, не спрашивает, а с кем-то тихо, смирено, почти молитвенно беседует. Он радуется, когда ему удается получить такой ответ, который возвращается, как эхо — как аукнулось, так и откликнулось, — ответ, от которого все вокруг светлеет, который предназначен только тебе, является твоим достоянием, который хоть на миг, хоть на минутку приближает тебя к чему-то истинному, великому, делает тебя немножко сильнее и благороднее, дарит утешение и обнадеживает. Такой ответ порой — словно безмолвная ласка, любовь, смутное обещание… Вот чем веет от таких ответов, и, кто знает, знакомо ли тому, кто спрашивает на виду у всех, спрашивает у другого, знакомы ли ему такие мгновения; знакомы ли они болтунам, любителям поточить лясы, поспорить, сорить остротами и каламбурами; они ни о чем не спрашивают, у них одно желание — озадачивать и удивлять. В таком мышлении нет места для разочарования, для любви, для вины, нет в нем настоящего желания узнать о своих заблуждениях, о своей жизни, о том, где черпать силы, о том, кто ты и чего хочешь.
Истинные ответы избегают огласки, мирской суеты, ждут, пока созреют. И их легко высмеять, они хрупки и доверчивы. А порой просто глупы, наивны и странны. Кто их не ищет, тот не ищет и человека, тому и любви не надо, он не верит в нее, ибо такие мысли не что иное, как узенькие тропки к чужой душе.
Эти мысли не любят постороннего взгляда, комментариев. Они предназначены не для борьбы, не для вражды, а для любви. В них сокрыта тоска по чему-то совершенному, они — плоды идеального и потому так медленно созревают. Чаще всего их срывают зелеными, надкусывают и выбрасывают, конечно, не всем они нужны, близки, понятны, в них — дуновение иной жизни. Антагонисты этого не понимают. Такие плоды произрастают на всех обочинах, и никому не приходит в голову огораживать их высокими плетнями и частоколами, никто за ними не присматривает и их не сторожит. И острых шипов, которыми они могли бы защищаться, у них нет. Такими вот надкусанными, неспелыми плодами усеяны все обочины нашего познания.
Частенько в голове Юозаса возникает такая картина: поодаль от большака растет старое иссохшее дерево с еще зеленой густой кроной. Под ним сидит оборванный старик. Руки у него сухие, как сучья саксаула, лицо загорелое, он не может оторвать глаз от большака, петляющего по сумрачной равнине. Откуда он взялся, этот старик?.. Может, он с берегов древнего Инда, Нила, может, из Эллады? Ветер перебирает пожелтевшие страницы книги — она лежит у старика на коленях. Он сидит под деревом и по-прежнему смотрит туда, куда двигаются стайки людей. Вдали видны городские башни. Уже вечер, всем пора домой, прохожие спешат с семьями, с детьми. Порой какой-нибудь сорванец остановится и стоит возле старика, сунув грязный палец в рот. Может шалуну хочется дернуть старика за бороду или потрогать его книгу, страницы которой треплет теплый ветер. Глаза старого мудреца пусты, и нет в них ни задумчивости, ни надежды, только рукой он нет-нет да и прикоснется безотчетно к книге. Будто желая о чем-то вспомнить, он смотрит на дорогу. Глаза его страдальчески закрыты…
— Что ты хочешь этим сказать? — наседает на Юозаса Альбинас.
— Да я и сам не знаю. Может то, что старое наследие нам не нужно, но ведь и наши новейшие знания страдают приблизительностью, поверхностью, они бессистемны, лишены глубоких корней, слишком универсальны…
— Ей-богу, ты родился пророком.
Юозас ненадолго замолкает.
— Мы часто задаемся вопросом, что значит то или иное явление само по себе, вне связи с нами. Что такое — мой сын как таковой, если его рассматривать объективно? — спросил один философ и вздрогнул, услышав в ответ, что его сын как таковой — ничто. Один из многих. Такой же не имеющий значения, как и все остальные, такой же посторонний, мимо которого можно равнодушно пройти, в которого легко можно направить дуло винтовки. Если рассматривать объективно, сына у него нет. Вот что такое его сын как таковой.
— Ты этот рассказец сам придумал? — серьезнеет вдруг Альбинас.
Это было одно из редких мгновений, когда появлялся другой Альбинас, тихий, не спрятавшийся за щит едких насмешек; Альбинас, который все понимал, чувствовал, видел, которому Юозас доверял самые сокровенные свои мысли. Только он почему-то притворялся, что не понимает Юозаса, не слышит его.
— Послушай, почему ты так хочешь, чтобы я все время с тобой соглашался, кричишь, поучаешь? — спросил Альбинас.
Юозас пожал плечами.
— Ты как ребенок, которому страшно одному в темноте. Пути-то у тебя своего нет.
— Только пути? — спросил Юозас.
Альбинас молчал. Он смотрел в небо, по которому плыли изодранные грозой в клочья облака. Налетевший ветер гнул деревья, и с них опадала роса. Над ложбинами и оврагами по-прежнему клубился пар. Вот наша родина, наш дом, проговорил Юозас. Для обоих он один и тот же, и все-таки разный. Как бы мы ни спорили, ни препирались, к общему мнению мы никогда с ним не придем — что-то такое, чего мы никогда в себе не осилим, разделяет нас…
Позже Юозас частенько будет гадать, почему так случилось, что они, прекрасно друг друга понимая, были такими недружелюбными, такими колючими. Что таилось в натуре Альбинаса? Какая сила тянула его в сторону от того, чем Юозас так дорожил? С чем Юозас так остервенело боролся, в чем пытался его переубедить, что хотел отринуть в ту душную грозовую ночь, когда он в свете молнии видел двери своей избы и каменные ступени крылечка? Не свела ли его судьба, не столкнула ли с теми призраками, которые встали поперек дороги их родителям?
От той ночи на долгие годы в его памяти останется окаменевшее лицо друга, выражающее холодную иронию, недоверие, неодобрение, просто-напросто враждебность — лицо Альбинаса будет постоянно преследовать его. Здесь, близ родного дома, в двух шагах от тонущих в дымке предрассветных долин, когда так ярко сияли звезды, и начались годы великих утрат, тут был обозначен тот предел, который ни Юозас, ни Альбинас никогда не смогут преодолеть.
Дружеская улыбка, озарившая на минуту лицо Альбинаса, погасла. Губы снова исказила усмешка.
— Я никак не пойму, почему ты из-за таких вещей голову себе морочишь. Ведь это же сущие пустяки.
— Разве? — и Юозас снова готов драться.
Их споры и впрямь походили на драки. Они спорили из-за любой мелочи. Если кому-нибудь из них хоть на минуту удавалось взять верх и взобраться на невидимый пьедестал, другой старался тотчас же низвергнуть его оттуда. Первенствовал Альбинас, готовый во что бы то ни стало отстоять свой трон. Юозаса же он называл не иначе, как фаталистом.
— А ты кто такой? — кричал тот. — Все высматриваешь, все оглядываешься на внешние обстоятельства, вынюхиваешь, хочешь примазаться. Вот где фатализм. Человек — игрушка обстоятельств, ни во что он не верит, ничего не способен создать. Приспосабливается к существующему. Присматривается, изучает, принюхивается, и ему еще кажется, что он — мудрейший из мудрейших, он даже гордится этим. Да и как не гордиться — ведь он такой разумный, такой расчетливый, прозорливый, а на самом деле — обыкновенный трус. Да, да, трус! Ничего я не вижу в такой жизни хорошего, — частил Юозас, чуть ли не задыхаясь. «Ну и что?» — насмешливо отрубал Альбинас, принимая и оправдывая то, чему Юозас никак не мог найти оправдания. На Даукинтиса вдруг накатывало острое чувство одиночества: если даже самый близкий друг Альбинас так его не понимает, кто же его поймет, кто же узнает, почему он поступает так, а не иначе. В такие минуты он переходил на торжественный, властный, порой даже наглый тон — и ему нравилось так говорить. Альбинас как-то украдкой косился на своего распалившегося друга.
— Боюсь, как бы ты глупостей не натворил, — говорил он, словно демонстрируя Юозаса кому-то постороннему.
— Если хочешь знать, все на свете — глупость.
— Ну уж с этим ты, брат, поосторожней, от этого нигилизмом разит.
— Нет, ты неисправим. Ты просто не можешь без ярлыков.
— А ты что, их боишься?
— Противно! Ты разговариваешь так, как будто только что получил от кого-то указания… Ты со мной неискренен.
А порой Юозас удивительно ясно ощущал, что Альбинас посягает на что-то жизненно важное для него.
— Ты что все время мне разжевываешь? Чего ты хочешь? Прилип, как… — оборачивался Альбинас.
— …как совесть.
— В самом деле. — В голосе Альбинаса звучит нотка, заимствованная у Юозаса, но он тут же спохватывается: — Ха-ха… — хохочет он. — Слышали, он — моя совесть! Хорошо, Юозас, будь моей совестью. То-то будет у тебя работы! Только знай: такие, как ты, плетутся в хвосте. Моралисты! Им ничего не суждено создать.
— А таким, как ты… суждено только разрушать.
— Но такие, как я остаются.
— Еще посмотрим, кто останется.
— Ловко ты увернулся.
— Ты хочешь поднять целину. Но ждешь, когда это сделает кто-то другой. Пахать почему-то никто не хочет. Дураков нет.
— Просветитель из девятнадцатого века!
— Не понимаю, что тут смешного.
Они были антиподами. Юозаса отличали бескорыстие, готовность пожертвовать собой ради какого-нибудь дела, но, к его ужасу, в свойственной ему скромности таилось желание выделиться. Он просто не знал, куда спрятаться от самого себя. Кто-то внушил ему мысль, что он такой же, как и все. Однако он ясно видел, что все, что бы он ни делал, о чем бы ни думал, ни говорил, он делает из самолюбия, порой из эгоистических соображений. Коварная гидра во все стороны протягивала свои щупальца, обрызгивая все вокруг своей ядовитой слюной. Но кем бы он был, как бы он жил, если бы обрубили все его конечности? Не над этими ли его усилиями посмеивался Альбинас?
— Надо каким-то образом оправдать и эгоизм, — произнес Юозас таким тоном, словно говорил сам с собой.
— Эгоизм и есть эгоизм, ничем его нельзя оправдать, — упорствовал Альбинас.
— Может, тут больше подошло бы другое определение, потому что и ты, и я, да и многие такие, как мы, научились называть все именами, за которыми уже и сути-то не видно. Так обстоит дело и с эгоизмом. Вечная битва, вечные мишени: бюрократизм, мещанство, снобизм, карьеризм… Бактерии зла, возможно, заводятся в самой оболочке слов… В таком вот обесчеловеченном образе мыслей… Выходит мещанин из подворотни своего дома и, желая отвлечь от себя внимание, кричит: «Туда смотрите, туда!» Он не на себя показывает — на других. Другой, мол, не я. Никто и не знает, за кем пускаться вдогонку. То там, то сям мелькнет вдруг зло в таком карикатурном виде, такое съежившееся, серое, гадкое, что остается только прыснуть и отвернуться…
— Эх, Юозас!.. С каких бы высот ты не изрекал свои истины, мне остается только развести руками: эх, ты! Прикидываешься скромником, а так хочешь, чтобы тебя оценили, хочешь и вместе с тем отмахиваешься от этой оценки, ярлычок, говоришь, эх ты. Лучше бы ты во всю мощь свистнул в четыре пальца, как только ты один и умеешь…
Оба начинают дружно хохотать, и задумчивый юноша с сосредоточенным лицом, выходец из их среды, пускается в полный неизвестности путь.
«Понял ты наконец, что тут странного? — словно вопрошал мудрый и неусыпный взгляд Альбинаса, устремленный на Юозаса. — Ты хоть знаешь, почему я над тобой все время посмеиваюсь?»
В самом деле. Задумчивый юноша с горящими глазами, чего ты хотел от другого, от своего товарища, втиснутого в пиджачок, сшитый на вырост, большерукого, со сбитыми костяшками пальцев, с тревожно стучащим сердцем? Мы всегда были вдвоем, и когда один из нас задыхался от неуверенности, чего-то гнушался или в чем-то сомневался, другой говорил, думал. Чего же он добился, крутясь вокруг своей блеклой тени, не способной принести ему счастье, заполнить с каждым разом все более увеличивающуюся пустоту, тени, еще более потускневший от неприятного вызова и неисполненного долга? Отчего же еще она могла потускнеть? И вообще бывало ли так, чтобы мысли насытили тело?
Юозас удивлялся, что мысли Альбинаса абсолютно совпадают с теми, которые он слышит в школе, вычитывает в книгах. Никогда от него не услышишь ничего неожиданного, странного, он только почтительно повторяет то, что ему говорят. Поклоняется кумирам, которых другие показали ему или расхвалили. Его мысль не вырывается вперед, не уклоняется в сторону, никогда не забирается на отдаленные проселки, где течет замшелая, старая, малоразговорчивая, не всегда вразумительная, печальная, с умирающими убеждениями и причитаниями жизнь. Почему он никогда не прислушивался к ее таинственному, самобытному голосу? Разве все уже высказано, увидено, объяснено? Безоглядно принимая то, что есть, о чем уже говорят другие, он не слышит того, что еще гудит в тишине, гудит для каждого на свой лад…
Были высокие и громкие слова, похвалы, жертвоприношения, сладкоголосые песнопения, восхищение простыми народными началами. Было и что-то другое — то, что существует по ту сторону этого общего пути, проторенного широким шагом идущих…
Часто на него обрушивалась лавина слов. Словно во сне, который то и дело ему снился, когда вода стискивала горло и начинало звенеть в висках. Сделав последний гребок, пересекши реку, он вскрикивал, охваченный животным страхом. Такой иногда бывала и его речь. Мысли еще не научились шагать по-парадному, но и здешний говор уже не годился. Голова у него шла кругом от высей, на которые его возносили такие понятия, как материя, время, категория, пространство, гармония, объект; каким торжественным бывало их звучание. Он и его друзья просто задыхались, не в силах сообразить, где употребить то или иное слово, которое могло бы засвидетельствовать, какой богатый у них лексикон, какой серьезный образ мысли. Здесь действительно вначале было слово и слово было всем. Правда, порой становилось противно до омерзения. Их сочинения пестрели сочетаниями слов, штампами, почерпнутыми из газет, книг и журналов, и подростки потом долго и тупо смотрели на них, ломая головы над тем, что же они тут написали. Но странно — учителя иногда понимали их… Позже другие будут, наверное, завидовать — думать, что им удалось взобраться на какие-то вершины. Но найти им было суждено совсем немного: ведь тот, кто ищет, уже многое потерял, потому и ищет…
Взошла заря, умытая дождем, чистая, сияющая. Почувствовав ее прохладное прикосновение, затрепетал лес. Над лужайками еще висели клочья тумана — словно пахучий дым разбитых грозой жертвенников. Далекий силуэт черневших на холмах лесов походил на башни замков.
Все трое на некоторое время замолкают. В лесной чаще затоковал глухарь, зацвенькали какие-то птицы. Когда вернемся сюда, мы родину такой больше не увидим, говорит Юозас. Альбинас гнет свое: конечно, он за гуманность, наконец долетает до слуха Юозаса. За что?.. За что?.. — хотел было крикнуть он, но промолчал: зачем попусту болтать. С горечью он ловит себя на мысли, что за всю жизнь у Альбинаса будет очень мало того, что можно определить этим словом «гуманность». Он жесток. Он бережет себя. Он не хочет делать того, что не сулит ему пользы, что не приблизит его к славе; из-за славы он готов на всё. Люди любят казаться такими, какими никогда не были, особенно если они могут из этого что-нибудь для себя извлечь.
И Юозас смотрит на бледное от утренней прохлады лицо друга: он озадачен, весь какой-то погасший, но почти физически чувствуешь, как под белой кожей высокого лба пульсирует величие; он прислоняется к влажному, шершавому дереву, и тихо произносит: капкан… Всё капкан — даже слова. Нас повсюду настигнет эта проклятая раздвоенность, и безверие будет бежать за нами по пятам, не в силах перевести дух. Запыхавшийся юноша с горячечным взглядом, куда ты летишь? Не пора ли тебе на минутку остановиться. Но… не удержать порывов разбушевавшегося ветра. Он пролетит, промчится, прошумит, поднимая тучи пыли. Только долго еще в нашей памяти будут светиться эти кручи и эти долины. И слова, которые мы говорили, настигнут нас. О неизбывная печаль, о ожидание, о шелест высохших колосьев на горячем летнем ветру, когда зерно осыпается на твердый, как кость, суглинок! Я вижу косарей на холме, я слышу их песню. Ветер доносит соленый привкус пота, и согласно, в лад звучат их голоса, и нет здесь ни одного отстающего. А мы бросались словами, словно каменьями, мы награждали друг друга прозвищами, мы приклеивали ярлыки. Один отбрыкивался от них, другой считал себя всезнайкой. Мы наговорили уйму слов. Только не произнесли ни одного такого, которое сделало бы нас сильнее. Мы не знаем того, что неотвратимо грядет. Мы не будем ни достойными врагами, ни друзьями. Мы будем глумиться, приписывая друг другу бог весть что, а чаще всего то, чего сами хотим, что делаем или о чем думаем. Мы будем глумиться и над собой. И будет нам трудно отличить друзей от врагов, мы будем колебаться, вечно сомневаться в чем-то, кидаясь к тому, что прокляли, и отрекаясь от того, что должны были любить. Разве это не пародия, разве не шарж? Недаром мы так чувствительны к смеху. Когда ты, Альбинас, говоришь «он», нельзя не добавить «как»… — сравнение напрашивается само собой. Даже если кто-то с остервенением начнет уверять, что он не такой, ты все равно будешь долдонить: «такой, такой!»; будешь кричать, тыча в привидение, которое прогнал от себя и у которого столько с тобой общего. Живого человека ты не хочешь видеть. Живого и единственного. Тебе хочется смеяться, глумиться, смотреть на него со стороны, и частенько человек — только пища для твоих острот, материал, удовлетворяющий твою склонность все каталогизировать, говорить обо всем общими фразами в полном соответствии со своеобразной системой, которой ты, словно божеству, тайком молишься…
Нет у нас своего «прости…» и нет у нас ничего такого, из-за чего мы чувствовали бы себя виноватыми. Мы делаем вид, что все знаем, понимаем, мы полагаемся только на себя и падаем под ношей своей вины и неудач. Ядовитая ирония, насмешливые реплики будут нашими постоянными спутниками, предопределяющими наши мысли и нашу жизнь. Мы встретимся с ними на своих величайших праздниках и в нашем отчаянии, и они не позволят нам произнести ни одного слова, которое дало бы отпор смерти и которое вдохновило бы нас и удержало от гибели. Мы знали много слов, много их в нашем обиходе, но нет ни одного такого, и мы даже не чувствуем необходимости искать его. Только пятимся назад, все бочком, бочком и — в дверь. Но куда? Зачем?..
Есть жизни, отголоски которых возвращаются как эхо, есть такие, которые можно сравнить с каким-нибудь экспериментом, есть люди, которые ни во что не верят, никого не зовут, ничего не ищут и которых ничто не тревожит. Но как нас возносило и будоражило! И никуда нам не убежать от своего «я», от своего смутного призвания и предназначения. Мы уже соблазнены.
«Так вот почему ты все время твердишь, что не хочешь выделяться», — раздается голос Альбинаса.
«Сам не знаю. Есть здесь какое-то явное противоречие. Это первая предпосылка, но не вывод, не выход. Возможно, это лейтмотив, всех объединяющий и примиряющий. Все существующее стремится к обособлению. Но опять же — никто так не жаждет всеобщности, как обособленность…» — говорит Юозас, вслушиваясь, как удаляясь, замолкает эхо его мыслей. Он знает, что это эхо не вернется назад — его впитает свежая утренняя зелень, оно будет развеяно в луговом тумане, растает в сумраке, там, где все начинается и все кончается.
Восходит большое светлолицее солнце.
— Будет жаркий день, — Юозас ловит себя на том, что говорит голосом Константаса.
Слышно, как где-то отбивают косу…
Так, толкуя друг с другом, они выходят к Швянтойи там, где она делает крутой поворот и где стоят три дуба-великана, позолоченные утренним солнцем.
Три дерева-богатыря. Одно из них, самое древнее, встречает их первым. Ствол его опутан старой потрескавшейся цепью, утыкан гвоздями и зубьями борон, в нем выжжено большое дупло — там пастухи прятались от дождя и разводили костры. Но что ему — богатырю эти раны — сущие пустяки. Стоило разок поднатужиться — лопнули эти цепи. Страшной силой искорежило суставы дуба, скрутило их в узлы, но дерево все еще под могучим напором изнутри желает шириться и расти, под напором, который заставляет содрогаться и превращаться в ошметки его заскорузлое тело.
Много раз они сюда прибегали, носились вокруг дубов, прислушиваясь к гулу, как бы долетавшему из незапамятных времен, то приближавшемуся, то удалявшемуся невесть куда. В этих дубах отстоялись запахи всех летних лугов, шелест и колыхание всех росших когда-то вокруг деревьев, бег всех облаков, проносившихся над ними. Отдыхал под их сенью всадник в доспехах с изображением креста, останавливался под ними князь, точили здесь косы селяне, блеяли козы, мимо скользили сани повстанцев, свистели весенние оттепельные ветры. Слышали дубы-исполины и клики птиц на багровом закате. Стальным клином стужа вонзалась в их тело. Крошились звезды, трескались на реке огромные льдины, а у них ни одна ветка в эту стужу не засохла, не опала. Во время весенних паводков они стояли в воде по самую крону, и ледяные глыбы разбивались о их стволы. Птицы вили на их верхушках гнезда, как и сейчас вьют. На их листьях сверкают тысячи солнц, и порой оттуда долетает такой звук, будто кто-то нетерпеливо хлопает в маленькие ладоши…
С дубами надо говорить просто. А они говорили особенными словами, нет, не говорили, а из кожи вон лезли, чтобы как можно убедительнее ахнуть от восторга, чтобы испытать что-то похожее на величие. Поэтому, покрутившись здесь немного, они уходили, понурив головы, словно кто-то их пристыдил или выругал.
Дубы пахнут можжевельником и серой. Это запах молнии. Огненный нож ударил по стволу одного из деревьев и, рассыпавшись, ушел в землю — только белые клочья древесины болтаются. Скоро заживет, говорит Юозас, трогая рукой открытую рану на дереве. И, нагнувшись, принимается искать следы молнии. Нашел их на замшелом камне, на обгорелых ростках деревцев. Гроза пронеслась, все ломая и опрокидывая на своем пути, но дуб-исполин, не тронувшись с места, оттолкнул ее своим плечом. Это только пустяковая царапина на его могучем теле. И поет он свою вечную песню, как и пел. На его верхушке — птичий гомон. Шишковатое дерево, увитое потрескавшимися цепями. Как крестьянин, который забрел в сияющие утренние луга со связкой пут или с сетями… Пришельцы из далекой старины, из дремучих лесов, из незапамятных времен, вскинувшие выше всех свои верхушки. Что по сравнению с ними горемыки-осины, белоствольные березы или затекшие живицей сосны? В верхушках дубов-великанов живы еще самые темные суеверия. И нет такой песни, которая могла бы сравниться с их шелестом. Тут разве что сгодились бы те заклинания и слова, которыми в старину люди славили их, солнце, ветер, небо, реки. Мальчики нашли их в детстве, в тот светлый сентябрьский полдень, когда, разгоряченные, в рубахах, топорщившихся от ветра, примчались на этот луг. Все время дубы-великаны жили в их сознании, глубоко укоренясь в их памяти, освещались ее зарницами, когда на озерах вырубали проруби и детишки тащили санки в гору, когда в тревоге расхаживали вокруг своих изб селяне и каркали вороны, когда по дубам скользили стремительные тени белых облаков, когда неистовствовал вечный свет, и на лугах косари отбивали косы. Мальчики находят их и теперь, в годы своего отрочества. Найдут и позже, и только один звук здесь властвует, только одно слово — то, которое нашептывают великаны-дубы. К ним лепятся все другие имена и даты…
Сколько раз они и сами не замечали, как оказывались возле дубов-исполинов, и такое невыразимое чувство овладевало ими, такое желание что-то понять, услышать, что даже горло перехватывало. Но никому еще не удалось разговорить эти дубы, никто не может рассказать, что они здесь испытали, изведали, когда солнечная чаша лилась через край…
Но Юозас, задрав голову, вполголоса шепчет: «Уже… слышу тебя, старый дуб-исполин!..»
— Ты придешь на выпускной вечер? — спрашивает Юозас.
— Не знаю… Наверное, приду, — отвечает Альбинас.
Юозас устраивается на солнцепеке Меж сосенок. В их верхушках сверкает паутина, небо синее, чистое, пахнет смолой, пахнет дождем, который недавно здесь прошумел, но этот запах заглушается запахом пашни. Юозас просыпается в полдень. Трава уже высохла, стрекочут кузнечики, на лугах покрикивают гребельщицы, кое-кто из них нагишом плескается у брода. Увидели его, но срам свой прикрыть не спешат…
— Уже обед, ты где шляешься! — напускается на него во дворе мачеха. — Ступай скорее на ферму телят кормить… — и бросается через двор как ошпаренная.
— Дай-ка, мама, воды принесу, — он забирает у нее коромысло. Мачеха пинает ногой ведро, оно со звоном катится по земле, на голову Юозаса обрушиваются новые проклятья.
Мимо идет Константене, посмеивается.
— Иди сюда, жердочку подержи! — кричит с крыши риги Константас.
— Куда тебя нелегкая несет? О работе думай, о работе, — дышит на него похмельным ртом отец.
Примчавшись на велосипеде с фермы, Юозас гладит костюм, надраивает стоптанные ботинки, долго возится с галстуком…
— Дай, — говорит отец и ловко, привычными движениями завязывает галстук. — Стой прямо, чего горбишься, — поправляет он сползший пиджак. — Когда мне было столько лет, сколько тебе…
Едкий папиросный дым ест глаза.
— Черт знает что, — говорит отец. — Висит на тебе, как мешок. Что ты стоишь как столб? Выше голову! Голову всегда надо держать высоко. Когда мне было столько лет…
Склонив крохотную головку с клювом хищной птицы, на Юозаса внимательно смотрит мачеха. Потом, дернув плечами, говорит:
— Ведь этот увалень…
— Не твое дело, — бурчит отец.
— Спасибо, я пошел, — говорит Юозас.
На крылечке, кажется, по-прежнему сидит бабка, по-прежнему смотрит на него и провожает озабоченным взглядом. Как будто что-то бормочет, хочет подняться, подойти. Открыв скрипучую калитку, Юзукас выходит в теплое вечернее раздолье, туда, где на восток повернуты ласковые выступы холмов, позолоченные вечерним солнцем. У хлева, бывшего девичьей клети, Юозаса атакует комариный рой, комары пищат, звенят, пахнет сеном и люцерной. В последний раз мачеха издевается над ним — больше он ей не позволит! И друзей больше ни о чем спрашивать не будет. Все уже в прошлом — и сияющие башни городов, и корабли в порту, и вымершие площади, свидетели его печальных скитаний с отцом, и далекий гудок паровозика, и шершавый камень клети, и поля в лунном сиянии, по которым он блуждал, гонимый какой-то тревогой… Приближаясь к местечку, Юзукас ускоряет шаг. Узкие, в слоистой пыли улочки, по которым женщины гонят с пастбища коров. Все его здесь знают, ему вежливо отвечают на приветствие. В глазах стареющих женщин ему чудится тайная ревность, может, даже радость: пока дочки еще не подыскали себе женихов, их приглядывают для них матери. И отец мог бы им гордиться, почему бы и нет? Силуэт долговязого юноши в черном костюме с белым воротничком мелькает в окнах Акуотиса и Великиса. Он идет, подтянутый, слегка размахивает руками. Таким его здесь еще никто не видел.
Вот и школа: двухэтажный домик цвета морской волны, утопающий в зелени кленов. Юозаса встречают друзья, они тоже в костюмах. Здороваются, широко улыбаются, чувствуя, что за ними изо всех окон наблюдают; мальчики проходят внутрь, пропуская друг друга, поднимаются по стертой лестнице. Кто-то незаметно подтянул штанину, чтобы все видели, как сверкают надраенные ботинки. Юозас держится чуть сзади. Мальчики распахивают двери пустых классов — на парты, на доску, на стены ложатся нерезкие, мягкие тени. Все звуки необычайно значительны, приглушены. В костеле звонят колокола, с карканьем в воздух взмывают вороны. Но здесь, в школе, тихо, пусто, во всех углах хоть шаром покати. Пройдет минута-другая, и ворвутся запыхавшиеся девчонки, и всех их пригласят в зал…
…Они сидели за длинными столами, уставленными подтаявшими тортами, жареным мясом, винегретом, с них, еще своих учеников, не спускали глаз учителя — как ухаживают за девушками, как беседуют…
Потом Альбинас прочитал свое стихотворение, посвященное классу. Он был сегодня непривычно серьезным, старался не поддаваться всеобщей взволнованности, витавшей в воздухе, все время тряс головой и проводил ладонью по тонким, чуть вьющимся волосам — привычка, которую он перенял у учителя физики; и ходил Альбинас как-то по-особенному, вразвалку, бодрым шагом, и только теперь многим впервые бросилось в глаза, что он довольно хорошо сложен, что у него широкие покатые плечи.
Учителя вдруг ударились в воспоминания. О многом порывалась рассказать первая учительница Юозаса. Она ни с того ни с сего вспомнила, какой на нем был пиджачишко, когда он впервые пришел в школу, как он выводил буквы… При этих словах в памяти Юозаса всплыли сумеречный осенний сад с обломанными детворой ветками, последние звонки в полумраке коридоров, и еще то, как он ждал Альгимантаса, оставленного после уроков… Многим он, Юзукас, ее, мол, удивлял… Она вспомнила уйму мелочей, которые давным-давно успели вылететь у Юозаса из головы, но которые на редкость правдиво и метко характеризовали его.
Учительница говорила, старательно подбирая слова, пытаясь рассказать о нем как можно точнее.
Юозас был поражен: оказывается за ним тут все время наблюдали чьи-то зоркие глаза — ни один успех, пусть даже самый малый, ни одна неудача не оставались незамеченными. Странно, что кто-то так безошибочно точно прочувствовал и услышал его, сидевшего у окна мальчика. И уж совсем учительница ошеломила всех, сказав, что в начальных классах Юозас был самым лучшим, самым способным учеником. Как он рисовал, как он запоминал каждую деталь, а стихи! Как он декламировал стихи! До сих пор она слышит, как он читает их, глядя в окно: …Что же делает там ветер… У-у-у, стучит он в дверь… Мол, откройте мне теперь… Шубой я б ее укутал… Ведь у печки мне она, эта шуба не нужна… Юозас невольно покосился на Великую Педагогшу: первая учительница только начала вспоминать, как та вскинула голову, вытянула свой двойной подбородок, поправила белые кружевные манжеты на блузке, затем толкнула стул, попыталась было встать, что-то сказать, но здесь был не класс, а застолье — и голос ее потонул в гаме. Юозас еще успел увидеть, как учитель литературы кивнул объясняющему что-то директору и глянул на него.
— Каким он был учеником не мне судить, — промолвил физрук, — но спортсмен, спринтер он и впрямь хороший, и я хочу вручить ему на память маленький сувенир… Пожалуйста, — и он крепко пожал Даукинтису руку.
Потом слово взяла географичка, и Юозас вспомнил, как однажды, в темном чуланчике, где он искал карту, он прикоснулся к горячей щеке Нийоле и погладил ее руку… Его привел в чувство голос классного руководителя, донесшийся с другого конца стола:
— Так ты, Юозас, не поступаешь в вуз?
— Нет. Пока решил воздержаться, — ответил он второпях.
— Давайте чокнемся. За ваше счастье, дети, — классный руководитель поднял рюмку. Он был уже навеселе, галстук у него съехал набок, но учитель как всегда говорил решительно и прямо.
— А ты потом не будешь жалеть? — он поставил пустую рюмку на стол. — Мы тебя не уговариваем, мы только спрашиваем, — глянул он на нахмурившегося директора. — Надо хорошенько подумать, действительно ли ты делаешь то, что хочешь.
— Да, я делаю именно то, что хочу, — сказал Юозас, не поднимая головы. — И думаю, что всегда так буду делать.
Последние слова прозвучали несколько вызывающе. Альбинас осклабился, Нийоле опустила глаза, зато Марите не скрывала своего восхищения.
Юозас снова покосился на Нийоле. Прикусив нижнюю губу, она разрезала на кусочки размякший торт. Старательная, расторопная хозяйка. Юозас должен был ей помочь. С другого конца стола на нее глазел Альбинас — он сорвал громкие аплодисменты за свое стихотворение, но не гордость, как полагал Юозас, сверкала в его глазах, а ревность… В какой-то момент Даукинтису померещилось, что он с Нийоле принимает не очень благосклонных к ним гостей…
…А за окном уже густел вечер, с лужаек потянуло прохладой, зелень кленов потемнела, и белый изгиб большака был словно некий прощальный жест — тихий и печальный. Все вокруг — улочки, клубившиеся над ложбинами туманы, озеро в дымке — проплыло, промелькнуло, словно в окне поезда, в которое дует легкий ветерок, приносящий не только запахи лугов и леса, но и скотных дворов…
— Я с удовольствием с тобой потанцевала бы, — разрезав торт, сказала Нийоле.
Все вдруг приумолкли. А, заговорив, стали искать слова посерьезнее и поторжественнее. Теплые отсветы вечера падали на лица.
Небудничными были на них одежды, небудничными должны были быть чувства, мысли, даже голоса, но порой сквозь завесу сентиментальных сетований прорывалось и одно-другое искреннее слово.
В синих сумерках тихо кружились пары, хотя перед глазами еще мелькала розовая полоска неба. Сначала Юозас ломал голову, как заговорить с Нийоле, а когда заговорил, слова полились сами. Девочки кружились в том же ритме, все более заражаясь мелодией, стараясь отозваться на нее каждым движением. Склонившись немного набок, крутила жернова танца большеногая Яне, над ней взмывало торжественное лицо Альбинаса, мелькали стройные талии Бернадетты, Марите…
Экзальтированный учитель французского недоуменно смотрел, как Юозас открывает окно в сад. Подошел Римантас, надушенный, постриженный, в сверкающих ботинках, с носовым платком «фантазия» в верхнем карманчике пиджака, в широком галстуке, — такого кавалера всегда встретишь где-нибудь на маевке или на свадьбе: они всегда первыми открывают ворота, откупоривают бутылки с шампанским, когда такие проходят мимо, все замолкают, уступают дорогу, хотя им частенько вслед летят всякие шпильки и насмешки. Вся их молодцеватость как на ладони. Римантас не видел, как у него за спиной засверкали глаза сбившихся в кучу девчонок.
Переваливаясь, как селезень, и то и дело откидывая волосы, подошел Альбинас, вслед за ним зал пересек стройный, подтянутый Стонис; улыбаясь до ушей, как ребенок, который, казалось, ни с того ни с сего вот-вот прыснет, подкатил Мишкенас, круглый, яснолицый, втянувший голову в плечи, неуклюжий, с ручищами борца, но добряк, хихиканьем вторящий смеху других, хотя он сам их и насмешил… Так они прошли через душный зал, в котором перекрещивались взгляды сидевших матерей, отцов и учителей.
В лицо дохнуло прохладой. Над холмом, у подножия которого серебрилась подкова озера, всходил месяц, похожий на непочатый плод, сулящий всевозможные ощущения. Загорались звезды… Тоскуешь ли ты, родная?.. — напевала радиола.
Учитель истории Вайтасюс с помощью супруги убрал со стола последние тарелки — лицо у него было такое, словно он разбирал их неопрятные тетради или дневники. Он зажег свечки, опрыскал водой пол. Усадил вдоль стен матерей. Их было много, с проседью, в белых в горошек платочках. Юозас почему-то выделил глаза одной, которая поглядывала на свою дочь, кружившуюся с ним в расширившемся вдруг зале. Потом он обжегся о взгляд отца Нийоле, тот смотрел угрюмо, испытующе, и Юозас почему-то подумал, что никогда не перешагнет порог их дома. Им бы только один жених подошел — Римантас, подумал он, хотя доверчивая рука Нийоле покоилась у него на плече. Энергичный, приветливый, непоседа, Стонис трещал фотоаппаратом или все время копался в радиоле, демонстрируя свои недюжинные технические способности. «Танцуйте, чего не танцуете!» — кидался он то к одному, то к другому. Задумчивый, на целую голову выше других, стоял Альбинас. Словно жених, только что удостоившийся руки столь желанной невесты, ерзал нетерпеливый Римантас, без устали вытирающий белым носовым платком потные ладони.
Гремел многоголосый хор.
— …Такое ощущение, словно я что-то теряю…
— Эти слова из какой строфы? Нет, это не ты придумал.
— …Хватит, кончай со своей унылой мизантропией…
— …Ну чего ты так раскис…
— …Тебя, Юозас… просто не дозовешься…
— Я всегда стоял за дверьми.
— Ах, сделай милость, не говори так, — и Нийоле крепко сжала его руку.
— …Веришь ли ты… чувствуешь ли ты, что́ здесь красиво и что этого никогда не будет и никогда не повторится, что мы, как уверяют учителя, вечно будем вспоминать?..
— …Нас нарядили, как куколок…
— …А я знаю, чувствую сердцем, по тому, как оно колотится, мы будем вспоминать, и еще как. Будем звать друг друга и не дозовемся никогда-никогда… И не будет у нас ни друзей, ни этих парт… Разлетимся кто куда…
— Что с тобой?
— Ничего, сейчас пройдет.
— Ты всегда все делаешь наоборот: когда тебя гладят, ты ощетиниваешься, когда тебя ругают… Почему?
— Зачем тебе знать?
— Я хочу, скажи.
— Ты только посмотри на Альбинаса, как он пыжится, словно…
— Это потому, что он глубже чувствует и мыслит.
— Наивные слова школьницы… Может это у него только поза. Может, он убежден, что так должен вести себя поэт.
— Нет, конечно нет. Ты все стараешься его поддеть. Почему?
— Пойдем лучше во двор или к столу.
— Так девушку никто не приглашает: туда или сюда — неважно. Ей надо предложить одно, то, что ей больше всего по душе.
Музыка, приглушенные голоса, и витает над ними чье-то окаменевшее, серое, заметенное цветочной пыльцой лицо, озаренное лучами завтрашнего рассвета. Может, это твое лицо, Альбинас?
На рассвете, когда они просто одурели от разговоров и танцев, их позвал классный руководитель. Небольшой стайкой выпорхнули они во двор. Занималась заря, молчали улочки, уставленные съежившимися домишками. Не так ли плотно сажают в громадную щербатую с выбоинами печь ковриги хлеба, подумал Альбинас. Только эта печь — улица — еще не накалилась. Утренние сумерки обволакивали их и гладили своими прохладными, росистыми ладонями. За спинами горело школьное окно — в нем отражалось восходящее солнце. Во дворе белела площадка, посреди которой возвышался воздвигнутый еще в довоенные времена памятник: женщина в ниспадающей с плеч накидке, держащая в руке миртовый венок. Где-то над озером, в зарослях камыша, пищала болотная птаха — оттуда, из-за лесов, из-за болот вставало утро, свежее многообещающее, с ясным лицом невесты.
Узкая, выложенная булыжником улочка бежала вниз, упираясь в скопище домов. С юга, словно облака, наползали дымчатые массивы лесов.
От болтливой вчерашней мелодрамы не осталось и следа. Робкие остатки косметики потускнели на девчоночьих лицах, платьица пропитались утренней влагой, растрепались прически. Пыль с измолотого колесами большака оседала на их туфельках и ногах. Девочки молчали, понурив головы, и они слышали лишь собственные шаги и дыхание. Нет, не теми красками рисовал невидимый художник занимающийся день, долгий, горячий, пыльный день страды на Аукштайтийской земле. И все снова вдруг позавидовали тому, кто считался у них поэтом.
— 24-е июня 1960 года. В глухом уголке восточной Аукштайтии закончился выпускной вечер восьмого выпуска, — торжественно возвестил Юозас, когда они с Нийоле шли мимо белого здания — бывшего господского поместья.
— Ты все время ехидничаешь? — поежилась Нийоле.
— Прости, — и он накинул ей на плечи свой пиджачишко. Лицо ее было озабочено, она явно чего-то опасалась. «А деваха ничего, пальчики оближешь», — услышал чей-то голос Юозас возле спиртзавода. Из темного подвала бывшего солодового цеха вылезли два подвыпивших типа. Юозас и Нийоле ускорили шаг.
Они шли по холмам, заросшим люцерной, на которых стояли женщины, пришедшие сюда доить коров. Домой возвращаться было еще рано. Приятно пригревало солнце, свет трепетал на склонах, лучи его переливались в воде у бродов. Нийоле шла быстро, совсем не глядя на него, и высокие, клонившиеся к тропке стебли травы стукались о ее икры. Тогда Юозас первый раз в жизни увидел, как сверкает роса. От босых ног Нийоле на утрамбованной, потрескавшейся глиняной тропе оставались влажные, странно волновавшие его следы…
Юозас все время останавливался. Наконец он решился, привлек ее к себе, поцеловал, не сразу ощутив вкус ее губ. Губы были прохладные, словно в росе. Глаза наполнились светом, в них затрепетали маленькие тени ракитовых листьев, Юозас скользнул взглядом по профилю Нийоле, увидел на холме женщину, которая стояла как вкопанная подле пощипывающей траву коровы…
Занимающийся день все настойчивее вступал в свои права. Отшвырнув одежду, она забрела в бодрящую, живительную воду. Зрачки ее вдруг сузились, и в откинутую шею жадно впилась своим жалом змея первой любви, она обвилась вокруг упругой талии, вокруг ног, бедер, хотя Нийоле все еще пыталась сопротивляться.
Там, на приречной лужайке, где остервенело стрекотали кузнечики и трепыхались пересохшие крылышки жучков, Юозас почувствовал, как колотится запертое в непроницаемую клетку сердце. В нос ударило запахом перегретой земли, и все: стрекот кузнечиков, петляющие по склонам холмов проселки, спокойное течение воды и шелест ив, склонившихся над ней, и описывающая над кочкарником круги хищная птица, и вздохи кустарника, взъерошенного ветром, — не их ли слышал Юозас, когда бродил по перелескам и опушкам? — плывущие высоко в небе облака, выжженные добела немилосердным солнцем, и чей-то голос, призывно звучащий с глинистого холма, где на частоколе сушатся горшки и кувшины, — все истомилось жаждой, как его пересохшая гортань, и все это он испил вместе с запахом ее тела. И останется это в нем на долгие годы. Припадая к высыхающим родникам любви, он будет искать вот этот единственный, брызнувший в пригожий сенокосный полдень из чрева его скудной, его родимой земли. Это было первым шагом к своему дому, которого у него никогда не было, первое «да», сказанное им бесхитростному, немудреному укладу жизни.
Здесь, где обрываются его старые пути, здесь, где рождаются другая мысль и другое знание, в каком-то уголке его сознания, как зеленый сигнальный свет, вспыхнул вопрос: придаст ли ему крепости этот опыт, принесет ли он ему долгожданное освобождение? Юозас замотал головой. Только в одном он не сомневался: отныне другими будут его слова и на людей он будет смотреть по-другому. Он чувствовал, что это покамест не тот порог, у которого он должен остановиться. В какой-то момент ему стало обидно, почти противно.
— Ты что на меня так смотришь? — спросила она, поправляя одежду. Какими умелыми были ее движения!
Почти весь день они бродили по лугам и опушкам. Дул теплый ветерок, жужжали пчелы. Светило солнце, припорошенное пылью страды. Его лучи плавили полевые камни, рассекали и крошили глину и щебень. Дремотно плескались озера, и их волна никак не могла добраться до берега. Поспевала земляника, розовели малина и вишня. Тихими и опустевшими, как в праздники, были дворы, где на плетнях сушились глиняные горшки, серели колодезные журавли и приклетки. Чей-то черный мохнатый пес, застывший у частокола, равнодушно поднял голову и посмотрел на них глазами старого мудреца — даже не залаял, даже не вильнул хвостом.
В ушах все еще звучало: «Ты что на меня так смотришь?» Деловитыми, умелыми были ее движения… Целовались в душном брусничнике на опушке, целовались на берегу, возле обмелевшего брода, среди смородины, у озера…
Потом поссорились.
— Все вы такие, — сказала она.
— Какие?
— Спесивцы, себялюбцы и честолюбцы.
Она ни с того ни с сего принялась бранить Альбинаса. У Юозаса мелькнуло страшное подозрение, но она не унималась, выкладывала такие его, Юозаса, мысли, о существовании которых он и сам не подозревал.
— Ты боишься, что он станет очень большим человеком. Тебе что, мало того, чем ты тут обладаешь? Только и норовишь улепетнуть отсюда.
— А ты?
— Никуда я отсюда не поеду. Я пойду в медсестры, вот и все. А ты сам не знаешь, чего хочешь.
Домой он возвращался мимо дома Альбинаса. И снова Юозаса встретило насмешливое лицо друга.
— И где это ты шатаешься? Где был? — Альбинас оглядел его с ног до головы. — Мы тебя с Римантасом весь день разыскивали. — Он вдруг замолк и только теперь, кажется, заметил, как неузнаваемо изменился Юозас. Но сделал вид, будто ничего не увидел. Альбинас был раздражен, словно чем-то серьезным обеспокоен. Помолчал и выпалил: — Ты что тут изображаешь, не хвастайся.
— Я и не хвастаюсь.
Они вошли в каморку, где стоял сложенный в дорогу чемоданчик. Альбинас все еще что-то искал, швырял одежду и грубо покрикивал на мать, которая не могла взять в толк, как ему помочь, крутилась-вертелась вокруг сына, пытаясь всучить ему то пересохший сыр, то шматок сала. Через открытые двери доносился голос отца:
— Видишь, кого вырастила, теперь будешь знать. Что я говорил — еще попомнишь…
По лицу Альбинаса скользнула болезненная гримаса — точно такую Юозас видел, когда впервые переступил порог их дома, но сколько перемен произошло с того дня, сколько надежд не сбылось, сколько разного между ними пролегло!..
Альбинас вышел во двор, в сердцах хлопнув дверью. Стоя у полуобвалившегося колодца и плетня, под которым валялись помятое ведро и стоптанные башмаки матери, он огляделся: в сумраке светился шпиль костела, в соседних усадьбах брехали собаки. Юозас вдруг вспомнил, как они возвращались с битком набитыми портфелями из школы, как катались на лыжах, поглядывая на небо в отсветах стужи, в огненных сполохах. Было тихо, резвился ласковый ветерок. Но Юозасу теперь уже больше не хотелось взбираться на холм, хотя Альбинас настойчиво и звал его… Они остановились на мостках, укрытых ольхой, в воде мерцало несколько тусклых звездочек. Вокруг — царство тишины и воспоминаний. Колесница ветра своими колесами измолотила эти проселки, на обочинах которых смиренно шелестела трава, громы отгрохотали, отшумели, огненные кони пронеслись-промчались по небу… И жизнь предстала перед ними во всей бесхитростной конкретности, близкой и осязаемой, и собиралась начать свой разговор с ними с простейших звуков и слогов. Она отвергала и глушила все, что было, и, кто знает, стоило ли ей сопротивляться.
В местечке звонили колокола. Мысли все время вертелись вокруг Нийоле. Сволочи, сказал Альбинас. Оба избегали взглядов друг друга. Мне кажется, ему не хочется отсюда уезжать, подумал Юозас. Они холодно попрощались. В глазах Альбинаса светился недобрый упрек, а может, насмешка или презрение, — он озирался, смотрел на луг, словно чего-то искал. Слышно, было, как свиристит коростель, слышно было чье-то тихое присутствие, все замолкло, замерло, чтобы можно было почувствовать какое-то величие, какую-то всеобъемлющую суть. Возвышенными и нежными — такими остались мысли Юозаса о Нийоле, но было в их близости и что-то низменное, жестокое. Презрение, стоящее у порога любви, горькая ирония; чем же они отличаются? Что-то обостряло его бдительность и неверие — какой же здесь произойдет обмен, что на что? А если он обманется, если ошибется? В его душе не было и намека на святость…
Думая о ней, Юозас и не заметил, как вошел в свой двор.
Отец шел ему навстречу. Юозас остановился у дровокольни, ждал, что он скажет. Тихо, только в избе кричала мачеха. Отец сорвал прилипшую к губе папиросу, оглядел Юозаса с головы до пят и, горько сплюнув, процедил:
— Где ты был? — спросил он таким тоном, каким уже однажды спрашивал.
Глядя на края неба, стоял Константас, слонялся вокруг своей избы Визгирда. Громко хохоча, Константене что-то рассказывала Тякле. В сумерках поблескивал ее золотой зуб. Визгирдене смеялась глухо, вытирая слезящиеся глаза. На лавочке, положив рядом шишковатую палку, по-прежнему, казалось, сидела бабка. Круглые глаза впились в дверь клети, где когда-то спали ее дочери. «Я спрашиваю тебя, где ты был?» — звучал в ушах отцовский голос. Время длилось ровно столько, сколько длились его мысли о Нийоле. Ничего он отцу не станет объяснять. Этот печальный, этот горестный мир принадлежит только ему, он завоевал его, вымолил, выстрадал, ему его передал кто-то другой, тот, который собирается его покинуть… Но что если и в этом он будет обманут и разочарован? Ведь Нийоле, чтобы доказать свою верность и преданность, должна будет все время посылать ему знаки своей привязанности… Разве это не эгоизм, разве им и здесь не движет желание быть единственным и незаменимым? — глупые мысли, но он от них весь как бы оцепенел.
Грустная улыбка скользнула по заросшему щетиной лицу отца: ему все ясно, он все понял сразу.
— Твое дело, — процедил он после долгой паузы. — Ты уже достаточно взрослый, и, наверное, знаешь, что делаешь.
Перестали галдеть женщины, Визгирда, бросив последний взгляд на закат, наливающийся за изгибом холма, засеменил в избу. В сумраке во дворе светилась белая поленница. Радость встречи, но какой встречи, с кем? И, бросаясь в объятия этой радости, Юозас думал обо всех, кого любил…
ГАСНУЩИЕ СПОЛОХИ
«Вот нам и вручили аттестаты зрелости. Все одноклассники разъехались кто куда. Я работаю с отцом на ферме.
Иногда пытаюсь взглянуть на себя со стороны. Тот Юозас, который так огорчался из-за пустяков — из-за плохой отметки, из-за промаха, когда посланный им мяч не попадал в корзину, из-за случайного взгляда Нийоле или слова, в котором он вдруг улавливал сто оттенков и смыслов, — понемногу отдает богу душу.
«Юозас, ты куда собираешься поступать?» — «Еще не знаю». — «А я в политехнический», — сообщает Видмантас Стонис. Панически бегают блестящие глазки Витаса, и он не знает, куда его забросит его дикая натура. «Я…» — пытается вставить Нийоле и опускает глаза, как мне нравится эта ее скромность. Смотрю, как она прикусывает губу, как розовеют ее щеки. «Ты еще не решил?» — удивляется Видмантас. «Ты чего привязался?» — говорю. «Юозас, ты куда?..» — и снова за свое. «Ах, поймите наконец! — кричу я им. — Я хочу знать. Я спрашиваю — как, кто, куда». — «И мы хотим знать». — «Ну не скажи. Между нами большая разница. Вы выбираете профессию, а все остальное вам ясно и так». — «Философ», — бубнит Альбинас. «Но ведь и тебе придется выбрать профессию», — говорит Видмантас. Я чувствую на себе испытующий взгляд Альбинаса, он словно фиксирует каждое мое движение. Но он больше не язвит. «Профессия… — говорю. — Такая и будет моя профессия». — «Какая?.. Какая?» Сбившись в кучку, они пожимают плечами. Кто-то пытается меня защитить, но безуспешно. («Ну вот видишь, разве я не говорила», — всплескивает руками на виду у растерявшегося отца мачеха.) «Да, да! — кричу я им вслед. — Может быть и такая профессия. Не профессия — призвание!» — «Ого!» — «Как вы не понимаете, — говорю. — Я еще не знаю ни что мне нравится, ни чего я хочу, ни что чувствую и думаю, а вы меня уже заставляете действовать. Прежде всего я должен в себе разобраться. Если бы я сейчас куда-нибудь поступил, то поступил бы как бы под давлением, все делал бы не своими руками, говорил бы не своими словами. Чего греха таить, со мной и сейчас случается такое. Чувствуешь себя марионеткой, которую дергают за ниточку. Чем-то возмущаешься, шумишь, хотя сам не знаешь, чего хочешь. Хочу выбрать все. Сам! Думаю, здесь нет ничего непонятного».
Но никто и не думает меня слушать. Остаюсь в одиночестве. Один, но путь свой знаю — вот в этом-то вся и разница. И разница огромная.
Такие сцены и диалоги, наполовину придуманные, наполовину реальные, проносятся в моей голове одни за другими.
«Кем ты будешь?» — спрашивает Нийоле. «Еще не знаю», — отвожу я в сторону глаза.
Она молчит. Вскинула голову и смотрит на верхушку березы, где ярко светит большая, умытая росой звезда. Нийоле хочет что-то сказать, но не отваживается, и я не могу ей сказать ни да, ни нет. Во мне живет один голос, и он сильнее всех других. «Ты пойдешь своим путем, что бы ни случилось», — твердит он. Я бы хотел ей об этом сказать, но тревога, сквозящая в ее взгляде, распугивает все мои слова.
Опустив голову, возвращаюсь домой.
Лежу в сарайчике на сене и читаю «Хаджи-Мурата» Толстого — какой могучий дух был у этого горца! Какая смелость!
В загоне топочут, фырчат сытые телята, двери открыты настежь, и я все поглядываю на высокие, ободранные, без поручней мостки, на которых вот-вот появится отец. Тут же, рядом со мной, мешок — на всякий случаи:, если отец подойдет незамеченным, я еще успею прикрыть книгу. Пока что я слышу его голос по ту сторону реки, во дворе поместья, возле магазинчика и кузни, напротив бывшего спиртзавода. Голос у отца негромкий, тающий, его то и дело заглушает раскатистый бас кузнеца Шименаса; Шименас то захохочет, то что-то скажет, долбанет молотом, потом в разговор вступают другие, и голос отца совсем сникает, словно не в силах от них защититься. Смотрю: стоит он там в сдвинутой набок кепке, рукава рубахи засучены, руки засунуты в карманы галифе — откинулся, улыбается…
Напротив, над заросшим ряской прудом, из которого торчат остатки какого-то военного грузовика, пищат комары, слева, над кленами старого парка, в верхушках которого как будто запуталось заходящее солнце, каркают вороны; они каркают и над обгорелыми руинами бывшего поместья — здесь много раз полыхали пожары, один из них и я помню: со всех сторон люди бежали с ведрами, с крюками, а оттуда валили клубы дыма, свирепо мычала скотина, метались сполохи, падали балки.
Я нахожу клочок бумаги и пытаюсь писать, но у меня нет никакого вдохновения, пожелтевшие страницы книги напоминают мне только строки:
«…страница скромная альбома», — такими словами я хотел начать посвящение на своей фотокарточке, которую собирался подарить Марите. В голову лезут другие строки:
Жизнь — тусклая, суетная, и только благодаря великому таланту, такому, как у Толстого, можно схватить и передать весь ее трагизм, всю ее сложность и красоту. Каким счастливым должен быть такой человек!
Я в сердцах швыряю в угол клочок бумаги…
И вдруг до моего слуха долетает цокот копыт. Отец скачет по мосту, мерно подпрыгивая в седле. Чем-то он мне напоминает фотографию времен его солдатчины — на ней он еще молодой, в униформе, на резвом, холеном скакуне, а тут — кожа да кости.
— Зачем тебе эта кляча? — спрашиваю я, выйдя во двор.
— Много ты понимаешь в лошадях, — огрызается отец.
Год тому назад на этой кляче ездил Казимерас — теперь у него лошадь получше. Ее в нашей деревне оставили солдаты: контузило беднягу орудийным снарядом; она хромала на одну ногу, была на одно ухо глуха, плохо видела, но трусила еще довольно бодро — только свистни — рванет вперед, не удержишь. Странного нрава лошадь: всегда держится подальше от табуна, бывало, улучит момент, когда никто за ней не следит, — и наутек, поймаешь ее где-нибудь возле Трумбатишкес или в Сантакос. Бывало, воздух нюхнет, прядет ушами, как будто прислушивается, не раздастся ли цокот копыт ее боевых подруг. Запрягать ее в плуг или телегу и не пытайся: привередлива, строптива.
— Степная лошадка, — гладит ее по голове отец, — Катюша. Называют ее еще и Сибирячкой, и Наташей, но для других она просто Инвалидка. Ее уже давно собирались сдать в «Заготскот», но отец взял ее себе — мол, на ферме пригодится. — Этот негодяй, — поглаживает он лошадь по крупу, — жалеет для нее горстку овса.
Негодяй — это Казимерас.
— Садись на велосипед и поезжай, — говорит отец. — А я прискачу.
Я спускаюсь по белеющей в темноте аллее бывшего господского парка. Спуски, крутые повороты — здесь гравием посыпано, здесь камень торчит. В любую минуту можешь грохнуться в канаву. Но такая езда мне по нраву: неожиданно появляющиеся препятствия, приятное чувство удовлетворения: преодолел и так быстро сориентировался. И на горки, и с горок я жму что есть мочи. Это для меня маленькая тренировка. Но на одном из склонов вдруг слышу чье-то неровное дыхание. Оно приближается, вот оно уже поравнялось со мной. Конечно, вокруг никого нет. Но это со мной бывает частенько, особенно, когда мы мчимся с Римантасом. Мысль о том, что и на этой головокружительной трассе я, чего доброго, не был бы первым, заставляет меня умерить свою прыть, и дальше я качу не спеша, в одном и том же темпе, понурив голову, — просто удивительно, как человек умеет притворяться перед самим собой. Дома остаются в стороне, я пересекаю высокий мост через Швянтойи, въезжаю в лес. По обе стороны большака тянется темная стена деревьев, за спиной — пепельно-серая заря, напротив — пригасшие сполохи заката, гумно, где когда-то нашли Амбразеюса, слева — дом Андрюса Жальнерюса — безногого инвалида, участника русско-японской войны — с высокой каменной лестницей, весь утопающий в зелени, каменная стена кладбища, на воротах которого высечены слова: «Остановись, прохожий!..» Чуть дальше — озеро с пасущимися над ним предрассветными тучками, с дремотными деревьями и лодками на берегах. Из осоки с криками взмывают птицы. Пахнет аиром, просмоленными лодками, водой и клевером — на этих запахах настояно все местечко. В нем несколько прудов, они сверкают посреди пустырей на полях, которые западные ветры то и дело завешивают туманами. Дворы словно вымерли, тишина, ставни закрыты. Росистые ягоды свисают прямо через плетни… Я пролетаю по старой рыночной площади, мимо аптеки, лавки хозтоваров, мимо памятника, мимо дома горбуна, во дворе которого желтеет верстак. Скрипнули двери. Кто-то тихо прошел через двор — я успеваю увидеть только оголенные икры женщины, и слышу, как ошалело начинает рваться с цепи пес. И снова мои мысли приковывает Нийоле.
Назад я возвращаюсь окольными дорогами. После долгой гонки по лесу въезжаю в староверскую деревню. Мимо дома вдовы Филомены еду медленно, прислушиваясь. Слышно, как среди кленов заливается, ржет лошадь. При свете зари я вижу Сибирячку, из избы до меня доносятся чьи-то невнятные голоса. Стало быть, отец здесь. У староверской вдовы Филомены…
Лошадь поворачивает ко мне свои большие глаза и продолжает тихо ржать. Во дворе пахнет клевером и свежим хлебом. Что бы там между ними не было — эх! — не мое это дело, и я качу дальше. На холме меня ослепляет солнце; большое, прохладное, в клочьях тумана, оно висит над дымящимися, как половники с горячей похлебкой, озерцами и лугами. Женщины, забредшие по пояс в высокую люцерну, доят коров. Теплые струйки молока бьются в бока ведер… Еще миг-другой, и края неба затянет дымкой, оттуда дохнет зноем, ветром, поднимающим пыль; затарахтят возы, задрожит огромное зеркало озера, в котором отразится запыленное лицо умаявшегося дня.
Вдали, у самого горизонта, гудит поезд. Через минуту вижу: махонький, черный ночной жучок выныривает из лиственного леса и, волоча за собой цепь бурых вагонов, нагруженных стройматериалами и комбикормами, ползет по залитой золотом лучей насыпи. Здесь, где я теперь стою, когда-то был полустанок — до сих пор торчат развалины двух-трех домишек, остались следы заросшего травой перрона. Представляю себе, что тут творилось в такие утренние часы. Люди спешили на базар, в далекие местечки. Гогот гусей, толчея, узелки, корзины… Теперь никто ни из местечка, ни из деревни этим поездом больше не ездит — куда быстрее по шоссе автобусом.
Здесь, приехав из города в гости, сошел мой отец — не в такие ли утренние часы приветствовал он свою родину? Может, только эта красота, которой я упиваюсь, и досталась мне от него в наследство? Такое ощущение, словно кто-то уже здесь стоял и смотрел, как, пуская клубы дыма, из росистых лесов выныривает жучок-поезд. Тихо здесь теперь, вконец зарос проселок, по которому крестьяне возили на этот полустанок бекон и прочее. Поезд здесь даже не останавливается. Только седой машинист высовывает в окошко голову и смотрит вокруг.
На этом железнодорожном полустанке я побывал всего один раз, но уже сколько лет он живет в моем сознании. Не раз мы собирались добраться сюда на лыжах. Мы ведь обрыскали все местные холмы на севере, но вот сюда, в южную сторону, открывающееся раздолье полей нас не манило. Здесь царили стужа и далекий звук поезда, застывающий на ледяном закате. Я часто слышал от Константаса или Визгирдене об этой железной дороге. «Узкоколейка» — так она здесь называлась: «Интересно, прошел ли уже поезд по узкоколейке?» — спрашивал дядя. Может, лучше по узкоколейке… Когда немецкие самолеты бомбили узкоколейку… Помню, однажды ехал по узкоколейке… — вот какие здесь преобладали мерки времени и неизвестных мне событий и происшествий.
В студеные вечера, когда я выходил во двор или катался на лыжах, до моего слуха долетал далекий гудок поезда — единственный живой звук в посеревшем от холода предзакатном просторе; звук, обозначавший пределы другого, мне незнакомого, неизведанного мира. Я представлял этот поезд весь в инее, представлял, как он пыхтит по заснеженным полям и извергает в воздух клубы огня и искр. Он пролетал в моем воображении, как комета, тянущая за собой свой огненный шлейф. Этот гость студеных вечеров своим гудением приближал тот час, когда, завернув к Визгирде, я видел тетю, гладящую вальком холсты, или заставал в избе дядю Казимераса, катавшего валенки, приближал тот час, когда в печах во всех избах начинали полыхать угли, а на столах — дымиться картошка, и подтекали от пара окна, которые мороз расписал узорами; я знал, что вернувшись домой, найду греющуюся возле печурки Константене, и все мы долго будем слушать ее рассказы…
Промчавшись тысячи километров, он приблизился ко мне и стал отдаляться, не подозревая, что оставляет здесь пассажира, ждавшего его столько лет…
Но радости от встречи я не испытывал. Чувство, которое мной владело, не шло ни в какое сравнение с тем, которое посещало меня в те студеные вечера.
Прислонив велосипед к клеверному вешалу, я прилег. Проснулся от толчка в ногу. Кто-то лизал мои ботинки. Я вскочил в испуге, как не раз со мной бывало в детстве, когда на восходе солнца, выгнав корову на обочину большака, засыпал, и она, наевшись до отвала, будила меня, понятливые глаза скотины как бы говорили: «Вставай. Пора домой». То же самое говорили они и сейчас.
Сероватая морда была вся в капельках воды — так в зной запотевает камень, когда солнце из его просоленого тела выжимает последний остаток влаги. Таким остатком здесь была соль клевера, не успевшая превратиться в сладкое, пенящееся молоко.
Палило солнце, по узким полоскам дорог, поднимая тучи пыли, мчались машины, скрипели возы…
Уж если работать, так работать. Не выпуская из рук косы, я почти полдня косил сено. «Бог помощь!» — желали мне пешие и конные. В их глазах сквозило удивление. Иной даже останавливался, как бы не веря своим глазам — столько, мол, парень прокосов проложил. Под вечер явился Константас. «И я неплохим косарем был, но столько не накашивал… Утром, бывало, ухожу с восходом солнца… Ох, и коса у меня была, словно по маслу шла…» Такая уж у него манера говорить: чего только в мыслях не переберет, на каких только лугах не побывает, пока не вернется сюда, на этот, где я вот теперь стою. Над болотцем гудят комары, с берега прыгают лягушки. Вода, затянутая травой и илом, еще отдает ситником. Захочешь напиться — чистой водицы и горсти не зачерпнешь. Даже коровы неохотно пьют эту жижу, кишащую головастиками и пиявками, но запах, который она источает, придает вечеру что-то архаичное, древнее… Пойду к роднику напиться.
— Не пей, ведь вспотел, — говорит Константас, — получишь воспаление.
— А ты все стращаешь.
— С добрый гектар накосил, — не унимается Константас.
Да, косил я, держа косу почти поперек, захватывая как можно больше. Уж если работать, так работать.
— Двое мужиков за такое время столько не накосили бы, — удивляется Константас.
Мне всегда хочется испытать себя. Что бы я ни делал, я все время словно с кем-то тягаюсь, соревнуюсь.
— Я только одного в толк не возьму: зачем так надрываться, — сетует Константас.
Я этого тоже не понимаю, но когда мне удается кого-нибудь одолеть, я бываю очень доволен собой.
С пригорка, потягивая папиросу, спускается отец. Остановившись возле сплющенного, осевшего в землю валуна, он озирается. Над прокосами клубится легкий дымок усталости. Через плечо у отца перекинуто полотенце. Не сказав ни слова, он поворачивает к реке.
— Далеко не заплывай, утонешь, — предупреждает его Константас.
Отец разматывает взопревшие портянки. На другом берегу реки, над склонившейся ракитой, мерцает угасающий вечерний свет. На лугу Малдониса заливается ржанием лошадь.
Вода, теплая, бодрящая, разбегается от меня розовыми волнами-кругами. Я как огромная рыбина, ныряю то вправо, то влево. Когда поворачиваюсь на спину, в моей голове, как тронутая закатом невесомая тучка, всплывает такая мысль: я и впрямь во всем хочу быть первым. Как Альбинас спешит использовать каждую победу, чтобы приобрести как можно больше знаний, так я стремлюсь к ней, чтобы утвердиться.
На чердаке избы я вычищаю ларь, в который были свалены некоторые мои книги, записи, старые монеты, зажигалки, лампочки, примус, огромная лампа, труба, медная табличка с выгравированной на ней фамилией — видно, когда-то она была приколочена к двери… Полно здесь всякого хлама. Обломок прялки, старый серп с заржавевшим острием и треснувшей ручкой, даже конские скребки… — чего только сюда не понатащили! Все это — и школьные тетради, и дневники, и учебники — я складывал в большую корзину; вынесу и сожгу. Взгляд мой задержался на пожелтевшем, ровном, прямо-таки идеальном почерке — эту бумагу мы когда-то вместе с другими записями нашли на мельнице Мильджюса, на чердаке разрушенной клети.
Кое-что из этих записей я прочитал тогда Альбинасу; там, например, было написано такое: «…разум сковывает живое, трепетное чувство, сковывает движение, время, одни предметы и явления он затемняет, другие освещает, сравнивает… Наше знание носит метафорический характер… Метафора — скачок от действительности, ее иллюзорное пересоздание… Назначение разума чисто практическое… Наша мысль ползет по пустым скорлупам понятий, и это движение, равно как и его интенсивность, создает иллюзию нашего проникновения в глубь, в сущность, и прочее… и прочее».
Я еще не кончил читать, а Альбинас уже попотчевал меня своей насмешкой. «И ты во все это веришь?» — спросил он, стоя на высоком замшелом валуне возле приклетка. «Я не очень понимаю, — сказал я, — но в это надо вникнуть, хорошенько разобраться, смысл тут налицо». — «Бред сивой кобылы», — и Альбинас взобрался на приклеток. Я подошел к нему поближе, желая вместе с ним разобрать какое-то зачеркнутое слово, он нагнулся и вдруг — как хватанет! Я и заметить не успел, как листки дневника перекочевали к нему в карман пиджака, с трудом отнял их у него, но, к сожалению, не все. Я знал, что он мне ни за какие коврижки эти записи не покажет, не отдаст — завидует: спрячет куда-нибудь подальше и будет тайком почитывать, чтобы одну-другую мысль присвоить и потом выдать за свою — Альбинаса Малдониса…
Заросшую травой усадьбу вдруг залило непривычно резкой белизной света. Рядом с камнями фундамента сохли, полыхали какие-то ярко-красные цвета, росли шиповник, вереск, над ними кружились мотыльки, пахло головешками, раскаленной на солнце жестью, куски которой валялись в траве между обгоревшими железяками и бревнами. Поднимая тучи пыли, по высокому мосту промчалась машина. И рвалась вперед, переливалась, брызгала через заросшую травой плотину вода Швянтойи, падала куда-то в черную пропасть, клокотала у камней, ленивым течением, нагретым теплым полуденным солнцем, скользила мимо склонившихся на берегу ив.
Но Альбинас не был бы Альбинасом, если бы уступил: «Ты не сердись из-за этого дневника, — сказал он, когда мы шли мимо подвала. — Неужели ты не понимаешь, что эти мысли и привели его к самоубийству?» — «Кого — его?» — спросил я. — «Какой ты недогадливый — Вигандаса Мильджюса, ты что, ничего о нем не слышал?» — «А… Только вряд ли эти мысли виноваты в его смерти, может, даже наоборот, поддерживали его, может они — результат того, что он никак не мог приспособиться ко времени…» — сказал я, глядя на высокие стебли травы. Мы вышли на серый проселок, над нами пылал день, сухой, без единого облачка, без малейшего ветерка. «Уже осень», — произнес Альбинас, и мне вдруг почудилось, что все — и луга, и деревья — как-то притихло, чего-то, печалясь, ждет… может, скрипа телег на дороге, может, звонкого «тпру!». Мы были словно какие-то старые потомки солнечного дня, каким-то эхом, долетевшим откуда-то из других жизней, уже умирающим, затихающим, это эхо пил багровый шиповник, это эхо колыхало тонюсенькие крылышки стрекоз, которые не знали, где приземлиться…
Вдруг мой взгляд зацепился за непривычное дерево — похожее на кипарис, но нет, то был не кипарис, не такое высокое — узкое, прямое, оно всеми ветками взмывало вверх. Среди хрупких лип, среди лениво шелестевших кленов, рядом с меланхолически склонившейся ивой оно, это дерево, было истинным воплощением экспрессии, живым полетом, не заслонило ни одно рядом тянущееся к небу деревцо и, казалось, ничего больше, кроме высоты, вокруг себя не видело.
— Посмотри, — сказал я Альбинасу, — ну точно кипарис. — Врезались мне в память эти деревья, которые я когда-то видел на картинах, гордые, одинокие, осененные звездной тишиной где-нибудь в аллеях, среди скал или над морем… — Как нездешнее. Кто его сюда привез? Видно, Вигандас его посадил. Интересно, почему оно такое. Словно и не дерево.
— Верно.
— Какое-то загадочное…
— Ломаешь голову. Обыкновенный гибрид. Теперь всякие породы выводят, — добавил Альбинас, и мне вдруг стало муторно и тоскливо.
— Если даже гибрид, все равно… — не выдержал я, когда мы двинулись домой.
— Тебе все время подавай чудеса заморские.
— А тебе что — они не нужны?
— Я реалист, трезво смотрю на вещи. Лакировка не по мне. Все принимаю в таком виде, в каком оно существует.
— Если ты не лакировщик, то чего себя самого все время приукрашиваешь? Боишься показаться таким, какой ты есть?
— Это другой вопрос.
— Нет! Не другой. И это дерево ты почему-то подменил, гибридом назвал. А это не гибрид. Я теперь вспомнил — из биологии…
— Ну и ладно, держись ты за это свое дерево.
Альбинас так меня почему-то разозлил, что я, не сказав ему ни слова, пошел домой. На другой день он встретил меня, осклабился.
— Поздравляю, — простер он руки. — Вы оба думаете одинаково. Хорошего нашел ты советчика.
— Почему?
— Ты что, забыл, как Мильджюс свои дни кончил?
Меня охватил ужас.
— Ты тоже не знаешь, как кончишь, — отрубил я.
— Я уже давно хотел с тобой поговорить, — признается директор хозяйства, пожимая мне руку. — Садись.
Он среднего роста, с брюшком и бойкими глазками. Разговаривая, он любит вертеть в руке или переставлять с места на место какие-нибудь предметы. Он прикасается к ним так, как будто старается их приласкать или согреть в мягких руках. Сын его, долговязый, сухопарый, в зеленой студенческой фуражке, — один из лучших спринтеров республики.
Сидим. Молчим. Директор косится на мою одежду, на руки. Только теперь мое обоняние улавливает зловоние силоса и застоялого пруда, которое я принес сюда, в эту комнату. Мне хочется спрятать руки, но пусть; если уж я положил их на обтянутый зеленым сукном стол, то пусть и лежат.
Он начинает разговор без всяких обиняков.
— Так каковы же твои дальнейшие планы? — спрашивает.
Я делаю вид, будто ничего не понимаю.
— Ты молод, крепок, у тебя есть способности. Неужели ты всю жизнь будешь телят кормить?
— Отнюдь. Хотя и в этом не вижу ничего дурного.
— Дурного здесь действительно ничего нет, только…
Он замолкает. Перед моими глазами проносится мой будущий рабочий день: где-то жужжит циркулярка, гудит электромотор, переругиваются собравшиеся у конторы рабочие, снуют машины. Я мог бы проработать здесь несколько лет водителем, осеняет меня.
— Водителем? — удивляется директор.
Но передо мной вдруг отчетливо возникает фигура отца: стоит, припертый к забору голодными телятами, держит битком набитую корзину с силосом. Лицо у него такое, словно он прислушивается к какому-то важному разговору. По коридору ходит уборщица Ванагене. Увидела меня и зачастила: что директор ее детям предложит, куда они денутся?
— Работы я не боюсь, — уверяю я его.
— Знаем… это мы прекрасно знаем. Поэтому мы тебя сюда и позвали, — он поднимается из-за стола и закрывает дверь в коридор.
В окно яростно бьется шмель.
Удобно устроившись в кресле, директор берет со стола статуэтку футболиста, начинает, вертя ее в руке, говорить со мной как по писаному — он даже глаз на меня не поднимает. Да, совхоз благодарен мне… Я столько помог ему… И за совхозную команду выступал… И вообще… — он пытается соскрести с гладкой фигуры футболиста какую-то прилипшую крошку.
— Между прочим, — вдруг оживляется он, — ты мог бы написать о нашем совхозе в газету. (Раньше я пописывал кое-какие заметки.) У нас хорошие новости. — И директор принимается объяснять мне, какие у совхоза перспективы. Новые фермы, контора, Дом культуры… — На фермах все будет полностью механизировано, силос в корзинах таскать не надо будет. Такие скотники… — он вдруг замолкает, смекнув, что слишком разошелся.
Снова перед моим взором возникает отец: заросший жесткой седоватой щетиной, он стоит с корзиной силоса, припертый телятами к забору, и ждет приговора, который, чего доброго, должен подписать я, его сын. Вот до чего довели его легкомысленность и чванство. Пролетарий! Представитель трудящихся!.. Зимогор! Солдат! То, что он когда-то старался отшвырнуть от себя, отбросить, то, о чем он и подумать не смел, теперь со всей тяжестью обрушилось на него. Где он, его величественный жест? Пародия: стоит он сейчас у заляпанной навозом загородки, дрожащей рукой срывая прилипшую к губам папиросу и слушает окончательный приговор себе. Бывший передовик труда, ударник. («Он даже фамилию свою как следует написать не умеет, — витийствуют невидимые судьи. — А только вспомните, как ходил — гордо задрав голову!») Что это? Запоздалая месть? Возмездие?
— Думаешь, мы ему лучшей работы не предлагали, — говорит директор. — Предлагали, а он нет, и все. Ты тоже такой, — добавляет он вдруг.
Он поднимается из-за стола и, заложив за спину руки, некоторое время стоит у окна. Совхоз предлагает мне стипендию, кончишь и вернешься, мол, высококвалифицированным специалистом — агрономом или ветеринаром.
— Нет, спасибо, — говорю я.
Директор смотрит на меня так, как будто я ему съездил по лицу. Выясняется, что он из-за меня даже в район ездил.
— Отец просил? — впиваюсь я в него глазами.
— Так ли уж это важно? — начинает он рыться в бумагах.
Хороша семейка, нечего сказать. Мачеха только и норовит что-нибудь притащить с фермы домой, отец ошивается в конторе и пытается выклянчить для своего сыночка поблажки. Черт знает что творится: всякие хищения, комбинации. От отца только и слышишь: то зоотехник просил мешочек отрубей, то завхоз, а что остается телятам? Правая рука директора, чего доброго, не ведает, что делает левая. Не зря же на весах у кладовщика аж четыре карандаша, а пятый за ухом торчит: одним вычеркивает, другим поправляет, третьим новые цифры вписывает.
— Так что же ты собираешься делать? — осведомляется директор.
— Годика два-три поработаю здесь, а потом… — говорю я как можно более спокойно.
— Что?.. Что ты здесь будешь делать?
— Буду работать в мелиорации или… на стройке.
— А дальше? — голос его суровеет, словно у него на меня какие-то права.
— Дальше… Когда мне уже будет ясно, чего я хочу, хотя, по правде говоря, я кое-что и сейчас уже знаю…
Директор от удивления разевает рот.
— Буду изучать… литературу, философию!
— Что?.. Что?
— Фи-ло-со-фи-ю!
Он отшатывается от меня, как ужаленный.
Я знаю, есть такие профессии, которые могут прижиться в некоторых кабинетах только с помощью силы и которые надо скрывать от близких. Есть профессии, которые и назвать-то боязно, и не потому, что они никудышные, а потому, что, назвав их по имени, можно сковать себя, перед кем-то взять обязательства, связать себя по рукам и ногам, привыкнуть везде и всюду вести себя так, как того требует эта профессия или как велит тебе твое общественное положение.
— Что ж… — поступай как знаешь, — директор включает стоящий на подоконнике вентилятор. — Мы тебе только добра желаем. Если передумаешь — приходи.
На узкой дорожке я чуть не сталкиваюсь с отцом, который тащит в ведрах из пруда воду. На его вопрос, застывший в испуганном взгляде, я недвусмысленно отвечаю «нет». Коромысло сползает у него с плеч, вода расплескивается, и ее тотчас же жадно впитывает глинистая тропка. В ведре меж зеленых маленьких листочков трепыхается несколько головастиков.
— Так я и думал. Я теперь и сам не пойму, на кой ляд так старался, столько бегал. К черту! — кричит он, пиная ногой ведро. — Пусть все катится к чертовой матери! С меня хватит, знайте! Ты решил ловить ветер в поле. Говорю тебе — ветер!
Все прохожие, какие попадаются нам на пути, смотрят на нас.
Я кошу на горе Висельников клевер. Небо пепельно-серое, сквозь раскаленную дымку едва пробивается свет солнца, кажется, вот-вот ударит гром, сверкнет молния и разрубит весь зной на кусочки. В траве шуршит ветерок, рассеивая пыльцу. В лепестках цветов ревностно трудятся пчелы. Я кошу не разгибая спины, пот струится с меня ручьями.
…Я стоял на самой макушке горы, когда вдруг увидел, как на большаке заклубилось густое облако пыли, и неподалеку от топи послышалось мычание скотины — пастух Арциёнас торопливо гнал ее к лугу. Но было уже поздно: там, в овраге, словно в огромном омуте, вихрилась, поднималась столбом пыль, носилась и кружилась сорванная с крыш солома — первая добыча грозы. Еще минута-другая — и деревья на откосе затрещали, поникли. Вспыхнула молния, а за ней прогрохотал гром, да так громко, будто взрывали скалы. Запахло серой и дождем, который сеялся полосами, подгоняя бегущих с граблями и вилами людей, и ни один из них не успел укрыться от ливня. Кое-где сыпался град, крупный, как горох. И гремел, сотрясая небо и землю, гром. Словно страшный бог, он грозил кому-то только за то, что каждый стебелек, каждая тварь уже несколько недель ждали, как величайшей милости, влаги.
Я укрылся в полуразрушенной избушке Майштаса. Лесовики зверски убили тут всех. На стене до сих пор остались следы от пуль, там, где сраженный отец Таутгинаса скатился под лавку вместе с миской похлебки — стреляли в окно. За что? Таутгинас скупал овчины, кожу и тут же их выделывал…
Все тут выглядит так, как после той ночи: изъеденный древоточцем стол, две длинные громоздкие лавки вдоль стен, печь, старые калоши, полки… Помню, мы как-то заглянули сюда с отцом — тогда еще жива была жена Майштаса, приветливая, хлебосольная старушка. Полки были уставлены крынками с молоком, сырами, банками с вареньем. Пахло свежим караваем, которым она нас угощала, не отрываясь от своих дел, — процеживала молоко, стирала сырные мешочки, наливала в кадочки сыворотку. Майштас принес из подвала жбан с пивом. Не на пасху ли это было, когда мы, дети, потом с пригорка катали крашенки?.. Как сейчас стоит у меня перед глазами тот день, ветреный, сухой. Вспоминаются и другие дни, когда я поглядывал во двор сквозь низкое оконце избы и смаковал разные хозяйкины лакомства. Я слышу бой стенных часов, вижу в саду деревья, которые треплет ветер, двор, который заливает солнце, темный вход в погреб и вспоминаю, что, покидая избу Майштаса, я думал о том, что когда-нибудь мы сюда снова придем.
Теперь здесь бродят только призраки смерти. Ветер срывает со стен последние обои, и такое ощущение, словно здесь кто-то еще живет, прислушивается к малейшему шороху, ходит за тобой по пятам.
Ветер распахивает дверь. Подожду под крышей погреба, пока пройдет дождь. От заросшего вьюнком и картофельной ботвой входа в погреб веет стужей. Вьюнок и ботва, взобравшись по высоким, покрытым лишаями травы ступеням, проникают внутрь, подминая под себя и заслоняя собой оставшиеся там пожитки, кадки с лопнувшими обручами, бочки. Там теперь владычествуют крысы, лягушки, ящерицы, там белеет скелет тонконогой бездомной собаки — она, бывало, все обнюхивала меня, тыкаясь мордой в колени, — видать, забрела сюда перед концом.
Дождь всласть напоил водой все истомившиеся рты — а то, что не уместилось, лилось через край и посверкивало на солнце. Над южным краем леса сияла радуга. Дымились ложбины, крыши домов… Снова на выгон возле топи пригнал свое стадо Арциёнас. Возле белой придорожной избы, окна и крылечко которой заляпаны грязью, летящей из-под колес проезжающих мимо телег, по лужицам бродили детишки, радуясь отраженному в воде жаркому солнцу, — они расплескивали его и колотили палками. Там жили многодетные семьи Йонаускаса, Шименаса, Ванагелиса. Вот и меньшой Йонаускаса — Адомелис — вертится в поле возле отцовского колесного трактора — он просто липнет к машинам, но учиться ленится.
Десять детей в семье Йонаускаса. Я знаю только Адомелиса, двух высокогрудых, созревших до времени дочерей, от гомона и смеха которых стены дрожат на вечеринках, да еще старшего сына Вилюса. Вилюс — гордость их дома. Бывший комсомольский секретарь школы, отличник, спортсмен, активист. Куда ни глянешь — он. Со всеми неизменно вежлив. Но мне он чем-то несимпатичен: обтекаемый такой, избалованный похвалами — чего-то в нем не хватает. Упорства, решимости, силы, что ли, хотя в школе его всегда ставили в пример. Вилюс только прикидывается добреньким. На самом деле он завистливый, честолюбивый: помню, как он однажды глянул на меня, расшнуровывая свои баскетки. С тех пор он меня как бы сторонится. Вежлив, но холоден. Хотя его всюду превозносят и он всем нужен, Вилюс — не больше, чем приспособившаяся посредственность. А вот и он. Идет по проселку прямехонько на меня.
— Трудишься?
— Ага.
Рукава его рубахи засучены, на запястье часики, брюки тщательно отутюжены, ботинки словно только что из магазина.
— Я пришел покалякать с тобой.
— И долго калякать будем?
У Вилюса привычка — острые словечки пропускать мимо ушей. Поскольку, дескать, я остаюсь в совхозе, он уступает мне должность секретаря.
— Я бы согласился, но еще не знаю, где буду работать. Может, в мелиорацию перейду. Кроме того, у меня никакой организаторской жилки…
— Найдется, — улыбается Вилюе.
Ах, эти собрания, эти увеселительные вечера… Беги, колдуй, убеждай, организовывай. И все с энтузиазмом, с подъемом.
— Ведь ты прекрасно меня понимаешь, — смотрю я на него в упор.
— Что ж. Только не прогадай… не прогадай, — губы его странно подрагивают. Будущий инженер, один из тех, с кем у меня ничего общего никогда не будет. Он далеко пойдет.
Во дворе, ругая испачкавшегося в грязи малыша, стоит мать Вилюса. Лицо у нее ясное, благородное. Она чем-то напоминает мне тетю Визгирдене. Все подоконники в их избе уставлены цветами… Из пруда на берег вылазят утята, погреются на солнце и снова вразвалку побредут в илистую воду. С противоположной стороны появляется отец Вилюса, неторопливый, ширококостный, неразговорчивый. Такое ощущение, словно он живет не наяву, а во сне, где до него только изредка долетают какие-нибудь земные звуки. Он, должно быть, никогда не слышит, как бранятся возле забегаловки мужики. Какая разная у людей жизнь! Мир одних — сплошные руины и опустошения, другие влачат жалкое существование на выжженных пустырях, а у третьих всего вдоволь — и солнца, и дождя.
В клубе-читальне печалится гармонь. Раскачиваясь, кружатся Вале, Дангуоле, Стасе… Они провожают меня взглядами, в которых — собачья привязанность и застарелая вялая тоска…
Омытая дождем зелень сверкает, как изумруд. Пахнет лугами, садами, склонами. Теплые лучи лижут камни на бывшей рыночной площади. На крылечках сидят старушки и вдовы. Вдовы — Багочюнене, Бяржене, Вайгинене…
— Здравствуйте.
— Здравствуй, здравствуй.
Когда фронт откатывался, муж Багочюнене удрал на запад. Она одна вырастила двоих детей. Как только я переступал порог ее избы, в меня в неласковом сумраке сразу же впивались огромные детские глаза. Низенькие, узенькие оконца, щербатый пол, деревянная лавка, жужжащая прялка, нить, которую тянут и сучат непослушные пальцы, немое, словно суровый укор, лицо старой Багочюнене; она, бывало, не шелохнется; вошел кто-нибудь, не вошел — Багочюнене сучит и сучит ту же свою нитку.
Я здороваюсь с Акуотисом, пошатывающимся на крыльце забегаловки, с трубочистом Ряубой, с Панавене — их сыновья давным-давно разлетелись бог весть куда. Нет здесь и детей Бяржене, многое здесь теперь изменилось. О переменах говорят и лица женщин, повернутые на запад, где за крыши соскальзывает немилосердно палящее солнце. Это местечко — ни дать ни взять громадное гнездо, из которого беспрестанно вылетают птенцы. Остаются только матери, стоящие в подворотнях и в сенях.
Я здороваюсь с учителем литературы — он оглядывает побитый грозой сад. Поднимает усыпанные плодами ветки фельдшер Шульцас, который дважды меня лечил от воспаления легких. Его белую, как яблоня в цвету, голову я замечаю издалека.
Сухопарая, одетая во все черное старушка сидит на солнечной веранде среди роз и георгинов. Лицо у нее бледное и бескровное. В руке — книга в таком же черном, как одежда, переплете, на котором золотится крохотный крестик. В пригожие осенние дни здесь царит необычная тишина и до одури пахнет хмелем и увядшими розами… Бывшая монахиня. Анастазия. Не бывает дня, чтобы она не сходила на кладбище, не украсила чью-нибудь могилу…
— Здравствуйте.
Она не отвечает, наверное, не слышит, а может, просто не узнает.
Мимо гонит корову сестра Панавы. Теперь уже она, считай, девка. Смотрит на меня совсем не по-детски. Босая, с забрызганными икрами, с русыми свалявшимися волосами, идет, как осоловелая — ноги у нее заплетаются.
— Здравствуй, — роняет она и торопится прочь, словно ее стегнули по икрам крапивой или хворостиной.
Из подворотни дома, где живут Великисы, с гиканьем вылетает ватага сорванцов, за ними гонится босоногий малыш — ах, какая радость, что все его боятся, улепетывают от него. Еще шаг — и он врежется в меня, но малыш останавливается возле лужицы, из которой ему в глаза бьет теплое вечернее солнце, и, засунув в рот грязный кулачок, смотрит на меня с удивлением. Я подхожу к памятнику Таутгинасу Майштасу. Почему до сих пор не удосужились отремонтировать их избушку — что с того, что она стоит на отшибе? Надо будет сказать Вилюсу, хоть у него теперь совсем не то на уме; директору… скажу директору. На перекрестке улиц — дом из красного кирпича. Когда-то здесь была тюрьма, потом — молочная лавка. Пьяные здесь начинают сквернословить или говорить сами с собой. И отец мой здесь сидел. За Амбразеюса. Уже давно никто не скрипит тяжелыми, заржавевшими, обитыми жестью дверьми подвала, но мне почему-то кажется, что там до сих пор царит прохлада тех летних дней, которая струилась в распахнутый дверной проем, когда, зажимая в потной ладони монету, я прибегал сюда за мороженым. Когда во дворе от зноя жухла листва на деревьях, мелели речки, здесь, в подвале, владычествовала зима. Заиндевелые стены, огромные глыбы настоящего льда с вмерзшей в него озерной травой. Бывало, провожу по ним рукой и чувствую колючее прикосновение зимы — поверхность их гладкая, они прозрачны, как облизанные телятами куски соли, которые кладут в кормушки. Летом мы тосковали по зиме, зимой — по лету, по тому, что никогда на свете не бывает одновременно. Разве это не чудо — попасть из лета прямо в зиму. Пока молочник накладывал в картонный стаканчик ароматную кашицу, я всласть дышал зимним воздухом, который белыми клубами валил у меня изо рта.
Я ел мороженое, сидя на холмике, насыпанном над погребом, с которого видны были обмелевшая речушка и местечковые мальчишки, накалывавшие на остро заточенные палки рыбешек.
Такое мороженое мне в городе покупала бабка, когда ходила на базар. Хорошо помню, как я впервые его попробовал.
Это был какой-то город в средней полосе Литвы, может, даже Паневежис. Жарко, ослепительно сверкает асфальт, гудят машины, Не выпуская из рук мою ладошку, отец болтает с какими-то мужчинами. Напротив зеленая тележка — женщина в белом халате продает лимонад… За ее спиной — витрины, уставленные игрушками. Но больше всего меня привлекает стоящее на холме здание, высокое, из красного, выкрошившегося кирпича, словно впитавшее в себя зной всех летних полдней. Ни одного деревца рядом, только забор, стены, опутанные колючей заржавевшей проволокой, узенькие, забранные в решетку оконца.
Отец покупает мне мороженое. Взяв белый стаканчик и отведав лакомство, я почувствовал и другой вкус, вкус устрашающего слова, которое произнес отец, ответив на мой вопрос «что там?» — «тюрьма». «Раньше здесь была тюрьма», — добавил он.
Мы быстро пересекли улицу. Проходя мимо тюрьмы, я увидел низкое оконце, за которым сновали машины, чьи-то руки укладывали на стол сероватые поблескивающие плиты.
Эта картина стояла перед моими глазами и в чистеньком кафе, когда я поднял стакан с ароматной пузырившейся рыжеватой жидкостью, стакан, в котором что-то кипело, поднималось вверх, шипело, перешептывалось на непонятном языке минералов. Но в ушах все еще звучало отцовское слово — тюрьма…
Мы возвращались с отцом с фермы. Темно хоть глаз выколи.
— Завтра пойдем на рыбалку, — говорит отец.
С Кябяшкальниса видно зарево огней, горящих в хозяйственных помещениях, чуть поодаль, справа, разбросаны розоватые огоньки местечка, но если какой-нибудь путник, забредший сюда издалека, увидит это зарево, то конечно же подумает, будто добрался до большого города, где получит и теплый ночлег, и пищу.
— Как под Смоленском, — говорит отец.
— Где?
— Под Смоленском. Мы вошли в него ночью.
Снова ему мерещится фронт. Он зажигает спичку, закуривает, и я успеваю увидеть его лицо: заросшее щетиной, мокрое, как будто кто-то плеснул в него из полного ведра.
Какое-то время мы шагаем молча.
— Зря ты не поехал учиться, — цедит он.
— Еще успею.
— Кончишь — возвращайся сюда. Все здесь свои, лучше нигде не найдешь. И меня здесь все любят. Только для вас я никто. Со временем, может, поймете, кто я на самом деле…
Старая, изрядно надоевшая песенка. Я ускоряю шаг. Его уважают? За что? Наоборот — я вижу, как все от него отворачиваются, не обращают внимания на его слова, перебивают, когда он говорит…
С радостным лаем к нам кидается собака. Отец гладит ее, заговаривает с ней.
— Завтра пойдем на рыбалку, — говорит он.
По краю низкого утреннего неба, касаясь зубчатых верхушек деревьев, в ветвях которых полыхает заря, медленно ползут тучи.
Отец снимает со стены дырявую сеть, нахлобучивает старую шапку.
— Вряд ли что поймаете, — сомневается Константас.
— Вот и я говорю, — пролетая мимо, трясет головой мачеха, — совсем рехнулись.
Насмешливо посверкивает золотой зуб Константене. Лицо у нее злое-презлое.
Луга, изрытые кротами, мокрый почерневший кустарник, мутная холодная вода. Отец косится на омуты, оглядывает броды. Он в рваном ватнике, в калошах, под шапкой — кисет с табаком, спички; ветер колышет потрепанный, вздувшийся козырек.
— Ты чего смеешься? — спрашивает он.
— Какой уж тут смех.
Ветер шумит в верхушках деревьев, гудит в лесу. Отец что-то мурлычет на ходу. До меня долетают только последние слова: …грусть-тоска меня терзает… как клещами грудь сжимает. Откуда он знает эти строки Майрониса? Где, когда он их услышал?
У брода Визгирды мы садимся в лодку. На глади заводи колышутся почерневшие листья — трава уже чахнет. Однако в кустах еще можно учуять запах весенних наносов и ила. Над омутами, как призраки, трепыхаются водоросли. У самого берега снуют окуньки и щурята, пугливые, прозрачные, как икринки, из которых они развились. Иногда дорогу нам преграждают огромные рыбины, которые обычно держатся на глубине. Это темно-зеленые щуки из прохладных затишков и заповедных заводей, на дно которых никогда не проникает свет. Омуты, в которых они живут, не очень-то богаты рыбой, но зато они очень просторны. И, как бы дразня этих хищников, трепыхается, шевелит плавничками крохотная колючая рыбешка — колюшка. Как только вытаскиваешь ее, она тут же подыхает — ладони не успевают высохнуть. Одни косточки, одни иголочки, которыми утыканы их хрупкие тельца. И проплывают они всего-то вершок, ровно столько, чтобы выскочить из окровавленной раскрытой пасти щуки или окуня, когда те хватают их. Потом снова стоят, не движутся, ждут — может, какая-нибудь другая щука на них позарится. Вот так рыбешка, вот так созданьице!
По зябкому небу, словно какие-то изодранные тела, тянутся тучи — обноски миновавших летних дней. Красочное одеяние здешнего пейзажа.
— Погоди, сейчас прояснится, — говорит отец.
Пугливый луч порой лижет устланные почерневшими листьями берега…
— Сейчас… сейчас прояснится, — отец не спускает глаз с воды. Он весь внимание, словно по дну скользит тень какой-то огромной рыбы.
Порой кажется, будто кто-то за тобой следит. Такое чувство охватывает меня и сейчас, когда мы плывем над глубоким омутом, называемым то Черной пропастью, то Котлом — тысячи глаз буравят нас из глубины, но среди них есть особенные — жадные и хищные. Здесь, в этой окруженной со всех сторон лесом заводи, я однажды испытал жуткий страх.
Уже темнело, и угрюмый гуд леса накатывался волнами, так же, как и густеющие сумерки. Однако река текла медленно и тихо. Желая еще раз испытать счастье, я забрел в воду и забросил удочку. Вздрогнул, не успев сообразить, что случилось. Мимо меня проплыла огромная — мне никогда такой не приходилось видеть — рыбина, ни сазан, ни голавль, ни щука, я только увидел ее округлую темно-зеленую спину и почти почувствовал, как она скользнула у меня между ног. Обитательница этих бурлящих вод и непроницаемых глубин. Она вынырнула, желая, видно, обозреть свои владения, и маленький, застывший с удочкой человечек на мгновение как бы стал ее собственностью. Если бы в ту ночь с корнем вырвало дубы-исполины, если бы разлилась река или этот человечек не вернулся бы домой, все в деревне подумали бы об этой рыбине. Я тогда верил во все — и в то, что феи купаются в омуте и что угри выползают, чтобы полакомиться на огородах горохом… И я во весь опор помчался домой. Вбежав во двор, удивился: отец как ни в чем не бывало покуривал свою папиросу и толковал о чем-то с мачехой, которая доила корову.
Я потом еще долго приставал ко всем и все рассказывал, какую видел рыбину. Увы, как я ни размахивал руками, как ни охал, никто мне не поверил. Рыба, мол, должно быть, как рыба, и все тут.
— Вот такая? Такая? — переспрашивал Альгимантас, разводя руками. — Больше она и впрямь не могла быть.
Но та рыбина не была как все рыбы — иначе чего бы я так перепугался? Это было что-то невиданное и неслыханное, и первым с этим столкнулся я. Вот чему должна была удивиться вся деревня. Удивиться и рассказывать всем об этой рыбине, рассказывать и повторять: «Вот такую рыбину Юзукас в Черной пропасти видел». — «Не такую, а вот такую!» — сказал бы я им. Пусть же мчатся все к омуту, пусть прочесывают его сетями, пусть орудуют острогами — может, увидят, поймают. Но вместе с тем я чувствовал, что рыба была не такой большой, какой я увидел ее полными ужаса глазами (только я почему-то в этом не хотел даже себе признаваться). Я так надоел всем с этой рыбиной, что надо мной стали подтрунивать, хотя немножко и поверили в нее. Потом я даже собирался написать об этой рыбине рассказ. И хотел начать его возвышенно, со всякими там паузами: живет в сумрачных водах моя рыба. Когда бы я ни пришел к омуту, она приплывает ко мне, и я могу погладить ее, могу нырнуть к ней и носиться по клокочущему водному царству. Она словно страж мой… Живет, повторял я, в сумрачных водах моя рыба.
Глупости. Но однажды в полночь я шел с собачкой по лесу, махонькая эта наша собачка, трусиха, от кого она может защитить, уже у опушки начала скулить и жаться ко мне, а ведь еще надо было пройти мимо барсучьих нор, по чаще, где рыси бродят. Я наклонился, погладил ее, не бойся, говорю, и оба мы зашагали дальше, не чувствуя никакого страха. Трусит рядом с тобой живое созданьице, и уже веселей на душе. «Хранит меня… хранит этот вот отцовский медальончик», — порой говорит Константас, хотя он и без того крайне осторожен.
Но опять же: кто, какой ангел хранил моего отца, ведь он ни во что не верил, а сколько опасностей.
— Где ты видел эту рыбину? — спрашивает отец.
— Вон там, под ивами, — показываю рукой.
— Давай забросим туда.
— Да бог с ней.
— Давай забросим.
Мы тянем сеть. Несколько окуней, плотвичек, но там на глубине кто-то ее дергает, и чем выше отец ее поднимает, тем лицо его больше бледнеет. Вытащил на вершок и молчит, как немой. «Не шевелись, не шевелись. Шшш…» — шепчет он, боясь шелохнуться. Нос лодки вдруг погружается в воду, какая-то сила тянет ее на дно, и я вдруг вижу — черная сверкающая спина, потом белый, как большой никелированный умывальник, живот, и рыба, потопляя нашу лодку, уходит на дно. До берега мы добираемся вплавь. Отец плывет к одному краю, я — к другому. В воде, у доверху залитой лодки, плавает его шапка, спички, кисет с табаком, бутерброды. Течение бурлит, тянет нас, пытается накрыть с головой. В конце концов мы выбираемся на берег. В глазах у отца испуг. Я поражен — неужели в этих водах на самом деле обитает какое-то чудище? И уже столько лет.
— Сам видишь, — отрубает отец. Он все еще смотрит на омут, словно ждет, что там случится что-то страшное. Нет, от него ускользнула не только рыба — ускользнуло счастье, которое он ловил годами, счастье, а может, вся его жизнь. Остались только ее печальные свидетели, плавающие в холодной бурлящей воде, которая все унесет в небытие.
Отец на чем свет стоит ругает брата Казимераса — не мог этот жмот одолжить ему новую сеть.
Мы устраиваемся на опустелом мыске нашего луга — здесь затишок. Развешиваем на вербах и на ивах одежду. Исподнее отца прилипло к телу, от груди валит пар. Коренастый, мускулистый, с несколькими шрамами, один под левой лопаткой — след от выстрела в ту злополучную ночь — и затвердевшая шишка на щиколотке. Били его, пинали ногами, пытали стужей, но не сломили.
Мы греемся у костра под сосной. Весело потрескивает валежник. Но мне почему-то кажется, что с нами сидит еще кто-то третий, тот, который ходил все время по пятам за отцом, тот, которого отец все время удерживал, чтобы он не свалился в реку, тот, которому отец лущил орехи; то он зашелестит в зарослях волчьей ягоды, то, прислонившись к ольхе, смотрит на омут или идет со жбаном молока через луг. Его-то здесь больше всего и не хватает. Его, долгожданного, желанного, ласкового, все понимающего, сочувствующего. Тихого эха отцовской жизни, преданного попутчика и следопыта, заплутавшего в крапивниках и трясинах.
Голос отца звучит так, словно он пытается кого-то успокоить или рассеять чьи-то опасения. Я знаю: и его душу томит тревога, и нет у него другого сына, который мог бы поговорить с ним ласковей и дружелюбней, чем это сейчас делаю я. И мокрая листва — летняя одежда дерев — лежит тут же, у наших ног. И слова идут на убыль: их заглушает протяжный гуд леса. Луга затягивает в свои тенета осень, и они желтеют, упираясь в пасмурный горизонт. Я зову его домой. Уже пора.
— Сам вижу, что пора, — говорит отец, но по дороге он еще нарезает прутиков, накапывает сосновых корней: будет плести корзины, плетение корзин — его самое любимое занятие.
— Слыхал, говорят, реки этой не будет?
— Слыхал.
— И тебя это не волнует?.. — оглядывает он меня.
На обратном пути отца задерживает какой-то инспектор, молодой, рослый, в униформе, с миндалевидными глазами, чем-то похожий на сына Визгирды.
— Браконьерствуешь, не знаешь, что принят новый закон? А ну-ка давай сеть. Садись! Акт составим.
— Что?! — удивляется отец. — Что?! На меня?! Акт? Сопляк! На меня не такие акты составляли. Все власти составляли. Он, видите ли, акт составит! Ты что, с неба свалился, не знаешь, что для этой реки другое русло роют? Куда эта рыба денется?
— Может, и роют, но это не твое дело. Фамилия? — открывает он блокнот с бланками.
— Что?! — свирепеет отец. — Не мое дело?! А чье? Твое! А тебе до реки что? Ах ты, негодяй! — он хватает парня за грудки, стаскивает с пня, где тот было устроился со своей планшеткой и блокнотом, пинает ногой, но промахивается, инспектор еще пытается сопротивляться, но отец замахивается кулаком — все мужики в округе знают, какая у него рука, бьет так, что даже заправские силачи, и те плюхаются на землю, и ни капельки крови, ничего; уже поднимаясь, поверженные встречаются с его взглядом и быстро смекают, что верха им не взять, а если снова вздумают напасть на него, то и вовсе осрамятся — в такие минуты отец страха не ведает, если на него даже вдесятером насядут, все равно будет стоять, как скала, один, голыми руками будет драться, а понадобится, то, пусть и не всех, но одного-другого и кирпичом в назидание попотчует, да так, что тот его на всю жизнь запомнит.
Не замечаю, как бросаюсь к отцу.
— Пусти, — кричит он, — а то и ты получишь! — Но инспектор уже отскочил, схватил свою планшетку, поправил фуражку.
— Мы еще поговорим, мы тебя разыщем. Отсидишь пятнадцать суток как миленький. И свидетель имеется, — инспектор глянул на меня.
— Что?! — пуще прежнего заорал отец. — Сын?! Сын против отца свидетелем? И ты этому негодяю дашь показания? Они реки закопают, а ты пойдешь в свидетели?!
— Успокойся, — говорю, — ради бога, отец, успокойся.
— Видал? — кипятится отец, идя по сосновой рощице. — Ты видал, что творится? Разве это можно здравым умом понять? Ничего здесь нельзя понять. Человека хотят наказать за то, что он ловит рыбу, которая все равно задохнется в иле. Видал, какой ублюдок. Надел форменную фуражку и цепляется. Есть такой закон, нет такого закона, не поймешь, ничего теперь человек понять не может. Раньше как бывало: только приблизишься к человеку, а он весь аж звенит — сразу видно, чем живет, с кем имеешь дело. А этот? Свинопас. Думаешь, его что-нибудь волнует — рыба, река?! — возмущается он. Потом ни с того ни с сего сообщает: в Вильнюс, дескать, поедет. Рыбачить нельзя, а реку закапывать можно, никакого тут закона нет. Ни основного, никакого! Надо будет, и медали покажет, сколько их у него? — пять, шесть. — Ты же их рассматривал, должен знать, — говорит он. — Одна вроде бы большая — за друга, спас я его на фронте. Поеду. Есть там у меня старый товарищ, он теперь шишка, ого, ему оттуда, сверху, все видно, мы когда-то с ним на жестяной фабрике работали, он, бывало, мне говорит — ты, Криступас, поагитируй, потолкуй с людьми, тебя тут все любят, говорит, положив мне на плечо руку. Ох человек, кристальный! Мы с ним вместе гроб несли — забастовщика одного. Ухлопал он хозяина-пиявку и сам себе пулю в лоб, как сегодня помню слова, которые мне в то утро он сказал, беря у меня папироску. Как сегодня.
Был я как-то раз в Вильнюсе, принял он меня, узнал, разговорились, — рассказывает отец негромко, с восклицаниями, но слова его, как жухлые листья ольхи, мокрые какие-то, смятые, терпкие, не знаешь, как их и слушать. Он, должно быть, хвастает, хотя… кто знает, жил он так, что ничего не поймешь, от него всего ждать можно, он сам своего места не ведает. Уладил он дело, — говорит. — В один момент! Экстра! Всем сволочам по рукам дал. Есть еще у меня шансы, есть, — утешается он, все выше поднимая голову, но лицо у него бледное, глаза тусклые, беспокойно бегают по сторонам, ветер треплет измочаленный козырек кепки. Идем мы с ним по лесу. Отец останавливается, прислушивается:
— Слышишь, как бор гудит, как в той песне поется? Бор шумит, гудит и плачет. Ох, — хлопает он рукой по стройному стволу сосны. — Слушай. Давай послушаем, мох… — говорит он, — погоди, может тут и корни хорошие найдутся, погоди, сядь на эти вот качели, закурим, слышишь, луг, холмы, тропинка, эта тропинка… протоптана… Видишь, куда она сворачивает… вон туда, в кусты черемухи. — Он косится на меня. — У тебя сейчас что на уме? Только девки, вот что. В твои годы только девки и были у меня в голове. Потом начинаешь что-то находить. У человека ведь глаза помаленьку открываются, не сразу. Время бежит, и забот все прибавляется. Теперь меня все заботит. И даже очень. Сам не знаю почему, может, перед концом. Перед смертью и курица петухом поет. Присядь, сынок, сюда, нет, не на эти качели, а на этот вот камень, может, хочешь, поешь, — он разворачивает мокрые бутерброды. — Какая необъятность, какая необъятность, — оглядывается отец и снова прислушивается…
Мы сидим за столом. Виляя хвостом, Саргис смотрит, как я ем. Рядом отец — ест, не поднимая головы. В шкафу роется младший брат Викторелис. Высыпал из сумочки квитанции о выполнении поставок и выплате долгов, вытащил лису, теперь он примеряет отцовскую шляпу. Наконец в его руках оказывается альбом. Я поднимаюсь из-за стола, чтобы забрать его. Кто-то стучится в дверь.
— Милости просим! — кричит отец.
Входит нищий. Пухлые, ярко-красные щеки. Полы плаща замусолены, рукава потерты, крохотные глазки шныряют по стенам, по мебели, взгляд спотыкается об этажерку, на которой стоят ваза с треснувшим верхом, часы…
— Садитесь, — отец подвигает ему миску с супом и, взяв нож, направляется в сени. Потом на чердаке раздаются шаги, осыпается кострика.
— Иди посвети мне! — зовет отец.
Я внимательно оглядываю все вещи (этот нищий вызывает во мне подозрение) и, оставив распахнутыми двери (в случае чего — услышу), взбираюсь на чердак. Протянув отцу зажигалку, сломя голову скатываюсь по лесенке. Так я и знал: он уже в сенях. Озирается, чтобы дать деру. Под полой — ваза, часы, старая мамина сумочка. Все отнимаю у него и кладу на стол. С огромным шматом сала подходит отец. Смотрю на родителя с укоризной, чуть ли не торжествующе — ну что, видел? Но слова отца меня просто ошеломляют:
— Эх ты, Юозас, Юозас…
Вцепившись в какую-то тряпку, смотрит на нас ошарашенный Викторелис.
— Коли уж тебе это так нужно… бери, коли уж так нужно, — говорит отец нищему. И запихивает все в его торбу. Сует он туда и шмат сала, и краюху хлеба…
Нищий пятится назад, осеняя крестным знамением наш дом, и бормочет:
— Да благословит господь этот дом… да благословит господь, — крестит он крылечко. — Отродясь не видел такого человека. Пусть господь… А этот вот мальчик… — и он так зло пялится на меня, что я весь застываю.
Подхваченные ветром листья летят из-под ног прямо мне в лицо и с тихим шелестом взмывают вверх, как испуганная стайка воробьев.
Мне неуютно в собственном доме. Уйду. Лица у всех серые и унылые. Уже давненько не озаряют их ни пламя очага, ни вдруг воссиявшее солнце. Все разлетелись, разбрелись. За всю дорогу до самой фермы я не проронил ни одного слова. Молчит и отец.
Мачеху мы нашли за работой — она кормила скотину, разливала в кормушки отруби. Настроение у нее было хорошее: обещала, когда вернется, сварить цеппелины… Она всегда такая: то добрая, словоохотливая, то как оса, того и гляди ужалит.
— А я этот шмат сала весь отдал нищему, — признается отец.
«Какой там нищий!..» — хочется мне закричать.
— Весь?!
— А сколько его там было.
Она отшатывается от нас, как от огня. Заправляет под платок волосы. Лицо ее становится угрюмым и пустым.
— Дурни, вы, дурни. Всю мою кровушку повысосали, — и заливается слезами.
Отец в растерянности. Через некоторое время, все еще пряча взгляд, он говорит:
— Малец тут ни при чем, ты его не приплетай.
— Этот, что ли?.. Этот… для тебя он все еще малец?!
Она все время старалась нас рассорить и в конце концов добилась своего: теперь я частенько из уст отца слышу горькие упреки мачехи, а она стоит у него за спиной и вопит: «Ну что я говорила? Разве я раньше не говорила? Где твои глаза были? Надо было его так отлупить, а теперь…» И самое страшное — отец уже не перечит ей, пожалуй, даже одобряет ее брань. Чем же я его так разочаровал? Смотрю на его лицо, печальное, заросшее щетиной. Набив корзину отрубями, мимо нас пролетает мачеха. Голова откинута, подковки башмаков только тук, тук, мчится как вихрь, туда, где ее ждут Викторелис, нетопленая изба.
— Ну, такой жизни я и впрямь больше выдержать не могу, — он отшвыривает папиросу и направляется в магазин. Возвращается, когда в окнах домов уже горят огоньки. На лице яркий нездоровый румянец.
— Почему ты столько пьешь? — спрашиваю я его. — Ты можешь жить как человек.
— Как человек?.. Ты только и знаешь — как человек, как будто я теперь не человек. Вы все словно сговорились. А может, мне больше ничего не надо. С меня хватит — прожил свое. Теперь ты смотри, — голос его дрожит.
Он устраивается на сене. Лежит не шелохнувшись, как мертвый. Голова неудобно запрокинута, руки распластаны, глаза тусклые. Домой он не пойдет, пусть она подавится, вся жизнь его отравлена, все отравлено.
— А ты уезжай. Чего здесь торчишь? Я в твои годы…
Закрывают железные ворота, запирают двери, и ни тебе далекого гудка паровоза, ни высокого созвездия Плеяд, ни дома. Слышу обрывки какого-то разговора: «Вот до чего довела тебя твоя доброта, Криступас». — «Я не жалею. Я никогда ни о чем не жалел. Ни о чем. Понимаете? Так все и должно было быть. Я должен был жить именно так».
Кривыми были отцовские дорожки. Он шел, деря глотку, широкими и решительными жестами прокладывая их, но эдак дорогу не проложишь. Возможно он и сам это понял, вот уже который год — тише воды, ниже травы, все о чем-то думает, внимательно следит за другими, кое-кого даже сторонится.
Вдруг я ловлю на себе как никогда пронзительный отцовский взгляд. Отец лежит на охапке сена как убитый, положив голову на мешок с отрубями, и смотрит на меня, смотрит так, словно в течение этих нескольких минут, пока я околачиваюсь в хлеву, бегаю, не чуя под собой ног, успел разглядеть меня по-настоящему.
— Послушай, — голос его звучит неожиданно бодро, совсем не похоже, что он под хмельком. — Если хочешь, я расскажу тебе одну историю. Если, конечно, хочешь… Только слушай внимательно.
Он садится. Присаживаюсь и я. Смотрю сквозь распахнутые двери в темноту, где шумит ветер и над полуразрушенными мостками качается розовый фонарь с погнутым колпаком. Я слушаю монотонный голос отца — мне и в голову не приходило, что он умеет так рассказывать.
Жил-был однажды такой мрачный, злой и очень скупой человек (я почему-то подумал о Визгирде). Все нищие, попрошайки, все шелудивые собаки обходили стороной его избу. И он из-за этого страшно терзался. «Неужто я такой плохой человек, что никто ко мне не заходит?» — бывало, думал он и, услышав лай своих овчарок, выходил во двор и озирался.
Но однажды какой-то странник-горемыка заглянул и к нему. В порыве доброты он набил суму нищего всякой всячиной. Даже лошадь запряг и довез убогого до самого большака. Но на обратном пути снова стал терзаться. «Я-то дал ему, но что с того? Может, он и не нищий вовсе, а только самозванец? Я дал ему, но что с того?» Созвал свою семью и говорит: «Я тут одному нищему помог, но что мне с того? Что с того?» Все пожимали плечами и не знали, что ему ответить: в самом деле — а что ему с того?
— Вот и вы такие, — говорит отец, — все спрашиваете — что мне с того? Только не забудь, — повышает он голос, — это говорю я, твой отец. Мне хотелось, чтобы ты был человеком, который все говорит прямо, не пряча от собеседника глаз.
Он помолчал.
— Я видел, я следил за тобой внимательно — ты смотрел на меня с презрением, косо, как бы стыдясь, — порой я и вправду этого заслуживал, но мне было нелегко, мало кто меня понимал. Растил я тебя, не спрашивая, что мне с того. И никогда не спрошу, напрасно ты боишься. Я действительно много хорошего сделал людям. Только мне никогда не хотелось знать, чем я их одариваю, и никогда за это не ждал я награды. Поэтому и тебе говорю: если ты кому-нибудь делаешь добро, делай без оглядки, тут же забудь, словно в колодец бросил. Иди и не оборачивайся. Молчи, когда тебя позовут, иначе твоя доброта станет для тебя обузой, ты начнешь оглядываться на других, чтобы взыскать с них долги. Теперь, как подумаю, вижу: мало таких людей встретил я в жизни. Большинство мне такими только казались. Таких я любил, для таких ничего не жалел. Не все это поняли, теперь, когда я дошел до такой жизни, они подтрунивают надо мной, и ничего им, брат, не объяснишь. Они все время напоминают мне о моих старых долгах, а я сколько раздал, ах, если бы я вдруг принялся считать!.. Я никогда не считал и никогда считать не буду. И не хочу, чтобы в твоем взгляде сквозило завистливое любопытство. Не люблю таких, которые только и ждут, чтобы что-нибудь урвать. Я отворачивался, позволял — пусть срывают свой куш. Я не хотел об этом даже знать. Считал это слишком унизительным для себя. Не терплю вкрадчивых ворчунов, вечно из-за чего-то испытывающих угрызения совести, шушукающихся по углам, таких, которые только и делают, что собирают всякие сплетни и слухи, заговорщически перемигиваются… Конечно, я мог бы им противиться, я не слепой, но не хотел… не хотел рук марать. Понимаешь? Нет, ничего ты, вижу, не понимаешь. Как мне с тобой говорить, как?
Ты должен еще хорошенько зарубить себе на носу самое важное. То, что в жизни и в самом деле страшнее всего, — я говорю о смерти. Она приходит, чтобы лишить тебя всего. Ничего нет на свете важнее смерти. И если чего-нибудь надо бояться, то только ее. От всех прочих зол увернуться можно, не такие уж они важные и значительные, как это нам порой кажется. Только не надо опускать рук. Но смерть забирает все. Рано или поздно она отнимет все. Так чего же хныкать, горевать, жалеть? — спросишь ты. Есть из-за чего горевать. Жизни мне жалко, она проходит, не оставляя следов… Как вода…
Меня удивляло и продолжает удивлять одно: мы всего боимся, терзаемся, истязаем себя, не потому ли и ничего святого для нас не существует; мы боимся всего, только не смерти. Все кричим, что нам чего-то не хватает, что мы несчастны, все стонем, жалуемся… Нет, говорю, мы не настолько обижены и обделены, — это каждый бедняк подтвердит — нам дано много, очень много, дана жизнь, только мы не умеем ее ценить. Потом мы спохватываемся, но бывает уже поздно. Спохватываемся, когда на пороге стоит Великий Судия — смерть, стоит и ухмыляется… А ты когда-нибудь задумывался, почему она приходит к нам такая? «Кончайте свои комедии», — говорит она холодно, без всякой жалости. Нет, я не боюсь смерти, я много раз смотрел ей в лицо и, так сказать, раскусил ее: она лишается своего могущества, когда сталкивается с теми, кто не боится поднять на нее глаза.
Что я здесь видел на каждом шагу? Против кого протестовал, над кем смеялся? И все от страха… Из-за своей трусости люди готовы отречься от всего. Кое-что за свой недолгий век они, может быть, и успевают нажить, но как они, бедолаги, вкалывают, мучаются, маются, каких только не натерпятся страхов. Разве так надо жить, спрашиваю я тебя, разве так? Нет, я здесь ничего значительного не вижу, а если в твоей жизни ничего значительного нет, скажи мне… ты парень ученый, ты не я, меня легко унизить и высмеять, что я понимаю… только сердцем чую: так я должен вести себя, так должен жить; как будто есть у меня тайный советчик, который отгоняет от моей головы тучи. Видел я и светлые мгновения, ах, какие светлые! Но ты мне на вопрос не ответил. Отвечай, если можешь, отвечай.
Ты вот смотришь на меня, и лицо твое сереет и делается, как камень, и испуг, похоже, сквозит в твоем взгляде, и ты, наверное, боишься, что я хочу взвалить на твои плечи слишком тяжелую ношу. Побольше смелости, сын мой. Иначе споткнешься, будешь ползти на четвереньках, дрожать, как осиновый лист, и никто не поможет тебе, если ты себе не поможешь.
Не смотри на меня, как на сумасшедшего, нет, я не буду произносить своего последнего слова, от него тебя, наверное, бросило бы в дрожь, ты слишком дорог мне, наконец. Я и сам не был таким, как хотел, и я от тебя не требую, чтобы ты поставил надгробный памятник в моем изголовье, я только еще раз тебе повторяю: побольше смелости!
Отец замолчал. Он смотрел на меня и курил.
— И еще, — сказал он, глядя в темное оконце, за которым шумел ветер, — мне не нравится в тебе одна черта. Я терпеливо слушаю твои разглагольствования и поучения (ты уже поучаешь меня). Порой меня смех разбирал — ну кто он такой, еще ребенок, — порой мне было больно: до чего же твое отрочество самоуверенное, всезнающее, пророческое и… ослепленное своими знаниями. Вот почему я за тебя боюсь. Ты обо всем судишь со стороны, не пытаясь влезть в шкуру других. Ты не знаешь, каково им там в ней, в этой шкуре, почему они такие, какие призраки копошатся в чужой душе, тебе и в голову не приходит, что есть такие призраки, которых без посторонней помощи человек никогда не одолеет, — дай бог, чтобы ты ни с одним из них не встретился в жизни; ты не видишь чужих страданий, не уважаешь их. Ты замечаешь только то, что относится к тебе, и по этому, только по этому судишь обо всем на свете. А ты привыкай… приучайся думать о других, не только о себе…
— Так вот, пойми, — сказал он после паузы с нажимом, — я другим и не мог быть. Этого мне никто не может простить, но я и не прошу милостыни. Твоя мачеха — другой человек. Из другого гнезда. Она давала, но для того, чтобы чувствовать, что другие — ее должники, чтобы оговаривать их и вершить над ними суд. Давала, когда ее не просили, и это должно было оправдать все ее дурные поступки. Храни тебя господь от таких добродетелей. Такие доброхоты хуже того, кто впустил в дом одного нищего (а других затравил собаками). Но хуже злой собаки грызет их вопрос — что с того? Что бы ни делали, куда бы ни смотрели, к чему бы не притрагивались, все спрашивают: что мне с того? Дураки! Кто им ответит на этот вопрос, если не их собственная гордость, любовь и уважение. Кто, спрашиваю я тебя. Отвечай мне, если можешь. Счастье того человека, что он впустил в дом только одного, но бывают такие, которые осыплют тебя дарами, а опомнившись, спустят на тебя собак или сами начнут лаять…
Поэтому я и говорю: если что даешь — давай без оглядки, авансом. Бросай, как в колодец. Вот те борзые псы, которые травили меня. Не хочу, чтобы ты был одним из них. Но и не желаю тебе такой доли, как моя. Я для тебя не пример, но и жалости и презрения, которые ты испытываешь ко мне, я, поверь, не заслуживаю. Ты должен меня превзойти. Да будет моя жизнь для тебя ступенькой, но как много споткнувшихся об нее. А что дальше, куда дальше — я не знаю, может, у тебя натура другая — может, она знает…
Таков был смысл его слов.
Я вспомнил Амбразеюса, вспомнил, как я ходил за ним по пятам, как ждал его на песчаном проселке, вспомнил пьяную трепотню и, что самое странное, свои долгие споры с Альбинасом, только тогда я почему-то обвинял Альбинаса, обвинял такими словами, какие сейчас слышал от отца.
Воцарилась тишина. В тяжелых порывах ветра я словно почувствовал чье-то присутствие, казалось, кто-то ждет нас во мгле ночи. Это были как бы воплощенные стенания тех, кто больше не доберется до нашего порога, это был некто, кто станет выть и гудеть на нашем пути, когда мы будем пробираться по перелескам и лужкам над топями. Только зла он нам никогда не причинит…»
Последняя запись в дневнике Юозаса гласила:
«Я потерял отца. Мачеха, которая столько раз осыпала его проклятиями и желала ему смерти, стоит, закутанная в черный платок, у гроба (кто ее сюда поставил?) и смотрит, не поднимая глаз, на его лицо, кусает губы, стараясь сдержать рыдания. Задрав голову, вокруг нее вертится Викторелис.
Так он и не успел съездить в Вильнюс по поводу реки, хотя в последние дни все обещал и страшно огорчался, когда узнал в районе, что в верховье и впрямь роют канаву, что все эти кусты выкорчуют, а старое русло сровняют с землей.
Лицо у покойного отца — холодное и гордое, как у человека, который наконец-то сдержал свое слово.
Я выхожу в ночь. Бреду по полям. Меж облаков ныряет месяц, сквозь ракитовые ветви сверкает речушка. Нет ни слез, ни чувства утраты, хотя я знаю — вижу его в последний раз. Тебя больше никогда не будет, отец. В долгих странствиях, в неостановимом беге времени, в минуты моих невзгод или счастливых воспарений ты ничего не узнаешь о сыне — ни о том, что с ним случится, ни о том, кем он будет.
Боль, как резкие порывы ветра, то накатывает, то снова отступает. Я пытаюсь ее догнать, разжалобить себя, но тщетно — я словно окаменел. В голову лезут всякие мысли. Чем настойчивее я от них отмахиваюсь, тем они упрямее. Среди них была даже такая: достаточно ли печальное у меня лицо? Пожалуй, я преувеличивал свое горе, когда стоял у гроба. Это страшно вымолвить, но я чувствовал что-то, похожее на злорадство. Одна мысль, назойливая, ядовитая, как змея, впивается в мою душу: «Ты думал, что без тебя все рухнет, стращал нас, а мы живем и будем жить!»
Я стоял у гроба, наморщив лоб, более печальный, чем на самом деле. Во мне боролись разные чувства и мысли. Как это случилось, что мы его, еще живого, изгнали из своей среды, что смерть, которой он придавал такое значение, его смерть, для нас не столь важна и мучительна?
Может быть, под шелест пламени свечей, согревающих его мертвое лицо, он сказал бы мне по-настоящему горькие слова, если бы не сознание того, что случилось что-то страшное и непоправимое, и я должен вести и чувствовать себя подобающим образом — эта мысль меня парализует и сковывает.
Со двора доносится пение псалмов. Почему? Ведь отец не верил в бога. Я просто чувствую какое-то противное удовлетворение, когда слышу слова соболезнования, когда, стоя у гроба, вижу взгляды. Противно уже оттого, что чувствую…
…И там, на берегу реки, у открытой ямы, где он лежал в мокрой, деревенеющей одежде, и на белое, как отшлифованная кость, лицо падали снежинки, и там я не плакал…
Прикладываю руку к его лбу, касаюсь его губами… Куда бы он ни шел, ты следовал за ним как нитка за иголкой, догонял, путаясь в отаве или в зарослях кустарника. «Папа, смотри!» — кричал ты, показывая ему рыбные места. Все папа да папа! Кто теперь откликнется на этот зов? Давненько ты звал его… Ты смотрел, как он курит, как он срывает прилипшую к губам папиросу. Поймает, бывало, твой взгляд и улыбнется. Сколько раз ты наблюдал за его лицом в мерцании теней, когда свет едва пробивался сквозь листву, наблюдал за ним, когда оно поворачивалось к закату или к восходу, где вставало солнце; в его глазах до сих пор плывут белые полуденные облака, его глаза полны небесной сини и бликов солнца, какие переливаются на поверхности омутов, когда пятна света подрагивают на листьях и ольховых стволах…
Всюду перед тобой будет мельтешить его лицо. И пока ты будешь чувствовать его одобрительный взгляд, пока он будет видеть тебя, пока ему будет не все равно, кто ты, пока его будет окутывать светом и тенями то радости, то печали, ты многое будешь делать ради него. И в этом будет твоя сила, твоя опора, твоя воля. Да будет жизнь твоя такой, какой он хотел ее видеть. Другой долг тебе неведом, другой дани он от тебя не примет.
Я хочу, чтобы ты гордился мной, и знаю, что единственные слова, которые я могу тебе сказать, это «прости, если можешь», ибо никто не может установить предела наших возможностей. И ты, отец, многого не закончил, не завершил, но, может, твоя любовь здесь больше преуспеет. И пусть они не говорят мне о твоей доброте: ты был в одинаковой степени и добрым, и неумолимым.
В избе продолжают петь псалмы, хрипло, нестройно. Кое-кто из певчих уже под мухой. Я вижу покрасневшее лицо Акуотиса, слышу, как фистула Константене глушит другие голоса, вижу, как женщины толкают друг друга кулаками, если какая-нибудь сфальшивит. А он лежит в сиянии трепещущих свечей, недосягаемый, утонувший в облачке прогорклого дыма.
Светлый диск луны обволакивают тучи, они с бешеной скоростью мчатся на восток, как в тот раз, когда мы ехали в город. Сквозь вечный бег гонимых ветрами облаков, видя запруженные лунным сиянием пригорки и ложбины, чувствуя под ногами звонкую землю, скованную первым льдом, я смотрю на склонившуюся над рекой иву, я слышу это нестройное пение псалмов, звучащее в нашей избе, слышу, как где-то лают собаки, слышу, как ветер гудит в голых ветках деревьев, но и далекий шелест леса, шелест невозвратных летних дней слышу я…
Пение псалмов умолкает, люди выходят во двор и озираются. Какими они должны сейчас казаться себе мелочными и случайными. И что такое их деревушка под необозримым ночным небом, одна в бесконечной шири полей?
Они говорят мне о своем сочувствии. Они обещают мне помочь. Спасибо.
Мы отправляемся в дорогу — долгую, всю в рытвинах и ухабах».
Август, однако жара еще держится. Не поднимая головы, Юозас копает мелиоративную канаву. Мягкий, пористый, легко поддающийся торф сменяется илом; корни, пни, щебень, камень… Изредка из-под ног вырываются крохотные студеные роднички. Юозас косится на солнце: ослепительно белое, почти в зените. Вытирает пот, срывает спелую, багровеющую над головой малину. Он — бронзовый от загара, с раздавшимися плечами, полный угрюмого упорства.
Домой он возвращается, перекинув через плечо пиджак, рубаха нараспашку, рукава засучены.
— Думала, отец, — встречает его Визгирдене. — Смотрела, как ты с пригорка спускаешься. Похож, до чего же похож! И походкой!..
— Да да, — подходит к ним Константас.
— А ты ступай дело делать, а то, как только кто-нибудь появится, ты — тут как тут, ступай, смотри, вон уже жена тебя кличет. А мы с тобой, Юзук, айда в избу, у меня скиландис есть, закусишь малость. Ведь умаялся.
— Еще бы — эдакие пнища, эдакие пнища, — начинает приговаривать Константас, — и попробуй выкорчуй их там, в этом верховье, где сам черт ногу сломает…
— Хватит. Пошли, — Визгирдене берет племянника под руку, но Константас такой человек — ему глотку не заткнешь.
— Плечистый, однако ж, косая сажень, — говорит.
Светлый сентябрьский день, разбуженный кликами улетающих птиц, Юозас оглядел побуревшую трясину, леса, уже дышавшие осенью, и вдруг, словно его подтолкнули, набросил на плечи пиджак и двинулся к озеру. В нем он последний раз умылся, поплавал, попрощался с ужпялькяйцами, с рабочими, отвоевавшими у болота землю, и, взволнованный их искренними пожеланиями, зашагал в сторону большака.
Был теплый, тихий вечер, когда он остановился на Кябяшкальнисе, поставил у ног тяжелый чемодан, — в него насовали всякие, какие только были, лакомства Визгирдене, Константас, мачеха, — оглядел поля, луга, глянул на почерневшие усадьбы, прислушался к до боли знакомым звукам…
— Кто здесь кричал? — спросил мальчуган.
— Ты кричал, — сказал подошедший к нему человек. — Кричал, когда родился.
— Ничего ты не понимаешь, — дерзко ответил мальчуган, разглядывая его одежду, лицо, даже пригорок, на котором они оба стояли. — Кричали вон с того обрыва, а может, оттуда…
— Это эхо, — сказал человек.
— Как здесь красиво! — воскликнул мальчуган, все еще озираясь вокруг.
— Красиво, — согласился незнакомец, и взгляд его поблек. Он помолчал, внимательно посмотрел на мальчугана. — Скажи мне лучше, как ты очутился так далеко от своего дома, кто тебя выгнал?
— Разве это далеко? Вон мой дом.
— Нет, — покачал головой человек. — Ты ошибаешься. Твой дом далеко… А может, у тебя и вовсе дома нет? Может, у тебя его никогда и не было? Далеко, далеко… Потому и кричал… — процедил он.
Так и Юозас: кричал всем своим существом, глазами, нескладными словами. Но кто его слышал, кто видел? Разве что эти люди, эти поля… да мало ли кто.
Вот и кончилось то, что открывалось в просветах облаков, то приближаясь, то удаляясь, кутаясь в туманы… то, что стыло на морозе, звенело в тишине, проступало в дымке, высвечивалось на просторе, трепетало на свету, на копне ржи, на соломе, в дверях риги, серело на весеннем откосе, манило в лунном сиянии, колыхалось у замшелых валунов, у почерневшего сруба и на обрывах… Чернота порога, полевой камень у порога — все здесь обретало дар речи, говорило, побуждало его к неуступчивости, побуждало противиться, идти своей дорогой. Быть, выжить, быть. Заговорить и ради них. Все его здесь звало в даль, возносило в высь, влекло безднами и пропастями. Вся эта земля — ее сосновые леса ее холмы, ложбины, проселки — как бы умыты светом, источены, размыты живительной водой. И вот — стоят, как выточенные, деревья, прозрачные насквозь сосняки, березы. Каждый звук внятен и недвусмыслен, у каждого звука свое предназначение. И дерево, и камень до поры до времени, до другой, возможно, более значительной встречи, обещают быть только деревом, только камнем.
Пройдут годы, но этот уголок Аукштайтии и впредь будет осенять свет бытия и любви Юозаса; здесь, где воздух настоян на жизни его близких, на их надеждах и их нужде, здесь и небо иное, более теплое и близкое, и все здесь словно соткано из другой материи, неземной и нетленной. Где начинается жизнь, туда она постоянно и возвращается, там она медленной смертью и умирает, борясь изо всех сил, сопротивляясь, стремясь во что бы то ни стало защитить себя…
П. Браженас
КОГДА БОЛЬШАКИ ПРОЙДЕНЫ
Жизненный путь Бронюса Радзявичюса трагически оборвался, не перевалив и сорокалетнего рубежа. Творческая биография писателя кончилась на самом разбеге. Большей части своих произведений автор не увидел напечатанными. Такую личную судьбу не назовешь счастливой.
Счастливее складывается судьба литературного наследства Б. Радзявичюса. Две части романа «Большаки на рассвете» и рассказы, составившие трехтомник посмертного издания, уже теперь признаются и осознаются как яркое явление не только последнего десятилетия, но и всей литовской советской прозы. С годами такое осознание должно только утвердиться: уверенность в этом внушает само творчество, не рассчитанное на ажиотаж и шумную славу, а ожидающее и требующее серьезного и вдумчивого читателя-собеседника.
Уже в самом начале романа автор формулирует свою эстетическую программу: «Задержимся здесь надолго. Надо будет внимательно вглядеться в каждый предмет, в каждое лицо, иначе мы ничего не увидим и не поймем. Многое здесь неуловимо, подобно игре солнечных лучей на воде или в листве, многое приходит, как дитя, жмурясь от яркого света, и не поймешь, страдание это или радость». Называю это идейно-эстетической программой, ибо в самом обещании «задержаться здесь надолго» звучит твердая авторская установка — не спешить, ибо слова «многое здесь неуловимо» продиктованы чрезвычайной требовательностью автора к себе, ощущением того, что жизнь человеческая — такая глубина, дна которой никогда не коснется перо настоящего художника. А дитя с его трудно распознаваемыми чувствами («страдание это или радость») — в этом образе сознательный отказ от однозначного толкования фактов и явлений, человеческих поступков и судеб, краеугольный камень художественной концепции личности. Чересчур велик риск — в наше время — не спешить, чересчур большая роскошь — спокойно всматриваться во все. Чем оправданы этот риск, эта роскошь? Прочитаем же в том темпе, какой диктует нам автор — еще один абзац:
«В той деревне остался порыв ветра, ударявший в открытую грудь, родники и холодные, быстрые речки, грозди перезревшей малины в прогалинах, пересохшие глиняные тропинки; остался там и удаляющийся топот лосиных копыт, лисьи норы, прикрытые слоем жухлых листьев, тенистые заболоченные низины и солнечные, полные бабочек, лужайки, поросшие орешником высокие холмы, заросли папоротника, внезапная прохлада сумерек, когда дорогу преграждали желтые полосы теней, и голос тетки, зовущей со двора ужинать; осталось и веснушчатое лицо соседского мальчугана, и льняные, растрепанные ветром волосы двоюродной сестренки Юзукаса…»
Сколько здесь очевидного беспорядка, хаоса, как «не хватает» сознательной, жесткой логичности в изложении деталей, своего рода драматургии, ведущей от завязки к кульминации! Все здесь одинаково важно, ничто не ищет себе наиболее подходящего места, а застывает там, куда занесло, как ветром, порывом воспоминаний. Можно только догадываться, как выглядел бы этот абзац, если бы подобный материал был подан со всякими литературными ухищрениями, как «набухла» бы каждая деталь, превращаясь в отдельный красивый образ. Ведь за «удаляющимся топотом лосиных копыт», за «внезапной прохладой сумерек», за «веснушчатым лицом соседского мальчугана», за всеми перечисленными деталями ощущается определённый сюжет, самостоятельная маленькая драма, целый мир.
Не пускаясь в рассуждения о том, как соотносятся в романе детали, зафиксированные «с натуры», с деталями, рожденными воображением писателя, поделюсь лишь одним впечатлением. Каждый раз, встречая в романе деталь, виденную в жизни, не можешь надивиться ее достоверности, точности, лаконичности, — будь то несколько штрихов, рисующих стоящего перед зеркалом известного певца «с красным, изъеденным гримом лицом», или описание черемухи, уничтожаемой какими-то гусеницами. Этой подлинностью, этой точностью заслужив доверие читателя, автор ведет его за собой куда-то в глубину образа, от наблюдения к переживанию.
В тексте создается напряжение чувства и мысли, позволяющее автору передать словом редкое, неповторимое мгновение раскрытия души героя, всей его человеческой сути. Чувствуешь это и думаешь: вот что такое дыхание таланта, вдохновение, послушное художнику слово, через которое и реализуются все его творческие замыслы.
Повествователь и главный герой романа — одно лицо: Юозас Даукинтис, на два-три десятилетия отдалившийся от своего сиротского детства и абитуриентской юности, на десяток лет (или чуть меньше) — от своего студенчества, от первых творческих опытов, от времени написания диссертации. Из своих воспоминаний, размышлений, дневниковых записей сплетает он историю собственной жизни.
Во впечатлительное сознание юноши неизгладимо врезались воспоминания детства и отрочества, уже тогда взвешенные проницательным умом подростка, а сегодня дающие правдивый материал для серьезных раздумий о созревании человеческой души.
Рассказчик как бы постоянно координирует по крайней мере две различных временных плоскости: событий прошедших, воскрешаемых в памяти, и сегодняшних, совпадающих со временем повествования. Все, что пережито в юности, до сих пор так свежо и дорого, будто случилось вчера. И вместе с тем — проверено временем.
Единство подлинности юношеского опыта и рефлексии взрослого человека — вот формула таинственной художественной суггестии.
Десяток сцен, в которых мы видим маленького Юзукаса и заметно растущего Юозаса Даукинтиса в отцовском доме, в классе и на льду реки, читающего и мечтающего, спорящего с друзьями и упорно работающего, сотни претензий, чрезвычайно выразительных бытовых деталей и порывов чувств индивида, всю историю дружбы соседей и родни, духовного сближения подростков и неизбежных столкновений формирующихся характеров надо свести в краткую формулу: искусство редкой образности и глубокого психологизма.
Между первым и вторым томом «Большаков на рассвете» есть заметные, хотя, быть может, несущественные различия. Они зависят от постепенного формирования, взросления главного героя и повествователя: лирические воспоминания детства сменяются болезненными юношескими переживаниями, романтическая любовь абитуриента — драмой разбитого сердца, стихийная наблюдательность — сознательными усилиями начинающего писателя, тонкий психологизм — интеллектуальными, философскими размышлениями и т. д.
В первой части романа мы прощаемся с Юозасом Даукинтисом, уезжающим учиться, — во второй встретим его, уже зная, что «в вуз Юозаса не приняли», и проведем с ним десять, а то и пятнадцать лет (хронологических «неясностей» в романе наберется не мало), пока герой будет работать на заводе, учиться, готовиться к творческой работе, писать диссертацию, рассказывая историю своей жизни, в которой преобладает не то, что отражено в трудовой книжке, анкетах, биографиях или характеристиках, а нечто сугубо автономное, сокровенное — духовная жизнь личности. Поэтому авторские раздумья, философские размышления, занимающие по мере взросления героя все больше места, воспринимаются здесь как естественное самовыражение личности с ее своеобразным интеллектуальным складом.
Нет нужды доказывать, что необходимым условием для исполнения такого авторского замысла была духовно богатая личность.
Вопрос человеческой содержательности литературного героя всегда занимал и создателей литературы, и ее исследователей. В сущности, литература не может ориентироваться только на исключительные личности: ее волновали и волнуют общечеловеческие аспекты в жизни простого, рядового человека. Но, проникая в тайны человека как homo sapiens и homo socialis, литература всегда стремилась охватить, с одной стороны, как можно более разнообразный состав персонажей, с другой — как можно более широкий диапазон самовыражения личности. Человеческое величие и человеческая низость, взлеты и падения, сила и бессилие интеллекта, глубина и мелочность чувств, способность к практической деятельности и атрофия элементарных навыков, разветвленные системы моральных качеств и особенностей характера — все сотни раз воплощено, осмыслено в художественных образах, и далеко не каждая попытка сказать нечто новое увенчивается успехом. Легче прослыть новатором, выбрав свежую тему, подняв актуальную проблему современности, испробовав новые формы, чем создать образ нового человека, выявить новые моменты его бытия, существенно обогатить концепцию личности в искусстве. Б. Радзявичюс сделал важный шаг именно в этом направлении.
После Людаса Васариса из романа В. Миколайтиса-Путинаса «В тени алтарей» литовская национальная проза не знала, пожалуй, ни одного героя, для которого тайны бытия, поиски смысла жизни, вопросы творчества отодвинули бы на задний план суету повседневности, мелкие заботы, кратковременные обязанности и задачи индивида. Были у нас интеллектуалы и мечтатели, романтики и циники, люди действия и люди рефлексии, влюбленные и разочаровавшиеся, оптимисты и терзаемые внутренним драматизмом личности, наивные души нараспашку и хитроумные демагоги, но человека с такими чуткими нервами, реагирующими на малейшие прикосновения действительности, с таким открытым сердцем, предельно доверчивым к слушателю и восприимчивым к боли первого встречного, с такой напряженной и вместе с тем фундаментальной работой мысли, — нет, такого героя в нашей литературе до сегодняшнего дня не было.
Новаторство образа Даукинтиса ярко раскрывается в сравнении с персонажами ровесников Радзявичюса.
После претенциозных, раздражительных, самодовольных, предъявляющих к окружающим максималистские требования, однако лишенных способности к самокритике и гибельно снисходительных к самим себе героев, населявших литовскую повесть шестидесятых-семидесятых годов, появился наконец образ молодого человека того же поколения, без которого сам образ поколения кажется уже и не полным, и не точным.
В стихотворении «Шестнадцатилетние» Юст. Марцинкявичюс воспел поколение «тридцатого года рождения». Перефразируя поэта, можно сказать, что герои Б. Радзявичюса — «сорокового года рождения». Первым было десять или чуть меньше, когда пришла Советская власть, а в шестнадцать они уже с оружием в руках защищали эту власть. Вторые глазами детей видели суровые послевоенные годы, а в шестнадцать читали решения XX съезда КПСС. Юность первых начинается в 1945, вторых — в 1956 году. Всемогущее время смазывает эту грань, но стереть ее не может. Художественно осмысленная в образах Юозаса Даукинтиса и его сверстников, эта грань становится еще более устойчивой. Поэтому значение Юозаса Даукинтиса как художественного характера не умещается в рамках творчества одного писателя. Этот герой существенно обогащает концепцию личности современника, продвигая поиски достоверного и правдивого образа поколения в наиболее перспективном направлении.
Образ Юозаса Даукинтиса был бы, возможно, не столь впечатляющим, если бы не окружение, в котором он находится, если бы не весь ансамбль персонажей — не каждому прозаику удается это, тем более в первом романе.
Умело используя разнообразные средства — описание, авторскую характеристику, диалог и другие, — Б. Радзявичюс несколькими эпизодами, несколькими строками, даже несколькими словами достигает цели.
«Каждый выстрел, задевавший ближнего, задевал и его», — сказано в романе о Криступасе Даукинтисе. Это — метафорическая формула его характера, пример лаконичности — не исключительный, а характерный для структуры романа в целом. На образе Криступаса — а это один из самых запоминающихся образов книги — автор никогда не останавливается надолго. Как и другие, этот характер лепится по принципу мозаики из ненароком оброненных фраз, острым глазом подмеченных, сжатых эпизодов, коротких сцен. А в результате возникает исторически рельефный и психологически глубокий образ человека совестливого и доброго, вспыльчивого и слабовольного, мечтательного и легкомысленного, романтика и шалопая. Он вызывает любовь и уважение, насмешку и сочувствие…
Еще экономнее средства, которыми написаны портреты братьев Криступаса — Константаса и Казимераса. Первый — скучноватый резонер, наивный философ и спокойный морализатор, второй — хитрый, порой даже коварный, но трудолюбивый и деятельный крестьянин. Оригинальны, ярки и другие персонажи: грамотей и умелец, но скупердяй и индивидуалист Визгирда, стремящаяся к общественной деятельности, амбициозная и наивная жена Константаса, придавленная обстоятельствами и терзаемая внутренними противоречиями мачеха…
Во второй части романа автор переходит от мозаичной лепки образов героев к более последовательному осмыслению развития их характеров. Особенно много места (даже отдельные главы) уделено Викторасу и Стеле, а также знакомому по первой части Альбинасу Малдонису. Характеры, интересные сами по себе, можно трактовать и как своеобразные интеллектуальные обобщения — символы.
Викторас, существенно пополняющий галерею многочисленного рода Даукинтисов, развернутую в первой части романа, становится здесь и своеобразным исходным пунктом для размышлений повествователя о постоянной борьбе материального и духовного начала в человеке, о всякой трясине быта, о раке потребительства, обогащения, эгоизма, разъедающем личность изнутри.
Стела — воплощение вечной женственности, женской загадочности, физической красоты и прихотливого, капризного характера. Она играет роковую роль в судьбе Юозаса Даукинтиса и с трудом разбирается в собственных чувствах.
Альбинас Малдонис — друг детства Юозаса, травмированного и нищего детства, разделивший с ним и юношеские мечты, и творческие поиски, — вечный его антипод в спорах о красоте и истине, о культурном наследстве и смысле творчества…
Пытаясь втиснуть пластический, многообразный, противоречивый материал романа в привычные для критики лаконичные формулы, чувствую, что герои Б. Радзявичюса не умещаются в них, выламываются из рамок схемы, требуют, чтобы их принимали со всеми противоречиями их характеров, поступков, мыслей и чувств.
Неоднократно перечитывал я книгу Б. Радзявичюса, и всякий раз обнаруживал ту же силу художественного воздействия. Пытаясь теперь, по прошествии некоторого времени, отрешиться от этого воздействия и взглянуть на произведение с критической, теоретической точки зрения, я не нахожу этому явлению лучшего объяснения, чем правда откровенной исповеди.
Юозас Даукинтис готовится стать писателем и становится им. Из многих персонажей родственных профессий, появившихся в нашей литературе в семидесятые годы, Юозас Даукинтис выделяется тем, что для него искусство, творчество — не занятие между прочим, не «хобби» рядом с повседневной жизнью простого смертного. Творчество — величайшая, главнейшая, существеннейшая константа его бытия. Творчество — не парад, не слава, не знак исключительности, а прежде всего мучительное стремление открыть самого себя, приблизиться к собственной сути. Иными словами, в то время как его современников интересует результат творчества, его достижения, Юозасу Даукинтису не дают покоя тайны предпосылок, корней творчества.
Мучительными поисками ответов Даукинтис обрекает себя на одиночество — удел многих настоящих художников.
Единственная пристань, куда могут заплыть лодки этих одиноких из пугающего океана Одиночества — это любовь. В «Большаках на рассвете» она освещена таким светом, какой не часто вспыхивает в сегодняшнем романе.
Изображенная Б. Радзявичюсом и пережитая его героем любовь — состояние наиболее полного раскрытия личности. Как в творчестве, так и в любви Даукинтис ищет не игр, не удовольствий, а сути человека — родного, близкого человека. Любовь для него также и один из ответов бытия, вернее — его великих вопросов, на которые нет ответа. Но в любви, как и в творчестве, как и во всей жизни, Даукинтису трудно найти родную душу.
Раскрывая романтический, идеализированный взгляд героя на любовь, на женщину, автор отнюдь не отрывает его от мира, в котором нет ни романтики, ни идеалов. Но вот что характерно: даже из кратких знакомств, из случайных связей, которые послужили бы иному автору предметом смакования эротики, герой Б. Радзявичюса выносит сложные образы женщин, их мучительные драмы. Не только первая, предавшая его Нийоле, не только большая несбывшаяся мечта Стела, но и Вале, и Бернадетта, и Бенета, которым посвящено всего несколько абзацев, остаются в нашей памяти как запоминающиеся характеры, а судьбы их рассказаны с такой неприкрытой болью, какой не передаст иной автор и на многих страницах.
Ничто так ярко не характеризует героя, как его взгляд на любимую или хотя бы духовно близкую женщину. Поиск и возвеличение человеческих ценностей, понимание и прощение слабостей, уважение к ее характеру, к неповторимости ее судьбы — вот что отличает Даукинтиса. Он страдает, но не упрекает, не винит, он анализирует, но не высказывает категорических суждений. Любовь для него, как и творчество — это путь к человеку, к проникновению в глубины души, в суть человека («дойти до сути, до предела», — цитирует он русского поэта).
Максималист в жизни, в жажде познания мира, в любви, в творчестве, в очной ставке со своим талантом и со своими слабостями — таким остается в памяти герой Б. Радзявичюса. И можно лишь удивляться тому, как естественно, открыто принимает он большую жизнь, социальную действительность, которая, что и говорить, пока что не приспособлена для максималистов, и, увы, не зависит или почти не зависит от воли отдельного индивида.
У героев Б. Радзявичюса — своя социальная реальность, не сравниваемая ни с тридцатыми, ни с сороковыми годами. Они воспринимают жизнь как единственно известную, единственно возможную, свою: то прекрасную и манящую, то таинственную и труднопостижимую, то тревожную и суровую. Принимать жизнь как единственно возможную, единственно известную — не фатализм и не равнодушие. Напротив, так возникает особое, хоть и редко декларируемое чувство ответственности за эту жизнь, решительность во вскрытии ее внутренних противоречий и, следовательно, стремление их преодолеть, не боясь упрощения, которое неизбежно, когда пытаешься втиснуть сложный художественный мир в рациональную формулу. Можно сказать, что Б. Радзявичюс мерит жизнь не прошлым, а настоящим, не тем путем, который пройден от определенной исторической точки отсчета, а тем, что еще предстоит пройти вперед, к более совершенным формам социальной жизни, более гармоничным взаимоотношениям между людьми, наиболее полному раскрытию личности каждого. Такая авторская позиция ощущается и в трактовке негативных явлений жизни и черт человеческого характера, и в поэтизации того, что предстает воплощением истины, добра, красоты — в общественной жизни и в душе человека. Такую индивидуальную позицию художника мы не колеблясь включаем сегодня в широкую социально-политическую платформу, которую понимаем как совершенствование социалистического общества.
Подчеркнув выше ту чуткость к диалектическим противоречиям, которая больше, чем кому бы то ни было, свойственна Б. Радзявичюсу, мы бы погрешили против истины, элиминируя всякую противоречивость из созданного им характера.
Тот факт, что автор оперирует не эпически широкими картинами, а их отражением в душе индивида, заставляет нас еще раз обратиться к той отражающей жизнь душе с новых позиций — позиций максимальной этической требовательности.
Даукинтис — не «идеальный» герой, не пример, не моральный эталон. Главные эпитеты для его характеристики — живой, чуткий, искренний, настоящий. Но не избежим и других: эгоцентричный, самолюбивый, моралист, в отношениях с людьми зачастую раздражительный и нетерпимый.
Все это, как уже сказано, — признаки жизненности персонажа, его художественной полнокровности. Этическую же высоту романа характеризуют не качества героя, а критерии их оценки. Требовательный к другим, Даукинтис проявляет ту же требовательность и к самому себе: он критически оценивает черты своего характера и образа жизни, сознательно, целенаправленно формирует свою личность, болезненно переживает свои недостатки или ошибочные поступки. Даже в тех случаях, когда сам Даукинтис «не видит» своих слабостей, их безжалостно фиксирует автор. Даже тогда, когда последний делает это с объективным спокойствием, мы принимаем и оцениваем героя не только согласно собственным этическим установкам, но и под воздействием общего этического пафоса романа.
А это дает нам право и возможность общаться с Юозасом Даукинтисом на равных: на многое впервые в жизни с удивлением взглянув его глазами, многое постигнув его интеллектом и оценив с его этических позиций, мы получаем возможность и усомниться в правомерности его максимализма, и поспорить с ним, и даже указать ему, в чем он прав (когда он чрезмерно переживает свое нищее детство, когда без сомнений осуждает мачеху, когда чрезмерно субъективен в подходе к явлениям или событиям, когда поддается пессимизму, когда скрывается в скорлупу индивидуализма и т. д.).
Такая готовность к диалогу, свойственная не только исповеди героя, но и всей его художественной интерпретации — еще одно замечательное качество романа, еще один компонент его художественной ценности, еще одна гарантия будущего произведения. «Большаки на рассвете» — не из тех книг, которые обязательно прочтут все, не из тех, которые прочитываешь раз и навсегда. Эта книга — из тех, к которым, однажды прочитав, еще не раз вернешься с уверенностью, что обязательно найдешь нечто новое — и в книге, и в самом себе.
Перевод А. ГЕРАСИМОВОЙ