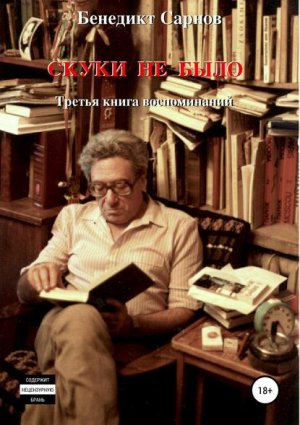
От автора
Закончив вторую книгу своих воспоминаний, я увидал, что многое из того, что мне хотелось в нее вместить, туда не вошло. За пределами книги (обоих ее томов) осталось множество сюжетов, которые были интересны не только мне, но, как мне казалось, могли бы представить интерес и для читателя. Естественно, мне захотелось написать еще одну, третью книгу, в которой все эти, оставшиеся «за кадром» истории, эпизоды и, как говорил Бабель, «замечания из жизни» располагались бы уже не в связном повествовании, ограниченном рамками хронологической последовательности, а в виде произвольной, беспорядочной мозаики.
Соблазн написать такую книгу был велик. Казалось бы, чего же лучше – садись и пиши!
Но мне мешало одно очень важное соображение.
Вторая книга моих воспоминаний хронологически была доведена до 1987 года. То есть – до начала нашей так называемой «перестройки».
С тех пор прошло двадцать пять лет. И каких лет!
И мне было, что вспомнить об этой эпохе в жизни страны и в моей собственной жизни.
Умом я понимал, что этот мой замысел правильнее, чем тот, «мозаичный». Но душа больше лежала к первому.
Какому же из них отдать предпочтение?
На этот вопрос у меня не было ясного ответа. Я метался между этими двумя соблазнами, попеременно склоняясь то к одному, то к другому, как знаменитый Буриданов осел между двумя охапками сена.
Но однажды, в процессе этих метаний я вдруг почувствовал возможность соединить, слить эти два замысла в один.
Возможность эта открылась мне в желании продолжить линию «портретов», которую я начал еще во второй книге. Там это были «портреты» Эренбурга, Виктора Шкловского, Маршака, Солженицына. А в новой книге эта галерея могла быть продолжена портретами Бориса Слуцкого, Коржавина, Войновича, Булата Окуджавы, – с каждым из них я был близок на протяжении полувека. Тут нельзя будет не рассказать о том, как тот исторический разлом, который случился со страной, с некоторыми из них меня еще больше сблизил (Войнович, Булат), с другими, хоть и не развел, но в достаточной степени осложнил отношения (Коржавин, Владимир Корнилов), а с кем-то и развел навсегда, сделав врагами (Юрий Бондарев).
И чтобы написать обо всем этом, вовсе не обязательно соблюдать хронологическую последовательность в изложении событий. Ведь скуки у нас не было, как говорится, всю дорогу – что в советские времена, что потом, после распада Советского Союза.
Вот такой, подумал я, и должна быть эта третья книга моих воспоминаний. А перед первыми двумя у нее даже будет одно важное преимущество: ее можно будет читать и не зная тех двух. Являясь в некотором смысле их продолжением, она в то же время никак не будет от них зависеть: будет существовать сама по себе.
Бенедикт Сарнов19 февраля 2012 г.
Я долго колебался, прежде чем решился его оставить.
Предпринял даже попытку дать его в несколько усеченном виде, без первой и последней строки. Вот так:
Причиной этих моих колебаний было сознание несравнимости той среды, о которой собирался говорить в этой своей книге я, с той, которую «имел в виду» Пастернак.
Острое сознание этой несравнимости выразил Давид Самойлов в коротеньком стихотворении, которое он написал, когда ушла последняя представительница той, пастернаковской среды – Ахматова:
Нельзя не признать, что некоторые основания для этого горького самоуничижения у поэта были. И музыка наша была не та. И лёд не тот.
И все-таки… Всё-таки мы тоже были музыкой во льду.
И поэтому —
Портреты
Печальная диалектика
Другая музыка
Зазвал меня как-то к себе один мой приятель.
В этом его приглашении было что-то не совсем обычное. Он явно давал понять, что зовет не просто так, а с тем, чтобы доставить мне какое-то особенное удовольствие. «Приходи, не пожалеешь!» – сказал он.
Я решил, что ему удалось достать какое-то давно уже нами забытое (дело происходило в советские времена) лакомство, – скажем, миноги, или осетрину первой свежести, – которым он собирается меня попотчевать.
Так оно и вышло. Но лакомство, которым он в этот раз меня угостил, было совсем другого рода.
Все с той же своей загадочной, обещающей какое-то неслыханной блаженство ухмылкой он достал из конверта патефонную пластинку. Тут, – не скрою, – я испытал некоторое разочарование. (Я совсем было забыл, что этот мой приятель был большой меломан, а я, уж если меня решили угостить, решительно предпочел бы миноги). Но вот он включил проигрыватель, пластинка медленно начала свое кружение, и в комнате зазвучал божественный голос Ахматовой.
Эта была только что выпущенная тогда в свет фирмой «Мелодия» пластинка «Голоса поэтов».
Приятель мой блаженствовал. Я – тоже. Но к его блаженству еще примешивалось удовольствие от сознания. что затея его удалась: угощение, которое он мне сулил, меня не разочаровало.
Все это было написано на его лице. Но помимо этого там было написано кое-что еще. С него не сходило выражение, ясно говорящее, что это – еще не все, что впереди меня ждет еще какая-то неожиданность, еще какой-то сюрприз.
Голос Ахматовой отзвучал.
После нее читал Слуцкий.
И едва раздались первые звуки его голоса, я сразу же понял, что означало это загадочное выражение лица моего приятеля.
Слуцкий вколачивал свои слова, словно гвозди. После виолончельного голоса Ахматовой, после волшебной музыки ее стихов его голос, его стихи казались не просто немузыкальными, но – антимузыкальными.
Приятель мой ухмылялся: запланированный им эффект удался.
Но Слуцкий продолжал вколачивать свои гвозди – и ироническая ухмылка постепенно сходила с лица моего приятеля. Оно становилось серьезным, вдумчивым, вслушивающимся. И даже как бы завороженным этим жестким, немузыкальным, будничным голосом, этими антимузыкальными, нарочито непоэтичными, подчеркнуто прозаическими стихами.
И тут я вспомнил, – кажется, даже произнес вслух, – две строки одного его стихотворения:
Да, это была другая музыка. Совсем другая. Но – музыка.
Это мы обсуждать не будем
Я познакомился с Борисом Слуцким в 1955-м. Что-то о нем я тогда уже слышал, но стихов его практически не знал, – знал только одно, единственное его стихотворение: «Памятник». Оно было напечатано в «Литературной газете» 7 августа 1953 года, и о нем тогда много говорили.
Но на меня, по правде сказать, особого впечатления оно не произвело. Хотя «сделано» оно было мастерски, и даже отмечено необычной по тем временам новизной подхода к традиционной теме бессмертия солдатского подвига:
Необычным и новым для тогдашней советской поэзии тут было то, что стать памятником назначено было не солдату-победителю, дошедшему до Берлина и участвовавшему в штурме Рейхстага, а бойцу, которому не привелось взять даже некую малую безымянную высоту.
Но дальше стихотворение разворачивалось в лучших традициях соцреализма, не оставляя у читателя сомнений, что скульптором этим, который «размеры на камень нанес», был не кто иной, как главный корифей означенного художественного метода, пятикратный сталинский лауреат Евгений Викторович Вучетич:
Совсем непохоже это было на того Слуцкого, который открылся нам несколько лет спустя.
С его грубой правдой:
С его обнаженной и такой же грубой конкретностью:
В общем, ничего удивительного не было в том, что за два года, минувшие со дня появления на страницах «Литгазеты» этого первого его напечатанного стихотворения до дня нашего знакомства Слуцкому не удалось напечатать ни строчки. И вышло так, что в вечер этого нашего знакомства я узнал, открыл для себя нового, прежде совсем мне неведомого поэта.
Познакомила нас общая наша приятельница Лена Зонина. Она была женой моего литинститутского товарища Макса Бременера.
К Максу и Лене мы с женой время от времени захаживали запросто, не дожидаясь особого приглашения. Но на этот раз приглашение было. И приглашены мы были не просто так, а специально «на Слуцкого».
Кроме него нас было четверо: Макс с Леной и я с женой. И весь вечер Борис читал нам стихи.
Читал не просто так, «для знакомства». Как потом выяснилось, вечер этот был затеян им с особой целью. Это был заранее задуманный опыт. А мы были – подопытными кроликами.
Каждое стихотворение он читал дважды. В первый раз – в том виде, в каком оно было написано, а во второй – в отредактированном, иногда довольно жестко отредактированном, прямо-таки изуродованном виде – «для печати».
Цель эксперимента состояла в том, чтобы услышать от нас, велик ли урон, нанесенный стихотворению этой редакторской правкой. То есть он понимал, что урон, конечно, велик. Но хотел оценить меру этого урона. Точнее – увидеть, уцелело ли, «выжило» ли стихотворение после этих нанесенных ему увечий.
В общем, что-то такое он хотел тогда на нас проверить. Может быть, даже решить, стоит ли вся эта игра свеч: остаются ли после этих поправок его стихи – стихами.
Эксперимент проходил более или менее гладко, пока дело не дошло до одного из лучших услышанных мною в тот вечер стихотворений:
В первоначальном (авторском) варианте оно кончалось так:
В исправленном варианте последнее четверостишие было беспощадно отрублено, а вместо него было приклёпано такое:
Услышав эту замену, моя жена прямо задохнулась:
– Как вы можете?!
Внимательно на нее поглядев, Борис жестко сказал – как отрезал:
– Это мы с вами обсуждать не будем.
Этой холодной репликой он ясно дал ей (и всем нам) понять, что не хуже, чем она (и все мы) знает, какой невосполнимый урон наносит стихам этими своими поправками. Но выхода нет, и обсуждать тут нечего.
Позже он так написал об этом:
Дело, конечно, было не в рубле: рубль тут был не причем. Ему позарез было нужно тогда, чтобы его стихи наконец «пустили в печать». И не было никакого другого способа этого добиться.
Моя жена была, конечно, не первой – и не единственной, – у кого вырвалось это «Как вы можете!». И всем им он уже тогда мог бы ответить так, как ответил потом этими – в то время еще не написанными – стихами:
Так оно в конечном счете и случилось.
Недавно (в 2006-м) в издательстве «Время» вышел его однотомник, который так прямо и называется: «БЕЗ ПОПРАВОК».
Говорит Фома
Часто он пытался спасти какое-нибудь свое непроходимое стихотворение, маскируя (но не затемняя) истинный его смысл:
В устах пленного эсэсовца или разочаровавшегося в своих фюрерах офицера вермахта такое утверждение было оправданно и потому – допустимо. Но начальной строкой стихотворения («Сегодня я ничему не верю…») допрашивавший этих пленных «господин комиссар» говорит о том же уже ОТ СЕБЯ. Неужели и ОН думает так же, как эти пленные немцы?
Да, именно так. В этом, собственно, состоит весь смысл, весь пафос этого стихотворения:
Жизненный опыт «господина комиссара» проводит его к тому же окончательному и безоговорочному выводу, к тому же нигилистическому итогу, к какому пленных немцев 45-го года привел тотальный крах их «тысячелетнего райха».
О том, чтобы такое стихотворение бдительные советские редакторы и цензоры «пропустили в печать», разумеется, не могло быть и речи. В таком виде его и в столе-то держать было опасно. И вот, предваряя – и заранее отметая – все возможные вопросы и обвинения он дает стихотворению заглавие: «ГОВОРИТ ФОМА».
Мол, это вовсе не он, – не советский поэт, комиссар, майор советской армии и коммунист Борис Слуцкий утверждает, что «все – пропаганда, весь мир – пропаганда», а – Фома: тот, кто объявил, что не верит в воскресении Христа и не поверит до тех пор, пока сам не увидит ран от гвоздей и не вложит свои персты в эти раны, и чье имя (прозвище) – «Фома неверный» (то есть – неверующий) стало поэтому нарицательным.
Вряд ли, конечно, он всерьез рассчитывал, что эта наивная уловка поможет ему это стихотворение напечатать. Не исключаю даже, что такой заголовок он дал ему в расчете на объяснение не с редактором или цензором, а со следователем: если бы дело дошло до допросов, заголовок этот помог бы ему, как это тогда у нас говорилось, «уйти в глухую несознанку».
Такие мысли, я думаю, его посещали.
В начальных строках другого тогдашнего своего стихотворения он даже прямо дал понять, что не исключает такую возможность:
Стихотворение о том, что «все – пропаганда, весь мир – пропаганда», безусловно принадлежало к той категории стихов, которые тогда, в 1957 году, когда они были написаны, надо еще было – до поры – прятать вот в этом самом «дальнем ящике». Напечатано же оно было лишь 30 лет спустя, став одной из первых ласточек только-только забрезжившего нового нашего, бесцензурного бытия.
В каком полку служили?
В день открытия «исторического» Двадцатого съезда партии (у них тогда все съезды именовались историческими; о том, что этот на самом деле будет таким, в тот день мы еще не знали) Борис спросил меня:
– Вы читали доклад мандатной комиссии?
Я, разумеется, ответил отрицательно. Ни при какой погоде я таких докладов, конечно, не читал. Зачем они мне?
– Напрасно, – сказал Слуцкий. – Чтение весьма поучительное. Я, например, с удивление обнаружил, что примерно восемьдесят процентов делегатов, то есть подавляющее большинство, вступили в партию позже, чем я.
Я (мысленно, конечно) пожал плечами.
Сейчас я склонен думать, что это его замечание не было таким уж бессмысленным. Кто знает? Может быть, к аудитории, большинство которой состояло бы из партийцев с более солидным партстажем, Хрущеву гораздо труднее и даже опаснее было бы обращаться со своими сенсационными разоблачениями сталинских преступлений.
Но тогда в этом неожиданном вопросе Бориса я увидал только проявление прочно усвоенного им стиля поведения, над котором мы все тогда слегка посмеивались.
Именно в те времена была сочинена (Н. Коржавиным) довольно злая эпиграмма на Слуцкого, начинавшаяся строкой: "Он комиссаром был рожден…". И все его друзья, приятели, просто знакомые иначе как «комиссаром» (чаще за глаза, но нередко и в глаза) его не называли.
В его повадках, манере поведения, во всем его облике и в самом деле было много комиссарского.
Один наш общий приятель говорил, что у Бориса постоянно такое выражение лица, будто он мысленно все время повторяет: "Я – Слуцкий!". Упорно, сжав челюсти – так, что желваки играют, – словно стараясь как можно прочнее вдолбить это всем окружающим, твердит про себя: "Я – Слуцкий! Я – Борис Слуцкий!".
Однажды мы сидели с Евгением Винокуровым в ресторане ЦДЛ. Вдруг на пороге возник Слуцкий. Высоко вздернув подбородок, он оглядел зал ресторана, очевидно, кого-то выискивая.
Винокуров иронически пробурчал, показывая мне на него глазами:
– Он долину озирает командирским взглядом…
А вот еще одно воспоминание в том же роде. Молодой прозаик Александр Полищук, ездивший (с моей подачи) представляться Слуцкому, на мой вопрос, как тот его встретил, юмористически приосанился и барственным, начальническим баритоном произнес знаменитую реплику Остапа Бендера:
– В каком полку служили?
Все эти мои воспоминания относятся к самому раннему периоду моего знакомства с Борисом, то есть – к середине 50-х.
В 1955 году я – впервые в жизни – поступил на штатную работу: стал заведующим отделом литературы журнала «Пионер», где, кстати, вскоре напечатал одно из самых знаменитых стихотворений Бориса Слуцкого "Лошади в океане". Акция эта была одной из первых и, вероятно, самых громких в этом моем новом качестве. Ее даже отметил в своей нашумевшей тогда статье о Слуцком Эренбург, вздохнув насчет того, что детям у нас везет больше, чем взрослым.
Но об этом надо подробнее.
Лошади в океане
Никаких дат никогда не помню, не вспомнил бы и эту. Но ее нетрудно было установить.
Дело было 28 июля 1956 года.
В редакционную комнату, где, сидя за своим обшарпанным канцелярским столом, я правил какую-то очередную рукопись, вошла Наталья Владимировна. В руках у нее был свежий номер «Литературной газеты». Лицо сияло улыбкой.
– Ну, – сказала она, – сегодня на вашей улице праздник.
Ничего не объясняя, положила газету на мой стол и удалилась.
Газета был развернута на большой статье Эренбурга: «О стихах Бориса Слуцкого». Уже одно это можно было считать праздником. Но даже еще не прочитав, а только бегло проглядев эту статью, я обнаружил, что один ее абзац отчеркнут.
Вот он:
Встает естественный вопрос: почему не издают книги Бориса Слуцкого? Почему с такой осмотрительностью его печатают журналы? Не хочу быть голословным и приведу пример. Есть у Слуцкого стихотворение о военном транспорте, потопленном миной. Написал он его давно, а напечатано оно недавно в журнале «Пионер» после того, как его отклонили некоторые чрезмерно осторожны редакции. Вот отрывок из него:
- Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
- Лошади поплыли просто так.
- Что ж им было делать, бедным, если
- В лодках нету мест и на плотах.
- Плыл по океану рыжий остров.
- В море, в синем, остров плыл гнедой.
- И сперва казалось – плавать просто,
- Океан казался им рекой.
- Но не видно у реки той края…
- На исходе лошадиных сил
- Вдруг заржали кони, возражая
- Тем, кто в океане их топил.
- Кони шли ко дну и ржали, ржали,
- Все на дно покуда не пошли.
- Вот и всё. А все-таки мне жаль их —
- Рыжих, не увидевших земли.
Детям у нас везет. Повесть «Старик и море» Хемингуэя выпустил в свет Детгиз, а трагические стихи о потопленном транспорте опубликовал «Пионер». Все это очень хорошо, но когда же перестанут обходить взрослых?..
Это было уже прямо про нас: про меня и Наталью Владимировну.
Я был заведующим отделом художественной литературы журнала «Пионер», а Наталья Владимировна Ильина – его главным редактором.
Я упрямо проталкивал – и в конце концов протолкнул это стихотворение Слуцкого на страницы журнала. А Наталья Владимировна этому моему напору сопротивлялась. Но в конце концов – сдалась. И вот теперь на нашей (прежде всего, конечно, моей, но и её тоже) улице был праздник.
Но этот наш праздник длился недолго.
Через несколько дней в той же «Литературной газете» статья Эренбурга была дезавуирована резким, – можно даже сказать, хамским – «читательским откликом», в котором утверждалось, что «умственный и душевный мир» Слуцкого убог, а его стихи «мало похожи на поэзию».
«Читателем», взявшим на себя смелость учить Эренбурга, какие стихи следует считать хорошими, а какие плохими, как гласила подпись под его «Письмом в редакцию», был Н. Вербицкий, учитель физики.
Не могло быть ни малейших сомнений, что никакого учителя физики, сочинившего это «Письмо», на самом деле не существовало. А если даже и был такой учитель, так он это «Письмо» разве только подмахнул, а состряпано оно было, конечно, в редакции.
Но почему вдруг понадобилось его состряпать?
Это вскоре выяснилось.
Главным редактором «Литературной газеты» был тогда Всеволод Кочетов.
Сегодня, наверно, уже мало кто помнит этого литературного деятеля той эпохи. А тогда это был – человек-символ. Символ сталинистского реванша, знак очередных заморозков, сменивших первые робкие лучи оттепельного солнышка.
До назначения в «Литгазету» он возглавлял ленинградское отделение Союза писателей. Но на очередном отчетно-выборном собрании ленинградцы его с треском провалили. И тут какие-то влиятельные "наследники Сталина" перетащили его в Москву, и даже с повышением. (Должность главного редактора единственной на всю страну "Литературной газеты" была, конечно, и рангом повыше, а главное – куда важнее, чем должность руководителя областной – хотя бы и ленинградской – писательской организации).
Это новое назначение Кочетова было встречено сразу же сочинившейся кем-то эпиграммой:
В Ленинграде был праздник, а в Москве – траур. Да и не только в Москве: «Литгазета» определяла литературную политику государства на территории всего Советского Союза. А уж какой будет эта политика при Кочетове, стало ясно сразу.
Почти сразу же начались увольнения и уходы "по собственному желанию". В короткий срок газету покинули десятки сотрудников, и в числе первых были, конечно, самые яркие, самые талантливые.
На смену ушедшим пришли люди, не умевшие не то что писать, но и просто выправить статью, нуждавшуюся в редактуре.
Кочетовский смерч сметал не только рядовых сотрудников.
Демонстративно объявили о своем выходе из редколлегии писатели Валентин Овечкин и Всеволод Иванов.
Прощаясь с остающимися сотрудниками, с которыми у него сложились добрые отношения, Овечкин сказал:
– Вам, ребята, я не завидую, а сам я в эту «кочетовку» больше ни ногой.
Эту тактику "выжженной земли" Кочетов распространил не только на вверенный ему коллектив. Кочетовские "лучи смерти" действовали не только внутри газеты, но и далеко за ее пределами.
В короткий срок этот "литературный дядя" оттолкнул от газеты всё талантливое, всё живое, что было тогда в нашей литературе, всех лучших тогдашних российских писателей превратил в заклятых ее врагов.
Даже самые законопослушные и – мало того! – сами в душе тоскующие по сталинским порядкам, – и те жаловались:
– Некому заказать статью! Все писатели отказываются с нами сотрудничать!
Кто отказывался, а кого Кочетов прямо и откровенно распорядился не пускать на порог.
Эренбург для Кочетова был – враг номер один. И любая его статья, даже самая невинная (хотя невинных у него не было), а тем более такая, как эта его статья о стихах Бориса Слуцкого, на страницах тогдашней «Литгазеты» могла появиться только чудом.
Она и появилась чудом.
Несколько сотрудников редакции, воспользовавшись отсутствием шефа (тот был то ли в отпуске, то ли в какой-то заграничной поездке), обратились к Эренбургу с просьбой «дать им что-нибудь». А тот, воспользовавшись этим предложением, дал им статью о Слуцком.
Вернувшись к исполнению обязанностей и прочитав эренбурговскую статью, Кочетов пришел в ярость и тотчас же дал команду ее дезавуировать. Так и появился на страницах газеты «читательский отклик» пресловутого «учителя физики».
Свое дело, однако, статья Эренбурга уже сделала. После нее загнать Слуцкого обратно в подполье было уже невозможно. (Хотя печатали его по-прежему туго).
Для меня (мне-то что, главное – для Натальи Владимировны) эта история прошла без последствий (хотя она, – пуганая-перепуганая – на первых порах этих последствий ужасно боялась, и – по тогдашним нравам не без оснований: могли и полоснуть).
А о том, как сложилась дальнейшая судьба этого его стихотворения и о своем отношении к нему Борис – спустя годы – рассказал в короткой мемуарной заметке, озаглавленной подчеркнуто сухо, по-деловому, без сантиметов: «К истории моих стихотворений».
Начну с «ЛОШАДЕЙ В ОКЕАНЕ».
Написаны в 1951 (?) году летом в большую жару. Я снимал тогда комнату близ Даниловского рынка… Комната была жаркая, а на кровати лежал матрас со стальными пружинами особой конструкции, такими, что спать было невозможно…
Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде «Нового времени», откуда обычно черпал вдохновение.
Я начал писать с самого начала со строк: «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко» – и очень скоро (а в те годы я писал еще очень медленно) написал все. Правил после мало.
Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые лет 15 спустя. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку.
Это сентиментальное, небрежное стихотворение до сих пор – самое у меня известное.
Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне (в Париже, в 1965-м), что он эти стихи заприметил:
– Но рыжие и гнедые – разные масти…
Стихи так нравились Эренбургу, что я их ему посвятил…
Напечатал «Лошадей» Сарнов в «Пионере» (в 1956 году, наверное) как детское стихотворение о животных. Это обстоятельство тогда веселило моих знакомых. Вскоре Вадим Соколов и Атаров (последний с большими идеологическими сомнениями) перепечатали «Лошадей» в «Москве», и потом их перепечатывали десятки раз.
Я знаю четыре польских перевода, несколько итальянских. На «Лошадей» написано несколько музык. Говорят, нищие пели их в электричках.
На вечерах первые строки иногда встречались хохотком публики, медленно привыкавшей к нешуточному повороту дела.
Мне до сих пор понятны только внешние причины успеха – сюжетность, трогательность, присутствие символов и подтекстов. Это никак не объясняет успеха стихотворения у квалифицированного читателя.
«Лошади» – самое отделившееся от меня, вычленившееся, выломавшееся из меня стихотворение.
Автобиографическая заметка эта (как и вся проза Бориса) пылилась в одном из дальних ящиков его письменного стола: публиковать свою прозу при жизни он не пытался, понимая всю безнадежность таких намерений, даже если бы они у него и были. Но у него их не было.
Впервые эти его записки увидели свет в 1991 году, в тоненькой книжечке-брошюрке библиотеки «Огонька». А процитированную заметку про «Лошадей в океане» я прочел совсем недавно, в уже более плотном его прозаическом сборнике (О других и о себе. Москва. «Вагриус». 2005).
Не скрою, читать ее мне было приятно: ведь это был как бы личный привет мне от Бориса. Привет – ОТТУДА, С ТОГО БЕРЕГА.
Но тщеславиться этой моей заслугой особых оснований вроде не было. Стоило ли гордиться тем, что я – пусть даже первый – опубликовал стихотворение, которое сам автор, судя по этим его пренебрежительным эпитетам («сентиментальное, небрежное»), ценил не больно высоко.
Но в другой раз об этом же стихотворении он высказался иначе:
Чему же верить: прозаической (в сущности, дневниковой) заметке? Или стихотворению?
Наверно, в этом случае, – как и во всех других, когда возникает такая альтернатива, – стоит прислушаться к совету, который Пушкин однажды дал Вяземскому.
Тот сокрушался, что погибли дневниковые записки Байрона.
Пушкин ему отвечал:
Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то марая своих врагов…
Верить, стало быть, надо стихам.
Если так, гордиться тем, что именно мне удалось – первому – напечатать стихотворение Слуцкого «Лошади в океане», определенно стоило.
Он комиссаром был рожден
Узнав, что я поступил на работу в «Пионер», Слуцкий взял на себя миссию непосредственного моего куратора.
Курировал он меня так.
Утром в моей редакционной комнате раздавался телефонный звонок и начальственный голос Слуцкого произносил – жестко, раздельно, словно обладатель этого голоса знал, что говорит с не слишком понятливым человеком, которому даже самую простую и доступную информацию приходится старательно и настойчиво втемяшивать в голову:
– Приехал Стель-мах…
Я довольно смутно представлял себе, кто такой Стельмах, зачем и откуда он приехал и что мне с ним надлежит делать. И Слуцкий терпеливо втолковывал мне, что я во что бы то ни стало должен связаться с этим украинским поэтом, выпросить у него для «Пионера» несколько стихотворений и заказать переводы с украинского на русский – лучше всего Льву Озерову, телефон которого мне тут же сообщался.
В другой раз он сообщал мне, что по его указанию ко мне придет только что вернувшийся из эмиграции старый поэт Антонин Ладинский, и я непременно должен опубликовать какие-нибудь его стихи или прозу.
Во всем этом проявлялась, конечно, и необыкновенная доброта Бориса, постоянное его желание помогать людям. Все равно, кому – Ладинскому ли, который в такой помощи очень нуждался, или Стельмаху, который не нуждался в ней совсем. Но главным все же тут был именно государственный интерес – причем именно тот, высший, истинный государственный интерес, который специально назначенные для этой цели чиновники блюдут слабо, нерадиво, а то и вовсе неправильно, и только он один знает, в чем этот интерес состоит и как именно его надлежит блюсти.
Об этом «комиссарстве» Бориса ходили анекдоты.
Вот – один из них. Отнюдь не выдуманный.
В Союзе писателей шло заседание бюро творческого объединения поэтов. Разбирались разные кляузы, жалобы, просьбы. Все шло как обычно. Вполне обычной была и та жалоба, о которой я хочу рассказать. Она исходила от одного провинциального поэта. Поэт этот был – инвалид войны, тяжко больной человек, прикованный к постели, почти ослепший после тяжелого черепно-мозгового ранения. В общем, что-то вроде нового Николая Островского. Восемь лет тому назад он послал в издательство "Советский писатель" сборник своих лирических стихов. Рукопись была одобрена и принята к печати. Автору было обещано, что на следующий год она будет включена в план выпуска. Но прошел год, за ним второй, третий, а рукопись несчастного поэта так и лежала без движения. И никаких шансов увидеть свет у нее, кажется, уже не было.
Зачитав эту жалобу, председательствующий предоставил слово заведующему редакцией поэзии издательства "Советский писатель", потребовав, чтобы тот дал объяснение этому вопиющему факту.
Заведующий не отрицал, что все изложенное в письме – чистая правда. Но книга слабая. В ней есть несколько приличных стихотворений, редакция надеялась, что автор дотянет остальные до их уровня. Но этого, к сожалению, не произошло. Издать книгу в том виде, в каком она сложилась, не представляется возможным.
Начались прения. Все выступавшие выражали сочувствие обманувшемуся в своих ожиданиях поэту. Но в то же время признавали серьезными и резоны работников издательства. Обсуждение, похоже, зашло в тупик.
И тут слово попросил Слуцкий. И произнес такую речь.
– У нас только среди членов бюро по меньшей мере десяток поэтов фронтового поколения, – сказал он. – Неужели мы не протянем руку помощи нашему товарищу, попавшему в беду? Чего же стоит тогда наше фронтовое братство!.. Вот мое предложение. Пусть каждый из нас, поэтов-фронтовиков, напишет в эту книгу по стихотворению. Давайте спасем эту книгу нашими общими усилиями, как мы, бывало, выносили из сражения на своих руках раненого товарища!
Слушая эту замечательную речь, я вспомнил давнишний рассказ Эмки Манделя (Н. Коржавина). Дело было в самом начале 60-х. Эмка тогда только-только начал печатать свои стихи в периодике. До первой (в сущности, единственной) его книжки было еще далеко. Но времена были уже либеральные, разные влиятельные доброжелатели ему покровительствовали, и однажды он получил приглашение прийти на заседание редколлегии “Дня поэзии” с тем, чтобы предложить этому альманаху какие-нибудь свои стихи.
Он пошел. И вернулся оттуда совершенно потрясенный.
В отличие от него, я уже слегка притерпелся к атмосфере тогдашней нашей литературной жизни, и поэтому в причинах его потрясения разобрался не сразу.
– Ты можешь толком рассказать мне, что там тебя так поразило? – спросил я.
– Понимаешь, – растерянно сказал он, – там выступил Такой-то (он назвал фамилию известного поэта) и сказал, что в соавторстве с Таким-то (он назвал фамилию другого, тоже известного поэта) он сейчас работает, – точнее, они вместе, вдвоем работают – над циклом лирических стихов.
– Вот мудак, – сказал я.
– Да нет! Не в этом дело! – раздраженно отреагировал Эмка.
– А в чем же?
– Понимаешь, – потрясенно сказал он. – Никто не улыбнулся!
Но к предложению Бориса, чтобы каждый член бюро секции поэтов написал по стихотворению в неудавшуюся книгу своего товарища-фронтовика, он отнесся иначе. Тоже, конечно, с юмором. Но – без удивления. Ведь это был Слуцкий, сатирический, но в то же время и любовный портрет которого он сам незадолго до того запечатлел в той знаменитой своей своей эпиграмме.
В честь труда и во имя свободы
Борис, конечно, знал, что над его «комиссарством» посмеиваются. Но это ни в малой степени его не смущало. И от этой своей жизненной позиции он не только не отрекался. Он на ней настаивал:
Нельзя сказать, чтобы комиссар восемнадцатого века – "молодой парижанин, пустой человек" – представлял собой некий идеальный образ. По правде говоря, возникает даже мысль, что "с лихвою свое комиссар получил" по заслугам, что палачи били его за дело (как, в общем-то, за дело был расстрелян Опанасом в поэме Багрицкого и наш комиссар Коган, смущавший мужиков "большевицким разговором").
Но стихотворение называется не «Комиссар», а – «Комиссары». И смысл этого названия в том, что свою комиссарскую должность автор, – комиссар двадцатого века – готов взвалить на себя целиком – не только со всем связанным с этой должностью риском, но и со всеми ее моральными издержками. Несмотря на явную непривлекательность описанных поэтом комиссарских трудов ("Отпирай! Отворяй! Отмыкай! Вынимай!"), автор все-таки верит, что действует этот его комиссар "в честь труда и во имя свободы".
Слуцкий – не только в этом стихотворении, но и в нем тоже – предстает перед нами как субъект истории. Он ощущает себя одним из тех, кто делает историю, творит ее. И именно в этом (а не в том, что он просто «посетил» этот мир в его минуты роковые) состоит главная его жизненная удача. Не гостем, а хозяином был он на этом великом историческом пиршестве:
Стихи эти (в особенности строка: "Не винтиками были мы. Мы были – электронами") при первом чтении вызвали у меня неудержимое желание сочинить на них пародию. Что я тогда же и осуществил:
Прочесть эту пародию Борису я не отважился. Но другим читал, и она, конечно, до него дошла. Это я сразу почувствовал. Он перестал мне звонить (а раньше звонил чуть ли не ежедневно). При встречах (которые были неизбежны, мы ведь были соседями) держался подчеркнуто холодно.
Продолжалось это довольно долго, несколько месяцев, чуть ли не полгода.
Потом как-то рассосалось.
Какое странное стихотворение ты написал
Эта моя пародия на Слуцкого была не первой и не единственной.
Были еще две, написанные, правда, уже не в одиночку, а втроем: вместе с двумя моими соавторами по пародийному цеху – Л. Лазаревым и Ст. Рассадиным.
Их я сейчас тоже тут приведу. Но сперва надо рассказать о том, как и почему мы стали пародистами.
Мы – все трое – работали в "Литературной газете", главным редактором которой был тогда Сергей Сергеевич Смирнов.
Сергея Сергеевича от всех других главных редакторов, с которыми нам приходилось сталкиваться, отличало одно качество, не изменявшее ему никогда: он был доступен. В его кабинет всегда можно было войти запросто, в любое время рабочего дня. (Даже если в этот момент он говорил по вертушке с секретарем ЦК: был однажды такой случай).
Каково же было наше изумление, когда в один прекрасный день, пытаясь, как обычно, толкнуть дверь редакторского кабинета, мы наткнулись на запрещающую реплику секретарши Милы:
– К нему нельзя.
– ???
– У него юмористы.
Вскоре про эту странную слабость главного редактора уже знали все сотрудники газеты.
Раз в неделю за длинным столом, предназначенным для заседаний редколлегии, поминутно остря и подтрунивая друг над другом, рассаживались самые знамениты юмористы столицы: Александр Раскин, Никита Богословский, Зиновий Паперный, Владлен Бахнов, Морис Слободской, Леонид Лиходеев… На столе стояли скромные яства: печенье, конфеты, чай, иногда и другие напитки – все это покупалось на личные средства главного редактора. Сам же главный редактор сидел не в своем редакторском кресле, а где-то сбоку припека и держался в высшей степени скромно. Пожалуй, даже подобострастно. Чувствовалось, что юмористы представляют в его глазах лучшую, достойнейшую часть человечества.
Пили чай (или что-нибудь другое), закусывали конфетами. И читали самые свежие, только что сочиненные фельетоны, пародии, эпиграммы. Когда кому-нибудь случалось прочесть что-нибудь особенно удачное, особенно смешное, лица юмористов каменели. Не дрогнув ни одним мускулом, кто-нибудь из них ронял:
– Смешно.
Иногда даже:
– Очень смешно.
Смеяться или хотя бы улыбаться удачным шуткам, очевидно, считалось у юмористов-профессионалов дурным тоном.
Сперва мы относились к этому увлечению нашего главного редактора снисходительно – как к простительной и сравнительно безвредной слабости. Но в какой-то момент оно стало нас раздражать. Нам казалось, что юмористам он уделяет непомерно много внимания и своего редакторского времени – в ущерб другим, гораздо более важным вопросам, с которыми нам к нему теперь бывало порой не пробиться. Ну, а кроме того, юмористическая страница, ставшая теперь в нашей газете постоянной (из нее, кстати, потом вырос "Клуб 12 стульев") далеко не всегда бывала удачной. И однажды один из нас, выступая на летучке, сославшись на известную шутку Утесова о каком-то джазе, сказал об очередном выпуске "клуба юмористов", что в Одессе, мол, так умеет каждый, только стесняется.
– Критиковать легко! – обиделся наш главный. – А вы попробуйте! Сочините! Хотел бы я посмотреть, что у вас получится!
И мы решили попробовать.
Оставшись однажды в редакции после рабочего дня, движимые стремлением доказать нашему главному свою правоту, мы сочинили две пародии. Через день – другой – еще две. И спустя неделю отважились прочитать их на очередном заседании "клуба юмористов".
Слегка волнуясь, мы прочли первую пародию… Потом вторую… Третью…
Юмористы сидели с каменными лицами.
Читая последнюю – пятую или шестую – мы уже не сомневались, что нас постиг полный провал. И вдруг – после довольно долгой, мучительной для нас паузы, кто-то из корифеев юмора произнес:
– Смешно.
И другой корифей так же невозмутимо подтвердил:
– Очень смешно.
Так юмористы приняли нас в свою компанию, и теперь нам не оставалось ничего другого, как всеми силами стараться поддерживать этот наш новый статус.
Пародия на Слуцкого была в числе тех пяти-шести, самых наших первых. Сочинена она была, как и другие, вошедшие в тот наш первый цикл, по традционной пародийной колодке – на сюжет знаменитой детской песенки «В лесу родилась елочка».
Вот она:
Через несколько дней после появления ее на страницах «Литературной газеты» Борис, веселясь, сообщил мне:
– Вчера позвонила мне из Харькова мама. Она прочла ваши пародии в «Литературной газете».
– Да? – насторожился я. – И что же она о них сказала?
– Боря, – сказала она. – Какое странное стихотворение ты написал!
По довольному выражению его лица было видно, что эта мамина реакция доставила ему большое удовольствие.
Как известно, особенно легко и приятно пародировать тех авторов, стилевая манера которых отличается особой, резкой выразительностью. Слуцкий этим свойством обладал в самой высокой степени. И поэтому вскоре мы сочинили на него еще одну пародию. На сей раз, на сюжет басни дедушки Крылова «Квартет»:
По правде сказать, и та, первая наша пародия была не вполне безобидна («Человеку нужна не ёлка, человеку палка нужна!»). А тут поводов для обид было вроде уже побольше («Нету у нас музыкального слуха, нам медведь наступил на ухо…»). Да и по самой сути своей, по тайному (не такому уж и тайному) своему смыслу не так далеко она ушла от той, из-за которой он чуть ли не перестал со мною здороваться. Но на нее, как и на первую нашу, он тоже не обиделся. А на ту, мою, обиделся смертельно.
Как видно, я там ненароком ткнул его в больное место. Туда, где уже был у него перелом, Или трещина. Или открытая, незаживающая рана.
Когда мы вернулись с войны
В «комиссары» теперь назначали людей совсем другого склада. Но он был комиссар не по назначению, не по должности, а – по призванию. По складу характера и души. И расстаться с этим своим комиссарством, сбросить его, как сбросил военную гимнастерку, сменив ее на штатский пиджак, – не смог:
И хотя, как я уже говорил, в этом его самозваном комиссарстве была и комическая сторона, тут надо сказать, что, сохраняя верность этой своей «строительной программе», кое-чего он, случалось, все-таки добивался. Оно было не бессмысленным, не совсем бесплодным, это добровольно взваленное им на себя комиссарство:
В течение многих лет каждое утро я прихожу в фонетический кабинет Союза писателей – узкую высокую комнату в доме на Поварской, которая тогда называлась улицей Воровского. От пола до потолка – стеллажи с плоскими коробками магнитофонных лент и грампластинок… Тарковский, Твардовский, Тушнова, Тычина… Каверин, Каменский, Катаев, Кириллов… Фадеев и Форш, Эренбург и Яшвили.
А дело было так. Как-то, работая еще в Музее Маяковского, я записывал чтение Бориса Слуцкого. Мы разговорились, и я стал жаловаться на то, что записи писательских голосов регулярно не делаются, а те, что делаются, часто теряются: потеряли, например, запись Багрицкого, размагнитили довольно много записей чтения Василия Каменского…
А Слуцкий трепачей не любил и в ответ на мои стенания сказал: «Изложите письменно».
И вот по требованию Слуцкого я написал о том, что происходит в области звукозаписи: ценные записи хранятся крайне небрежно, а новые, если и делаются, то – не те и не так, как нужно. Слуцкий дал ход этой бумаге, она очень долго разбиралась в различных инстанциях и комиссиях, и он ничего мне об этом не говорил…
Вдруг мне звонят: «По вашей докладной в Союзе писателей решено открыть отдел звукозаписи, фонотеку. Так что приходите. Когда придете?»
Какая фонотека? Как – приходить? Я даже не сразу сообразил, о чем речь, и начал было говорить, что это какое-то недоразумение… Потом вспомнил о разговоре со Слуцким, состоявшемся года полтора назад…
Так повернулась моя судьба.
(Лев Шилов. Голоса, зазвучавшие вновь. М. 2004, Стр. 84–85)
А вот еще один пример этого его самозваного комиссарства.
Через несколько дней после того как в «Литгазете» было напечатаностихотворение Евтушенко «Бабий яр», в газете "Литература и жизнь", которую мы в своем кругу презрительно именовали «Лижи» (лижут, мол, задницу начальству), появилась грязная антисемитская статья известного тогда литературного проходимца Дмитрия Старикова. Проходимец этот был человек довольно начитанный (во всяком случае, в рядах его единомышленников таких эрудитов, как он, было немного) и он довольно хитроумно столкнул скандальное стихотворение Евтушенко с одноименным (1944 года) стихотворением Эренбурга. Вот Эренбург, дескать, в отличие от Евтушенко, в том давнем своем стихотворении проявил себя как настоящий, подлинный интернационалист.
Эренбург в то время был в Риме, но о подлой выходке Старикова узнал почти сразу. О "кругах по воде", которые пошли от брошенного Стариковым камня, ему быстро просигналил туда, в Италию, «комиссар» Слуцкий. И не просто просигналил, а дал ему соответствующее комиссарское распоряжение:
Было бы очень хорошо, если бы Вы телеграфировали свое отношение к попытке Старикова прикрыться Вашим именем – немедленно и в авторитетный адрес.
Илья Григорьевич так и поступил. Но не сразу. Сперва он отправил в «Литгазету» такое коротенькое письмо:
Находясь за границей, я с некоторым опозданием получил номер газеты "Литература и жизнь" от 27 октября, в котором напечатана статья Д. Старикова "Об одном стихотворении". Считаю необходимым заявить, что Д. Стариков произвольно приводит цитаты из моих статей и стихов, обрывая их так, чтобы они соответствовали его мыслям и противоречили моим.
С уважением
Илья Эренбург.
Но «Литгазета напечатать это его «ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ» не посмела. Напечатала только после того как Эренбург пожаловался к Хрущеву, и от того поступило на сей счет соответствующее распоряжение.
Комиссар Слуцкий ситуацию понимал лучше, чем Эренбург. Он не сомневался, что без обращения в "авторитетный адрес" тут не обойтись.
Над содержанием и формой
Но эпиграмма Коржавина, из которой я вспомнил (пока) лишь первую ее строку, на самом деле имела совсем другой, гораздо более глубокий смысл.
Прочтем ее теперь от первой строки до последней:
Комиссарить в стихах «над формой» – это значит насиловать стих, «ломать строку о колено", как выразился однажды по этому поводу ближайший его «друг-соперник» Давид Самойлов.
Слуцкий и сам описал свой творческий метод в тех же терминах, – или, лучше сказать, в пределах той же образности, – со свойственной ему грубой прямотой, далеко превосходящей резкость коржавинской эпиграммы:
Как делают стихи
Хотя и не самая впечатляющая, но едва ли не самая важная строка тут – "и при этом поют". Как это ни удивительно, но при таком способе делания стихов слова у Слуцкого и в самом деле – поют:
Сам он качество своих стихов оценивал так:
И его при этом ничуть не смущало, что это, каждому истинному поэту присущее «лица необщее выраженье», этот его «личный штамп», это «свое клеймо» были у него выработаны, выделаны.
Напротив, в этом он видел едва ли не главное их достоинство:
Однажды, рассказывая мне о Кульчицком, он сказал, что тот был на голову выше каждого из их шестерки (Кульчицкий, Павел Коган, Слуцкий, Самойлов, Наровчатов, Михаил Львовский) не только силой и качеством дарования, но и глубоким понимание того, как и что надо делать молодому стихотворцу, чтобы выработаться в настоящего поэта. Например: он (Кульчицкий) задал себе – и осуществил – такое задание: всю лирику Пушкина переписал стихом Маяковского!
Выслушав это, я, видимо, должен был восхититься. Но у меня это сообщение вызвало скорее юмористическую реакцию, от выражения которой я, впрочем, удержался.
Именно эту юмористическую реакцию и выразил – своей эпиграммой – Коржавин.
Но победителя не судят. А в том, что из этого своего «комиссарства над формой», из этой принципиальной и упорной своей борьбы с безликой гладкописью Слуцкий вышел победителем, не может быть ни малейших сомнений
Сложнее обстоит дело с другой иронической стрелой коржавинской эпиграммы, – с его утверждением, что Слуцкий в своих стихах «комиссарит» не только «над формой», но и «над содержанием».
Не раз приходилось мне слышать, что обвинение это не только несправедливое, но прямо-таки дурацкое. Да, мол, по части формы был у него такой грех, но над содержанием он не комиссарил. Не было этого!
Но то-то и дело, что было. Комиссарил и «над содержанием». И еще как! И не только в тех случаях, когда ему поневоле приходилось начинать «охоту за правдой», но и по собственной своей доброй воле.
Механизм этого «комиссарства» особенно ясно можно увидеть на примере одного его – не шибко известного, но очень характерного в этом смысле стихотворения. Называется оно – «Герман Титов в клубе писателей». И начинается – так:
Так думали – во все времена – все поэты. И каждый пытался установить с этим вечным космосом свои, особые отношения:
Даже Маяковский, бросивший вызов этой вековой поэтической традиции, не смог от нее отказаться.
Вселенная Маяковского "безвидна и пуста". Пустыня вселенной больше не внемлет вконец обанкротившемуся Богу. Звезда с звездой не говорит. Человеку нет дела до звезд, и звездам нет дела до человека.
Но вот и он тоже:
И уже перед самым своим концом, совсем незадолго до трагической своей гибели опять вспомнил, что кроме красных, пятиконечных, есть на свете еще и другие звезды:
Однажды прикоснулся к этой вечной теме и Слуцкий:
Вот это и выразилось, выплеснулось в первой, естественной его реакции на наивную реплику молодого космонавта. («Я-то думал, космос – дело вечное»). Тут как будто бы намечался серьезный конфликт. Во всяком случае, – повод для спора, похоже, даже непримиримого.
Но конфликт не развивается, и никакого спора не происходит, потому что в дело вступает комиссар. И комиссар побеждает поэта. И стихотворение заканчивается бравурно, по-комиссарски:
Для сравнения вспомню несколько строк из одного стихотворения автора той самой эпиграммы – Н. Коржавина. Оно – на ту же тему, с той лишь не слишком существенной разницей, что герой стихотворения Слуцкого – «космонавт № 2», а герой коржавинского – «космонавт № 1»:
Смысл этого моего сопоставления (противопоставления) – не в том, что Слуцкий воспевает подвиг человека, впервые вырвавшегося в космическое пространство, а Коржавин его отрицает.
С этим коржавинским отрицанием можно и не соглашаться, его скепсис и пессимизм можно и не разделять. Но он выразил СВОЙ взгляд, СВОЮ точку зрения на существо проблемы, а Слуцкий – общую, общепринятую, можно даже сказать – общеобязательную.
Так что – «комиссарил». Не только над формой, но и над содержанием. Над содержанием, пожалуй, даже чаще, чем над формой.
Это было главным предметом постоянных и ожесточенных наших споров.
Не дай вам Бог увидеть, как он плачет
Позвал он меня как-то к себе. Сказал, что будет еще Юра Трифонов. И он почитает нам свои новые стихи.
По инерции я написал "к себе", – но это сказано не совсем точно, потому что никакого постоянного пристанища в Москве у него тогда не было. Он скитался по разным углам. А в тот раз квартировал у своего приятеля Юры Тимофеева в старом деревянном доме на Большой Бронной. (Теперь от этой развалюхи не осталось и следа).
Мы с Юрой явились почти одновременно. Борис усадил нас за стол, покрытый старенькой клеенкой. Сам сел напротив. Положил перед собой стопку бумажных листков – в половину машинописной страницы каждый. Сказал:
– Вы готовы?.. В таком случае, начнем работать…
Это был его стиль, унаследованный им от Маяковского. Не могу поручиться, что слово «работать» было действительно произнесено, но тон и смысл сказанного был именно такой: вы пришли сюда не развлекаться, не лясы точить, а работать.
Мы поняли и настроили себя на соответствующий лад.
Борис прочел первое стихотворение… Второе… Третье… Начал читать четвертое.
– "Лопаты", – объявил он. И стал читать, как всегда, медленно, буднично, без всякого актерства, ровным, «жестяным» голосом:
Тут вдруг большой, грузный Юра как-то странно всхлипнул, встал и вышел из комнаты.
Мы с Борисом растерянно смотрели друг на друга. Молчали.
Слышно было, как где-то (в кухне? В ванной?) льется вода.
Потом Юра вернулся. Сел на свое место. Глаза у него были красные.
Никто из нас не произнес ни слова.
Последний законный наследник Маяковского продолжил свою работу. Прочел пятое стихотворение… шестое… седьмое… Наверно, это были хорошие стихи. Но я их уже не слышал. В голове моей, заглушая ровный голос Бориса, звучали совсем другие стихотворные строчки:
Да… Не дай вам Бог.
О Сталине я в жизни думал разное
После этого инцидента дальнейшая наша «работа» как-то не задалась.
Юра вскоре ушел. А мне Борис взглядом дал понять, чтобы я остался. И я остался.
Мы попили чаю, поговорили немного о последних политических новостях, связанных с недавно отгремевшим ХХ съездом, и вернулись к прерванному занятию.
Стихи, которые потом читал мне в тот вечер Борис, почти сплошь были о Сталине.
Сперва он прочел уже известные мне (они уже довольно широко ходили тогда по Москве) «Бог» и "Хозяин".
Поскольку это было не просто чтение, а работа, после каждого прочитанного стихотворения мне полагалось высказываться.
О «Боге» я сказал, что это – гениально. Стихотворение и в самом деле – как и при первом чтении – поразило меня своей мощью:
О «Хозяине» я отозвался более сдержанно. Хотя первая строчка ("А мой хозяин не любил меня…") сразу захватила меня своей грубой откровенностью. Да и другие строки тоже впечатляли:
При всей своей горькой мощи это стихотворение слегка отвратило меня тем, что автор говорил в нем не столько о себе и от себя, как, на мой взгляд, подобало говорить поэту, а от лица некоего обобщенного лирического героя. Как мне тогда представлялось, сам Борис вряд ли так уж любил Хозяина, и уж во всяком случае вряд ли таскал с собою и развешивал в землянках и в палатках его портреты.
Примерно это я тогда ему и сказал. (Не уверен, что был прав, но – рассказываю, как было).
Борис промолчал.
Но пока всё шло более или менее гладко.
Неприятности начались, когда он прочел стихотворение, начинавшеееся словами: "В то утро в мавзолее был похоронен Сталин".
А кончалось оно так:
Отдав должное смелости его главной мысли (заключавшейся в том, что сталинский социализм – бесчеловечен, поселить в нем людей нам только предстоит), я сказал, что в основе своей стихотворение все-таки фальшиво. Что я, как Станиславсий, не верю ему, что он действительно в тот день думал и чувствовал всё, о чем тут рассказывает. И вообще, полно врать, никакой социализм у нас не выстроен…
Он опять промолчал и всё опять шло довольно гладко, пока он не прочел такое – тоже только что тогда написанное – стихотворение:
Уже это начало возмутило меня своим фальшивым пафосом.
Вряд ли у меня тогда было полное представление о той страшной цене, которую Россия заплатила за сталинскую теорию и практику построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Но ведь уже было не только написано, но и напечатано («Новый мир», 1956, № 10) стихотворение Заболоцкого «Противостояние Марса», в котором об этих самых «громадах стали и стекла» говорилось в совсем иной тональности:
Но самое большое мое возмущение вызвала последняя, концовочная, финальная строфа этого стихотворения Бориса, – его, так сказать, смысловой и эмоциональный итог:
Тут мой спор с ним достиг самого высокого накала.
Собственно, никакого спора не было. Говорил я один. Борис молчал.
– Вы только подумайте, что вы написали! – горячился я. – Вот эти плохо одетые, замордованные, затраханные чудовищным нашим государством-Левиафаном люди, – это они-то хозяева? А те, что разъезжают в казенных автомобилях, жируют в своих государственных кабинетах, – они, значит, слуги народа? Да? Вы это хотели сказать?
Когда я исчерпал все свои доводы и напоследок обвинил его в том, что он повторяет зады самой подлой официальной пропагандистской лжи, он произнес в ответ одну только фразу:
– Ладно. Поглядим.
Тем самым он довольно ясно дал мне понять, что еще не вечер. Придет, мол, время, и истинный хозяин еще скажет свое слово.
Намек я понял. И хоть остался при своем, поверил, что он, во всяком случае, не врет, – на самом деле верит, что сказанное им в этом стихотворении – правда.
Но главный скандал разразился после того как он прочел мне – тоже только что написанное – стихотворение про Зою. Про то, как она крикнула с эшафота: "Сталин придет!".
Завершали стихотворение такие строки:
И далее следовало мутноватое рассуждение насчет того, что, как бы там ни было, а это тоже было, и эту страницу тоже, мол, не вычеркнуть из истории и из нашей жизни.
– Как вы могли! – опять кипятился я. – Да как у вас рука поднялась! Как язык повернулся!
– А вы что же, не верите, что так было? – кажется, с искренним интересом поинтересовался он. (Мне показалось, что он и сам не слишком в это верит).
– Да хоть бы и было! – ответил я. – Если даже и было, ведь это же ужасно, что чистая, самоотверженная девочка умерла с именем палача и убийцы на устах!
Когда я откричался, он – довольно спокойно – разъяснил:
– У меня около сотни стихов о Сталине. Пусть среди них будет и такое…
На Сталина все беды свалены
Но самый большой скандал разразился по поводу таких его строк:
Сейчас, когда я отыскал в его трехтомнике это стихотворение, запомнившееся мне только первым четверостишием, да последними двумя строчками: ("Уволенная и отставленная, Лежит в подвале слава Сталина"), меня особенно покоробило в нем слово «величество». (Не само слово даже, а интонация, с какой оно произнесено: что бы, мол, вы там ни говорили…).
Но тогда возмутило меня там совсем другое.
– Ах, вот как! – иронизировал я. – Свалены, значит? А сам он, бедный, выходит, ни в чем не виноват?
В этом слове ("свалены", как это мне запомнилось, или «взвалены», как это теперь напечатано) мне тогда померещилось стремление Бориса выгородить Сталина, защитить его от «несправедливых» нападок.
Хотя в основе чувства, вызвавшего к жизни эти стихи, вероятно, лежало более глубокое, чем мое, осознание той простой истины, что главной причиной наших бед был не Сталин, а порожденная, – конечно, им, Сталиным, но не только им – система.
Речь над гробом Заболоцкого
Наташа Роскина, с которой мы дружили, Слуцкого терпеть не могла. Имени его не могла слышать спокойно. И надо признать, что некоторые основания для этого у нее были.
Наташа одно время была женой Николая Алексеевича Заболоцкого. Брак их оказался непрочным и, наверно, правильнее было бы назвать его не браком, а коротким и бурным романом. Но роман этот оставил глубокий след в жизни обоих. У Заболоцкого это отразилось в дивных стихах лирического цикла «Последняя любовь», одного из лучших созданий любовной лирики в русской поэзии ХХ века. В том, что лучшие стихи этого цикла посвящены Наташе, для тех, кто знал ее, не может быть никаких сомнений. В одном из них даже отчетливо запечатлен очень похожий ее портрет:
А Наташа об этом их недолгом браке – или долгом романе – рассказала в прозе. В очень честных, не щадящих ни его, ни себя воспоминаниях, которые ей еще при жизни удалось напечатать (не на родине, конечно, где это тогда было невозможно, а в Париже).
В этих воспоминаниях она и выплеснула свою обиду на Слуцкого.
Ее больно задел такой отрывок из его воспоминаний о Заболоцком:
Однажды в Тарусе, когда я провожал Н. А. на дачу Оттена, где нас ждали Паустовский и Семынин, мы проходили мимо недостроенного дома. Может быть, это был не дом, а котлован. Заболоцкий сказал:
– А ведь я все строительные профессии знаю. И землекопом был, и каменщиком, и плотником, и прорабом большого участка.
В другой раз на общий чересчур вопрос о шести лагерных годах: «Ну, как там было?» – он ответил не распространяясь:
– И плохо было, и очень плохо, и очень даже хорошо.
Это воспоминание не просто обидело Наташу. Оно ее возмутило.
Он редко и мало рассказывал мне о годах своего заключения, но один эпизод рассказывал даже несколько раз, и с большим волнением. Он говорил мне, что начальник лагеря спрашивал его непосредственного начальника: "Ну, как там Заболоцкий – стихи пишет?" – "Нет, – отвечал начальник. – Какое там. Не пишет: больше, говорит, никогда в жизни писать не будет". – "Ну то-то".
И когда он в лицах изображал мне разговор этих двух начальников, в глазах его было что-то зловещее.
Выступая с речью на похоронах Заболоцкого, Борис Слуцкий передал следующий разговор, будто бы бывший у него с Заболоцким в Тарусе. Они проходили мимо какой-то стройки, и Заболоцкий сказал: "Я прошел все этапы строительства. Я был и землекопом, и плотником, и чертежником, и прорабом". И будто бы эти слова" он произнес с каким-то удовлетворением.
Но я вспоминаю это "ну то-то" – и не верю Слуцкому. У Слуцкого есть еще такой рассказ о Заболоцком: Италия, светит солнце, Заболоцкий сидит в гондоле и улыбается своей доброй улыбкой. Мое восприятие Заболоцкого таково, что я не могу тут верить ни одному слову, хотя Италия, действительно, существует, там почти всегда светит солнце, Заболоцкий там, действительно, был и может быть даже в гондоле и улыбался. "Добрая улыбка" – эти слова могут быть сочтены слащавыми, но они же могут быть и великими словами. Однако ни в том, ни в другом смысле они не относятся к Заболоцкому.
(Наталия Роскина. Четыре главы.YMCA-PRESS, Paris, 1980. Стр. 77–78)
Вот, оказывается, как оно было. Борис, значит, не только в написанных и напечатанных своих воспоминаниях о Заболоцком рассказал этот эпизод, но и счел нужным повторить этот свой рассказ над гробом поэта.
Я на похоронах Николая Алексеевича не был, но чувство, которое испытала Наташа, слушая эту его речь, было мне хорошо знакомо.
Именно это чувство, – и даже стократ усиленное, – я испытал на похоронах Василия Семеновича Гроссмана.
Похороны были жалкие, убогие, воровские.
Гроб с телом писателя, которого, по собственному его выражению, задушили в подворотне, был установлен не ЦДЛ, как это обычно бывало, а в так называемого «Белом зале» Союза писателей на Воровского. Строго говоря, это был даже не зал, а просто большая комната. Проводить Василия Семеновича пришло человек двадцать, не больше. Да больше бы в этом «зале» и не поместилось.
И вот – начались речи.
Первым взял слово (так, наверно, это было у них запланировано) Александр Альфредович Бек.
Упирал он в своей речи на то (собственно, даже не упирал, а только об этом и говорил), что покойник был настоящим патриотом нашей социалистической родины и по самому строю своей души глубоко советским человеком, всю свою жизнь посвятившим делу построения нового, коммунистического общества.
Все это говорилось над телом замученного, замордованного, раздавленного танком писателя, главная книга которого была арестована и, может быть, даже уничтожена.
Зачем всё это надо было говорить сейчас, когда всё было уже кончено? К кому были обращены все эти насквозь фальшивые, лживые слова? Наверно, к тем мелким партийным функционерам, которым поручено было проследить, чтобы мероприятие прошло гладко, чтобы никто, – не дай Бог! – не сказал ничего лишнего.
«Лишнее» всё-таки было сказано: выступивший вслед за Беком Эренбург сумел тогда сказать всё, что в этом случае надо было сказать.
В этом не было бы ничего удивительного (кто другой, если не Эренбург, мог позволить себе молвить на этих постыдных похоронах хоть словечко правды, кому еще, если не ему это могло прийти в голову, да и сойти с рук), если бы не то обстоятельство, что Эренбург с Гроссманом в последние годы жизни Василия Семеновича были в ссоре. В воспоминаниях Ильи Григорьевича упоминание об этой их, – если не ссоре, то размолвке, – промелькнуло. Но очень глухо и крайне невнятно:
Характер у него был трудный: чрезвычайно добрый и верный друг, он вдруг, посмеиваясь, говорил пятидесятилетней женщине: «А вы за последний месяц очень постарели…» Я знал эту его черту, и, когда он вдруг замечал: «Вы что-то стали очень плохо писать», – я не обижался. В последние годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез. Как я ни старался, не могу вспомнить, на что он обиделся, не помнит и Люба. Вероятно это было пустяком, и не в нем нужно искать объяснения. Однажды я его встретил в Союзе писателей, пробовал объясниться, он, посмеиваясь, отвечал: «А зачем мне приходить? У вас свои дела, у меня свои». Потом он как-то позвонил, сказал Любе, что у него ко мне «дело», пришел, сидел долго, но разговора не вышло.
(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. М. 1990. Стр. 356)
Даже из этого туманного объяснения видно, что причиной размолвки был не пустяк, а нечто более серьезное: об этом достаточно ясно говорят две приведенные тут реплики Василия Семеновича: «Вы что-то стали очень плохо писать», и: «У вас свои дела, у меня свои».
А на самом деле было вот что.
Вот какую историю рассказал мне однажды Семен Израилевич Липкин.
Его и Василия Семеновича Гроссмана пригласил как-то к себе на дачу Каверин. Предполагалось, что будет и Эренбург.
Но Эренбург в тот день не приехал. Не помню, то ли он заранее предупредил, что не сможет быть, то ли они ждали его какое-то время, а потом, так и не дождавшись, сели за стол.
На столе была водочка, какая-то закуска. (Василий Семенович, кстати говоря, любил выпить). В общем, вечер и без Эренбурга прошел неплохо.
А Эренбург приехал на другой день. И вчерашнее застолье повторилось.
Но стол теперь уже был другой. Вместо водки – дорогой французский коньяк. И закуска другая, побогаче.
Разница между вчерашним застольем и сегодняшним была так наглядна, что сразу стало ясно, кто тут главный гость, а кто – гости, так сказать, второго разряда.
Гроссман этой разницей был сильно уязвлен и даже не стал скрывать своего раздражения. Но это свое раздражение он почему-то вылил не на хозяина дома, а на Эренбурга.
Он стал его задирать.
Началось с того, что он довольно язвительно поинтересовался, какие такие важные государственные дела помешали Илье Григорьевичу присоединиться к их компании, а им – уже вчера – отведать французского коньяку.
Эренбург подтвердил, что да, действительно, у него вчера была важная встреча, которую он никак не мог отменить. По ходу дела выяснилось, что встреча была с каким-то приехавшим в Москву иностранцем, одним из тех "борцов за мир", с которыми Эренбург был в постоянном контакте – как один из лидеров этого так называемого "движения сторонников мира".
Гроссман – в той же язвительной манере – выразил недоумение по поводу того, что "из-за такой ерунды" (словцо, возможно, было сказано более крепкое) Илья Григорьевич отказался от приятного вечера с друзьями.
– Борьбу за мир вы считаете ерундой? – спросил Эренбург.
И тут Гроссмана прорвало.
Он произнес яростный монолог, смысл которого был в том, что эта так называемая борьба за мир – не просто ерунда, а ерунда вредная. Что всё это – ложь и обман, не более, чем камуфляж, прикрытие агрессивной сталинской внешней политики. Что Сталин и наше родимое государство (даже и сейчас, когда "ус уже откинул хвост") играют в современном мире примерно ту же роль, какую перед второй мировой войной играли Гитлер и фашистская Германия. И что между этими двумя режимами, в сущности, нет большой разницы.
– Да? И кто же, в таком случае, по-вашему, я? – спросил Эренбург.
– А вы, – Гроссман уже не мог остановиться, – фашистский писака!
Услышав это, я просто обомлел. Такого оскорбления Эренбург снести, конечно, не мог.
Эту историю, рассказанную мне Липкиным, я уже пересказал однажды (даже не однажды, а дважды: во втором томе «Скуки не было» и в моей книге «Случай Эренбурга»), но продолжать ее там не стал. А продолжение было.
Понимая, какими жалкими и постыдными неизбежно станут официальные похороны его друга Гроссмана, Семен Израилевич Липкин сразу решил, что придать этому событию его истинное значение может только один человек: Эренбург. И он поехал к Илье Григорьевичу, чтобы уговорить его приехать на похороны и сказать над гробом покойного всё, что тот сочтет нужным.
Надо ли объяснять, что Семен Израилевич был не самым лучшим кандидатом на эту дипломатическую роль: ведь он был свидетелем того ужасного оскорбления, которое нанес Эренбургу Гроссман, назвав его «фашистским писакой». Поэтому, отправляясь к Эренбургу с этим своим дипломатическим визитом, он не слишком рассчитывал на успех. И был прав.
Выслушав его просьбу, Илья Григорьевич не сказал, как в этих обстоятельствах следовало бы ожидать, что да, конечно, непременно приедет и непременно выступит. Сухо ответил, что подумает.
О чем он думал, решая этот непростой для него вопрос. Наверняка и о том незаслуженном, как ему наверняка казалось, оскооблении, которое нанес ему Гроссман, назвав «фашистским писаком». Но подумав, решил все-таки приехать и выступить. И, как я сейчас понимаю, в тогдашнем его выступлении каким-то боком отразился и тот злосчастный эпизод.
Как отразился он (глухо, намеком) и в том беглом, эскизном портрете Гроссмана, который он набросал в своей книге «Люди, годы, жизнь»:
… Нас сделали в разных цехах, из разного материала. Молодой польский писатель Фидецкий как-то сказал, что я «минималист», от людей требую малого. Может быть, это верно – человеку трудно взглянуть на себя со стороны. Нужно, конечно, сделать оговорку: в гимназические годы я в восторге повторял слова одного из героев Ибсена: «Всё или ничего!»; очевидно, «минималистами» люди становятся с годами. Однако возраст не всё, и Василий Семенович оставался «максималистом» в пятьдесят лет. Нельзя понять его судьбы, не оговорив прежде всего его суровой требовательности к людям и к себе.
(Там же. Стр. 348–349)
В этом мимоходом брошенном замечании, что Гроссман и в пятьдесят лет оставался макисмалистом, есть толика – нет, не осуждения, конечно, но – удивления и укора. Вот, мол, и в пятьдеяят лет сохранил юношескую пылкость, не повзрослел, не помудрел с годами. А надо бы.
В таком взгляде есть известный резон.
Сам Пушкин так выразился об этом:
ПОКА. Не всегда, значит, наши сердца будут «для чести живы» и, как в юности, гореть свободой.
В речи Эренбурга над гробом Гроссмана слово «максималист» тоже было произнесено. Но тут оно прозвучало не в укор усопшему, а как панегирик, как самая высокая из всех возможных оценка личности, характера, человеческих качеств покойного.
Воспроизвести ту его речь дословно я, конечно, не смогу. Но одну сказанную им тогда фразу помню хорошо.
– Василий Семенович Гроссман, – отчеканил он, – был человеком высокой совести, а среди литераторов это качество встречает гораздо реже, нежели талант.
Среди литераторов той поры и талант был большой редкостью. А уж совесть…Но эта эренбурговская пощечина была адресована не только большинству его собратьев по писательскому цеху, но, в известной мере, и себе самому тоже.
Речь Слуцкого над гробом Заболоцкого, так возмутившая Наташу Роскину, конечно, отличалась от жалкой, раболепной, лакейской речи сильно перестаравшегося Александра Альфредовича Бека. Но подспудный смысл ее был, в сущности, тот же.
Он хотел не только, чтобы Заболоцкий хорошо выглядел в глазах начальства (не озлобился, и там, в лагере оставался советским человеком и чуть ли даже не благодарить должен за то, что ему дали возможность овладеть…), но и чтобы советская власть выглядела не такой отвратительной, какой она на самом деле была. Хотел примирить то, что примирить было невозможно.
Я был внутри
Однажды зашла у нас речь о молодых тогда Евтушенко и Вознесенском. Я нападал на них, Слуцкий их защищал. Как и всегда в этих наших разговорах, каждый остался при своем. Но в заключение Борис довольно жестко подвел итог:
– Все дело в том, что вам не нравится ХХ-й век. Вам не нравятся его вожди, вам не нравятся его поэты…
Я сказал, что с поэтами дело обстоит сложнее, но вожди действительно не нравятся.
Ему они, конечно, тогда тоже уже не нравились. И я это прекрасно понимал: ведь только что были прочитаны “Бог” и “Хозяин”. Но распаленный его невозмутимостью, в запальчивости я стал кидаться уже и на “Хозяина”, и на “Бога”. Сказал, что, в отличие от него, своим хозяином Сталина никогда не считал, портретов его нигде не вешал, да и как Бога тоже его никогда не воспринимал.
Он сказал:
– Я не хочу рисовать картину той нашей жизни извне, как бы со стороны. Я был внутри.
«Старуха-хулиган»
Так Борис называл Лидию Корнеевну Чуковскую.
«Хулиганство» ее состояло в том, что она в то время (середина 60-х – начало 70-х годов) не то чтобы нарушала «правила уличного движения», а просто перестала с ними считаться. Отказалась принимать их во внимание.
Одну за другой сочиняла публицистические статьи, по официальной терминологии того времени «антисоветские», и невозмутимо отправляла их в «Правду», «Известия», «Литературную газет», где их, конечно, тут же выкидывали в мусорную корзину, или (скорее всего) пересылали, Куда Надо.
Но, – как было сказано (тогда же) в одной песне Галича, -
Машинописные копии этих ее статей распространялись со скоростью лесного пожара. А те, кому распечатка не досталась, чуть ли не на другой день уже слушали очередной такой ее текст по радио, по «вражеским голосам».
Каждая такая ее статья была написана в форме Открытого письма и всегда по какому-нибудь конкретному поводу. О публичном выступлении Шолохова, в котором тот требовал еще более сурового наказания для Синявского и Даниэля. О всенародной травле Пастернака («Гнев народа»). О выходе в свет солжениынского «Архипелага».
И на каждый такой очередной ее демарш Борис реагировал одной и той же, вот этой своей добродушно усмешливой репликой:
– А-а, Старуха-хулиган!
Но был случай, когда он отреагировал на это иначе.
В феврале 1968 года Лидия Корнеевна пустила в Самиздат статью «Не казнь, но мысль, но слово. К 15-летию со дня смерти Сталина». По смыслу, да и по форме это тоже было «Открытое письмо». И написано оно было по вполне конкретному поводу, о чем сообщалось уже в самых первых его строках:
Попалось мне недавно в журнале одно маленькое стихотворение. Оно сильно задело меня. Незначительное само по себе, оно выражает строй мыслей и чувств, весьма распространенных сегодня, и при этом глубоко ложных.
Имя автора этого маленького и незначительного, но сильно ее задевшего стихотворения Л. К. не назвала. Но для нас оно не было тайной.
Стихотворение это написала – и напечатала тогда его в Новом мире» – Маргарита Алигер.
Вот оно:
Я не стану пересказывать своими словами суть претензий Лидии Корнеевны к смыслу и пафосу этого стихотворения. Лучше предоставлю слово ей самой, благо такая возможность у меня есть (то самиздатское ее Открытое письмо теперь уже опубликовано):
Начинается оно тревожащим сердце вопросом:
а кончается утешающим выводом:
Утешительность вывода – она-то и задела меня. Меньше всего нужны нам сейчас утешения и больше всего разбор прошлого, бередящий память и совесть… Если поверить автору, в нашем нравственном балансе, после всего пережитого все, слава богу, обстоит благополучно: концы сведены с концами. О чем же еще говорить?
А говорить есть о чем. Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившемуся когтями в наше настоящее, определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы.
Бывают счета неотвратимые – и в то же время неоплатные. Писать об оплаченном счете, когда речь идет о нашем недавнем прошлом, – кощунство. По какому это прейскуранту могут быть оплачены Норильск и Потьма, Караганда и Магадан, подвалы Лубянки и Шпалерной? Как и чем оплатить муки и гибель каждого из невинных – а их были миллионы! – почем с головы! И кто имеет право сказать: счет оплачен? Пожалуй, уж лучше бы нам не браться за счеты! Оплатить такой счет – это вообще никому не под силу по той простой причине, что человечество не научилось воскрешать мертвых…