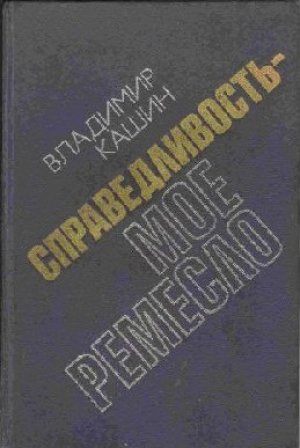
Владимир Леонидович КАШИН
ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА
Перевод с украинского автора
Роман
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Утро родилось чистое, словно умытое. Еще до солнца всюду была разлита ослепительная голубизна. Минули уже июнь и июль — с дневной духотой и ночными грозами. Их сменили сухие безоблачные августовские дни, когда, казалось, не только небо, но и земля излучала зной.
Едва выглянув, солнце враз обежало Левобережье, его белые высотные дома, заводские трубы, заскользило по спокойному утреннему Днепру, уткнулось в кудрявый, изумрудно-золотой правый берег и пронзило его лучами, обожгло купола Выдубецкого монастыря и Лавры, охватило пламенем окна гостиницы «Киев».
Пришел новый день.
Радости и печали.
В котором прощались с жизнью и рождали жизнь.
День побед и потерь, человеческих трагедий и неотвратимой расплаты…
Вспыхнуло солнце и на пригородных дачах — Русановских садах, и на новом красивом здании райотдела милиции на Левобережье.
Подполковник Коваль, налюбовавшись солнечным буйством, поднял глаза на молодого инспектора уголовного розыска Струця, который терпеливо ожидал, пока на него обратят внимание. Посмотрел так, словно впервые видел его.
Впрочем, терпение лейтенанта было внешним. В душе Струць считал, что «старшие товарищи», которые приезжают набегом из управления, не столько помогают сотрудникам райотдела, сколько связывают их действия, зато в своих рапортах приписывают себе успехи рядовых исполнителей. С подполковником Ковалем Струцю, правда, не приходилось работать — был недавно переведен в Киев с юга республики и о Ковале ничего не слышал. Поэтому и докладывал вяло, словно бы с ленцой.
Дмитрий Иванович тоже вроде бы не торопился. Переспросил:
— Когда, говорите, Залищука похоронили?
— Четыре дня тому назад, — повторил лейтенант.
— И почему возбудили дело?
— Так разговоры пошли, товарищ подполковник. Что отравил сосед Крапивцев. Залищук на него писал, разоблачал, открыто спекулянтом называл… Одним словом — критиковал… А когда такой слух пошел…
— Значит, отомстил за критику?
— Да, товарищ подполковник, — разрешил себе улыбнуться инспектор. — Исключительно жадный человек — не дай бог, если кто мешал ему делать деньги… Жена Залищука сказала, что часа за два до смерти муж выпивал у Крапивцева на его даче.
— Не понимаю, — поднялся Коваль и зашагал по кабинету. — Говорите, враждовал — и вдруг: вместе выпивал?
— Пьянчужки. То ссорятся, то мирятся, — махнул рукой лейтенант.
— Крапивцев тоже пьянчужка?
— Не думаю. Но Залищука всегда угощал. Не иначе — заискивал перед ним, чтобы не цеплялся.
Подполковник взял со стола заключение судмедэкспертизы.
Целая вечность пронеслась, пока он держал перед глазами этот листок, сотни лиц промелькнули перед ним, десятки историй вспомнились, чем-то схожих и не схожих с трагедией в Русановских садах.
Лейтенант Струць стоял среди кабинета.
— Да вы садитесь, Виктор Кириллович, — разрешил Коваль, не отрываясь от бумаг. — Будем вести это дело вместе. Можете называть меня Дмитрием Ивановичем, — добавил он, считая, что такое уравнение в правах лишь поможет их творческому сотрудничеству.
Молодой лейтенант послушно опустился на стул.
А подполковник с бумагами в руках снова принялся ходить по просторному кабинету начальника уголовного розыска, которого на время отпуска замещал Струць. Остановившись около лейтенанта, подполковник оторвался от бумаг:
— Тут, как говорится, деваться некуда: отравление. И желудок пострадал, и в крови яд… Как же это врач дал разрешение на погребение?
— Пришел к выводу, что перепил этот Залищук. — Струць хотел было подняться, но Коваль жестом разрешил сидеть. — Любил выпить, бедняга. А сердце слабое, вот эксперт и ошибся. Все за счет больного сердца списал.
— При таких отравлениях сердце страдает меньше, чем другие органы, — заметил подполковник. — Вот если мышьяк, он действительно, кроме всего прочего, приводит к упадку сердечной деятельности. Но тут никакого мышьяка не найдено… Удивляет, что эксперты не дают ответа на вопрос, что это за яд, — продолжал размышлять Коваль. — Пишут, что с широким спектром действия, влияет на нервную систему, на сосуды. «В организме обнаружен дигиталис, валерьянка…» — читал дальше Коваль вслух. — Но все это лекарства, какие принимал погибший. — Коваль задумчиво постучал пальцами по столу. — Эксперты говорят о сердечных гликозидах, но возникает вопрос: а почему тогда у Залищука так разъедена слизистая желудка? Очевидно, яд действовал на желудок в первую очередь… И никакого ответа…
— Да. О язве желудка эксперт ничего не говорит.
— Чертова загадка!.. В начале расследования все окутано тайной, все загадочно: и каждый подозреваемый человек, и каждая вещь, и все события, которые хотя бы чуточку связаны с преступлением. Какой-то философ сказал, что движущей силой прогресса является любопытство. Но любознательность имеет очень широкий диапазон: от научных открытий до подглядывания в замочную скважину. Любознательность оперативника и следователя особенная: она обостренна и выборочна, эти люди умеют всматриваться в то, что является существенным, и отбрасывать лишнее. По обе стороны ее всегда две сестры: с одной — наука и опыт, с другой — интуиция…
Лейтенант Струць смотрел на Коваля снизу вверх. Почему этот седоватый человек ломится в открытые двери и задает ему вопросы, на которые уже искали ответы на оперативном совещании у начальника райотдела?
Вдруг заметил, что подполковник словно бы изучает его.
Родинка над верхнею губою лейтенанта чуть вздрогнула. Ох уж эта родинка! И чего только подполковник уставился на нее своим острым пронзительным взглядом!..
Инспектор Струць иногда старался напустить на себя строгость. Прятал таким образом неловкость, когда чувствовал, что внимание собеседника привлекла родинка. Он ненавидел этот кругленький коричневый пупырышек, который столь мило примостился над его верхней губой. Товарищи по службе дразнили лейтенанта за это «девицей-красавицей», и если бы не предупреждение врачей, что трогать родинку опасно, давно бы сорвал или срезал ее.
Казалось, что и подполковник, присматриваясь сейчас к своему помощнику, любуется этой родинкой. На самом деле Дмитрий Иванович думал вовсе не о ней. Прикидывал, окажется ли Струць творческим человеком. Коваль не любил офицеров, ограничивающихся лишь исполнением конкретного задания, хотя это могли быть и старательные, исполнительные работники. Ему нужны были такие помощники, с которыми он мог бы поделиться и своим сомнениями, люди, которые имеют свое собственное мнение, а не ограничиваются выводами «старшего товарища».
Их ждала общая работа, и он должен был знать лейтенанта не хуже, чем проходящих по делу людей, которых требовалось досконально изучить.
— Сейчас поедем осмотрим место происшествия, — распорядился Коваль.
* * *
— Вот тут его нашла жена, Таисия, — показал лейтенант на заросшую бурьяном полоску земли под длинным, почерневшим от дождей деревянным заборчиком.
Коваль отметил про себя, что пожелтевшие стебельки были здесь примяты и сломаны.
Утреннее солнце уже палило, сжигая прохладу и свежесть. Подполковник представил, как повалился ночью, подминая траву, пожилой человек, как он корчился от боли, не в силах ни подняться, ни позвать на помощь, как холодно смотрели на его муки далекие звезды, как налетел дождь и хлестал, как нашла его тут, уже неживого, жена, — и глубоко вздохнул. Сколько прожил на свете, чего только не перевидел, каких трагедий, какой крови, а к внезапной преждевременной смерти никак не мог привыкнуть. Все в нем поднималось и протестовало против такого конца человека.
Коваль наклонился, рассматривая смятую траву и свежую ямочку.
— Здесь брали землю на экспертизу, — объяснил Струць. — Залищук лежал головой на запад, вот так… — Он показал, хотя Коваль уже видел фото, которое зафиксировало положение трупа. — Была агония, человека вырвало, — говорил дальше молодой оперативник… — Степан Андреевич распорядился…
При этих словах подполковник хмыкнул и невольно поморщился. Степан Андреевич — следователь прокуратуры Тищенко, с которым Ковалю уже приходилось сталкиваться, и новая встреча с этим юристом была не самым лучшим подарком для него. «Дети не выбирают себе родителей, а оперативные работники — следователей, — с горькой усмешкой подумал Дмитрий Иванович. — Ничего, стерпим».
Не поняв гримасы Коваля, лейтенант несколько смутился, но не подал виду.
— Потоптались тут крепенько, — пробурчал подполковник.
— Мы не охраняли это место, так как не думали о преступлении. Просто умер человек — и все… В ту ночь еще и дождь шел… Нелегко пришлось, когда потом взялись за экспертизу…
Ничего интересного для розыска на месте смерти Залищука Коваль не увидел и подумал, что помимо материальных следов преступления, так называемых «немых свидетелей», надо искать отражение самого события в сознании людей, в связях и образе жизни всех тех, кто окружал жертву. Понимал, что из-за недостатка начальной информации вынужден будет делать множество предположений. Придется наблюдать, анализировать, сопоставлять и отбрасывать лишнее. Принять на веру единственную версию: отравил Крапивцев — он пока не может.
Дмитрий Иванович скользнул взглядом вдоль улицы. Одни покрашенные, другие почерневшие — заборчики тянулись длинной линией к реке. На противоположной стороне узкого проезда такой же ряд заборчиков: улица не улица, дорога не дорога, а так себе проселок на одну телегу, и колею он уже давно приметил…
Местность была холмистая, поросшая старым ивняком, Днепра видно не было.
— А внешних повреждений на теле погибшего экспертиза не отметила? — не то спросил, не то подумал Коваль.
— Нет! — сказал Струць, недоумевая, чего это подполковник снова ломится в открытую дверь.
— Так, так, — отвечая себе, проговорил Коваль.
Он думал о том, что преступление незримо изменяет окружающую обстановку, взаимоотношения людей, причастных и не причастных к нему. Как брошенный в чистую спокойную воду камень, оно взбаламучивает и нарушает нормальное течение жизни.
Конечно, когда есть следы конкретного преступника, его найти легче, нежели устанавливать взаимосвязи многих людей, обстоятельно, шаг за шагом, изучать их жизнь, чтобы отыскать нужную ниточку. Но что поделаешь — такие уж обязанности…
Коваль достал из кармана «Беломор», взял папиросу и протянул пачку лейтенанту. Тот покачал головой.
— Спасибо, не курю…
— А дача Залищука отсюда далеко?
— Нет, метров сто…
— Очень хорошо.
Лейтенант не понял, к чему относится это «очень хорошо»: то ли к тому, что он, Струць, не курит, или что дача Залищука близко.
— Каких-то сто метров не дошел, — покачал головою Коваль.
«А какая разница, где упал отравленный Залищук — ближе на несколько метров к своему дому, куда, очевидно, возвращался от Крапивцева, или чуть дальше? — в свою очередь размышлял лейтенант. — Хоть круть-верть, хоть верть-круть. С этим седоватым, длинноногим, крепко сколоченным, хотя и полноватым подполковником придется, наверное, несладко».
Чем больше он приглядывался к Ковалю, тем сильнее тот напоминал ему отца — отставного полковника, который всю жизнь отдал армии и мыслил только нормами военного устава. «Такой же придирчивый и, видать, такой же прямолинейный, как любой другой, живущий по стандартным меркам, раз и навсегда поделивший мир и все на свете на белое и черное».
— А дача Крапивцева?
— Тоже близко. Участки смежные. За угол завернуть…
— Ну что ж, — решил Коваль. — Заглянем к Залищукам.
И лейтенант Струць повел его к реке вдоль «линии», как назывались тут узенькие переулки.
Дачу Залищуков от переулка отделяли две высокие вербы и одинокий старый двор. Деревянный домик стоял в неприметной ложбинке, за которой начинался песчаный берег Днепра. Невысокий старенький заборчик зарос кустарником. Коваль обратил внимание на отцветшие жасмин и сирень с уже порыжевшими семенниками. Окруженный соседними садами, участок Залищуков был затенен даже в самые жаркие солнечные дни.
Калитка держалась на крючке. Коваль и Струць постояли перед ней, всматриваясь в молчаливое строение. Лейтенант позвал хозяйку и, когда никто не ответил, нагнулся над заборчиком и изнутри сбросил крючок.
Всякий раз, впервые переступая порог чужого жилища, где произошла трагедия, входя во двор, откуда неожиданная смерть унесла хозяина, Коваль, казалось, слышал его голос. Пока вел розыск, не только присматривался, но и прислушивался невольно, словно среди молчаливых стен еще пролетал вздох человека, доносился последний стон или крик, раздавалось последнее слово.
Несмотря на профессиональную привычку, на место каждой новой трагедии он приходил с чувством собственной утраты и боли, будто от него зависело предупредить беду, не допустить ее. Чувство ответственности за все доброе и ненависть к злу — преступник становился как бы его собственным врагом — придавали силы, обостряли интуицию, помогали проникнуть в тайну трагических событий…
Какое-то время Коваль осматривал двор, откуда виделся и соседний участок Крапивцева. Если от дачи Залищука, с ее стареньким, запущенным, давно не крашенным домиком с одной комнаткой наверху, с верандой и кухней на первом этаже, веяло неустроенностью, то дом Крапивцевых удивлял солидностью, а участок — ухоженностью. У Залищуков только на одной грядке около самого дома росли георгины и астры. Вся остальная земля поросла высокой травой, среди которой кое-где выглядывали одичавшие цветы. В глубине участка стояло несколько сливовых деревьев, под которыми также рос бурьян…
А у Крапивцева ровными рядами зеленел окученный картофель, красным огнем полыхали крупные помидоры, над ними уже наливались соком увесистые гроздья винограда. Молодые яблони, окопанные и побеленные, старательно подрезанные, уже украсились сочными плодами, такими тяжелыми, что пришлось подставлять под ветви подпорки. Контраст был разительный — Коваль только покачал головой.
— Да, — одобрительно промолвил он, не отводя взгляда от участка Крапивцева. — Хозяин…
— Торгаш, — заметил лейтенант.
Дмитрий Иванович промолчал. Еще раз прошелся по двору, оттолкнул носком ботинка ржавую консервную банку, что валялась около кучи битых бутылок.
— Поминать собирается?
О ком речь, лейтенанту было ясно, — о жене Бориса Сергеевича Залищука Таисии Притыке. Впрочем, с ней сплошная морока. Столько лет прожила с Залищуком, а брак так и не оформили. Теперь думай, жена она или просто так себе… Юридически — чужой Залищуку человек… И откуда ему, Струцю, знать, будет справлять поминки Таисия или нет?
— Тут такое дело, товарищ подполковник. Двенадцать лет прожили, а брак не оформили. Выходит, не жена она ему. И дачку не унаследует.
— Двенадцать лет вместе? — удивился Коваль. — Как это не жена, если одним домом жили?.. Вполне может свои права через суд защитить. А других наследников нет?
— У Бориса Сергеевича есть сын. Но прав своих пока не предъявлял.
— После смерти мужа приходила сюда?
— Приходила, — отозвался лейтенант. — Ненадолго. Мне соседи о каждом ее шаге докладывают. Тут все друг дружку хорошо видят и запоминают. А Залищуки особенный интерес вызывали. А теперь, после загадочной смерти Бориса Сергеевича, и того больше. До этого они жили на даче с апреля по ноябрь, до самых заморозков. У них в городе только одна комнатушка. Сейчас Таисия Григорьевна, правда, все больше в городе находится. К ней сестра из Англии приехала, с дочерью, в гостинице «Днипро» остановилась. Во время войны ее в Германию вывезли, потом она в Лондоне очутилась и вот теперь разыскала…
— Вот как… — медленно произнес Коваль, задумчиво оглядывая зеленые заросли, за которыми, словно рыбья чешуя, сверкала под утренними лучами солнца вода. — Любопытно…
Папироса во рту у него потухла, и по ее легким движениям можно было догадаться, что губы Коваля чуть-чуть шевелятся, как это бывает, когда человек, задумавшись, сам с собой разговаривает.
Что напомнили ему эти ивовые кусты, отбрасывающие на землю легкие узорчатые тени? Детство, жаркое дыхание раскаленного песка, берег родной Ворсклы, когда, продираясь сквозь ракитник, с разбега прыгал в реку, или первый ужас, первую встречу с насильственной смертью, когда мальчишкой натолкнулся в кустах на труп задушенной девушки, — с тех пор память навсегда сохранила остекленевшие глаза убитой и запомнилось незнакомое страшное слово «маньяк», которое услышал, когда взрослые обсуждали трагическое событие. Или, возможно, вспомнилась терпкая, нагретая солнцем и горько пахнувшая лоза на берегу Роси, во дворе застреленного Петра Лагуты…
Последние отголоски жизни Залищука, казалось, еще не утихли в опустевшей даче, и подполковнику пришлось собрать всю волю, чтобы сосредоточиться. На какой-то миг он даже закрыл глаза, чтобы уловить то невыразительное, нечеткое, что неожиданно взволновало его. Словно, осматривая ведущую на второй этаж лестницу, запертые фанерные двери и небольшую веранду, зашторенную изнутри марлевыми занавесками, он почувствовал какой-то толчок.
Собственно, ничего интересного. Лесенка как лесенка в таких дачных домиках… Деревянная, давно не крашенная, истоптанная. И, конечно, никаких следов преступления — ни зловещего пятна от пролитой отравы, ни разбитого стакана, ни рюмки… Да и не искал он здесь каких-то следов Залищука и его отравителя.
— Мда, любопытно, — произнес подполковник.
Не зная, что имеет в виду Коваль, лейтенант промолчал.
— А посторонние в эти дни появлялись?
— Когда хоронили Залищука, много людей толклось. А потом только жена с сестрой-англичанкой и ее дочерью приезжали…
— Что думаете вы, Виктор Кириллович, об этой трагедии? Если это преступление, то где будем искать преступников?
— Наличие признаков преступления есть, товарищ подполковник, — ответил Струць, снова удивляясь Ковалю. — Поэтому и возбудили уголовное дело. А конкретный виновник… Факты против Крапивцева. Других версий нет.
— Самое главное для нас сейчас, очевидно, не это, — сказал Коваль. Он, казалось, стремился окончательно разочаровать молодого оперативника.
— А что же?
— Самое главное для нас, Виктор Кириллович, — мягко продолжал Коваль, — понять мотивы преступления, если таковые есть. А тем временем узнать, чем был отравлен Залищук. Ведь экспертиза до сих пор топчется на месте. Время не терпит, как знать — вдруг эта отрава найдет новую дорогу к человеку?.. Ладно. Сходим к Крапивцеву. Пока нет санкции прокурора на обыск, хотя бы издали глянем на его обитель, пройдем последним путем бедняги Залищука, — закончил Коваль и широкими шагами направился в конец переулка, откуда тропинка вела на параллельную «линию» дач.
Струць послушно двинулся за ним.
2
Это совещание проводилось в узком, так сказать, рабочем составе оперативно-следственной группы: подполковник Коваль, лейтенант Струць и два эксперта — щупленький белесый молодой человек с узкими соломенно-светлыми усиками и строгими глазами, недавний выпускник мединститута Забродский. И другой, старше его и солиднее, одетый в поношенный полотняный костюм, химик Павлов.
Ждали Степана Андреевича Тищенко. Расследование такого тяжкого преступления, как убийство, относилось к компетенции прокуратуры, и поэтому предварительное следствие должен был вести не сотрудник милиции, а следователь прокуратуры. Оперативным работникам милиции предназначалась в таком случае роль исполнителей по выявлению доказательств, розыску и задержанию преступника.
Дмитрий Иванович по привычке мерил неширокими шагами комнату. Лейтенант Струць сидел в углу и, держа на коленях планшет, рассматривал какие-то бумаги; эксперты разместились на стульях около стола и тоже терпеливо ждали, Забродский все время курил, и сигаретный дым раздражал подполковника.
В комнате, несмотря на открытые настежь окна, было душно. Коваль перестал ходить и засмотрелся в окно, которое выходило на Днепр.
Земля изнывала от зноя. Над городом стояло неподвижное марево. Пахло горячей пылью, раскаленным асфальтом. Небо поблекло, как будто к его голубизне подмешали серой краски. Где-то далеко гремела гроза, но и тут, над Днепром, темными причудливыми башнями, все время меняя свои очертания и пока еще медленно и лениво, словно бы обессиленные зноем, угрожающе наплывали и росли разрозненные тучи.
Снижалось атмосферное давление, и это, очевидно, отражалось на настроении Коваля. Его все раздражало. Бегающий взгляд эксперта-химика, его подвижные, не находящие себе места руки. И помятый костюм, который свидетельствовал, что старший лейтенант не женат и ведет безалаберную жизнь немолодого одинокого человека, а если и женат, то ссорится с женой, и она не хочет гладить ему этот белый костюм, который он не уберег от реактивов. Денег на новый костюм у эксперта не хватает, хотя получает приличную зарплату. Явно имеет какие-то «непредвиденные» расходы.
И молодой инспектор уголовного розыска с девичьей родинкой на верхней губе, и медик, придумавший себе вычурные усы, которые делали его похожим на сонного сома, раздражали сейчас Дмитрия Ивановича.
С утра усилилась боль в травмированной ноге. Пододвинув стул поближе к окну, подполковник опустился на него. Нога ныла все сильнее… «Облитерирующий эндартериит», — вспомнился ему диагноз, поставленный врачами. Повреждение сосудов, которое однажды может привести к гангрене и ампутации ноги. Впрочем, не исключено, что это обыкновенный возрастной склероз сосудов. К черту эту медицину! Ничего умнее не придумали, как советовать бросить курить. А как здесь бросишь, если только папироса и спасает от стресса. Да и все вокруг смалят. Он сердито глянул на Забродского, который вытащил из пачки новую сигарету. Наука доказывает, что вдыхание чужого табачного дыма, так называемое пассивное курение, не менее вредно, чем активное! Подполковник еще раз зыркнул на эксперта. Медик, а какой пример подает!
Коваль чувствовал, что должен немедленно достать свой «Беломор», чтобы не задохнуться от беспричинного недовольства, охватившего его. Он не успел еще взять в рот папиросу, как Забродский уже стрельнул зажигалкой и поднес огонь. Этот жест и затяжка дыма вроде бы сняли нервное напряжение. Поуспокоившись, он подумал, что всему виной, наверное, приближающаяся буря. Недавно, меряя давление, терапевт сказал ему: «Словом, как у юноши — сто двадцать на восемьдесят!» Только врач ведомственной поликлиники и сам он хорошо знают, что давление у него пониженное и потому перед непогодой наступает слабость, появляются раздражение и апатия. Спасибо, что добродушный толстяк Анисим Каленникович перед каждой очередной медкомиссией подлечивает его, чтобы потом с полным правом начертить на его карточке большими круглыми буквами: «Практически здоров».
Собственно, дело, которым ему предстояло заняться, казалось довольно простым. Экспертиза в конце концов установит, чем отравился Залищук, и, если не сам отравился, он, Коваль, будет искать виновника… В последнее время тяжелых происшествий становится все меньше. Это радовало. После каждого такого случая Дмитрий Иванович в душе надеялся, что это была последняя насильственная смерть, с которой ему пришлось столкнуться, и как собственное поражение воспринимал каждый раз новое известие о такой трагедии.
— Сколько можно ждать, — пробурчал лейтенант Струць, и Коваль, догадавшись, что это сказано в адрес следователя, вдруг понял, что не приближающаяся буря является причиной его плохого настроения, а именно Тищенко. Начинать совещание без следователя нельзя было, а тот, словно нарочно, где-то задерживался. Коваль не любил неточностей и опозданий, считая, что служебная неорганизованность — свидетельство неуважения к людям, и никому этого не прощал.
И все равно главное было не в том, что следователь опаздывал. Никогда не забудет Коваль историю осуждения художника Сосновского, когда следствие вел Тищенко, который потом старался скрыть свою ошибку, чтобы не испортить карьеру. Тогда ему, Дмитрию Ивановичу Ковалю, пришлось самому пробиваться в высшие инстанции, чтобы спасти невиновного человека.
Вспоминая сейчас об этом, Дмитрий Иванович как бы заново переживал те минуты, когда переступил порог кабинета Тищенко. Высокий потолок, длинная зеленая ковровая дорожка под ногами, а в конце ее — письменный стол, за которым сидит молодой розовощекий человек.
«Вам известно, Степан Андреевич, что Сосновский не захотел хлопотать о помиловании?»
«Знаю, — безразлично ответил Тищенко. — Он не дурак, понимает, что бесполезно…»
Коваль и сейчас — через столько лет! — чувствует, как сохнет во рту от волнения. «Разлаживается моя машина, когда волнуюсь, много адреналина выделяется. Под пулями и то волновался меньше, чем в кабинете Тищенко».
«Степан Андреевич, — еле ворочая языком, сказал он ему, — нужно немедленно сообщить прокурору об этом. Задержать исполнение приговора Сосновскому… Возможно, что все ошиблись. И мы с вами прежде всего… У меня появились новые факты, которые заставляют усомниться в предыдущих доказательствах против Сосновского».
«Что за ересь! — не понял Тищенко. — Какие факты? Вы в своем уме, Дмитрий Иванович?.. Представляете, что говорите?! Сосновского приговорили, его дело окончено…»
«Все понимаю! Важно признать ошибку, пока еще можно ее исправить».
«Подумали, чем это обернется для вас? За такой скандал подчистую выгонят! А меня под какой удар подставляете?!»
«Я не о себе сейчас. Я думаю о Сосновском. А вы сможете спокойно жить, Степан Андреевич, если окажется, что мы с вами ошиблись и невиновный человек будет из-за нас расстрелян?..»
Тогда в дело вмешался областной прокурор, и Сосновский был оправдан. Тищенко уволили из прокуратуры. Коваль знал, что тот устроился в юридическую консультацию. С тех пор как перешел работать в министерство, Дмитрий Иванович ничего больше о Тищенко не слышал. И для него было неожиданным, что он снова на следственной работе. Случай, который иногда определяет человеческую судьбу, неожиданно снова свел их в единой оперативно-следственной группе, и это обещало Ковалю длительное душевное беспокойство.
Быстрые шаги в коридоре заставили всех присутствующих взглянуть на дверь. Через мгновение она распахнулась, и в комнату правым плечом вперед — словно раздвигая невидимую преграду — вошел невысокий полный мужчина. На хорошо выбритом лице блуждала виноватая улыбка. Он поприветствовал общим кивком, словно не заметив Коваля, и пробормотал, что просит извинения за опоздание. Сел не к столу, а сбоку, на стул, который отодвинул от стенки, словно не хотел подчеркивать, что является главным лицом следствия.
Коваль внимательно разглядывал Степана Андреевича. Розовые щеки следователя не потеряли прежней округленности, хотя посерели, с них исчез детский румянец. Тищенко потучнел, и на лице уже не сияло былое довольство, оно выглядело утомленным; в больших глазах прятался страх, который Коваль не раз замечал у людей, неуверенных в прочности своего положения и постоянно ждущих неприятностей, не зная, откуда на них может свалиться беда.
— Начнем, — сказал Тищенко, открывая портфель и выкладывая на стол бумаги.
Донеслись непонятные звуки. Коваль насторожился. Небо за окном было сплошь серым, как будто заволоклось туманом. Во дворе, обсаженном вдоль забора кустами роз и молодыми деревьями, послышался шорох листьев. Ветер усиливался и вот уже погнал по земле пыль, бумажки и разный мусор.
Струць вскочил, чтобы закрыть окно — уже зазвенели стекла, — но Дмитрий Иванович жестом остановил лейтенанта: с детства он любил эту вакханалию природы; мальчишкой выбегал босым под первый теплый дождь, ловил ртом капли и прыгал, охваченный необъяснимой дерзкой радостью.
Вот-вот должен был брызнуть дождь.
Судмедэксперт докладывал о результатах вскрытия трупа Залищука. Коваль не слушал его. Все, что говорил Забродский, было ему известно, и ничего нового к изложенному в официальном заключении экспертизы молодой человек добавить не мог. Коваль невольно прислушивался к рождавшимся за окном звукам. Они успокаивали и не мешали думать о своем.
Вдруг ветер приутих, и упали первые большие капли. В природе все происходило закономерно и точно, по раз и навсегда заведенному порядку.
Он принялся считать капли: одна, вторая, третья… Знал что сейчас они зачастят и в мгновение с неба сорвется обильный дождь, дохнет озоном, присмиревшая земля оживет и умоется…
Задумал: если в течение минуты хлынет дождь, то все будет хорошо. И найдутся силы стерпеть этого Тищенко. Начал мысленно считать: раз, два, три, четыре… Если рассказать — никто бы не поверил, что молчаливый строгий подполковник Коваль, повидавший на своем веку столько человеческих трагедий, может быть еще по-детски суеверным. Но так оно было!
Не досчитал и до двадцати, как зашумел дождь, в окно дохнуло свежестью. На душе сразу стало спокойнее. Дмитрий Иванович глубоко вдохнул, голова уже не была такой тяжелой, вокруг все посветлело и словно стало приятнее.
Когда Забродский кончил, Коваль сказал:
— Медицинские выводы нам ясны: сейчас самое главное — установить химический состав яда, где его производят, как хранят и как он мог попасть в руки Залищука…
— Или преступника, — добавил Тищенко, который терпеливо выслушал Коваля.
— Пока не все еще ясно, Степан Андреевич, — подчеркнул подполковник. Ему очень хотелось, чтобы это не было преступлением.
— Вот вашим заданием, Дмитрий Иванович, и будет все установить на основании имеющихся данных.
— Мы установили только факт гибели Залищука от неизвестного яда. Но произошло преступление или это просто несчастный случай, самоотравление…
— Дмитрий Иванович!.. — с мольбою в голосе перебил Коваля Тищенко. — Есть постановление прокурора о проведении предварительного следствия… Я тоже за то, чтобы не искать преступления там, где его нет… Прокуратура не стремится увеличивать в мире количество горя, — внушительно добавил он. — Меня вполне устроит, если окажется, что Залищук случайно отравился каким-то зельем, что ничьей злой воли здесь не было…
«Прекраснодушный товарищ!» Коваль поднял глаза на Тищенко. Взгляды их встретились, и Дмитрий Иванович понял, что тому сейчас явно припомнилась история Сосновского. Когда растерянный, но решительный Коваль ворвался в кабинет, Тищенко был в хорошем настроении. Известие, принесенное им, было как гром с ясного неба. Тищенко так растерялся, что не сразу сообразил, как себя вести. Ведь обвинительное заключение писал он. И старался не замечать детали, которые не укладывались в стройную схему: убийца Сосновский. Да разве только он поддерживал эту версию!
«Послушайте, Коваль! — крикнул тогда он. — О какой ошибке вы говорите?! Есть приговор областного суда, решение Верховного… Глупости, нонсенс!..»
Говорил быстро, словно хотел не Коваля, а себя убедить; а в голове, наверное, билась страшная мысль: «А что, если неугомонный Коваль докажет ошибку! Ему тоже придется солоно! Но в самом худшем положении окажется он, следователь, который вел дело…»
Сейчас Коваль видел — забегали глаза у Тищенко. «Вспомнил, все вспомнил!»
Дождь хлестал все сильнее, брызги уже долетали до Коваля, который пододвинул стул к раскрытому окну. Дмитрию Ивановичу вдруг захотелось подставить голову под свежие пахучие струи, которые, сливаясь, казалось, очищали небо, землю и даже людей.
«А может, — мелькнуло в его сознании, — Тищенко изменился, стал лучше. Ведь жизнь, окружение, среда, наконец, время воспитывают и не таких, как он».
Вспомнился убийца Петров-Семенов, который в молодости совершил свое первое тяжкое преступление и не был разоблачен. Через много лет он доказывал, что, согласно научным данным, каждые семь лет происходит обновление живого организма. «Старые клетки отмирают и заменяются новыми. Это биология или физиология, но и душа человеческая обновляется! Со временем человек перевоспитывается. И через много лет вы будете судить фактически не того человека, который совершил преступление, а только его внешнее подобие, воспроизведенное по генетическому коду…»
Петрову-Семенову не удалось, конечно, заслониться этой своей философией… Но кое в чем он был прав. Именно поэтому и устанавливается срок давности уголовного преследования, в зависимости от характера правонарушения для всех, кроме военных преступников-фашистов, карателей…
Коваль еще раз внимательно посмотрел на Тищенко. Он как будто все время ждал от подполковника, казавшегося ему камнем с острыми гранями, какой-то каверзы. В круглых глазах его прятался страх.
Коваль притушил окурок в пепельнице.
— А что скажет нам уважаемый химик? Неужели никак не определить, что за яд попал в организм Залищука?
— Дело в том, — прокашлявшись, начал Павлов, не сводя глаз со спасительной бумажки экспертизы, — что в практике нашей криминалистической лаборатории еще не встречалось такого химического соединения. Выделены гликозид дигилен, наперстянка, валерьянка, то есть составные части обычных сердечных медикаментов. Правда, в больших дозах и наперстянка может стать для человека ядом, вызвать остановку сердца. При повторном анализе доза наперстянки у Залищука оказалась нормальной. — Павлов сделал паузу. — Все дело в том, что в организме погибшего нашли следы и сугубо ядовитого вещества. Это яд широкого действия, и есть в нем компоненты, нам неизвестные. Вещество растительного происхождения… Но какого именно растения, пока установить не удалось… Во всяком случае, такого, которое не встречается в Европе и европейской части Азии…
— С Марса подбросили… — пробурчал Тищенко.
— Ничего удивительного, что эксперт, первым осматривавший труп, ошибся и разрешил похоронить Залищука, — продолжал Павлов. — Он обратил внимание на гипертрофические изменения сосудов и сердца, обнаружил валерьянку, наперстянку и решил, что смерть Залищука вполне естественна — от сердечной недостаточности. У человека больное сердце, выпил лишку — вот и результат…
— В протоколе медицинского вскрытия сказано о поражении слизистой, — обратился Коваль к судмедэксперту Забродскому. — Объясните, почему? Если у Залищука не было язвы или какого-нибудь другого поражения желудка…
Тот только пожал плечами.
— Это и для нас загадка, Дмитрий Иванович. Но мы ищем причину…
Усики Забродского растерянно вытянулись, образовав клинышек. Коваль недовольно поморщился: выдумывают себе мушкетерские украшения! Д'Артаньяны какие, смотри, начнут и татуировку делать!..
«Как же он сказал тогда? — в свою очередь не мог успокоиться Тищенко, все время вспоминая давнюю историю с художником Сосновским. — «Вы сможете спокойно жить, Степан Андреевич, если окажется, что мы с вами ошиблись и невиновный человек будет из-за нас расстрелян?» Каким прокурорским тоном он говорил тогда с ним!..
В конце концов это был только случай в его, Тищенко, жизни, и незачем об этом сейчас вспоминать!
Коваль, конечно, стал еще более упрямым и неконтактным. Высунулся в окно, жмурится, как ребенок, под каплями, которые падают на лицо… Старый милицейский волк, у которого уже стерлись зубы! В конце концов, что ему до характера Коваля. Подполковник должен сейчас выполнять конкретные задания по розыску доказательств преступления, возможно, и самого преступника. И все. «От» и «до»… Командовать парадом, как и полагается по закону, будет он, Степан Андреевич Тищенко… Коваль опытный оперативник, и это хорошо, что именно он поведет розыск. Кто-кто, а уж Коваль точно установит — преступление это или случайное самоотравление. Хуже иметь дело с бездарным оперативником, тогда все бремя дознания ложится на следователя.
— Что ж, подозревать преступление некоторые основания у нас есть, — словно отвечая мыслям Тищенко, произнес Коваль, и тот почувствовал, что Дмитрий Иванович недоговаривает. Это его задело — перед ним нечего играть в прятки!
— Хорошо! — сказал Тищенко. — Поскольку уголовное дело об отравлении Залищука заведено, давайте составим план работы и наметим оперативные задачи. Эксперты должны дать точный аргументированный ответ о причине смерти Залищука и определить состав яда. Сейчас главная работа у милиции… Возможно, Дмитрий Иванович, вам придется осуществить и отдельные следственные действия. Но конкретное поручение я дам позже. Какие у вас соображения?
Коваль отодвинулся от окна, кивнул Струцю. Тот подал ему листок бумаги.
— Прежде всего определим круг людей, с которыми встречался в тот трагический день Борис Сергеевич Залищук. — Дмитрий Иванович сделал паузу. — Выясним, кто имел реальную возможность совершить преступление. И у кого были причины желать гибели Залищука, кому это было нужно… Возникает еще ряд вопросов, на которые должен ответить розыск, но это уже потом. А пока придется изучить многих людей, их жизнь, прошлое и настоящее, характеры, надежды, мечты… — Коваль снова помолчал. — В тот вечер на даче у Залищука были и иностранцы, английские подданные, — сестра жены Залищука с дочерью… Это несколько усложняет задачу…
— По закону имеем право допросить их как свидетелей и даже как подозреваемых, — вставил Тищенко. — Нормы нашего уголовного кодекса, как известно, распространяются и на иностранцев, которые находятся на нашей территории… Если, конечно, это не дипломатические представители…
— Не в этом дело. — Но в чем оно, Коваль так и не сказал.
— Надеюсь, вы не думаете, что они приехали из далекой Англии, чтобы отравить какого-то пьянчужку Залищука? — Тищенко улыбнулся. — Нонсенс!
— Почему пьянчужку? — возразил Коваль, которому не понравилось пренебрежительное отношение к погибшему человеку. — Конечно, это не гости совершили… что им Борис Сергеевич… Здесь надо копнуть глубже.
— Дел у вас полные руки, — согласился Тищенко и пошутил: — Ваши милицейские работники говорят, что когда известна жертва, то это уже полдела.
— Да, — кивнул Коваль. — Но в данном случае, мне кажется, и первая половина дела будет нелегкой…
— Как это?! — глаза Тищенко округлились. — Жертва известна.
— Только одна… — пробормотал Коваль.
— Вы что, ждете новых жертв?! — Лицо Тищенко от удивления и возмущения вытянулось так, что утратило свои пухлые, детские очертания.
— Я еще ничего не знаю и ни о чем не могу говорить определенно, Степан Андреевич, — уклончиво ответил подполковник.
— Значит, и намекать не нужно. А то мне уже показалось, что вы хотите создать нам дополнительные хлопоты, — натянуто улыбнулся Тищенко и обвел взглядом присутствующих, словно хотел сказать: видите, каков этот ваш Коваль.
Эксперты и Струць ничем не проявили своего отношения к спору следователя и подполковника милиции. Павлов листал бумаги, словно хотел найти в них ответ на вопрос, что же это за таинственное растение, от которого погиб Залищук; медик рассматривал свои пальцы, а лейтенант Струць уставился в окно.
Дождь понемногу утихал. И так же разом, в какую-то минуту даже быстрее, чем налетел, он окончился, и только отдельные капли его, не успевшие скатиться с крыши и сорваться с листвы, падали на асфальт в тишине, особенно остро ощутимой после размеренного шума.
Однако Коваль уже полностью окунулся в работу, забыл о дожде, о давнем конфликте с Тищенко, и ничто его больше не интересовало, кроме Залищука, отравления и возможных версий.
Оперативное совещание продолжалось.
Когда все было обсуждено, был составлен оперативный план и каждый участник группы получил задание, Тищенко поднялся, сложил свою папку и, обращаясь к Ковалю, подчеркнуто любезно произнес:
— Мы сейчас вместе, Дмитрий Иванович, должны решать общую задачу. У вас есть десять дней на розыск и дознание. Пока первое слово принадлежит вам, вашему опыту…
После того как следователь, попрощавшись, вышел из кабинета, ушли и эксперты. Коваль еще долго сидел в задумчивости. Лейтенант Струць не вставал, боясь прервать мысли подполковника, и ждал от него заданий.
3
Городская комната Таисии Притыки была маленькая и настолько заставленная, что Коваль невольно остановился на пороге. С удивлением подумал, что высокой, крупной Таисии Григорьевне тут непросто хозяйничать. И как только они вдвоем с Залищуком здесь умещались?.. Наверное, поэтому до самых заморозков и оставались на даче…
Коваль глянул на стену, где над тахтой была наклеена театральная афиша и висел портрет Марии Заньковецкой под красочным рушником. Единственное окошко, вышитые крестиком красивые петушки на занавесках, смятые подушки и в спешке небрежно накрытая одеялом постель, на которой хозяйка явно только что лежала. Да и двери в квартиру открыла соседка. Таисия Григорьевна вышла в коридор, на ходу поправляя взлохмаченные волосы, когда Дмитрий Иванович уже направлялся к ее комнатке.
О теперешней жизни вдовы говорили пустые бутылки из-под дешевого портвейна, сгрудившиеся под окном возле отопительного радиатора.
Наибольшее впечатление произвело огромное зеркало напротив тахты. Оно было вмонтировано в стенку так, что, казалось, само служило прозрачной стеною, делало комнатку светлее, просторнее и словно наполняло ее воздухом. Дмитрий Иванович подумал, что экзальтированный человек мог днем поверять ему свои надежды, а в сумерках видеть в нем тени, казалось, уже осуществленных мечтаний. Остро пахло валерьянкой, пролитым вином и какими-то неизвестными травами.
Коваль представился и осторожно втиснулся в старенькое кресло в углу, которое, когда он сел, казалось, готово было развалиться.
Таисия Григорьевна — высокая, со следами былой красоты женщина, с опухшим от слез лицом — опустилась на тахту. Голубые глаза ее были полуприкрыты покрасневшими веками, густо покрашенные губы выглядели налепленными. Толстая, впопыхах закрученная коса сидела гнездом на макушке, выбиваясь из-под черной кружевной наколки.
Разговаривать с Ковалем Таисия Григорьевна не желала. Безразличная ко всему, она словно отупела и оглохла, смотрела на подполковника бессмысленным взглядом.
Направляясь к ней, Дмитрий Иванович понимал, что женщина в трауре и нужной беседы может не получиться. Но он искал ответа хотя бы на несколько вопросов, без чего не мог вести дальше свой розыск.
Сейчас решил ничего не записывать, не доставать ручку и блокнот и сочувственно ждал, пока хозяйка придет в себя и привыкнет к его присутствию.
На коммунальной кухне загремели посудой, и вскоре к комнатным запахам, к которым Коваль уже адаптировался, примешались запахи подгоревшего мяса.
— У меня к вам, Таисия Григорьевна, несколько вопросов, — осторожно начал Коваль, считая, что паузу выдержал вполне достаточную.
Таисия Григорьевна посмотрела на незваного гостя уже осмысленным взглядом, который неожиданно приобрел какое-то заискивающее выражение, очевидно, как подумалось Ковалю, усвоенное за годы неудач и на сцене, и в жизни.
Взгляд этот обжег его. Дмитрий Иванович видел в своей жизни глаза разные — счастливые и грустные, глаза обреченных и спасенных, — поэтому понял, что беседа, которая была ему нужна, сейчас и впрямь не получится. Собственно, формальный допрос он и не собирался проводить.
У него вдруг появилось странное ощущение: он видел сразу двух одинаковых женщин — одну перед собой, вторую — сбоку, в зеркале, на двух постелях, словно в двух комнатах. Видел и себя как бы в голографическом изображении: свой профиль и то, как шевелятся у него губы, когда он говорит. Это было новым: видеть себя со стороны во время работы.
Чтобы разрядить обстановку, осторожно повернулся в кресле и спросил с шутливой интонацией:
— А оно подо мной не развалится?
В ответ Таисия Григорьевна разрыдалась.
— Это было его любимое кресло. Боже мой, как я теперь жить буду!
Подполковнику Ковалю было нетрудно представить себе жизнь этой женщины и ту пропасть, перед которой ее поставила смерть Залищука, аналитически расчленить в своем представлении на составные части черты ее характера.
— Успокойтесь и перестаньте плакать! — сказал строго, решив, что только так остановит слезы. — У нас серьезный разговор.
Таисия Григорьевна и вправду перестала всхлипывать. Пошарив под подушкой, достала скомканный носовой платочек. В больших голубых глазах блеснул прежний подобострастный огонек, который так не понравился Ковалю.
— Вы Таисия Григорьевна Притыка?
Она кивнула.
— Почему у вас с мужем были разные фамилии?
— Мы не расписывались… Жили на веру… Кто мог знать… — Она готова была снова заплакать, но Коваль вовремя остановил ее.
— Расскажите о последнем вечере на даче. Кто у вас был?
Таисия Григорьевна, словно слепая, опять пошарила по одеялу и, нащупав платочек, собралась с силами:
— Сестра приехала, Катя, с дочкой. Они в Англии живут… Еще земляк наш, врач Андрей Гаврилович. Больше никого.
— Расскажите о них.
И она кое-как пересказала историю сестры, которую во время войны фашисты угнали в Германию, рассказала о земляке-враче, сумевшем избежать такой же участи… Понемногу приходила в себя и уже не мяла судорожно платочек, превратившийся в ее руках в мокрый комок.
Подполковник Коваль пошевелил в зеркале губами, повернулся к себе спиной.
— Вы, наверное, репетировали свои роли дома? — спросил он, заметив, что Таисия Григорьевна тоже взглянула в зеркальную стену и поправила на голове черную наколку.
— Все было, — она скорбно кивнула. — Но я не потеряла надежды вернуться на сцену, — сказала вдруг довольно твердым голосом.
«Есть, — мысленно отметил Коваль, — ключик найден».
И действительно, забыв о слезах, Таисия Григорьевна начала рассказывать о своей сценической карьере. На кухне дожарили мясо, и горелый запах начал уже развеиваться, а она все рассказывала, как девчонкой пришла на сцену, какие серьезные роли играла в областном театре, как попала в Киев, где ее «съели» бездарности и завистники.
Коваль терпеливо слушал, рассматривая в зеркале свое большое правое ухо и клок на затылке, который уже начал закручиваться, — давно пора постричься! И удивился: прожил жизнь и не знал, что на затылке у него кудрявятся волосы. Какой у него глупый вид в зеркале! Старый толстый мужчина в немодном мешковатом костюме расселся в кресле. Кто бы мог подумать, что это известный инспектор уголовного розыска! И сразу рассердился сам на себя: он пришел сюда не кудри свои рассматривать.
Таисия Григорьевна тем временем увлеклась воспоминаниями о своей театральной жизни, говорила о своем таланте, который не нашел признания, и Ковалю невольно вспомнилась давняя беседа в Закарпатье со своим коллегой майором Бублейниковым, который возмущался тем, что поэты повсюду тычут свое «я».
«Ну, пусть бы, — соглашался майор, — великие какие, Пушкин там или Лермонтов. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…» Это понятно. Этот достоин, имеет право… Но когда какой-нибудь юнец, успевший написать три стихотворения, присваивает себе такое право — это уже нескромно. А если он к тому же комсомолец — то еще и не самокритично… И противно слушать…»
Коваль смеялся так, что майор обиделся. Пришлось объяснять:
«Каждый поэт, каждый художник, Семен Андреевич, должен верить, что он и только он откроет людям неизведанное, принесет им новый Прометеев огонь, иначе у него не будет крыльев и не взлетит он в высокий мир искусства».
Чванливый Бублейников решил, что они не поймут друг друга, и прекратил спор.
Сейчас, в этой маленькой обители Дмитрий Иванович понял, что Таисия Григорьевна истинно верила в свое призвание, в то, что может нести людям огонь. Видя, как собственный рассказ понемногу успокаивает ее, Коваль, улучив момент, сказал:
— Давайте поговорим о том вечере. — И — без перехода: — Кто-нибудь выходил из комнаты, когда вы сидели за столом?
Таисия Григорьевна все еще не могла отрешиться от своих театральных воспоминаний.
— Ах… да. Гости? Нет…
— И никто не приходил?
— Нет, — повторила она и вдруг вспомнила: — Ой, Боренька ходил за вином, — и судорожно сжала мокрый платочек.
— Долго отсутствовал?
— У нас магазин близко. Минут двадцать — тридцать.
— А не мог он где-нибудь выпить, забежать, скажем, к приятелю?
— Что вы! Мы ведь ждали… А для него было делом чести принести бутылку, чтобы не только гости ставили. Особенно от Катерины ничего не хотел брать…
— А в магазине… Вы имеете в виду ларек по дороге к метро? Там ведь продают в розлив. И он мог пропустить стаканчик…
— Что вы! У Бореньки было денег ровно на бутылку портвейна. И ни копейки больше.
— Но его могли угостить.
— Нас тут никто не угощал. Не те люди живут… Только бандит Крапивцев… угостил его навек!..
Глаза Таисии Григорьевны снова наполнились слезами.
— Успокойтесь, — попросил Коваль. — Лучше расскажите о том вечере по порядку. Когда пришли гости, как уселись за стол, что пили, ели… Значит, приехала сестра с дочерью и земляк Андрей Гаврилович…
— Да, — кивнула Таисия Григорьевна. — Только Катруся приехала сначала без Джейн, с Андреем Гавриловичем.
— Ваш муж, Борис Сергеевич, в это время был дома?
— Да. Потом вдруг появилась Джейн.
— Искала мать?
— Нет. Прибежала напиться, с пляжа. А когда увидела мать, то обрадовалась. Спросила: «Тебе лучше?»
— Значит, беседовали, выпивали. Кто-нибудь еще заходил?
— Больше никого не было.
— А долго вы сидели?
— Порядком.
— Кроме Бориса Сергеевича, никто не выходил?
— Нет. Потом мы все вышли на свежий воздух… в сад.
— И муж тоже?
— Боренька? — Таисия Григорьевна задумалась. — Боренька? — спрашивала она себя. — А как же! Вот, правда, в саду не припоминаю… Но, наверное, был…
— А Крапивцев в тот день не приходил к вам?
— Нет.
— Возможно, когда вы были в саду, сосед зашел к Борису Сергеевичу?
— Крапивцев у нас вообще редко показывался. Раза три-четыре всего…
Коваль пока еще вслепую пробирался к цели. Лишь отдельные незначительные детали вызывали у него вспышку озарения.
— О чем вы беседовали за столом?
— Больше всего об Англии. Катя рассказывала.
— Ссоры никакой не было?
— Что вы! — Она замахала на Коваля руками. В зеркале, казалось, пробовала взлететь тяжелая нескладная птица. — Правда, Боря немного критиковал врача. Это он умел…
— Бутылки, которые принесла ваша сестра и земляк, были запечатаны?
— Конечно.
— Сколько их было?
— Две.
— А та, что принес Борис Сергеевич?
— Тоже.
— Вы уверены, что он взял ее в ларьке?
— Где же еще!
Коваль ничем не проявлял своего нетерпения, снова и снова возвращался к тому вечеру, который так трагически закончился на даче. Хозяйка комнатки все чаще посматривала в зеркало, и Коваль решил, что ее можно расспрашивать обо всем.
— Когда Борис Сергеевич пошел к Крапивцеву?
— Это когда Катруся с Андреем Гавриловичем поехали в город, а мы с Джейн отправились на Днепр.
— На дворе было еще светло?
— Да. Мы пошли на вечерний клев.
— В котором часу?
— У меня нет часов, — Таисия Григорьевна развела виновато руками.
— Хотя бы приблизительно…
— Кажется, в восьмом.
— Клев уже давно начался, — заметил Коваль.
— Мы опоздали немного… Зато посидели на берегу.
— А Борис Сергеевич?
— Он не пошел с нами. Отправился к Крапивцеву.
— Откуда вы знаете, что именно к Крапивцеву, а не к кому-нибудь другому?
— Он сам сказал: «Зайду к жмоту, чего он за межу лезет!» Крапивцев навозил земли под проволоку, которая разделяет наши участки, посадил там помидоры, у самого края, и окучил их так, что растут они на его стороне, а земляная насыпь наполовину на нашей земле. Так с полметра шириной по всей меже и забрал. Там у нас была узенькая тропинка вдоль проволоки, простите, к туалету, а теперь она засыпана… пришлось новую прокладывать…
— Настроение у вашего мужа было воинственное?
— Как всегда, когда выпьет.
— Много выпил?
— Больше всех. Но ему в последнее время и стакана хватало.
— Расскажите, как вы его нашли.
Таисия Григорьевна тяжело вздохнула и опустила голову. После длительной паузы продолжала, уже не глядя ни на подполковника, ни в зеркало:
— Он долго не возвращался, и я забеспокоилась. Уже стемнело, ветер сорвался, стало накрапывать. Сперва подумала, что засиделся и пережидает дождь, но когда вспомнила, с каким настроением пошел к соседу, мне стало страшно. Будто чуяла беду… — Она начала ломать свои пальцы.
— Продолжайте, пожалуйста, — поторопил Коваль, не давая ей уйти в свое горе.
— Когда дождь перестал, он был недолгим, я набросила платок и побежала на улицу. Никогда не забуду этой ночи! Все было наполнено тревогой! Ветер срывал с низкого черного неба последние капли дождя, набросал в наш узкий переулок мокрых листьев. Я спотыкалась в темноте, хваталась за деревянные заборчики, шла, не зная, где искать мужа. Боялась, что он поскользнулся и упал, разбился. Завернула за угол к Крапивцевым: может, он еще у них. Сердце в страхе сжималось, в темноте рисовались всякие видения, столбики ворот казались человеческими фигурами, всякий кустик под забором — Боренькой… Шла, выставив вперед руки, боялась удариться…
Казалось, что она и сейчас еще шла в ночи, сопротивляясь порывам ветра. Не сидела с подполковником милиции в комнатке перед громадным зеркалом, а пробиралась по холодному мокрому переулку на Русановских дачах. Повсюду черный ветер, черные разметанные тучи и черный страх в сердце.
Ковалю представилось, что он идет рядом с ней и собственными глазами видит в темноте испуганную, дрожащую женщину.
— И вдруг я натолкнулась на него! — почти вскрикнула Таисия Григорьевна. — Нет, сперва увидела — и глазами, и сердцем. Бросилась к нему. Он лежал, бедненький, на земле, привалился к вросшему в землю заборчику… Заговорила с ним, расстегнула мокрую рубашку, целовала его, звала, но он молчал… — Таисия Григорьевна не выдержала, и обильные слезы потекли по щекам… — Животик у него еще был тепленький… Если бы кто довел домой, он бы жил. Я спасла бы его, дала бы травок попить… Один, брошенный, корчился на мокрой земле…
Коваль переждал, когда она выплачется, поднялся.
— Простите, что потревожил вас, Таисия Григорьевна. Этот разговор был нужен для установления истины.
— Это он отравил его, он!
— Кто?
— Крапивцев! Потом стал заботиться о похоронах… Я была не в себе… Ничего не видела, я не разрешила бы…
— Разве это похоже на то, что он отравил?..
— Я не знаю, я ничего не знаю… освободите меня от этого! — вдруг нервно вскрикнула Таисия Григорьевна.
— И еще одно: вы не запомнили время, когда нашли Бориса Сергеевича?
— Это было сразу после двенадцати… Когда шла, я слышала, как бьют куранты… Из уличного репродуктора…
С тяжелым сердцем оставлял Коваль комнатку бывшей актрисы.
4
Двери в пивнушку были настежь открыты, и Коваль переступил порог, не привлекая к себе ничьего внимания. В небольшой фанерной пристройке с высокими столиками, за которыми можно было стоя выпить кружку пива или стакан вина, пожевать сардельку с булочкой и запить чашечкой сомнительного кофе, толпились люди. В отдаленном углу примостились трое немолодых мужчин, одетых почти одинаково — в темных, давно не знавших утюга штанах и в рубашках; у двоих рубашки были невыразительно голубого, почти серого цвета, у третьего — темно-зеленая.
Обладатель темно-зеленой рубашки, военной выправки мужчина позвал к стойке буфетчицу, которая где-то задержалась, и по его тону Коваль понял, что это здешние завсегдатаи. Пышная чернявая молодица вернулась к стойке и быстро наполнила высокой белой пеной принесенные кружки.
Коваль тоже подошел к стойке. Очереди за пивом не было, несмотря на жаркий день. Подумал, что это из-за отдаленности пивнушки от станции метро и магистральных дорог. Вот и он заглянул сюда по пути на дачу Залищука. Посещали ее, очевидно, постоянные клиенты, жители ближайших одноэтажных домиков и дачники с Русановских садов. «Через год-два, когда на Левобережье развернется строительство, к этой пивнушке, если ее не снесут, не протолкнешься…»
Шаркая по неровному цементному полу разношенными сандалиями, мужчина в темно-зеленой рубашке отнес на столик сначала две кружки, потом вернулся за третьей.
— Кружку пива, — сказал Коваль, доставая деньги. Он ощущал только жажду. В пивной смешались затхлые запахи вина, пива, вареного мяса и еще чего-то неопределенного, присущего столовым и буфетам. Неожиданно для самого себя добавил: — И две сардельки.
Подумал, что мог мог бы съесть и третью — такими сочными, аппетитными они показались ему в кипящей кастрюле.
С кружкой и тарелочкой в руках он высмотрел себе место около двери, где за столиком лениво потягивал пиво пожилой человек в белом костюме старого покроя.
Дмитрий Иванович отпил прохладного приятного пива и кольнул сардельку вилкой. Толстая шкурка не прокалывалась, пришлось нажать сильнее; сарделька вдруг зашипела, потом брызнула жиром и, выпуская пар, сжалась, словно лопнувший шарик. Коваль только покачал головой, сдирая горячую шкурку с подозрительно разваренного мяса.
Сосед за столиком скептически улыбнулся. Его лицо, узкое и продолговатое, как на экране неисправного телевизора, немного расплылось, небольшой подбородок округлился, и весь он стал похожим на Мефистофеля.
— Наша Мотря специально их долго варит, чтобы больше воды набрали, — кивнул он в сторону стойки. — Да и сами сардельки не те, что прежде… Один крахмал.
— Дети редко пишут? — вдруг тихо спросил Коваль.
— Редко, — растерялся мужчина. — Особенно Оксана. А вы откуда знаете о моих детях, что они редко пишут? Разве мы где-то знакомились?
— Я вашего соседа знал. Залищука.
— Борис Сергеевич — не сосед. Он жил на третьей линии, а я живу на девятой.
— Почти рядом… — махнул рукой Коваль. — Я имею в виду не только дачи. Вы же встречались тут…
— В таком случае — конечно, — согласился мужчина. — Хороший был человек… Говорите, знали Бориса Сергеевича?
— Не очень чтобы…
— А говорите «знал»! — Мужчина свысока посмотрел на Коваля. — Несчастливый он был. Неудачник. Но человек честный и прямой. Ни на какие сделки не шел. Поэтому и в жизни не везло. Вот так… — И он допил свою кружку.
Коваль решил, что разговор стоит продолжить. Собственно, он хотел поговорить с продавщицей местного ларька о том вечере, когда погиб Залищук. Но ларек был закрыт на обеденный перерыв, и у Дмитрия Ивановича было достаточно времени, чтобы выслушать этого человека. Непринужденная беседа с теми, кто своими глазами наблюдал событие или хотя бы слышал о нем из первых уст, часто давала больше, чем самый усердный допрос или розыск. Во всяком случае, могла дать дополнительную информацию. Поэтому, поручив лейтенанту Струцю заняться Крапивцевым, сам Дмитрий Иванович, как он выразился, пошел «в народ».
— Меня зовут Дмитрий Иванович, — сказал Коваль. Предусмотрительно не назвал фамилию, ибо уже стал «жертвой» нескольких очерков в «Вечерке», которую читают все — от пенсионеров до милиционеров. — Вот беседуем, а…
— Петр Емельянович, — поспешил отрекомендоваться дачник. — Может, еще по одной? Жара какая!
— Именно это я и хотел предложить, — засмеялся Коваль, беря со столика кружки.
— Нет, нет, — возразил сосед. — Я предложил первый. Ваша в правой, свою — смотрите — держу в левой.
Коваль улыбнулся и разрешающе махнул рукой.
Возле буфетной стойки уже образовалась небольшая очередь, и пока Петр Емельянович стоял там, Коваль рассматривал новых посетителей. Это были строители, судя по их запачканной мелом, цементом и кирпичным крошевом одежде. На левом берегу Днепра начиналось большое строительство, и машины с цементом, арматурой, кирпичом, готовыми блоками, поднимая серую пыль, грохотали по короткой улочке, которая вела от станции метро к Русановским садам. Шаг за шагом белые многоэтажные великаны приближались к дачам. Уже были оставлены хозяевами обреченные на слом домики бывшей Никольской слободки. Наспех забитые досками, они мертво смотрели друг на друга пустыми окнами.
Петр Емельянович принес пиво, поставил перед Ковалем кружку и с таким заискивающим видом сказал при этом: «Ваша в правой руке», что подполковник заподозрил, уж не догадался ли тот, кто перед ним.
Постепенно Коваль снова перевел беседу на интересующую его тему.
— Вы ничего не знаете, — таинственным шепотом заговорил Петр Емельянович. — Борис не просто умер. Его отравили. — Он умолк и огляделся, словно боялся, что его подслушают. Потом придвинулся к Ковалю. — Вы мне симпатичны… Я вам скажу. О Борисе только я догадался…
— Да? — засомневался Коваль. Он понял, что про эксгумацию трупа Залищука здесь все уже знают.
— Истинно говорю. А потом и милиция догадалась и выкопала, чтобы проверить.
— И что же?
— Подтвердилось. Скажу вам, Дмитрий…
— Иванович, — подсказал Коваль.
— Так вот, Дмитрий Иванович, подтвердилось. А кто отравил — загадка.
— Безусловно, — согласился Коваль.
— Вы тоже слышали? — удивился собеседник.
— Краем уха.
— И кто же, по-вашему?
— Если бы я знал, — искренне вздохнул Дмитрий Иванович.
Петр Емельянович еще ниже склонился к Ковалю и прошептал:
— Я и об этом догадываюсь.
Дмитрий Иванович развел руки и посмотрел на собеседника с таким почтением, что тот еще больше заважничал.
— Сосед его, Крапивцев.
— Да ну? — удивился Коваль. — Сосед? Как же так?
— Тяжелый человек.
— А милиция?
— Не догадывается… Да что ей… Не напиши люди, закопали бы навечно беднягу Бориса… Милиция старается побыстрей все закрыть. Чтобы мороки было меньше.
Дачник засмеялся, и подбородок его опять округлился.
Коваль вынужден был тоже улыбнуться…
— А зачем это ему, соседу?
— Крапивцеву?.. Там тонкое дело… Давайте еще по одной? А?
— Теперь я беру. — Коваль, взяв кружки и подражая соседу, сказал: — Правая — ваша, левая — моя.
В пивной прибавилось посетителей, исчезли запыленные цементом и мелом комбинезоны: окончился обеденный перерыв. Новые люди не интересовали Коваля. Не ради них он приехал сюда.
— Крапивцев, — распалялся собеседник Коваля, — это такой… Ему все земли мало… Как только его приняли в наш садовый кооператив! Одни деньги волнуют. С каждого сантиметра сдирает… Вот и задумал прикупить участок Бориса Сергеевича. У того все запущено… Трава, сорняки. Лето, весну и осень живут, но рук не прикладывают. Оно, конечно, так неправильно, но спину гнуть и семью губить на этой земле, как делает Крапивцев, тоже не по-людски. Жадность человека съедает. По-моему, не мог смотреть, что у соседа земля гуляет. Спать не мог, дышать не мог, жить не мог… — Петр Емельянович отпил из кружки и, облизав губы, важно добавил: — Инфляция души произошла…
— Но чтобы убить за это человека… — недоверчиво произнес Коваль.
— Можете себе представить… Я читал, кажется, у Эдгара По, — я сам экономист, сейчас на заслуженном отдыхе, пенсия приличная, время есть, читаю… Так вот, Дмитрий Иванович, там один человек не мог терпеть соседа только потому, что у того было круглое лицо. Как полная луна. И вот не выдержал, выстрелил из ружья в соседа. Психологический рассказ. Произошла инфляция души — и все!.. — Петр Емельянович, которого Коваль мысленно называл Мефистофелем, замолчал и припал к кружке. Затем, отставив ее и вытерев губы, многозначительно заметил: — А тут дело посерьезнее, чем какая-то физиономия. Еще Толстой писал о власти земли над крестьянином. Все классики разве не об этом писали? Почитайте Ольгу Кобылянскую, ее «Землю». Брат на брата шел…
— Классики писали, — согласился Коваль. — А Крапивцев родом из села?
— Куркуль…
— Трудно поверить вашим словам, — нарочито резко возразил Коваль. — Ерунда это!
— Вы не понимаете простой вещи, — завелся Петр Емельянович. — Теперь ему легче участок к рукам прибрать.
— Не понимаю. Каким образом?
— Очень просто. Таиска хотела когда-то продать дачу Крапивцеву. Беднота же! Обрабатывать не могут. С соседями скандалы. А Борис — ни в какую… А теперь зачем она ей, эта дача. Тут еще сестра приехала из капстраны. Вдруг заберет с собой. А Крапивцев — первый покупатель…
— Не продаст она ему, — возразил Коваль. — Если отравил мужа.
— А это не доказано… Он и похороны взял на себя. Таисия без памяти лежала. И поминки устроил — они же вроде бы друзьями были. Хотя и ругались, но Борис частенько у соседа выпивал. На могиле Крапивцев слово сказал и слезу пустил… Нет, она только ему продаст.
— А как он на себя оформит?
— Зачем на себя? — удивился непонятливости Коваля Петр Емельянович. — Если на себя не сможет, то есть у него дочка и зять. Другая фамилия, другая семья. Вот и соединят участки…
— Нет, не продаст Таисия Григорьевна, — все еще возражал Коваль. — Если милиция установит, что отравил Крапивцев, то не то что землю прикупать — хватит ему и территории колонии, а может, и тюремной камеры. А то и…
— Милиция установит? Вы наивный человек, Дмитрий Иванович! Что милиция сделает? Это же не просто — доказать. Никто не будет с этим морочиться…
— Вы так говорите, будто знаете, чем занимается милиция.
— А вот и знаю, — похвастался Петр Емельянович. — В этом или в другом, им важно вовремя дело закрыть, чтобы процент был хороший. Я им не судья, они такие же люди, как все. А где вы видели человека, чтобы себе на плечи лишние мешки взваливал… Разве только когда из колхозной кладовой в свою хату несет. — И он засмеялся, довольный своей придумкой.
— Нужно быть очень жестоким, чтоб отравить ради какой-то выгоды.
— Крапивцев и есть жестокий. Он даже свою собаку отравил за то, что курей гоняла… А думаете, кто моего кота убил? Его рук дело, никого больше… Борис ему в глаза говорил, что он торгаш, и на собрании выступил, мол, есть такие, что наживаются на садовых участках. И как пример привел Крапивцева. Даже куркулем назвал и требовал исключить из кооператива. Правда, и Крапивцев на него писал. Чтобы Бориса лишили земли, мол, так запустил участок, так гусениц расплодил, что они лезут на соседние сады…
— Какой это куркуль, на шести сотках, — подначивал Коваль, интересуясь, что еще скажет его собеседник о Крапивцеве.
— А такой, что и «Жигули» покупает.
— Так ведь работают… Своим трудом…
— Правильно. Но еще лучше, если бы они не драли шкуру с людей на Бессарабском рынке.
— А вы, простите, Петр Емельянович, что делаете на своих сотках? — полюбопытствовал Коваль.
— У меня земля тоже не гуляет. Есть грядочки — помидорчики, огурчики, пять яблонь, но для себя, не на продажу, и чтобы руки не скучали…
На дворе свирепствовал август. Солнце заливало окна пивной, подгоняя людей ближе к стойке, за которой колдовала над бочкой с пивом Мотря.
Коваль решил, что ничего дельного сосед не скажет, и, взглянув на часы, кивнул на прощанье. Нужно было еще расспросить продавщицу ларька, в котором часу приходил в тот вечер за бутылкой вина ее постоянный клиент Борис Залищук.
Обескураженный Петр Емельянович остался в одиночестве и сердито посматривал на пустые кружки перед собой.
5
От экспертов лейтенант Струць возвращался в хорошем настроении. Черт возьми, как здорово получилось: он, молодой сотрудник уголовного розыска, самостоятельно вышел на короткую прямую, которая приведет к раскрытию преступления, — нашел во дворе Залищука граненый стакан со следами отравы. Все-таки недаром окончил Высшую школу милиции! А то всегда… «старые кадры, старые кадры…». Конечно, опыт у стариков большой, но опыт — вопрос времени. А вот когда опыт приплюсовывается к знаниям, тогда все великолепно!
Из курса следственной практики он хорошо помнил, что самым главным в успешном проведении розыскных действий является своевременное обнаружение доказательств, которые могут быть утеряны. На выпускном экзамене он как раз и докладывал о первоочередных элементах розыска и этот раздел курса запомнил прочно. «Прозеваешь день, потом придется расплачиваться месяцами, — говорил преподаватель. — Время все сглаживает, и больше всего — следы преступления». И при этом напоминал слова знаменитого французского криминалиста Эдмонда Локара о том, что первые часы розыска самые ценные, ибо быстротечное время уносит с собой истину…
«Таким образом, прежде всего — обнаружение доказательств, которые из-за промедления могут быть потеряны, — мысленно повторял молодой инспектор по дороге от экспертного бюро до кабинета Коваля. — Стакан этот мог быть случайно раздавлен ногой, разбит камнем на осколки или вообще остаться незамеченным в густой траве. Когда осматривали место, где нашли труп Залищука, то на дачу не обратили внимания. Тогда все прозевали первые самые дорогие минуты для осмотра дачи. Хорошо, что теперь его, лейтенанта Струця, бдительность спасла положение».
Ему припомнилось описанное в учебнике происшествие. На опушке старого соснового бора был обнаружен труп местного лесника с пробитой головой. Жители хутора слышали, как кто-то ругался с лесником, не разрешавшим рубить деревья, и угрожал ему. Во дворе хуторян — отца и сына, которые ездили в лес, — милиция нашла спрятанный в телеге окровавленный топор. На нем оказалась кровь лесника.
Обоих подозреваемых арестовали и, несмотря на то что они не признались в убийстве, приговорили к высшей мере. Других версий преступления не было и, казалось, не могло быть. Розыски на опушке человеческих следов ничего не дали. На толстом слое старой опавшей хвои отпечатков не обнаружили.
А через несколько месяцев, когда осужденные уже ожидали расстрела, в милицию обратился смертельно больной человек с хутора и признался в убийстве. Рассказал, что вернулся из больницы домой, потому что обречен на смерть от рака… Но в тот день, когда его соседи отправились в лес, он еще не знал о своей страшной болезни, чувствовал себя хорошо и смолил на реке, протекавшей недалеко от бора, лодку.
Услышав крики за несколько сот метров от берега, он подобрался незаметно к месту ссоры и взял с телеги топор. После того как отец с сыном отправились домой, он догнал лесничего, с которым давно враждовал, и ударил его по голове топором. Потом задами прокрался на хутор; никем не замеченный, шмыгнул во двор соседей, которые в это время ужинали, и сунул топор назад в телегу.
Только неизлечимая болезнь убийцы, которому уже нечего было терять, спасла от смерти приговоренных по ошибке людей.
Оперативный сотрудник милиции и следователь прокуратуры, которые вели розыск и следствие, были строго наказаны: если бы они не ограничились поверхностным осмотром места происшествия, а глубже изучили обстановку, то увидели бы на глинистой тропинке, идущей от реки, свежие следы человека. Мало того, удовлетворившись отпечатками пальцев хозяев на рукоятке топора, они не обратили внимания на небольшой маслянистый след на той же рукоятке, оказавшийся пятнышком от кусочка свежей смолы. Она прилипла к брезентовым рукавицам, которые натянул убийца, чтобы не оставить на топорище следов. А ведь это пятно могло вывести следствие на верную дорогу.
Осмотрев дачу Залищука, лейтенант Струць исполнил и второе условие быстрого и внимательного розыска: нашел вещественное доказательство. Стакан — это основание для обвинения и изоляции теперь уже известного ему преступника — Поликарпа Васильевича Крапивцева…
Как хитро придумано: забросить посудину в высокий густой бурьян на старый мусорник, где никто не обратит на нее внимание, а уж непогода и дожди смоют следы преступления!
Но не на такого напал этот Крапивцев! Инспектора Струця ему не провести! Лейтенант хорошо уяснил второй раздел курса криминалистики — обыск. Существует простой и одновременно ловкий способ надежно спрятать разыскиваемую вещь — совсем ее не прятать. Бросить в угол, небрежно завернув в тряпку, оставить в сенях, среди хлама, или вообще положить открыто — и, глядишь, никакой следователь и милиционер не обратят на нее внимания. Разве так не бывает с человеком, ищущим нужную вещь, которая лежит перед глазами, а он не замечает ее… Вещь становится как бы невидимой, потому что все внимание направлено на самые изощренные тайники и укрытия.
Молодому инспектору вспомнился поучительный пример, когда разыскиваемая по всем углам и щелям в комнате, в книжках, среди бумаг записка преступника спокойно лежала на столе, у всех на виду, и никто не обращал на нее внимания.
Когда-то, еще курсантом, и сам Струць оказался в такой ситуации. Во время облавы на самогонщиц зашли в одну хату, в которой стоял удушливо-кислый запах. Женщина божилась и клялась, что не гонит дьявольского зелья. Обыскали хату, пристройку, сарай — нигде ничего: ни бака, ни самогона, ни барды. Вынуждены были извиниться и уходить. И тут курсанту Струцю захотелось пить. Он зачерпнул в сенях жестяной кружкой, которая стояла на фанерной крышке, из ведра воды… Глотнул и чуть не задохнулся — первач!..
Конечно, Крапивцев не изучал криминалистики, но интуитивно догадался, что правильнее всего выбросить вещественное доказательство на мусорник жертвы…
Струць поднялся на третий этаж, где находилось управление уголовного розыска, и приоткрыл дверь кабинета Коваля.
— Разрешите, товарищ подполковник?
Коваль понял по торжествующему выражению лица лейтенанта, что тот празднует победу, и подумал, как много еще придется поработать молодому оперативнику, пока он убедится, что радоваться надо только в конце розыска.
— Что у вас, Виктор Кириллович?
— Товарищ подполковник, я обнаружил во дворе Залищука в высокой траве пустой стакан. Это почти на меже с садом Крапивцева. Меня заинтересовало, кто мог выбросить целехонький стакан. Изъял его в присутствии понятых и отправил на экспертизу. Попросил установить, что в нем было. — Отдавая заполненный бланк Ковалю, лейтенант не выдержал и громко добавил: — Как я и думал — отрава! То же самое соединение, которое обнаружили в крови Залищука.
Коваль повертел в руках заключение экспертизы.
— Садитесь… — сказал он после короткой паузы. — О чем это говорит, лейтенант?
— Как о чем? — Большие карие глаза Струця удивленно округлились. — Отрава! — повторил он четко, словно старался вбить в непонятливую голову Коваля это слово.
— Да, следы того самого ядовитого соединения: дигитоксин, брионин…
— Ясно: орудие преступления.
— Стакан — это, конечно, интересно, — примирительно согласился подполковник. — Если он действительно орудие преступления.
— Я думаю, — существенное доказательство против убийцы.
— В том случае, когда мы его обнаружим, этого отравителя. А разве исключено, что посудина принадлежала самому Залищуку?
— Такие, как он, выбросят что угодно, только не стакан, — уверенно сказал Струць. — Для пьянчужек стакан и бутылка — самые понятные и дорогие предметы вещественного мира, — с улыбкой закончил он, довольный, что сумел научно объяснить Ковалю свою мысль.
Но тот, казалось, не оценил глубины проникновения лейтенанта в человеческую психологию и строго спросил:
— Как вы представляете себе картину преступления, Виктор Кириллович?
— Думаю, товарищ подполковник, что после того, как Залищук выпил подсунутую ему отраву, Крапивцев выбросил стакан на соседний двор. Конечно, он сделал это позже, после ухода Залищука…
— «И лучше выдумать не мог…» — кивнул Коваль. — Неужели, по-вашему, Крапивцев такой дурачок? Почему не выбросить вещественное доказательство куда подальше, скажем — в туалет или в Днепр?
— Я думаю, он очень хитрый, — продолжал защищаться лейтенант, правда уже не столь уверенно. — Может быть, он поступил так нарочно, рассчитывая на то, что, даже обнаружив посудину с отравой, мы на него не подумаем. Ведь известно, что лучший способ спрятать — это не прятать.
— Известно, конечно, — согласился подполковник. — А отпечатки пальцев на стакане чьи? В справке экспертизы об этом нет ни слова.
Лейтенанта словно холодной водой обдали.
— Я спрашивал… Эксперты сказали, что следов никаких нет, и поэтому я письменных заключений не требовал… Да и какие тут следы, после преступления шел дождь, и все смылось.
— Как знать, — засомневался Коваль, — могли и сохраниться, и это установить необходимо прежде всего. Во всяком случае, официально поставить перед экспертами вопрос и получить их документальное заключение. Вот если они подтвердят отсутствие следов, значит, стакан пролежал не одну или две ночи. Один дождь, даже вчерашний ливень, не мог смыть все следы. Ведь стакан лежал в высокой траве?
— Да, — кивнул Струць.
— А как лежал, на боку, донышком вниз или вверх?
— На боку.
— Вот-вот, — стоял на своем подполковник, — следы могли вполне сохраниться на той стороне, которая прилегала к земле. Так же, как и остатки яда.
— Возможно, он брал его не голой рукой.
— Кто?
— Крапивцев.
— А когда ставил стакан на стол и угощал соседа, перчатки натягивал?
Струць промолчал.
— В таком случае могли остаться отпечатки пальцев Залищука, ведь он ничего не подозревал и, конечно, брал стакан голой рукой. — В голосе подполковника послышалась легкая ирония.
Струць только вздохнул, соглашаясь с логикой Коваля.
— Еще, — Дмитрий Иванович помолчал, словно подыскивал для выражения своей мысли точные слова, — или стакан пролежал в траве очень долго, попав на мусорник значительно раньше, чем погиб Залищук, и никакого отношения к его смерти не имеет… Против этого, правда, сохранившиеся следы яда… — Коваль будто рассуждал вслух. — Или эксперты оказались недостаточно внимательными. Если не нашли никаких отпечатков на стакане, то хотя бы ответили, сколько он пролежал на дворе…
Лейтенант Струць был разочарован. «Вот бесова душа, — подумал он о Ковале. — Как же я сразу не сообразил, что подполковник будет прежде всего интересоваться следами? Элементарно!» И, размышляя о том, что с помощью школьных правил всех задач не решишь, он услышал, как Коваль негромко сказал:
— Еще раз потребуем от экспертов точных ответов на все наши вопросы, а сейчас съездим на место происшествия. Надеюсь, кое в чем нам удастся разобраться и без них.
На даче Бориса Сергеевича Залищука, как и во время первого приезда Коваля, было тихо и пустынно. Лейтенант Струць открыл вновь изнутри калитку. Они вошли во двор, и молодой инспектор повел подполковника к заросшему бурьяном, крапивою и кустами одичавшей малины углу двора, где утром нашел стакан.
У Дмитрия Ивановича была привычка скрупулезно изучать все, что хотя бы отдаленно было связано с трагическим событием. Во время розыска и дознания он не раз возвращался на место происшествия, как бы надеясь найти там что-то забытое или неувиденное. Если бы находился при первом осмотре переулка, где жена обнаружила Залищука, то, наверное, не миновал бы и их дачи.
Показывая заросли сорняка в углу двора, где остались чуть примятые стаканом стебельки травы, лейтенант обиженно подумал, что Коваль крайне недоверчив и даже в мелочах не хочет положиться на него, инспектора райотдела. «Типичный старый ворчун. И все-таки я, а не он нашел, возможно, самое важное вещественное доказательство».
— Значит, по вашей версии, — сказал тем временем Коваль, осматривая место находки и весь запущенный угол двора, — стакан был брошен из сада Крапивцева?
— Безусловно, — подтвердил Струць. — Ночь, темень, надвигается буря. Залищук ушел на заплетающихся ногах, как обычно при перепое, не догадываясь, что он отравлен. Тогда Крапивцев взял со стола стакан, вышел во двор и двинулся к соседу через сад. В конце своего участка прислушался, не увидел ли кто-нибудь его, и швырнул ядовитую посудину сюда.
— Ночь, темень, приближается гроза, — в тон лейтенанту повторил Коваль, — блеснул среди ночи светлый проем дверей, кто-то вышел из домика Залищуков, подошел к заброшенному мусорнику и бросил стакан. А если это было так, Виктор Кириллович? Ведь в обоих случаях — гадание на кофейной гуще…
Лейтенант огорошенно смотрел на подполковника.
— По-вашему, сама Таисия Григорьевна поднесла мужу отраву? — растерялся Струць. — Больше ведь некому!
Подполковник ничего не ответил.
— Это нелогично, Дмитрий Иванович, — осмелился добавить лейтенант.
— В жизни на первый взгляд много нелогичных поступков, — сказал наконец Коваль. — Или нелогичного понимания их. Например, стакан могли выбросить на мусорник две недели тому назад, еще до того как погиб Залищук; допустим, травили крыс, и эта посудина потом стала ненужной. Все эти логические и нелогические, как вы считаете, варианты событий нужно проверять и уточнять.
«Ну, кажется, попал я в переплет с этим подполковником, — грустно вздохнул инспектор райотдела. — Так мы никогда не сдвинемся с места. Впрочем, — успокаивал он себя, — не я прежде всего отвечаю, а он…»
6
Председатель садового кооператива оказался долговязым пожилым человеком с острым птичьим носом и непропорционально длинными руками, которые, казалось, пригибали его к земле.
Заметив, что незнакомый человек оглядывает садовый участок: аккуратно подстриженные деревья, ряды яблонь, усеянные крутобокими налитыми плодами, под которыми сгибались подпертые ветви, а также крепкий двухэтажный, на столбах, домик, — он быстро направился к низенькой калитке навстречу незваному гостю и сердито спросил:
— Вы к кому?
— К вам. Здравствуйте. Вы председатель кооператива Задорожный?
— Да.
— Подполковник милиции Коваль, — представился Дмитрий Иванович. И, уже не оглядываясь на хозяина, выражение лица которого сразу изменилось, прошел в глубину двора.
Председатель кооператива двинулся следом, больше ничего не расспрашивал и терпеливо ждал, что скажет подполковник.
— Хочу познакомиться с вашей документацией.
— Пожалуйста, пожалуйста! — как можно приветливее сказал Задорожный. — А что именно вас интересует, если не секрет?
— Не секрет, — не спеша ответил подполковник. — Протоколы правления, заявления… С вами хочу побеседовать. Ведь вы несменяемый председатель этого садового кооператива со дня его основания и всех здесь хорошо знаете.
— Вроде бы так, — согласился Задорожный. — А кто конкретно вас интересует?
— Крапивцев и его погибший сосед.
— А-а-а, — понимающе закивал председатель кооператива. — Всякие слухи ходят. Болтают, отравил Крапивцев Залищука… Но я в это не верю. Не решится на такое. Характер не тот. Хитрец, себе на уме, прижимистый, деньги любит, но и трудиться не ленится. От зари до зари, как жук-навозник, в земле роется… — Задорожный умолк, как будто что-то припоминая. — Ох и надоел он мне! Да и покойный Борис Сергеевич, земля ему пухом, тоже. Оба замучили. Заявлений друг на друга кучу написали. А нам здесь, на правлении, разбирай их ссоры, будто нет других дел. Но чтобы отравить? Не поверю…
— А заявления и жалобы их сохранились?
— Это есть. Что-что, а бумажки храню. Теперь, известное дело, вокруг бумажки весь мир крутится. — При этих словах он полез в карман, будто все эти бумаги у него там лежали, хотя прекрасно знал, что, кроме коробки спичек и перочинного ножа, в кармане ничего нет. — Честно говоря, мы не всегда и рассматривали эти кляузы. Но сохраняю.
— Давайте посмотрим их, — предложил Коваль, когда председатель кооператива закончил свою тираду.
— Пожалуйста, пожалуйста, — засуетился тот, размахивая руками. Он направился к домику, приглашая подполковника следовать за ним. Там, в небольшой уютной комнатке, хранились бумаги кооператива.
Посадив Коваля возле открытого окна, Задорожный полез в старый рассохшийся шкафчик и выложил на стол целую гору папок.
— Здесь заявления, просьбы, жалобы, — он взял одну из них. — А это — прием в кооператив.
— Хорошо, — сказал Коваль. — Не буду отрывать вас от дела, я сам разберусь.
— Пожалуйста, пожалуйста. Если хотите, устраивайтесь на воздухе.
Коваль подумал, что без «Беломора» ему не обойтись, и, собрав папки, вышел на небольшую открытую веранду.
С настороженным интересом разбирал Дмитрий Иванович пыльные бумажки. Разноцветные, разноформатные, некоторые — просто листки из школьных тетрадей, был даже обрывок обоев; все они, за редким исключением, были написаны небрежно, на скорую руку. Что он здесь ищет, что найдет? Больших надежд на какие-то открытия Коваль не возлагал. И все же не исключал ни одного источника, который мог пролить свет на отношения русановских садоводов. Да и сердце подсказывало, что здесь не обойдешься без интересных сюрпризов.
Изучая заявления, Дмитрий Иванович услышал, что к председателю пришел какой-то посетитель.
— Мне нужна справка, Иван Иванович, что я член кооператива, — требовательно изложил свою просьбу невысокий кругленький человечек в майке и залатанных полотняных брюках, с бородкой колдуна-чародея. В руках он держал садовые ножницы. — Хочу в субботу повезти помидоры в Прибалтику. У меня в Риге сестра живет. Есть где остановиться.
Задорожный ушел в свою комнатку и через несколько минут вынес справку. Краем глаза Коваль увидел, что она была написана тоже на листочке, вырванном из школьной тетради.
— Иван Иванович, — обратился подполковник к председателю кооператива, когда мужичок с бородкой колдуна-чародея ушел. — Жалоб Крапивцева на Залищука я не обнаружил. Вот Залищук на Крапивцева действительно много писал. — Коваль показал на несколько бумажек, вынутых им из папки. — Чуть не каждый месяц.
— Как же так?! — забеспокоился Задорожный. — Должны быть. — На его птичьем лице отразилось искреннее изумление. — У меня ничего не теряется. Ах, да! Ну конечно… — Глаза Ивана Ивановича осветились радостной улыбкой, и он хлопнул себя по бедрам. — Так ведь не от Крапивцева эти заявления! Самийленко их подписывал, зятек его… Тут дело такое, товарищ подполковник, что Крапивцев-то не мог вступить в наш кооператив. У него и прописки киевской долго не было. Членом кооператива является его зять — Самийленко. Он все и подписывает. А фактически хозяйствует, конечно, старый Крапивцев. Это нам известно. Но мы не вмешиваемся. Дело ихнее, внутреннее, так сказать, семейное, нас оно не касается. Сам Крапивцев давно хочет купить участок, но никак не находит подходящего. На их линии все занято, а обзаводиться землей где-то за километр-два ему не с руки.
— Вот оно что, — протянул Коваль, вспомнил беседу в пивной с «Мефистофелем». Кажется, интуиция и на этот раз его не подвела. — Самийленко, говорите? Посмотрим. — И Дмитрий Иванович снова углубился в бумаги.
Через несколько минут он действительно нашел два листика: один — из школьной тетрадки, другой — половинка пожелтевшей странички писчей бумаги, на которой подробно и четко излагалось возмутительное поведение Бориса Сергеевича Залищука, участок которого стал рассадником садовых и огородных вредителей.
— Мы неоднократно беседовали с ним, — сказал Задорожный в ответ на вопросительный взгляд Коваля. — И на правление вызывали, корили, грозили исключить, но Бориса Сергеевича, земля ему пухом, нелегко было в чем-то убедить или напугать. Он сразу сам в атаку шел. Хотя и давал обещания ухаживать за землей, но никогда их не выполнял. А нам обижать его тоже не хотелось. Человек он был больной, со странностями. Предлагали продать домик, тем более что в последнее время очень бедствовал человек. Даже покупателей ему находили. Да где там! Жена вроде была согласна, а он ни в какую!
— А Крапивцев не пытался у него купить?
— Не один он! Я же говорю, покупателей было хоть отбавляй.
Коваль возвратил Задорожному папку с документами. Заявлений Самийленко он не изъял. Пока ему было достаточно познакомиться с ними и узнать, что участок, на котором хозяйничает Крапивцев, оформлен на чужое имя.
— Вы сохраните эти бумаги, — на всякий случай попросил Коваль. — И заявления Залищука. Возможно, понадобятся… Но почему они написаны рукой пожилого человека, а не молодого? — спросил он, проверяя свои наблюдения.
— Говорю же — писал их Крапивцев, а подписывал зять.
— Разве Самийленко неграмотный?
Задорожный только плечами пожал.
Попрощавшись с председателем кооператива, Коваль отправился в прокуратуру за постановлением на обыск у Крапивцева. Изучение заявлений и жалоб обоих соседей еще раз подтверждало единственную пока версию.
7
Вооружившись санкцией прокурора, Коваль снова отправился в Русановку. Мощный газик — на «Волге» проехать по песчаным дорогам было невозможно — быстро отвез Дмитрия Ивановича вместе с лейтенантом Струцем и экспертом-химиком Павловым на место. Остановившись возле высокого деревянного забора, отгораживавшего участок Крапивцева от переулка, Коваль послал Струця пригласить понятых.
Пока лейтенант ходил по ближайшим дачам, Коваль осматривал забор — зубцы его резко вырисовывались на фоне голубевшего неба. Уже во время первого осмотра Дмитрий Иванович отметил про себя, что Крапивцев беспардонно нарушает правила коллективного садоводства, по которым высоким забором отгораживать участки запрещалось.
Вскоре явился Струць с понятыми, и все двинулись по узенькой дорожке между словно бы по ниточке высаженными и аккуратно подвязанными виноградными лозами. Коваль обратил внимание, что высокий домик в глубине сада был построен тоже против устава: из кирпича, на два этажа.
— Дворец, да и только, — неодобрительно сказал лейтенант Струць, заметив, что Коваль, оглядывая особнячок, покачал головой.
Поликарп Васильевич Крапивцев явно не ждал непрошеных гостей. Да и кому приятно появление оперативной группы милиции?
По тому, как дрожала санкция прокурора в руках Крапивцева, Коваль понял, что хозяин дома в большой тревоге. Растерянный неожиданным визитом, Крапивцев жестом пригласил всех сесть на длинный, стоящий под стеной диван.
— Мы не в гости, — буркнул лейтенант Струць.
Коваль разделил группу по объектам обыска.
Вскоре в большой комнате на стол легли пачки денег, сберегательные книжки. Подполковника они особо не интересовали. Только заметил с иронией: «И все это дал огород?» Увидев, как испуганно кивнул в ответ Крапивцев, понял, что именно этого боялся хозяин.
Коваль искал следы убийства, следы еще не разгаданного экспертами яда. Лейтенант Струць и Павлов также искали это ядовитое вещество. Но если Коваль начинал обыск со сложным чувством, то у лейтенанта Струця оно было откровенное и прямое: он нашел стакан со следами отравы, сам вышел на преступника и теперь явился сюда, чтобы довести дело до конца. Бросая строгие взгляды на одетого в серую полосатую пижаму Крапивцева, он уже видел его в колонии.
И яд был найден. Его действительно не очень прятали: почти открыто стоял в сенях в литровой банке с обычной пластмассовой крышкой.
Лейтенант Струць с выражением особого удовлетворения поставил эту банку с темно-красной, почти бордовой жидкостью на стол перед Ковалем.
Дмитрию Ивановичу ретивость Струця не понравилась. Подумал, что лейтенанта еще надо воспитывать, чтобы одновременно с естественным удовлетворением при обнаружении доказательств, подтверждающих избранную им версию, у него не пропало и чувство горечи от того, что преступление произошло, что совершил его человек, по внешним данным такой же, как и все люди, как и сам он, лейтенант Струць.
Несколько граненых стаканов, находившихся в доме Крапивцева, оказались той же формы и размера, что и найденный лейтенантом в траве.
Их было четыре.
— Где остальные? — допытывался Струць.
— Там, — Крапивцев показал на красивые, из тонкого стекла стаканы в небольшом буфете.
— Нет, такие, как эти. Граненые!
Крапивцев недоуменно пожал плечами и кивнул на стол, на котором были выставлены в ряд найденные стаканы.
— Вы что, только четыре купили?
— Брали больше. Один был с настойкой от радикулита… — Крапивцев указал на банку с подозрительным зельем. При этих словах Струць насторожился, словно гончая, учуявшая зайца. — Другой разбился…
— Когда?
— Не помню. Наверное, давно.
— А тот, что с лекарством был?
— Выбросил.
— Куда, не помните?
— Нет.
— И вы не знаете? — обратился лейтенант к жене Крапивцева.
Полная, немолодая, но еще крепкая, до черноты загоревшая женщина сидела в углу на диване не шевелясь, с застывшим испуганным взглядом.
Когда Струць обратился к ней, она тупо посмотрела на него и затрясла головой.
— Не к Залищуку во двор подбросили?
На лице Крапивцева уже после первых вопросов лейтенанта появилось удивленное выражение: почему милиция интересуется какими-то стаканами, зачем поставили на стол пыльную, обернутую тряпкой банку с настоем?
Но когда Павлов освободил банку от тряпья, снял крышку и начал принюхиваться к содержимому, как кот к горячей каше, Крапивцев побледнел.
— Вы с банкой поосторожнее, — глухо проговорил он. — Лекарство кусачее, только поясница терпит. А в рот занесете, не дай бог, — беды не оберетесь…
— Что это за настой? — строго спросил Коваль.
При этих словах подполковника Струць снова воспрял духом.
Понятые напряженно следили за Ковалем и Крапивцевым.
— Да говорю же, от радикулита, поясницу натираю, когда болит. Побьешь целый день поклоны на грядке — разогнуться не можешь.
— На чем настаиваете? — спросил Павлов.
— У людей покупал. Разные корни и травы: и обвойник греческий, и крестовник, и еще какая-то пакость, не знаю точно, но жжет здорово…
— А то, что держите в доме смертельную отраву, это знаете хорошо? — строго спросил Коваль.
— Так я же ее прячу!
Подполковник еще больше напугал Крапивцева, когда спросил, где он хранит домашнее вино, в какой посуде, не в похожей ли, и не стоит ли оно у него в сенях, рядом с ядовитым настоем…
Эти вопросы удивили Струця. Он подумал, что подполковник дает Крапивцеву возможность избежать обвинения в предумышленном убийстве и объяснить отравление Залищука как несчастный случай, который произошел по неосторожности.
Однако Крапивцев или не понимал, или не хотел воспользоваться подсказкой. Упрямо твердил, что вино хранит не в таких банках, а в больших бутылях, которые никогда не держит в сенцах. Для вина, сказал он, имеется маленький, но удобный погребок под кухней, и он повел Коваля в подвал, чтобы подтвердить свои слова.
Поручив лейтенанту допросить дочь и зятя Крапивцева, которые сидели в другой комнатке, подполковник двинулся за хозяином.
Пока Струць строго расспрашивал молодых людей о стаканах и настое, в соседнюю комнату вернулся Коваль и повел дальше допрос Крапивцева. Но интересовался он вещами, казалось, далекими от конкретного дела. Разглядывая хозяина, загорелого, напоминавшего своими крепкими руками с узловатыми, почерневшими от земли пальцами большую корягу, Коваль не спешил.
Неторопливость подполковника нервировала Крапивцева, и его глубоко посаженные глаза все время испуганно поблескивали. Он молчал. Наконец, внимательно осмотрев небольшую комнатку, обставленную по-городскому, с красивым ковром на всю стену, Коваль сказал:
— Я обязан допросить вас, гражданин Крапивцев Поликарп Васильевич, в связи с отравлением гражданина Залищука Бориса Сергеевича.
Крапивцев, давясь, сглотнул подступивший ком и вцепился в столешницу.
— Да вы что! — Он растерянно посмотрел на жену, словно ища у нее поддержку и защиту, потом вскочил, тут же сел. — Да вы что?! Это я — Бориса?
— В тот вечер, возвращаясь домой после вашего угощения, гражданин Залищук упал и умер. Причиной смерти было отравление… Об этом вы знаете?
— Слышал, — еле ворочая языком, произнес Крапивцев. — Чтобы я?.. Как можно такое говорить!.. — Он даже перекрестился.
Жена Крапивцева тихо ойкнула и заплакала, сжавшись в углу дивана. Мельком глянув на нее, Коваль продолжал:
— Давайте последовательно. Расскажите о ваших взаимоотношениях с погибшим.
Крапивцев тяжело дышал, грудь ходила ходуном.
— А что сказать…
— Как вы узнали о смерти Залищука?
— Жена его, Таисия, среди ночи подняла крик, сбежались люди. Мы с соседом Миколой Галаганом понесли его в хату… Потом побежали к метро, вызвали «скорую», но было поздно…
Крапивцев все еще тяжело дышал, словно только что бежал к телефону.
— В каких вы с Борисом Сергеевичем были отношениях?
— Нормальных, — поежился Крапивцев. — Не целовались, но и не дрались.
— Ссорились?
— Это как сказать… — Крапивцев понемногу успокаивался, и голос его стал уверенней. — Я с ним не ссорился, нечего было нам делить… Правда, если хватит лишнего, любил поругать меня за то, что я на рынке торгую. Но я на это не обижался — пьяный… как голый, что с них возьмешь! Случалось, и в гости приходил, как в тот вечер… Я угощал, не скрываю, чего уж тут…
— Несмотря на то что он везде выступал против вас?
— А это он делал не от большого ума, а может, из зависти! Сейчас государство поддерживает людей, которые имеют подсобное хозяйство. Даже постановление есть. Если все двести семьдесят миллионов навалятся на государственные магазины, то и прилавки разнесут…
— Что-то я ни в одном универмаге не видел разбитых прилавков, висят себе костюмы, пальто и другие товары…
— Я о продовольственных говорю, — мрачно сказал Крапивцев. — Стыдно смотреть, когда из села едут в город не только за хлебом, потому что забыли, как его выпекать, но даже за луком, буряком, капустой… Грядку ленятся вскопать, чтоб вырастить себе эту несчастную луковичку или редиску… А на того, кто руки к земле прикладывает, поливает ее своим потом, волком смотрят, будто он вор какой… Вот и я не могу без земли, без того, чтобы в руках не подержать, комочек не размять… Сколько можно было бы на днепровских поймах и на озерах уток выращивать, а на дачах кроликов держать, поросенка завести… Так ведь запрещали… Устав садоводов, говорили, не разрешает. Дыши воздухом и цветочками, а земля пускай гуляет… Вот и покойный, пусть ему земля будет пухом, этого не понимал. И не один он. Это большая беда, что таких людей, как Залищук, от земли отлучили, лодырями сделали…
— Против ваших рассуждений возражений нет. Что землю любите, это прекрасно. Но и Залищук, как мне кажется, выступал не против хозяйствования, а против спекуляции и наживы на земле. Плохо, когда человек на земле только рубли видит…
— А кто же даром будет горб гнуть? Всякий труд должен свою оплату иметь.
— Именно свою. А не спекулятивную.
— Это с какой стороны посмотреть. Если, простите, с асфальта Крещатика, то конечно. Мне одна дамочка так и сказала: «Ваши дары полей и садов сами из земли лезут, божьей милостью, а вы такие деньги дерете!» Хотел бы я видеть, что у нее, с ее маникюром, само из земли полезет, — и Крапивцев невольно протянул свои похожие на грабли руки, потряс ими перед Ковалем. — На овощи и фрукты, простите, никто цены не ограничил, сам рынок их диктует… А у меня не просто овощи — огурцы элитного сорта «росинка», помидор «пионерский», лук-порей, в котором больше всего витаминов… А вы были на участке Залищука? — вдруг метнул из-под бровей взглядом Крапивцев. — Видели, что у него там растет? Сорняк отборный… Я не торгаш, не спекулянт, чужой труд не пользую, а Борису Сергеевичу мои грядочки и яблоньки глаза выели… Зависть — и все… Я вот думаю, что…
— Ну, хорошо, — перебил его Коваль, — вернемся к нашим баранам. Расскажите о последней встрече с Залищуком.
Крапивцев поперхнулся на полуслове.
— О каких баранах говорить?
— Это такая пословица, — пояснил Коваль. — Означает, что вернемся к нашим делам. Меня интересует тот вечер…
— Ага. Притащился Борис уже под мухой… Я знаю, что, когда он подвыпьет, от него не просто отвязаться. Ну, поставил вино, закуску.
— А вино, которое пили, осталось?
— Из графинчика наливаю.
— Где он?
Крапивцев поднялся и достал из буфета простенький графинчик. Коваль посмотрел содержимое на свет: на дне виднелся красный осадок.
— Возьмем на анализ, — сказал подполковник. — Вы тоже с ним пили?
— Пустяк, чтобы скандала не было.
— Только вдвоем выпивали?
— Зятя к вину не допускаю, а жена, — он кивнул в сторону дивана, где сидела перепуганная женщина, — в рот не берет.
— Больше ничего не пили?
— Только это. Самодельное… В магазине не покупаю.
— Борис Сергеевич много выпил?
— Да нет, он уже и так был тепленький…
— Зачем же вы его угощали?
— Иначе не отвяжешься… Пускай, думаю, беда спит.
— Вот и заснул… Навсегда. — Коваль потер бровь, которая вдруг зачесалась. — Так сколько же выпил у вас Залищук?
— Один или два стакана. Точно не помню…
— Как он себя чувствовал, когда уходил?
— Для него нормально.
— То есть как «нормально»?
— На ногах держался, хотя и не твердо…
— Почему не проводили?
— Я сам чуть выпил. Да и сколько тут идти… Рядом, можно сказать.
— Могли бы до межи проводить…
— А он пошел кругом, переулком, спьяну через проволоку не переволокся бы… Да я и не пустил бы его топтаться по грядкам… — И вдруг в глазах Крапивцева загорелась надежда. — А может, он еще где-то побывал после меня?.. Друзей по рюмке у него хватает.
— Когда он ушел от вас?
— Я на часы не смотрел. Таисия не скоро крик подняла. Не иначе блуждал где-нибудь…
Коваль вспомнил выводы экспертизы о времени смерти Залищука и решил допросить членов семьи Крапивцева, чтобы уточнить это.
Лейтенант Струць, так ничего толком и не добившись у молодых людей, пришел в комнату, где Коваль допрашивал Крапивцева, и уселся на диван рядом с женой хозяина.
Обыск и допросы кончились тем, что были изъяты банка с настойкой и графинчик со стаканами. Требовалось провести экспертизы и установить, идентичен ли найденный во дворе Залищука стакан с остальными.
У Крапивцева Коваль взял подписку о невыезде, хотя Струць считал, что следовало бы арестовать подозреваемого. Он даже намекнул об этом Ковалю, когда они вышли во двор: мол, Крапивцев может скрыться.
— Арест, — сказал Коваль, — мера самая строгая. Тут необходимо особенно скрупулезно придерживаться законности, Виктор Кириллович, и без крайней нужды не прибегать к задержанию. Никуда Крапивцев не убежит… Из большой тучи хотя бы малая капля, — добавил он, словно подытоживая сегодняшнюю операцию. В душе Коваль остался доволен допросом Крапивцева, о чем лейтенанту Струцю пока знать было необязательно.
8
Изучая людей, которые встречались с Борисом Залищуком в тот трагический вечер, Коваль предложил допросить и гостей Таисии Григорьевны — миссис Томсон и ее дочь Джейн. Следователь Тищенко, не любивший усложнять себе жизнь, предпочел, чтобы эту «приятную миссию» взял на себя подполковник. Прямого отношения к событию в семье Залищуков англичанки вроде не имели — приехали недавно, Таисию нашли не сразу, а Бориса Сергеевича и вовсе не знали. Главное, не были связаны с этой семьей теми нитями каждодневного быта, который определяет всю гамму людских взаимоотношений — от любви до всепоглощающей ненависти. Но поскольку они в тот вечер гостили на даче, Коваль, по поручению прокурора, должен был допросить и их…
Миссис Томсон встретила Дмитрия Ивановича испуганно и недоброжелательно. Открыв дверь, она едва кивнула в ответ на приветствие Коваля, не пригласила войти и стояла перед ним — неподвижная, высокомерная.
— Мне нужно с вами поговорить, миссис Томсон, — спокойно сказал Дмитрий Иванович, предъявляя свое служебное удостоверение. — Подполковник милиции Коваль.
— Какое дело у полиции ко мне? — сердито спросила миссис Томсон. — Я не нарушила ваших законов. — Но глаза у нее так и бегали.
— Милиция, а не полиция, — поправил ее Коваль. — А дело к вам есть.
Миссис Томсон недовольно пожала плечами, но все же пропустила его в номер, указала на кресло.
Давая миссис Томсон возможность собраться с мыслями, Дмитрий Иванович по привычке оглядел большую гостиничную комнату: два широких окна и полуоткрытую дверь на балкон, через которую вливался приглушенный шум города, большие, в тяжелых рамах, картины на стенах и толстый ковер на весь пол…
— Мне необходимо, миссис Томсон, знать все о том вечере, когда умер Борис Сергеевич Залищук. Есть подозрение, что произошло убийство. Я вынужден допросить вас в качестве свидетеля…
— Допрашивать? Меня? — Глаза ее были полны недоумения. Когда-то голубые, а теперь поблекшие, молочно-светлые, окаймленные не по годам длинными черными ресницами, они на миг словно остекленели. И Коваль никак не мог понять: наклеенные у нее ресницы или нет. — Но я же гость! Подданная ее величества королевы Великобритании! — растерянно крикнула миссис Томсон и тоже опустилась в кресло.
Ковалю почему-то захотелось бросить язвительную реплику, но он сдержался и только кивнул:
— Это нам известно. Согласно статье третьей уголовно-процессуального кодекса нашей республики, действия его распространяются и на иностранных граждан… Мы не пригласили переводчика на английский, поскольку ваш родной язык — украинский. Но имеете право потребовать…
— Не буду причинять вам лишние хлопоты, — махнула она рукой. — Украинский и правда мой родной язык.
Коваль подумал, что он сейчас держится с этой бывшей девушкой с Киевщины как дипломат. Ему нужно было, чтобы приобретенные с годами чужие манеры в далеком краю, предрассудки слетели бы с нее как шелуха и она заговорила бы с ним открыто и сердечно. Понимал, что добиться этого будет нелегко, но иначе ему не на что надеяться.
— Убийство? — побледнела миссис Томсон. — Какой ужас!.. Но я-то какое имею к этому отношение?
Ковалю показалось, что миссис Томсон успокоилась, когда узнала, что милицию к ней привела лишь смерть мужа сестры. Он раскрыл свою папку, потемневшую в тех местах, где держал ее руками, вынул бумагу и ручку и начал заполнять бланк протокола допроса.
— Как по паспорту сейчас ваше имя? Когда-то вы были Катериною, Катериной Григорьевной. А теперь?
Миссис Томсон почувствовала в тоне подполковника нотки упрека, но не показала этого. Она нерешительно поднялась, направилась в другую комнату, долго копалась там, пока наконец не вернулась с сумочкой. Открыла ее и положила перед Ковалем развернутый паспорт.
— Муж мой, Вильям Томсон, звал меня Кэтрин, Кэт. Так и осталась. А в Германии… Вам, наверно, известно, что меня туда насильно вывезли во время войны… — Миссис Томсон настороженно посмотрела на Коваля, и тот понял, что она все время боялась, уж не по этому ли поводу явился подполковник милиции. — В Германии меня перекрестили в Катарин.
Посмотрев в паспорт, Коваль записал анкетные данные миссис Томсон, в девичестве Катерины Притыки.
Пока Коваль писал, миссис Томсон молча сидела в кресле, поджав губы. Было неприятно чувствовать себя в роли допрашиваемой. И правда, какое она имеет отношение к этой ужасной истории? В конце концов, это их дело. А может, подполковник милиции все-таки имеет в виду что-то другое? И только для отвода глаз начал разговор о смерти мужа Таисии? Нет, бояться ей нечего. Она не совершила никакого преступления на этой земле перед тем, как ее угнали немцы… А то, что ее вывезли на Запад и она вышла замуж за Томсона, — можно ли за это винить?..
Подполковник окончил писать и сухо сказал:
— Германия меня не интересует. — Он заметил, как при этих словах миссис Томсон ободрилась. — Если позволите, я буду называть вас Катериной Григорьевной?
Ему хотелось добавить, что никто не собирается ее преследовать за то, что она в свое время не вернулась на родину, но промолчал.
Миссис Томсон, чей покой был неожиданно нарушен приходом Коваля, уже несколько поутратила свой горделиво-неприступный вид и согласно кивнула.
— Так вот, Катерина Григорьевна, расскажите подробно все, что вы помните о том вечере на даче.
Не торопясь с ответом — в таких случаях всегда тяжело начинать разговор, — она сказала:
— Наверное, вы уже знаете, я приехала сюда разыскать свою сестру. И безмерно счастлива, что нашла: кроме нее, у меня нет ни одного родного человека: родители умерли, а братьев и сестер, кроме Таисии, не было.
— А дочка и сын? — осторожно напомнил Коваль.
— Ну, дети — само собой, — ответила миссис Томсон. — Но это не родственники, это моя семья. Когда нашла Таисию, очень обрадовалась. Несколько раз мы с Джейн были у нее на квартире. И дважды, нет, трижды — на даче. Дача, правда, на курьих ножках, из досок и фанеры сколочена. Но сестра и ее покойный муж, земля ему пухом, — миссис Томсон перекрестилась и набожно подняла глаза вверх, — так ее любили, что жили там с весны до глубокой осени. И действительно, милый дикий уголок природы.
— И вот вы приехали второго августа в гости к сестре на эту дачу, — направил Коваль беседу.
— И вот я приехала второго августа на дачу, — повторила миссис Томсон.
— Одна?
— Нет. Но без Джейн. В тот день мы не собирались к Таисии. Дочь вообще не испытывает симпатии к «нашим дорогим родственникам», как она говорит, и поехала на пляж. А мне чуточку нездоровилось.
— Дочь оставила вас одну, больную?
— Ничего страшного. Я была не так больна, чтобы требовалась сиделка. Я ведь немного полежала в вашей больнице. К слову, я восхищена высоким уровнем здешней медицины. Совсем не то, что видела девчонкой в своих Криницах. — Коваль понимал, что это было утонченное, чисто английское умение польстить. — Да и девочке хотелось доставить удовольствие. Она любит поплавать. При жизни Вильяма мы позволяли себе раз в году — хотя и не в «бархатный» сезон, когда очень дорого, — отдыхать на юге Франции или в Италии. В наших реках купаться нельзя. Темза куда грязнее и холоднее Днепра…
Коваль покачал головой:
— Но вы, говорят, вызвали дочь из Лондона, так как заболели, делали операцию и нуждались в уходе.
Миссис Томсон сначала сделала вид, что не расслышала замечание Коваля. Потом сказала:
— Просто соскучилась. И хотела показать ей свою родину… Когда Джейн в тот вечер отправилась на пляж, я неожиданно почувствовала себя лучше, и мне стало грустно одной. А тут заглянул наш земляк, доктор Андрей Воловик. Он уговорил меня погулять. Мы зашли в магазин, купили вино, конфеты, сели в такси и поехали к Таисии.
— А сестра к вам в гостиницу приезжала?
— Несколько раз. И сама, и с Борисом Сергеевичем, — миссис Томсон снова перекрестилась. — Но в тот день мы не думали встречаться… Я даже пожалела, что поехала, на даче мне снова стало нехорошо. Но со мной был врач, и все обошлось.
— Так, — сказал Коваль. — Значит, купили вино, конфеты и поехали на дачу. Что было дальше?..
— Таисия с мужем были дома. Сестра очень обрадовалась мне.
— А Борис Сергеевич? — поинтересовался Коваль.
Миссис Томсон на миг задумалась, закрыла глаза, словно припоминая подробности.
— Борис Сергеевич, кажется, тоже обрадовался, но не столько мне, сколько бутылкам вина, которые я достала из сумки.
— Он относился к вам недоброжелательно?
— Гм… А, собственно, чему там радоваться? Я для него человек чужой, и мое вторжение было неожиданным и не очень для него приятным. Таисия обо мне ничего не знала, так же как и я о ней, и примирилась с мыслью, что я погибла в Германии, не вспоминала меня. А тут сначала я, а потом и Джейн, как снег на голову, нарушили их привычный ритм жизни… Я говорю о Германии, но вы же не знаете моей истории.
— Кое-что слышал от вашей сестры.
— Ах, какое это имеет значение! Борис Сергеевич даже ревновал Таисию ко мне. Ведь он ничего ей не дал в жизни. Боюсь утверждать, но из-за него она погубила свою карьеру, он стал ее злой судьбой… А тут приехала я. И сестра потянулась ко мне, как к спасательному кругу…
Миссис Томсон разговорилась, и с нее, как чешуя под скребком, стала слетать напускная горделивость и приобретенная английская сдержанность. Этому способствовало и то, что уравновешенный, с первой проседью в поредевших волосах подполковник, в далеко не новом коричневом костюме, не был назойливым, как английские полицейские, не спрашивал о прошлом и не укорял за то, что в свое время она не вернулась на родину. Миссис Томсон сама не узнавала себя: откуда слова брались! Но сдержаться уже не могла.
Коваль понимал ее состояние. Первый страх прошел. Так бывает, когда вдруг ослабевает тревога, натянутые нервы резко расслабляются и лишь активность — все равно какая — способна снять душевный стресс… Появляются чрезмерная болтливость и излишняя суетливость…
— Не могу смириться с тем, что сестра опустилась, — горячо говорила миссис Томсон. — Жизнь, конечно, не баловала их, и была у них общая обида на несложившуюся судьбу, у каждого — свою… И эта общая обида равняла их и притягивала. Они дорожили таким отношением, укрывались от нелегких жизненных проблем в одну скорлупу. Они жаловались на своих недругов, и враги одного становились врагами другого. Понимали и сочувствовали друг другу, как никто… Быт у них был, как вы могли видеть, не самый лучший. Из рассказа Таисии и собственных немногих наблюдений я поняла, что она заботилась о своем Борисе, как о малом ребенке, и он принимал это за должное. Целыми днями от нечего делать перебирали свои воспоминания, которые становились особенно яркими после выпитого вина. Они никому не мешали, и им никто не мешал. Жили тихо, и, возможно, в глубине души у каждого теплилась надежда на чудо, которое возвратит Таисию на сцену и Борису Сергеевичу поднесет какой-нибудь подарок…
У Коваля вскинулись брови: «никому не мешали?!» Хотя откуда миссис Томсон могла знать о неспокойной душе Бориса Залищука, о его борьбе за справедливость: такую, какой, по его мнению, она должна быть; о его колючем, нетерпимом характере, благодаря которому Залищук «заливал сало за шкуру» соседям по даче, и больше всех — Крапивцеву.
— Да, да, надежда всегда живет в человеке, — повторила миссис Томсон, не поняв иронии на лице Коваля. — Другое дело, что они лишь мечтали о подарке судьбы. В глубине же своей души каждый из них понимал, что Таисия уже никогда не выйдет на сцену, а Борис Сергеевич, отвыкший от служебных обязанностей, никогда не пойдет ни на какую работу. А тут появилась я, потом Джейн, словно инопланетяне, которые нарушили мир и спокойствие в их земном доме… И пошли круги… Так бывает, когда в тихую заводь падает камень… Мне кажется, что Бориса Сергеевича мое появление не обрадовало, и поэтому он сразу невзлюбил меня.
Отдавая должное ее проницательности — миссис Томсон более или менее правильно охарактеризовала Залищуков, — Коваль все же ждал конкретного рассказа о вечере второго августа. Заметив его недовольство, она поспешила продолжить:
— Потом неожиданно появилась Джейн. Я удивилась.
— Значит, «дорогие родственники» были не такие уж нелюбимые, — заметил Коваль, что-то записывая в протокол. — Я слушаю…
— Таисия сказала Джейн: «Смешай воду с вином, это хорошо утоляет жажду». «Коктейль! — засмеялась Джейн. — Они-то меня и вспоили. А не молоко!..» Сумасшедшая девчонка!.. Выпили две бутылки вина, принесенные мной с доктором. Борис Сергеевич сбегал еще за одной бутылкой.
— О чем вы говорили?
— Обо всем и, кажется, ни о чем. — Миссис Томсон стала припоминать. — Я рассказывала о жизни в Англии, обещала пригласить в гости сестру…
— И как отнеслась к этому Таисия Григорьевна?
— А как можно отнестись к такому приглашению? — вопросом на вопрос ответила миссис Томсон. — Не поехать к сестре, не увидеть мир и не обрадоваться, что теперь не забуду ее! И знать, что стану заботиться о ней…
— А Залищук?
— Я ведь сказала — странный он человек. — Миссис Томсон на миг задумалась, ее молочно-светлые глаза потемнели. — Борис Сергеевич неожиданно разгневался. Заявил, что никогда не отпустит Таисию, а говорить, мол, о деньгах и завещании вообще нехорошо при живых людях. Бурчал, что на Западе негодные порядки, когда ждут смерти близкого человека, чтобы получить наследство.
— Почему он так разгневался?
— По-моему, все очень просто. Борис Сергеевич незаконный муж Таисии, и пригласить его вместе с ней в Англию я не смогла бы, даже если бы и хотела. А сестра, получи она деньги, наверное, сразу бы рассталась с ним, потому что деньги открыли бы ей дорогу на сцену…
Коваль иначе понял слова Бориса Сергеевича, и его чувство симпатии к погибшему еще больше возросло.
— Вы совсем забыли нашу жизнь, — вздохнул подполковник. — Не деньги дают человеку путевку в искусство…
— Вы меня неправильно поняли, — начала оправдываться миссис Томсон. — Я имела в виду, что Таисия стала бы лучше питаться, хорошо одеваться, вид другой был бы… Она еще не старая… Если не широкий путь, то хотя бы тропиночка ей открылась…
— Впрочем, вернемся к нашим баранам, — не удержался от своей любимой присказки Коваль. — О чем еще беседовали в тот вечер на даче?
— Кажется, больше ни о чем.
— Залищук принес бутылку вина…
— Ее тоже распили. Правда, я лишь пригубила. После нескольких капель меня стала мучить изжога, бог знает, сколько воды выпила, пока избавилась от нее. Джейн и Андрей Гаврилович тоже только пригубили. Остальное выпил Борис Сергеевич, и Таисия немного…
— Бутылка была запечатана? Не помните?
— Я еще удивилась, как ловко он вытащил пластмассовую пробку.
— А что было на столе, какие продукты?
— Только конфеты и шоколад…
«Это верно, — мысленно согласился Коваль. — В желудке Залищука эксперты обнаружили только остатки шоколада…»
— Значит, никто ничего не ел… — подытожил он. — А что было потом?
— Потом Джейн захотелось пойти снова к реке. Знаете, Таисия ловит рыбу лучше любого мужика. Часами может сидеть с удочкой. Она и Джейн мою научила… Я устала от поездки в застолья, вышла со всеми на улицу и попросила Андрея Гавриловича отвезти меня в город. Вскоре он поймал такси, и мы уехали.
— А Борис Сергеевич?
— Остался на даче… Больше я его в живых не видела. — Миссис Томсон подняла вверх глаза, словно собиралась кого-то увидеть на потолке.
— Посторонних людей в этот вечер у Залищуков не было?
— Если не считать посторонним нашего земляка-доктора… то никого.
— Даже на минутку никто не заглядывал?
— Нет.
— Когда Джейн вернулась в гостиницу?
— Не помню, но поздновато.
— А как она отнеслась к вашему плану пригласить Таисию Григорьевну в гости?
— Никак… Джейн всегда говорит, что у меня от слов к делу — большое расстояние.
— Хорошо, — Коваль закончил писать. — Если что вспомните — позвоните, пожалуйста, мне. — Он положил перед миссис Томсон небольшой бумажный квадратик с номером своего служебного телефона.
— Ах, — махнула она рукой и поднялась, давая понять, что все рассказала. — Я уже устала от этой истории. И надо же было приехать в такое время! Тридцать лет собиралась и вот выбралась… Слава богу, скоро все кончится.
Коваль тоже поднялся и стоя пододвинул листы протокола:
— Подпишите.
Подождав, пока миссис Томсон подпишет, он спросил:
— Значит, вы собираетесь домой?
— Да, пора.
— К сожалению, должен огорчить вас. Я бы очень просил вас на некоторое время задержаться.
— Почему? — глаза миссис Томсон округлились так же, как при неожиданном появлении в ее номере подполковника, и так же остекленели. — Почему? — повторила она упавшим голосом.
— Потому, Катерина Григорьевна, — Коваль старался придать своему голосу самые доброжелательные оттенки, — что вы — свидетель и, пока не закончится расследование, должны быть здесь.
— Но я ведь больше ничего не знаю! Я все сказала! — возмущенно вскрикнула она. — Я буду жаловаться… У меня дома дела, мастерская, у Джейн — помолвка!.. И сколько этот произвол может продолжаться? — уже тише спросила миссис Томсон.
— Это не произвол, Катерина Григорьевна. Сейчас я не могу сказать, когда окончится расследование. Тем более что до вашего предполагаемого отъезда еще есть время. Наберитесь терпения. В определенной степени сроки расследования зависят и от вас… От вашего стремления помочь нам… Постарайтесь припомнить все, даже самые незначительные детали вашего посещения дачи в тот вечер… Мы со своей стороны тоже будем стараться выяснить все как можно быстрее.
Миссис Томсон прижала ладони ко лбу, словно у нее вдруг появилась мигрень.
— Я должен поговорить еще с вашей дочерью, — добавил Коваль. — Жаль, что ее сейчас нет.
— Хотя бы ребенка пожалели! Зачем ее допрашивать?! Что она знает? Допрос будет травмировать ее.
— Это необходимо для установления истины, — подчеркнуто сказал Коваль. — Нам не обойтись без беседы с вашей дочерью.
— Что устанавливать? Таисия сказала, что все известно: Бориса Сергеевича отравил их сосед, из мести.
— Возможно, ваша сестра и знает, кто преступник, но мы этого не знаем, — иронически заметил Коваль. — Кстати, вы познакомились с этим соседом, с Крапивцевым?
— Близко — нет. Видела его на похоронах и даже поговорила. Подошел ко мне, представился. Такой плотный, коренастый дядька, мечет взглядом исподлобья. Все суетился, командовал на похоронах на правах друга семьи… Таисия была не в себе… А я… что могла я тут сделать… Я ведь ничего не знаю… ни порядков, ни людей… Крапивцев не понравился мне: слишком вкрадчивый и назойливый… Извините! — вдруг оборвала она себя на полуслове. — Мне что-то нехорошо. Я пойду лягу.
Коваль сложил бумаги в папку и уже направился к двери, как в комнату вдруг быстро вошла Джейн, держа в вытянутой руке конверт.
Увидев незнакомого человека, она сдержала восклицание, которое, казалось, уже было у нее на устах, и медленно опустила письмо в полотняную, размалеванную какими-то химерами торбочку.
— Это моя Джейн, — поспешно сказала миссис Томсон. — А наш гость, — она повернулась к дочери, которая подошла к окну, — Коваль Дмитрий Иванович, инспектор из милиции… Он хочет с тобой поговорить.
— О! Оригинально! Гости из полиции! — воскликнула Джейн, удивленно взглянув на Коваля, на его старый коричневый костюм в полоску, и, тут же, казалось, забыв о нем, снова обратилась к матери: — Получила письмо от Генри. Он требует, чтобы я немедленно возвращалась…
— Джейн, мы не можем этого сделать, — сказала миссис Томсон и посмотрела на Коваля.
Дмитрий Иванович тем временем с интересом разглядывал худощавую, довольно милую, с правильными чертами матово-смуглого лица девушку, с короткой, как у матери, прической «под бэби» и темными, чуть продолговатыми глазами, которые приятно контрастировали с крашеными белыми кудрями. Она не была похожа на мать, и Коваль подумал, что ее отец, Вильям Томсон, явно унаследовал от своих предков во времена владычества английской короны в Индии и других странах примесь азиатской крови.
— Как это не можем?! — Джейн непонимающе переводила взгляд с матери на Коваля и обратно.
— Вы, мисс Томсон, свидетель в деле по отравлению гражданина Залищука, — спокойно произнес Коваль. — Я веду дознание, и пока оно не кончится, ваше присутствие здесь необходимо. И вашей мамы тоже.
— Это безобразие! — Джейн даже притопнула ногой. — Какое мы имеем отношение ко всем вашим историям, к этим Залищукам! Разбирайтесь, сколько хотите, а мы должны ехать!
— Успокойся, Джейн. — Миссис Томсон подошла к дочери и обняла ее за плечи. — Все будет хорошо. У нас еще есть время до отъезда согласно визе. И будем надеяться, что… — Она на миг замялась, не зная, как назвать подполковника, — что мистер Коваль быстро справится с этим делом. Для этого он и пришел сегодня.
— Думаю, что вы поможете мне во всем разобраться, — негромко, но твердым тоном сказал Дмитрий Иванович, — и тогда спокойно уедете домой. Неужели вам безразлично, кто обездолил вашу родственницу?
— Абсолютно! — возмущенно вскрикнула девушка. — У тебя, возможно, есть время интересоваться этим, — сердито повернулась она к матери. — А у меня нет! Меня зовет Генри, и я должна ехать. — Она сунула матери письмо. — Читай! Да и мистер Гемп не простит мне долгого отсутствия.
— Ну, мистер Гемп может и подождать. Там ведь тебя заменяют.
— Он привык диктовать только мне.
Подчиняясь вежливому жесту Коваля, девушка опустилась в кресло.
— Мы немного побеседуем, — сказал он, — и все выясним. — Дмитрий Иванович снова сел за журнальный столик, спросив, не желает ли мисс Томсон пригласить переводчика. Нет, переводчик не требуется — мать научила ее языку своего детства.
— Но что я, по-вашему, преступница?! — Джейн чуть ли не вскакивала из кресла.
— Нет, вы не преступница. Я побеседую с вами, как с человеком, который находился в обществе погибшего перед его смертью, то есть свидетелем.
Миссис Томсон, собиравшаяся было уйти в спальню, осталась в гостиной. Она только попросила Джейн дать ей воды и выпила лекарство. В комнате резко запахло валерьянкой.
Записав анкетные данные Джейн Томсон, Коваль спросил:
— Когда вы второго августа уехали от Залищуков? В котором часу?
— Какого августа? — лицо девушки все еще сохраняло раздраженное выражение.
— Второго.
— Разве я помню?
— В тот вечер, когда умер Борис Сергеевич Залищук.
— Я не знаю, когда он умер: я там не присутствовала.
— Разве от вас это скрыли? — Коваль с легкой иронией посмотрел на девушку.
— Я на часы не смотрела. Какое это имеет значение?!
— А что вы делали до этого? — невозмутимо продолжал Коваль, будто и не замечая раздраженности Джейн.
— До чего «до этого»?
— До того, как возвратились в город.
— Купалась. Потом ловила рыбу! Пошла с Таисией Григорьевной, когда мама поехала в гостиницу. Сколько еще будете меня допрашивать?! — глаза у Джейн зло засверкали, и вся она стала похожа на разъяренную кошку.
— Отвечай, Джейн, — снова попросила миссис Томсон, — тебе нечего бояться. Так нужно. — Она понимала, что не следует противиться закону, и не хотела усложнять отношения с настойчивым инспектором милиции. — Я прошу тебя… — повторила миссис Томсон, касаясь плеча дочери. — Тебе следует ответить на все вопросы подполковника… Она у нас такая нервная и впечатлительная, — обратилась миссис Томсон к Ковалю. — Дитя войны, а тут еще Генри зовет, любовь… — Она уже успела пробежать глазами письмо. — Молодежь пошла такая нетерпеливая, чуть что — уже мировая катастрофа.
Дмитрий Иванович приметил первые следы будущих «гусиных лапок» вокруг глаз девушки. Хорошенькая, грациозная, на вид младше своих тридцати лет, она уже страдала от затянувшегося девичества, и помолвка с Генри казалась ей сейчас спасением. Подарком судьбы. И всякому, осмелившемуся ей помешать, готова была перегрызть горло.
Просьба матери и твердость Коваля в конце концов подействовали. Джейн напоминала чем-то мяч, из которого понемногу выпускали воздух. Утонув в кресле, она вдруг тихо и миролюбиво, слабым голосом произнесла:
— Ну, пожалуйста, спрашивайте, спрашивайте…
— Что вы делали на даче Залищуков после того, как ваша мать поехала в гостиницу?
— Я уже сказала, рыбу ловила, вместе… — Джейн никак не могла произнести слово «тетка», — вместе с маминой сестрой.
— И много поймали?
— Пять или шесть окуньков.
— А ваша тетка? То есть мамина сестра?
— О, она настоящий рыболов! Полный полиэтиленовый мешочек.
— Потом вы поехали в город? Или заходили на дачу?
— Заходила.
— Кого вы там видели?
— Кроме Таисии Григорьевны — никого.
— Бориса Сергеевича не было?
— Нет.
— А может, вы плохо рассмотрели?
— Правда, уже темнело, когда я вернулась. Я надела босоножки, костюм и сразу поехала.
— В котором часу?
— Кажется, около десяти.
— На Днепр вы пошли вместе с вашей теткой Таисией Григорьевной?
— Ну конечно.
— И возвратились вместе с ней?
— Да.
— Все время рыбачили, никуда не отлучались?
— Нет.
— И ваша тетка тоже все время была рядом?
— Она один раз ходила домой.
— Надолго вас оставляла?
— Нет, ненадолго.
— Как же вы отпустили мать одну в город, ведь знали, что она неважно себя чувствует?
Джейн промолчала. Миссис Томсон умоляюще посмотрела на Коваля:
— Нам сразу попалось такси, со мной поехал доктор Воловик, он проводил меня до гостиницы. Так что я обошлась без Джейн.
Будто не услышав этих слов, Коваль пробурчал:
— Я думаю, дочке следует ухаживать за больной матерью, а не перепоручать это чужим людям… В тот вечер вы явно не спешили, если вернулись поздно.
— Разве в санкции вашего прокурора сказано, что вы имеете право читать мораль? — ехидно спросила Джейн.
— Это позволяет мой возраст, — ответил Коваль. — Значит, когда вернулись с Таисией Григорьевной на дачу, Залищука там не было?
— Говорю же — не было.
— А когда ваша тетка отлучалась на дачу, он там был?
— Откуда мне знать? Наверное, был, потому что, вернувшись, она сказала: «Ох, этот Борис! Всю душу вымотал!» Видно, поссорились. Но я не стала расспрашивать. Мне до этого нет дела!
Коваль закончил писать протокол, дал прочесть и подписать его Джейн.
— Теперь мы сможем уехать? — снова раздраженно спросила Джейн. — Я все рассказала. И мама тоже. — Она подождала, пока мать кивнет. — Что еще?
— Пока только одно: оставаться в Киеве до конца следствия.
— Скажите хотя бы, через сколько дней все это кончится?
— Этого и я не знаю. До свидания! — И Коваль направился к двери.
9
Солнце пекло, и Дмитрий Иванович пожалел, что надел гражданский костюм с непременным галстуком, который сдавливал шею. Автобус шел из заводского района и был битком набит. И хотя Коваль сел на конечной остановке и занял место в свободном углу, его все равно толкали.
От Святошино автобус, постанывая мотором, тащился по раскаленному асфальту, время от времени покачиваясь, как усталый человек, который еле ступает тяжелыми, набрякшими ногами…
Дмитрий Иванович расстегнул верхнюю пуговку рубашки и немного отпустил галстук. Стало легче, мысли вновь возвратились к делу, ради которого он приезжал на завод, где работал когда-то Залищук. Перед глазами вставала жизнь человека, которого в быту называют «неудачником».
Чуть ли не полдня провел Коваль на небольшом заводе металлоизделий, где начальником ОТК долгое время был Залищук. Его здесь хорошо знали и помнили. Многие из бывших сотрудников провожали Бориса Сергеевича в последний путь. Местком выделил денежную помощь на похороны… И все же…
В обеденный перерыв Коваль заглянул в цех.
— Съели человека, — мрачно сказал пожилой мастер с такими же топорщившимися бровями, какие подполковник видел на фотографии Бориса Сергеевича. — Сорвался с колес…
— Никто ему не виноват, — вмешался в разговор какой-то рабочий, дожевывая бутерброд и запивая кефиром. — Что значит «съели»?! А ты не давайся!
— Уж как Борис не давался! Он и кусал первым, только зубы у Кныша были острее.
Мрачно посмеявшись, люди стали проявлять повышенный интерес к своим сверткам с едою.
Коваль понял, что речь идет о директоре завода, с которым постоянно воевал Залищук.
— Кто знает, что там у них с Кнышем было, какая коса на какой камень нашла, — сказал молодой рабочий. — Залищук был хорошим человеком, иногда набросится, выругает, но за дело. Если неправ, подойдет потом и буркнет: «Ты не очень сердись, знаешь, бывает».
Мужчины один за другим поднимались и возвращались к своим рабочим местам. И вот уже в цеху стал нарастать шум моторов, который постепенно перешел в ровный плавный гул.
Коваль отправился в заводское управление. Конечно, он был далек от мысли, что директор завода чем-то воздействовал на трагическое событие, происшедшее в Русановских садах. Однако в каждой трагедии есть факторы, которые зарождаются задолго до нее, ведут свое начало от забытых мелочей и только со временем дают горькие плоды. Так маленькая царапина спустя время может вызвать тяжелую болезнь. Вспоминая историю управляющего трестом Петрова-Семенова, который почти тридцать лет жил по чужому паспорту, являясь на самом деле убийцей, Коваль не хотел оставлять сейчас что-либо без внимания в жизни Залищука.
Директор завода Кныш и впрямь чем-то напомнил Петрова-Семенова. Нет, не внешностью: он был невысок, черняв — как говорится, если и хлебный кныш, то довольно подгорелый! — с худощавым, вытянутым лицом. Однако разговаривал он столь же категорично, как и тот управляющий трестом, не задумываясь делал выводы и объявлял их непререкаемым тоном. По поводу Залищука сказал несколько сочувственных слов, посожалел, что хороший в принципе инженер не ужился в коллективе и в конце концов спился. И напрямик спросил, что еще нужно от него милиции. Он спешил закончить неприятный разговор и не скрывал этого.
Поинтересовавшись, не было ли у Залищука на заводе открытых врагов и не приходил ли он сюда после увольнения, Коваль увидел, что откровенной беседы с директором не получается, и вскоре покинул его просторный кабинет, затененный от солнца старомодными тяжелыми портьерами.
История конфликта Бориса Сергеевича с директором завода и его окружением понемногу все же прояснилась. Хороший знаток технологии производства, Залищук совершенно не задумывался над технологией человеческих взаимоотношений и действовал резко, будто нарочно напрашиваясь на беду.
Конфликт вспыхнул, когда начальник ОТК инженер Залищук задержал большую партию бракованных шестерен.
Доложили Кнышу. Был конец квартала, план «горел». Директор позвонил в отдел техконтроля и потребовал, чтобы шестерни пропустили.
Залищук не согласился.
Директор вызвал его к себе и с металлом в голосе сказал:
«Вот что, Борис Сергеевич, так мы с тобой не сработаемся».
Залищук уперся.
Рабочим сказали: «Виновник того, что завод не выполнил план и вы не получили премию, начальник ОТК».
Залищук написал в министерство письмо об очковтирательстве, приписках на заводе.
Директорские подхалимы начали травить инженера. И это при взрывном характере Бориса Сергеевича! Теперь Залищук ходил в «кляузниках». На него посыпались взыскания.
В ответ он еще больше усилил технический контроль за качеством продукции. Никаких скидок! Может, в порыве и переборщил. Написал разоблачительное письмо в народный контроль.
Председатель профкома пригласил инженера Залищука и от имени директора завода потребовал дать обязательство не писать больше «кляуз». Иначе профком даст согласие на увольнение. Борис Сергеевич вспыхнул, нагрубил и хлопнул дверью.
Через несколько минут в отдел позвонил главный инженер завода:
«Борис Сергеевич, мне сказали, что вы на работе пьяный и скандалите».
Залищук сначала растерялся.
«Кто сказал?!» — наконец спросил он.
«Директор».
Едва сдерживая гнев, набрал телефон Кныша. Спросил, до каких пор тот будет издеваться.
В ответ получил категорическую рекомендацию пройти обследование в поликлинике для определения степени опьянения.
Сцепив зубы, пошел «дуть в трубку». Получив справку, что опьянения не обнаружено, Залищук помчался в дирекцию.
Секретарша не пускала его к Кнышу, но он оттолкнул ее и ворвался в кабинет.
Швырнув справку, он так припечатал ее кулаком, что на столе треснуло толстое стекло.
На крик директора в кабинет сбежались люди, схватили Залищука за руки, и Кныш попросил вызвать милицию.
Угрожая уголовным преследованием за хулиганство, инженера вынудили подать заявление об увольнении.
Имея небольшую военную пенсию, Борис Сергеевич уединился на своей даче, стал заливать обиду дешевеньким вином. Если бы не встреча с Таисией Григорьевной, которая внесла определенное равновесие в его жизнь, он, наверное, спился бы в обществе подобных ему неудачников…
Поговорив с людьми, Коваль понял, как Залищука доведи до отчаяния. Было нелегко сознавать это, но, поскольку бывшие взаимоотношения директора завода с инженером видимой связи с преступлением на Русановских садах не имели, он мог только, как говорят, принять это к сведению…
Автобус после площади Победы тяжело преодолевал подъем бульвара Шевченко. Коваль оторвался от своих мыслей и засмотрелся на темно-зеленые тополя. От ласкавшей взор зелени, казалось, и в салоне становилось прохладнее. Подумал, что и музыка обладает цветовой гаммой, а разные цвета в свою очередь вызывают разные ощущения.
Водитель автобуса резко затормозил. Стайка девушек перебегала дорогу. Студентки университета. Коваль вгляделся. Наталки среди этой веселой компании не увидел. Задала же она ему загадку, которую он будет всю жизнь разгадывать. После прошлогодней поездки в Закарпатье, где он разыскал убийцу венгерки Каталин Иллеш и ее дочерей, Наталка вдруг попросила разрешения перейти с филологического факультета на юридический. Он обрадовался, надеясь, что дочери станет ближе его работа, мысли, дела. Однако все получилось наоборот, дочь стала более скрытной и неразговорчивой. Он даже как-то пошутил: «Ты уже загодя вырабатываешь в себе профессиональную сдержанность, — а вдруг станешь не следователем, а адвокатом, которому как раз нужно умение говорить».
Почему-то вспомнились религиозные войны, кровавая Варфоломеевская ночь во Франции, когда католики и протестанты свирепствовали друг против друга куда сильнее, чем во время крестовых походов, и он подумал, что иногда мелкие расхождения близких людей разводят их дальше в стороны, нежели великое противостояние. Эти странные думы захватили его и, наверное, еще долго не отпускали бы, но автобус подъехал к последней остановке, пассажиры стали выходить, и мысли подполковника вновь вернулись к служебным делам.
Сейчас он перейдет по подземному переходу Бессарабскую площадь и подъедет маршрутным такси к министерству.
* * *
Вечером в райотделе состоялось небольшое совещание. После него Коваль и Струць вместе подошли к трамвайной остановке.
И вдруг Коваль спросил:
— Как ваш английский?
— Учу… — Струць не ожидал такого вопроса и ответил не сразу.
— Вроде бы разговариваете?
— Слабовато, — признался Струць. — Словарь бедный. Да и разговорной практики нет. Только на уроке.
— А ведь есть возможность! — укорил Коваль. В его глазах вспыхнули такие огоньки, которых, казалось, и ожидать нельзя было у этого озабоченного человека. — Займитесь Джейн. Попросите попрактиковаться в английском, уделить вам свободное время, а его у нее — уйма. Она рвется домой, к жениху, ей нудно тут, но, думаю, не откажется от вашего общества… Если, конечно, вы сможете хотя бы немного скрасить дни ее вынужденной задержки… — И снова лукавые огоньки на миг блеснули в глазах подполковника.
Лейтенанта подмывало спросить: «Это задание?» Подумал: «Может, Дмитрий Иванович просто шутит?»
Но огоньки уже погасли, да и невозможно было спросить — мимо ехал трамвай, и грохот его заглушал человеческий голос.
Когда трамвай остановился, Коваль объяснил:
— Может, она запомнила больше, чем ее мать. Джейн оставалась на даче после того, как миссис Томсон и доктор уехали в город. Вместе с Таисией Григорьевной они были одними из последних, кто видел Залищука живым…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Взгляд в прошлое
1
Возле станции метро продать цветы не удалось. Таисия Григорьевна с несколькими розочками в руках терпеливо стояла у входа рядом со старушками, державшими букеты ярких пионов, красных и белых гвоздик в целлофановых обертках. Старухи постоянно выносили к метро цветы, хотя торговать здесь не разрешалось. Настороженно оглядываясь, нет ли поблизости милиционера, они, время от времени обгоняя друг друга, устремлялись навстречу людскому потоку, тянувшемуся к метро, и предлагали свои букеты.
Таисия Григорьевна не выбегала вперед. Надвинув легкую газовую косынку почти на глаза, не отходила от высокого деревянного забора, ограждавшего строительство новой гостиницы. Когда прохожие обращали внимание на ее розочки, негромко называла цену, а в ответ на предложения продать дешевле покачивала отрицательно головой. Не могла уступить ни единой копейки потому, что суммы, которую хотела получить за цветы, как раз хватило бы на бутылку дешевого вина, называемого в обиходе «чернилами». У нее, так же как и у Бориса Сергеевича, с утра болела голова, и снять эту боль могло только вино, пусть и самое плохое.
Милиционеров, штрафовавших за торговлю в неположенном месте, Таисия Григорьевна не боялась. В нескольких шагах от нее стоял муж и внимательно следил, чтобы никто не обидел ее — ни конкурентки-торговки, ни покупатели, — и вовремя предупреждал о любой опасности. Невысокий, коренастый, с большой взлохмаченной головой, со скуластым лицом, на котором выделялись густые, кустистые, с проседью брови, весь словно взъерошенный, он ежеминутно был готов ринуться в бой.
У Залищука голова болела невыносимо. Спасти его мог только глоток вина, и все зависело от удачи жены. Время от времени он нетерпеливо и сердито посматривал на ее дебелую фигуру у забора, на небольшие розочки, которые в ее крупной руке казались особенно мизерными.
Снова и снова в мыслях подсчитывал, сколько дней осталось до выплаты пенсии. Пять дней. Сейчас пять дней казались ему таким отдаленным будущим, такими непостижимыми, как пять тысяч дней, как сама неизмеримая вечность.
Борис Сергеевич немного отвлекся этими тяжкими мыслями, потом, щуря наболевшие от солнца глаза, снова с надеждой взглянул на жену. Но она все так же понуро стояла под забором, чуть сзади прытких старушек, неловко держа перед собой букет. «Черт возьми, — подумал со злостью Залищук. — Воображает себя талантливой актрисой, а стоит словно забитая сельская баба, растерявшаяся в большом городе!..»
И вдруг ему стало горько и обидно за нее, и не только за нее, но и за себя. Заметив, что поток людей, спешивших к метро, стал иссякать, и поняв, что тем, кто идет на работу, цветы понадобятся лишь на обратном пути, он направился к жене.
— Ты же знаешь, — укоризненно сказал, — здесь покупают цветы только к вечеру. Поедем в центр.
Таисия Григорьевна виновато взглянула на него. Солнце, поднимаясь, припекало через тоненькую косынку, и ей, так же как и мужу, до слез хотелось похмелиться. Но ехать с цветами в центр!
— Не бойся, никто тебя там не увидит! Никому ты теперь не нужна, — насупив лохматые брови, сказал сердито. — Станешь в подземном переходе на Крещатике.
— Нет, нет, Боря… Не хочу… Лучше уж на Бессарабке.
— На рынке хватает цветов. Получше твоих.
— Я стану возле входа в рынок.
— Ах, — сверкнул глазами Борис Сергеевич, — какая ты стыдливая стала… Великая примадонна!
Таисия Григорьевна молча проглотила оскорбление. Голова болела все сильнее.
— А деньги на метро у тебя есть?
Он вытащил из кармана несколько медяков.
— Хватит.
…Они сидели рядом в полупустом после часа «пик» вагоне, Таисия Григорьевна нежно держала на коленях букетик роз. Этой парой можно было залюбоваться, так сочувственно посматривали они друг на дружку.
Поезд прыгнул на мост над рекой, открыл глазам немногочисленных пассажиров прекрасную картину: могучие воды Днепра, кипевшие внизу, снующие катера и баржи, песчаные косы, пляжи Левобережья и высоченные, ослепительно зеленые в лучах утреннего солнца склоны гористого правого берега, к которому они приближались.
Вышли на Крещатике и направились к крытому рынку. Борис Сергеевич оставил Таисию Григорьевну возле входа в рынок, а сам отошел чуть в сторону, откуда было удобно за ней наблюдать.
Роз у Таисии не покупали. Люди проходили мимо, словно не замечая их. Срезанные ранним утром на даче, они возле метро «Левобережная» еще сохраняли свежий вид, но после жаркого вагона, после солнца нежные лепестки начали увядать.
Борис Сергеевич осмотрелся, разыскивая глазами автомат с водой. Массивный железный шкаф со стаканами увидел на противоположной стороне площади, лавируя среди машин, перебежал к нему. Нащупав в кармане копейку и бросив ее в щель автомата, терпеливо стал ждать, пока наполнится надтреснутый стакан. Потом двинулся с ним назад.
Когда снова пересек площадь, увидел, как жена вдруг отвернулась лицом к стене и, пряча перед собой цветы, делает вид, что рассматривает витрину.
Что же напугало ее?!
И вдруг Борис Сергеевич остановился как вкопанный: к Таисии приближалась бывшая подруга, хористка театра Лиля. Он увидел, как закачалась возле жены высокая прическа хористки — маленькая, низенькая, похожая на колобок, Лиля ходила на высоченных каблуках и выкладывала на голове целую башню из искусственных волос.
Таисия повернулась к Лиле, и Борис Сергеевич понял, что жена, несмотря на все ухищрения, попалась. Издалека он, конечно, не мог разглядеть улыбки на ее лице, но догадался об этом и словно физически ощутил, как тяжело Таисии сейчас улыбаться. Он представил себе, как переживает она, что эта «безголосая и бесталанная Лилька», которая тем не менее продолжала работать в театре, увидела ее с цветами у рынка. «Как же она выкрутится, бедная Тася?!» — подумал с болью.
Он словно услышал охи и ахи, вопросы, которыми Лиля засыпает Таисию: «Как живешь? Наш театр совсем забыла? Или думаешь возвратиться? Что это за розочки? Ах, какие прекрасные цветы! Зачем тебе розы, ведь у тебя на даче есть свои? Боже, какая прелесть, какая нежность!»
Борис Сергеевич хотел уже подойти и увести от Лили жену, когда вдруг увидел, что Таисия протянула букет хористке. Он представил себе, как это происходит.
«Да ты что, Тасенька!» — «Бери, бери!» — «Ты же себе купила!» — «У меня в саду, есть. Это мы с Борисом ехали погулять в центр, а ты знаешь он какой, до сих пор влюблен, как мальчишка! Купил мне букет… Только что отошел, воды выпить…» — «Так это же тебе подарок!» — «Ничего, ничего, бери!» — «Ну что ж, спасибо, Тасенъка. Ах какие прекрасные розы! Ты все же заглядывай в театр».
Борис Сергеевич осторожно поставил стакан с водой на пустой ящик под кирпичной стеной рынка.
— А вот и мой Боря!
Лиля кивнула Борису Сергеевичу, который приближался, игриво взмахнула рукой, и через секунду ее пышная прическа закачалась в толпе. Хористка не любила и всегда избегала острого на слово Таисиного мужа.
— Ты что же сделала? Отдала этой вертихвостке!..
Еще когда жена вручала букет Лиле, Борис Сергеевич снова мысленно обшарил каморку на даче, где складывал пустые бутылки. Там хоть шаром покати.
Голова разваливалась, была чугунно-тяжелой.
— Знаешь, — тихо произнесла Таисия Григорьевна, — поедем к Моте. Неужели не даст?
— В долг не даст! — вздохнул Борис Сергеевич. Он уже пробовал как-то подлизаться к продавщице, но безуспешно. Она узнавала его только, когда приносил наличные. — Лучше заглянем к Андрею, здесь недалеко. Займу десятку до пенсии. Не застану дома, у его Аллы попрошу. — Борис Сергеевич снова вздохнул: — Хотя так не хочется к ним идти!
Они стали проталкиваться среди толпы покупателей, оглушенные базарным гулом, ослепленные яркими красками летних прилавков.
Справа висели громадные мясные туши, возле которых в белых, запачканных кровью халатах орудовали продавцы; впереди, куда только проникал глаз, красовались горы свежих огурцов, помидоров, венички петрушки и укропа, золотые россыпи молодой картошки, последние, еще прошлогоднего урожая, яблоки, поражавшие прозрачной желтизной, словно вылепленные из воска для бутафорской витрины, и рядом — первые зеленые скороспелки. Слева за ними — неуступчивые смуглые торговцы с орехами, инжиром, привялыми мандаринами и лимонами с далекого Кавказа. Но все это богатство бледнело в сиянии радуги, пылавшей в глубине рынка: гвоздики всех цветов, розы, первые георгины и остроконечные гладиолусы, которые красным, желтым, белым пламенем вспыхивали над прилавками и в проходах между ними.
Вдруг Борис Сергеевич увидел Крапивцева. Сосед стоял в белом халате, закрытый чуть ли не до груди горками тугих помидоров и ярко-зеленых, покрытых твердыми пупырышками огурцов. Рядом на весах лежали краснобокие яблоки.
Залищук не утерпел, чтобы не подойти. Крапивцев переговаривался с покупательницей и не сразу заметил его. Борис Сергеевич, стоя в стороне, прислушивался к этой обычной базарной перепалке. Женщина, чуть не плача, просила продать яблоки подешевле.
— Три, — упрямо повторял Крапивцев.
— Да мне несколько штук. Для больного.
— Три рубля за килограмм. Мне все равно для кого, — не уступал Крапивцев.
Борису Сергеевичу надоело ждать окончания этого торга, и в разноголосый шум рынка вплелся и его зычный голос:
— И не просите, гражданочка, не отдаст он дешевле, я знаю.
Загоревшее лицо Крапивцева вытянулось. Глубоко посаженные глаза, казалось, спрятались под надвинутый козырек фуражки.
— А-а-а! Привет!
— Эх, вы, — с упреком произнесла женщина, обращаясь почему-то к Борису Сергеевичу, словно он был причиной ее неудачи, — совести у вас нет. — Бросив еще раз взгляд на яблоки Крапивцева, она отошла к другому продавцу.
Залищук пожал плечами.
— Слышал, Поликарп, это тебя касается.
К ним приблизилась Таисия Григорьевна. Крапивцев заулыбался, и глаза его как будто снова вынырнули на свет.
— Привет, соседушка. Поторговали?
В вопросе была спрятана глубокая ирония, и Залищук испугался, как бы Таисия, не поняв ее и приняв добродушный тон Крапивцева за чистую монету, не вздумала вдруг занимать у него деньги.
Но жена — Борис Сергеевич сейчас гордился ею — так беззаботно улыбнулась, словно в ее кошельке было полно денег.
— Да нет, Поликарп Васильевич, — весело ответила она. — Мы так, мимоходом…
Крапивцев удивленно поднял брови: мол, что же делать на рынке, если не торговать и не покупать? Ведь это не бульвар для прогулок! Впрочем, через секунду он снова заулыбался:
— Яблочек? Угощайтесь.
Таисия Григорьевна покачала головой:
— Спасибо.
— Прогуливаетесь, выходит? Место что-то не очень подходящее…
— Идем, — Борис Сергеевич коснулся руки жены. — Поликарпу этого не понять. Для него ярмарка — чтобы деньгу драть!..
— За свой труд, между прочим, — спокойно ответил Крапивцев. — Именно за то имеем, что на боку не лежим.
— За свой труд… Шкуру с людей драть не надо. А по-человечески…
— Цена!! Дорогой Борис… — менторским тоном медленно произнес Крапивцев, словно смакуя слова. — Не мной установлена, кстати сказать, а всем обществом. — Он легким жестом обвел рукой ряды. — Коллективом, понятно?
Таисия Григорьевна потянула мужа за рукав. Она поняла, что он сейчас злой на весь мир, и боялась, что этот разговор может окончиться скандалом.
— Что ты меня за рукав дергаешь? — огрызнулся Залищук. — Я неправду этому кулачью говорю? Да?!
Но, постояв какую-то минуту молча возле прилавка, ощетинившись и думая о чем-то своем, очевидно, о чем-то очень наболевшем, он вдруг сорвался с места и, наталкиваясь на людей, решительно двинулся между рядами к выходу.
— С самого утра пьяный, — пробурчал ему вслед Крапивцев.
Таисия Григорьевна ничего на это не ответила и поспешила за мужем.
Очутившись на улице, Борис Сергеевич бросил:
— Поехали на дачу.
— А к Андрею?
— Да ну их всех к чертовой матери! — со злостью пробормотал он. — Едем домой. А там видно будет…
2
Появление миссис Томсон было для Таисии Григорьевны таким же дивом, как если бы она увидела марсианку.
Раздался нерешительный звонок, Таисия Григорьевна открыла входную дверь. На лестничной площадке стояла незнакомая женщина, которая сдавленным голосом спросила:
— Тут живут Притыки?
Слова выговаривала старательно, с каким-то странным акцентом, и Таисия Григорьевна подумала, что явно какая-то иностранная туристка, изучавшая украинский язык по учебникам.
«Но откуда она знает мою фамилию?»
Таисия Григорьевна недоуменно смотрела на худощавую немолодую женщину, коротко подстриженную и немного подкрашенную, одетую в тонкую блузку и джинсы, с ниткой коралловых бус на шее и с плоской сумкой через плечо.
Словно отвечая на ее недоумение, женщина сказала:
— Я — Катерина Притыка. В девичестве. Теперь — Томсон… — Она, казалось, сверлила взглядом хозяйку квартиры.
«Катерина Притыка? Катруся?!» Таисия Григорьевна еще больше растерялась. Перед мысленным взором мгновенно возникла толстушка Катруся с ее голубыми, как небо, глазами, в любимом платьице в горошек, с длинной косой. Неумолимое время выветрило из памяти все другое, даже лицо, а вот крупные васильковые глаза и — подумать только! — платьице в горошек сохранило навсегда! Какой еще удар уготовила ей судьба? Что за человек явился, что ему нужно? Сестра Катруся пропала в войну — скоро уже тридцать лет…
Но у незнакомки были светлые, с легкой голубизной, как у всех криничанских Притык, немного выцветшие глаза и какая-то особенная манера разговаривать, чуть склонив набок голову, как у самой Таисии Григорьевны.
Они стояли друг против друга, миссис Томсон продолжала пристально рассматривать почему-то испуганную ее появлением крупную белокурую женщину с вышитой косынкой на голове, совсем не похожую на Тасю, которую в начале войны отвезли к тетке под Харьков. Кэтрин пришла сюда по адресу справочного бюро и была не уверена, что и в самом деле нашла свою сестру.
Перед глазами каждой пролетели картины детства, сначала светлые, розовые, а потом — черные как ночь; у одной — чужестранная неволя, у другой — потеря близких, сиротство. У каждой свое: у старшей — Англия, семья, дети, новая, непохожая на прошлую жизнь, у Таисии Григорьевны — театральное училище, сцена, Борис Сергеевич…
Прошла минута-другая, и будто притягивающая искра проскочила между ними: незнакомка нерешительно, неуклюже бросилась через порог, и они обнялись тут же, в коридоре.
— А я Тася! Тасюня, Тася! — почему-то повторяла одно и то же Таисия Григорьевна, точно убеждая в этом не только сестру, но и саму себя. — Не может быть, не может быть! — растерянно приговаривала она, ведя сестру за собой в комнату и садясь с нею на тахту. Плача и смеясь, они ойкали и охали и все еще осматривали друг дружку, отыскивая родные черточки, заглядывая в глаза — те ли они самые, что смеялись в далеком детстве, светились лаской, — искали в них себя, свое близкое, родное.
Кэтрин Томсон была для Таисии Григорьевны существом новым, ранее неведомым. Воспринимала ее больше разумом, чем сердцем, не могла побороть чувства неуверенности, какое вызвали у нее измененные годами черты лица, говор и тот неимоверный факт, что Катруся жива и сидит рядом.
Первое, что осмысленно проговорила Таисия Григорьевна, был вопрос:
— Где мама, Катруся?
— Мама? — выдохнула миссис Томсон. — Я думала, что она тут, на Украине. Когда немцы гнали нас из Криниц, на какой-то станции — я уже забыла — молодых женщин и подростков отделили от старых людей и увезли в Германию. А что с мамой, не знаю… Я думала, ты…
— Откуда мне знать! Я же была у тетки Христины, — горько произнесла Таисия. — Тетя недавно умерла… Мы с ней сколько раз ездили в наши Криницы… Никого из прежних криничан не нашли. Пришлые люди построились, восстановили село… Слух был, что немцы всех криничан убили… Думала, что и тебя с мамой… — Таисия Григорьевна умолкла. И снова кинулась обнимать и целовать сестру.
— Я так виновата перед тобой, Тася, — в свою очередь говорила Кэтрин Томсон. — Должна была раньше приехать… Я живу в Англии, в Лондоне, у меня хорошая семья: сын, дочь…
— Подумать только! — всплеснула руками Таисия Григорьевна. — В самом Лондоне!
Кэтрин сняла с плеча сумку и достала большое цветное фото, на котором были представлены все Томсоны.
— Это мой муж Вильям Томсон, — указала Кэтрин на высокого лысоватого мистера, одетого в серый костюм. — А это Робин, рядом Джейн. Ты ее скоро сама увидишь… Потом я тебе все-все расскажу. А сейчас поедем ко мне. — Она небрежно окинула взглядом комнату Таисии. — Я остановилась в гостинице «Днипро»… Вильям раньше не пускал меня к вам… А в прошлом году он умер… Все боялся, что не вернусь, говорил: сошлют в Сибирь за то, что поехала в Англию. Честно говоря, я тоже боялась, всякие разговоры ходили… Вильям говорил, что ни тебя, ни мамы нет в живых. И все равно я виновата перед тобой. Мне нужно было раньше приехать. — Миссис Томсон тяжело вздохнула. — Наконец приехала, заболела… В больницу попала…
— Ой! — снова всплеснула руками Таисия Григорьевна.
— Мне даже операцию сделали. Аппендикс вырезали.
Таисия Григорьевна встревоженно смотрела на сестру.
— Ничего страшного. У вас прекрасные хирурги. Я уже забыла об операции. Немного боялась за сердце. Оно у меня слабое. Столько пережито!..
— У тебя усталый вид.
— Я была в Ленинграде, в Москве… Но разве я могла вернуться в Англию, не побывав в родных краях? В глубине души надеялась найти тебя… И, видишь, не ошиблась. Если бы не операция, я бы тебя отыскала раньше… — Миссис Томсон нежно погладила руку сестры. — Но, знаешь, не сразу узнала.
Они все еще присматривались друг к другу, словно не верили себе.
— Сколько лет, сколько лет! Что делает неумолимое время, особенно с нами, с женщинами… — закусив губу, горестно покачала головой Кэтрин.
Она вскочила с тахты.
— Идем же… Я побоялась возвращаться в Англию одна — в дороге всякое бывает, и мне разрешили вызвать сюда дочку. Джейн прилетает завтра. Она прекрасная девушка и тебе понравится. Я уверена в этом, — сказала миссис Томсон, разглядывая себя в зеркале, которое когда-то служило Таисии Григорьевне для домашних репетиций. — О, какое у тебя большое зеркало. Это прекрасно!
Таисия Григорьевна заперла комнату, и они вышли на улицу.
— Ты замужем? — спросила миссис Томсон.
— Да, — ответила Таисия Григорьевна, в душе радуясь, что Бориса нет дома: она знала характер мужа и понимала, что его надо подготовить к тому, что объявилась сестра…
* * *
Кэтрин Томсон сидела в кресле напротив сестры и задумчиво теребила пальцами концы накинутой на плечи белой шали. Из открытых дверей балкона веяла вечерняя прохлада, и миссис Томсон ежилась даже под этой накидкой из гагачьего пуха. Таисия Григорьевна, напротив, расстегнула воротничок блузки, сидела раскрасневшаяся от выпитого вина и, главное, от возбужденности, не покидавшей ее с момента появления Катерины, которая еще больше усилилась в богатом номере гостиницы.
В беседе с сестрой в памяти Кэтрин воскресали не только лица друзей, криничанская улица, материнская хата, двор со старой сливой и яблоней-кислицей, завалинка, на которой она играла совсем маленькой девочкой, место на печи, где пряталась от сердитой бабки, но и давно забытые эпизоды, казалось, из чужой жизни, судьбы какой-то незнакомой девчонки. Она удивлялась своей памяти, которая порой не сохраняла вчерашние события, зато картины далекого детства вызывала сейчас с такой неожиданной щемящей яркостью.
После первых эмоциональных возгласов волнение немного улеглось и беседа то загоралась, то угасала.
Сидя в глубоких мягких креслах, словно в изолированных гнездах, сестры говорили о каких-то несущественных мелочах, все еще привыкая, прощупывая друг дружку взглядами, сравнивая виденное с тем, что сохранила память.
Миссис Томсон, чувствуя волнение и смятение сестры, как могла, помогала ей своей лаской. Касалась ее плеча, успокаивала. В какую-то минуту даже подошла и обняла Таисию.
— А помнишь, — с какой-то детской обидой в голосе и смехом сказала Таисия Григорьевна, — как тебе сшили новое платье, а мне — нет, я убежала в сад, спряталась и плакала. Едва отыскали. Я всегда донашивала твое и очень сердилась за это на тебя и обижалась на маму…
Воспоминания о родителях, детстве, о школьных друзьях чередовались с рассказами о Германии, Англии, о покойном Вильяме Томсоне и Борисе Сергеевиче, о режиссере, который привез Таисию Григорьевну из Ровно в Киев и который потом «съел» ее здесь. Перескакивали в разговоре с одного на другое, будто жизнь каждой была какой-то торбой, куда беспорядочно запиханы разные события.
Но среди всех полузабытых картин перед Кэтрин то и дело вставал образ паренька, всегда волновавший ее юную душу, пока его не заслонили наслоения беспощадного времени. И вот сейчас он снова всплыл в ее сознании, и Кэтрин захотелось поговорить об этом юноше.
Таисия Григорьевна словно прочитала мысли сестры.
— А знаешь, кого я встретила в Киеве? Андрея! Помнишь соседей, Воловиков? Ты даже когда-то дружила с ним. — И глаза Таисии Григорьевны засветились лукавством.
Сердце у миссис Томсон вздрогнуло.
— Какого Андрея?! — удивилась она. — Его давно нет в живых.
— Честное слово, видела! Несколько раз, — поклялась Таисия Григорьевна. — Правда, фамилия у него другая.
— Ну, вот. Просто похожий человек, — уверенно проговорила миссис Томсон. — Можно съездить в Криницы, на его могилу. Он умер в ночь, когда немцы выгоняли нас из села.
— А кого же я тогда встретила? Неужели ошиблась? — Таисия Григорьевна растерянно замолчала. — Земля ему пухом, если так. — Вскоре она вновь повеселела. — Признаюсь теперь, я, девчонкой, всегда за вами подглядывала, а один раз видела, как вы целовались в саду, за дикой яблоней. Но мне стало стыдно, и я сразу убежала, пока вы не заметили. И запомнила это на всю жизнь…
— Уши тебе оторвать нужно было, — неожиданно по-девичьи застыдившись, упрекнула миссис Томсон сестру, чувствуя, как ее вдруг обдало жаром.
Стараясь спрятать волнение, спросила:
— И давно ты его видела?
— Кого?
— Того, похожего на Андрея?
«Какая глупость! Из могил не встают!» — в то же время подумала Кэтрин. Но не спросить не могла.
— Не очень, — ответила Таисия Григорьевна. — Он тут, в Киеве, теперь живет. Врач… Но, правда твоя, может, и не наш криничанин. Он меня не признал. Как-то поздоровалась, хотела заговорить, но он и головой не кивнул — отвернулся и прошел мимо. Я решила: бог с тобой! Но потом рассердилась на себя: подумать только — за все время одного-единственного криничанина встретила и не смогла поговорить. Я его узнала, а он нет. Конечно, я очень изменилась… Когда встретила вторично, набралась духу и решительно подошла к нему. «Извините, — сказала, — я из Криниц. Таисия Притыка. А вы не Андрей Воловик?» Он посмотрел на меня испуганно. «Нет, нет, — проговорил быстро. — Вы ошиблись. Я не знаю никаких Криниц, никаких Воловиков. Я совсем другой человек». Но глаза у него, Катруся, так и бегали. Мне не оставалось ничего другого, как снова извиниться. Впрочем, я даже этого не успела сделать, потому что он заспешил, чуть ли не бегом бросился от меня… Все это показалось очень странным, и я решила при случае проследить за ним. А в прошлом году, когда я еще работала, заболел отоларинголог, который обслуживал наш хор, и в театр пришел новый врач. Это был тот самый, похожий на Андрея Воловика, мужчина. У него дрожали руки, когда осматривал мое горло, и я еще раз подумала, что это, наверное, наш Андрей. Но почему он от меня прячется? Потом узнала, что фамилия у него совсем другая — Найда… Вскоре я ушла из театра, больше с ним не встречалась, и все это осталось для меня загадкой.
Миссис Томсон откинулась на спинку кресла.
— Отец Андрея Воловика был полицаем в Криницах, — задумчиво проговорила она.
— Вот как… Полицаем…
— Да. Только каким-то странным… Во всяком случае, он погиб от немецкой пули.
Кэтрин посмотрела на часы, поднялась и подошла к чайному столику, на котором стояли небольшой электрический самоварчик и хорошенький сервиз — приятный сюрприз администрации гостиницы для иностранных гостей, — и воткнула штепсель в розетку в стене.
— С трех до пяти часов у нас в Англии непременно чай. В любую пору года. Это старая традиция. Попробую и в этих условиях заварить по-нашему. Тебе понравится.
Сестры пили чай. Кэтрин Томсон угощала Таисию сладостями и рассказывала о своей жизни за границей, а мысли ее все время возвращались к похожему на Андрея человеку. Наконец она не выдержала.
— Тася, сестричка, — немного запинаясь, с натянутой улыбкой, будто шутя, проговорила, — а ты не могла бы… узнать его телефон?.. Ну, этого человека, похожего на Андрея.
Таисии Григорьевне не нужно было объяснять причину.
— Узнаю, узнаю, Катрусенька, — заговорщицки проговорила она. — Ой, — вскрикнула вдруг, — мы это и сейчас можем сделать! Знаем фамилию. Имя, отчество, если это он, наверное, остались у него те же — Андрей Гаврилович.
Она мгновенно пересела на круглый пуфик около телефонного столика и набрала «09».
— Будьте любезны, Найда Андрей Гаврилович… Да, Андрей Гаврилович… Адрес? Не знаю, девушка. Я вас очень прошу. Мы приезжие, издалека, тридцать лет не виделись…
Таисия Григорьевна уговорила телефонистку и через каких-то полминуты начала записывать на уголке газеты:
— Сорок девять… тридцать один… Так… И такие же инициалы? Будьте любезны, второй… Пятьдесят семь… так… тринадцать… так… Спасибо, спасибо… Двое людей с одинаковыми фамилиями и инициалами, — объяснила, положив трубку. — Но это немного… В Киеве свыше двух миллионов жителей, легко сказать… Один из номеров его… Можно и сейчас позвонить.
Миссис Томсон вяло усмехнулась и покачала головой.
— Не нужно. В другой раз… Я утомилась, Тася. Столько впечатлений, столько волнений, хотя и радостных…
— Тебе нехорошо? — испугалась Таисия Григорьевна.
— Ничего, ничего. Налей мне, будь любезна, валерьянки, там в спальне на туалетном столике.
Выпив лекарство, миссис Томсон сказала:
— А теперь я отдохну, Тася…
— Я еще посижу около тебя. Вызвать врача?
— Нет, нет, не нужно. Сейчас станет легче… А ты приходи завтра… Сможешь утром?
— Конечно, смогу.
— Вот и хорошо… Завтра, я говорила, прилетает Джейн… И знаешь… Ей ничего об истории с этим врачом не рассказывай…
— Конечно, конечно. Это ей ни к чему…
* * *
После того как Таисия Григорьевна ушла, миссис Томсон долго сидела расслабленно в кресле, и призабытые картины вставали перед ее глазами.
…Всех подняли затемно. Она не сразу поняла, что скоро уже рассвет. «Шнель, шнель, шнель! Собирайся, выходи!» Немецкие солдаты и полицаи не давали даже оглядеться, люди спросонья не могли ничего найти в хате. «Выходи! Выходи! Шнель! Шнель!» Кто задерживался, того прикладом или просто кулаком в плечи! Вещей никаких не разрешали брать, только еду на дорогу. «Скоро возвратитесь в свои Криницы. Все будет целое — немцам ваше тряпье ни к чему!»
Когда рассвело, криничане были уже за селом. Утро серым светом обливало голые ветки, пожухлые мокрые листья под кленами вдоль дороги. Пронизывающий ветер трепал желтую траву на выгоне, два года не топтанную ни людьми, ни скотом, проникал под одежду, заставляя теплое после сна тело дрожать как в лихорадке.
Людей выстроили в одну колонну. Спереди, по краям и сзади — солдаты и полицаи.
Катруся пробежала глазами по колонне. Андрея нигде не видно. Ах да, он где-то в хвосте, на телеге… Ведь старосте и полицаям комендант разрешил везти свои семьи на телегах и забрать награбленное добро.
Да будет она его искать! Немецкие холуи!.. Все росла тревога: куда это гонят целое село? Что с ними сделают? От фашистов можно всего ждать. По колонне поползли слухи, что гонят в Германию на работы. Со стариками и детьми? Это что-то другое… Но что именно? Мать пыталась подбодрить ее: «Как-то будет?.. Как с людьми, так и с нами…» Младшую сестричку Таисию весной отвезли к тетке на Харьковщину, и что там сейчас делается, никто не знает. Прошли слухи, что Харьков уже снова советский, фронт подошел к Днепру и вот-вот будет тут. Рассказывали, что из каких-то сел людей тоже повыгоняли и об их судьбе ничего не известно.
Но вот прозвучали команды. Полицаи, словно борзые, забегали вдоль колонны — выстраивали, ровняли. Но попробуй наведи порядок среди мальчишек, бабусь да малых детей! На грузовике, затянутом сверху брезентом, подъехал комендант, вылез из кабины — сытый, мордастый, если проколоть, наверно, не кровь полилась бы, а сало, — встал на подножку, что-то прокричал.
Староста начал переводить. Никто не услышал его голоса — шум, плач… Комендант снова влез в кабину, и грузовик, подняв за собой пыль, помчался по дороге и вскоре исчез за поворотом. Люди жались друг к другу: что сказал комендант, куда их гонят, зачем, надолго ли, когда отпустят?
Полицаи ругались, кричали. Кто-то из немцев вдруг пустил автоматную очередь вдогонку подростку, который, воспользовавшись суматохой, бросился через огороды к реке. Он остановился, выделяясь на фоне серого утреннего неба, потом взмахнул руками и упал на землю. Он шел с дедом, и старик, еле поднимая тяжелые ноги, трусцой побежал к внуку. Прогремела вторая очередь. Дед, не сделав и десяти шагов, боком осел на землю, словно мешок, сброшенный с плеч. И тут все, даже полицаи, притихли, все стало понятным, и уже не так важно было, что сказал комендант, важным было то, что сделал солдат, — он претворил в жизнь слова офицера автоматной очередью.
Прозвучала еще какая-то команда, полицаи снова ожили и еще свирепее накинулись на людей. Колонна медленно поползла по дороге.
От одного к другому передавали: здесь будет линия обороны, их ведут в город, оттуда молодежь повезут в Германию, а стариков и детей отпустят. За попытку убежать — расстрел.
Потом к Катрусе докатилась страшная весть: сын Воловиков Андрей вчера умер, и отец похоронил его во дворе этой ночью, даже не отпев. Да и что ждать от полицая, немецкого холуя? Воловику люди больше, чем другим, не могли простить, что тот стал полицаем. Пусть уж сельские разбойники, такие, как Ярема, который из тюрьмы не вылезал. Или Степанидин Архип, что, говорят, родную мать задушил, чтобы деньги забрать. Но Воловик, который был тихим, спокойным человеком…
Катруся не могла поверить в страшную весть. Как это умер? Отчего? Она собственными глазами видела его около своего двора вечером. Выдумают такое… Где-то прячется сзади на отцовской телеге!..
И все же будто черная гадюка обвила ее и без того встревоженную душу. Шепнула матери, что немного отстанет; в ответ на испуганный взгляд поклялась, что не сбежит, немного побудет сзади, а потом снова догонит ее.
Незаметно от охранников начала отставать. Андрея нигде не было. Мать его, Надежда Павловна, ехала на телеге одинокая — на голове черный платок — в своей скорби. Куда и девался ветер, который до сих пор пронизывал Катрусю! Трясло уже от жара, что палил все тело. И тогда впервые поняла: какой бы ни был отец Андрея, сын за отца не отвечает. Это был ее Андрей, ее Андрейка, единственный на всем свете…
Люди шли и шли, гонимые в неизвестность; покачивались на слабых ногах деды и бабуси, тихо шагали дети, забыв о шалостях. Навстречу гремели машины с немецкими солдатами, и криничане свернули на грунтовую дорогу.
Мать смогла подойти к ней только во время короткого привала. Она еле ответила на ее вопросы, есть не захотела. Мать, наверное, догадалась о ее беде и не настаивала. Сказала: «Ты бы поплакала, Катя». Она вскинула на нее гневные глаза: «Чего бы это я плакала?!» На том разговор и закончился, потому что немцы и полицаи уже приказывали строиться.
И снова узкая торная дорога. Где-то сбоку грохочут немецкие машины, танки, пушки. Ей казалось, что вся эта страшная сила движется на их Криницы, от которых теперь ничего не останется, точно так же как и от ее Андрея.
Было холодно, сыро и ветрено; медленно тянулись в безысходность люди. Конвоиры все время подгоняли их — к ночи должны быть в городе.
Еще до наступления сумерек куда-то исчезла мать Андрея. Сколько она ни искала ее глазами, нигде не увидела. Удивлялась, куда же она делась? Может, убежала, когда шли рядом с лесом? Но почему же тогда немцы не заметили и не стреляли? Да и муж ее, отец Андрея, здесь. Странно…
Когда начало смеркаться, внезапно раздалось несколько коротких автоматных очередей. В фиолетовых осенних сумерках на фоне угасающего неба она увидела, как за сараи, что стояли у дороги, шмыгнул человек. Кто именно, не разобрала, но в руках у него, показалось, был карабин. Двое солдат погнались за ним. Где-то недалеко вспыхнула стрельба. Вскоре солдаты вернулись к колонне.
Только позже она узнала, что это убегал и стрелял Воловик и что немцы убили его. Ее это удивило. Ведь он полицай…
Один солдат был ранен, его положили на телегу, и немцы совсем обезумели.
Поздно вечером добрались до города. Их загнали в длинный холодный барак около железнодорожной станции. Люди не спали. Дети, забывшись в тревожном сне, то и дело просыпались, плакали и кричали. Мать обнимала Катрусю, грела своим телом. Она прицепила себе на грудь лоскуток черной материи, но мать сделала вид, будто не замечает этого. Да и мысли ее были заняты совсем другим. Кто-кто, а полицай знал, куда людей гонят и что их ждет. И если уж он решился бежать, то добра не жди.
А она думала об Андрее. Ругала себя за напускное безразличие и холодность к нему. Сердце кровью обливалось, когда вспоминала, как отворачивалась при встрече, как пряталась в хате, заметив, что он из своего двора следит за ней…
Целую ночь тревога не покидала людей. Прислушивались к малейшему шороху за дощатыми стенами барака. Гудки паровозов, гул моторов, шаги часовых… Утром огромные двери раздвинулись, вошли немцы.
Всех быстро разделили на две группы: девушек и юношей — в одну, стариков и детей — в другую. Один из немцев сказал на ломаном русском языке, что молодых людей отправляют работать в Германию.
Мать бросилась к ней, чтобы вытащить из толпы невольников, но ее грубо обругали и оттолкнули. Среди шума, плача, который поднялся, она кричала матери что-то успокоительное, просила беречь себя, обещала вернуться. Если бы не смерть Андрея, если бы не этот неожиданный удар, может, она и не приняла бы так покорно свою судьбу. И вдруг подумала: а что теперь немцы сделают со старыми людьми? Стало страшно за мать, выбежала к ней, обняла, начала целовать.
Солдат оторвал ее от матери, схватил за плечо, толкнул назад, в небольшую колонну, которая уже двигалась к выходу. В дверях еще раз оглянулась.
Больше матери она никогда не видела…
3
Миссис Томсон сняла телефонную трубку и еще раз посмотрела на уголок газеты, где были записаны цифры. Они показались ей огромными и нечеткими. Неожиданно для себя почувствовала, что не может попасть пальцем в отверстие телефонного диска и что трубка дрожит в руке. Положила ее назад на рычаг — пусть руки успокоятся. Протяжный звук зуммера оборвался.
Какое-то время сидела около телефона неподвижно, словно прислушивалась к шагам в коридоре гостиницы.
В голове не укладывалась мысль, что Андрей может быть живым. Он же похоронен в своем дворе. Его мать сидела тогда на телеге в трауре. Нет, конечно, Андрей умер. Она поедет в Криницы и засыплет цветами его могилу… Но этому человеку, который так похож на ее Андрея и даже имеет такое же имя, она все же позвонит.
Понимала, что это прихоть, которая не к лицу такой серьезной женщине, как она, что снова становится девчонкой, — и не могла от этого отказаться. Звонить нужно именно сегодня, сейчас, пока Джейн не приехала. Почему не хотела, чтобы дочь узнала о ее затее, и сама не знала.
Снова сняла трубку. Услышав гудок, быстро начала набирать номер. Торопясь, миссис Томсон не дотянула диск с последней цифрой — диск вырвался из-под пальца, вызов не состоялся. Взяла себя в руки и еще раз, теперь медленно, начала крутить диск — цифру за цифрой.
На звонок никто не отвечал. Она уже собиралась положить трубку — даже обрадовалась, что никто не ответил, — когда вдруг услышала густой мужской голос. Голос так поразил ее знакомыми, хотя и подзабытыми нотками, что она растерянно бросила трубку.
Кэтрин поднялась с кресла и отошла от телефона. Боялась его сейчас, как живого существа. Прошлась по комнате раз, другой, очутилась в спальне, где стоял еще один аппарат, и села прямо на кровать, чего никогда раньше не сделала бы.
…Вечер над Тетеревом. Опьяняющие запахи скошенных трав. Тот же голос, только звонче и взволнованней. Они лежат на сене под высокой копной, и Андрей клянется в вечной любви. И хотя соловьи уже отпели свою свадебную песню и только где-то в заливе отчаянно квакают жабы, им обоим кажется, что все вокруг поет. Андрей целует ее пальцы, и в кончиках покалывают иголки, как зимой от холода; он целует руку, плечо, шею, и иголки покалывают сердце; она немеет, словно в обмороке, с холода попадает в зной, в жар, в огонь адский, в сладкий огонь, в котором вся сгорает и белым облачком поднимается в небо…
Кто знал, что через несколько дней начнется война, которая так изменит их судьбы! Сейчас, через много лет, это ей увиделось так выразительно, так ярко, словно произошло вчера. Очевидно, это была настоящая любовь. Она и в немецком плену, и в Англии не раз молилась за душу Андрея.
Миссис Томсон посмотрела на часы и решительно взяла телефонную трубку, совсем спокойно набрала нужный номер, но когда в трубке ответили, из памяти выпали слова, какими хотела начать разговор.
— Да чего вы, ей-богу, голову морочите, — раздался сердитый мужской голос.
Миссис Томсон осторожно положила трубку.
* * *
Разговор состоялся глубокой ночью. Миссис Томсон сказала:
— Мне нужен Андрей Гаврилович.
— Я вас слушаю, — ответил сонный, с недовольными нотками голос.
— Если разбудила, извините. Но у меня неотложное дело.
На том конце провода терпеливо ждали, только легкий шум дыхания долетал до слуха Кэтрин.
Пауза затянулась, кажется, слишком долго, потому что в трубке послышалось сердитое сопение. Миссис Томсон испугалась, что Андрей Гаврилович догадается, что это она целый вечер звонила, дергала его, и бросит трубку.
— Меня зовут Кэт Томсон. Я приехала сюда в гости из Англии… Правда, это имя вам ничего не скажет, но, может, вы помните другое — Катерина Притыка…
— Вы ошиблись номером.
— Не кладите трубку, — поспешно сказала Кэтрин. — Я хочу поговорить с вами. Надеюсь, не откажетесь встретиться с женщиной, которая хочет этой встречи, даже если вы не тот, за кого она вас принимает.
— Я не встречаюсь с незнакомыми женщинами.
— Вы не джентльмен.
— Я уже вышел из кавалерского возраста.
— Настоящий джентльмен остается джентльменом до последнего вздоха.
На противоположном конце провода, казалось, снова хотели положить трубку.
Если бы не рассказ Таисии, Кэтрин и сама оборвала бы разговор, который свидетельствовал, что она по ошибке побеспокоила чужого человека. Но тут ее охватило упрямство, и она пустила в ход последний козырь:
— Я думаю, вы все-таки встретитесь со мной… Если вы на самом деле Андрей Воловик.
— Почему такая уверенность?
— Потому что я и только я смогу рассказать о последних минутах вашего отца…
Мужчина молчал.
— Я не помню своих родителей, — наконец глухо произнес он.
Кэтрин сдержанно ответила:
— Возможно. Я имею в виду Андрея Воловика и его отца. Если ошиблась, еще раз прошу, извините. — Ей стало больно за свою обманутую надежду, и она сама уже хотела положить трубку. — Отец Андрея Воловика погиб в перестрелке с немцами. Я хотела, чтобы сын знал, что он не был настоящим полицаем, — она глубоко передохнула. — Вторично в жизни у Андрея Воловика не будет возможности со мной увидеться. Скоро возвращаюсь домой. Ну, хорошо, — закончила твердым голосом, — я живу в гостинице «Днипро», второй этаж…
Мужчина молчал.
Потом Кэтрин услышала его измененный голос:
— А что вам дает основание так думать?
— Что именно?
— Что отец Андрея Воловика не был полицаем…
В грудь Кэтрин ударила такая сильная и горячая волна, что она чуть не упала в обморок. Убедилась, что это не ошибка, что разговаривает со своим Андреем. Прошло некоторое время, пока нашла силы сказать:
— Подробности при встрече… Гостиница…
Он не дал ей закончить.
— В гостиницу я не приду.
— Тогда давайте встретимся… давайте… — Она не могла быстро сообразить, где лучше назначить свидание.
— В парке Шевченко, — подсказал голос на противоположном конце провода, — напротив университета… Там есть скамейки… Я буду в белом костюме…
— Надеюсь, я узнаю вас… тебя… — сказала Кэтрин. — А может, и ты меня.
— В котором часу? — деловито спросил мужчина.
— Утром. В одиннадцать…
— Но я в это время на работе. Лучше вечером.
— Я не смогу. Прилетает моя дочь.
— Тогда послезавтра.
— Не знаю. Не обещаю.
— Но вы все-таки ошибаетесь и принимаете меня за другого человека, — еще пытался сопротивляться мужчина.
— Ох, Андрей, Андрей… Теперь я уверена… — Она произнесла его имя нежно и тепло. — Боже мой, боже! Неужели возможно такое в жизни?! Боже мой, боже!..
Казалось, она вот-вот зарыдает в трубку.
— Ну, хорошо, — сдался мужчина. — Попробую договориться на работе…
* * *
Немолодой, с взлохмаченной прической мужчина, возбужденный неожиданным телефонным разговором, сидел на расстеленной на диване постели и не мог собраться с мыслями.
Беседа с Катериной выбила его из равновесия…
Воспоминания детства, воспоминания о первой любви отступили перед воспоминанием об отце, который своей службой в полиции погубил и свою, и его жизнь, заставил прятаться под подложным именем, сторониться людей, жить отщепенцем.
Андрей Гаврилович обвел глазами свое холостяцкое жилье, освещенное рассеянным светом голубой ночной лампочки. Взгляд скользнул по высоким застекленным книжным шкафам, где змеиным блеском отливали тисненные золотом корешки, по ковру от потолка до пола, по музыкальному комбайну и цветному телевизору, который был похож на коричневого бизона и занимал целый угол комнаты. Нет, он, конечно, неплохо живет. Если бы только не эта тревога, что всегда сидит в его душе…
Знал, что всех криничан немцы или уничтожили, или увезли неизвестно куда, и иногда в его душе шевелилась подленькая мыслишка, что спокойнее было бы жить, если бы точно знать, что никого из его детства уже нет на свете и нет на земле даже такого села, которое называется Криницы и которое он объезжает десятой дорогой.
Тревога поселилась в его душе с тех пор, как встретил Таисию Притыку и понял, что она узнала его. Даже отказался от обслуживания театра, когда увидел ее там.
От Таисии Притыки мысли понеслись далеко, к той страшной ночи, когда немцы выгоняли людей из села.
…Отец пришел домой поздно. Они с матерью уже привыкли, что он днем и ночью пропадает в полиции. Андрей слышал, как во дворе отец направился не к хате, а в сарай. Долго возился там и лишь потом переступил порог дома. Поставил карабин под иконы, не раздевался. Минуту молчал, потом позвал мать, сел с ней к столу и стал о чем-то тихо говорить. Лежа на печи, Андрей слышал, как падают его слова, будто где-то далеко приглушенно бухает молот, но разобрать, о чем идет разговор, не мог. Лица его не видел, потому что лампадки не зажигали, и только луна, выплывшая из-за туч, вырисовывала на фоне окна очертания его головы.
Отец в чем-то долго убеждал мать.
Она плакала. Ее Андрей совсем не видел, только угадывал, что сидит она спиной к печи — против окна казалась копенкой сена, набросанного на стул.
— Тише, Надя! Не плачь! — сказал отец. — Андрей проснется.
— Господи, что же это ты придумал, Гаврил, — еле слышно всхлипнула мать. — Живого человека! Не дам! Не дам! — вскочила она со стула.
— Цыть! — гаркнул отец. И негромко позвал: — Андрейка! — Потом подошел к печи, потряс его за плечо. — Слезай, Андрейка.
Он мигом спустился на пол.
— Иди к сараю, вот держи, — нащупав его ладонь, положил на нее тяжелые ключи. — Вынеси во двор лопаты. Будем копать яму… Да смотри не звякни железом, — бросил вдогонку. — И не свети.
Андрей не отважился поинтересоваться, какую яму, зачем, почему не светить. Два года немецкой оккупации научили сдерживаться и не расспрашивать.
Он очень любил отца, но после того как отец стал полицаем, нацепил на рукав повязку, получил карабин, Андрей начал его бояться. Он возмужал в пятнадцать лет и постепенно становился таким же неразговорчивым и хмурым, как и отец.
Друзей у Андрея теперь не было. В селе осталась только четырехклассная школа, теснившаяся в хате уничтоженной еврейской семьи, а старшеклассников и учителей война размела словно вихрь. Андрей вместе с матерью ходил работать в бывший колхоз, теперь «общинное» хозяйство, и болезненно переживал то, что происходило вокруг. Особенно тяжело стало, когда отец пошел в полицию. Замечая на себе враждебные взгляды односельчан, Андрей хотел убежать в лес, однако намерения своего не осуществил. Да и разве приняли бы партизаны к себе сына полицая, доверили бы ему оружие? Надумал украсть у отца карабин и с ним двинуться в отряд — и не смог. И отца было жалко — ведь немцы за такое расстреливают, — и за себя боялся.
Но больше всего страдал из-за Катруси.
Хата их стояла на возвышенности, на краю села, и ближайшими соседями были Притыки. Фамилия эта для Андрея звучала как песня, а имя Катруся казалось самым красивым в мире. Где бы ни был, что бы ни делал, перед глазами всегда маячила хата Притык. Он и ночью, во сне, не отводил глаз со двора соседей, где на какое-то мгновение могла появиться Катруся. Перед войной ее маленькую сестричку Тасю отвезли к тетке. Дома с матерью осталась одна Катруся, пятнадцатилетняя девочка.
Небо над хатой Притык было голубее, нежели над другими, и молодая травка во дворе зеленее, и стежка, что вела к калитке, и сам забор, за которым жила одноклассница, были будто освещены светом ее глаз.
Пришли немцы. Катруся старалась не показываться на улице. Андрей с нетерпением ждал вечера, когда, завязанная платком по самые глаза, будто старая баба, девочка выходила к калитке, чтобы постоять с ним.
Они как-то сразу повзрослели в те дни, когда мир, казалось, перевернулся. Общая беда еще сильнее объединила их, и только ей Андрей признался: если услышит о партизанах, сразу бросится в лес.
Но вот случилось непоправимое. Однажды отец пришел еще более мрачным, чем всегда. На рукаве телогрейки повязка полицая. Не выпуская из рук карабина, сел к столу.
Мать, увидев оружие, ойкнула. Андрей ничего не спросил, отвел глаза.
Отец долго молчал. Потом поставил карабин в угол у печи, буркнул:
— Ты его и пальцем не трогай! — Повернулся к столу, не снимая телогрейки, будто в доме было холодно. — Заставили. Пошел ради вашего спасения.
Андрей раскрыл было рот, чтобы запротестовать, но отец оборвал его.
— Выйди на улицу, подыши! — сказал тоном, не допускавшим возражений.
Он выбежал из дома, не накинув ничего на плечи, хотя на дворе стояла зима. Все смешалось в его голове: значит, мир окончательно полетел в пропасть, если уж и отец пошел служить немцам. Что же ему теперь делать? А Катруся? Что она скажет?..
Он долго стоял под стеной хаты, не чувствуя холодного ветра, который рвал его пиджачок, теребил золотой, как солома, чуб. Вышла мать, накричала, что выбежал без кожушка, приказала идти в хату.
С тех пор Катрусю почти не видел. Она избегала встреч. Однажды посчастливилось заговорить, хотел рассказать, как он сам переживает, но девушка оборвала его на полуслове.
Все это промелькнуло в голове Андрея, когда шел в сарай за лопатами.
«Зачем ему лопаты? — думал об отце. — Да еще и втихаря, ночью…» Чувствовал, что отец надумал что-то страшное, но что именно — не догадывался.
В сарае споткнулся о какое-то железо, нащупал трубу. Откуда она взялась! Не было у них тут трубы. Взял в углу две лопаты, вынес их и осторожно, чтобы не звякнули, поставил к стене.
Вокруг было темно и тихо. Даже собаки не лаяли. Только посвистывал в поле ветер, гоняя над землей тяжелые, набрякшие дождем тучи. В небе — ни звездочки, давно не беленные хаты не отражали ни одного лучика, только далеко, в центре села, рыжим пятном расползались в темноте огни комендатуры и домика, в котором жил герр комендант.
Из хаты вышел отец. Отмерив несколько шагов посреди двора, сказал:
— Копай, сын!
Это ласковое «сын» развязало язык Андрею.
— Зачем вам яма, батя?
— Скажу позже. А покамест копай, и побыстрее.
Андрей вяло вывернул пласт земли. «И правда, зачем яма отцу, не клад ли прятать хочет? А может, кого-то, а не что-то. — От этой мысли ему стало не по себе. — Убил человека и прячет концы в воду. Но чего полицаю бояться? Если убил кого-то, скажет — партизан или еврей. Это у них просто. А может, своего какого-нибудь холуя или немца случайно подстрелил и боится кары?.. Но почему мать вскрикнула: «Живого человека?» Вот бы спросить у нее…»
— Пойду воды напьюсь, — сказал отцу, который сильными движениями вгонял лопату в землю и выворачивал огромные глыбы. Он этого не видел, но догадывался, слыша, как тяжело дышит отец, как летят комья из-под его лопаты.
— Селедки сегодня вроде бы не ел, — сказал отец. — Копай! Воды я вынесу.
У Андрея побежали по спине мурашки. «Что же все-таки задумал отец?»
Молча работал дальше. Копали долго. Андрею казалось — всю ночь. Он уже еле двигал руками, нестерпимо ныла поясница. Но вот отец наклонился над ямой и проговорил: «Хватит… Идем в хату, возьмем тряпье…»
Мать, охая, подала им не только тряпье — свернутую дорожку, ковер…
Вымостив яму, словно птичье гнездо, отец позвал Андрея в хату и посадил возле себя за стол. Рядом стояла мать.
— Вот что, сын, — сказал отец. — Наши близко, завтра немцы будут удирать. Утром они выгонят людей из села. Молодых — в Германию, а что со старыми да малыми сделают, не знаю… Возможно, как и в Долинном, поставят перед окопами, чтобы наши не стреляли…
«Наши», «наши», какие «наши»?» — билось в голове Андрея.
— «Наши» — это кто?
— Как кто? Красные!
У Андрея голова пошла кругом.
Отец положил тяжелую руку на его плечо.
— Мы с матерью пойдем со всеми. Мне еще и выгонять людей придется.
Андрею показалось, что отец горько усмехнулся.
— Что сделаешь — служба. А тебя… — он на минуту замолк. — Тебя, сынок, придется тем временем спрятать…
— Ой! — застонала мать.
— Цыть, глупая! — рассердился отец. — Я принес крест из труб, чтобы воздух проходил, сейчас и поставим.
— Ну как можно, Гаврил, живого человека в землю класть?.. Сынок мой! — Она прижалась к Андрею, и он почувствовал на щеке мокрые от слез губы.
— Это единственный способ ему спастись! — решительно сказал отец. — Я дам возможность тебе, Надя, убежать, и ты вернешься, откопаешь его. Наши солдаты придут сюда через день или два. А нет — махнете вдвоем в лес. А потом и я присоединюсь. Не будем тратить время, положим в яму еду, поставим крест и закроем ее. На рассвете, когда эсэсы окружат село, — отец повернулся к Андрею, — скажу, что ты лазил на Колодяжные кручи, поскользнулся на глине, упал и разбился. Немцам докапываться некогда будет, глянут на свежую могилу да и уйдут. А ты, — снова обратился к матери, — надень черный платок — пусть все видят, что в трауре.
Отец поднялся и вышел из хаты. Теперь Андрей все понял… Андрея не страх мучил, а мысль о Катрусе: как же она, ее тоже мать не пускала, ласкала, целовала, словно навеки прощалась… погонят аж в Германию?! И он никогда не увидит ее? Нет, на такое он не согласен. Пусть уж их обоих гонят в Германию. Друг другу будут помогать и не пропадут! Он будет охранять и защищать любимую от всякой беды. Даже отдаст жизнь за нее, если понадобится! Вот сейчас скажет отцу: если не спасет Катрусю, то и он не хочет прятаться в яме. Но как сказать такое? Да и Катя не согласится… Его словно огнем обожгло, когда на мгновение представил ее рядом с собой в тесной яме. Нет, пускай не он, а Катерина ляжет в это убежище.
Вышел во двор. Хата Притык чуть виднелась в темноте и казалась живым существом, притаившимся под жестокими порывами ветра, который к ночи все усиливался. Там, за темными стенами, спала беззащитная Катерина, его Катруся, и он был бессилен спасти ее… Сердце Андрея разрывалось от боли.
— Батя, а может, я с вами? А сюда кого-то из более слабых…
— Что-что? — не понял отец.
— Кого-нибудь из девочек.
— Иди разбуди все село!
— Можно Катерину Притыку… — слова застревали у Андрея в горле. — Их хата вот близехонько… Я сбегаю…
— Лезь молча и не дури! — грозно прикрикнул отец. — Скоро рассвет.
Мать обливалась слезами, словно и правда хоронила. Отец похлопал Андрея тяжелой рукой по плечу и подтолкнул к яме.
Поняв, что против отцовской воли ничего не сделаешь, он покорно полез в страшный схорон.
Свист ветра прекратился. В яме было тихо и тепло. Слышал только шорох земли, которую отец кидал на перекрытие. Потом и эти звуки исчезли… Все исчезло, остался лишь страх. Удушливый страх…
…Андрей Гаврилович напился воды и вернулся на диван. Ночную лампочку выключил, комнату освещали только отблески уличных фонарей. Такие же сумерки господствовали сейчас и в его душе.
И внезапно его словно током ударило. «А что, если это провокация?! А что, если звонила не Катруся Притыка, а бог знает какая женщина?! Но с какой целью?! По чьему заданию?!»
Этой ночью ему не помогли уснуть и успокоительные таблетки.
4
Миссис Томсон тоже не могла уснуть. Стоило закрыть глаза, как перед ней вставало прошлое: и детство, и Германия, и жизнь в далекой Англии, которая стала для нее второй родиной. Жалела ли она о прошлом, сжималось ли сердце под наплывом щемящих позабытых картин, как это всегда бывает с человеком, когда он после долгой разлуки попадает в родные места и как будто возвращается в свою юность? Кто знает… Но так или иначе — что-то задело ее за живое, что-то затрепетало в душе, заныло.
Разговор с Андреем нелегко дался ей, разволновал. Чего только не передумала, как только не взвешивала сейчас каждый свой поступок, каждый день жизни после того, как заполненный невольниками эшелон повез ее в далекий чужой край.
…В неволе Катруся долго не могла прийти в себя. Согнанные из разных стран девушки работали на фабрике какой-то немецкой фирмы. Работали со щетиной, делали большие, маленькие, длинные, прямоугольные, круглые щетки и щеточки. Жили тут же, на территории фабрики, за колючей проволокой. Поднимали их ночью, в пять часов загоняли в цех, и, сонные, с поколотыми щетиной руками, они начинали безрадостный день. На обед шли строем, жадно пили брюквенный суп из металлических мисочек, и снова — работа. Поздно вечером их отводили назад в барак, и они долго не могли уснуть, дуя на покалеченные, опухшие пальцы и устраиваясь на соломе так, чтобы, ни к чему ими не прикоснуться.
Миссис Томсон механически пошевелила руками — теперь они были белые, холеные, с немного утолщенными в суставах длинными пальцами, с тонкой ухоженной суховатой кожей. Нервно нажала на кнопку возле двери, над которой была нарисована девушка с подносом в руках. Невольно посмотрела на часы. В такое позднее время дома она ничего не ела и не пила. Но ей вдруг так захотелось есть, как когда-то юной Катрусе, и она решила раз в жизни сделать исключение.
— Стакан манго и сандвич… один, — нерешительно сказала официантке ресторана, вошедшей в номер.
Сейчас могла бы съесть кто знает сколько этих сандвичей!
Девушка-официантка молча кивнула. Миссис Томсон проводила ее задумчивым взглядом. И эта молодая стройная девушка как будто тоже пришла из ее молодости, как и чувство голода, внезапно охватившее ее.
…Англичане почти каждую ночь бомбили район, где была фабрика щеток. Одна бомба упала на цех, и от него осталась куча битого кирпича и стекла. К счастью, девушки в это время были в бараках — сырья не хватало, и ночную смену немцы отменили.
Потом щетину совсем не стали подвозить. Хозяин фабрики, живший где-то в Ростоке, закрыл производство. Невольниц начали раздавать окружающим бауэрам…
Она попала в семью аптекаря в небольшой городок Рогендорф, что по-немецки означает Ржаное село.
Словно сейчас видит миссис Томсон, как заходит утром девочка Катруся в незнакомый двор. Идет боком, придерживая левой рукой разорванную внизу юбку, — зашивать нечем, ниток нет. Стыдясь, осматривается вокруг, видит ровненькие аллейки во дворе, дорожки, посыпанные желтым песком, протянувшиеся через весь двор до крыльца цветы, которые раскрылись к солнечным лучам, сарай и высокую пристройку около него, большие стеклянные бутыли, аккуратно поставленные под стеной.
Это длилось лишь один миг. Миг прошел, и староста, который привел ее, буркнул: «Шнель! Я не имею времени с тобой возиться!»
…Официантка принесла бокал густого желтого сока и бутерброд с сыром.
Миссис Томсон уже расхотелось есть, выпила только сок. Удобнее устроилась на диване.
Воспоминания продолжались.
Первое впечатление о новых хозяевах было необычным. Хозяйка — старенькая, невысокая, кругленькая как колобок женщина с очень сморщенным лицом и выцветшими глазами — спросила, как звать, и приветливо похлопала по плечу. Заметила, что юбка у Катруси порвалась.
— Нитки — это сейчас большая проблема, — сказала она, — но найдем, не печалься.
Потом в комнату, куда завели Катрусю, зашел сухопарый дедок, остатки седых волос пушистым ореолом обрамляли голову; он был в белом халате, весь какой-то белый, и Катруся подумала, что он похож на немецкого рождественского Николауса.
Дедок передвинул очки с носа на лоб, придерживая их рукой, исподлобья посмотрел на Катрусю, сказал «гут» и, повернувшись, хотел идти, но староста его задержал.
— Герр Винкман, — сказал он, — вам дали эту девушку, потому что в вашей семье нет молодых людей и самим вам тяжело работать. Но имейте в виду, продовольственной карточки на нее пока нет, и придется выделять из своего пайка. Как говорят, где есть картошка, там должны быть и очистки.
Старики постояли молча несколько секунд, уставившись на Катрусю, потом оба, как по команде, закивали в знак согласия.
…Новые хозяева ее и правда оказались необычными немцами. Катрусе даже не верилось, что в жестокой Германии могут быть такие хорошие люди. До сих пор немцы вызывали у нее только страх и ненависть, ненависть и страх. А тут, у аптекаря…
Хозяйка приказала сбросить лохмотья и выкинуть их в печь, стоявшую во дворе. После того как Катруся помылась, принесла чистенькую, почти новую юбку и блузочку. Одежда была большая на плечах худенькой, истощенной девочки, но это все же лучше, чем тряпье, в которое превратилось ее платье в Германии и из которого она, несмотря на голод, выросла. Хозяйка сказала, что это одежда невестки, которую забрали служить в зенитные войска в Бремен.
Но на этом чудеса не закончились. Во время первого же завтрака за стол посадили и ее. Перед хозяевами стояли чашки с кофе и лежало по одному сдобному коржу, который тут называли вайсплец. Перед Катрусей тоже поставили чашку. Пустую. Потом дедок отлил немного кофе из своей в ее, старуха сделала то же самое, и во всех трех чашках стало поровну. Затем старик взял свой войсплец и отломил третью часть Катрусе, хозяйка тоже положила перед ней кусочек своего коржа.
Катруся почувствовала, как спазм сдавил горло. Ей бы радоваться, но она так отвыкла от доброты, что доброта стала сейчас для ее израненной души неожиданным ударом. Она сдержала слезы, наклонила голову и с болью подумала: «А такие ли вы были раньше, когда вас еще не бомбили?» Эта мысль, хотя была, возможно, и несправедлива по отношению к ее новым хозяевам, возвратила ей душевное равновесие.
И началась у невольницы новая жизнь. Она убирала в аптеке, стирала халаты и белье, мыла банки, бутылки, пузырьки из-под лекарств…
А скоро в Рогендорфе появились англичане. По всему городку они развесили свои объявления и приказы. Среди них — обращение к бывшим невольникам и их хозяевам-немцам на нескольких языках: русском, польском, чешском, английском, французском и немецком. В обращении говорилось, что отныне ауслендеры, то есть батраки-иностранцы, — люди свободные, хозяева должны кормить их, одевать и не принуждать работать, что немцы головой отвечают за жизнь своих бывших невольников.
Прошло несколько дней с тех пор, как появились английские солдаты, городок понемногу ожил, начали работать магазины, новые учреждения…
Невольники стали разбегаться от своих бывших хозяев, и на окраине Рогендорфа, где раньше был немецкий арбайтс-лагерь, англичане устроили лагерь для перемещенных лиц. В этом лагере люди жили вроде бы и свободно, но за проволочной оградой, вдоль которой постоянно ходили часовые. Ограда осталась та же, что была и при немцах, и те же бараки, и та же проходная будка. Только в ней теперь сидел не немецкий, а английский комендант и возле входа стояли солдаты не в зеленой лягушачьей или черной немецкой форме, а в френчах цвета хаки, обутые не в сапоги, а в прочные высокие ботинки на толстой резиновой подошве с двумя пряжками.
Англичане объясняли, что вынуждены охранять лагерь, чтобы вервольфы не отомстили бывшим своим невольникам, не совершили какой-нибудь диверсии. Для этого, мол, и существует проходная, через которую на территорию лагеря посторонний не пройдет ни под видом местного жителя, ни под видом новоприбывшего ауслендера.
Правда, в бараки привезли матрацы, подушки и одеяла, и питались бывшие невольники в той же столовой, что и солдаты, — англичане хохотали над их аппетитом и фотографировали тех, кто, опорожнив миску, вторично становился в очередь.
Катруся в лагерь не пошла. За те дни, что прожила в семье аптекаря, привыкла к ощущению воли и будто оттаяла сердцем. Она сочувствовала старым Винкманам, которые не могли сами справиться и в аптеке, и по хозяйству.
Однажды встретила на улице девчат с фабрики. Они теперь жили в лагере.
Девчата сказали, что англичане обещают отправить их на родину…
Миссис Томсон и до сих пор помнит, как екнуло у нее тогда сердце от этой вести. Она не знала, что сталось с мамой и сестрой, но верила, что они живы. А тут еще и внезапный страх: «Все поедут, а я останусь!» Нужно было держаться людей.
В тот день она сказала Винкманам, что переходит жить в лагерь, но будет навещать их, помогать им…
Миссис Томсон так отчетливо видела сейчас картины того времени: седые, добрые Винкманы, аптека с железной змеей и чашей над входом и зеркальные окна, на которых слово «Apotheke» было нарисовано большими буквами, узенькие мощеные улочки, одноэтажные остроконечные домики…
А потом еще и лагерные картины: проходная, в комнатке всегда сидел сэр комендант — толстый офицер с немного выпяченной нижней губой, отчего казалось, что он пренебрежительно относится ко всему: и к пище, и к людям — русским, немцам и даже к своим соотечественникам. Вместе с ним неотступно находился переводчик — бравый сержант, который кое-как знал польский язык, еле-еле русский и совсем не знал украинский. Звали его Вильям Томсон… Но о Вильяме потом, о нем вспоминать — и ночи будет мало…
Миссис Томсон решила принять душ. Ей казалось, что после холодного обтирания она быстро и легко уснет.
Поднялась и направилась в ванную. Не знала, что в эту ночь воспоминания все равно не дадут ей уснуть до самого утра…
5
Андрей Гаврилович на свидание в парк не пришел.
Миссис Томсон ждала его долго, рассматривая детей, катавшихся возле нее на маленьких велосипедиках, молодых матерей с колясками, высокие кроны старых деревьев и красные стены университета, по преданию, покрашенные так по приказу царя — как наказание за вольнодумство студентов.
Хотя это был уютный уголок в центре города, со своим микроклиматом, где легко дышалось, где отдыхали и глаза, и душа, ожидать было неприятно. Кэтрин нервничала, ее охватывало нетерпение, любопытство и необычное волнение, словно она снова девочкой ждет свидания на лугу или у верб под Тетеревом.
Молодость не возвращалась, Андрей не появлялся.
Кэтрин взглянула на миниатюрные ромбические часики-кулон, висевшие на золотой цепочке на груди, и поднялась со скамьи. Времени у нее было достаточно, но столько ждать! Она почувствовала себя обиженной. Это было похоже на измену.
Однако какая измена?! Какие претензии она может предъявить человеку, когда-то близкому, а теперь совсем чужому?! А ей разве он не может предъявить свои?..
Она съежилась от этой мысли.
И все же ей во что бы то ни стало необходимо встретиться с ним, хотя бы посмотреть — и все; наконец, удовлетворить свой интерес — умер, а теперь, слава богу, живой и под другой фамилией. Хиромантия какая-то!..
Поднявшись со скамьи, она не сразу ушла из парка. Постояла перед величественным памятником Шевченко, вспоминая стихи, которые учила и любила в детстве. Обрадовалась, что смогла вспомнить некоторые из них, ибо, когда смотрела в суровое и мудрое лицо поэта, чувствовала себя виноватой перед ним. Снова и снова поднимала глаза, и выражение лица поэта казалось ей все более суровым, осуждающим. Чувствуя в глубине души справедливость его осуждения, не могла больше находиться в парке и направилась к своей гостинице.
Андрей Гаврилович сам позвонил через два дня. Голос у него теперь был звонкий, как в молодости. Он просил прощения и разрешения встретиться. Сказал, что провел эти дни в архиве Партизанской комиссии и выяснил, что отец его и в самом деле служил в полиции по заданию партизан. Он благодарен ей на всю жизнь за принесенную весть.
Кэтрин согласилась на свидание. В этот раз Андрей Гаврилович не возражал против гостиницы, и они договорились встретиться вечером в вестибюле.
* * *
…Миссис Томсон сидела в кресле в холле гостиницы и старалась не смотреть на входную дверь. Заставляла себя разглядывать большие темно-коричневые, из искусственной кожи кресла, стоявшие под стеклянной стеной, декоративные растения в замаскированных бочечках, маленькую стрельчатую пальму. Потом перевела взгляд на длинный высокий барьер, за которым сидели несколько сотрудниц гостиничной администрации и толпились люди, ожидая свободных мест. Она утопала в глубоком кожаном кресле, и ей казалось, что, когда нужно будет, не сможет сразу выбраться из его толстого засасывающего чрева.
Она и желала, и одновременно не хотела видеть Андрея таким, каким он стал теперь; боялась, что разрушится образ, отложившийся в памяти. А в глубине души — и в этом она не хотела признаться себе — прятался страх: какой покажется ему она и, самое главное, сможет ли оправдать то, что произошло в их жизни, объяснить, что ее вины в этом нет.
Миссис Томсон то и дело поправляла рукой коротко подстриженные волосы, осматривала себя, теребила кулончик на груди и лихорадочно обдумывала то одну, то другую фразу, которую произнесет при встрече…
Андрей Гаврилович явился неожиданно. Кэтрин уже перестала бороться с собой и не сводила глаз с входной двери.
И все же прозевала его. Заметила лишь тогда, когда врач, держа в руке свежую розу, остановился перед креслом. Широкий в плечах, седой, с изрезанным морщинами лицом. Нет, не Андрей. Хотя глаза у него блестели по-юному, Андреем назвать его не могла, только Андреем Гавриловичем, потому что того, кого ждала, он напоминал очень приблизительно.
Доктор несколько секунд вглядывался в нее, словно узнавая и не узнавая свою бывшую Катрусю. И она под этим его пытливым взглядом вдруг остро почувствовала, что тоже очень постарела, и в первое мгновение даже пожалела об этой встрече, будто развеяла ею какую-то очень дорогую для обоих, теперь бесповоротно утраченную мечту.
Андрей Гаврилович поклонился. Потом, набрав в грудь воздуха, глухо произнес:
— Здравствуй…
Миссис Томсон еле поднялась к нему из кресла. И вдруг что-то очень знакомое, живое, задиристое промелькнуло в глазах этого пожилого человека. Вскрикнув: «Катруся!» — так, что на них обернулись, бросил розу на освободившееся кресло и неуклюже, по-медвежьи обнял ее.
— Жива, выходит, жива! А я все не верил, когда позвонила!.. Все не верил, пока вот сам не увидел, — скороговоркой бормотал он. — Ну, слава богу. Это же самое главное! Это же просто чудесно, что жива!..
Разочарование Кэтрин стало будто не таким острым, как в первый миг. Почувствовала, что ей не придется много объяснять Андрею, что он, в конце концов, тот самый, которого когда-то любила. У нее тоже был свой камень на душе, и Андрей — единственный человек, кто мог все понять, все ей простить и снять этот камень.
— Но ведь и ты, слава богу, жив! — будто в чем-то обвиняя, сказала она, и на глазах у нее выступили слезы.
…Они разговаривали стоя около кресла, на котором лежала забытая роза, перескакивая с одного воспоминания на другое, Андрей Гаврилович вдруг предложил.
— Да чего мы тут стоим, Катруся?! Идем куда-нибудь.
Миссис Томсон побоялась пригласить его в гостиничный номер, потому что в любое время могла вернуться дочь, которая пошла куда-то со знакомыми туристами.
— А не пойти ли нам в ресторан? Ты ужинала?
Кэтрин кивнула: то ли в знак согласия, то ли подтверждая, что ужинала, — но он уже тянул ее за руку, словно не солидный мужчина, а счастливый юноша. Глаза его блестели, с лица не сходила улыбка.
Ресторан встретил их шумом оркестра, топаньем танцующих, и Андрей Гаврилович пробурчал:
— Эге, поговоришь тут, под такой грохот… Все наслаждение пропадает от ресторана, когда гремит над головой. — Он словно извинялся перед Катериной за неразумных музыкантов. — У вас в Англии тоже такое в ресторанах делается?
— Бывает всякое, — усмехнулась миссис Томсон. — Такое, что вам тут и не снится! — добавила, не вдаваясь в подробности.
Метрдотель пригласил их за свободный столик возле окна, прислал молоденькую официантку в красивой вышитой блузочке. Та быстро приняла заказ и пошла его выполнять. Впрочем, и Кэтрин, и Андрею Гавриловичу было не до ужина, и они заказали только шампанское и фрукты.
До прихода официантки сидели, обмениваясь короткими незначительными фразами, не имея сил сосредоточиться на чем-либо одном, отобрать в веренице воспоминаний самое важное, самое главное.
Бокал шампанского не мог опьянить; однако, выпив, они начали разговаривать беспорядочно, временами излишне экзальтированно, не обращая уже внимания на то, что делается вокруг.
Опытный метрдотель, поняв, что за столиком происходит какая-то необычная встреча, никого к ним не подсаживал.
Наконец они заговорили о том, с чего нужно было начинать и что было для доктора самым главным: Кэтрин стала рассказывать о расправах немцев над криничанами.
Андрей Гаврилович ловил каждое слово, переспрашивал, иногда просил повторить ту или иную деталь. Когда миссис Томсон закончила, он сказал:
— Я уже уточнил. Я потому не пришел к тебе в парк, что решил сначала все выяснить. Ты вернула меня к жизни! Теперь я твой вечный должник. — Он немного приподнялся и, перегнувшись через столик, поцеловал Кэтрин руку. — Я все уточнил. Отец не успел сообщить партизанам о том, что людей выгоняют из села, должен был предупредить их по дороге. Но это ему не удалось, и он погиб. — Андрей Гаврилович тяжело вздохнул. — А мама пропала без вести, как и все криничане… Меня нашли наши солдаты. Даже в могилу долетали звуки пушечной канонады. Я лежал там, пока все стихло, а потом стал выбираться. И не смог. Очень ослаб за три дня; наверное, от недостатка воздуха. Отец поставил крест из трубы, чтобы воздух свободно поступал, но все равно его было недостаточно. Одним словом, сам я выбраться не мог. Я очень испугался, чуть с ума не сошел. Артиллеристы, которые стояли в нашем дворе, заметили, как шатается крест на могиле. Удивленные, они сняли его и откопали меня, уже почти без сознания. От испуга я потерял память и речь, меня отправили в госпиталь, где записали под фамилией Найда… Вылечившись, я не пожелал восстанавливать свою фамилию: кому хочется признаваться, что ты сын полицая… А что отец выполнял партизанское поручение, мне и в голову не приходило, хотя он намекнул мне об этом в ту страшную ночь…
— Если бы я знала, что ты не по-настоящему похоронен, — вздохнула миссис Томсон, — может, и моя жизнь сложилась бы иначе.
— Я теперь вторично родился на свет… Благодаря тебе.
В ресторане становилось все более людно и шумно. Все чаще взрывался громом литавр и барабанов оркестр. Даже в узкий проход между столиками то и дело ввинчивались танцоры. Но Кэтрин и Андрей Гаврилович ничего не видели, ничто им не мешало.
И вдруг миссис Томсон услышала имя дочери, произнесенное по-английски:
— О'кей, Джейн!
Это вернуло ее к окружающей действительности. Мигом оглянулась и увидела за соседним столиком высокого рыжего юнца, восторженно аплодировавшего. Проследив за его взглядом, увидела и Джейн, которая экзальтированно дрыгала ногами, выделывая какие-то немыслимые па.
Миссис Томсон догадалась, что дочь пришла в ресторан с новым знакомым, и, узнав в нем англичанина, недовольно поморщилась: уж больно быстро находит она себе поклонников. Может, из-за этого ей до сих пор не посчастливилось выйти замуж. Впрочем, Джейн раньше и не спешила с замужеством. Она считала официальный брак предрассудком и предпочитала вести свободную жизнь в обществе друзей, а не жарить бифштексы законному мужу. Теперь появился Генри — один из последних ее избранников. Генри, возможно, и не был бы последним, если бы не завещание отца, по которому он оставлял дочери свою небольшую ремонтную мастерскую. Условием наследования было замужество. Генри отличался мелочностью, капризностью и безразличием ко всему, кроме денег. Ему повезло с Джейн — он имел такую же механическую мастерскую по ремонту фото— и киноаппаратов и полностью подходил на роль хозяина обоих заведений: англичане чрезвычайно уважительно, даже почтительно относятся к собственности. И Джейн, и Генри восторгались мыслью, что, объединив две небольшие мастерские, станут настоящими предпринимателями.
Когда джаз затих и танцующие разошлись к своим столикам, Джейн подбежала к матери. Она уже давно была в ресторане, давно заметила мать, удивилась, что та сидит с незнакомым мужчиной и не сводит с него глаз. Потом к удивлению примешалось чувство обиды, она приревновала мать к этому чужаку, который сразу ей не понравился; обиделась не за себя, а за покойного отца, и решила не обращать на нее внимания, будто ее здесь нет. Но теперь, когда мать сама бросила на нее вопросительный взгляд, ей ничего не оставалось, как подойти к столику и еле заметным кивком приветствовать ее и собеседника.
— Моя дочь, — сказала Кэтрин доктору, в голосе звучала гордость. — Джейн Томсон. Она прилетела два дня назад, чтобы приглядеть за мной и отвезти домой. Она хорошо владеет украинским. Я сама ее учила, с пеленок.
Джейн еще раз удивилась: всегда сдержанная мать сообщает такие подробности чужому человеку, но не показала этого и снова наклонила голову.
— Какая красавица! — не сдержал своего восхищения врач. Перед ним и в самом деле стояла разгоряченная танцами в душном зале ресторана красивая, стройная, длинноногая девушка в коротком платье спортивного стиля. Правильные черты продолговатого матового лица, короткая мальчишеская стрижка делали ее очень милой, несмотря на немного дерзкий взгляд карих глаз.
— Друг моего детства и юности, — кивнула миссис Томсон в сторону Андрея Гавриловича, который никак не мог оторвать от девушки взгляда. — Я тогда была… как ты, — добавила она, обращаясь к дочери. — Да, да, такая, как ты…
— Вы похожи на мать, — поддержал доктор Кэтрин, решив, что если сейчас схожесть и очень сомнительная, то это за счет разницы в возрасте. Впрочем, Катруся в его воспоминаниях была такой же красавицей, и ему хотелось сказать девушке что-то приятное. — Ваша мама, мисс Джейн, — Андрей Гаврилович был доволен, что не забыл приставить к имени девушки слово «мисс», — ваша мама была такой же живой, энергичной, я сказал бы, даже экспансивной и так же прекрасно танцевала… Вы, может, и сейчас не разучились? — не посмел он обратиться к Кэтрин на «ты» в присутствии дочери.
— Да нет, — вздохнула миссис Томсон. — Давно не танцую… С тех пор, как умер муж… — Она нерешительно отодвинула от стола свободный стул и сказала Джейн: — Садись с нами, милая. Может, выпьешь шампанского?
— Извини, мама… Но меня ждут… — Джейн скосила глаза на соседний столик. — Да и вам буду мешать, — и, не допуская возражений, быстро кивнула доктору на прощанье.
Кэтрин облегченно вздохнула. Да, дочь сейчас была лишней. Разговор миссис Томсон и Андрея Гавриловича продолжался, но что-то уже изменилось в нем, словно с появлением Джейн пролетел в воздухе холодный ветерок, и той откровенной, щемяще ласковой беседы, какая была до сих пор, у них уже не получалось.
6
В какую-то секунду миссис Томсон показалось, что она уснула, сидя в кресле. Но это был не сон, а химерные видения прошлых лет. Мать, эшелон, везущий ее в Германию… Она будто раздвоилась в этих видениях: вот она в середине грязного товарного вагона, набитого до отказа замученными, голодными девушками-невольницами, и в то же самое время будто видит, как тянется этот страшный эшелон просторами Рейнской долины, усеянной красивыми чистенькими селами с домиками под цветными черепичными крышами и высокими колокольнями кирх. Она смотрела вслед поезду, и ей грезилось, что это поплыли вдаль не вагоны, а ее пропащие годы, ее искалеченная войной молодость.
После встречи с Андреем у нее разболелось сердце, и она приняла успокаивающие пилюли, которые и поставили ее на грань между сном и явью. Такое легкое забытье восстанавливает силы… Спасибо Роберту — он готовит для нее в своей лаборатории лекарства, каких не купишь ни в одной аптеке. Что бы она делала, если бы не сын! Хоть много задал он ей хлопот и тревог, пока вырос, но вот имеет сатисфакцию от него… Да, кто знает, как сложилась бы у нее жизнь, если бы не встреча с Вильямом Томсоном. Не было бы у нее ни Роберта, ни Джейн…
Кэтрин почувствовала, что у нее затекла нога, удобнее умостилась в кресле. Она снова закрыла глаза, и мысли ее полетели далеко-далеко…
…В тот вечер Катруся не вернулась из Рогендорфа в лагерь. Фрау Винкман стало плохо с сердцем, аптекарь спасал жену лекарствами, и помощь Катруси не нужна была. Но старуха очень просила не бросать ее, и Катруся осталась ночевать, тем более это была последняя их встреча. Сегодня она пришла попрощаться.
Несколько дней назад лагерь посетили советские офицеры, и первая партия девушек выезжала на родину… Винкманы понимали Катрусю, радостно кивали, когда она с сияющими глазами говорила, что скоро будет дома. Конечно, либер гаймат[1] — это очень дорого человеку…
Утром Катруся, как всегда, выпила кофе с Винкманами и собралась идти. Старый аптекарь попросил подождать. Он исчез в спальне и вскоре вышел оттуда с каким-то предметом в руках, поставил на стол. Небольшие настольные часы. Но какие же красивые! Они были вмонтированы в черную оправу, на которой сияли позолоченные амуры с луками и стрелами.
Винкман торжественно завел их, подвел стрелки, и в комнате поплыла бодрая мелодия старинной немецкой песенки «Ах, майн либер Августин».
На глазах стариков заблестели слезы.
— Эти часы еще от моих родителей и дедов, — сказал аптекарь, когда растаял последний звук. — Наша семейная реликвия… Мы дарим их тебе, чтобы никогда нас не забывала и думала о нас хорошо.
Катруся тоже чуть не расплакалась.
…Когда подходила к лагерю, вспомнила, что осталась на ночь в Рогендорфе без разрешения коменданта. Но предстоящее наказание ее не испугало. Ее тревожило другое.
Внести что-нибудь в лагерь днем через проходную было невозможно: англичане строго следили, чтобы ауслендеры «не обижали» бывших хозяев. А тот, кто в потемках пробовал перелезть через проволоку, рисковал головой, потому что ночью солдаты стреляли без предупреждения. Комендант объяснял этот приказ тем, что будто бы хочет уберечь лагерь от немецких диверсантов, хотя в то же время разрешил немцам держать охотничьи ружья — они были чуть ли не у каждого бауэра…
Как же пронести подарок Винкманов? В тех случаях, когда ауслендер утверждал, что принес подарок, комендант сажал его в машину, спрашивал адрес и фамилию бывшего хозяина и ехал проверять.
Ну что ж, решила Катруся, если комендант не поверит, пусть едет.
Вот и узкая рыжая дверь проходной. Возле нее стоит молодой чернявый, наверное уроженец Индии, охранник с ярко-желтой шелковой косыночкой на шее — такие косынки носили неженатые солдаты. Катруся открыла дверь и пошла коридором вдоль стеклянной загородки, за которой краем глаза видела жирного коменданта и его переводчика Вильяма. Они о чем-то беседовали. Катруся уже открыла ту дверь, что вела во двор, когда услышала сзади:
— Стенд стил![2]
Остановилась. Комендант, блеснув массивными перстнями, поманил пальцем.
Она зашла в комнату спокойная, уверенная.
— Где ночевала?
— У аптекаря Винкмана. Я работала раньше у них. Фрау Винкман чувствовала себя плохо…
— Ты разве врач?
— Нет, но фрау просила не оставлять ее.
— А что у тебя под мышкой?
— Часы, сэр комендант.
— Где взяла?
— Подарок Винкманов.
— Покажи.
Катруся развернула пакет и поставила часы на стол. Крылышки золотых амуров засверкали в утренних солнечных лучах.
Комендант крякнул, взял в руки часы, начал рассматривать со всех сторон.
— Они еще и играют, — похвалилась она. И завела часы. Комнату заполнил мелодичный звон, зазвучала веселая песенка.
Серые глаза коменданта сузились.
— Не может быть, чтобы тебе подарили такую ценную вещь.
— Как это не может быть! — возмутилась Катруся.
— Немцы не такие щедрые на подарки, — засмеялся комендант. — Да еще и своим ауслендерам!.. Ты что, немцев не знаешь?! Вот вызову машину, поедем и проверим… И если окажется…
— Можете вызывать. — Глаза Катруси наполнились слезами.
— Проверим, — повторил комендант. — А пока что пусть тут побудут.
— Когда же вы проверите, сэр комендант? — сквозь слезы спросила Катруся.
— Когда будет время! — гаркнул на нее офицер.
Она умоляюще посмотрела на Вильяма, который, запинаясь, кое-как перевел слова коменданта. Видно было, что он сочувствует ей, но ничем помочь не может.
— Ну чего стоишь? — вызверился комендант. — Иди и благодари бога, что не наказываю за самовольную ночевку. Впрочем, я и это проверю, где ты ночевала и что делала. Смотри у меня, — погрозил пальцем. — А часы твои, если это на самом деле подарок, не пропадут. Тут безопаснее, нежели в бараке, где их у тебя могут украсть…
Катруся, не различая дороги, вышла во двор. Плача, плелась к своему бараку… Плакала не из-за часов. Обидно было, что ее так оскорбили…
…Дверь открылась, и в комнату вошла Джейн. Возвратилась из ресторана; щеки ее пылали, походка была неровной.
— Ты не спишь? — Она шумно опустилась в кресло. — Ох, мамочка… — Глаза у Джейн заблестели, потом будто затянулись дымкой, погасли. — Сначала было очень весело. Я танцевала до упаду… А потом… — Что она потом делала, так и не сказала. — Тот рыжий Фрэнк великий нахал!.. Он из Портсмута… Там все такие. — Джейн зевнула. — Я хочу спать…
Она направилась в ванную. Миссис Томсон подумала, как это хорошо, что Джейн не пришлось пережить того, что испытала она в свои пятнадцать лет.
Дочка долго принимала душ. Кэтрин снова возвратилась в далекое прошлое.
…В тот же день Вильям Томсон нашел ее в бараке. Она уже успокоилась и, когда переводчик сказал, что попробует забрать у жирного кабана часы, только рукой махнула: пусть он подавится, этот комендант!
Переводчик был необычным человеком. Он не насмехался над обшарпанными невольниками, как другие солдаты, и когда переводил речь коменданта, густо пересыпанную бранью, всячески смягчал выражения.
Катруся давно заметила, что Вильям не сводит с нее глаз и в свободные минуты слоняется около барака, надеясь встретить ее и угостить шоколадом, конфеткой или апельсином… Худощавый, стройный, с продолговатым приятным лицом, он тоже ей нравился. Однако она не собиралась с ним флиртовать, как это делали другие девчата с солдатами. Хотя он и освободил ее от немцев, все равно был для нее чужаком. К тому же в ее семнадцать лет двадцатипятилетний Вильям казался ей очень старым дядькой. А самое главное, она со дня на день ожидала отправки домой, и все прочее ее не интересовало…
Миссис Томсон усмехнулась. И правда, в семнадцать лет и двадцатипятилетние кажутся немолодыми…
Находясь в лагере, Катруся видела, что англичане не торопятся отправлять людей на родину. В лагере шлялись всякие коммивояжеры, вербовали девчат и ребят в Канаду, Южную Америку и даже Африку. Обещали большие заработки, запугивали наказанием, которое будто бы ждет в Советском Союзе всех, кто возвратится. Однако мало кого удавалось завербовать.
Катруся, поняв, что какое-то время еще придется побыть в Рогендорфе, снова начала ходить к Винкманам — помогала старикам.
Но все же пришла минута, когда первая партия бывших невольников должна была отправиться домой. В Европе царила весна. Весна в расцветающей природе и в душах людей. Вильям сказал, что Катруся попадет в первую группу. Он сказал это так печально, словно отъезд девушки причинял ему огромную боль. Но Катруся не придала этому значения, она расцвела словно цветок, раскрывшийся под теплыми солнечными лучами, не ходила, а летала по лагерю.
А потом случилась беда. В день отправки оказалось, что из списков первой партии Катрусина фамилия исчезла. Кто вычеркнул, почему, зачем? Бросилась к Вильяму, но он ничем не мог помочь, сказал, что должна пройти еще какую-то проверку. Прощаясь с подругами, проплакала целый день. Переводчик несколько раз приходил в барак, успокаивал, сказал, что следующую группу отправят через несколько недель…
Теперь Кэтрин знала, что Вильям обманывал ее, что это он заменил ее в списках другой девушкой… Миссис Томсон вздохнула: интересно, как бы сложилась ее жизнь, если бы не эта хитрость влюбленного Вильяма…
Джейн вышла из ванной в халате. Она протрезвела и посвежела от купания. Кэтрин невольно залюбовалась дочерью. Нет, Джейн совсем не похожа на нее — чуть продолговатое лицо, как у отца, а не круглое, как у Притык, но тоже милая и женственная. Кэтрин вдруг вспомнила, как, умывшись у Винкманов, она впервые за долгое время увидела свое изображение не в стекле, не в бочке с гнилой водой, стоявшей на фабричном дворе, а в настоящем зеркале, и ужаснулась: оттуда смотрела незнакомая, намного старше ее девушка с печальными строгими глазами. И только когда заставила свои губы сложиться в горькую улыбку, узнала себя…
— Мамочка, — сказала Джейн, потягиваясь, — я ложусь спать… А ты почему не идешь в спальню? Все мечтаешь?.. — Она подошла к ней, обняла. Миссис Томсон подставила щеку для поцелуя. — Спокойной ночи.
…А вот другая картина встала перед глазами. Грустный, какой-то будто посеревший Вильям, глотая слезы, переводит ей страшное письмо из Англии. Собственно, не из дома, а из детского приюта, потому что дома у него уже не было. Во время одного из последних немецких налетов в здание, где жила его семья, попала бомба. Мать Вильяма, отец и молодая жена погибли под развалинами. Чудом уцелела только его маленькая дочка Джейн, которую мать прикрыла своим телом.
Письмо из детского приюта, поскольку там не знали точного адреса Вильяма Томсона, блуждало несколько месяцев по разным военным почтам. Теперь сержант должен быстро демобилизоваться и возвратиться в Англию…
Катруся переживала за него. Как могла, утешала своего нового друга, чувствуя, что и ей станет намного тяжелев в лагере, когда он уедет…
На второй день вечером он снова пришел к ней. Кэтрин до смерти не забудет того разговора. Они сидели около барака на скамейке, и Вильям держал ее руки в своих. Был теплый, уже не весенний, а по-настоящему летний вечер. В чистом черном небе, будто свечки, белым пламенем горели зори. Целуя ее руки, Вильям сделал предложение. Кэтрин почему-то больше всего запомнились их нечеткие тени на вытоптанной земле. Она не поднимала глаз на Вильяма, лишь смотрела на его тень, которая льнула к ней.
— Как же это, Вильям… Я хочу домой. У меня там мама и сестра…
— Мы их разыщем, — пообещал сержант. — Непременно. Сейчас тебе нельзя возвращаться… А со временем поедем вдвоем. Я тоже хочу увидеть твою маму, познакомиться с родными…
— А маленькая Джейн?
— Я ее еще и сам не видел, она родилась, когда меня забрали в армию. Скоро ей будет годик. Ты станешь ей матерью, и она будет тебе хорошей дочкой…
Свадьбу не справляли. У Томсона еще был траур. Их тихо обвенчал полковой священник в оборудованной для солдат церкви. Комендант удостоверил брак, даже подарил Катрусе… часы Винкманов, которые раньше отобрал…
Вильям под всякими предлогами откладывал поездку на Украину. Сначала читал ей книжечки, в которых писалось, что Советское правительство преследует бывших пленников, запугивал, потом ссылался на дела, наконец — на болезнь…
Время шло. Она полюбила Вильяма, который заботился о ней, полюбила маленькую Джейн, которая считала ее родной матерью, — Вильям добился в мэрии, чтобы новой жене разрешили удочерить ребенка. Только в церковных документах была записана родная мать Джейн — миссис Клерк Мэри Томсон.
У нее родился Роберт. Понемногу тоска по родине стихала в ее сердце. Но после смерти Вильяма вспыхнула с новой силой. Джейн вот-вот должна выйти замуж. У Роберта тоже своя жизнь, свои друзья, и мать была ему нужна, лишь когда не хватало денег на прихоти. Что ж, парень есть парень…
…Джейн возилась в спальне. «Кладет на лицо ночной крем, — поняла Кэтрин. — В моей молодости этого не знали… Но сейчас ведь другие времена, другие условия жизни, да и Джейн засиделась в девках, и ей нужно особенно следить за своим видом… Как хорошо, что она до сих пор не догадывается о своем происхождении!» Миссис Томсон и Вильям долго скрывали эту тайну от всех. Но как-то Роберт узнал о ней и начал свысока относиться к девочке. Он и раньше не отличался любовью к сестре, а после того как узнал, что они с Джейн родные только по отцу, совсем перестал считаться с нею, и Кэтрин временами нелегко было поддерживать лад в семье. После смерти Вильяма Роберт стал шантажировать мать, пугая, что откроет Джейн тайну. До сих пор миссис Томсон удавалось уговорить сына не делать этого. Не за «спасибо», конечно, оплачивала какие-нибудь его долги.
Но теперь… Теперь она уже не Роберта боялась — со страхом ждала свадьбы Джейн. Ведь когда придется обратиться к церковным записям, девушка обо всем узнает.
Какими глазами посмотрит она на нее? Примет ли во внимание все, что сделала для нее? То, что любит ее и была настоящей матерью? Простит ли ей обман, не прорастет ли в ее душе горькое зерно отчужденности?.. Это было бы для Кэтрин тяжелым ударом…
Джейн потушила свет в спальне и затихла.
В конце концов, она, Кэтрин Томсон, станет скоро очень одинокой в своем доме. Вильяма нет. Джейн выйдет замуж и будет иметь свою семью, свои хлопоты. Роберт давно отдалился. Выходит, самый близкий родной человек ей — сестра Таисия.
У Кэтрин промелькнула новая мысль: а что, если забрать с собой в Англию ее? Это вполне возможно. Ведь для воссоединения семей никто не чинит препятствий. Но Бориса Сергеевича она не сможет забрать — это ей не под силу. Впрочем, тот и сам не поехал бы, даже и за Таисией, — чересчур прямолинейный, привык к здешней жизни, хотя она его и не очень балует. Да он и не будет для сестры помехой — Таисия сказала, что брак у них не официальный, живут на веру.
А вот Андрей…
Что Андрей?
Мыслями она все время возвращается к нему! Сколько ей теперь осталось той жизни и сможет ли она найти потерянное? Конечно, если бы не Джейн и Роберт, ей было бы проще все решить. Джейн — это дочь Томсона, часть его… Но и частица ее — она отдала ей лучшие годы… Но захочет ли сам Андрей? Ведь она ему теперь чужая, совсем чужая…
Миссис Томсон всматривалась в чуть очерченное в ночных сумерках, подсвеченное далеким уличным фонарем большое прямоугольное окно. За ним ничего не вырисовывалось. Закрыла глаза, сон наплывал на нее волнами морского прибоя сильнее и сильнее, и она устала с ним бороться. Не было сил подняться из мягкого кресла, она откинула голову на высокую спинку, а затем отдалась волне, которая понесла ее в открытое море, в пучину сна…
7
— Я не знаю, для чего ты сюда вообще ехала! — сердито сказала Джейн, гася сигарету. — При твоем здоровье эти волнения тебя погубят.
— Ах, ты не понимаешь, Джейн… Как жаль, что нет у тебя сестры. Но есть брат, и ты его любишь… Я в большом долгу перед Таисией. И, если хочешь знать, перед собой тоже… Ведь могла найти ее раньше, не через тридцать лет. Правда, в этом деле отец наш приложил руки. Он был своеобразным человеком и не разрешал мне поехать в Советский Союз. Не знаю, или боялся, что я останусь тут, или, возможно, не хотел, чтобы волновалась, узнав о судьбе родных, а какая ждала их судьба во время оккупации, он хорошо понимал. Так или иначе, но при его жизни мне поехать не удалось. А когда господь позвал его к себе, я не могла надолго бросить мастерскую… После войны писала сюда письма и не получала ответа… Как теперь узнала, наша мама, выгнанная немцами из родного дома, где-то погибла. Это большое горе, и сердце мое разрывается от жалости…
Джейн подумала, что мать не все рассказывает. Ей не верилось, что родственные чувства могут вспыхнуть так внезапно, если они молчали столько лет. Подозревала: в том, что мать за короткое время пребывания на родине так изменилась, есть какие-то скрытые причины.
— Это слишком сентиментально, — пренебрежительно сказала она, упав на диван и положив голову на спинку. — Я не узнаю тебя, мама, ты всегда была деловой и рациональной.
— Ах, Джейн, Джейн… — Кэтрин поднялась из кресла, подошла к дочке и погладила ее по голове. — Это что-то другое, совсем другое. Я сама не думала, что эта встреча так меня потрясет.
— Теперь ясно, почему ты здесь заболела и вызвала меня. Для твоего сердца даже радости, если они внезапные, не очень полезны…
— Я не потому заболела.
— Ладно, ладно, — снисходительно улыбнулась Джейн. — Ведь я приехала. Теперь, слава богу, ты уже увиделась с сестрой и можно возвращаться домой. Генри пишет, что очень тоскует, что нужно готовиться к помолвке. Я обещала, что скоро буду с тобой дома.
Миссис Томсон, слегка кивая в такт словам дочери, подсела к ней.
— Нам нужно посоветоваться, доченька, об одном деле. Только не думай ничего плохого. Я не хочу обидеть вас, своих детей, — ни тебя, ни Роберта… У нас и правда небольшие доходы. Поэтому и советуюсь сейчас с тобой…
— Извини, мама, но, откровенно говоря, меня не очень тешит эта родня… И почему это ты так кошелек перед Таисией раскрываешь? Сама говоришь — мы не такие богатые…
— Но это же моя сестра. Я должна была бы привезти ей какой-нибудь подарок. Я ничего не купила, ибо не знала, найду ли ее… А теперь, когда нашла, хочется подарить что-то хорошее…
— Это в тебе вспыхнула твоя славянская натура: и душа, и кошелек настежь… Атавизм, мамуся.
— Славянская или не славянская, — уже рассердилась Кэтрин, — что ты в этом понимаешь?! Между прочим, что я такое Таисии купила? Шапку и рукавички!.. — И она отвернулась от дочери, давая понять, что разговор на эту тему закончен. — Ты жестокая! — На глазах у миссис Томсон выступили слезы.
— Я не жестокая, а справедливая! — Джейн стремительно вскочила с дивана, взяла со столика свою сумочку. — И лучше открыто высказывать свои мысли, нежели таить в себе… Мы собираемся на выставку. Ты не поедешь с нами?
— Кто это «мы»? — вытирая слезы, спросила Кэтрин.
— Ребята и девушки из Портсмута и Брайтона. Этот рыжий Фрэнк и его друзья. Они завтра уезжают дальше, в Ленинград.
— Нет, — сказала миссис Томсон, — я не поеду… Выходит, ты против того, чтобы я хотя бы немножко помогла твоей тетке?..
Джейн сердито повела плечами:
— В конце концов, это твои деньги и твое дело. И я тебе не советчик…
Она постояла посреди комнаты еще несколько секунд — вспоминала, не забыла ли что-нибудь нужное, — и, повернувшись, пошла к двери. Уже открыв ее, вернулась, поцеловала мать в щеку:
— Не волнуйся. Главное, береги здоровье… — Помахала рукой и скрылась за дверью.
* * *
Таисия Григорьевна вместе с Кэтрин вышла на крылечко дачи. Обвела взглядом кусты крыжовника, сарай, на стену которого опирался поваленный забор, старые сливы, кроны их тонули в потемневшем небе. Бориса нигде не было. Поняла: муж ушел, чтобы не прощаться с Кэтрин. Ей стало неудобно перед ней, и она громко крикнула в глубь двора:
— Борис!
Никакого ответа. Только ветер, казалось, сильней зашумел на пустом дворе, в сливах.
— Боря! — позвала еще раз и, не ожидая ответа, повернулась к сестре: — Ну и человек! Уже куда-то смылся!
Миссис Томсон невозмутимо молчала. Подумала, что Таисии и в этом не посчастливилось. Муж попался с норовом. Но ничего не сказала.
Сестры спустились с крылечка. Вышли на дачный проселок. Кэтрин несла букет цветов, который Таисия нарвала по дороге к калитке.
Бориса Сергеевича и на улице не было.
— Куда он мог запропаститься? — удивленно пожала плечами Таисия, хотя уже догадалась, что муж поплелся к ларьку.
Женщины пошли бережком, заросшим кустами лозы, за которыми был узенький дачный пляж и причал для катеров. На пляже миссис Томсон отыскала дочку, и они направились к речному трамваю.
Таисия Григорьевна долго, пока не исчез катер в сумерках, махала ему вслед рукой.
…Борис ждал ее на даче. Она не ошиблась. Он ходил в ларек и принес «Бiле мiцне». Ожидая ее, разлил вино в стаканы и, кажется, успел уже выпить.
— Боренька, куда ты исчез? — ласково спросила Таисия Григорьевна. — Так неудобно было перед сестрой Катрусей.
Он нахмурил косматые, седые, торчавшие во все стороны брови, сердито сверкнул глазами.
— Не Катруся, а Кэт. По-немецки — кошка! И не сестра! Она давно тебе чужая, эта миссис Томсон… Пани Томсон… Скажите пожалуйста — пани из голой деревни…
— Ну, чего ты действительно, Боренька, — мягко произнесла Таисия Григорьевна, беря стакан. — Ведь родная сестра! Пойми, родная…
— Которая объявилась только через тридцать лет!
— И все-таки родная. А как мы ее принимаем?..
— Она же этого не пьет… — покосился он на свой стакан. — Чем же ее угощать?
— Стыд, да и только. И живем с тобой на смех людям. Джейн и заходить не хочет.
— По-моему, я живу лучше, чем эта миссис. Плевать я хотел на ее деньги!.. А ну покажи, — вдруг кивнул он на ее руку, — что там у тебя?
Вздохнув, Таисия Григорьевна подняла из-под стола руку и молча сняла с пальца красивый перстень с камнем. Борис Сергеевич положил его на свою ладонь.
— Руку протягиваем за милостыней! Сначала меховую шапку и перчаточки, теперь перстень… А что дальше? — Голос его то усиливался, приобретая металлические нотки, то спадал до шепота. — Вот это и есть стыд и позор!
— Боренька, да что ты! — еле слышно прошептала Таисия Григорьевна. — Ведь не чужая подарила, родная… Поможет дачку отремонтировать, в квартире ремонт сделаем и не будем стоять с цветами и сливами возле метро…
— Это не позор, что цветы продаем. Не спекулируем, как Поликарп Крапивцев. Позор — вот это. — Он поднялся и, крепко зажав перстень, направился к открытому окну, словно собираясь забросить его в кусты.
Таисия Григорьевна вскочила.
Борис Сергеевич сжал пальцы в кулак, чтобы жена не смогла выхватить перстень.
— А ты подумала, — закричал он гневно и затопал ногами, — ты подумала, откуда у нее деньги?! Ты подумала, где и как они нажиты или награблены? Не хочу! И не дам, не позволю! Не надо мне! Нам вполне хватает того, что имеем. Жили и будем жить! Не смей!..
Таисия Григорьевна заплакала.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Олесь Залищук пришел на дачу, когда у Таисии Григорьевны была в гостях Кэтрин. Сестры сидели на лавочке около домика. Миссис Томсон что-то вязала и старалась развлечь сестру рассказами о своих путешествиях. Хозяйка дачи смотрела вокруг с таким выражением на обрюзгшем лице, что казалось, тронь ее — и польются слезы. Она и раньше была слезливая, особенно когда вспоминала свою неудавшуюся театральную карьеру. А теперь, после смерти Бориса Сергеевича, досыта наплакавшись, стала одутловатой, медлительной и неповоротливой. Ничего не хотела, ничего не просила, ничего не ждала, кроме сочувствия, и если заговаривала, то лишь затем, чтобы сказать, какая она теперь, без Бориса Сергеевича, одинокая. Но и это не договаривала до конца, потому что из глаз начинали капать слезы. Могла целый день не есть, и если бы не Кэтрин, которая каждое утро или приезжала к ней на дачу, или приводила ее к себе в гостиницу, кто знает, что с ней было бы…
Солнце, разгораясь, пробивало лучами-стрелами кроны старой липы и высокой усохшей вербы около калитки; в запущенном саду повеселело.
Подняв голову, миссис Томсон увидела молодого человека, который заглядывал во двор. За оградой стояла женщина с ребенком на руках. Они, очевидно, не отваживались войти.
— Тася, — сказала Кэтрин, — к тебе, кажется, гости.
Таисия Григорьевна взглянула в сторону переулка и не поверила своим глазам.
— О! — вырвалось у нее.
Люди по ту сторону калитки как будто ждали приглашения.
— Тася, — повторила миссис Томсон, и в голосе ее прозвучало удивление.
— Олесь, сын Бориса… — Таисия Григорьевна произнесла это безразличным тоном, лицо осталось, как и до этого, невозмутимым.
— Бориса Сергеевича?
Теперь Кэтрин с интересом посмотрела на незнакомцев.
— А почему они не заходят?
Таисия Григорьевна пожала плечами, ничем не проявляя желания подняться навстречу.
Не останавливая вязания, миссис Томсон внимательно следила за калиткой. Она скрипнула — мужчина и женщина решительно вошли во двор. Впереди шел сын Бориса Сергеевича — невысокий, крепко сколоченный молодой человек с густым чубом, который при каждом шаге падал на глаза. От него не отставала белокурая женщина с мальчиком лет трех на руках.
Они приблизились и хором сказали: «Добрый день».
Миссис Томсон кивнула в ответ.
Таисия Григорьевна продолжала невозмутимо смотреть на гостей, будто не видя их. Только после минуты молчанья глухо произнесла: «Здравствуйте».
— Вот что, — начал Олесь, движением головы отбросив с глаз волосы. Он поставил ногу на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж. — Я о даче. — Обвел взглядом вокруг, словно говоря, о какой даче идет речь. — Вы знаете, что после смерти отца она принадлежит мне?..
Таисия Григорьевна продолжала молчать.
Ребенок вырывался из рук матери, она не пускала его на землю, успокаивала.
— Согласно закону, через шесть месяцев я становлюсь здесь хозяином, — продолжал молодой Залищук.
Эти слова наконец дошли до сознания Таисии Григорьевны.
— Как это можно?! — вскрикнула она. — Я тут двенадцать лет живу… Это все, что у меня осталось! Так нельзя, Олесь Борисович…
— Дачу отец построил, когда вас еще и в помине не было…
— Я была женой вашего отца, — слезы набежали на печальные глаза Таисии Григорьевны.
— Женой была моя мать, — ответил Олесь. — Она с ним и наживала эту дачу. Если бы она не умерла, то и унаследовала бы ее. А раз ее нет, единственный наследник я.
— И вот он тоже наследник, — решительно добавила молодая женщина, показывая на мальчика.
— Конечно. И наш Степанко, когда-нибудь… Как говорят, наследственность поколений. — Олесь положил руку на головку ребенка.
— Давайте хотя бы поделим ее… Если вы претендуете… Я так привыкла здесь. И я все-таки была женой вашего отца, заботилась о нем, ухаживала, мне хотя бы половина дачи тоже принадлежит… — Таисия Григорьевна тихо заплакала.
— А что тут делить, — буркнул молодой Залищук. — Вы для нас человек посторонний. Жить вместе на этой даче нам не подходит.
— Чужой человек, — подчеркнула молодая женщина.
— Тогда, может, я вам верну половину ее стоимости. Вы только подождите немного. У меня есть друзья в театре, и завод Бориса Сергеевича поможет… Завод и похоронил его за свой счет…
— Дача и нам нужна.
— Вот маленький ребенок не имеет свежего воздуха, — поддержала жена мужа, опуская на землю мальчика, который все время крутился у нее на руках.
— Да помолчи, Нина! — прикрикнул на жену Олесь. — Я вас не гоню, — обратился он к Таисии Григорьевне. — Живите пока что… Мы же люди, понимаем… Но пришли, чтобы напомнить о наших правах и чтобы вы готовились переехать на свою городскую квартиру.
— В таком случае вы мне половину стоимости ее выплатите, — нашлась Таисия Григорьевна. — Нужно памятник Борису Сергеевичу поставить.
— Памятник мы и сами поставим. Не беспокойтесь, — снова вмешалась Олесева жена.
Таисия Григорьевна встала, демонстративно повернулась спиной к непрошеным гостям. Молодой Залищук отошел в сторону, и она начала подниматься вверх, в комнату.
Тем временем Степанко побежал в сад, за ним бросилась мать. Олесь тоже направился в глубь двора.
Сестры поднялись на второй этаж и из окна спальни следили, как Залищуки ходят от дерева к дереву, осматривая их.
— Твоему Борису нужно было написать завещание, — заметила Кэтрин, когда молодые люди вышли со двора и исчезли с глаз.
— Ах, — махнула рукой Таисия, — мы ни о чем таком с ним не думали.
— А нужно было, — укоризненно сказала миссис Томсон. — Человек не вечен. Я не знаю, какой тут закон наследования. Может, Борис и не имел права тебе завещать. Значит, нужно было идти в загс. Мы с Вильямом тоже ничего плохого не думали, но завещание он сделал вскоре после того, как родился Роб. Теперь я отдаю в приданое Джейн мастерскую, чтобы девочка могла объединить ее с мастерской жениха. Он — механик по пишущим машинкам. Так им легче будет бороться с конкурентами. У нас больше всего прогорают мелкие заведения. Были с Вильямом не раз на грани краха, только находчивость его и кредиты друзей по армии спасали нас.
— А что же ты оставишь сыну?
— Роб более или менее обеспечен. Он учился в Кембридже и имеет хорошую работу в каком-то военном заведении. Сейчас его специальность — химия — в цене. После моей смерти получит кое-какие наши с Вильямом сбережения. А пока что пусть немного еще подождет… — Кэтрин засмеялась. — Он, правда, сердится, что я отдаю мастерскую не ему, а Джейн. Но он ее быстро промотал бы со своими друзьями. — Миссис Томсон подошла к сестре, сидевшей на кровати, стала гладить ее по спине. — Не переживай, Тася. В конце концов, проживешь и без этой дачи… А хочешь, поехали ко мне?.. Тебя здесь больше ничего не держит. А там бы немного пришла в себя.
— Как не держит? — повернула голову к сестре Таисия Григорьевна. — А могила Бориса? — У нее сошлись над переносицей брови и углубились морщины на лбу. Она думала о чем-то своем. — А как же с театром?.. Я встретила подругу из хора, она говорила с новым режиссером, и тот пообещал устроить меня в областной. Я пошла бы даже статисткой…
— Это все мечты, Тася. Как жить одной?
— А что на это скажет Джейн и твой сын?
Напоминание о детях протрезвило Кэтрин. Конечно, о таком сначала нужно посоветоваться с ними. Хотя бы с Джейн, которая здесь. Думая о детях, миссис Томсон наперед догадывалась, какой будет их ответ. Мысленно представила, как происходил бы такой разговор, например, с Джейн:
«Джейн, я пригласила тетю Тасю к нам в гости. — Миссис Томсон будто увидела, как поползли вверх тонкие брови дочери. — У нас она немного придет в себя, забудет свое горе. Новая обстановка, новые люди…»
Джейн молчит.
«И надолго?» — наконец спрашивает.
«Нет, нет», — уверяет она дочь.
«А что скажет Роб? — новый вопрос Джейн. — А все наши друзья и знакомые? А не поднимут ли нас на смех?»
Дочь поступает нечестно, это запрещенный удар: Джейн намекает на то, что когда-то и саму Кэтрин не хотели принять в свое общество приятели семьи Томсонов. А теперь, когда она привезет с собой сестру… Кэтрин сердится на Джейн за намек, но он все же производит на нее впечатление.
«Но ведь у тети Таси такое горе, она очень одинока, к тому же ей не на что жить! Сама видишь… Я думаю, что для нас лишний бифштекс на столе не такие уж и расходы».
«Ах, вот оно что! — вскрикивает Джейн. — Так ты прямо сказала бы, что хочешь ее совсем забрать, а приглашение в гости — только предлог. Интересно, где же она будет жить?»
«Если бы и в самом деле мы ее забрали, то со мной, конечно. Ведь после свадьбы ты переедешь к Генри, и твоя комната освободится?»
«А что скажет Роб? Ты с ним совсем не считаешься?»
«Если бы ты согласилась, то вдвоем мы бы его убедили».
«Да? — она видит, как Джейн оттопыривает губу; такая гримаса у нее появляется всегда, когда речь заходит о брате. — Ты думаешь, он будет разговаривать с нами на эту тему?.. — И, словно угадывая ее мысли, добавляет: — А того мужчину, друга своего детства, ты, случайно, не собираешься пригласить?.. Он, кажется, тоже одинокий…»
Этим вопросом Джейн переступает всякие границы, и миссис Томсон прекращает разговор. Хотя эта беседа с Джейн состоялась лишь в мыслях, у нее болезненно сжалось сердце. Она уже поняла, что поступила сейчас неосторожно, приглашая сестру, и обрадовалась, что та не проявила большого восторга.
А с Джейн, подумала она, происходит что-то непонятное. Здесь она стала просто невыносимой. Нервничает, что задержалась, и Генри торопит ее, это верно… Но, может, что-то еще угнетает ее душу?
— Возможно, ты права, Тася, — осторожно начала отступать миссис Томсон. — Дома и стены помогают, а на чужбине… Это я на собственной шкуре испытала… Да и разрешат ли тебе выехать с родины… Но во всяком случае, — добавила она пылко, — погостить ты приедешь! Хотя бы на какой-то месяц…
2
Дмитрий Иванович Коваль бродил рано утром по Русановским садам. Разгуливал по глухим переулкам, словно какой-нибудь пенсионер. То вдоль одной линии домиков не спеша пройдет, то вдоль другой. А то и на дорогу, ведущую в город, выйдет. Сядет на лавочку под чьим-нибудь забором, дышит свежим воздухом, запоминая все, что видят глаза: вот проехали белые «Жигули» с приделанной на кузове решеткой для багажа, на ней корзины с овощами и фруктами; а вон женщины понесли в ведрах гладиолусы, розы, аккуратно укрытые влажной марлей; к остановке автобуса, который доезжает почти до садов, тянутся служащие, летом они живут на дачах и встают на час раньше, чем в городе, чтобы успеть на работу.
Давно, когда еще начинал свою милицейскую службу младшим инспектором, Дмитрий Иванович привык толкаться на месте преступления. Побродит среди людей — глядишь, и пополнятся его знания о происшедшем новыми деталями, которые иногда оказываются очень существенными. Или спрячется где-то поблизости, когда вокруг еще никого нет, и в уединении, не торопясь, старается зримо представить картину преступления, чтобы стояла перед ним как нарисованная.
Сегодня к десяти часам утра он вызвал повестками в райотдел сына Бориса Сергеевича Залищука, Олеся, и врача-отоларинголога Андрея Гавриловича Найду. До беседы с ними решил еще раз побродить около дачи Залищука.
Здесь, в тихих с утра переулочках, мог и представить как следует картину преступления и, дыша воздухом событий, понять тайные страсти людей, окружавших Бориса Сергеевича.
Подполковнику повезло. Вдруг увидел своего недавнего товарища по кружке пива. Петр Емельянович в неизменных белых брюках и старенькой застиранной тенниске шагал по дороге.
Коваль усмехнулся, разглядывая его разбитые босоножки и плохонькую одежду: «Кажется, и «Мефистофель» терпит «инфляцию», которую он усматривает у всех и во всем».
«Мефистофель» шел к автобусной остановке, но не спешил, с выражением философской задумчивости рассматривал все вокруг как человек, у которого впереди вечность.
Коваль поднялся навстречу.
Дачник не сразу узнал Дмитрия Ивановича, долго смотрел на него пытливым взглядом, и только когда Коваль раскрыл рот, чтобы напомнить о их совместном питье, Петр Емельянович прогудел:
— Хо, хо! Так это вы, дружище?! Очень рад, очень рад.
— Начинает печь, — сказал Коваль, подняв взгляд на раскаленное с самого утра небо.
— А у Моти еще закрыто, — жалобно произнес «Мефистофель», по-своему поняв Дмитрия Ивановича. — С двенадцати откроет. Да и неизвестно, привезут ли пиво. Вчера не было.
— Куда это вы?
— К метро.
— И мне туда же.
— В центр?
— Нет, в Дарницу. А до метро нам по дороге… если не спешите, — добавил подполковник. — Я имею время и радуюсь свежему утреннему воздуху. — Он, конечно, схитрил, чтобы подольше побеседовать с этим дачником, хотя сам видел, что тот не торопится.
— Нет, нет, и у меня есть время, — заверил его Петр Емельянович.
— Что интересного в мире? — Коваль хотел спросить о дочери, получил ли от нее письмо или, как и раньше, она не вспоминает отца, но передумал: затронь эту больную тему — больше ни о чем поговорить не удастся.
Петр Емельянович нудно пересказывал газетные новости о международных событиях, перемешивая их с разными предположениями. Коваль слушал краем уха, думая о своих делах.
— Петр Емельянович, а что там слышно о ваших соседях? Нашли, кто отравил Залищука, о котором вы рассказывали?
— Ха, нашли! Они найдут!.. Жди… — оживился «Мефистофель». — Все затихло. Сделали обыск у Крапивцева. Не знаю, нашли что-нибудь или нет, а только Крапивцев до сих пор на воле, будто и не было ничего. Но знаете, что я вам скажу, — перешел Петр Емельянович на шепот, хотя поблизости никого не было, — может, то и не Крапивцев… — Он сделал паузу и значительно посмотрел на Коваля. — Там, говорят, наследника Залищука видели около дачи в тот вечер. Есть у него непутевый сынок — Олесь. С отцом враждовал, не ходил к нему, а в тот последний вечер внезапно прибежал. И главное, люди видели, как он тихонько, словно вор, чуть ли не на цыпочках чуханул с дачи.
Воистину — на ловца и зверь бежит! Это давало новый толчок мыслям подполковника.
— Кто видел? — спросил он.
— Какая разница? — подозрительно взглянул на него «Мефистофель». — Люди рассказывают, а кто и как — не знаю…
Метромост и станция уже были недалеко. Коваль подумал, что при необходимости он легко установит то, что недоговорил сейчас дачник, и перевел разговор на другую тему. А сам стал размышлять над неудачной семейной жизнью Бориса Сергеевича с первой женой. Что представляет собой его сын Олесь, с которым скоро будет разговаривать? Какая самая большая страсть в жизни этого молодого человека? Коваль начал вспоминать все, что узнал об Олесе по его заданию Струць.
Мальчишка учился плохо. Еле закончил восемь классов, профтехучилище. Работает на небольшом заводе слесарем. Работу любит, не пьет, но характер эгоистичный, несдержанный, упрямый. Когда добивается своего, ни с кем и ни с чем не считается. Физически сильный, быстрый на расправу. Деньги любит, но в то же самое время не алчный. Поделится с другом последним.
Отца не слушался, хотя гордился, что тот инженер. Мать, которая его безумно любила, совсем не уважал. Наверное, потому, что все готова была терпеть, все прощала ему. Как всякий духовно слабый человек, боялся унижений, насмешек и очень любил, когда его хвалили. Утверждал себя и хорошей работой в мастерской, и верной дружбой, но иногда с такими людьми, какие этого не были достойны. Готов был для приятеля сделать все, но одновременно должен был над ним верховодить. Утверждался и тем, что «ради компании» пошел на преступление и отсидел два года, и тем, что измывался над слабыми.
Борис Сергеевич ничего не прощал сыну, и Олесь все время сердился на него. Как-то он потребовал, чтобы отец вернулся к матери. Залищук был приятно удивлен такой неожиданной заботой Олеся о матери, но попросил не вмешиваться в его дела.
С того времени сын не проведывал отца и к себе в гости не приглашал.
3
Через час Коваль разговаривал с Олесем Залищуком. О нем подполковник уже почти все знал. Единственное, что его интересовало, — это когда Олесь в последний раз видел отца, где они встретились и чем закончилась их встреча.
Когда дверь кабинета открылась и на пороге появился плотный, как и Борис Сергеевич, чем-то неуловимо похожий на него молодой мужчина, Коваль интуитивно почувствовал, что разговор будет прямой и короткий. Залищук держался свободно, отвечал лаконично, но сердитые нотки звучали в каждом его слове. Из опыта подполковник знал, что так отвечает в милиции человек, который не чувствует себя виноватым или уверен, что его вину не докажут.
— Второго августа вы не встречались с отцом, Олесь Борисович?
— Нет, — твердо ответил молодой Залищук, — я его давно не видел, может, с год.
— Меня интересует только вечер, когда он погиб.
Олесь промолчал, всем своим видом будто говоря: «Я сказал все и повторяться не хочу».
Коваль предложил папиросу.
Залищук поблагодарил и вытащил свои сигареты. Когда прикуривал, Коваль понял, чем он похож на отца, фотографии которого подполковник внимательно изучил: голова посажена на короткой шее, словно сидит на широкой груди. Но нос, наверное, матери — хрящеватый с горбинкой, и тонкие нервные ноздри, которые то и дело раздувались.
— Перескажите весь свой день второго августа.
— Разве все упомнишь!
— Будем вспоминать. Вместе.
Когда дошли до вечерних событий, Олесь сказал:
— Жена была во вторую смену. Я остался со Степанком, сыном. Ребенок уснул, и я лег.
— В котором часу?
— Приблизительно в девять, а может, позднее.
— Всегда так рано ложитесь?
— Мне вставать на рассвете.
— Это не ответ.
— Ну, не всегда… Но день был утомительный… Я же рассказывал вам, что ремонтировал ванну…
— Ваш адрес — улица Строителей, это здесь же, в Дарнице?
Олесь кивнул.
— В девять на улице темнеет?
— Еще видно.
— Ну, а до девяти, Олесь Борисович, не решились ли вы вдруг проведать отца?
— Нет, я отца не видел в тот вечер. Я уже сказал.
За много лет службы Коваль часто слышал вранье, он почувствовал фальшь в словах Олеся. Но одновременно тон ответа свидетельствовал, что парень просто что-то недоговаривает.
— А кого вы в тот вечер видели на Русановских садах?
По тому, как раздулись ноздри Олеся, Коваль сделал вывод, что сведения, полученные Струцем, имели под собой какое-то основание.
Пауза длилась долго. Наконец Олесь сказал:
— Никого не видел. — И сразу понял, что проговорился, что теперь так просто от настырного подполковника ему не отделаться. И он решительно добавил: — Я знаю, что вам нужно! Не ходил ли я к отцу, не подсыпал ли ему яд… — Он вскочил со стула. — Есть ли у вас совесть такое катить на меня!?
Коваль жестом приказал сесть. Олесь не послушался. Лицо его стало упрямым, ноздри то и дело раздувались.
— Если хотите, скажу, хотя вы можете не верить… Я уже давно хотел помириться с отцом, но Нинка, жена, к нему не пускала… В тот вечер она была на второй смене, и я, когда Степанко уснул, попросил соседку посмотреть за ребенком, а сам махнул на Сады. Когда пришел на дачу, увидел, что в домике люди, услышал чьи-то голоса. Мой разговор с отцом должен был происходить с глазу на глаз… Неожиданные гости спутали мои карты. Я потихоньку поднялся по лестнице. В комнате сидели отец, Таисия и еще какие-то незнакомые. Засомневался, заходить или нет. А тут Таисия взглянула в мою сторону и поднялась из-за стола. Она направлялась к двери, и я, не знаю почему, быстренько сбежал по ступенькам и шмыгнул в переулок.
— Думаете, она не увидела вас?
— Не знаю. Может, и увидела.
— А что еще вы заметили на даче?
— Ничего. Я возвратился домой, решив отложить свой разговор с отцом. — Олесь сел и, казалось, немного успокоился.
— Вы еще постояли немного около калитки. А ведь можно было спрятаться в тени деревьев, переждать, пока разойдутся гости.
— Я ушел оттуда сразу. Некогда было ждать. Дома ребенок, жена скоро вернется с работы, устроит прочухан.
— Жаль, — заметил Коваль, посасывая папиросу, которая погасла. — Только вы убежали, гости вышли в сад, отец ваш остался один, могли бы поговорить, и, гляди, все иначе обернулось бы…
Коваль умышленно обратил внимание Олеся на эту деталь, хотел посмотреть, какое выражение появится на лице у собеседника.
Молодой Залищук с жалостью покачал головой, причмокнул губами.
— Да, жаль, очень жаль! Если бы я знал… — развел он руками. — Но, поверьте, я никак не причастен к смерти отца. Хотел бы знать, кто отравил! Я бы с ним быстро посчитался. — Олесь так сжал кулаки, лицо его стало таким жестоким, что Коваль понял — дело не закончилось бы одними словами.
— Вы, наверное, не ссориться приходили?
Олесь вздохнул.
— Хотел помириться. Давно собирался.
— Нужно было встретиться, — может, и обстановка сложилась бы иначе… Ведь каждая трагедия — определенное стечение обстоятельств, причин, условий. Достаточно было выпасть из этой трагической цепи хотя бы одному звену, и вся она распалась бы…
— Так вы все-таки считаете меня хоть побочно, но причастным к смерти отца?.. Хотите, чтобы мне камень лег на душу?
— Нет. Это мои соображения, за которые вы не отвечаете, Олесь Борисович.
Подполковник пригласил в кабинет доктора Найду.
Когда тот вошел, опрятно одетый, в белой рубашке с красивым галстуком, словно собрался в театр, Коваль кивнул на Олеся:
— Вы нигде не встречали этого человека?
Доктор внимательно присмотрелся к молодому Залищуку и покачал головой:
— Нет.
— А на даче Залищуков, когда вы там ужинали? Второго августа…
Доктор снова покачал головой. Коваль взял повестку Олеся, чтобы подписать, взглянул на часы и тут же вспомнил, что он не в своем кабинете в министерстве, а в райотделе, где вход и выход граждан свободный.
— Можете идти, Олесь Борисович, — протянул ему повестку. — А вы, Андрей Гаврилович, садитесь, — показал на стул.
Олесь вышел не попрощавшись, что-то сердито бормоча себе под нос.
С Найдой разговор был долгий. Доктор подробно рассказал Ковалю свою историю и то, как Катерина Притыка, теперь Кэтрин Томсон, помогла ему узнать правду об отце.
— Был в Партизанской комиссии, подняли архивы… Теперь не знаю, перейду на свою настоящую фамилию или сделаю двойную — Найда-Воловик. В загсе говорят, что отцовскую можно возвратить через суд…
Коваль с интересом рассматривал доктора. Долгие годы неопределенности своего положения в обществе наложили на него отпечаток. И хотя временами, увлеченный работой, которую любил, Андрей Гаврилович забывал о своей тайне, однако она постоянной тревогой жила в нем, тупая, словно глухая зубная боль.
Особенно охватила его тревога, когда впервые встретился с Таисией Притыкой. Не сразу узнал ее, но когда та назвала себя, испугался и еле убежал от нее. Вторично убежать не удалось: тогда, в театре, когда осматривал артистов хора и в кресло перед ним села Таисия, понял, что рано или поздно она разоблачит его. Вынужден был даже отказаться от дополнительной работы, лишь бы избежать новых встреч с ней… Вся его жизнь после войны была наполнена страхом. Хотя сам не совершил преступления, но, встав на путь обмана, сделав первый шаг на этом пути, уже шел до конца…
Подполковник видел, что неуверенность, страх разоблачения крепко поселились в сердце Андрея Гавриловича. Возможно, потому он не решился и жениться.
— Расскажите о вечере второго августа. Когда вы гостили на даче у Залищука…
Доктор не знал, что его об атом будут спрашивать, и немного растерялся.
— Начинайте сначала, — пошутил Коваль, чтобы разрядить обстановку и создать атмосферу непринужденной беседы. — Вот вы приехали на дачу… С кем приехали?
— С Катериной… не знаю, как теперь называть… Историю ее вы, наверное, знаете?
— Сейчас она для нас миссис Томсон, — сказал подполковник, припоминая, что и для него сначала легче было называть ее Катериной Григорьевной.
Коваль засыпал врача вопросами, ответы на которые он знал наперед и хотел лишь убедиться, что показания свидетелей совпадают: «Кто еще был на даче?», «Что вы привезли?», «Где покупали вино?», «Что пили кроме вина, привезенного вами?», «Была ли бутылка закрыта?», «Чем закусывали?», «Сколько выпил Борис Сергеевич?»
— А теперь спрошу вас как врача, — сказал Коваль под конец. — Вы не заметили у Бориса Сергеевича каких-либо отклонений в поведении? Как он держался, когда выпил?
— Был взволнован. Подозреваю, что он всегда такой неуравновешенный. Нервная система слабая и травмированная. Я не невропатолог, но это видно и неквалифицированному глазу.
— А стычек не было?
— Ну как вам сказать… Борис Сергеевич разговаривал и с женой, и с Кэтрин в повышенном тоне. Но, думаю, этот тон свойствен ему.
— А с вами?
— Нападал и на меня, — виновато усмехнувшись, признался доктор, и перед глазами его выразительно встала неприятная беседа в тот вечер.
«А-а, полицейское семя! — закричал, встопорщив брови, хозяин дачи, когда Таисия представила Андрея Гавриловича. Он не подал ему руки. — Слышал, слышал о вас…»
Доктору и сейчас, в милиции, стало жарко, как тогда, когда Залищук так «приятно» поприветствовал его.
«Что ты, Боря, — бросилась в защиту Таисия. — Ведь говорила, то была ошибка — отец Андрея Гавриловича помогал партизанам и служил в полиции по поручению подполья. Просто этого никто не знал, даже Андрей. И погиб от фашистской пули».
«Тебя там не было, ты у тетки жила».
«Андрей все проверил в Партизанской комиссии и даже справку взял, чтобы вернуть свою фамилию. Она честная и славная».
Залищук пожал плечами. «Ну что ж, извините», — сказал и замкнулся в себе…
Настроение у Андрея Гавриловича уже было испорчено, хотя пытался держаться, как будто ничего не произошло. Кэтрин тоже сурово упрекнула Бориса Сергеевича: «Говорите, что Таисия там не была, а я вот была и видела, как старый Воловик стрелял по конвою и как сам погиб».
Залищук метнул острый взгляд на миссис Томсон и махнул рукой: кто бы говорил! Пробурчал: «Сначала отрекаются от родного отца, а потом — «папочка, папочка»! Возвращают себе фамилию!..»
Он притих и, сидя за столом, интересовался больше всего своим стаканом. И только после того как сбегал в ларек еще за одной бутылкой, снова вцепился в доктора.
«Все правильно, — начал он, как бы отвечая каким-то своим мыслям. — Отец оказался порядочным человеком, и все прекрасно… Но почему вы, — обратился прямо к Андрею Гавриловичу, — прятались от своей родной власти? Если бы не такой поворот событий, вы до сих пор обманывали бы всех нас. Значит, никому вы не доверяете: обманывали и тех солдат, которые из могилы вас выкопали, и товарищей в институте, когда втерлись под придуманной фамилией…»
«Но ведь сын за отца не отвечает», — попытался отбиться Андрей Гаврилович.
«А за себя? Я не об отце спрашиваю, а о вас. Вот вы врач, а жили нечестно… Больной идет к вам с доверием, а оказывается, что доверять вам ни в чем нельзя…»
В конце концов Андрей Гаврилович не выдержал, и они поссорились. Когда все вышли во двор, Залищук не захотел с гостями идти и остался в домике.
И еще одно запомнилось Найде: реакция Джейн. Девушка не сводила с него глаз. Это было для нее что-то новое, захватывающее, покрытое тайной…
— И что же? — ждал ответа Коваль.
— Укорял меня за отца, обвинял в нечестности… — вынужден был признаться доктор.
— И вы поссорились… — закончил за него подполковник.
— Да, — признался Андрей Гаврилович, — поссорились, и я еле дождался, когда Катерина Григорьевна поедет к себе, в центр.
— Никаких признаков отравления не наблюдали у Залищука?
— Нет. Никаких симптомов, ни тошноты, ни рвоты, даже не побледнел за весь вечер. Не заметил, чтобы и пот вытирал со лба, как это делает человек при отравлении. Держался развязно. Пил, по сути, один, если не считать Таисию Григорьевну… — Доктор замолчал. Потом после долгой паузы внезапно встрепенулся и радостно сказал: — Ах, товарищ подполковник, я так благодарен судьбе, что привела сюда Катерину! Ведь какой камень сняла она с моей души!
Коваль ничего не ответил. Он думал свое: мог ли Найда из-за такой мелочи, как случайная перебранка, отравить Залищука? Особенно теперь, когда узнал правду об отце…
Дверь в кабинет открылась. На пороге стоял лейтенант Струць.
— Виктор Кириллович, — позвал Коваль, — заходите. Вы мне нужны…
После того как Найда ушел, Коваль пересказал весь разговор с ним Струцю и сделал вывод, что доктора, очевидно, придется исключить из круга подозреваемых, который все сужается, хотя в середине ничего нет.
— Как бы у нас не осталась дырка от бублика! — пошутил он.
4
Сидя в халате в домашнем кабинете за старым столом, на котором давно потрескался лак, Дмитрий Иванович листал только что полученный одиннадцатый номер альманаха «Прометей». Когда выпадала свободная минута от ежедневных хлопот, от розыска, рапортов, справок начальству, отдавал ее историческим и научно-популярным книгам. Любил произведения древних и вот такие сборники, как «Прометей», где можно было прочесть неожиданные исследования.
Правда, в эти дни у Коваля не было свободной минуты — до сих пор топтался на месте в деле убийства Залищука. Но всегда, когда попадал в тупик, намеренно занимался чем-нибудь посторонним. Тогда возбужденный мозг, будто протестуя против внезапного переключения, начинал работать над неразгаданной задачей исподволь, незаметно и наконец открывал перед ним то, что он до сих пор безуспешно искал.
Из опыта Дмитрий Иванович знал, что свободный, раскованный полет мысли рано или поздно выведет его на правильный путь. Жаль только, что не имел времени ждать такого озарения — ему был дан для розыска четкий срок.
Его внимание привлекла статья о старом русском учителе Федорове, который утверждал, что в будущем человек станет бессмертным, так как научится воссоздавать себя снова и снова и этим продлевать свою жизнь.
Коваль не дочитал статью до конца. Хотелось поразмышлять над главной гипотезой, освоиться с неожиданной, как вспышка света в темноте, мыслью о том, что смерть — самое большое зло в мире — не вечна, что она будет побеждена на новом этапе развития материи… Ему очень понравилась эта мысль, даже усмехнулся: действительно, в каждом человеке живет тяжкое сознание неизбежности смерти.
Он закрыл книгу и отложил: все-таки нужно думать не над глобальным злом, а над конкретным преступлением.
Заметив, что механически подтягивает к себе чистый лист и крутит в пальцах карандаш, понял: все же не обойтись без привычных графиков. Вздохнул: если на протяжении стольких лет пользовался ими, то теперь, когда память может и подвести, нужно тем более все записывать.
Но чертить начал не сразу. Засмотрелся в открытое окно на вечерний сад. После того как на запад от его домика возвели многоэтажный гигант, солнце, заходя, не высвечивало кусты, не обсыпало, как раньше, кроны старого ореха, верхушки яблонь красными огнями — проникало в садик только ласковым, рассеянным светом, в котором сначала было немного розовой краски, которая быстро темнела, снимая румянец с лица вечера, и все вокруг становилось серым, сливаясь с темнотой глухих уголков. Коваль опечаленно подумал, что и сад за последнее время будто совсем постарел: ветви разросшейся под стеной бузины лезли в окно; у яблоньки, что стоит под забором, одна ветка усохла, и ее нужно отрезать; кусты роз заросли, переплелись — надо пересаживать. Кажется, он такой же «заботливый» хозяин, каким был и Залищук. Ему не хотелось сейчас тянуть дальше нить этой мысли. В конце концов, у него еще есть Наталка и Ружена, и нужно в первую очередь найти время для них. События, которые разворачивались в его семье, требовали от него каких-то новых решений; может, даже придется отказаться от этого дома, полного теней прошлого, этого сада, словно отрезать от себя дорогой кусок жизни.
Несмотря на свой жизненный опыт, когда дело коснулось его самого, Коваль, создавая новую семью, многое не предусмотрел. Человек, умевший связать в аналитичном уме результаты следствия с причинами, события прошлого с сегодняшними событиями, аргументировать тонкие скрытые чувства, которые вызывают внезапные на первый взгляд, необъяснимые вспышки эмоций, детектив, который мог предвидеть будущие поступки других людей, не догадывался, что ожидает его самого при резкой перемене жизни. Так при обыске, когда все внимание направлено на главное, взгляд человека минует что-то очень важное, которое находится близко, около него, перед самым его носом.
Дом, дорогой ему дом, вдруг оказался словно живым существом, и тень умершей жены будто вышла из его стен и поплыла по всем комнатам, подсказывая памяти, казалось, стертые временем события, картины, слова, жесты, рисуя перед глазами улыбку Зины.
Самый большой, неожиданный удар нанесла дочь. Как он ошибался, когда думал, что Наталка одобряет его брак. Она мило подтрунивала над его запоздалым увлечением, но в конце концов не возражала против желания жениться: «Слава богу, будешь устроенный, и мне хлопот меньше». И при этом снисходительно улыбалась — так, как умела делать и ее мать…
Какое-то время он жил у Ружены. Из загса поехали к ней, где две приятельницы жены, такие же одиночки, как когда-то и Ружена, приготовили свадебный обед. Наталка тоже обедала с ними, поздравила его и его новую жену и вскоре ушла. За столом она держалась мужественно, даже пыталась быть веселой, и он в душе благодарил ее за это.
Но стоило Ружене переступить порог их дома, как Наталка, щуря продолговатые, такие же, как у матери, глаза, однажды слишком весело сказала:
— Дик, как ты смотришь на то, чтобы я ушла от вас?
Он удивленно взглянул на дочь.
— В университете чудесное общежитие, — добавила она, опустив под его взглядом глаза.
Он проглотил комок, подступивший к горлу.
— А как же я… как мы без тебя?..
— Ну, вы уже совсем взрослые, — отшутилась Наталка. Потом порывисто обняла его и совсем по-детски прижалась. — Не сердись, — прошептала, — так будет лучше. И мне… и вам… Я не смогу, если она будет тут вместо мамы…
— А может, ты поживешь в квартире Ружены?.. — спросил он ослабевшим голосом. — Отдельная однокомнатная квартира, сама себе хозяйка, со временем на тебя перепишем… — сказал и сразу понял, что брякнул глупость. Ведь дело не в том, где будет жить Наталка, а в том, что Ружена перейдет сюда.
Наталка сильнее прижалась к нему и разрыдалась.
— Уже совсем гонишь?..
Он повел дочку к своему старому дивану, усадил на него. Гладил ее волосы, как когда-то в детстве, пытался взлохматить прическу, но Наталка не приняла игру.
Наконец сделала над собой усилие, вытерла платочком глаза.
— Прости меня, Дик, — тихо прошептала, — мне всегда было тяжело без нашей мамы… Но рядом был ты… А теперь показалось, что ты… что ты… — она никак не могла успокоиться, — что я становлюсь тебе чужой, ненужной. Это ужасно…
— Наталочка, как ты можешь так думать…
— Я все понимаю, папа… Я глупая, наверное: понимаю одно, а чувствую другое… Что мне делать?
Он долго как мог успокаивал дочку.
Наталка все-таки согласилась остаться в доме, хотя не удержалась, чтобы не сказать:
— Я знаю, тебе без меня тоже будет нелегко… Но сейчас ты просил не ради меня, а ради Ружены, чтобы я не оскорбила ее своим побегом.
— Ах ты моя глупенькая ревнючка, — только и мог ответить он, хорошо понимая, что дочь права.
Догадывалась или не догадывалась Ружена о чувствах, кипевших в душе Наталки, но она и сама не хотела переезжать в его гнездо, а тянула в свою уютную однокомнатную квартиру. В дни, когда они решили пожениться, не думали, как сложится жизнь всех троих — все казалось легко и просто, — а потом у каждого вдруг нашлись свои стремления, желания, мотивы, которые не согласовывались с стремлениями, желаниями, мотивами остальных.
Так пока и жили, избегая разговоров на больную тему: каждый ждал, что этот разговор начнет другой.
Наталка после минутной откровенности с ним замкнулась в себе, словно не понимала его терзаний. Внешне казалось, ее вполне устраивает сложившийся быт: ведь она, как и раньше, оставалась с ним в своем доме…
Ружена прибегала с работы к нему сварить обед, убрать в доме, потому что Наталка с утра до вечера пропадала в университете. Женщина старалась управиться до ее прихода и ждала его, если он не задерживался на службе. Избегала встречи с Наталкой с глазу на глаз, боялась, чтобы не началась у них откровенная и резкая беседа, которая назревала…
Он перебирал в мыслях разные варианты семейного устройства: то обменивал квартиры, то получал новую в ведомственном доме, то строил Наталке кооперативную или переселял дочку в квартиру Ружены. Последний вариант был самый легкий и самый приемлемый.
Однако настаивать на своих проектах он не отваживался. Замотанный служебными делами, положился на время, которое как-то все устроит.
…Оторвавшись от окна, Дмитрий Иванович нарисовал на бумаге большой знак вопроса. Несколько раз обвел его черным фломастером, от чего знак стал пузатым, как буржуй на старой карикатуре. Написал под ним слово — «версии». Провел три вертикальные линии, поставил три знака: «-», «+» и «?». В столбике со знаком «минус» написал: «Крапивцев», под знаком вопроса: «Жена. Таисия», ниже: «Сын. Олесь».
Он посидел немного, задумавшись над этими короткими записями. Потом взял из стопки бумаги новый лист и написал в центре его — «Залищук», обвел жирным траурным кольцом. В одном уголке листа написал — «Крапивцев», в другом — «Таисия Григорьевна», в третьем — «Олесь». Четвертый оставался свободным.
Провел фломастером три линии из углов к центру, к кольцу «Залищук»: от «Крапивцева» — черным, от «Таисии Григорьевны» и «Олеся» — зеленым и коричневым. Все линии, словно стрелы, уперлись в слово «Залищук». Хотел написать в четвертом уголке «Найда-Воловик», но воздержался. Доктор — отдельный разговор.
С версией «Крапивцев» все будто было ясно. Если экспертиза установит: у Крапивцева в банке находился тот самый яд, от которого погиб Борис Сергеевич, и подтвердит идентичность всех пяти стаканов, можно будет брать у прокурора постановление на арест. А если нет?.. Почему химики так долго возятся с анализом? На все его звонки лаборатория отвечала: «Подождите, очень сложный анализ. Одновременно с ядовитыми есть и лечебные сердечные гликозиды». Такой прогресс химической науки, такие опытные лаборанты и эксперты работают, кое-кто даже научные степени имеет, а никак не управятся!
Подполковник стал внимательно приглядываться к другой стреле, нацеленной в сердце Залищука, — стреле, идущей от «Таисии Григорьевны».
Таисия Притыка. Жена Залищука. Театральная жизнь у нее не сложилась. Молодая, хорошенькая, после училища работала в народном театре, потом — в областном. На гастролях познакомилась с режиссером из Киева, который влюбился в нее и забрал в столичный театр. Первые шаги на академической сцене были успешными, Таисии поручали хотя и небольшие, но самостоятельные роли. Уже мечтала о большом амплуа. И вдруг все изменилось. Одна, вторая творческая неудача. Тем временем и влюбленный режиссер охладел к ней… Речь уже шла не о замужестве, а о том, чтобы не лишиться хотя бы его внимания. А он становился все придирчивей. И однажды на репетиции так накричал на нее… «Бездарность! Бездарность!» — звенели в ушах слова режиссера, когда возвращалась из театра, задыхаясь от обиды. Очередная банальная, как мир, история — в отчаянии Таисия начала забываться в вине. Затуманивая мозг, вино подкармливало иллюзии, помогало хотя бы в воображении становиться сильной, верить в свой талант, в который рано или поздно поверят все.
Таисия Григорьевна имела неплохой голос, и ее перевели в хор. Может, в театре надеялись, что перестанет пить, ибо что-что, а голос хористке нужно беречь. Между тем Притыка считала свое пребывание в хоре временным и дома проигрывала роли, которые ей не давали на сцене. Вся жизнь ее теперь делилась на три фазы: хор, винный магазин и большое, чуть ли не на всю стену, зеркало в комнатке на улице Чкалова, зеркало, которое верило ей, вселяло надежды, вдохновляло.
Потом неожиданно в ее жизни появился Борис Сергеевич Залищук. Решительный, прямодушный, даже резкий, с характерным, четко очерченным лицом, на котором из-под густых косматых бровей сверкали светлые глаза. Он вскоре перешел жить к ней.
Таисия Григорьевна не заметила, как это случилось.
Познакомились они в магазине, куда актриса забегала перед спектаклем за бутылкой портвейна. Борис Сергеевич, выпивший уже стакан вина, взглянул на нее и вышел следом. Догнав на улице, с присущей ему прямотой отрекомендовался. Она не прогнала его.
Залищук стал приходить в гости. Таисия Григорьевна уже не стеснялась его и, подкрепив себя рюмкой, была с ним, словно наедине с зеркалом, то леди Макбет, то Катериной, то Офелией…
Борис Сергеевич сидел в уголке тихо, как мышка, только глаза восхищенно блестели. Когда актриса, тяжело дыша, возвращалась в реальный мир, он чуть не стонал от возмущения: «Боже, какой талант! Какой талант! Как они этого не видят!.. Да я сейчас пойду к ним… Я морду набью твоему режиссеру! Своим небось дает роли, а настоящий талант затирает… Знаю, как это делается… Я до министра дойду!»
«Ах! — безнадежно вздыхала Таисия Григорьевна. — Не делайте, Борис, глупостей».
В конце концов он успокаивался…
Залищук был одинокий: жена его внезапно умерла, сын Олесь жил отдельно и к отцу не наведывался. У него часто болело сердце, особенно когда одолевали мысли, что жизнь прошла напрасно, что потратил годы на неблагодарную семью и на склоне лет остался один как перст. Понимал, что оглянулся поздно и теперь ничего исправить и изменить не может, и от этого еще больше нервничал.
Уже живя с Таисией Григорьевной, Залищук однажды, хорошо выпив, пошел все же в театр. Какой там состоялся разговор с режиссером, можно догадаться по тому, что из театра Залищука, угрожая милицией, выпроводили.
Вскоре артистку хора Таисию Притыку уволили «в связи с потерей голоса». Против формулировки приказа Таисия Григорьевна не возражала, голос она и в самом деле потеряла, но она же не певица, а актриса драматическая! Обращение в министерство ничего не дало. Борис Сергеевич не раз собирался идти к министру, но Таисия Григорьевна не пускала. В то время ему и самому было нелегко на работе. Поругавшись с начальством, он везде кричал, что его преследуют за справедливость, но от этого было не легче.
Таисия Григорьевна не стала искать другой работы. Ходила в гости к бывшим приятельницам, приглашала их на дачу, куда переехала с Борисом Сергеевичем, но понемногу эти связи обрывались, у подруг были свои заботы, и только низенькая, кругленькая, как мячик, певица Лиля поддерживала с Притыкой какие-то контакты.
Таисия Григорьевна всем говорила, что подлечится и вернется в театр, пусть не на академическую, но непременно на сцену. Борис Сергеевич не возражал против этого, и они жили тихо и незаметно для посторонних, заботясь друг о друге, довольствуясь зарплатой Залищука. Однако вскоре Борис Сергеевич ушел с работы. Пенсия была небольшой, и супругам пришлось сократить свои расходы. Но ни она, ни он не роптали и с апреля до ноября жили на даче. Постепенно Таисия Григорьевна начала понимать, что надежды на сцену все больше теряют под собой почву, но не хотела верить в это. Борис Сергеевич, как и раньше, поддакивал, и ей уже достаточно было одних мечтаний, которые заменяли реальную жизнь, достаточно было веры в чудо, которое вдруг произойдет и возвратит ей здоровье, красоту и сцену.
Это было все, что знал подполковник Коваль о супругах Залищуках. Много или мало было этого, чтобы выяснить, кто отравил Бориса Сергеевича?
Подполковник пристально смотрел на стрелу, направленную от «Таисии Григорьевны» в сердце «Залищука». Черная жирная черта расплывалась в сумерках, вползавших из сада в кабинет.
Коваль поднялся, зажег свет. Теперь стрела стала будто острее. Но что из того? Зачем Таисии Григорьевне травить мужа? Что выигрывала она в жизни, теряя своего Бориса?
Подполковник пожал плечами. В конце концов, нельзя думать о людях только плохое, даже когда разыскиваешь убийцу.
Все это так. Но розыски загадочного убийцы Залищука заставляют его, Коваля, строить в своем воображении самые фантастические версии, на какое-то время подозревать и невиновных людей. Он будет радоваться, когда убедится в невиновности того или иного подозреваемого, и с облегченным сердцем отбросит еще одну версию. Он мог найти убийцу с помощью только одной правильной догадки, но бывало, что ради торжества истины и справедливости на время допускал и невероятное.
И все-таки как найти истину? Коваль наклонил голову, потер лоб. А если определить главную страсть человека? Ведь у каждого есть своя страсть, которая в сложную минуту жизни толкает его на неожиданный поступок.
Что у Таисии? Любовь к богатству? Стремление стать самостоятельной хозяйкой дачи?
Нет. Только любовь к сцене, к своему призванию.
Но как удовлетворяет это стремление гибель Бориса Сергеевича?
Вот здесь уже можно и о даче подумать. Борис Сергеевич не хотел продавать ее Крапивцеву. А Таисия была согласна. И Крапивцев тоже к этому стремился. Препятствием был Залищук.
Но смерть хозяина дачи перепутала все карты. Теперь продать дачу без согласия сына Бориса Сергеевича Таисия не могла. Олесь — прямой наследник, а ей еще нужно через суд доказать свои права.
Да и разве деньги — это путь в искусство? Тем более что Таисия Григорьевна уже, кажется, и сама не очень верит своей мечте, лишь успокаивает ею сердце.
Ковалю вспомнилось, что она сказала о даче: «Продам, подлечусь, поправлюсь, косметический кабинет, процедуры — и снова буду добиваться роли. Театр любит молодых и свежих».
Неужели ей кто-то пообещал возвращение на сцену за деньги, за взятку? Вряд ли. Сцена открыта людским глазам, на ней не обманешь, если нет таланта.
А в самом ли деле у Таисии Григорьевны есть талант?
Ковалю вспомнилось ее одутловатое от слез, округлое лицо, высокая дебелая фигура. Он не был достаточно подготовлен, чтобы ответить себе на этот вопрос.
Допустить, что к ней возвратился тот режиссер? Вспыхнула старая любовь, и Борис Сергеевич явился помехой? Вряд ли. Такие люди по старым тропинкам не ходят. Но нужно увидеться с ним.
А что он вообще знает о прошлом Таисии Притыки, о ее юности, детстве? Может, оттуда тянутся какие-то нити?
И Дмитрий Иванович под стрелой «Таисия Григорьевна» — «Залищук» — написал:
«1. Познакомиться с режиссером.
2. Глубже поинтересоваться прошлыми связями Таисии Притыки».
Таисия Григорьевна и Залищук. Они любили друг друга. Но в последние дни начали ссориться. Что послужило причиной этому?
Ответа Коваль не имел. Хорошо, подойдем с другой стороны.
Что изменилось в жизни Таисии Притыки в последнее время?
Ничего, кроме неожиданного приезда сестры из Англии — миссис Томсон. Но как это могло повлиять на взаимоотношения Таисии с Борисом Сергеевичем? Чем он стал ей мешать? В конце концов, они жили на веру, и Залищук ни в чем не мог ей помешать.
Мысли Коваля вернулись к треугольнику: Борис Сергеевич, Таисия, Олесь.
Таисию Григорьевну Олесь сразу возненавидел. Почему, за что — не мог понять. Возможно, потому, что стала она для Бориса Сергеевича самым дорогим человеком. В глубине души парень, наверное, по-своему любил отца и не терпел соперничества.
Мог ли этот Олесь отравить его?
Почему?
Ради наследства, дачи?
Но разрешило бы ему так поступить это самое скрытое чувство к отцу?
Да, Олесь имеет характер нетерпимый, вспыльчивый, легко обижается. Но поднять руку на отца?..
Струць, изучавший Олеся, доложил, что молодой Залищук несколько лет назад бросился в Днепр и спас человека, по работе характеризуется положительно… Стало быть, он парень не злой и способный только на внезапные вспышки. Ярость, словно огонь, сразу охватывает его и так же быстро гаснет. А тут нужно было приготовить отраву, долго искать удобного момента, чтобы подлить ее…
Парень всю жизнь пытался доказать отцу, что он, его сын, не такой уж плохой человек, не такой бесталанный, как тот считает. Но парадокс: притягивал внимание отца не хорошими поступками, а, наоборот, делал назло, словно мстил за недоверие к себе и этим утверждал свою независимость и самостоятельность. Это соображение более всего оправдывало младшего Залищука в глазах Коваля. Подполковник считал, что не мог Олесь уничтожить того, перед кем всю жизнь старался утвердиться, даже «от противного». Это означало бы уничтожить самого себя, лишиться смысла своей жизни…
Размышляя, Коваль механически черкал фломастером по линии «Олесь» — «Залищук», и она стала толстой, жирной и неровной, словно змея, ползущая от сына к отцу…
Так же механически написал в свободном уголке листка: «Доктор Найда». Вдумался в свою надпись лишь тогда, когда начал тянуть от этих слов красную стрелу к кругу: «Залищук».
А не ошибся ли, отдав последний свободный уголок, последнюю стрелу доктору?
Найда-Воловик и на самом деле человек сложный, и о нем они со Струцем еще мало знают.
Но о Борисе Залищуке доктор раньше даже и не слышал, никаких связей и общих интересов у этих людей, кажется, не было.
Струць сказал: «Если бы Андрей Найда был не отоларингологом, а, скажем, химиком или фармацевтом, то все было бы ясно».
«Если бы, если бы… Тогда все еще больше запуталось бы», — пробурчал он в ответ. Сейчас, вспоминая этот разговор, подполковник усмехнулся. Молодой инспектор все больше нравился ему своей предприимчивостью и настойчивостью, а суетливость и торопливость — это недостатки молодости, которые вместе с ней пройдут.
Так какие могли быть общие интересы у Залищука и доктора Найды?
Никаких.
А какие противоречия, причины для вражды?
Коваль задумался.
Решил снова последовательно ответить на основные вопросы розыска. Может, так лучше поймет и этого доктора с двойной фамилией?
Кто из людей, которые встречались в тот трагический вечер с Борисом Залищуком, имел реальную возможность осуществить преступление, то есть бросить яд в стакан с вином?
И Крапивцев, и Таисия Григорьевна, и доктор Найда, и, наконец, Олесь, который, как стало известно, тихонько пробрался к отцовской даче. Ужинали с Борисом Сергеевичем еще Кэтрин Томсон и ее дочь Джейн… Но их, очевидно, нужно совсем исключить из этого списка, ибо дальше ставится вопрос: кто из этих людей имел для такого преступления достаточную причину?
Это самый трудный вопрос. Ведь выявить глубоко спрятанные корни преступления, которые из неизвестного семени прорастают в душе человека, чрезвычайно сложно. Собственно, весь розыск и предварительное дознание, которое он ведет вместе со своим молодым помощником и экспертами, являются поисками ответа на этот вопрос. Остальное — кто мог иметь такой яд, чем можно доказать, что именно владелец отравы пустил ее в ход, — это дело оперативной техники и опыта милицейских работников.
Итак, кто имел достаточную причину, мотивы для преступления? Хотя никакая причина с точки зрения закона и гуманности не может быть здесь достаточной, но если убийство уже произошло, значит, с точки зрения преступника ее хватило, и его точка зрения, к сожалению, в таком случае была решающей.
Крапивцев?
Таисия Григорьевна?
Олесь?
Доктор Найда?
Томсоны?
Томсоны отпадают первыми.
Коваль вытащил из кожаной папки цветное фото Томсонов, которое попросил на несколько дней у Таисии Григорьевны.
Фотография была четкой. Правильное освещение делало лица рельефными, чуть ли не объемными и передавало живой блеск глаз.
Подполковник не мог сказать, под влиянием какого интуитивного толчка он взял эту фотографию и передал в оперативно-технический отдел. Ему показалось странным, что Джейн, хотя и очень похожая на отца — типичного англичанина, — имеет и индийские черты лица. Возможно, дед или прадед мистера Томсона служил в колониях, там женился, и в жилах его наследников течет кровь местных жителей, которая напомнила о себе и у Джейн.
Какое это имело отношение к делу Залищука, подполковник не думал. Может, только мальчишеская любознательность ко всему, что всегда дремала в его душе, толкнула на этот шаг.
Эксперт, которого Коваль попросил провести по фотографии отождествления всех членов семьи Томсонов, сделал неожиданный вывод: Джейн Томсон и в самом деле дочь Вильяма Томсона, но с миссис Кэтрин Томсон не имеет общих черт.
Чертовщина какая-то!
Можно быть похожей на отца, а не на мать, но как это эксперт совсем не нашел общих черт?!
Дмитрий Иванович знал, что отождествить личность по внешним признакам современная наука вполне способна. Каждый человек имеет только ему присущую совокупность признаков, которые унаследуются. Последовательно сопоставляя и сравнивая на фото черты лица, их общие точки, можно установить кровных родственников: отца и детей, матери и ее детей…
Нет, эксперт, очевидно, не ошибся. Но что это дает ему, Ковалю, кроме того, что он проник в какую-то семейную тайну Томсонов? Ему это ни к чему…
Да, Томсоны отпадают первыми. Потом он исключил бы Таисию Григорьевну. А Найда?..
И снова: кто из участников вечера мог иметь эту растительную отраву из эндемов[3] Кавказа?
После такого вопроса все подозреваемые, кроме Крапивцева, отпали.
Поэтому он, подполковник Коваль, и особенно лейтенант Струць так упорно ищут мотивы преступления у соседа Залищуков. Ведь именно Крапивцеву было проще всех использовать отраву: в то время, когда угощал у себя на даче подвыпившего Бориса Сергеевича.
Найда, Найда, Найда… Почему личность доктора так притягивает его? Почему то и дело он в мыслях возвращается к нему?..
Одинокий человек, который не женился потому, что был не уверен в своем общественном положении. А не возвратились ли к нему забытые чувства к девочке Катрусе Притыке и не захотелось ли ему заграничной жизни?
Конечно нет. Другое дело, если бы он не узнал правду об отце. У него могло укорениться подспудное чувство собственной неполноценности, будто он исключен из нормального общества из-за бывшей отцовской вины. Тогда, стараясь подвести черту под прошлым, он искал бы возможности стряхнуть пыль Родины со своих ног. Но сейчас, впервые за много лет, успокоился, оглянулся вокруг и по-новому увидел жизнь. Нет, такой человек ни за что не способен на преступление… И его былые чувства к Катерине Притыке не имеют никакого отношения к смерти Бориса Залищука.
Подполковник начал обобщать свои мысли. Новые поколения людей более спокойные и уравновешенные. Понемногу исчезают, уменьшаются страшные вспышки человеческой жестокости, и свои споры молодые люди в состоянии аффекта решают теперь в крайнем случае ударом кулака, а не коварным шекспировским отравлением.
«Да, да, — произнес вполголоса Коваль и подумал об Олесе. — Это и его касается».
Со двора долетел голос Наталки. Она с кем-то разговаривала возле калитки. Коваль представил, как дочь сейчас зайдет в дом. Она не вбежит вприпрыжку, как когда-то, не бросится к нему в кабинет. Войдет в свою комнату, положит сумку с конспектами, потом так же медленно выйдет на кухню, сухо поздоровается с Руженой, которая сейчас, наверно, там готовит ужин, потому что в кабинет доносятся аппетитные запахи. Потом так же солидно, даже по-старушечьи, пойдет умываться в ванную. Кроме «здравствуйте», она ничего Ружене не скажет, и он знает, что мягкая улыбка не появится на устах дочери.
«Почему Наталка так невзлюбила Ружену? Что ей не нравится в этом человеке? — горько подумал Коваль. — Как сделать, чтобы они подружились, эти двое дорогих мне людей? Неужели не понимают, что от их вражды больше всего страдаю я, тот, кого они любят?..»
На эти вопросы Дмитрий Иванович тоже не находил ответа. Его ждал ужин, во время которого он терпеливо будет сидеть между двух огней. А после ужина сбросит халат и домашние тапочки, наденет костюм и пойдет провожать Ружену…
5
Джейн нравилась лейтенанту Струню. Да и кому не понравится грациозная милая девушка с невинными кокетливыми глазами и такой улыбкой, которая проникает в самую душу, кружит голову и путает мысли.
Лейтенант Струць был с мисс Томсон сдержанным и деловым. Иногда даже чересчур строгим, нежели следовало, ибо не забывал о своем служебном положении.
Сначала он обрадовался поручению подружиться с девушкой и в непринужденной беседе дознаться о том, что не смогли или не захотели вспомнить другие свидетели. Даже короткое общение с жительницей Лондона помогло бы лейтенанту услышать настоящую английскую речь.
Но после двух встреч, во время которых Виктор Кириллович, подбирая слова, заикаясь, словно школьник, складывал английские фразы, чем вызывал ироническую улыбку Джейн, девушка прекратила эту игру.
…Они встретились под вечер, в пять часов, и Джейн захотелось осмотреть окраины города. Вчера они ездили катером по Днепру и ближайшим заливам. Это путешествие запомнилось лейтенанту. Джейн стояла на самом носу лодки, держась рукой за борт. Встречный ветер трепал ее короткую прическу, и Виктору девушка казалась волшебной птицей, которая вот-вот взлетит над водой.
Он чувствовал себя все неудобнее в роли ищейки — расспрашивать девушку о преступлении, к которому она не имела никакого отношения, выискивать в дружеской болтовне нужные следствию детали…
Сегодня Джейн сама начала разговор о трагедии на Русановских садах.
— Господи! — взяв лейтенанта под руку, простонала она. — Хотя бы вы, Виктор, успокоили меня. Скажите, скоро закончится это ваше следствие, чтобы мы с мамой могли уехать? Вы знаете, меня ждет помолвка, а маме, я замечаю, тоже опасно здесь задерживаться. Воспоминания все сильнее растравляют ее душу, и я боюсь, что она снова сляжет.
— Как только установим личность преступника, так и закончится, — неопределенно ответил Струць.
— Но уже установили. Ведь отравил сосед — Крапивцев. Что же тут еще устанавливать? У него ведь и отраву нашли! Странная у вас милиция! Лондонская полиция давно бы вытряхнула из этого Крапивцева всю правду и отправила бы за решетку.
— Даже если Крапивцев был бы невиновен? Наша милиция так не делает, Джейн. Вытряхивать признания — противозаконно.
— Но ведь вы сами, Виктор, считаете, что Залищука отравил сосед!
— Считал, а теперь думаю иначе…
— Почему же? — в глазах Джейн вспыхнули огоньки любопытства.
— Это только одна из версий…
— А какая же может быть другая?
— Вы уже сами как следователь, — засмеялся Струць. — О ней никто не догадывается, об этой версии, кроме меня. Возможно, бедолаге Залищуку отраву подсыпали еще на даче… — Лейтенант и сам не понимал, почему такое сорвалось у него с уст. Брякнул глупость!
— Я хочу в Лондон, — капризно захныкала Джейн. — Дорогой лейтенант, так это ваш глупейший домысел не пускает девушку к жениху!.. В какой степени он может касаться меня?
«Ни в какой», — хотел сказать Струць, но не сказал.
— Служебная тайна, — шутливо ответил он, уже поняв, что только тщеславное желание позадаваться толкнуло на эту выдумку с новой версией.
— Остаемся тогда я или мама? Или сама Таисия Григорьевна?.. Ах да, — вдруг вспомнила Джейн, — еще врач, друг юности мамы…
— Для нас самих это еще загадка, — уклончиво ответил Виктор.
— Ах, мама, мама! — снова захныкала Джейн. — А если бы мы не приехали в тот вечер на дачу, наверное, нас бы сразу отпустили домой?
— Наверное.
— Ну, мама как мама… Но чего меня понесло туда? Мне все там противно…
В этот раз они гуляли в лесу неподалеку от железнодорожной станции.
Джейн, хотя и без большого желания, поправляла английское произношение лейтенанта, и в душе он был ей благодарен. Кто знает, может, его знания помогут когда-нибудь перейти на гражданскую службу и побывать за границей.
В лесу было прекрасно. Приятно пахло нагретыми в течение дня листьями и травой, среди высоких дубов и грабов в такт с ветром, шелестевшим в кронах, вытанцовывало солнце, выбегало на лесные дорожки. Было еще тепло, но где-то близко уже дышала осень: воздух становился прозрачным, желтели березы и краснели дубы, дуновение ветерка казалось не горячим, а мягким и нежным.
— А теперь, Виктор, побеседуем о другом. Я устала от наших полицейских разговоров, — с очаровательной непосредственностью произнесла Джейн. — Мне, например, очень нравятся ваши парки. У нас в Англии они страшно прилизаны, а у вас естественнее, настоящий лес.
— Вам нравится наша природа?
Джейн кивнула.
— Это у вас от матери, — улыбнулся лейтенант. — Ведь она выросла тут… И ей здесь все мило.
— Но у нас живут иначе… Я здесь очень скучаю… — Джейн лукаво взглянула на лейтенанта и смело взяла его под руку. — В Лондоне очень популярна поп-музыка. Мои друзья, и Генри, и я в восторге от нее. Она вызывает из глубины души скрытые эмоции, возбуждает, возвращает человека в его естественное состояние, искалеченное сейчас цивилизацией. Побывали бы вы на концерте, увидели бы!.. Когда играет поп-оркестр, весь зал бурлит!.. Вы тоже, мистер лейтенант, не удержались бы! — Джейн еще раз бросила лукавый, словно оценивающий взгляд, на Струця. — Неужели вы, Виктор, не любите танцевать?
— Почему же. Наоборот.
— Вы мне кажетесь вполне достойным партнером, — засмеялась Джейн, — и я не отказалась бы очутиться с вами в нашей компании… — Она легонько повернула лейтенанта к себе, как бы в танце, и замурлыкала ритмическую песенку. — Вы действительно милый, а родинка ваша — прелесть!
Струць осторожно, но решительно высвободился из ее рук.
— Вы пуританин, — оскорбленно сказала Джейн. — И всего боитесь. А наши развлечения и естественны, и в то же время интеллектуальны.
— Если считать интеллектуальными развлечениями ночные кабаре, стриптиз и тому подобное…
Джейн бросила на него иронический взгляд.
— И кабаре, и стриптиз… Нельзя быть таким монахом молодому человеку! — Она нервно рассмеялась. — А что такого, мистер лейтенант, если и стриптиз?.. Ведь у вас не отрицают красоту человеческого тела! Картины Рембрандта, например… Стриптиз — это только красота, и его нечего бояться…
Джейн вдруг остановилась между двумя высокими старыми вязами и расстегнула сзади пуговицу блузочки.
— Боже, какая жара! — произнесла она. Потом, не оглядываясь, словно не боясь, что еще кто-нибудь кроме Виктора увидит ее, сняла с себя тоненькую блузочку. Ее загорелые груди теперь ничто не прикрывало. Испуганно сверкнул маленький золотой крестик на тоненькой цепочке. — Какая жара! — повторила Джейн. — Душно!.. И воды поблизости нет…
Струць невольно оглянулся, словно испугался, что на полуобнаженную девушку кто-то смотрит. Ему стало жарко.
Джейн засмеялась, в глазах ее запрыгали веселые огоньки.
— Это же не страшно, правда? И на пляже так можно ходить… И танцевать так гораздо приятней… Но это же еще не полный стриптиз, Виктор… — Она грациозным движением взялась за юбку, как будто и ее собиралась снять.
— Джейн! Перестаньте.
— Я знаю, вас приставил ко мне тот хмурый начальник, полицейский философ, чтобы вы следили за мной. А английское произношение — это только зацепка. Но что вы у меня выпытаете, если я о преступлении ничего не знаю. А если знала, то не скрыла бы — ведь в моих интересах помочь вашей милиции, чтобы быстрей закончить с этой историей и уехать домой. Как вы этого не понимаете?!
— Джейн! Оденьтесь!
— Мистер Струць испугался? Или, может, вы из вайссквод?[4] Как это перевести на украинский… Полиция моральности… У вас есть такая полиция, что следит за поведением, особенно девушек? Смотрите, Виктор, у меня еще молодое красивое тело. — Держа руки на затылке, Джейн начала медленно поворачиваться. — Но мне уже тридцать…
Перед глазами лейтенанта все закружилось: и матовые, цвета топленого молока, груди девушки, и листья грабов, и далекая лесная дорожка внизу, и голубое небо над ней. Все это то обретало четкие очертания, то расплывалось перед глазами, словно в неотрегулированном бинокле или на экране испорченного телевизора. Джейн продолжала поворачиваться перед ним.
— Виктор, я еще молода и хороша… Смотрите, смотрите… Но скоро я постарею, и Генри последняя моя надежда… Меня нельзя задерживать. Я рискую, что он не дождется… Виктор! — вскрикнула она и, подойдя к лейтенанту, вдруг обвила руками его шею. — Пожалейте меня. Будьте другом, помогите…
Ее тугие груди жгли Струця сквозь рубашку, и он боялся пошевелиться.
— Уговорите вашего подполковника, чтобы отпустил меня. Зачем я вам? Тут останется мама. Это все равно что я…
— Джейн, это не зависит от меня и даже от Коваля. — Лейтенант крепко взял девушку за талию и оторвал от себя.
Деревья перестали кружиться перед глазами, листья, лесная дорожка утратили свои расплывчатые очертания.
Какое-то мгновение Джейн стояла перед ним с опущенными плечами. И вдруг гордо подняла голову и презрительно усмехнулась.
Лейтенанту она стала невыносимо гадкой.
Мисс Томсон подняла с земли блузочку и, повернувшись спиной к Струцю, начала одеваться. Лейтенанта поразила такая резкая трансформация: на его глазах прекрасная девушка превратилась в фурию.
— Идемте, мисс Томсон, отсюда, — негромко произнес он.
Джейн не ответила.
Лейтенант не торопил.
Наконец, так и не повернувшись к Струцю лицом, она твердо сказала:
— Я не пойду с вами! Идите прочь! Я сама доберусь в город!
— Но вы не знаете дороги.
— Я прекрасно знаю и приеду электричкой или автобусом. Или возьму такси. В конце концов, вас это не касается.
— Я привез вас сюда. И должен отвезти домой.
— Разве я арестована? Мне не нужен конвоир.
— Я забочусь о вас.
— А я не хочу вас больше видеть.
Так закончилась эта встреча. Струць направился к остановке автобуса. По дороге несколько раз оглядывался и издали следил за Джейн. Успокоился, только когда она приблизилась к платформе, откуда электропоезда шли к пригородному вокзалу. Теперь его мучила новая проблема: рассказать об этой истории Ковалю или нет? Конечно, должен бы рассказать. Но как рассказать о таком?!
6
И надо же было такому случиться — Коваль постучал в номер Томсон вечером, именно тогда, когда был нужен. Возле дверей ему показалось, что в комнате громко хохочет Джейн, а миссис Томсон что-то возмущенно выкрикивает.
Женщины не услышали легкого стука, и только когда подполковник постучал сильнее, в номере наступила тишина.
— Разрешите? — спросил Коваль, чуть приоткрыв дверь.
— Кам ин![5] — громко выкрикнула Кэтрин. — Кам ин! Это вы, подполковник?
Не успел Дмитрий Иванович закрыть за собой дверь, как миссис Томсон набросилась на него. Ничего не поняв из ее рассказа, в котором, волнуясь, женщина путала украинские слова с английскими, Коваль попросил ее успокоиться и толком пояснить, что случилось. Кэтрин в ответ упала в кресло и, обхватив голову руками, заголосила: «Инпосибл! Инпосибл![6] Какой ужас!»
Коваль, видя, что от Кэтрин ничего не добьешься, обратился к Джейн, которая стояла, прислонясь к косяку балкона.
Когда подполковник назвал ее имя, девушка повернулась к нему лицом, и он увидел, что она плачет. Слезы ручьем текли у нее по щекам.
«Две истерички одновременно. Многовато».
Взял Джейн за руку и повел к свободному креслу. Девушка покорно села.
— Так что же у вас тут случилось, Джейн?
— Это он, он… ваш Струць, — произнесла, задыхаясь, девушка. Грудь ее поднималась и опускалась рывками, и она не могла спокойно говорить.
— Что Струць?
— Ваш офицер Струць!.. — Джейн опять заплакала.
Коваль рассердился:
— Говорите толком!
И вдруг, чего-то испугавшись, неспокойно взглянул на девушку. «Черт возьми, что мог такое выкинуть лейтенант, от чего обе женщины вне себя?» Набравшись терпения, подошел к столику, на котором стояли бутылки с минеральной водой, наполнил стакан и поднес его Джейн. Девушка отмахнулась, но миссис Томсон протянула руку, и Коваль отдал стакан ей. Выпив воды, Кэтрин наконец сказала:
— Ваш лейтенант оскорбил Джейн. Очень тяжело. Будем жаловаться послу. — Глаза миссис Томсон полыхали гневом.
Коваль не привык пугаться. В каких только переплетах он не был и на фронте, и в этой послевоенной, так называемой «мирной» жизни милиции, где всегда есть «местные бои». Однако никогда не испытывал чувства, при котором холодеет кровь в жилах. Сейчас это чувство было для него неожиданным и оскорбительным; он растерялся, что случалось с ним очень редко, и прошла чуть ли не целая минута, пока взял себя в руки и смог говорить своим обычным, ровным голосом:
— Что же такое сделал лейтенант Струць? Чем обидел Джейн? Насколько мне известно, он с большой симпатией и уважением относится к вашей дочери. Радовался, что, разговаривая с ней, имеет возможность усовершенствоваться в английском языке.
Произнося этот долгий в данной ситуации монолог, Дмитрий Иванович вспомнил, как предупреждал Струця, чтобы тот не очень увлекался девушкой, ибо понимал, что «филологическое задание» для лейтенанта было счастливым подарком судьбы в не всегда приятной сыщицкой службе. Подполковник почувствовал, как у него нарастает гнев. «Не выйдет из Струця оперативник! И вообще, наверное, придется распрощаться с ним!»
— И как же обидел лейтенант вашу Джейн? — повторил Коваль.
— Как обидел?! — закричала Кэтрин. — Он заманил ее в лес и набросился как дикий козел, сделал ей больно, разорвал юбку… Я не знаю, что еще там было… Джейн только что привела в гостиницу какая-то железнодорожница… Ребенок не в себе. Хотела покончить с жизнью. У нас в Англии за такое безжалостно судят, безжалостно карают!..
Миссис Томсон вскочила с кресла, будто собиралась куда-то бежать, глаза ее пылали ненавистью. Представив себе после слов обезумевшей матери весь ужас того, что, очевидно, случилось, Коваль чуть не задохнулся от гнева на Струця, который запятнал честь мундира. Если подтвердятся слова Кэтрин, Струця ждет не только увольнение из органов, а и суровый приговор суда, который на много лет изолирует его от нормального человеческого общества.
Коваль старался ничем не выдать своего волнения. Спокойно попросил Джейн рассказать о происшествии в лесу.
Девушка взяла лекарство матери, поднялась с кресла и, бросив: «Умоляю вас, не терзайте меня. Я такая несчастная, такая измученная», — пошла в спальню и, упав там ничком на постель, уткнулась в подушку.
Коваль понимал душевное состояние Джейн и не настаивал на беседе с ней. Успокоив миссис Томсон, которой дочь перед его появлением успела рассказать о происшествии, начал расспрашивать ее.
— Да, да, — вздохнула Кэтрин, — он пригласил мою Джейн на прогулку в лес. Обещал показать ей окрестности Киева. В лесу завел дочь в какие-то дебри и набросился на нее, порвал на ней одежду. Мой бедненький ягненочек до смерти испугался и начал кричать. Тогда он ударил ее, обозвал скверными словами и сказал, что убьет, если не послушается, или сделает так, что ее посадят в тюрьму.
— В тюрьму Джейн? За что? — не выдержал Коваль.
— Не знаю, за что, но он так угрожал… Бедная девочка совсем потеряла рассудок и побежала куда глаза глядят. Оказалась у железной дороги. С насыпи увидела приближающийся поезд, хотела броситься под него, но какая-то железнодорожница удержала ее. Потом эта сердечная женщина привезла Джейн сюда…
Дмитрий Иванович слушал миссис Томсон опустив голову. История была не просто удивительной, а и невероятной.
— Он разорвал на ней юбку… Господи, я и сейчас вся дрожу. Если бы не эта женщина, этот ангел-хранитель, Джейн могла погибнуть!.. А что теперь будет с ее свадьбой? Что скажет Генри, когда узнает об этой истории? — покачала головой миссис Томсон. — Она и мне не хочет все рассказывать… Я понимаю, даже меня стыдится, словно сама в этом виновата. Бедное дитя!.. Но мы с вами люди взрослые и можем обо всем говорить откровенно. Утром я поведу ее к врачу, и если окажется… — Что именно «окажется», миссис Томсон не договорила, но и так было ясно, что она имеет в виду. — У вас тут есть частные врачи?
— Частных врачей у нас нет, — сердито буркнул подполковник. — И вести ее к каким-то врачам нет необходимости. И не завтра, а сегодня ее осмотрит судебно-медицинский эксперт. А пока что я хотел бы увидеть эту юбку.
— Джейн! — крикнула миссис Томсон в спальню. — Принеси сюда юбку… Мы уже собирались звонить в милицию, — она повернулась снова к Ковалю, — но вы сами пришли.
— Да, да, — механически проговорил подполковник. — За такие преступления у нас строго наказывают… А если преступление совершил работник милиции, который должен быть рыцарем чести и справедливости, то наказывают самым суровым образом.
Джейн наконец вышла из спальни, держа в руках помятую, запачканную землей и позеленевшую от травы юбку.
Коваль развернул ее. Она и в самом деле была разорвана сбоку. Но его удивило, что разрыв шел по шву. Впрочем, нитки на шве всегда легче рвутся, нежели крепкая фактура ткани.
— Пишите, Джейн, заявление о том, что случилось, и собирайтесь, поедем на экспертизу, — сказал Коваль. — Вашу юбку исследуют специалисты, а вы пройдете медицинский осмотр. Куда он вас ударил?
— Куда? — растерянно переспросила девушка. — Не помню. Я только помню, что ударил. Несколько раз. — Джейн уже не плакала, но веки у нее были красные и набрякшие.
— В заявлении детально опишите происшествие. Ваш обидчик будет наказан. После следствия его ждет суд.
— Я его убила бы и без суда! — негодующе стиснула кулачки Джейн, и ее красивое нежное лицо скривила гримаса ненависти.
— Убивать его не будут, но, если случилось непоправимое, — Коваль пронзительно взглянул на девушку — она до сих пор не сказала, какая, собственно, беда случилась, — он может получить до восьми лет тюрьмы… А то и больше.
— Восемь лет, — сердито сказала Джейн. — Очень хорошо! — И вдруг ужаснулась. — Но ведь и меня здесь будут держать, пока его осудят! Боже мой, еще одно следствие! Это не закончилось, другое начнется… Генри сойдет с ума, ожидая меня!.. Мама! Генри писал, если не вернусь вовремя, обручение не состоится. Я не хочу никаких задержек! — крикнула она Ковалю. — Никаких новых следствий! Я не напишу никаких заявлений! Не хочу никаких экспертиз! Я хочу домой! — И Джейн затопала ногами.
Коваля внезапно будто что-то подтолкнуло, какая-то еще невыразительная мысль возникла у него — словно перед глазами появилось привидение. Шаткое, туманное привидение. И сразу растаяло, оставив в душе подполковника непонятную раздвоенность.
— Можете сами и не писать заявления, — сказал он Джейн. — На основании ваших слов я напишу его, а вы только подпишете. В таких случаях, как ваш, и этого достаточно. Если правда то, что вы сказали, Струця немедленно арестуют.
— Но, боже мой, восемь лет! — вдруг жалостливо проговорила Кэтрин, поддерживая дочь. — Это же вся молодость. Мы не знали, что у вас так сурово карают.
— Сколько ему лет дадут — дело не наше, — заметил Коваль, поднимаясь со стула, — а суда. Конечно, за такое наказывают сурово. Статья сто семнадцатая предусматривает и пятнадцать, и даже смертную казнь. Правда, если было только посягательство на честь девушки, закон и это учтет. В конце концов, все сейчас установит экспертиза, и вам не нужно будет беспокоить посла. Я сам допрошу и Струця, и свидетеля — женщину, которая привела Джейн в гостиницу.
— Дмитрий Иванович, — вдруг умоляющим голосом обратилась к подполковнику Джейн, которая, слушая его тираду, менялась в лице — оно уже покрылось красными пятнами. — Я вот что предложу: я ничего не говорила, мы с мамой не будем поднимать шум. Бог с ним, с вашим лейтенантом, — от этого мир не пострадает. А вы за это помогите мне завтра же вылететь к жениху. Пусть ваша милиция немедленно оформит мне разрешение на выезд.
Призрак сомнения, который на мгновение предстал перед Ковалем, начал приобретать более четкие очертания. Неужели это ему только показалось, что девушка истерически хохотала перед его появлением в номере?
— Кстати, — обратился он к Джейн, — должен предупредить вас, мисс Томсон, что ложный донос по нашим законам тоже карается…
* * *
Итак, официального заявления Джейн не написала, от устного тоже отказалась, и все равно Коваль покидал гостиницу с тупой душевной болью, словно ему плюнули в лицо.
Первой естественной реакцией на все услышанное от Джейн и ее матери были гнев и потребность действовать.
Подполковник пересек подземным переходом площадь Ленинского комсомола и направился вверх через Владимирскую горку узенькой и крутой улочкой Героев революции, которая выводила на Советскую площадь, к старинному дому, где помещалось Управление внутренних дел.
«Как мог лейтенант Струць дойти до такой подлости?!»
«Откуда он взялся в милиции, этот вертопрах?! Как попал в Высшую школу Министерства внутренних дел?!»
Коваль не отвез Джейн на экспертизу не только потому, что пожалел девушку. Хотя в ее состоянии это было бы жестоко. Главное, она отказалась от заявления. Экспертизу, наконец, не поздно провести и завтра. С утра допросит и железнодорожницу, и самого Струця.
Мысли метались словно грозовые тучи, гонимые ветром. «Если экспертиза подтвердит насилие, сто семнадцатая ему обеспечена». Коваль, может, впервые в жизни почувствовал, насколько точно определяет закон суровое наказание за надругательство над женщиной.
«Мало того, что совершил тяжелейшее преступление, он еще обесчестил мундир сотрудника советской милиции! Да, продажные писаки, когда пронюхают об этой истории, поднимут крик на весь мир!»
На скупо освещаемой улице Коваль несколько раз споткнулся. Он не замечал домов, мимо которых шагал, встречных прохожих. Вдруг почувствовал, что задохнулся от быстрой ходьбы, и остановился, чтобы перевести дыхание.
Это не был возрастной недуг, которого он боялся, как и все люди, находящиеся на службе, где необходимо отличное здоровье. Такое же горькое чувство своего бессилия он уже познал однажды в молодости.
Из глубин памяти выплыла картина, казалось навеки забытая.
…Это случилось сразу после войны в приморском городе, где он начинал милицейскую службу. Ночью случайно напал на след банды, которая занималась в городе грабежами и насилием. Он прошел суровую школу войны, но в милиции был новичком и еще толком не знал, что в отличие от фронтового боя, где с врагом чаще всего встречаешься грудь в грудь, тут нужно быть в сотни раз осторожнее. Тут враг мог оказаться не только впереди, но и на флангах, и в тылу, и среди случайных знакомых, и среди давно известных людей; здесь приходилось пользоваться тем же набором неожиданностей, ловушек, тем же арсеналом хитростей, уловок, которые без ограничения применяет преступник.
…Той глухой ночью, уставший после нелегкого суточного дежурства, он шел узкими переулками на окраине города, направляясь к центру, где находилось общежитие милиции. И вдруг услышал крик: «Помогите!»
Бросился к дому, из которого раздался крик.
Из-за двери доносилось женское рыдание. Постучал. Дверь сразу приоткрылась, словно его ждали. Вынув на всякий случай пистолет, переступил порог. И тут же на него обрушилось что-то тяжелое. Через несколько минут отчаянной борьбы его, обезоруженного, со связанными руками, втолкнули в большую, освещенную керосиновыми лампами комнату, где гуляли с портовыми девицами подвыпившие преступники.
Он понял, что очутился в логове давно разыскиваемых бандитов, что живым уйти отсюда ему не удастся и что, обезоруженный, не сможет даже дорого отдать свою жизнь. Его пистолет держал пьяный атаман банды по прозвищу Сифон. Ковалю ничего не оставалось, как умереть с честью.
Никто не плакал, никого не обижали; наоборот, все хохотали — и бандиты, и их девицы. Оказывается, его поймали на очень простую приманку. От этой мысли ему стало так больно. Горечь обиды и бессилия — как легко, по-глупому попался! — заглушила в нем естественное чувство страха.
Сифон, мордатый мужик из бывших полицаев с красным рубцом на подбородке, — по этой примете, указанной в ориентировке уголовного розыска, Коваль и узнал его, — перестал хохотать, и все тоже притихли.
«Что же это такое получается, — писклявым голосом, скоморошничая, проговорил он, — разный мусор к нам в гости начал жаловать. Ну, если заглянул, то садись за стол… И фуражечку синенькую за столом сбрасывай, как подобает у православных… Раздражает она что-то меня…»
Коваль стоял как вкопанный, ни один мускул на лице не дрогнул.
«Подведите его ко мне, — прогундосил Сифон, разваливаясь в каком-то старом, обитом кожей кресле, — он плохо слышит».
Двое бандитов, хихикая, подскочили к Ковалю и подтолкнули ближе к столу.
«Слушай, Сифон, — спокойно произнес Коваль, — тебе уже недолго осталось жить и людей мордовать, и не думай, что спасешься… За мою голову свою шкуру отдашь».
«Я попросил тебя снять фуражку, — кривляясь, просительным тоном заканючил атаман. — Сделай одолжение… Ах да, у тебя руки связаны. Развяжите!»
Один из бандитов чиркнул по веревке острой финкой.
«А теперь прочистите ему уши, братцы», — с теми же просительными, жалостливыми интонациями в голосе обратился Сифон к своим приспешникам.
Сильный удар в голову чуть не сбил Коваля с ног. Упала фуражка. Он наклонился, поднял ее, рукавом кителя стряхнул пыль с загрязненного верха и снова надел. Он должен выстоять, выстоять любой ценой! Шесть вооруженных бандитов, на чьей совести не одно убийство, — что он мог с ними сделать?!
Сифон встал, вышел из-за стола и приблизился к Ковалю. Он был намного ниже ростом молодого лейтенанта.
«Ах ты, сявка! — прошипел бандит и, став на цыпочки, плюнул в лицо Коваля. — Получай мою заразную блямбу!» — крикнул Сифон и отскочил на безопасное расстояние.
Коваль вытер рукавом лицо. Выстоять, выстоять, выстоять!.. Не сорваться!.. Голова кружилась. Сердце сжимала такая тупая боль, какой раньше никогда не знал.
Сифон вернулся к столу, взял пистолет, вытащил обойму с патронами и бросил его к ногам Коваля.
«Бери и убирайся прочь! И не попадайся больше на глаза!»
Коваль повернулся и медленно двинулся к двери, каждую секунду ожидая удара ножом в спину.
Он не побежал. Лишь боль, горькая, ни с чем не сравнимая боль, охватила уже, казалось, не только сердце, а и руки, ноги, голову…
«И не вздумай меня искать со своими мусорами. Вторично так легко не отделаешься!» — бросил вдогонку Сифон.
Коваль не понимал, почему вдруг бандит отпустил его. Испугался еще одного «мокрого» дела? Нет, у него столько убийств, что одним больше, одним меньше уже не имело никакого значения. Испугался, что милиция, узнав об убийстве сотрудника, начнет его разыскивать еще старательней? Нет, он и так находился уже на краю гибели — был окружен, словно волк в загоне. Чем-то понравился ему молодой инспектор милиции? Тоже нет. В чем же дело? Ведь знает, что он, Коваль, сразу бросится в райотдел за помощью. А может, они хотят привлечь все внимание милиции к этому дому, чтобы беспрепятственно совершить грабеж тем временем в другом месте?..
Той же ночью Коваль убедился, что его размышления имели основания: банда Сифона пыталась ограбить сберкассу в другом конце города…
…Вскоре подполковник поднялся на гору, миновал студенческое общежитие. Прохладный ветерок с Днепра подул в его разгоряченное лицо. Наконец около старого четырехэтажного дома, расположенного на площади — в нем помещалось Управление внутренних дел, суд и другие административные учреждения города — у Коваля все четче стали определяться вопросы, на которые он пока еще не находил ответа.
Почему Джейн так упрямо не хотела писать заявление? Почему отказалась ехать на экспертизу? Конечно, следы насилия можно установить и завтра. Они не исчезнут за одну ночь.
Но почему?
Пожалела в последнюю минуту этого красавчика? Жалеть негодяя, преступника?! Если бы его пожалел он, Коваль, это еще можно понять. Но Джейн… Ее жалость кажется странной.
Дмитрий Иванович пошел медленнее. Задумался о психологии девушки из чужого мира, которая привыкла к легкой жизни, привыкла удовлетворять все свои прихоти.
Подполковник перенесся мысленно в далекий Лондон — он представлял его только по книгам и кинофильмам — и словно увидел там Джейн, которая прогуливается вместе со своим женихом Генри в зеленом благоустроенном парке, каких так много в английской столице. Генри представился ему худощавым англичанином в добротном костюме, с лакированной тростью в руке. Лицо продолговатое, немного бледное, серые глаза уверенно осматривают встречных, нос с горбинкой и ямочка на подбородке подчеркивают твердость характера. Джейн рядом с ним похожа на розовую куколку. Такой, подумал Коваль, действительно не будет долго ждать невесту. Потом Дмитрий Иванович прошелся вместе с ними в магазин к ювелиру, где Генри купил Джейн украшения, — он видел на шее у девушки колье — подарок жениха.
Подполковник привык изучать всех людей, так или иначе связанных с расследуемым им событием. Не только самих людей, а и среду, в которой они живут, их связи… Однако в случае с Томсонами он был лишен такой возможности, и это усложняло расследование. Правда, к главному событию, которым он занимался, сын туманного Альбиона Генри никакого отношения не имел… Вот только эта беда с Джейн! Кажется, преступление Струця отодвинет на второй план отравление Залищука…
«Нет, такая, как Джейн, не сможет во имя какой-то абстрактной жалости простить преступнику, растоптавшему ее честь… В таком случае почему же она отказалась писать… Мы толком и не знаем, в чем преступление лейтенанта. Изнасилование? Или только попытка? Нападение с преступной целью?.. Ни одно, ни другое еще не установлено. Даже потерпевшая не говорит прямо об этом… Допустим, что ей неудобно было о таком рассказывать мне, естественная девичья стыдливость. Но ведь и заявления не захотела написать…»
С такими противоречивыми мыслями Дмитрий Иванович подошел к подъезду Управления внутренних дел. Заметив его, часовой у входа козырнул. Подполковник механически поднес руку к голове и, вспомнив, что не в форме, опустил. Остановился. Несколько секунд постоял так, лицом к лицу с часовым, и вдруг вместо того, чтобы подняться по ступенькам и войти в здание, направился через дорогу в небольшой скверик, который находился между Управлением и жилыми домами. Сел там на массивную каменную скамью и задумался.
«Действительно, очень странно… Наверное, я погорячился, — упрекнул себя Коваль. — Меня так ошеломила эта история с лейтенантом. Погорячился и забыл об элементарных вещах. Все же не откладывая нужно было установить: «А был ли Иван Иванович?» — Подполковнику припомнилась пьеса Назыма Хикмета под таким названием. — Установить наличие преступления и допросить лейтенанта… В этот раз я сделаю иначе. Сначала поговорю со Струцем, а потом займусь экспертизами. Во-первых, он еще, естественно, не обвиняемый и, во-вторых, никто пока не лишил его звания лейтенанта милиции. Но не сейчас же, уже позднее время… Потерплю до утра, когда Струць появится в райотделе. Лейтенант никуда не исчезнет, и применять к нему такую предупредительную меру, как задержание, нет нужды…»
Коваль поднялся со скамьи и направился к остановке троллейбуса. Вокруг гасли фонари. Будто возвращая ночи ее естественные контуры и краски, вырисовался в небе полный месяц и залил землю бледным светом.
Заснуть этой ночью Коваль долго не мог.
Чтобы не мешать Ружене, взял подушку и отправился в свой кабинет, где по старой холостяцкой привычке улегся на диван…
7
Перед Ковалем сидела женщина в коротком вылинявшем платье, едва прикрывавшем колени. Сначала сухо, а потом, разговорившись, уже более живо отвечала на вопросы.
Мысль о том, что девушка хочет броситься под поезд, появилась у нее, стрелочницы, когда увидела, как та, взлохмаченная, расхристанная, нервно ходила вдоль насыпи.
— Вы можете указать время? — спросил Коваль, записывая ее слова.
— А как же! — обрадовалась стрелочница подвернувшемуся случаю помочь милиции. — Пять минут десятого, двадцать один ноль пять, ну в крайнем случае ноль шесть.
— Вы так точно заметили время?
— А как же! В двадцать один тринадцать проходит электричка. И девушка, вероятно, собиралась броситься под нее.
— Она знала расписание электричек на вашем участке?
— Конечно нет. Это я сама так соображаю. Миновав незнакомку, я сделала еще несколько шагов и оглянулась. Оглянулась и она. Это мне не понравилось. И с этого момента я не спускала с нее глаз. Двинулась следом на некотором расстоянии, потом спряталась за деревом. Девушка села на насыпь и, плача, стала поправлять на себе одежду.
— Еще было видно?
— А как же! Смеркалось. Но рассмотреть можно было… Поняв, что я за ней слежу, девушка накричала на меня. Я догадалась, что она иностранка, так как путала наши слова с какими-то непонятными. Не обращая внимания на ругань, я подошла и стала ее утешать. В ответ девушка вдруг расхохоталась как ненормальная. А когда донесся шум электрички, вскрикнула и бросилась вниз по насыпи. — Женщина вздохнула и на секунду умолкла. — По шуму вагонов я поняла, что электричка вот-вот появится из-за поворота. Тогда и я сбежала на полотно, чтобы сигналами остановить ее, потому что та дуреха уже была на рельсах. Машинист меня заметил, тормознул, аж рельсы заскрипели. Несчастье случилось бы, если бы я не оттолкнула ее в сторону. Машинист все время давал гудки, но мы уже были не на полотне, и электричка миновала нас. Пока электричка приближалась, девушка вырывалась из моих рук. — Женщина потерла левое плечо. — До сих пор болит, так она меня ударила! А потом, когда электричка прошла и я ее отпустила, побежала по направлению к городу… Какой-то сукин сын довел девку до беды и удрал…
— Как вы узнали об этом?
— Она же через несколько минут возвратилась к моей будке: или снова надумала под поезд, или, может, заблудилась, потому что стемнело. Я ее на путях и встретила.
— Одну?
— А как же! Одну. Привела на пост, дала воды, отряхнула с нее пыль и землю.
— Как вы узнали, что «какой-то сукин сын довел девку до беды и удрал»? — Коваль специально повторил дословно выражение стрелочницы.
— А она сама рассказала.
— Вы ее расспрашивали?
— Нет. Она сначала ничего не говорила. Но когда я хотела позвонить в милицию, чтобы за ней приехали, стала умолять отпустить ее к матери в гостиницу. Сказала, что она из Англии и что у нее будут крупные неприятности, если в эту историю вмешается милиция. Она тогда долго не сможет вернуться домой, где ее ждет жених. И еще сказала, что у нее больная мать, которой врачи запретили волноваться. Я была очень сердита. И не только потому, что, бросившись под поезд возле моего поста, она и мне причинила бы большие неприятности. Меня возмутило и другое: молодая красивая девушка и не дорожит жизнью! Но она так просила пожалеть ее, пожалеть мать, так просила! И в конце концов я уступила.
Раздался гудок дистанционного телефона. Женщина поднялась с табурета, взяла трубку, взглянула на часы.
— Пост номер восемь слушает… Пятьсот семнадцатый проходит… — повторила она слова диспетчера. — Сейчас поезд, — объяснила Ковалю, беря в руки сигнальные флажки.
Подполковник тоже поднялся. Из-за поворота показалась красная грудь электровоза. Рельсы тянулись внизу, между холмами, словно в каньоне, и Коваль подумал: если бы не стрелочница, Джейн, скатившись на рельсы, непременно погибла бы.
Женщина, свернув желтый флажок, возвратилась в помещение. Подполковник вошел следом за ней. Она устало опустилась на скамью, сняла оранжевую куртку. И, видимо, все еще находясь под впечатлением воспоминаний, сама, не ожидая вопросов Коваля, продолжила рассказ:
— Когда она сказала, что ее то ли изнасиловали, то ли хотели изнасиловать, я накричала на нее: «Скажешь правду и дашь слово, что больше не будешь делать глупостей, отпущу домой». Знаете, мне вообще-то не очень хотелось впутываться в эту историю. Пойдут всякие вызовы, расспросы, не один день потеряешь, а у меня семья, дети, муж больной, своей беды по горло… Да вот не удалось… Девушка снова начала плакать, клясться, что не бросится под поезд, хотя ее оскорбили. Она, мол, и не собиралась бросаться, просто убегала от какого-то нахала… и решила попугать его.
— Вы его видели, этого «нахала»?
— Нет, может, он где-то в кустах прятался, но я не видела.
Эти слова успокоили Коваля.
— Набросила ей на плечи свой ватник, так трясло глупую, словно в лихорадке. Тем временем совсем стемнело. А тут пришла моя напарница Надя, и я попросила ее остаться за меня, потому что боялась отпустить девушку одну.
— Так что же все-таки с ней произошло? — словно сам себя спросил Коваль.
— Что произошло? — повторила его слова стрелочница. — Знаете, товарищ подполковник, она мне говорила как-то туманно, но я все поняла, как бы сказать, сердцем. Оскорбил ее тот баламут. А как же! Сначала пригласил погулять. Она понимает по-украински, хотя выросла в Англии. А он будто бы английский учит и хотел с ней по-ихнему поговорить… А потом… Какие там разговоры! Набросился на нее!..
Женщина умолкла и опустила глаза.
— Значит, набросился?
— А как же!
— Ну и что же?
— Что? — стрелочница снова опустила глаза. — Дальше ничего не знаю… Да оно и так понятно, товарищ подполковник. Чего еще, если девка под поезд бросается. Не верю, что она кого-то там пугала. Это ей стыдно было признаться. От простого поцелуя еще никто на рельсы не ложился.
— А не от простого? — Коваль слегка улыбнулся и этим смутил женщину. — Итак, ничего конкретного о самом происшествии вы не знаете. Сами ничего не видели… Ну, а кто же этот кавалер? — спросил опять Коваль будто самого себя.
Стрелочницу, очевидно, не только удивил, но и задел спокойный, даже с нотками удовлетворения тон Коваля.
— Какой кавалер?! — выкрикнула она гневно. — Бандит, а не кавалер! А как же!
— Чтобы судить, нужно знать; чтобы осудить, нужно поймать, — ответил все так же спокойно Коваль. — А чтобы поймать, нужны приметы. Девушка не говорила, кто он, где работает, как его звать?
Женщина покачала головой:
— Нет, не сказала… Да неужели вы, милиция, не найдете? Говорят, что и таких находите, которые кто знает где прячутся.
— Только с помощью людей, — заметил подполковник.
— А вы у нее спросите. Почему же она вам не рассказала?
Коваль не успел ответить. Снова прозвучал густой низкий звонок дистанционного телефона, и женщина схватила трубку. На подходе был новый состав.
Коваль уже знал, что Джейн не хочет предавать большой огласке имя своего обидчика. Выходит, только троим — самой Джейн, миссис Томсон и ему, Ковалю, — известно, что это был лейтенант Струць. Но почему Джейн скрывает, что, собственно, произошло у нее с лейтенантом? Если Струць так тяжко ее обидел, что решила броситься даже под поезд, то какое для нее имеет значение, узнает об этом милиция или не узнает? В таком случае она сама должна бы отложить отъезд и свадьбу… Да, здесь как-то не сходятся у нее концы с концами…
Когда стрелочница вернулась в будку и положила свои флажки, Коваль снова спросил:
— Значит, никаких примет не назвала?
— Этого мерзавца?.. Нет. Спросила ее, как она отважилась с незнакомым парнем идти под вечер в лес. Дурочка, говорит, поверила, что он хороший. Какой-то начальник…
— Умгу, — промычал Коваль. Впрочем, подумал, в глазах Джейн и лейтенант мог показаться начальником. — Ну, а дальше? Как вы попали в гостиницу?
— Дальше? — медленно произнесла, словно собиралась с мыслями, женщина. — Я вышла с ней на дорогу, остановила такси и отвезла ее к матери. А как же! Она всю дорогу дрожала, даже под ватником.
— А как ее зовут, эту девушку?
Женщина молчала.
— Забыли?
— Да нет, — растерянно ответила. — Она не назвалась. А я не спросила. Не до этого было.
— Хорошо. — Коваль встал. — Теперь пойдемте к месту происшествия.
Он попросил стрелочницу показать, где бросилась на рельсы Джейн, где находилась в это время электричка. Потом снял часы — старенький «Луч», — дал женщине, а сам, поддерживаясь на руках, опустился на рельсы и попросил засечь, за сколько секунд он поднимется и отбежит от путей…
8
Как ни ждал сегодня Дмитрий Иванович появления лейтенанта Струця, как ни готовился к встрече с ним, но, когда тот открыл дверь, весь напрягся.
— Здравия желаю, товарищ подполковник! — бодро приветствовал его инспектор.
Не поднимая головы от бумаг на столе, за которым сидел, Коваль пробурчал в ответ что-то неразборчивое.
Лейтенанта не смутил холодный прием. Начальство, иронически подумал он, как и все люди, тоже имеет право на плохое настроение. Впрочем, люди такого возраста все сварливые, он убедился в этом, наблюдая за своим отцом, полковником в отставке, — а теперь вот и Коваль уверенно приближается к критическому этапу и полковничьему званию. И тут же с удовлетворением отметил, что ему, лейтенанту, до этого возраста, как и до высокого звания, еще очень далеко. На его устах появилась довольная улыбка.
Очевидно, эта улыбка и была последней каплей, переполнившей чашу терпения Коваля.
— Я с самого утра побывал у Крапивцева… — начал Струць.
Подполковник жестом оборвал его, поднялся из-за стола и, как всегда, когда волновался, стал мерить шагами комнату. Струця, который удивленно следил за ним, он будто не замечал.
Так прошло несколько минут. Вдруг Коваль резко остановился и внимательно посмотрел на лейтенанта, словно впервые увидел: черные туфли, брюки с тоненьким красным кантом, форменная серо-голубая рубашка, молодое, теперь уже растерянное лицо, карие глаза и чертова девичья родинка над губой…
— Вы лучше расскажите, что делали вчера вечером!
Коваль, пожалуй, впервые в жизни повысил голос на подчиненного. Кто-то открыл дверь в кабинет и тут же закрыл.
— Дмитрий Иванович… товарищ подполковник… — Струць не понимал, почему вдруг налетела такая гроза. На лице его была уже не только растерянность, но появился и страх за Коваля, которого он успел узнать как человека выдержанного. — Товарищ подполковник, я ничего не понимаю. — И внезапно лейтенанта охватила злость. Какое имеет право Коваль кричать на него, офицера, как на мальчишку?! — Почему вы кричите на меня?!
Подполковник взглянул в лицо Струця и осекся. Через несколько секунд, овладев собой, спросил:
— Так где вы были вчера вечером, лейтенант? С кем? Что делали?
— Объясните, пожалуйста, товарищ подполковник, что случилось? — твердым голосом произнес Струць.
Коваль видел, как возмущение все больше охватывало молодого офицера.
— Я жду вашего ответа, лейтенант. Что вы делали вчера вечером?
— У меня было свободное от службы время…
— Мы с вами всегда на службе, — перебил его Коваль. — Особенно когда ведем розыск. Были вы вчера в лесу с Джейн Томсон?
— Был.
— Что между вами произошло?
Струць растерялся. Неужели подполковник узнал о той глупой выходке Джейн? Не хиромант же он, в конце концов. И не верится, чтобы вслед за ними посылал какую-нибудь ищейку. Или сама Джейн наболтала? Впрочем, от нее всего можно ожидать…
— Ничего особенного, — наконец произнес Струць. Не будет же он рассказывать Ковалю о том, как Джейн раздевалась, как закружилась голова, когда девушка прижалась к нему.
— Тренировались в разговорном английском? — язвительно спросил Коваль.
— Да, разговаривали.
— По моему заданию?
— Да.
— И что же нового выяснили в деле Залищука? Что дали нам эти ваши разговоры? Садитесь и рассказывайте подробно.
Струць опустился на стул и, наклонив голову, какое-то время молчал.
Коваль терпеливо ждал. Нервная вспышка, которая была следствием бессонной ночи, уже прошла, к нему возвращалось выработанное годами равновесие. Успокаиваясь, он посмотрел в окно, на укорачивающиеся тени деревьев и строений, на кусок голубого неба…
Эта ночь для Дмитрия Ивановича была не только бессонной. Она будто перечеркнула все его прежние находки и размышления. Впервые, пожалуй, он усомнился в своем опыте и способности предвидеть события. Среди ночи ему позвонил администратор гостиницы и сообщил, что Джейн Томсон забрала «скорая помощь» с признаками тяжелого отравления.
Дмитрий Иванович тут же оделся, подумал: как хорошо, что лег спать в кабинете — не потревожит Ружену, и помчался в больницу, куда отвезли Джейн.
Девушке уже промыли желудок, дали противоядие и поместили в палату. Врачи «скорой помощи» заверили Коваля, что жизни мисс Томсон ничего не угрожает, но поговорить с ней не разрешили: ей нужен покой.
«Неужели после неудачной попытки броситься под поезд Джейн решила отравиться?! — начал размышлять Коваль. — Что это за яд? Где она взяла его? Эксперты пока ничего уверенно не могут сказать, но врачи «скорой» подозревают, что в желудок попал растительный яд, который причиняет сильную боль. Джейн, рассказывали, кричала от этой боли, пока ее везли в больницу…»
Ему вспомнились слова Таисии: «Животик у него еще был тепленький… Один, брошенный, корчился на мокрой земле…».
Подполковник подумал с горечью: его опасения, что яд ходит по рукам, что после Бориса Сергеевича будут новые жертвы, начинают сбываться… И он не помешал этому!
Чувствовал себя так, словно попал в лабиринт и не может из него выйти. События накатывались лавиной, он не успевал всюду и не мог поймать преступника, который, возможно, выбирает сейчас себе новую жертву.
Борис Сергеевич и мисс Томсон — двое потерпевших. Но какие это разные люди! Разве они могут стоять в одном ряду, то есть представлять одинаковый интерес для преступника? Но оба ли они жертвы? Это тоже нужно еще выяснить. А может, Залищука погубили по ошибке и яд с самого начала предназначался Джейн? Возможно, это случайное стечение обстоятельств, что вино выпил Борис Сергеевич?..
Коваль признавал существование случайностей, которые являются результатом объективного стечения обстоятельств. Но поскольку такое совпадение случается редко и не может быть своевременно предвиденным, его считают незакономерным и не принимают во внимание.
Черт возьми, кажется, в своем розыске он возвращается к исходной точке! Кому же предназначалась отрава, если не хозяину дачи? Ее пустили в ход в тот вечер, когда Томсоны и врач Найда были в гостях у Залищуков. Если не Борису Сергеевичу, то кому же из четырех присутствующих? Таисии?.. Абсурд! Врачу Найде?.. А кому Найда мешает? Он не связан ни с кем из участников… А может, Кэтрин не все рассказала о нем, может, за доктором есть какие-то грешки и он боялся, что женщина разболтает?.. Выходит, удар был направлен им на Кэтрин, на бывшую свою любовь?..
Что-то протестовало в душе Коваля против такого завершения светлой юношеской любви, которая претерпела не менее тяжкие удары судьбы, чем любовь Ромео и Джульетты.
А кому нужна была смерть Джейн? И не по ошибке ли она выпила отраву? Нет, чепуха! Другое дело — мать Джейн. Даже у Бориса Сергеевича могли быть серьезные претензии к Кэтрин, ведь она собиралась забрать от него Таисию в Англию.
И в самом деле все перепуталось. Он действительно возвратился к исходной точке, и все труды и его, и лейтенанта, который сидит сейчас перед ним потупившись, и исследования экспертов — все идет прахом.
А что все-таки делать с этим Струцем? Вчера ночью он подумал, что, возможно, вся эта история с лейтенантом вымысел Джейн. Потому она и сказала: «Мы с мамой не будем поднимать шум… А вы за это помогите мне завтра же вылететь к жениху…»
Шантаж? Очень похоже. Но слезы, истерика, порванная юбка? И почему не захотела поехать на медицинский осмотр? Выкручивалась как только могла.
Разговор со стрелочницей подкреплял сомнения в отношении рассказа Джейн. Уже и на нее падало какое-то подозрение…
Вполне возможно, что это была только имитация попытки самоубийства. Спектакль, который Джейн талантливо сыграла для единственного зрителя — стрелочницы. И плакала в тот момент по какой-то другой причине: при малейшей неудаче женщины могут горько обливаться слезами, что является естественным проявлением обычной женской слабости. Да и бросилась она на рельсы так, чтобы остались шансы на спасение.
Эксперимент, который провел Коваль, свидетельствовал, что и он, не такой уж и быстроногий, успел бы убежать от электрички. По подсчетам подполковника, электричка, даже не притормаживая, наехала бы на Джейн не раньше чем через минуту после того, как появилась из-за поворота. За это время Джейн могла бы спокойно встать с рельсов и уйти. И стрелочнице она поддалась лишь тогда, когда почувствовала, что электричка близко и вырываться ни к чему.
Конечно, до сих пор и на Джейн могло падать подозрение в отравлении Залищука. Но внезапное отравление ее самой вроде бы снимало подозрение и снова перепутывало все карты.
Так что же у Джейн? Самоубийство? Ни в коем случае! Ни один спасенный самоубийца не повторит попытки покончить с собой. Ладно, находясь теперь в больнице, она пройдет полный медицинский осмотр, и все прояснится.
Лейтенант Струць наконец поднял голову:
— Ничего особенного у нас не произошло. Гуляли в парке потом забрели в лес.
— В каком настроении была Джейн?
— В хорошем. Она бегала между деревьев, рвала цветы на полянах. Я пытался разговаривать с ней по-английски, хотя это вызывало у нее смех, расспрашивал названия цветов.
— В котором часу вы встретились?
— В пять вечера возле метро «Крещатик».
— А когда распрощались?
— Где-то в половине восьмого.
— Вы проводили ее до гостиницы?
— Она попросила меня оставить ее одну.
— Почему?
Лейтенант замялся. Коваль понял, что попал в точку.
— Я не придал этому значения, — понуро сказал Струць. — Она заявила, что хочет побыть одна. Тогда я сел в автобус и поехал.
— И вы оставили ее? Это не по-джентльменски, лейтенант, — язвительно заметил Коваль. — Вы ее привезли в лес и должны были доставить домой… Кто-кто, а вы знаете, как опасно бросать под вечер в лесу девушку одну-одинешеньку. Так что у вас произошло?
— Она не захотела, чтобы я ее проводил…
— Почему не захотела?.. Неужели мне из вас, лейтенант, нужно вытягивать правду, словно из какого-нибудь подследственного…
— Я не подследственный, — возмутился Струць. — Если хотите, то Джейн не осталась в лесу.
— О-ля-ля! — Коваль прошелся по кабинету. — Значит, не осталась?
— Нет. Она сказала: «Мне не нужен конвоир».
— То бежала на свидания с вами, а то вдруг не захотела. Странно. Не догадываетесь, почему?
— Понятия не имею…
— Вы, конечно, были в гражданском?
— Да… Но, товарищ подполковник, Джейн не осталась в лесу. Я видел, как она шла на электричку.
— И видели, как села в вагон?
Струць на секунду задумался.
— Нет, — сказал после паузы, уже поняв свою ошибку, — видел только, как вышла на платформу. Мой автобус двинулся раньше, нежели прибыла электричка.
— Эх, лейтенант, — покачал головой Коваль. — Это самое маленькое, что вы должны были сделать.
У него снова промелькнула мысль, что, возможно, Джейн обидел не лейтенант, а кто-то другой, но она теперь хочет использовать эту свою беду для шантажа.
— Вспомните точнее, когда вы распрощались.
— Приблизительно в половине восьмого, самое позднее — без двадцати… Это можно уточнить по расписанию электричек.
Остановившись напротив лейтенанта, Коваль согласно кивнул.
«С полвосьмого до начала десятого, когда пыталась броситься под поезд, чем она занималась? Где была эти полтора часа? С кем?»
— А теперь докладывайте подробно о вашем разговоре. Только не о цветочках.
— Ну, говорила об Англии, об их обычаях, о своей поездке в Венецию и Рим. Потом я сам составлял английские фразы, большей частью такие, какие встречаются в учебниках и разговорниках…
— Об отравлении Залищука ничего не спрашивала? Своих соображений не высказывала?
— Единственное, чего все время добивалась: когда сможет вернуться домой. Во всем обвиняла Крапивцева… Я, правда, ей сказал, что вина его не доказана и что теперь возникает новая версия. — Струць опустил слова «у меня», что в данной ситуации было самым главным. — Тогда она словно взбесилась.
— То есть как?
— А так… — неопределенно ответил Струць. — Ну, начала дуреть, смеяться…
— Шутить?
— Нечто похожее…
«Шутить! Очутился бы этот старый ворчун на моем месте! Но, в конце концов, это не имеет существенного значения для дела».
— Ну, а дальше?
Лейтенант пожал плечами:
— Это и все. Дальше вы знаете… Попросила оставить ее.
Коваль сел за стол, повернулся к окну.
Тени во дворе становились все короче, время летит, а у него сегодня еще миллион дел, и все неотложные: нужно ехать к экспертам, — возможно, уже установлен химический состав яда, который приняла девушка; потом — больница, непременно надо поговорить с Джейн до появления Тищенко, ему тоже сообщено об отравлении англичанки, и он обязательно приедет в больницу. Джейн расскажет ему о происшествии в лесу, и следователь вцепится в молодого лейтенанта, хотя вина того еще не доказана.
Если бы у Коваля не появились сомнения в правдивости слов Джейн, он не так разговаривал бы с этим парнем. Немедленно поставил бы вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
С горечью подумал, сколько еще таких случаев, когда девушка, чтобы избежать осуждения родителей и будущего мужа, сваливает всю вину на парня, не считаясь с тем, как дорого он заплатит за оговор. Как скрупулезно нужно изучать эти дела, чтобы не сломать жизнь невиновному молодому человеку!..
Но пока что, хотя и очень нужен помощник, он отстранит лейтенанта от работы над этим делом. Отстранит так, чтобы Струць ни о чем не догадался. Тяжелейший грех — обидеть честного человека. Поэтому нужно спешить в больницу, пока Джейн не встретилась с Тищенко.
По дороге в больницу нужно еще заглянуть к миссис Томсон и успокоить ее, у женщины слабое сердце, и все может случиться.
— Лейтенант, — сказал обычным деловым тоном Коваль. — Оформляйте командировку и немедленно вылетайте в Краснодар. Через два дня чтобы возвратились со всеми данными о Крапивцеве и его тамошних делах. Всё!
Струцю ничего не оставалось, как откозырять и выйти. Через несколько секунд услышал за спиной, как подполковник замыкает дверь кабинета.
Коваль опередил в коридоре лейтенанта, и когда Струць вышел во двор, его уже нигде не было видно.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Дмитрий Иванович не вызвал машину — до Октябрьской больницы, где находилась Джейн, от министерства — через сад — рукой подать. Спустившись по крутому склону среди деревьев и кустарников, подполковник вскоре очутился возле терапевтического корпуса, где, как ему было известно, в отдельной палате лежала Джейн. С минуту постоял возле входа, осматриваясь; затем зашел в коридор и, никого не встретив, поднялся на второй этаж.
Возле столика дежурной сидели две женщины в белых халатах. Одна что-то сосредоточенно писала в толстом журнале.
— В какой палате лежит Джейн Томсон? — тихо спросил подполковник. — Отравление.
— К ней нельзя, — строго ответила женщина, заполнявшая журнал. Она, очевидно, была старшей по должности и говорила безапелляционным тоном, свойственным врачам, когда они видят в своем царстве посторонних. — А кто вы будете?
— Уголовный розыск, — сказал Дмитрий Иванович, вынимая удостоверение. — Подполковник Коваль.
— Тем более нельзя, — упрямо повторила врач, недовольно посмотрев на него. Чем-то не понравился ей этот высокий угловатый мужчина с колючим взглядом. — Больной нельзя волноваться, даже разговаривать. Дня через два-три, когда ей станет лучше, приходите. И то в случае острой необходимости.
— Такая необходимость есть сейчас.
Женщина развела руками.
— К сожалению… Для нас главное — здоровье пациентки. Мы отвечаем, — она сделала ударение на слове «мы», — тем более что это иностранка.
Коваль понял, что опоздал: уже был звонок от Тищенко.
— А завотделением я могу увидеть? — Эту фразу он невольно произнес иронически.
Врач царственным жестом показала в конец коридора.
— Имейте в виду, и он вам не разрешит… Валя, — обратилась она к соседке, — проводи товарища подполковника.
Коваль открыл дверь в кабинет. Стоявший у окна человек в белом халате повернулся, и не успел подполковник поздороваться, как он воскликнул:
— Товарищ Коваль!
Медсестра, поняв, что объяснять заведующему, как появился в отделении настойчивый посетитель, нет необходимости, выпорхнула из кабинета.
Подполковник не сразу вспомнил, где он встречал этого человека с характерными дугообразными черными бровями. Это произошло лет десять назад. Тогда врач был еще студентом. В селе случилось убийство, в котором ошибочно обвинили его дядю. Коваль сумел найти действительного убийцу и спас от незаслуженной кары невиновного человека.
— Ваша фамилия Гулий?
— Нет, не Гулий. Это мой дядя по матери — Гулий, тот самый, которого по ошибке обвиняли. А меня зовут Рябошапка Иван Архипович, — сказал врач, довольный тем, что Коваль вспомнил его.
— Рябошапка… да… да…
— Вы, очевидно, интересуетесь англичанкой? — спросил заведующий отделением, жестом приглашая Коваля сесть на стул возле своего столика. — Если не изменяет память, Дмитрий…
— Иванович, — подсказал подполковник. — А вас уже предупредили, чтобы никого не допускали к ней? — Коваль продолжал стоять, будто не поняв приглашения.
Заведующий отделением кивнул.
— Следователь Тищенко?
— Да, — подтвердил врач, и густые брови его сошлись над переносицей. — Звонили из прокуратуры.
«Удивительно, почему Степан Андреевич так вцепился в Джейн? — задумался Коваль. — Может, мать или она сама еще вчера, до отравления, успели нажаловаться на лейтенанта? Решили, что с помощью прокуратуры смогут быстрее получить визы? Иначе чем объяснить, что Тищенко, который поручил ему дознание в отношении англичанок, вдруг так заинтересовался Джейн? В таком случае все приобретает новое освещение…»
— Даже милицию?!
На минуту воцарилось молчание.
Как быстро преуспел в карьере этот недавний студент, отметил Коваль, каких-то восемь — десять лет — и уже заведующий отделением центральной больницы города, должность профессора или, по крайней мере, доцента.
— Очень строго предупредил: «Никого, ни единого человека, пока не допрошу». Но я думаю, вас, Дмитрий Иванович, это не касается…
Подполковник усмехнулся.
— Вы, товарищ Коваль, для меня самый главный, и я готов ответить…
— Отвечать не будете, — успокоил подполковник врача. — Проводите меня к больной. Разговаривать она может?
— Да, температура упала. Рвоты прекратились, боль в полости живота утихла.
— Ваш диагноз подтвердился?
— Да. Отравление. Яд высокотоксичный, но в мизерном количестве. Наша лаборатория еще не смогла установить, какой именно. Но уже ясно: растительного происхождения, типа адамова корня, как его называют в народе, или переступеня. По симптомам очень похоже. Эти растения — эндемы Кавказа.
— Гм, — буркнул Коваль. — Кавказа… — Он вспомнил о радикулите Крапивцева. «Хорошо, что отправил Струця в командировку на юг…»
— Кроме того, хирург установил легкие телесные повреждения…
— А гинеколог?
— От гинеколога категорически отказалась.
— При радикулите эти травы помогают?
— Да, конечно, — подумав, что подполковник страдает болями в пояснице, и радуясь возможности помочь ему, поспешил подтвердить Рябошапка. — И при радикулите, и при ревматизме. Натираются сырым корнем или делают настойки, мазь… В этих растениях есть сильно действующее ядовитое вещество, называемое брионином… Поэтому их можно применять только как наружное. В пище девушки лаборанты обнаружили еще какой-то опасный гликозид. Но какой именно, пока не определили. Я думаю, ваши эксперты лучше разбираются в ядах, чем мы. Возможно, они уже все установили.
Коваль покачал головой. Он успел побывать у экспертов и узнал лишь об одном, но важном: яд, от которого погиб Залищук и пострадала Джейн, один и тот же.
— Исследования продолжаются, — уклончиво ответил подполковник.
Когда проходили мимо столика дежурного врача, Коваль почувствовал на себе пристальный взгляд женщины, которая не хотела допустить его к Джейн. Теперь она сидела одна. По знаку Рябошапки сняла с вешалки халат, подала Ковалю.
Подошли к двери, ведущей в палату.
— Вы ненадолго? — обеспокоенно спросил заведующий отделением. — Она еще очень слаба.
— Ненадолго, — ответил Коваль, открывая дверь. Он догадался, что Рябошапка боится, вдруг появится Тищенко и застанет здесь подполковника.
Завотделением, поколебавшись, вошел вслед за Ковалем в палату.
Джейн была укрыта простыней, обессиленные руки ее лежали на груди. Коваль понял, что она действительно очень слаба. На открытом правом предплечье матово отливал большой синяк.
Джейн узнала Коваля, улыбнулась. Он поздоровался и, придвинув к кровати табурет, сел так, чтобы хорошо видеть ее лицо.
Рябошапка тоже опустился на свободный табурет в углу палаты, всем своим видом подчеркивая, что содержание беседы подполковника с Джейн его не интересует, но что он не может оставлять больную одну.
Девушка тем временем смежила веки.
— Джейн! — окликнул ее Коваль. — Вы в силах со мной разговаривать?
Она открыла глаза.
— Могу.
— Как вы думаете, где вы отравились?
— Я ничего не знаю, — прошептала Джейн так тихо, что подполковнику пришлось наклониться над ней.
— Что вы ели и пили вчера? Где обедали, ужинали? С кем?
— Обедали в ресторане, в «Днипре». А ужинали… Нет, я не ужинала…
— А обедали — вы, мама и кто еще?
— Этот мамин земляк, врач.
— Андрей Гаврилович, — уточнил Коваль. — Блюда, которые вы заказывали, взяты на анализ. Но назовите их снова.
— Сначала икра. Красная…
— Раз, — загнул палец Коваль. — Дальше…
— Салат. Мясным у вас называется…
— Два.
— Котлеты… «а-ля Полтава»… и, конечно, кофе.
— Пирожных не ели?
— Что вы! Я и так у вас растолстела. Генри меня не узнает. Разве что вот за эту ночь похудела.
— А пили?
— Врач взял вино натурель, а я пила минеральную — боржоми.
Подполковник знал, что бутылку недопитого «Цинандали», которую заказывал врач, так и не удалось обнаружить. Либо официант сам допил вино где-то на кухне, либо вылил в фужеры и поставил другим посетителям. Пришлось взять на анализ все открытые в тот день бутылки из-под «Цинандали». Ничего подозрительного не обнаружили, кроме разве того, что в некоторых из них было не грузинское «Цинандали», а более дешевое кислое вино. Но уголовный розыск махинациями в ресторанах не занимался. Джейн действительно только пригубила свой фужер, наполненный доктором Найдой. Пустых бутылок из-под боржоми в тот день тоже много собралось, однако капли, которые остались на их дне, никаких следов отравы не содержали. Значит, пришел к выводу Коваль, отравилась Джейн в другом месте.
— А когда встретились со Струцем, он ничем не угощал? Вином, мороженым, фруктовыми напитками?
Джейн не хотела отвечать на этот вопрос и отвернулась к стене. Дмитрий Иванович заметил, как шевельнулся Рябошапка. «Сейчас поднимется, — с опаской подумал он, — и скажет, что разговор пора заканчивать».
— Джейн, — произнес Коваль как можно теплее, — Джейн, так не годится… Если будете молчать, всем навредите: и себе, и матери, и лейтенанту.
Она повернулась, раскинула руки.
— Мне душно.
Солнце поднялось уже высоко, прострелив лучами кроны деревьев, которые окружали корпус больницы, оно заливало светом палату. Подполковник толкнул раму окна — в помещение ворвались теплые запахи травы, листьев и отцветшей уже липы.
Рябошапка встал, Коваль взглянул на него: не нарушил ли он каких-нибудь врачебных правил?
— Мерси бьен! — поблагодарила тем временем Джейн по-французски подполковника.
— Ну, как наши дела? — спросил завотделением, приблизившись к Джейн. — Все хорошо?
Она ничего не ответила.
Подполковнику показалось, что врач сейчас начнет расспрашивать Джейн о ее состоянии, потом захочет осмотреть, и тогда ему, Ковалю, придется ретироваться.
— Ей необходимо спокойствие. Она устала, — сказал Рябошапка.
— Иван Архипович! — в голосе Коваля было что-то такое, что заставило завотделением отступить.
— Ну, хорошо, хорошо, Дмитрий Иванович. Еще пять минут. — Врач снова отошел в противоположный угол палаты к своему табурету.
— А что вы пили или ели с лейтенантом? — повернулся к Джейн Коваль.
— Абсолютно ничего.
— Даже водой не угостил?
Джейн покачала головой.
— Надо же, — с легкой иронией произнес подполковник, довольный ответом Джейн. — Итак, ничего не ели и не пили в тот вечер?
— Да.
— Ну, а что все-таки между вами произошло, — Коваль говорил тихо, стараясь, чтобы не расслышал Рябошапка, — вчера в лесу? Он, правда, напал на вас?
— Я не хочу об этом вспоминать! — сердито произнесла Джейн.
— Но вы, наверное, не захотите, чтобы осудили невиновного человека. У меня появилось сомнение: все ли было так, как вы рассказали. Даже есть доказательства…
Джейн тихо заплакала. Коваль заметил, как снова шевельнулся в своем углу Рябошапка, но не прекратил беседы.
— Вы знаете, что за ложный донос у нас судят? Вчера я об этом предупреждал. В нашем уголовном кодексе есть специальная статья. Человек за ложный донос наказывается заключением сроком до пяти лет. Кажется, и ваш английский суд очень строго относится к лжесвидетельству…
Джейн побледнела и закрыла глаза.
— Ну, ну, успокойтесь, — мягко сказал подполковник. — Еще все поправимо. Достаточно вам рассказать правду.
Джейн перестала плакать.
— Я не совсем верно говорила… — наконец произнесла она. — Возможно, я сама виновата… Нет, нет, — быстро добавила, заметив, что Коваль что-то хочет сказать. — Виктор действительно не нападал на меня. Ваш лейтенант настоящий джентльмен и совсем не похож на полицейского… И вообще между нами ничего не было… Просто я… я… я…
Ковалю до боли захотелось выкрикнуть в лицо Джейн: «Какого же черта вы тогда наговорили на человека?!» Он покраснел, сдерживая гнев. Прошло несколько секунд, и Коваль уже обычным, ровным голосом спросил:
— Кому кроме меня жаловались на лейтенанта?
— Никому.
— А ваша мама?
— Тоже.
Подполковник облегченно вздохнул.
— А теперь расскажите, как вы попали в город в тот вечер.
— Меня привезла женщина-железнодорожница.
— Но вы же собирались ехать одна, электричкой.
Джейн молчала. На ее лице появились и страх, и злость и раскаяние.
Коваль не торопил.
— Я не села в электричку, — наконец сквозь зубы процедила Джейн.
— Кого вы встретили, когда лейтенант Струць уехал автобусом?
Подполковник говорил так уверенно, словно сам стоял тогда рядом на платформе. Глаза Джейн округлились. Да, этот полицейский — колдун, он может остановить время и прокрутить события назад…
…Рыжий Фрэнк словно из воздуха возник перед ней.
«Хелло, Дже-е! — закричал он, стремительно выпрыгнув из вагона электрички. — Как ты здесь оказалась?! Я тебя из окна увидел. В Киев? Сели!.. Быстрее!» Фрэнк схватил ее за руку.
Она начала упираться.
«Что с тобой, ты злая?..»
«На весь мир!»
«Как всегда, наверное, — присвистнул Фрэнк, и голубые глаза его заблестели. — Это мне нравится. Лучшего мир не заслуживает, и я не люблю добрячек. Настоящая женщина — это огонь и лед в одном горшке». Он спокойно посмотрел, как закрываются двери электрички.
«А где Эмма, Дан и все другие?» — спросила она, лишь бы не молчать.
«Мы вчера возвратились из Москвы, нам пообещали здесь редкие сувениры. А утром — самолетом домой. — Фрэнк не ответил на ее вопрос. — Я не напрасно ездил, — он открыл «дипломат» и показал маленькую, почерневшую от времени иконку. — Восемнадцатое столетие! Здешние варвары забросили ее на чердак… Но, вижу, ты действительно не в настроении. Давай, Дже, прогуляемся среди природы…»
«Ах, — вздохнула она, — я уже нагулялась».
В конце концов Фрэнк все-таки потянул ее в тот самый лесок, откуда она только что пришла…
— Он вас ничем не угощал? — спросил колдун-подполковник, и Джейн вздрогнула. — Тот, которого вы встретили, — уточнил свой вопрос Коваль, чтобы она не сомневалась, о ком идет речь.
Джейн покачала головой.
— Как его зовут?
— Фрэнк… — покорно ответила Джейн. Она не в силах была противостоять натиску подполковника, закрыла глаза. — Фрэнк… рыжий бродяга… — произнесла словно в забытьи.
— Он турист? Ваш земляк? Как его фамилия?
— Он уже дома, в Англии. Мне нехорошо… Оставьте меня, наконец… — процедила Джейн со злостью.
— Дорогой Дмитрий Иванович, так нельзя! Я ведь предупреждал, — сердито произнес Рябошапка. Он позвал сестру и попросил Коваля покинуть палату.
— Сколько она еще пробудет у вас? — поинтересовался подполковник.
— Дня два или три.
Подполковник и Рябошапка встретили Тищенко возле входа в корпус.
Взглянув на Коваля, следователь понял, что его опередили. Он насупился и не нашелся сразу что сказать.
Наблюдая за Степаном Андреевичем, подполковник не торжествовал. Тищенко он не считал достойным противником. Еще когда вел с ним дело художника Сосновского, понял, что он в органах юстиции человек случайный. Его удивляло, как могло случиться, что молодой следователь перенял не новое, лучшее, чем жила даже такая строгая крепость закона, как прокуратура, а все старое, консервативное, узкопрофессиональное, что отходило в область предания.
Заведующий отделением переступал с ноги на ногу, брови его сурово сдвинулись к переносице.
— Я беседовал с Джейн Томсон, Степан Андреевич, — доложил подполковник. — К сожалению, это ничего не дало. Ни малейшего лучика. Она, правда, еще очень слаба… Верно, доктор?
Рябошапка, обрадовавшись, что Коваль вывел неожиданную встречу из тупика, поспешно подтвердил:
— Да, да, товарищ следователь, очень слаба… Но через пару дней станет на ноги.
— Я тоже хотел бы ее видеть… Кто знает… возможно, мне повезет больше.
— Хорошо, Степан Андреевич, — согласился заведующий отделением. — Только придется чуточку подождать, — виновато добавил он, — у нее сейчас процедуры.
— Теперь уже не имеет значения — часом раньше, часом позже, — пробурчал Тищенко, и Коваль понял, что значит это «теперь».
— Разрешите откланяться, — Рябошапка обратился одновременно к обоим уважаемым посетителям. — Должен идти к больным.
— Конечно, конечно, — ответил Тищенко. — Заеду часа через два… Вас подвезти, Дмитрий Иванович? — любезно предложил Ковалю.
— Спасибо, — ответил подполковник. — Я — в министерство, здесь напрямик близко.
Они разошлись в разные стороны: следователь — к своей машине, а Коваль зашагал тропинкой, ведущей к улице Богомольца. Опасность, нависшая было над Струцем, оказалась иллюзорной. Теперь подполковника больше всего тревожило: кто станет следующей жертвой маньяка отравителя, как его найти, схватить за руку…
Он должен был действовать немедленно, чтобы предупредить новую трагедию. Но что именно нужно предпринять, как действовать, еще не знал.
О своих опасениях он решил пока не докладывать начальству — его давно считают фантазером, хотя почти всегда оказывалось, что его фантазии имеют под собой реальную почву. Вышел из сада и направился в конец улицы, где находилось здание министерства.
2
В течение последней недели Ковалю было совсем не до кино или театра. Да разве только в течение этой недели? Стыдно признаться, но ни в кино, ни в театре они с Руженою не были уже несколько месяцев. Вздыхая каждый раз, когда дело касалось развлечений, Коваль покаянно думал: да, усложнил он жизнь бедняжке Ружене. Что у нее теперь в жизни: служба и две квартиры — только успевай поворачиваться! Если будет так продолжаться и дальше — пусть лучше отправляется в экспедицию. Но эти покаянные мысли быстро вытеснялись служебными хлопотами, и все шло по-старому.
Сейчас на его плечи кроме неоконченного дела Залищука свалились и новые заботы — в городе появился насильник и убийца.
И вот именно в это тяжелое для Дмитрия Ивановича время Ружена взяла билеты в кино. Она надеялась, что музыкальный фильм немного развеет мужа, даст отдых его нервам. Уже несколько дней подряд он возвращается домой поздно ночью, мрачный, и ничто его не радует. Ружена понимала, что причиной такого настроения могли быть только служебные неурядицы. И хотя Дмитрий Иванович не любил распространяться дома о делах, в общих чертах Ружена знала их, знала и то, что милиция никак не может раскрыть убийство на Русановских дачах. А два дня тому назад муж предупредил ее, что в городе появился насильник-маньяк.
Уголовный розыск города не мог его поймать, несмотря на решительные меры. Проводили ночные рейды, переодевали женщин — офицеров милиции в гражданскую одежду, и они блуждали по самым глухим окраинам, вызывая огонь на себя. Однако он каждую ночь появлялся там, где его не ждали, и оставался неуловимым. Ковалю пришлось одновременно с русановским делом заняться и этим преступником…
Дмитрий Иванович поморщился, слушая по телефону Ружену. Но когда на противоположном конце линии воцарилось молчание, он представил себе большие, темные, как спелые вишни, глаза жены и словно увидел, сколько чувств светится в глубине их: и надежда, и тревога, и любовь; морщинки на его лице разгладились. Он подумал: картина идет в кинотеатре повторного фильма «Днепр», который находится в центре города, билеты на последний сеанс — успеет еще поприсутствовать на оперативке в горотделе и после разъезда ночных патрулей и оперативных групп сможет отлучиться на полтора-два часа.
— Хорошо, Ружена, — тихо произнес в трубку. — Встретимся возле входа.
Услышал какой-то короткий плотный звук, и ему показалось, что жена в ответ поцеловала воздух у самой трубки. Хотя на душе потеплело от этой мысли, Дмитрий Иванович нахмурился: никак не мог привыкнуть к такому экзальтированному проявлению чувств.
…Полтора часа, которые провели в кинотеатре, не принесли радости ни ему, ни Ружене. Фильм был лирический, овеянный теплым, чуть минорным юмором, — смотрели уже виденную ранее ленту «Мимино». Дмитрий Иванович сидел мрачный, сопел, вздыхал, ворочался в кресле. Ружена чувствовала малейшее его движение и ругала себя, что оторвала мужа от дел, которыми он и здесь терзается. Где-то в середине картины, когда подполковник особенно громко вздохнул, так, что зрители из переднего ряда оглянулись, она предложила уйти. Однако Дмитрий Иванович нашел в темноте ее руку, погладил и решительно прошептал:
— Ни в коем случае! Досмотрим.
Сидевшие впереди зрители снова оглянулись.
— Нас сейчас выведут как хулиганов, — растроганная нежностью мужа, улыбнулась в темноте Ружена. — Сиди тихонько.
Сжатые со всех сторон людьми, они вышли из кинотеатра. После душного помещения ночной воздух парка показался особенно свежим и душистым. Кинотеатр стоял на крутом днепровском берегу — от реки веял ласковый ветерок. Ружена и Коваль медленно шли вдоль невысокой ограды. Внизу гирляндой огоньков обозначился пешеходный мост на Труханов остров. Слабо освещенный этими огоньками, он ажурно висел в воздухе. Над полосой черной воды дрожали звезды, казавшиеся отсюда очень близкими.
— Прости, Руженка, — сказал Дмитрий Иванович. — Я не могу далеко тебя проводить. Посажу в троллейбус, а дальше сама доберешься. Надеюсь, ты не будешь бояться?
Ружена сникла. Она была готова к тому, что муж оставит ее сразу после сеанса, но ей так хотелось хоть немного побыть еще с ним. На ее долю теперь редко выпадали минуты, когда они оставались вдвоем. Наигранно бодро ответила:
— Бояться?! Ты забываешь, Дима, что я геолог. Пока, правда, мне не приходилось встречаться с медведем, но в глухой тайге я отмерила своими ногами не один десяток километров. К тому же у меня спортивный разряд. Ты забыл об этом?
— По плаванию, — улыбнулся Коваль. — Ну, ладно. Идем побыстрее.
Парк пустел. Толпа из кинотеатра потянулась к главной аллее, где был спуск на городскую площадь, и вскоре рассеялась, растворилась в темноте, шум голосов слился со слабым гулом отходящего ко сну города.
По склонам холмов бежали узкие извилистые аллейки к Днепру. Они тонули в темноте; только проходя мимо, можно было заметить среди кустов зияющую черноту прохода.
Вдруг Коваль остановился. Впереди в черном провале боковой аллейки обозначился чей-то высокий силуэт. Далекий фонарь вырисовывал фигуру худощавого молодого человека. Подполковник наметанным глазом определил, что на мужчине курточка спортивного покроя. Что-то в поведении одинокого гуляки насторожило его. Ориентировку на преступника он хорошо помнил: высокий, худощавый, ходит, несмотря на теплую погоду, в спортивной куртке, слегка сутулится.
Человек в курточке стал оглядываться. Коваль увлек Ружену за толстое дерево, и незнакомец не заметил их. Он вышел на главную аллею и медленно двинулся по ней.
— Ты чего? — спросила Ружена.
— Кажется, он, — тихо произнес Коваль.
Ружена сразу все поняла.
Человек в курточке приближался к ним.
— Ты оставайся здесь, а я пройдусь за ним. Если через несколько минут не вернусь, иди вниз к площади и езжай домой.
— Нет, — произнесла Ружена и схватила мужа за руку.
— Если он попробует напасть на какую-нибудь женщину, я его возьму на месте преступления.
— Нет, — твердо повторила Ружена, — ты оставайся, а я выйду вперед.
Вся эта перепалка заняла несколько секунд, и не успел Коваль возразить, как жена вышла из-за дерева и неторопливо, будто прогуливаясь, пошла впереди мужчины в курточке. Пройдя немного, Ружена свернула в боковую аллейку.
Заметив стройную женщину, прогуливающуюся в одиночестве, незнакомец ускорил шаги — он быстро догонял Ружену. Оглянувшись и никого не увидев, нырнул следом за ней в боковую аллейку.
Дмитрий Иванович тихо пробирался среди кустов. Двигаясь параллельно аллейке, на которой еле угадывался силуэт жены, он готов был в любой момент броситься ей на помощь.
Мужчина в курточке догнал Ружену — она не оглядывалась, словно ее не беспокоило, что в темной аллее кто-то торопливо идет следом за ней. Когда ее спрашивали потом, что она в это время думала, что чувствовала, не могла вспомнить. Шла, будто охваченная огнем, горя желанием во что бы то ни стало победить врага, и страх исчез в том отчаянном огне. Преступник, так же разгоряченный преследованием жертвы, не слышал за собой погони. Он приблизился к Ружене, поднял над головой молоток. Коваль, выскочив из-за куста, перехватил его руку и резким движением заломил за спину.
Крепкий мужчина отчаянно боролся с немолодым Ковалем. Но тот все сильнее заламывал ему руку, и в конце концов преступник, скорчившись от боли, обмяк и покорно побрел впереди Коваля.
Ружена подняла молоток и пошла следом за ними, готовая в любую секунду обрушить этот молоток на голову мерзавцу, если тот вырвется из рук мужа.
Возле кинотеатра Ружена сбегала к автомату и позвонила в милицию.
После того как преступника отвезли в горотдел, составили протокол, допросили, Дмитрий Иванович поехал с женой домой. Только теперь он заметил, как бледна Ружена, какой у нее измученный вид.
— У меня очень болит голова, — сказала она.
— А спортивный разряд? — улыбнулся Коваль. Насильник и убийца пойман, с плеч подполковника свалился огромный камень, и у него было хорошее настроение.
— Только по плаванию, — улыбнулась Ружена.
— Теперь ты полностью почувствовала, что значит быть женой милиционера.
— Почему женой, а не самим милиционером? — шуткой на шутку ответила Ружена.
3
На Русановские дачи Коваль отправился рано утром прямо из дому.
Солнце еще только выглянуло из-за горизонта и заливало землю мягким, но таким ярким после ночи светом, что Дмитрию Ивановичу пришлось надеть защитные очки. Недаром этот год называли «годом активного солнца». Тени деревьев, дачных домиков, даже кустов были неправдоподобно длинные.
Несмотря на рань, дачи уже проснулись, люди копались на огородах, упаковывали корзины на рынок. Днепр тоже проснулся: тихие рыбаки, стоявшие ночью на своих лодках под обрывами, над омутами, возвращались к берегу, а первые пассажирские катера уже рокотали над рекой.
С высоких круч правого берега, смешиваясь с гудением моторок, волнами наплывал гул просыпавшегося города.
У Коваля сегодня было много дел, он не мог ждать, пока Таисия выспится, и решительно поднялся почерневшими от времени и непогоды шаткими ступеньками на второй этаж дачного домика.
Осторожно постучал в дверь. Она не была заперта. Придерживая за скобу, чтобы сама не распахнулась, постучал еще раз и в ответ услышал голос хозяйки.
Таисия Григорьевна не спала. Застеснялась, попросила извинить за наряд — была в брюках и кофточке, пошитых из очень тонкой, словно крашеной марли, материи. Коваль заметил, что колени на брюках у женщины запылены, в тонкой ткани застряли пылинки, мелкие щепочки, покрывавшие неподметенный пол.
«Молилась», — догадался подполковник, увидев небольшую иконку над диваном, которой раньше там не было.
В последнее время Таисия Григорьевна очень изменилась.
Правда, к ее обескровленному и какому-то пожухлому, словно осенний лист, лицу уже начал возвращаться естественный цвет. В глазах снова появилось осмысленное выражение, и только необычная одутловатость и мешки под глазами напоминали о слезах и бессонных ночах. Женщина покорилась горькой судьбе, отреклась от своей мечты. И вот на стене над диваном появилась иконка.
От кофе Коваль отказался. Пока Таисия Григорьевна выпила стакан черной и густой, как смола, жидкости, подполковник огляделся в домике. С разрешения хозяйки осмотрел узенький коридорчик на втором этаже и спустился вниз, где находилась кухня. Постоял во дворе, понаблюдал, как хлопочут на своем участке Крапивцев с женой и зятем. Старик осторожно ступал резиновыми сапогами между рядами помидорных кустов и щедро поливал их из длинного шланга с разбрызгивателем на конце.
Возвратившись наверх, Коваль увидел в руках Таисии Григорьевны, успевшей набросить на плечи черную шаль, сигарету. Вдова, значит, стала не только набожной, но и начала курить.
«Вот и пойми женщин», — иронически подумал он и вспомнил своих Ружену и Наташку. Их он тоже временами не мог понять: прежде доброжелательные друг к другу, после его женитьбы они очень изменились, терзали его своей враждой, которая вспыхивала каждый раз неожиданно и, казалось, беспричинно. Как исследователь жизни с богатым опытом, Дмитрий Иванович допускал возможность алогичных поступков человека под влиянием тех или иных причин и обстоятельств. Но как муж и отец удивлялся такому повороту событий в своей семье. Это было для него неожиданным, он оказался к этому неподготовленным, и все попытки сблизить дорогих ему людей давали обратный эффект.
Солнце заглянуло в распахнутое окно, луч упал на иконку, и темный лик богоматери засветился. Таисия Григорьевна украдкой перекрестилась.
Коваль сделал вид, что не заметил этого, опустился на стул у окна, с наслаждением вдыхая еще прохладный воздух, наплывавший от Днепра.
— Как прекрасно здесь… Всю жизнь мечтал о даче… Да чтобы у воды, — вздохнул он. — Но… — и тут же оборвал себя. Вдруг женщина увидит в его лице еще одного покупателя дачи. — Я, Таисия Григорьевна, конечно, не воздухом дышать приехал… Разрешите, и я закурю, — он вынул свой «Беломор», и седой дым уже двумя струйками поплыл к окну. — Крапивцев приходил к вам в эти дни?
— Приходил. И жена его приходила. — Таисия Григорьевна плотнее закуталась в шаль, словно хотела спрятаться в ней от неприятных соседей. — Он тут, рассказывают, крокодильи слезы проливал, когда хоронили Бореньку. Потом приплелся с женой… сочувствовать… Почему вы его до сих пор не посадили?.. Мало было ему Бориса, так он и Бонифация нашего отравил. Он все живое травит. Ни кошки, ни собаки в округе не осталось. Всех уничтожил этот палач.
— Его вина в гибели Бориса Сергеевича не доказана, — мягко объяснил Коваль.
Сигарета мелко дрожала в руке Таисии Григорьевны, осыпаясь пеплом на шаль и колени, и Коваль боялся, что женщина вот-вот расплачется.
— Прошли огородами, — продолжала она, — стали на пороге. «Я хочу, соседка, — сказал, — помочь вам». Меня душили слезы, только и смогла произнести: «Вон, убийца!..» Он молча перекрестился и, повернувшись, ушел вместе с женой.
— Когда отравили вашего кота?
— Нашла утром… Точно не помню, кажется, на третий день после смерти Бориса Сергеевича.
— А не на следующий день?
— Что вы — на следующий день я света божьего не видела!
— Вы его разыскивали?
— Нет… Думала, загулял. Кот есть кот. Я случайно наткнулась…
— Где?
— Во дворе, за железной бочкой…
— Пройдемте, покажете.
Коваль помог женщине сойти вниз по ступенькам. В десяти метрах от домика находился небольшой деревянный сарайчик, почерневший от времени и непогоды. Одичавший виноград заполз на его невысокую крышу и зелеными космами свисал с боков.
В сарайчике были только пустая полочка для инструмента и старенький насос, которым Залищук после долгой возни мог накачать воду в ржавую железную бочку, стоявшую во дворе. К ней через вырезанную в стене сарайчика дыру тянулся резиновый шланг. Сейчас на дне бочки Коваль увидел лишь немного заплесневевшей рыжей воды.
— Где лежал кот?
— Вот здесь, где мокро.
— У вас всегда здесь лужа?
— Когда Боря качал, наливалось вокруг бочки, шланг старый, растрескавшийся. Да и сама она с дырочками, вода вытекает и стоит в ямке.
— Вы уверены, что Бонифаций сдох от яда?
— Ах, Дмитрий Иванович, не сдох, а умер… Он имел душу и был словно ребенок.
— Может быть, просто заболел? — не стал спорить Коваль о формулировке.
— Не знаю… В тот последний вечер игрался, прыгал мне на колени, даже на стол пытался влезть. Когда возвратились из сада, я прогнала его, потому что он все же забрался на стол и перевернул стакан.
— Не помните, чей?
— Нет, слава богу, пустой… Я сначала подумала: возможно, какой-то зверь его задушил. У нас бегают ласки, и лисицу видели… Глядите, как истоптана трава под яблонькой. Не дрались ли они здесь?
— А может, катался ваш Бонифаций от боли… На нем были раны?
— Не смотрела… Он уже начал пахнуть, когда нашла. Жара-то какая. Попросила похоронить его.
— И где закопали?
— На огороде.
Они прошли по заросшему сорняками огороду, и женщина показала на расчищенный под забором пятачок, на котором возвышался свежий холмик песчаной земли.
— А что решили с дачей?
— Не знаю. Возможно, продам.
— Покупатели есть?
— Найдутся… Но еще должна судиться с Олесем.
Коваль прокашлялся, закрывая рот ладонью. Проклятый «Беломор» все чаще напоминает — пора избавиться от плохой привычки. Но при мысли, что когда-нибудь все-таки придется отказаться от курева, почему-то еще сильнее хочется вдохнуть дым, и Коваль торопливо полез в карман.
Кто знает, видел ли в эту минуту подполковник Таисию Григорьевну, сад, гладиолусы — весь окружающий мир. Какая-то новая, еще не очерченная достаточно мысль осветила его напряженное лицо. Механически вынул из пачки папиросу и сунул ее в рот не мундштуком, а табаком. Выплюнул табак.
— Что? — переспросил.
— Еще придется судиться с Олесем, — вздохнув, повторила Таисия Григорьевна.
— Претендует?
— Приходил, ругался. Сказал: через полгода, когда войдет в законные права, выдворит меня отсюда.
— Это еще надо продумать, — ответил Коваль, лишь бы не молчать — он ломал голову над новой догадкой.
— Да, в конце концов, без Бори зачем она мне, — женщина тяжело вздохнула. — Комната у меня есть… А там, кто знает, может, и ее брошу…
— А где жить? — Подполковник потер пальцами лоб, словно ловя ускользающую мысль.
— Пока еще не знаю, ничего не знаю, Дмитрий Иванович. Возможно, к Катеньке поеду…
Коваль чуть не присвистнул. И вдруг спросил:
— Бонифаций ваш выпивохой был?
Таисия Григорьевна не поняла его.
— Что вы спросили?
— Любил вино Бонифаций? Может, Борис Сергеевич приучил?
— Нет, нет, что вы!
— А чего он так на стол карабкался, даже стакан перевернул? Мясных и рыбных блюд на столе не было?
— Нет. Только сладости, которые привезли Катенька и Андрей Гаврилович.
— Вашей сестре, кажется, стало нехорошо в тот вечер?
— Да. У нее разболелось сердце. Когда Боря отчитывал Андрея Гавриловича, она нервничала.
— Ей нужна была помощь?
— Андрей Гаврилович сам врач. Он и занялся ею. И дочь тоже…
— Она что-нибудь принимала? Какие-нибудь лекарства?
— Не припомню…
— А валерьянки вы ей не давали?
— Ой, давала! Точно! Нашла ей валерьянку.
— В рюмку накапали?
— Рюмки у нас давно поразбивались, — грустно улыбнулась Таисия Григорьевна.
— Возможно, пролили на стол или осталось на стакане… Коты дуреют от запаха валерьянки… А тот пузырек сохранился?
— Есть. Если не всю выпила. Сейчас посмотрю.
Таисия Григорьевна поднялась на второй этаж. Коваль, не отставая, шел за ней. Они почти одновременно оказались в комнате, и подполковник, сдерживая нетерпение, наблюдал, как хозяйка шарит в тумбочке возле кровати.
Она нашла закупоренный пузырек, на дне которого было немного лекарства. Подняв его в руке, оглянулась, высматривая стакан. Коваль ее понял.
— Не нужно.
Женщина протянула ему пузырек. Подполковник открыл и понюхал. Потом снова крепко закупорил и положил себе в карман.
— Не возражаете, Таисия Григорьевна?
— Пожалуйста.
— Я вам свежую валерьянку пришлю.
Коваль быстро спустился по ступенькам.
4
Лейтенант Струць нашел подполковника в лаборатории научно-технического отдела. Струць приехал в министерство прямо с аэродрома, и поэтому его обычно щеголеватый костюм и «дипломат» еще хранили на себе следы песчаной бури, пролетевшей над Краснодаром, когда он садился в самолет.
Подполковник и судмедэксперт Забродский беседовали с симпатичной женщиной — начальницей лаборатории. Увидев на пороге Струця, Коваль приветливо кивнул ему и показал на свободный табурет.
Забродский объяснил подполковнику, что настойка, которой пользовался для лечения Крапивцев, действительно помогает при радикулите и ревматизме. В ее составе ряд компонентов растительного происхождения, известных своей ядовитостью, — таких, как чемерица, мачок желтый. Есть также и адамов корень, как называет его местное население Кавказа. Жидкость эта сильного действия, может вызвать ожог кожи, поэтому пользуются ею очень осторожно.
Струць внимательно прислушивался к разговору, одновременно осматриваясь вокруг: белые шкафы с многочисленными ящичками вдоль стен, высокие и такие же белые лабораторные столы, заставленные стеклянными колбами, разными банками, фарфоровыми чашами, пробирками, в которых даже при дневном свете флюоресцировали жидкости разных цветовых оттенков — от соломенно-желтого до густо-фиолетового. В углу стояли почерневшие электроплиты, напоминавшие задымленные жаровни алхимиков, а дальше за ними — неизвестные Струцю какие-то сложные приборы. Все это невольно вызывало чуть ли не мистическое почтение к сотрудникам лаборатории. Ведь здесь, еще до суда, сами вещи — свидетели и участники преступления — объявляли приговор.
Коваль взял у Забродского заключение медэкспертизы.
— Значит, настойка, изъятая у Крапивцева и отправленная на экспертизу, и была тем ядом, от которого погиб Залищук? В вашем письменном выводе прямого ответа на это нет, — сердито проговорил подполковник.
— Видите ли, Дмитрий Иванович, это не исключено. Но в составе отравы, обнаруженной у Залищука, есть еще и не совсем выясненные компоненты… Я даже сказал бы, что он отравился, глотнув слишком большую порцию сердечных лекарств. Известно, что одно и то же вещество в малых дозах является лечебным, а в больших может стать причиной смерти.
— Мне необходим точный вывод, а не домыслы.
— Вполне резонно, — поддержала Коваля начальник лаборатории. — Мы подтверждаем и уточняем наш предварительный вывод. В лаборатории уже определили эти компоненты, Дмитрий Иванович. Кроме следов очень ядовитого переступеня белого, брионина у Залищука обнаружена большая доза дигитоксина, наперстянки, входящей в состав сердечных медикаментов.
— Вот почему наш эксперт и ошибся вначале, — добавил Забродский. — Он обнаружил в крови погибшего дигитоксин, обычную наперстянку. И этого ему было достаточно. Тем более что при алкогольном опьянении лекарства могут действовать как яд.
— Адамов корень также имеет брионин, Евгения Григорьевна? — спросил Коваль.
— Да. Имеет вещество, похожее на брионин. Химически это растение еще не до конца исследовано.
— А как брионин действует на организм?
— Вызывает отравление с рвотой, боль в брюшной полости, судороги. Боль такая сильная, что наступает шок, который в свою очередь ведет к параличу и остановке сердца.
— Так… так… — задумчиво проговорил Коваль.
— Переступень также мало изучен, брионин в алопатической медицине почти не используется. Только гомеопаты применяют его в очень мизерных дозах при изготовлении лекарств против ревматизма, воспаления легких и тому подобное, — объясняла тем временем начальник лаборатории.
«Животик у него еще был тепленький… — вспомнились подполковнику слова Таисии Притыки. — Один, брошенный, корчился на мокрой земле…». Выходит, смерть Залищука наступила от брионина… А у Джейн тоже… рвоты, боли в желудке…
— Евгения Григорьевна, а переступень растет на Кавказе, как и адамов корень? — поинтересовался Коваль.
— Да, Дмитрий Иванович, на Кавказе. На базарах южных городов часто продают его корни, желтоватые сверху и белые на изломе. Их покупают, чтобы натирать поясницу при ревматизме… Но не только на Кавказе. Растет еще в Средней Азии и за границей — в Скандинавии, например…
С ума можно сойти с этими экспертами, подумал Струць. Ему не терпелось узнать: имеет ли найденный им стакан следы той же настойки, которая была у Крапивцева, и в конце концов он решился вмешаться в разговор.
— Товарищ подполковник, разрешите, — и повернул голову к Евгении Григорьевне: — А стакан, обнаруженный во дворе? Он что-нибудь прояснил?
— В нем сохранились следы той же настойки, — ответила женщина, — которую изъяли у Крапивцева. Плюс дигиталис. Мы уже сообщили об этом своем выводе, — она кивнула в сторону Коваля. — Ареал растений, из которых приготовил свою жидкость Крапивцев, — эндемы Кавказа. Заросли крестовника встречаются только высоко в горах, чемерица растет на горных пастбищах и на Кубани, мачок желтый распространен на Западном Кавказе и частично в Крыму, вдоль моря, на каменистых обрывах…
— То-то и оно! — удовлетворенно произнес Струць и победно взглянул на Коваля.
— Значит, собрать все это зелье можно только там, — задумчиво сказал подполковник, постукивая пальцами по столу.
— Или самому собрать, или купить на местном рынке, — ответила женщина.
— Скажите, а наперстянки в настойке Крапивцева нет?
— Нет.
— А на стенках найденного стакана?
— Есть, Дмитрий Иванович.
— А валерьянка, которую я вам принес?
— Самая обычная. Никаких примесей.
— Ясно, — вздохнул подполковник, хотя по выражению его лица было видно, что ему не все еще ясно.
Закончив беседу в аналитической лаборатории, Дмитрий Иванович вместе со Струцем вышли из министерства.
Молодой инспектор спешил в райотдел, где хотел как следует отряхнуть дорожную пыль и спокойно написать рапорт о командировке. Надеялся, что поедут с Ковалем машиной, и обежал взглядом несколько черных «Волг», стоявших возле подъезда, угадывая, какая принадлежит уголовному розыску. Однако подполковник спокойно миновал их, прошел и мимо вездехода, скромно прижавшегося к кромке пешеходной дорожки, и направился к выходу со двора.
Следуя за Ковалем, лейтенант еще надеялся, что машина ждет их за воротами. Тщетность своих надежд понял, как только выглянул на улицу, — здесь не было ни одного автомобиля.
Занятый своими мыслями, Дмитрий Иванович шагал по улице, не замечая разочарования лейтенанта. Шагал так широко, что Струць еле успевал за ним; он старался держаться рядом и был готов в любую минуту ответить на его вопросы.
— Одинаковая отрава, одинаковые симптомы, — бормотал тем временем подполковник. — Но зачем убийце Залищука травить еще и Джейн? Чем выгодна, скажем, Крапивцеву смерть этой девушки? Нет, тут что-то не то… Виктор Кириллович! — обратился неожиданно к лейтенанту, словно только сейчас заметил его. — Ну, а вы что привезли? Какие сведения?
— Что привез? — немного растерялся Струць: он все-таки надеялся, что докладывать не придется на ходу, среди улицы.
Прежде чем ответить, огляделся вокруг. Тихая, спокойная улица старого района города, некогда фешенебельного уголка богачей, называвшегося Липками и не сохранившего деревьев, которые дали ему это название, сейчас, утром, была пустынной. Из одинокой книжной будочки, мимо которой шли, грустно высматривала покупателей киоскерша. Далеко впереди, в скверике, стояли лавочки, отшлифованные пенсионерами и нянями. На одной из них, оторвавшись от книги и следя за внуком, сидела старушка.
— Так что удалось выяснить о Крапивцеве, лейтенант? — повторил Коваль.
Струць вздохнул.
— В Краснодаре он прожил только два года. Ничем особенным не отличился… Перелетал с одной работы на другую. Одну зиму был сторожем и печником в детском саду, несколько месяцев работал в санатории, потом на биостанций, на туристической базе — старшим, куда пошлют: и завхоз, и сторож, и шофер. Жил тихо, приводов в милицию не было…
— По приводам характер человека не определишь.
— Я только докладываю факты, товарищ подполковник.
— Дальше.
— Удивительное дело, Дмитрий Иванович. Крапивцев купил там дом, забрал в Краснодар из Одесской области семью и вдруг, буквально через несколько месяцев, продал этот дом себе в убыток и махнул с семьей в Киев.
— Для этого у него, кажется, была веская причина: дочь вышла замуж за киевлянина… Дом дорогой?
— Купил за шестнадцать тысяч, продал за четырнадцать, это по документам нотариата. Возникает вопрос: откуда у него такие деньги? — оживился лейтенант. — Из Одессы получаю сведения: веники! Обычные веники, каждый ценой в один рубль. Выращивал сорго и изготовлял веники… И как хитро все обставил! Устроился стрелочником на железной дороге и в течение нескольких лет засевал чуть ли не гектар вдоль железнодорожного полотна. Полоса отчуждения, принадлежащая дороге. Выращивал исключительно сорго. Аппетит появляется во время еды… Вскоре ему и на гектаре стало тесно. Втерся в доверие к местным руководителям, прихватил еще два гектара колхозной земли… будто бы для селекционных опытов…
— Гм, — произнес Коваль. — Это становится интересным.
— Ему даже трактор давали вспахать эти два гектара, сеялку, чтобы засеять! — разошелся Струць. — Своя семья уже не могла справиться с вязанием веников, так он людей нанимал…
Подошли к метро «Арсенальная». Но вестибюль станции Коваль обошел. Узкой и крутой тропинкой, наверное не всем известной, стал спускаться к Днепру. Удивленный Струць двинулся за ним. Говорить в спину было неудобно, и лейтенант умолк.
Когда проходили возле Аскольдовой могилы, Коваль спросил:
— А почему он переехал из Одесской области в Краснодар?
— Там в конце концов разобрались, что это за птица, и пришлось господину Крапивцеву убираться восвояси.
— И это ему удалось, — с горечью констатировал Коваль. — Хотя противозаконных деяний целый воз.
— Местный ОБХСС занимался, но дела так и не возбудили.
— Ну, а из Краснодара почему сорвался? Купил дом, перевез семью и вдруг — на тебе!
— Этого не смог установить, — признался лейтенант. — Глубоко копнуть времени не хватило… Да и, думаю, для нашего розыска это не очень важно. — Хотел добавить, что вообще не стоило ездить в Краснодар, чтобы разузнавать о Крапивцеве, когда все и так понятно, но промолчал.
— Кто знает, кто знает… — покачал головой Коваль.
— В Краснодаре у него что-то не получилось с парниковым хозяйством на местной биостанции. Это было последнее место работы… Итак, с Крапивцевым все ясно, — подытожил после секундной паузы Струць.
— Что же вам ясно, Виктор Кириллович?
— Все вещественные доказательства против него.
— Всех доказательств мы еще не имеем.
— Но ведь это та же самая отрава, товарищ подполковник, тот же брионин, переступень. И в желудке Залищука обнаружили, и у Крапивцева изъяли, и следы на стенках стакана…
— А наперстянки, которую нашли в организме погибшего, в настойке Крапивцева нет. И снова — Джейн? Ее тоже хотел отравить Крапивцев?
Подошли к метромосту и направились по нему через Днепр. Даже еще не напоенный осенними дождями, Днепр казался очень широким.
Поднятая плотиной Каневской ГЭС, вода немного замедляла здесь свой бег и, плененная одетой в гранит набережной, рвалась, чтобы разлиться за городом широким голубым плесом.
На середине моста Коваль остановился и, положив руки на теплый каменный барьер, загляделся на реку. Солнце било в глаза, он щурился, но с удовольствием подставлял лицо под его лучи.
Внизу один за другим проплывали катера, буксиры толкали вверх против течения тяжелые баржи, груженные щебнем, песком, чугунными болванками. В небе появился коршун, сделал круг и исчез за Гидропарком.
Струць понимал, что мысли подполковника сейчас далеки от Днепра, от живописного пейзажа, от коршуна, который снова появился в небе.
Лейтенанта удивляло странное, вроде бы спокойное поведение Коваля. Часы, дни бежали безудержно. Опасность отравления преступником новых людей должна была, по его мнению, встревожить подполковника. Однако он параллельно занимался и другими делами, не имевшими никакого отношения к смерти Залищука, и сейчас, казалось, не обратил должного внимания на его, лейтенанта, сообщение. Конечно, ему нелегко, на его плечах целое отделение в министерстве. Но почему он не хочет окончательно остановиться на единственной версии: убийца Крапивцев… Ведь больше ничего у них нет и, очевидно, быть не может…
Над головами прогремел поезд метро; когда он исчез за поворотом, лейтенант услышал, как Коваль произнес задумчиво: «Да… да… конечно… да…»
Возле станции «Гидропарк» подполковник вдруг заторопился. Они быстро вошли в метро и вскоре уже были в райотделе.
5
— О, Джейн, Робин! — воскликнула миссис Томсон, поворачиваясь к подполковнику. — Дети самая большая, единственная моя радость…
— Как для каждой матери, — кивнул Коваль.
— Возможно, даже больше, чем для иной, потому что достались мне очень нелегко… Да и сейчас с Робином не так просто. Но знаете, Дмитрий Иванович, вероятно, это закон: чем тяжелее достаются дети, тем больше их любишь, или, как еще говорят у нас, чем больше вкладываешь в дело, тем оно дороже…
— Проценты с капитала, — не удержался от иронии подполковник.
— Я имею в виду духовный капитал. — Тон Коваля задел Кэтрин. — Духовный капитал для людей верующих не менее важен, чем денежный. И это одинаково и у вас, и у нас.
Ковалю обидно было слышать из уст человека, который родился на Украине, «у вас», а когда имелся в виду чуждый ему мир — «у нас».
— Вы, наверное, меня осуждаете, — вздохнула она, словно прочитав его мысли. — Уверяю вас, отсюда, с родины, я ни в какую Англию не поехала бы. Но тогда… в Германии, измученная в неволе, дезинформированная, среди чужих людей, без поддержки… Слабенькая девчонка, я словно висела в воздухе.
— Мы отклонились от темы, — заметил подполковник, размышляя о том, как задать главный вопрос, ради которого и пришел на Русановские дачи.
Они прогуливались тропинкой вдоль залива, неподалеку от небольшой пристани. Время было тихое, послеобеденное, когда пассажирские катера увеличили интервалы между рейсами, а рыболовы оставили до вечернего клева насиженные места и только неугомонная детвора копошилась в горячем песке.
— Да, дети, дети… Они меня также очень любят. После кончины Вильяма стали особенно внимательны. — Миссис Томсон не была сейчас искренней — она давно уже почувствовала, что именно после смерти мужа между ней и детьми пролегла странная полоса отчуждения, которую не могла сама объяснить. Но зачем об этом знать подполковнику. — Не пускали меня в этот вояж, боялись, что захвораю. Но я все-таки вырвалась… Очень хотелось увидеть родные места. Думала, может, найду могилу матери, ничего не знала о ней после того, как немцы разлучили нас на станции… И, наконец, надеялась хотя бы что-нибудь узнать о сестренке Таечке, ибо на все мои запросы получала трафаретный ответ: «Адрес не установлен…» Приехала и заболела. И только дала телеграмму детям, как Джейн все бросила и прилетела… Робин тоже хотел приехать, но его не отпустили на работе, у них там что-то связано с армией, и поэтому большие строгости…
— Неудивительно, что прилетела. Ведь вас положили на операцию.
— Да. У меня еще сердечная недостаточность. Не столько прожито, сколько пережито, Дмитрий Иванович.
Они дошли по влажному песку до кромки воды и повернули назад. Теперь перед глазами была уже не ровная, переливающаяся под солнцем речная гладь, словно усыпанная блестками вдали, а желтели песчаные холмики, то тут, то там поросшие редким ивняком, — пейзаж однообразный и неласковый даже в ярком солнечном свете.
— Ваши дети одинаково относятся к вам? — полушутя спросил Коваль. — И вы к ним?
— Джейн мне ближе, чем Робин. Да это и понятно — девочка всегда тянется к матери… А для матери все дети одинаковы, какой палец ни порежь — все равно больно.
— Даже неродные?
Миссис Томсон подняла на Коваля удивленный взгляд.
— Почему вы это спрашиваете?
Подполковник не ответил. И его молчание было для Кэтрин неожиданным и многозначительным.
— В жизни и так бывает, — быстро заговорила она, — что неродные становятся родными и наоборот. Ведь не та мать, что родила, а та, что вырастила.
— Согласен, согласен, — закивал Коваль. — Родные дети частенько принимают родительскую любовь как нечто принадлежащее по праву рождения, как естественный долг старших, исполняемый ими независимо от их воли и желания. — Дмитрий Иванович вдруг подумал при этом о своей Наталке. — А дети неродные видят в заботе усыновителей проявление доброй воли и любящей души. Поэтому у них и вспыхивают в ответ глубокие чувства благодарной преданности, часто более сильные, чем у детей родных.
— Боже, как прекрасно вы сказали! — произнесла Кэтрин, останавливаясь и закрывая на миг ладонями лицо. Когда она опустила руки, Коваль заметил в уголках глаз слезинки.
— Ну, вот Джейн, — продолжал он. — У нее именно такое чувство. И она вас очень любит. Разве не так?
— Да, — быстро выдохнула миссис Томсон, — очень любит, но…
— Я знаю, у вас есть тайна, — словно о чем-то незначительном, как бы между прочим, сказал подполковник и, наклонившись, отломал с кустика прутик.
— Мои тайны — это мои тайны! — вспыхнула миссис Томсон. — И вашей милиции они не касаются.
Коваль вздохнул.
— Всегда должен знать больше, чем потом использую в материалах расследования. И не беспокойтесь, Катерина Григорьевна. Без крайней необходимости я не проливаю свет на личные тайны. В данном случае никто не собирается срывать покров с ваших…
— А я этого и не разрешу! — твердо произнесла миссис Томсон.
— Конечно. Если боитесь, что об этом узнает Джейн…
Теперь в глазах Кэтрин сверкнули молнии.
— Вы меня шантажируете, господин Коваль. Я буду жаловаться!
— Не советую, Катерина Григорьевна… Моя задача — не только обнаружить убийцу Бориса Сергеевича, но и защитить других людей от опасности. Возможно, в том числе и вас…
— Меня? От кого? От какой опасности? — Кэтрин надменно взглянула на подполковника.
Он горько улыбнулся, подумав, что бывшая Катерина таки сумела за время, прожитое за границей, набраться истинно английского гонора.
— Ваша тайна, миссис Томсон, уже секрет Полишинеля. Во всяком случае, для Джейн.
Кэтрин, быстро зашагавшая при последних своих словах, резко остановилась.
— Какой секрет? — переспросила, задыхаясь. Дышала часто, и подполковник испугался, что ей станет плохо. Но он должен был поставить точку над «и».
— Джейн знает, что она вам неродная…
Несколько секунд Кэтрин смотрела на Коваля бессмысленным взглядом. Потом, тихо застонав, опустилась на песок и закрыла лицо руками.
Подполковник не трогал ее: пусть успокоится. Тихий ветер шевелил поседевшие локоны женщины.
Коваль терпеливо ждал, слушая легкие всплески речной волны, монотонный скрип железных канатов понтонного причала, покачивавшегося у берега, визг детворы в воде.
— Я пришел к такому выводу, изучая фото, которое вы подарили сестре.
— И эту неправду вы сказали ребенку?
— Джейн сама знала и только подтвердила. Ее, конечно, удивило, как я об этом проведал, и она решила, что тайну раскрыли вы.
— Вы ее шантажировали?
— Ничего подобного. Поверьте мне.
Миссис Томсон бессильно кивнула и протянула руку, чтобы Коваль помог ей подняться.
— Молчите, — попросила, заметив, что подполковник собирается что-то добавить. — Ничего больше не хочу от вас слышать… Но где Джейн? Где моя девочка? — Миссис Томсон беспокойно осмотрела берег вплоть до белой косы пляжа.
Следом за ней и Коваль засмотрелся на далекий пляж, на гладкий плес могучей реки, которая, не сдерживаемая здесь высокими берегами, разлила свои воды почти до горизонта.
— Джейн еще не совсем здорова, — покачала головой Кэтрин. — С утра выпила стакан чая с сухарями и так ходит целый день… Помогите мне дойти до дачи.
Коваль взял женщину под руку и медленно повел по узкому переулку, между веселых зеленых заборчиков и домиков, утопающих в садах.
…На даче Дмитрий Иванович разрешил Кэтрин выпить только валерьянку, привезенную им Таисии Григорьевне, и ей стало легче. Полежав на диване на открытой веранде второго этажа, Кэтрин спустилась вниз, где, сидя в единственном рассохшемся кресле, Коваль просматривал купленную по дороге свежую газету.
— Я все расскажу, Дмитрий Иванович, — твердым голосом произнесла Кэтрин, устраиваясь в кресле, из которого Коваль пересел на скамью. — С надеждой, что имею дело с порядочным человеком и моя исповедь не будет использована во вред детям. Коль это уже перестало быть тайной, которую я собиралась унести с собой в могилу…
Коваль молча кивнул.
— Да, Джейн действительно мне неродная… Тяжело произносить эти слова. Я всю жизнь старалась забыть об этом и забывала, не чувствовала никакой разницы между нею и Робином…
Коваль и Кэтрин были сейчас одни на даче. Таисия ушла к метро продавать цветы и до сих пор не возвратилась, а Джейн, приехавшая утром сюда вместе с матерью, ушла купаться. И все равно, рассказывая, женщина все время оглядывалась, словно боялась, что их подслушают.
— Джейн родилась вскоре после того, как Вильям ушел в армию. Он считал, что родители смогут окружить заботой его молодую жену. Ребенку не исполнилось и года, когда во время одного из последних налетов на Лондон бомба разрушила дом Томсонов. Вся семья погибла. Маленькую Джейн нашли среди обломков. Падая, мать прикрыла ее своим телом, и она осталась живой. Солдаты, которые раскапывали развалины, отнесли малютку в приют, не зная, что отец находится в Германии. Вильям, не получая долгое время писем из дому, забеспокоился, забил тревогу. Ответ из Лондона попал в его руки уже после победы, когда Вильям служил в охране лагеря репатриантов. Это было в Северо-Западной Германии, в местечке Рогендорф… В этом лагере находилась и я…
Кэтрин сделала паузу и попросила воды.
Подполковник принес стакан и занялся ручным насосом. После длительной возни из шланга побежала свежая вода.
— Спасибо, — поблагодарила Кэтрин и, собравшись с духом, продолжила: — Не знаю, влюбилась ли я тогда в Вильяма или мое положение очень угнетало, да и родных считала погибшими — так оно на беду и случилось с мамой! А первая моя девичья любовь — Андрей, как я знала, лежал в могиле… Так или иначе, но я обвенчалась с Вильямом Томсоном и уехала с ним. Впрочем, эти детали для вас, Дмитрий Иванович, очевидно, не существенны…
Коваль в ответ только улыбнулся.
— А возможно, подумала и о беззащитной малютке, которой необходима мать. Материнское чувство у нас пробуждается еще в девичестве… Документы на Джейн удалось получить в приюте такие, какие мы хотели. В них матерью была названа я… Конечно, церковную запись мы не могли исправить, но надеялись, что для мэрии достаточно будет справки из приюта. Поэтому, — Кэтрин вздохнула, — я всю жизнь жила под дамокловым мечом. Ведь я полюбила Джейн всей душой, и девочка отвечала мне тем же… Теперь вы открыли мне глаза: Джейн все знает… Никак не могу опомниться… Когда же она узнала, где, каким образом? Не пойму… Тем дороже становится сейчас мне ее любовь… А может, это Робин проболтался? Вы знаете это, Дмитрий Иванович? — миссис Томсон умоляюще взглянула на подполковника. — Как только он докопался! Он очень ловкий парень, пройдоха и хитрец. Пронюхав об этом — как именно, понятия не имею! — он иногда пугал меня, что расскажет Джейн, и я готова была простить ему любые фокусы. Чаще всего он устраивал мне сцены, когда ему необходимы были деньги… Долги какие-нибудь и тому подобное… Вильям, очевидно, это предвидел, потому что в завещании отдельно обусловил не только долю наследства Джейн после выхода замуж, но и после моей смерти. В любом случае Джейн получает сейчас в приданое мастерскую, а когда меня не будет — еще и часть сбережений. Роберт занимается совсем другим делом, и наша мастерская ему ни к чему…
— После вас и Джейн единственный наследник Роберт?
— Естественно. Но дети почти ровесники, и лишь господь знает, кто кого переживет.
Кэтрин умолкла, глядя куда-то над кронами деревьев. Коваль не мешал ей сосредоточиться.
— Вы меня ошеломили своим сообщением, Дмитрий Иванович, — наконец произнесла Кэтрин. — Да, ошеломили, — повторила она. — Получается, что Робин рассказал ей… Но девочка ни разу не дала мне это почувствовать… Милая моя!.. Теперь она мне еще дороже. — Кэтрин приложила платочек к глазам. — И пусть он попробует еще раз вымогать у меня деньги! — Сквозь слезы она улыбнулась, и Коваль понял, кого она имеет в виду.
— Екатерина Григорьевна, мастерская ваша не очень прибыльная?
— Да. Но Генри — механик, имеет свою. Они объединятся, и им легче будет бороться с конкурентами.
— В Англии начинается новая волна инфляции. Вы думаете, они выстоят, объединившись?
— Надеемся. Но гарантий, конечно, нет.
— Деньги Джейн сможет получить только после вашей смерти?
— Это уже недолго, — грустно произнесла женщина.
— Я сейчас начну говорить вам комплименты, — шутливо пригрозил подполковник.
Кэтрин улыбнулась в ответ.
— А Роберт знает?
— О чем?
— Что мастерскую получит Джейн.
— Конечно. Кроме тайны, которая вам уже известна, у меня нет секретов от детей.
— И он не сердится?
— Кто, Робин?
— Да.
— Почему он должен сердиться… При всем своем эгоизме он любит сестру. А мастерская ему, повторяю, ни к чему. И ни в каком случае принадлежать ему не будет.
— Он давно узнал, что Джейн сестра только по отцу?
— Какое это имеет значение?
— Дети часто ревнуют к родителям, — уклонился от ответа Коваль.
— Ах, Дмитрий Иванович, это такие дебри, такие дебри! — Женщина утомленно провела рукой по лбу. — Не рассказывайте Джейн о нашем разговоре, прошу вас.
— Хорошо.
— Пусть и впредь думает, что я ничего не знаю… Я не хотела бы, чтобы дети ссорились из-за денег. Робин, конечно, парень непростой. Рано начал выпивать — сначала пиво, потом вино, пристрастился к картам. К какому-либо делу пристроить его было невозможно. Об отцовской профессии, например, и слышать не хотел. Во всем были виноваты его дружки, дети из более обеспеченных семей, он к ним тянулся. Да и мы с Вильямом что-то прозевали. Считали его невинным шалунишкой и все прощали… Робин родился в тяжелые годы послевоенной инфляции, и Вильяму некогда было им заниматься. Мальчику нужен был наставник-мужчина, а отец днем и ночью пропадал в мастерской.
— У вас большая мастерская?
— Да нет, что вы! Это мастерская по ремонту фотоаппаратов и пишущих машинок, в ней только трое мастеровых, четвертым садился за рабочий стол мой муж. А во время инфляции, когда приходилось увольнять одного или двух работников, трудился больше всех. После войны ему, простому механику, нелегко было выбиться в люди. К тому же он упрямо не хотел вступать в профсоюз, и поэтому нам было тяжелей других. А я занималась хозяйством и воспитывала детей. Джейн, например, научила нашему родному языку. Она, как видите, довольно прилично разговаривает. Благодаря этим занятиям я и сама ничего не забыла. Иногда у нас с Джейн бывали украинские вечера, во время которых не разрешала ей ни слова произносить на английском. Вильям посмеивался, считал это капризом, но, поняв, что таким образом я утоляю свою тоску по родине, махнул рукой. Мы с Джейн могли вполголоса секретничать в присутствии Вильяма и Робина. Это очень нас сближало. А вот Робин ни за что не хотел учить украинский. Он вообще учиться не хотел. И только когда Вильям пригрозил, что лишит его всего, взялся за ум, выучился на химика-фармацевта и при помощи своих влиятельных друзей устроился в какую-то лабораторию.
— Если не секрет, в какую?
— Понятия не имею, Дмитрий Иванович, что-то военное, секретное… Да, нелегко мне пришлось с сыном, особенно после смерти Вильяма. Совсем было от рук отбился. Я понимала — смерть отца потрясла его. Отец был для нас всем… Между прочим, и меня не сразу приняли в Англии друзья мужа. Для них я была чужой: то ли немка, то ли русская, — разницы они почему-то не видели, тем более что Вильям привез меня из Германии. Его брак никто не одобрял. Если бы привез няню для ребенка, который остался без матери, — это они поняли бы. Но жену — какую-то пленницу, рабыню… Это шокировало чванливых приятелей семейства Томсонов… Долгое время я находилась словно в вакууме, как будто укутанная в вату: вокруг тишина, ни звука, ни до кого не дотянуться — от всего и всех отгораживает какая-то всеобщая отчужденность. Все подчеркнуто вежливы со мной и подчеркнуто холодны. О, — покачала головой миссис Томсон, — что я пережила, пока меня признали, пока начали забывать, откуда я, как попала в Англию, пока стала для всех просто Кэтрин! Немало усилий приложил Вильям. Но решающую роль сыграло рождение сына — уже англичанина, несмотря на значительную примесь не англосаксонской крови. Возможно, поэтому Робину я была благодарна в душе и прощала больше, чем Джейн…
Скрипнула калитка, и во двор вбежала Джейн.
— Мама! — закричала она, бросила плетеную сумочку на траву, обняла Кэтрин. — Почему ты не пришла на пляж? Я тебя ждала.
Джейн была в ярко-красном купальном костюме, поверх которого на шлейках болталась легкая пелеринка также красного цвета, и в огромном соломенном брыле.
— У тебя ничего не болит, доченька? Как ты себя чувствуешь?
— Все ол райт! Здравствуйте! — бросила Джейн Ковалю. — Я не знала, что у нас гости, — обратилась к матери, словно считала необходимым оправдать свою экзальтированность в присутствии постороннего человека.
Пытливо взглянула на подполковника: старалась догадаться о причине его появления. Потом опустилась на траву.
— Джейн, — покачала головой Кэтрин, — ты ведешь себя как девчонка. Пойди переоденься.
— Если мой костюм не нравится, я его, конечно, заменю.
Она вскочила и мигом взлетела по ступенькам на второй этаж дачного домика.
Во дворе появилась Таисия Григорьевна. Лицо грустное, в руках две сумки, наполненные продуктами.
— Завтра девятый день после смерти Бориса Сергеевича, — кивнула Кэтрин на сестру, которая опускала сумки в погребок под полом открытой кухни. — Поминки хочет сделать.
Джейн уже в цветастом халатике подошла к Ковалю.
— Вы принесли какие-то новости? Скоро отпустите домой?
«С нее все как с гуся вода, — возмущенно подумал подполковник. — Как будто это не она оболгала хорошего хлопца, как будто это не она чуть не умерла… Но почему все-таки наговорила на лейтенанта?»
— Надеюсь, скоро, — сухо ответил Коваль. — Но сможете ли вы ехать?
— Я абсолютно здорова. И что значит ваше «скоро»? Вы всегда говорите «скоро»… Что, уже нашли убийцу Бориса Сергеевича? О своем отравлении я не спрашиваю. Это вообще какая-то непонятная история.
— Скоро найдем.
— Опять это «скоро»! — возмутилась Джейн. — В вашем языке другого слова нет?
— В данном случае это можно понимать и как «завтра».
— И кто же? — с откровенным любопытством спросила Джейн.
— Завтра все будет известно.
— Так долго ждать! Я уже совсем измучилась!
— Итак, до завтра. — Коваль кивком попрощался со всеми и направился к калитке.
6
Миссис Томсон осторожно переступила через порог, словно боялась споткнуться. Андрей Гаврилович включил в передней свет и только тогда закрыл за собой дверь. Кэтрин обвела взглядом небольшой тесный коридорчик с овальным зеркалом возле вешалки, подставку с бронзовым антикварным бюстом Мефистофеля.
Воловик снял с нее пыльник и повесил на вешалку. Пока Кэтрин поправляла перед зеркалом прическу, он словно мальчишка суетился по квартире. Миссис Томсон вошла в комнату, начала рассматривать книжные полки, разные безделушки, украшавшие жилище врача-холостяка. Андрей Гаврилович, попросив прощения, бросился на кухню.
— Кофе или чай?
— Чай, только чай. В это время у нас пьют только чай. Давай я приготовлю.
Кэтрин настояла, чтобы пили чай на кухне. Единственное, что она разрешила врачу, это принести чашки какого-то старинного сервиза.
Беседа во время чая не вязалась. Андрей Гаврилович продолжал и далее суетиться, не зная, что сделать, чтобы Катерине Григорьевне у него понравилось. Его беспокойство передавалось женщине, и она тоже сидела как на иголках, хотя скрывала свое состояние лучше, чем хозяин.
Эта встреча мало была похожа на ту, первую, которая состоялась в гостинице.
Миссис Томсон никак не могла разобраться в сумятице чувств, охватившей ее тут, в квартире ее бывшего Андрея. Даже мелькнула мысль: «Зачем я пришла?» После приезда на Украину она потянулась к сестре, ко всему, давно забытому, но родному, к языку, к людям. Чувство языка возвращалось к ней постепенно. Сначала с трудом, но потом все свободнее разговаривала она с земляками и наслаждалась языком, с раздражением воспринимая ошибки в произношении Джейн. Не прожив здесь и месяца, она незаметно для себя так вошла в атмосферу родного края, что казалось, никогда отсюда не уезжала, и жизнь в Англии начинала тускнеть в ее глазах, терять свою четкость, словно расплываться, как это бывает с отражением в потревоженной зыбкой воде.
Среди прочего вспомнились «среды» у миссис Бивер, постоянное стремление быть достойной в глазах этой чванливой дамы, кузины Вильяма. Кэтрин всегда угнетало то, что, несмотря на внешнее ласковое отношение, родственники мужа все же давали почувствовать, что между ними и ею существует дистанция. Если она, с точки зрения миссис Бивер, ошибалась в одежде, что-нибудь делала не так, как это принято в Англии, они пожимали плечами или отводили взгляд: мол, что с нее, этой простушки, возьмешь. И хотя она хорошо уже владела английским и прикладывала невероятные усилия, чтобы ничем не отличаться от англичанок, все равно постоянно чувствовала, что люди, знающие историю ее появления на островах, никогда не забывают об этом.
Теперь, после смерти Вильяма, она стала совсем одинокой в своем маленьком коттеджике с милым зеленым лужком перед ним. Кэтрин еще раз представила себе родственников мужа и единственную приятельницу, миссис Ричардсон, которая каждую пятницу навещала ее. Но когда из-за инфляции Вильям вынужден был закрыть свою мастерскую, миссис Ричардсон перестала ее навещать и приглашать к себе на чашку чая, даже на улице не узнавала.
Да, теперь она обречена на одиночество. У Джейн и Роберта свои хлопоты, появятся свои семьи. Джейн уйдет к Генри. И хорошо, если они хотя бы в праздник пришлют открыточку. А Роберт? Сын, даже если и не женится, не найдет, как всегда, времени для матери.
А если остаться здесь?.. Кэтрин почувствовала, как у нее сильно застучало сердце. Что ее здесь ждет?..
Резкий телефонный звонок испугал так, что она чуть не уронила чайную ложечку.
Андрей Гаврилович, наоборот, обрадовался этому неожиданному звонку, нарушившему напряженную тишину в квартире. Бросился в комнату к телефону.
— Да, да! — услышала Кэтрин его голос. — Но я сейчас не могу, дорогой, не могу, Михаил Владимирович, у меня гости. Я вам дам совет. Примите тридцать капель лекарства, которое я прописал, потом на затылок горчичники…
Возвратившись на кухню, немного успокоенный деловым разговором, Андрей Гаврилович предложил Кэтрин долить горячего чая. С улыбкой начал рассказывать о приятеле, который только что звонил:
— Такой же бурлак, как и я, Катруся. Верит только мне. Иногда до смешного. У него, например, болит зуб — он тоже меня зовет, хотя я отоларинголог и зубы не лечу… Исцелитель всех болезней. Как когда-то чеховский фельдшер.
Рассказывая, Андрей Гаврилович любовался Кэтрин, удобно усевшейся на мягком стуле, и ему казалось странным, как это до сих пор он жил в этой квартире один, без нее, милой Катруси с голубыми глазами. Словно позади не было стольких нелегких лет и их никто не разлучал той страшной военной ночью в Криницах — так естественной кажется склеенная кинолента, из которой незаметно вырезали и выбросили несколько десятков метров. Теперь, когда освободился от тяжелого груза чужого имени, он не представлял себе будущей жизни без Катруси. Давнее детское чувство вспыхнуло в нем с новой силой. В душе смешались и восхищение красивой женщиной, и радость, что не забыла его, и благодарность за возвращение его в общество, и застарелая холостяцкая тоска по семейному теплу. Сейчас войны не было, и ему не верилось, что Катруся снова может исчезнуть, как тогда, в те далекие годы.
Андрей Гаврилович не знал, как начать этот разговор, и его все сильнее охватывало волнение. Ведь именно для такого признания он и пригласил к себе Екатерину Григорьевну, и то, что она не колеблясь согласилась прийти, внушило ему надежду.
А Кэтрин тем временем, возможно под натиском сентиментальных воспоминаний, вдруг показалось, что годы, прожитые с Вильямом, отодвигаются в густой лондонский туман, в котором сначала расплываются, а потом и совсем исчезают очертания людей, деревьев, домов…
Если бы доктор Воловик сейчас предложил Кэтрин остаться с ним, кто знает, как под влиянием минутной слабости отнеслась бы к этому одинокая женщина. Но Андрей Гаврилович не был готов для решительного разговора, он еще словно побаивался миссис Томсон.
Вдруг снова раздался резкий телефонный звонок.
— Еще кто-нибудь захворал, — пробурчал Воловик. — Извини, Катруся.
Это был не новый больной, а тот же самый сосед Михаил Владимирович, которому стало совсем плохо.
— Ну что я могу сделать? — пожал плечами Воловик у телефона. — Вызови «скорую»… Ну ладно, ладно, сейчас. — Положив трубку, он виновато произнес: — Катруся, это в нашем доме, двумя этажами ниже. В пять минут уложусь… Очень прошу меня понять, сделаю инъекцию, и все. Посмотри пока альбом. Вон в комнате, на столике.
Кэтрин кивнула, и Воловик, схватив докторский чемоданчик, исчез за дверью.
Женщина поднялась и начала ходить по квартире. Подержала в руках альбом и, не раскрыв, положила на столик. Подошла к окну, засмотрелась на потемневшую улицу, на дома, освещенные высокими фонарями, на троллейбусы, искрившие металлическими штангами по проволоке.
…Сделав укол, Андрей Гаврилович должен был несколько минут побыть возле больного.
Михаил Владимирович, плотный мужчина с лысой головой, лежал на таком же диване, как и у доктора. Да и все в этой квартире напоминало квартиру Воловика: и мебель, и расположение ее. Андрей Гаврилович, проведывая приятеля, иногда забывал, что он находится не у себя.
Михаил Владимирович заметил, что доктор нервничает.
— Кто там у вас?
— Катерина.
— О! — Он знал о приезде в Киев Катерины Притыки, о ее роли в жизни своего соседа и считал, что встреча эта быстротекуща и вскоре, когда она уедет, все возвратится на круги своя. — И что вы думаете?
— Буду говорить с ней, — вздохнул Воловик. — Может быть, согласится.
— О чем говорить? С кем? На что согласится? — Михаил Владимирович покачал головой. — Это, конечно, не мое дело, но как друг скажу. Что это вы себе надумали, дорогой Андрей Гаврилович? Пустая это затея… Чего же она молодой не возвратилась на родину, как тысячи других девушек? А?! А теперь, видишь, умер муж, так она к вам… Впрочем, не уверен, действительно ли она согласится ради вас остаться тут. У нее душа уже искалечена… А может, вы собираетесь туда, дорогой Андрей Гаврилович, — он подозрительно оглядел приятеля, словно впервые его увидел, — тогда скатертью дорожка. Мало вы в жизни горя хлебнули, еще хлебнете. Но… думаю…
— Успокойтесь, — перебил его Воловик. — Успокойтесь. Вам волноваться вредно.
— А я и не волнуюсь. Это вы волнуетесь.
Слова Михаила Владимировича не отбили у него желания сделать предложение Катерине Григорьевне; наоборот, будто подтолкнули немедленно высказать ей все. А там будь что будет!
Он еще раз посчитал пульс больного и, попрощавшись, перепрыгивая через ступеньку, побежал к себе.
Еще в двери крикнул: «Катя!» — словно боялся, что ее уже нет, что она ушла.
— Я хочу тебе сказать… Нет, попросить тебя, чтобы ты осталась тут, со мной. Я не знаю, какие у тебя планы на будущее, но я прошу: оставайся на родине… — Он выпалил все это одним духом, еще не отдышавшись от бега по ступенькам.
Кэтрин отвернулась от окна и пристально посмотрела на него.
Он приблизился, взял ее руки в свои.
Сердце у нее застучало сильнее.
— Как это возможно, Андрейка… — тихо произнесла. — У меня дети… Мы свое прожили, теперь принадлежим не себе, а им.
Она не была искренна в эту минуту. Найденная сестра, родной язык, который через столько лет снова звучал повсюду, доброжелательные люди — все это создавало до боли знакомую, близкую сердцу атмосферу далекого детства, восстанавливало забытые на чужбине чувства, словно после летаргического сна она вдруг проснулась в своей хатке, в забытых Криницах. Она помолодела тут душою, и это помогало воспринимать Андрея Гавриловича так, будто он тот же юный Андрейка, в которого когда-то влюбилась и которого столько времени носила в сердце.
Увидев, как сник доктор, пожалела, что отказала так резко.
— Дети… да… дети. Это очень существенно, — сказал Андрей Гаврилович, отпустив руки Кэтрин. — Возможно, я не знаю, что такое дети. Я их не имел… Вот мы были детьми… Впрочем, было ли у нас детство… Оно быстро оборвалось… А твои уже взрослые… Они и без тебя стоят на ногах…
— Для матери дети всегда маленькие.
— Как же нам быть теперь? — грустно и растерянно спросил Андрей Гаврилович. — Неужели снова разлучимся, уже навсегда?
Кэтрин ничего не ответила, только вздохнула.
Так и стояли некоторое время молча друг против друга.
— Я не знаю, Андрейка, — наконец жалобно произнесла Кэтрин и прикоснулась рукой к его седеющим кудрям.
На кухне зашипел газ — выкипал чайник.
— Проводи меня, — попросила Кэтрин.
Пока он бегал на кухню, она надела свои пыльник.
…К гостинице добирались молча. Возле входа в вестибюль Андрей Гаврилович поцеловал ей руку. Горло у него сжало так, что не смог вымолвить и слова…
7
Через несколько дней после происшествия в парке Коваль возвращался от Ружены не в настроении. Наталка догадалась об этом, еще когда отец только приближался по дорожке к дому: она по шагам всегда узнавала, что у него на душе.
Отложила книгу, настороженно прислушалась. Она нервничала. С каждым днем ей все тяжелее было жить в атмосфере неопределенности, которая воцарилась в родном доме. У нее было такое чувство, словно все они втроем находятся в невесомости и никак не могут опуститься на твердую почву. Конечно, появление Ружены сняло с ее плеч заботу об отце, беготню по магазинам, приготовление завтраков и ужинов — обедал Коваль в министерской столовой или где придется. Но все это Наташа воспринимала без особой радости, даже с каким-то ревнивым чувством. Теперь ей уже казалось, что приготовить для отца еду никогда не было тяжелым делом, что это не отрывало ее от учебы. Да и сможет ли Ружена испечь такие блины, как она…
Когда-то у нее с отцом были вечера откровенности. Садились рядышком на диване в кабинете и открывали друг другу душу, как две закадычные подружки.
Такие вечера откровенности не были регулярными, все зависело от свободного времени отца, да и от настроения самой Наташи.
Теперь же эти доверительные беседы совсем прекратились…
Отец прошел на кухню. Наталка услышала, как полилась там вода. Догадалась: моет руки. Но кто накормит его ужином? Поднялась со стула и, преодолевая внутреннее сопротивление, вышла из своей комнаты и направилась тоже на кухню.
Отец сидел за столом на табурете напротив окна и, казалось, следил, как распластывает свои крылья вечер. На столе перед ним ничего не стояло: возможно, поужинал у Ружены.
— Будешь пить чай? Или покушаешь? — по привычке все же спросила Наталка.
— Нет. Я уже ел.
Он не повернул голову к дочери, продолжал задумчиво смотреть на потемневший шатер неба, на котором вот-вот должны были вспыхнуть звезды.
Наталка взяла второй табурет и села рядом.
У отца был усталый вид, морщинки на лице углубились.
Щемящая боль сжала сердце девушки. Ей стало жаль его: может, это по ее вине он так плохо выглядит…
Коваль словно угадал ее мысли, положил большую грубоватую руку на пальцы дочери, погладил их.
— Дик, — проглотив комок в горле, произнесла Наталка, — нам нужно поговорить откровенно. Мы давно с тобой не поверяли друг другу…
Коваль улыбнулся.
— Кажется, так… Действительно, давненько. — Он еще раз погладил руку дочери. — Очевидно, не было необходимости… Или желания… — добавил после паузы. — Я теперь совсем не знаю, как идут твои дела, как учеба…
— Я не об этом.
Воцарилось молчание. Его нарушила Наталка:
— Ты не боялся за нее, когда она пошла навстречу тому негодяю?
Дмитрий Иванович ответил не сразу. Он понимал, почему дочь спрашивает о том вечере.
— Да, боялся.
— Я так и думала, — с легким оттенком зависти в голосе произнесла Наташа. — Она смелая, и ей посчастливилось… Ведь ты ее любишь… Так, папа?..
— Да, — чуть улыбнулся Коваль. — Ты хочешь от меня полной исповеди?
— Нет, я просто констатирую.
— Да, — повторил Коваль, и Наташа поняла, что это подтверждение относится в равной степени и к тому, что Ружена смелая, и к тому, что он ее любит.
— И она тебя?
— Кажется. — Дмитрий Иванович снова улыбнулся, радуясь этим наивным, по-детски непосредственным вопросам уже взрослой дочери.
— Ну что ж, — вздохнула Наташа и как-то странно взглянула на отца. — Знаешь, я думаю… что так не годится…
— Ты имеешь в виду…
— Не годится, чтобы она по ночам ходила одна… Ведь ты не всегда можешь проводить ее домой…
Глаза Дмитрия Ивановича радостно заблестели. Он уже понял, к чему клонит разговор дочь.
— В конце концов, нужно что-нибудь придумать. Ты — тут, она — там… Разве это жизнь? И какой ты рыцарь, мужчина, если не можешь найти выход из положения? Я за такого замуж не пошла бы!
Коваль надеялся, что сейчас дочь предложит свое решение наболевшей проблемы.
Но Наталка вдруг поднялась, поцеловала его в щеку и со словами: «Доброй ночи. Я еще немного почитаю и тоже лягу», — направилась в свою комнату.
* * *
В воскресенье обедали вместе. Ружена, как всегда, когда за столом собиралась вся их небольшая семья, на правах хозяйки с удовольствием ухаживала за мужем и Наталкой, не позволяя девушке подниматься и бегать на кухню.
Воскресный стол украшала бутылка мартини и хрустальные бокалы. За награду, полученную Руженой от министра внутренних дел, уже выпили. Когда Дмитрий Иванович наполнил бокалы вторично, Наталка неожиданно сказала:
— А теперь выпьем за мое будущее новоселье!.. Я хочу поменяться с вами, Ружена, и переехать в вашу квартиру… Если, конечно, вы не против… А вы — сюда…
Коваль взглянул на жену. Теперь все зависело от нее.
Ружена молча подняла свой бокал. Дмитрий Иванович понял ее и без слов: она согласна с предложением Наташи и очень довольна, что девушка сама сказала об этом. Для всех троих такой вариант был самым приемлемым, но до сих пор никто первым не решался его предложить.
— Вот за это мы, безусловно, с удовольствием выпьем, — произнес Коваль, чокаясь с дочерью.
8
Домой Дмитрий Иванович приехал троллейбусом. От остановки идти было каких-нибудь триста — четыреста метров.
Сегодня подполковник не торопился. Медленно миновал девятиэтажный дом и через заасфальтированный двор вышел к домику, который словно улитка прятался между высокими новостройками.
Дмитрий Иванович постоял немного на улице. Почти все окна нового дома были раскрыты, свежий ветерок колыхал гардины. В одной из квартир отмечали какое-то событие, и разноголосая песня тревожила улицу.
Подполковник не захотел проходить в свой двор через калитку: хруст гравия под подошвами привлечет внимание Ружены и Наташи, а он сейчас не был готов к встрече с ними. Остановился возле забора, отгораживавшего его двор от соседнего, нащупал трухлявую от времени и непогоды доску, которая еле держалась на одном-единственном гвозде — все не находил времени прибить, — и, отодвинув ее в сторону, оглядевшись, словно вор, пролез в свой сад. Вышел на дорожку и сел на любимую скамейку. Вокруг было тихо. Пение из высокого дома доносилось, сюда приглушенным: в саду были слышны даже трели сверчков.
В окнах его небольшого домика горел свет: в кабинете и в спальне. Кто сидит в его кабинете: Ружена или Наталка? Наверное, Наталка. Дочь никогда не переступала порог спальни. Эта комната была запретной столько лет, и теперь, когда Ружена переезжает сюда, комнату придется долго проветривать, сушить, возможно, надо будет переклеить и отсыревшие обои.
Мысли его перенеслись к семье Томсон. Да, русановская трагедия не оставляет его ни на миг. Но почему в последнее время он особенно много думает о Кэтрин и ее дочери? Ведь они только свидетели, на свою беду случайно оказавшиеся на месте происшествия. Возможно, мысли о своей семье по какой-то ассоциации напоминали о другой, о сестрах Притык, которых война разбросала в разные стороны и сделала чуть ли не чужими.
Дмитрий Иванович обвел взглядом сад. От освещенных деревьев ползли крученые узловатые тени. На дорожках, там, где обрывались светлые полосы окон, господствовали лунные отблески, и Коваль засмотрелся на борьбу электрического света с золотым лунным сиянием. Когда луна пряталась за тучку, тени укорачивались, сплетались в клубки и исчезали. Но едва отступала темень, на земле, словно на проявляемой фотобумаге, появлялись снова очертания веточек, кустов, деревьев…
Деревья напоминали Ковалю почему-то людей, и ему подумалось, что он наблюдает сейчас вечную борьбу света и тени, добра и зла, которая среди людей иногда приобретает очень жесткие формы. Он всю жизнь восставал против зла и несправедливости. И не только по долгу службы. Бывало, уставал от многоликой несправедливости — только справится с ней в одном месте, как она показывается в другом, прикинется твоей благородной сестрой, да так, что не сразу поймешь, где правда, а где ложь. Но он хорошо знал, что правда, когда ищет дорогу к людям, сама становится материальной силой. И это укрепляло его веру в победу добра над злом.
Свет в спальне погас. «Вот и легла, — подумал подполковник о жене, — не дождалась». Но ведь он сам просил не ждать его с работы — бывает, возвращается среди ночи, даже на рассвете. Дмитрий Иванович посмотрел на часы. И вдруг увидел — в спальне снова зажегся свет. Он поднял глаза от часов, которые показывали полдвенадцатого, и приятная теплота окутала сердце: все-таки Ружена решила дождаться.
Ружена вошла в его жизнь спокойно, тихо — так вливается одна полноводная река в другую. У нее были удлиненные, полные какого-то волшебного огня глаза, красиво очерченные губы, коричневая родинка на щеке, которая, казалось, улыбалась вместе с глазами. В последнее время, молчаливый дома — вечерние беседы с Наталкой становились все короче, — он ежедневно спешил к Ружене и скоро вошел в курс всех ее дел, кое-что из своих ежедневных хлопот и ей поверял, ценя ее тактичность: она могла сдерживать излишнее женское любопытство.
Вскоре он уже не мог обойтись без Ружены. Молодел рядом с ней, временами удивляясь, что хорошего нашла эта красивая, умная женщина в нем, старом одиноком чурбаке. Он видел в ней свой последний душевный приют, возвращался при ее помощи к настоящей жизни, не ограниченной, как это было раньше, только службой.
Но сейчас он не торопился. Все сильнее освещаемые луной деревья обступали его, словно люди, ждущие его приговора. Старая корявая липа напоминала Крапивцева, яблоньки — Таисию, ее сестру Кэтрин, единственная стройная елочка во всем саду — это Джейн. Он обращался в мыслях к ним, разговаривал с ними — искал ответы на свои вопросы. И вдруг понял, почему не идет в дом, почему хочет еще какое-то время побыть наедине с собой.
Не найдя главной ниточки, которая могла раскрутить весь клубок, не решив, кому же была выгодна смерть отставного инженера, он допускал, что убийца не ограничится одной жертвой, и был готов ко всяким неожиданностям. Это самое неприятное, когда сталкиваешься с безмотивным преступлением. Ведь безмотивность обычно потом оказывается ширмой, за которой прятались дикие страсти. Расследовать такие, казалось бы абсурдные, преступления было очень сложно… Не за что зацепиться…
Хотя…
Почему Олесь так и не поговорил с отцом в тот вечер? Если шел с целью помириться, мог не бояться посторонних. В конце концов, вызвал бы его во двор.
И тут же отбросил возникшее подозрение. Нести с собой отраву для отца? Нет, так Олесь не поступил бы… И тем более не пришел бы через несколько дней после похорон заявлять свои права на дачу.
Гм… Но ведь именно ему и только ему принадлежала она по праву наследства. Вот вам и куи продест![7]
Впрочем, выгода может выступать не только в виде денег, имущества. Да и сколько этого имущества было у старого Залищука, если не считать дачи… Ровным счетом ничего.
Предположить, что кому-то нужно было избавиться от Бориса Сергеевича как от свидетеля… Или месть?..
А отрава, обнаруженная на даче Крапивцева?..
Но в настойке Крапивцева не оказалось сердечных лекарств наперстянки и валерьянки. Допустить, что он влил еще и валерьянку в стакан, из которого угощал Бориса Сергеевича? Чепуха!
В тот же вечер сдох и кот Таисии Григорьевны. Экспертиза установила, что в его организме произошли такие же изменения, как и в организме Залищука, что свидетельствует об идентичности отравления.
Но кому нужно было отравлять кота? Какая уж тут куи продест!
Не исключено, что кот, почувствовав валерьянку в стакане с отравой, тоже лизнул ее…
Коваль знал: пока не обнаружен убийца, нельзя быть уверенным, что трагедия не повторится и не появится новая жертва в этой семье. Коль нет мотивов для преступления, убийцей может быть только маньяк, человек психически ненормальный. Кто же из них, членов семьи или их близких, этот маньяк?
Так и не найдя ответа на свои вопросы, подполковник поднялся и, тяжело ступая, направился к двери. В высоком доме уже не пели. Гравий громко хрустел под ногами, но это теперь не имело значения.
Дмитрий Иванович открыл дверь своим ключом. Ружена услышала шорох в коридоре, вышла и включила свет, чтобы ему было видно.
Коваль обнял жену, с наслаждением вдыхая запах ее волос, который по какой-то ассоциации навеял ему невыразительные, расплывчатые, словно размазанные в вечерних сумерках легкие тучки, воспоминания из далекого детства. Может, так пахли волосы матери, а возможно, Зины? Тень первой жены до сих пор сопровождала в доме не только его, но и Ружену. Тень была слабая. Ружена закрывала, поглощала ее собой. Прошлое, считал Дмитрий Иванович, не должно довлеть над человеком.
Возможно, и Ружена предчувствовала, что в доме мужа ее долго будет преследовать тень его бывшей жены. Поэтому так колебалась, пока согласилась переехать. Да и то в первое время взяла с собой только крайне необходимое — платье и разные мелочи, словно ехала на месяц в дом отдыха.
Коваль выпустил жену из объятий, прошел в гостиную. Встретив его вопросительный взгляд, Ружена кивнула в сторону кабинета:
— Что-то читает…
У Дмитрия Ивановича была большая библиотека. Он собирал ее не систематически — время от времени покупал книги, которые его интересовали. Книги стояли на полках и в шкафах тоже без всякой системы. Вперед протискивались еще не прочитанные по истории, мемуарная литература, которой Коваль увлекался больше всего.
Он вошел в кабинет. Ружена осталась в гостиной.
Наталка читала его любимого Геродота, раскрытый том большого формата лежал перед ней будто каменная плита.
У Коваля появилась неожиданная мысль: «А вот Джейн осталась без отца», — и сам не заметил, как с уст сорвалось:
— Геродотом увлеклась, Джейн?
Наталка удивленно взглянула на него:
— С кем ты говоришь?
Дмитрий Иванович спохватился, улыбнулся.
— Это имя одной англичанки, которая приехала сюда с матерью. Проходит по делу.
— А, — понимающе кивнула Наталка. — Ты все время о ней думаешь… А я действительно увлеклась историей. Очевидно, у меня хорошая наследственность, — она засмеялась и, поднявшись, вышла из кабинета с томом Геродота.
Дмитрий Иванович опустился в кресло, еще сохранявшее тепло дочери. Мозг его напряженно работал.
Борис Сергеевич, кот пострадали от отравы. Крапивцев здесь ни при чем. Потому что в его настойке нет сердечных лекарств. Тем более что с Джейн, которая также пострадала, он не встречался.
Значит, отрава с наперстянкой не выходила из круга: дача Залищуков — гостиница. Ведь Джейн, кроме ресторана, в тот день нигде ничего не пила и не ела.
Дмитрий Иванович вынул из ящика стола учебник для вузов «Лекарственные растения», который взял в библиотеке министерства, и начал листать его. Нашел страницы, посвященные растительности Кавказа. Так, переступень, адамов корень, мачок и чемерица, обнаруженные в настойке Крапивцева, принадлежат к очень ядовитым растениям, хотя в небольших дозах могут использоваться для изготовления лекарств. Но что из этого? Да и растут они не только на Кавказе, а чуть ли не по всей Европе… Конечно, Крапивцев не привез их из-за границы… Но ведь нет в его отраве сердечного компонента — дигитоксина, наперстянки. А в крови Залищука и Джейн дигитоксин обнаружен, в крови сдохшего кота и на стенках стакана тоже был…
Коваль полистал книгу — начал читать о наперстянке.
«…В 1650 году наперстянка пурпуровая была включена в английскую фармакопею. Ввиду частых случаев отравления из-за отсутствия методов исследования и неправильной дозировки наперстянка была исключена из английской фармакопеи в 1746 году и забыта врачами. Однако в конце XVIII века английский врач Уайзеринг нашел у умершей знахарки рецепт настойки наперстянки и после 10-летнего научного испытания ввел ее снова в медицинскую практику. С тех пор она приобрела мировое значение. В России по приказу Петра I ее стали культивировать… вместе с другими иноземными лекарственными растениями в Полтавской губернии. В XIX веке листья наперстянки импортировались, так как старинные культуры на Полтавщине заглохли…»
«Наперстянка, наперстянка, — произнес подполковник, постукивая по привычке пальцами по столу. — Сердечное лекарство, которое при неправильной дозировке становится смертельным». Чувствовал, что это какая-то ниточка к истине… Но как ее потянуть, чтобы размотать весь клубок…
Отложил учебник в сторону, вскочил с кресла и возбужденно зашагал по тесноватому для него кабинету. Что из того, что наперстянка распространена в английской медицинской практике?
В розыске были обнаружены только материальные следы преступления, которые сами по себе еще не давали ответ на главный вопрос: кто преступник и почему?
Дмитрий Иванович снова подумал, что он не найдет ответа, если будет исследовать только материальные следы преступления; ему до конца нужно проследить духовные обстоятельства события, отражение преступления в сознании людей, в связях и взаимоотношениях в обществе и в самой малой его ячейке — в семье.
Взгляд упал на томик «Прометея», который лежал на краешке стола.
Напряженный мозг подполковника продолжал работать импульсивно. Дмитрий Иванович уже достиг той степени организованности своего ума, когда даже случайные, казалось, посторонние мысли и наблюдения обязательно устремлялись в следственном направлении. И если какая-нибудь из мыслей не укладывалась в это русло, она немедленно выветривалась из памяти. Если бы он был не профессиональным детективом, а инженером, агрономом, слесарем — все равно природная его одаренность проявила бы себя в любой деятельности. То, что постороннему человеку могло показаться открытием, гениальной прозорливостью Коваля, в действительности было лишь логическим завершением длительной напряженной работы его организованного мозга.
Подполковник еще раз подумал, кто из людей, которыми он занимается, захотел бы вернуть к жизни своих родителей…
Олесь?
Да. Унаследование дачи — это не главное в его жизни.
Найда-Воловик?
Безусловно!
Коваль был уверен, что врач много отдал бы, чтобы обнять живого отца, рассказать ему, как страдал и как неожиданно судьба улыбнулась ему.
«А моя Наталка? Захотела бы она моей вечной жизни?» — вдруг появилась у подполковника нелепая мысль, и он улыбнулся: никаких сомнений на этот счет у него не было.
«А женщина из другого мира — Джейн?» Если бы Вильям Томсон возродился, Джейн не получила бы в приданое мастерскую, а значит, Генри не женился бы на ней…
Коваль хорошо знал, что значит для англичанина собственность! И как цепко там держатся за свои деньги.
В мыслях его все крепче начали связываться звенья: сердечное лекарство наперстянка, валерьянка — Борис Сергеевич — попытка отравления Джейн — гибель кота. Место действия: в первом случае — дача… в третьем — та же Русановская дача… А вот Джейн? Тоже дача… или гостиница…
— Или гостиница, — повторил он вслух задумчиво. — В тот вечер, когда ее привезла железнодорожница из лесу…
Дмитрий Иванович почувствовал, что разгадка близка, словно витает над головой, вот-вот ухватит ее, трепетную, прозрачную, светлую…
Дверь в кабинет тихо приоткрылась.
— Дима, будешь с нами чаевничать?
Ружена сразу поняла, что появилась не вовремя.
Он поднял на нее невидящие глаза.
— Я говорю… чай… — слова застревали у Ружены в горле.
— Потом! — крикнул Коваль. — Я занят! — Понимал, что ответил грубо, но не мог сдержаться: легкая, эфемерная, как мечта, разгадка уже вспорхнула, отлетела и растаяла.
Ружена молча притворила дверь…
Эту ночь Дмитрий Иванович снова провел на своем стареньком диване…
9
— Я вам заказал билет… А вот разрешение на выезд.
Коваль спокойно наблюдал, как Джейн вцепилась в документы. Она чуть ли не вырвала их.
— Итак, следствие закончилось? — радостно блеснули ее карие глаза. — И мама может ехать?
— Пока еще нет, — ответил Коваль, — но вы как свидетель уже не нужны.
— Большое спасибо, — произнесла Кэтрин, подойдя к подполковнику, — что вызволили мою бедную девочку из этой кошмарной истории. У нее такое чувствительное сердце, и она так болезненно на все реагирует… Я уж тут как-нибудь сама, если нужно, побуду.
Коваль еле сдержался, чтобы не напомнить миссис Томсон о том, как ее чувствительная девочка хотела лишить честного парня многих лет свободы. Но у него сейчас были причины, чтобы промолчать.
В этот раз Дмитрий Иванович шел в гостиницу с нелегким сердцем. Возможно, его терзали сомнения, вправе ли он так действовать, как задумал. А может, ему стало вдруг жалко Джейн. Так или иначе, но что-то беспокоило его, вызывало боль в душе, несмотря на уверенность, что выводы безошибочны и что идет он исполнять свой служебный и человеческий долг.
Кажется, никогда еще Дмитрию Ивановичу не было так тяжело идти задерживать подозреваемого. Когда ловил вооруженного бандита и пули свистели над головой, было легче. Сегодня же на оживленных, по-летнему прекрасных улицах Киева он то и дело замедлял шаг, вынуждал себя то разглядывать щебечущую детвору у станции метро, то поток автомобилей, несущихся по широкому Крещатику, то вывески магазинов, и несколько кварталов до гостиницы «Днипро», где его ожидал лейтенант Струць, казалось, протянулись на многие километры.
…Джейн торопливо собиралась, уже не обращая внимания на Коваля. Она положила на пол посреди комнаты большой кожаный чемодан и начала набрасывать в него платья, именно набрасывать, комкая их, а не складывая. Хорошенькое личико ее сияло, глаза блестели, на пушке верхней губы бисеринками выступили капельки пота. Прическа разлохматилась, и волосы по-детски смешно болтались во все стороны. Она спешила.
Угнетенное в течение длительного времени настроение ее резко сменилось необычной оживленностью и веселостью. Она то швыряла в чемодан какую-нибудь вещь, то выхватывала ее назад и бросала другую, то вдруг останавливалась, растерянно улыбалась и, вспомнив, что еще нужно взять, бежала к шкафу или туалетному столику.
Но подполковник улавливал в ее глазах еще какие-то лихорадочные огоньки. Из глаз Джейн до сих пор не исчез страх, и этот страх понять мог только Коваль. Возможно, она не до конца еще верила своей удаче, боялась, что в последнюю минуту фортуна вдруг изменит ей и задержит в этой чужой непонятной и неприятной стране. А может, боялась, что без матери не состоится долгожданная помолвка, или беспокоилась о ней, оставляя ее одну, еще не полностью выздоровевшую. Впрочем, о матери разговор отдельный…
Коваль без приглашения сел в кресло — в другой раз он себе этого не позволил бы, боясь, как бы Кэтрин не назвала его мысленно «полицейским хамом», но сейчас ему было не до миссис Томсон, которая опустилась на диван и наблюдала радостно-взволнованную суету дочери, готовая в любой миг броситься на помощь.
Да, она, Кэтрин, вполне обойдется без Джейн, тем более что рядом Таисия и — где-то в глубине души на это надеялась — Андрей. У нее уже не так часто болит сердце, операционный шов зажил, она быстро окрепнет и даже успеет на помолвку. К тому же теперь у нее тут появились и свои личные дела, которыми лучше заниматься без дочери.
Внешне Дмитрий Иванович был спокоен, хотя в душе волновался и злился на Тищенко, который, чувствуя бесперспективность расследования и спасая свое реноме, почти полностью устранился от дела. В случае успеха он сумеет перехватить пироги, а при неудаче отойдет в сторону, и шишки достанутся уголовному розыску. Дмитрий Иванович не хотел пирогов от начальства, но и обидно было подставлять себя под незаслуженные удары, досадовал, что всегда берет на себя большую ответственность, чем положено, временами исполняя работу не только свою, но и следователя.
Посматривая на мать и дочь, подполковник горько думал о том, что сейчас разрушит этот их внешне счастливый мир. Ему было грустно и обидно.
Сколько бы ни видел трагедий Дмитрий Иванович, сколько бы ни открывала жизнь перед его глазами тяжких, кровавых сцен, он не терял веры в человека. Иногда, потрясенный увиденным, он чувствовал, что эта его вера вот-вот рухнет.
Но через некоторое время горечь рассасывалась, таяла, всемогущая жизнь, словно набежавшая чистая волна, омывала душу, и к нему опять возвращалась его неколебимая вера в человека.
Сейчас он обязан был исполнить служебный долг и с какой-то внутренней тревогой, которая омрачала удовлетворение победой, омрачала торжество справедливости, ждал этой минуты.
Не сводя глаз с суетящейся Джейн, сказал:
— Не спешите, мисс Томсон. Успеете. — Это было произнесено с какими-то необычными нотками в голосе, но Джейн не обратила внимания. Она была поглощена своими заботами.
— Да, да, — ответила механически. — А когда самолет?
— Рейс через два часа.
— Ах, мы не заказали такси! — Джейн какую-то секунду растерянно стояла посреди комнаты, потом бросилась к телефону.
Кэтрин поднялась с дивана.
— Ты собирайся. Я закажу сама.
— Не нужно, — остановил ее Коваль. — Я отвезу мисс Томсон на своей машине.
Джейн благодарно улыбнулась. Карие глаза ее пылали таким ясным огнем, что если бы подполковник верил в бога, то подумал бы, что видит перед собой ангельский лик. Но в бога он не верил, а черта мог увидеть в любую минуту. Ему было сейчас известно то, чего не знал никто в мире, — он знал скрытое от двух женщин их будущее, и от этого ему было нелегко.
Ковалю вспомнилось, как утром, проснувшись и собираясь в гостиницу, с болью размышлял о судьбе молодежи «по ту сторону». Мир, в котором выросла Джейн и который впитала в себя, это мир, где деньги — все, а человек — ничто.
Деньги есть деньги. В них и святой человеческий труд, и человеческое зло, все зависит от того, какой стороной их к себе повернуть. Вспомнилось, как маленькая Наталочка спросила: «А почему они круглые?» — «Чтобы быстро катились», — отшутился он тогда.
Дмитрий Иванович за долгую жизнь пришел к выводу, что человека к агрессии подталкивают определенные социальные условия, что агрессивность не запрограммирована от рождения. Люди по природе своей не агрессивны и не миролюбивы, считал он, все зависит от обстоятельств, которые могут изменяться, вызывая те или иные реакции. Воспитывать человека надо с самого раннего детства. И воспитание — это не только внешние влияния на личность. Человек сам должен себя делать человеком и нести за себя полную ответственность. В этом — главное…
Через несколько минут Джейн была готова.
— Ты ничего не забыла? И сразу же дай телеграмму. — Кэтрин ходила по комнате, нервничала, как это бывает в последние минуты перед разлукой с близкими.
Вдруг что-то вспомнив, бросилась в спальню и возвратилась со своей сумочкой. Сев за стол, вынула ручку и чековую книжку.
— А сама вот забыла, — смущенно промолвила, обращаясь больше к Ковалю, чем к Джейн. — Девочка оказалась бы в Лондоне без копейки.
«Там ведь родной брат!» — хотел было сказать подполковник, но сдержался.
— Да ничего, я как-нибудь устроилась бы. — Джейн взяла чек, внимательно прочла и, довольная, прижалась к щеке матери.
Наконец наступила минута прощания. Кэтрин обняла дочь, всхлипнула. Джейн наклонилась к ней как-то боком, словно хотела боднуть головой, и казалось, что она прячет слезы, но Коваль был уверен, что глаза у Джейн сейчас сухие и колючие.
— Я тоже вскоре приеду. Возможно, через неделю. Во всяком случае успею к помолвке… Правда, Дмитрий Иванович? — Миссис Томсон, вытирая платочком глаза, с надеждой взглянула на Коваля. — Обо всем распорядись сама. По-хозяйски! Ты все взяла?..
Зазвонил телефон. Коваль снял трубку.
— Да. Я слушаю. Ждите у подъезда… Моя машина приехала, — объяснил женщинам, отойдя от телефонного столика. — У нас обычай — молча посидеть перед дорогой. Спокойно подумать, не забыли ли что-нибудь. Верно, Катерина Григорьевна? Припоминаете?
Миссис Томсон кивнула. Села рядом с дочерью на диване. Коваль опустился в кресло.
Через несколько секунд Джейн вскочила.
Подполковник не спешил подниматься. Он словно чего-то еще ожидал, еще одного эпизода драмы, ожидал внешне спокойно, только напряженный взгляд говорил, что он волнуется.
Капкан на зверя поставлен, зверь подошел к нему и должен был сейчас всунуть лапу. Но и при самой твердой уверенности в душе остается место для червячка сомнения.
— У вас, кажется, существует еще один обычай: рюмка на посошок, — сказала Джейн.
— О, вы уже успели изучить наши привычки? — изобразил на лице удивление Коваль.
Увидев, как зверь сам лезет в капкан, он потерял последнюю надежду на то, что ошибся в своей сыщицкой догадке.
— У нас тоже есть нечто похожее, — сказала Джейн спокойно.
Однако это было наигранное спокойствие — в глубине души Джейн все же нервничала, и это чувствовалось в поспешных, резких движениях, словно она стремилась побыстрее покончить с делом, которое ее ожидало.
— А время? — произнесла миссис Томсон, взглянув на миниатюрные часики-кулон.
— Мы по-быстрому. У нас есть бутылка шампанского, которое ты так любишь, мама. А вы с нами не откажетесь? — спросила Джейн Коваля. — За мои счастливые взлет и посадку. Или это вам не разрешается по службе?
— Вообще-то не разрешается. Но ради компании, ради вас, Джейн, нарушим правило. С большим удовольствием. — Коваль вздохнул: все шло, как и предвидел, и от этого на душе было не радостно, а, наоборот, грустно и тяжко.
Джейн, поставив шампанское на стол, направилась к буфету за фужерами. Миссис Томсон хотела помочь, но она замахала руками:
— Я сама, ты посиди… В последний раз угощу.
Взяла три фужера, расставила их на круглом столике и попросила Коваля откупорить бутылку.
Когда пробка с громким хлопком вылетела и шампанское, шипя, начало выбегать из бутылки, Джейн схватила фужеры:
— Наливайте!
— Нет, нет, — запротестовал Коваль. — Мое дело — откупорить, а угощать — ваше. Не имею права лишить вас удовольствия «в последний раз», как вы сказали, угостить маму.
Джейн молча взяла из его рук бутылку и начала разливать вино по фужерам.
Коваль следил за ней краем глаза — так смотрят на синичку, которая в холодную зимнюю пору села на открытую форточку, боясь испугать ее и в то же время стараясь не потерять из вида. На какой-то миг Джейн закрыла собой стол и сразу же отошла в сторону.
Все взяли фужеры. Кэтрин уже раскрыла рот, чтобы произнести достойный случаю тост, но Коваль вдруг приказал ей:
— Миссис Томсон, поставьте свой фужер!
Удивленная женщина послушалась.
— Что же это вы, Джейн, подсунули матери самый плохой фужер, с щербинкой? Смотрите, у нас с вами целые, а у матери — надколотый. Хорошо же вы ее угощаете в последний раз! Поменяйтесь…
— Боже мой, какая разница! — махнула рукой Кэтрин.
— Тогда попросим новый бокал у дежурной. Это плохая примета — пить из щербатой посуды.
Миссис Томсон не успела возразить Ковалю, как он сделал два быстрых шага к двери, возле которой на стене были размещены кнопки.
Джейн, ища глазами, куда бы вылить вино, взяла со стола фужер матери. Коваль, все время следивший за ней, бросился назад и успел схватить ее за руку.
— Поставьте фужер!
Джейн старалась вырвать свою руку:
— Кто дал вам право?!
Шампанское выплескивалось на пол. Кэтрин, ничего не понимая, испуганно наблюдала эту сцену.
Дверь отворилась, в номер без стука вошли лейтенант Струць в милицейской форме, дежурная по этажу и еще какая-то женщина.
Джейн совсем обезумела, в глазах ее было что-то жестокое, дикарское. Подполковник свободной рукой отобрал у нее фужер с остатками шампанского.
— Товарищи, — обратился он к Струцю и понятым, — в этом фужере, который подала миссис Томсон ее названая дочь Джейн Томсон, вместе с шампанским содержится отрава. Сейчас мы отправим вино на экспертизу, а вы, лейтенант Струць, тем временем составьте протокол… Первая попытка отравить миссис Томсон на даче, — добавил Коваль, — не удалась — умер Залищук, по жадности выпивший чужое вино… Миссис Томсон не мать Джейн. Джейн это знала и таила в себе, хотя Катерина Григорьевна, то есть Кэтрин Томсон, воспитывала ее и любила как родную… — Коваль перевел дыхание. — Она, — кивнул на Джейн, забившуюся в угол дивана и смотревшую оттуда глазами затравленного зверя, — не могла уехать, не попытавшись еще раз осуществить свой замысел… К счастью, мы вовремя об этом догадались… Отведите, Виктор Кириллович, ее в мою машину… Я обещал Джейн отвезти ее… Отрава действует медленно, и преступница успела бы вылететь домой. А с Англией конвенции о выдаче уголовных преступников у нас нет, — закончил Коваль. — Итак, расследовать ее преступление будем здесь.
— Нет, нет! — отчаянно закричала Джейн. — Я бросила только сердечную таблетку!.. Мама очень волновалась, и я… я…
Миссис Кэтрин упала в кресло, потеряв сознание.
Коваль бросился к телефону, чтобы вызвать «скорую помощь»…
10
Вскоре Дмитрий Иванович разговаривал с Джейн Томсон в своем кабинете в министерстве.
Через несколько часов подполковник должен был встретиться с новым следователем прокуратуры и доложить ему все детали дела. Тищенко освободили от дальнейшего расследования отравления Залищука Бориса Сергеевича и поручили закончить эту работу следователю по особо важным делам прокуратуры республики Спиваку. Так было решено не только из-за неспособности Тищенко разобраться в преступлении и довести дело до логического конца, а еще и потому, что это дело приобрело большое значение.
Дмитрий Иванович знал, что согласно закону его функции — оперативного работника и дознавателя — заканчиваются. Отныне он полностью передает все материалы следователю, а сам займется какими-то другими правонарушителями. Но он не мог не увидеться еще раз с Джейн, не поговорить с ней с глазу на глаз до того, как Спивак возьмет следствие в свои руки.
Синичка, которая неосторожно влетела с мороза в теплый дом и села на форточку, запуталась в сетях, наброшенных им: в аналитической лаборатории эксперты-химики уже получили данные о наличии ядовитого гликозида брионина вместе со смертельной дозой наперстянки в том фужере вина, который Джейн поднесла миссис Томсон, и в изъятых во время обыска сердечных таблетках. Но в ушах подполковника еще стоял отчаянный писк синички; рука, которая держала ее, еще помнила трепещущие крылышки и чувствовала остренькие, хотя и слабые коготки. Все это почему-то тревожило душу, и Коваль хотел лишний раз увериться в своей правоте.
Перед Дмитрием Ивановичем теперь сидела в кабинете не энергичная, самоуверенная девушка, хорошо умевшая скрывать возраст, а осунувшаяся женщина старше своих лет. Джейн словно вся съежилась, сгорбилась, глаза потускнели, на щеках пятнами горел нездоровый румянец. Что-то новое, резкое появилось в ее жестах и взгляде за последний час. Она словно не замечала Коваля и, нахохлившись, отвернулась к окну.
— Джейн, — сказал подполковник, — теперь, когда все карты открыты, я хочу откровенно поговорить с вами.
Она вздрогнула, услышав его голос, но голову не повернула.
— Джейн, вы меня слышите? Ну как хотите… Это для вас последняя возможность… Дальше вами займется следователь.
Джейн повернулась к Ковалю, и погасшие глаза ее вспыхнули злым огнем.
— Ни с вами и ни с каким следователем я не буду говорить без представителя посольства. Я требую немедленного приезда посла или кого-нибудь от него! Я не разрешу издеваться надо мной… — На глазах у нее показались слезы.
— Если вы думаете, что мне очень приятно беседовать с вами, то ошибаетесь, — сердито пробурчал Коваль. — Но я должен еще раз поговорить. И это, кстати, не столько в моих, сколько в ваших интересах… А посольство мы уже известили, и их представитель прибудет… Джейн, вам не хочется спросить, что с мамой… то есть с миссис Томсон? Она жива, только в больнице. Вас, наверное, беспокоит ее здоровье? — не удержался от злой иронии.
— Да! Беспокоит! — закричала Джейн, вскочила, затопала ногами. — Да! Это моя мама, и я ее люблю! И вы не имеете права подозревать меня в гнусном преступлении! Как вам не стыдно!.. — Она разрыдалась, упала на стул.
Коваль понимал, что Джейн нужно выплакаться, и не трогал ее. Она плакала, прижавшись лбом к стеклу на столе, а подполковник терпеливо вышагивал по кабинету.
Когда Джейн успокоилась, Коваль сел напротив и пристально взглянул в ее покрасневшие глаза.
— Должен поставить вас в известность, — нарочито официальным тоном произнес он, — что в вине, которое вы подали матери, была та же отрава, от которой погиб Борис Сергеевич Залищук. Это уже установлено. Таким образом, мы не только подозреваем…
— Я бросила в фужер сердечную таблетку!
— Такую же самую, которую растворили в вине, выпитом в тот трагический вечер на даче?
Джейн кивнула.
— У мамы заболело сердце, а старые таблетки кончились.
— И мама не выпила то вино?
— Я не помню. Я не следила.
— Тот стакан выпил Залищук, когда все вышли в сад. В таблетке, растворенной вами в вине на даче, как и в остальных, была отрава. А в гостинице вы попытались бросить такую таблетку незаметно.
— Пряталась от мамы. Чтобы она не догадалась, что я боюсь за ее сердце. Вы думаете, ей легко отправлять меня одну. Она только вида не подавала! Но вы еще не сказали, как она себя чувствует.
— Более-менее. Возле нее врач. Надеюсь, перенесет этот удар потому, что рядом с ней еще и давний друг — Андрей Воловик… Теперь скажите, где вы купили эти сердечные таблетки, в какой аптеке, по чьему рецепту?
— Ни в какой аптеке, ни по какому рецепту. Я их не покупала. Таблетки мне дал Роберт, когда я летела сюда.
— Ваш брат? Гм…
Джейн умолкла.
Коваль тоже молчал. Они оба словно ухватились за одну и ту же нить, что-то общее появилось в их мыслях.
Еще тогда, на даче, когда, рассказывая о своих детях, миссис Томсон заметила, что Роберт работает в военной химической лаборатории, у Коваля промелькнула мысль: а не имеют ли отношение к смерти Залищука чужеземные гости? Мысль показалась нелепой, и подполковник сразу ее отбросил: что этим англичанам до какого-то пенсионера Залищука, жившего от них за тысячи километров, которого они раньше и в глаза не видели и о существовании которого не подозревали.
Но мысль эта полностью не исчезла и подспудно прорастала в нем, как зерно в ухоженной почве: если Джейн действительно не имела никакого отношения к Залищуку, то этого нельзя сказать о миссис Томсон. Ведь Борис Сергеевич был мужем ее родной сестры. Тут создавались какие-то причинно-следственные связи: Кэтрин — Таисия — Залищук. В этой цепочке все время появлялись новые звенья. Так происходит, когда тянут ведро из колодца: цепь выбирается постепенно, и на свет с каждым рывком показываются новые крепкие соединения.
И опять же — нелепая мысль о далеком Роберте. Молодой англичанин не имел как будто никакого отношения к Залищуку. Но, выходя замуж, Джейн забирала не только половину наследства, а еще и мастерскую, принадлежавшую теперь матери. И поэтому Роберт также включался в цепочку. Теперь здесь появились звенья, которые накрепко сплетались друг с другом: «Роберт — Джейн — Генри», «Джейн — Генри — Роберт», «Роберт — миссис Томсон — Генри» и «миссис Томсон — Роберт — Джейн». И, наконец, прямая связь: «Роберт — Джейн — миссис Томсон — Таисия Григорьевна Притыка — Борис Сергеевич Залищук». Белинский говорил, что вдохновение — это внезапное проникновение в истину. Очевидно, так и произошло в этот раз с подполковником Ковалем.
— А почему Роберт дал таблетки? Где он их взял?
— Его таблетки всегда помогали маме лучше, чем другие… Делал он их сам, в своей лаборатории. Наши фармацевты все жулики и продают под видом лечебных таблеток что попало. Роберт не раз ловил их на этом. Кроме того, аптечные лекарства дорогие, а он приносил свои бесплатно… Но чтобы в них попала отрава?! — Джейн уставилась в Коваля. — Робин… отрава… — начала повторять она все тише и тише, словно взвешивая каждое слово. — Когда я ехала на аэродром, он дал мне эти таблетки, сказав: «Возьми для мамы — ей, наверное, не хватит старой коробки, которую взяла с собой… Я вложил их в фабричную упаковку, чтобы не прицепились на таможне…» Как же в них попала отрава?..
— А может, отраву сам Роберт добавил, — предположил Коваль и, увидев, как при этих словах у Джейн гневом вспыхнули глаза, добавил: — Сознательно или несознательно…
— Нет, нет! — закричала Джейн и стукнула кулачком по столу. — Что вы придумали! Не может быть, чтобы Роб маме… А может, случайно попала?.. — Она на миг задумалась. — Да, да… Ведь он работает в химической лаборатории, и там уйма всяких отрав…
— Как Роберт относится к вашему браку с Генри? — спросил Коваль.
— Нормально. Это ведь он познакомил меня с Генри, своим одноклубником. Правда… потом подшучивал над Генри, говорил, что тот мог сделать лучший выбор… Хотя и Генри не очень молод и не богат… Да и не красавец… Но мне вот-вот тридцать, сколько можно ждать принца?..
— А как Роберт отнесся к поездке миссис Томсон в Советский Союз?
— Сначала отрицательно.
— А к вашей?
— О, тут он почему-то обрадовался… — Джейн вдруг замерла с открытым ртом и округлившимися глазами, словно увидела за спиной Коваля привидение. — Он сказ… ал… — Джейн зарыдала, — пре… красно, повезешь маме лекарство…
— Таблетки, которые дал Роберт, похожи на те, которые прежде были у миссис Томсон? Как он раньше приносил? В упаковке?
— В стек… лянной баночке…
— А вы сами никогда не пользовались этими таблетками?
Джейн перестала плакать.
— Я… я… не знала, что они… ядовиты… и тоже приняла…
— В Англии или здесь?
— Здесь, — прикрыв глаза и держа голову словно лунатик, идущий по обрывистому карнизу крыши, вспомнила Джейн. — Но я ведь не умерла! — вдруг вскрикнула на всю комнату.
— Не в тот ли вечер, когда вернулись из лесу?
— Да. Именно в тот. Я была очень взволнована, у меня разболелось сердце, и я решила принять лекарство. Но я только кусочек отломила… может, третью часть таблетки…
— Поэтому и остались живы и все обошлось промыванием желудка.
— А от целой я могла умереть?
— Точно так же, как бедняга Борис Сергеевич.
— Боже, какой мерзавец этот Роберт, какой бандит!.. — закричала Джейн, словно только сейчас все поняла. — Я давно знала, что он негодяй, знала, что якшается со всякой падалью, но Кэт всегда покрывала его, своего любимчика… А он, видите, хотел и меня отравить! Какой бандит!
Коваль отметил про себя, что Джейн впервые назвала миссис Томсон не мамой, а по имени.
— Я его сейчас своими руками задушила бы! — Гримаса ненависти исказила хорошенькое, мокрое от слез лицо Джейн. — Своими руками! — Не имея сил сдержать чувства, бушевавшие в ней, Джейн так сжала кулачки, что острые крашеные ноготки, наверное, впились в ладони. — Негодяй, какой негодяй!..
Коваль взглянул на часы. До встречи со Спиваком оставался час. Главное он уже для себя выяснил. К сожалению, в беседе с Джейн не освободил душу от тяжести. Наоборот, тот камень, казалось, стал еще тяжелее. Но в конце концов решать, умышленными или неумышленными были действия мисс Джейн Томсон и заслуживает ли она наказания, будут прокуратура и суд. Он, Коваль, свое сделал.
— Джейн, скажите еще одно, — произнес подполковник, — вы не жалеете, что чуть не посадили Виктора на много лет в тюрьму?
Джейн не сразу ответила. Ей было не до Струця.
— Я хотела вырваться домой! — наконец бросила Ковалю, лишь бы тот отстал от нее. — Ах, какой мерзавец, какой бандит! — продолжала проклинать Роберта.
— И надеялись, что шантаж вам поможет? В начале нашей беседы вы мне бросили фразу: «Как вам не стыдно!» Теперь возвращаю эти слова вам. Как бы ни закончились ваши дела в суде, но мне всегда будет стыдно за вас, Джейн, за то, что по земле ходят такие люди, как вы и ваш брат.
Коваль вызвал машину, чтобы отвезти Джейн в гостиницу, а сам собрался в прокуратуру. Какую меру пресечения следует применить к мисс Томсон, должны были решить следователь и прокурор.
* * *
В прокуратуре Дмитрий Иванович пробыл недолго. Новый следователь с самого утра забрал у Тищенко подшивку с материалами дела о смерти Залищука и к тому времени, когда подполковник появился, внимательно с ними ознакомился.
Раньше работать со Спиваком Ковалю не приходилось, но он много слышал о нем как о человеке принципиальном, преданном своей нелегкой работе. Теперь, приглядываясь к этому высокому худощавому молодому человеку, Дмитрий Иванович понял, что следователь привлекает своей скромностью и интеллигентностью, и не удивился, когда у того оказался тихий, мягкий голос, казалось лишенный категорических интонаций.
После того как подполковник дополнил документы своим рассказом, Спивак поднялся из-за стола и сказал:
— Ну что ж, Дмитрий Иванович, благодарю. Теперь пора и лично познакомиться с этой Джейн Томсон. Вас не подбросить по дороге?
Коваль согласился. Трудовой день заканчивался, и хотя у оперативного сотрудника служба не определяется часами, сегодня Дмитрий Иванович мог разрешить себе ровно в шесть сбросить с плеч груз ответственности. На улице разыгрался ветер, угрожая бурей, и воспользоваться машиной прокуратуры было удобно.
Спивак сел рядом с Ковалем на заднее сиденье служебной «Волги».
— Дмитрий Иванович, — сказал он, — мне еще такая деталь непонятна: на даче миссис Томсон стало плохо, Джейн опустила сердечную таблетку в стакан с вином, которое выпил вместо ее матери покойный Залищук. А миссис Томсон что же, обошлась без лекарства? Или Джейн дала ей еще одну таблетку? И почему надо было растворять ее, а не принимать, как обычно, запивая?
— Меня это тоже заинтересовало в свое время, Петр Яковлевич. Беседовал по этому поводу с Таисией Притыкой. «Да, — ответила она мне, — Катенька пригубила вино. Из какого стакана, не знаю». — «Ей стало лучше?» — спрашивал дальше. «Нет… Тогда я дала ей валерьянку и сказала: «Что там ваши лекарства! Выпей моей простой валерьянки». Она выпила, и сердце отпустило. Одним помогают одни лекарства, другим — другие…» Этот пузырек валерьянки я забрал у Притыки и отправил на анализ. Обычное патентованное лекарство. Экспертное заключение в подшивке.
— Не видел.
— Возможно, Степан Андреевич посчитал его несущественным и не подшил. Тем более что эта экспертиза не была обязательной. Я ее потребовал на свой страх и риск. Проверить валерьянку натолкнул факт гибели в тот же вечер кота Бонифация. Кошки, Петр Яковлевич, как известно, дуреют, услышав запах валерьянки, и заберутся за ней куда угодно. А в стакане, выпитом Залищуком, оставались какие-то капли вина с легким запахом валерьянки, достаточным, очевидно, чтобы заинтересовать этого Бонифация. Кот прыгнул на стол, опрокинул стакан и вылизал пролитые капельки. Для него и этого хватило.
Коваль умолк.
Проехав почти через весь старый город, прокурорская «Волга» проскочила в зеленый гористый район Киева, который когда-то назывался Лукьяновкой.
— Я вас к дому подвезу, — любезно предложил Спивак. Его, очевидно, еще что-то мучило, какие-то невыясненные вопросы, сомнения, и он делал приличный крюк, оттягивая минуту расставания с подполковником.
Возле большого парка, где проходила детская железная дорога, недалеко от домика Коваля, машина остановилась. Когда подполковник вышел, «Волга» не двинулась дальше. Следом за Дмитрием Ивановичем из машины выбрался и Спивак. Он подошел к подполковнику, взял его под руку.
— Дмитрий Иванович, если не спешите, походим еще несколько минут.
Коваль понял коллегу. У того, как у каждого творческого человека, размышления о деле рождали все новые идеи и вопросы, и ему хотелось их проверить.
Они прохаживались по узкой асфальтированной дорожке, убегавшей мимо высоких тополей в густую зелень кустов, пустынную даже днем, и негромко беседовали.
— Квалификация? — переспросил Коваль. — О, здесь нашим юристам будет над чем поломать голову!
— По отношению к Залищуку все просто, — сказал Спивак. — Неумышленное убийство.
— Но ведь не в его стакан бросила Джейн отраву. Можно квалифицировать и как несчастный случай.
— А стаканы ведь не именные были. Каждый мог выпить из любого.
— Нет, у каждого был свой стакан.
— Но посягательство на жизнь вы, Дмитрий Иванович, отрицать не будете. Со стороны Джейн Томсон. Тут уже действует определенная закономерность. Когда яд растворен в стакане или в другой посудине, он убивает. Если не мать, то другого человека, в данном случае Залищука. Пусть по отношению к Залищуку это неумышленное преступление, но касательно матери — посягательство на жизнь, не состоявшееся по причинам, независимым от посягавшего. Ведь покушение было повторено в гостинице, и преступление не свершилось снова только благодаря тому, что вы помешали.
— А если это не умышленное действие, Петр Яковлевич? Если окажется, что Джейн действительно не знала, что таблетки, которые передал ей Роберт, ядовиты? В таком случае она только неосознанное орудие преступления… На таком же основании можно предъявить обвинение ножу за то, что его всадили в сердце человека…
— Э, нет, Дмитрий Иванович… — начал было следователь и умолк.
Ветер крепчал, прорываясь сквозь стену деревьев, легко лохматил поредевшие волосы подполковника, запутывался в густой черной шевелюре Спивака. Гудел листвой под ударами ветра старый парк, где-то за зеленой стеной пролетали с шумом машины.
— А как это можно установить, Дмитрий Иванович? — уже менее решительно спросил Спивак. — Чем подозреваемая может доказать, что виновата не она, а ее брат Роберт?
— Мы сами должны доказать вину подозреваемой, а не требовать этого от нее. Ведь бремя доказательства всегда лежит на нас.
— Это уже доказано, Дмитрий Иванович, и именно вами.
— У меня есть возражения, — заметил Коваль. — Я не считаю, что все доказано.
— Какие же у вас возражения?
— Их еще необходимо продумать, — уклончиво ответил подполковник. Ему почему-то не хотелось сразу раскрывать все карты. Дело Залищука было его делом; в течение нескольких дней, полных волнения, он выносил его под сердцем, как мать ребенка, и хотя полностью доверял Спиваку, но так же, как мать, отдающая ребенка в садик, в душе не разлучается с ним, так и он не мог еще расстаться с этим делом.
Спивак вздохнул так, что подполковнику стало неудобно.
— Прежде всего то, — сказал Коваль, — что сама Джейн чуть не отравилась. Это первый факт в ее пользу.
— Она приняла настолько мизерную дозу, что это могло быть хитрейшей маскировкой на случай провала. Неужели вы, Дмитрий Иванович, извините, клюнули на эту приманку? — улыбнулся Спивак.
— Нет, Петр Яковлевич, — покачал головой Коваль. — Имею в виду другое, хотя и это, как говорится, пойдет в борщ. Здесь мог иметь место истинно дьявольский замысел, который созрел в голове Роберта… Сейчас «по ту сторону» среди определенной части молодых людей очень распространился вандализм. Некоторые данные о Роберте свидетельствуют, что ему не чужды такие влияния… Я, Петр Яковлевич, сегодня снова побывал в аналитической лаборатории. Как вам уже известно, в таблетках кроме брионина и валерьянки обнаружили наперстянку, дигиталис. Наперстянка принадлежит к интракардиальным сердечным лекарствам. Ее препараты применяются при недостаточности сердечно-сосудистой системы у человека. Но она имеет одну особенность: при правильном дозировании помогает, при слишком большой дозе разрушает сердце. Особенно поражает человека, страдающего гипертонией, стенокардией. Эта болезнь была у Бориса Сергеевича, она терзает сейчас и Кэтрин Томсон. Таким образом, для отравления матери Роберту достаточно было увеличить в таблетках дозу наперстянки, и никакой эксперт не обнаружил бы преступления. В судебной практике очень редко встречаются такие убийства. Известен только случай врача-гомеопата Ля Поммера, который в 1863 году в Париже отравил дигиталисом женщину с целью завладеть ее богатством… Нет, и это не все, — продолжал Коваль, — преступник в таком случае не достиг бы своей цели… Допустим, отравилась бы и умерла Кэтрин Томсон. Что из этого? Джейн поплакала бы, похоронила мать и возвратилась бы в Англию. Половину наследства Роберту все равно пришлось бы отдавать сестре… Теперь я начинаю склоняться к мысли, что преступнику нужно было убрать их обеих, и он, повторяю, с дьявольской хитростью использовал поездку Джейн сюда, к матери. Рассуждал, думаю, очень просто и довольно точно. Смерть матери потрясет Джейн. У нее, конечно, разболится сердце, и она примет таблетку брата — самую лучшую! — которая, кстати, будет под рукой.
— Ну, а если Джейн не приняла бы таблетку, не умерла бы?
— Рассчитал, что все равно за отравление Кэтрин ее здесь будут судить…
— А для чего добавил еще и брионин? Ведь достаточно было, как вы говорите, одной наперстянки.
— Специально. Чтобы эксперты не ошиблись и сразу обнаружили преступное отравление и мы не выпустили бы Джейн. Он понимал, что смерть Кэтрин не пройдет незамеченной, и решил, так сказать, «помочь» нашему правосудию найти убийцу. Вот для этого и добавил в таблетки лишний ядовитый компонент — брионин, переступень.
— Да-а, — задумчиво произнес следователь. — Интересно настолько, что хочется еще раз изучить эту версию.
— Петр Яковлевич, это пока не доказано, это только мои логические выкладки. Вы с ними можете считаться или не считаться, но знать их должны.
— Благодарю, большое спасибо, Дмитрий Иванович. И еще такая мысль: брионин, переступень в сердечных таблетках ведь разоблачает его, этого Роберта. Как же он не побоялся?
— А чего ему бояться? Согласно традиционным правилам юриспруденции, в частности принципа территориальности, как вы знаете, преступник должен быть судим и отбывать наказание в государстве, в котором совершил преступление, если, конечно, он не успел удрать на свою родину. С Англией у нас нет конвенции о передаче уголовных преступников для расследования и наказания, так называемой экстрадиции. Таким образом, заниматься им мы не смогли бы. А в Англии его судить никто не будет… Играя на смерти матери и сестры, этот негодяй еще и политический скандал поднял бы. Вместе со своими друзьями, кажется весьма правых настроений, кричал бы: мол, поехала в гости через тридцать лет уроженка Украины, бывшая немецкая пленница, которая не возвратилась домой после войны, так ей теперь, подданной королевы Великобритании, коммунисты отомстили, отравили вместе с дочерью и тому подобное. И проливал бы крокодильи слезы… Он все это предусмотрел!.. Очень не просто, — вздохнул Коваль, — доказать, что Роберт дал сестре ядовитые таблетки и она не догадывалась об этом. В таком случае, оставаясь преступницей, пусть даже действуя без умысла, она и сама становится жертвой предумышленного преступления Роберта…
— Да, тут действительно есть над чем голову поломать… — согласился следователь. Он крепко пожал руку подполковнику. — Еще раз спасибо за помощь. При необходимости, я надеюсь, не откажете и в будущем… Хотя свои обязанности вы уже выполнили…
Коваль кивнул. Он вдруг почувствовал себя таким уставшим, словно воз дров нарубил. Не мог и шага сделать. Придерживая рукой взлохмаченные волосы, глядел вслед «Волге», пока она не исчезла за поворотом.
Уже второй день над городом собиралась гроза. Голубое в начале дня, небо постепенно покрывалось тучками и тучами, которые росли, чернели и становились все грознее. Ветер, с утра слабый, после полудня усиливался, расшвыривал тучи, и тогда небо снова испепеляло землю нестерпимым зноем.
Но сегодня дождь наконец должен был прорваться и освежить задыхающийся город.
Дмитрию Ивановичу тоже было душно, и он с нетерпением ждал этого дождя. Сейчас, преодолев минутную слабость, он медленно, словно человек после болезни, направился по асфальтированной дорожке вдоль ограды. Плечи, с которых сбросил груз, еще не привыкли к облегчению. Всю свою сознательную жизнь он занимался чужими проблемами, которые постепенно становились его собственными, успокаивал чужую боль, которая потом еще долго отдавалась в его сердце.
На углу одиноко скрипел под ветром старый ясень.
Коваль с удовольствием подумал, что ему сегодня уже не нужно никуда бежать, никого ловить и допрашивать, что он сейчас придет домой, наденет пижаму и сможет хотя бы на время забыть о всяких трагедиях, превратиться в обыкновенного служащего, который после рабочего дня любит почитать газеты и отдохнуть у телевизора…
Ирпень — Киев
1978–1979