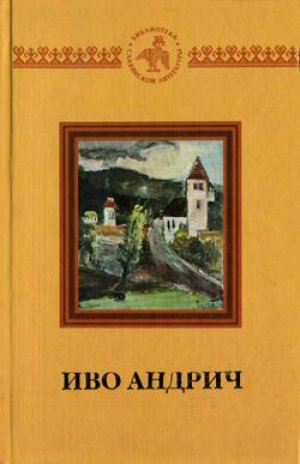
Джерзелез на постоялом дворе
На постоялом дворе, возле здания вышеградской таможни, мало-помалу набралось довольно много народу. Притоки Дрины поднялись и размыли в нескольких местах дорогу на Прибой, снесли деревянный мост. Теперь плотники наводили мост, поденщики и арестанты чинили дорогу. Все, кто шел или ехал из Сараева на восток, останавливались на постоялом дворе у таможни и ждали, пока хоть немного поправят дорогу.
Огромный старый постоялый двор в форме прямоугольника был битком набит и гудел как пчелиный улей. Маленькие, тесные, словно ячейки в сотах, каморки выходили на узкую и шаткую галерею, то и дело жалобно поскрипывавшую под тяжестью шагов. Постоялый двор провонял конюшнями и бараниной: каждый день здесь резали баранов, а шкуры сушили, развешивая их по стенам.
Народ застрял тут пестрый. Суляга Диздар с тремя податными, ехавший по делам службы. Два католических монаха-францисканца из Крешева[1], направлявшиеся в Стамбул с какой-то жалобой. Грек-монах. Три венецианца из Сараева с молодой красивой женщиной; говорили, что это посланники из Венеции, которые добираются до Порты сушей. Сараевский паша дал им грамоту и стражника для охраны. Держались они обособленно, с достоинством, но выглядели подозрительно. Серб, торговец из Плеваля, с сыном – долговязым молчаливым парнем с нездоровым румянцем на щеках. Два торговца из Ливно со своими возчиками. Какие-то беги из Посавины: бледнолицый воспитанник стамбульской, военной школы с дядюшкой. Три албанца-салебджии. Торговец ножами из Фочи. Какой-то извращенный тип, который назвался ходжой из Бихача и который на самом деле, кажется, просто шатался по свету, влекомый смутными и страшными инстинктами. Араб, торгующий снадобьями и талисманами, украшениями из кораллов и перстнями, на которых он сам вырезает инициалы. И целая толпа возчиков, барышников, перекупщиков и цыган.
Кроме того, в кофейне целыми днями торчала местная молодежь, богатые и праздные турки. То и дело раздавались шутки, хохот, хлопанье в ладоши, звуки бубна, домры или зурны, стук костей, визг, крик и смех похотливой, досужей публики. Монахи совсем не показывались из своей комнаты, а венецианцы лишь изредка выходили на прогулку, да и то все вместе.
Одним из последних прибыл на постоялый двор Джерзелез. Песня опережала его. Он ехал на белом иноходце, красные кисточки стегали коня по налитым кровью глазам, длинные, шитые золотом рукава сверкали, развеваясь на ветру. На постоялом дворе его встретило молчание, исполненное восхищения и почтительного уважения. У него была слава победителя многих поединков, сила его приводила в трепет. Все знали о нем, но мало кто видел, потому что молодость свою он провел на коне между Травником[2] и Стамбулом.
Гости кинулись к воротам. Слуги приняли коня. Джерзелез спрыгнул на землю, и тут все увидели, что он мал ростом, приземист, неуклюж и ходит раскорякой, как все люди, которые не привыкли ходить пешком. Руки у него были несоразмерно длинные. Сердито и неразборчиво буркнув приветствие, он вошел в дом.
Лишь только Джерзелез сошел с коня, служившего ему как бы пьедесталом, страх и уважение у встречавших словно рукой сняло. Почувствовав себя с ним на равной ноге, постояльцы без стеснения подходили к нему и заговаривали. Джерзелез охотно отвечал, коверкая слова на албанский лад: ведь много лет он околачивался возле Скопле и Печи[3]. Как это часто бывает с людьми дела, он не был искушен в разговоре. Не находя нужного слова, замолкал, отчаянно жестикулируя своими длинными руками и вращая черными, как у куницы, глазами, в которых почти нельзя было различить зрачков.
Прошло несколько дней, и волшебный ореол вокруг Джерзелеза совсем развеялся. Постояльцы так и льнули к нему, тая неосознанное желание сравниться с ним, а может быть, даже и подчинить своей воле. И Джерзелез с ними пил, ел, пел и играл в кости.
На другой день после приезда Джерзелез увидел венецианку, проходившую мимо него со своей свитой. Он кашлянул, хлопнул себя по колену и дважды громко крикнул ей вслед:
– Аман![4]
Джерзелез загорелся. Он не мог усидеть на месте от одной мысли, как бы захрустели эти нежные косточки в его руках. Близость нежной и красивой женщины заставляла его страдать. Джерзелез влюбился и, разумеется, стал смешон. Постояльцы – как приличные люди, так и проходимцы – сразу же воспользовались его слабостью. Ему давали бесконечные советы, отговаривали, уговаривали, поддразнивали, а он лишь блаженно разводил руками, и глаза его сверкали.
Тут как раз случилось приехать известному на всю Боснию певцу из Рогатицы Богдану Цинцарину. Первой же песней он заворожил весь двор. Даже монахи, прильнув к окну, жадно слушали певца, а Джерзелез совсем потерял рассудок. Он сидит за столом среди гостей, весь потный, без пояса; перед ним сыр и ракия. Гости приходят и уходят, а он все пьет, заказывает и что-то фальшиво напевает своим низким, рычащим басом. Насмешники издеваются над ним уже открыто. Богдан Цинцарин, молодой, рано поседевший мужчина, вскидывает голову (верхняя губа его чуть вздрагивает) и поет. Он поет, а Джерзелезу кажется, что из него душу вытягивают и он вот-вот умрет не то от избытка сил, не то от истомляющей слабости. Балагур-фочанец, подсев к Джерзелезу, подшучивает над ним, и все покатываются с хохоту. А тот глядит на плута, блаженно выкатив глаза, обнимает его и целует в плечо, пока тот плетет ему что-то о прекрасной венецианке. Джерзелез порывается вскочить, отнять ее у кого-то, привести сюда и усадить рядом с собой. Хозяин постоялого двора уже опасается скандала, но фочанец, нагло улыбаясь, останавливает Джерзелеза:
– Стой, брат, куда ты? Это тебе не трактирщица и не шлюха сараевская, а знатная госпожа!
Джерзелез, как малое дитя, покорно садится на место и снова поет, курит, пьет и платит за всех. А слуга строит ему за спиной рожи.
Два дня кутил Джерзелез с гостями, звал венецианку, громко вздыхал и, заикаясь, невнятно и смешно рассказывал о своей любви. Гости трепали его по плечу, придумывали разные поручения от прекрасной венецианки, а он, принимая все за чистую монету, тут же вскакивал, чтобы бежать к ней, но фочанец, полностью подчинивший его себе, останавливал и усаживал Джерзелеза на место, давая при этом всевозможные советы и дурачась так, что дом дрожал от смеха.
На исходе третьего дня фочанец с Джерзелезом вдруг ни с того ни с сего заспорили, как это случается среди собутыльников.
– А что, если она вдруг станет моей? – спрашивал фочанец с наигранно серьезным видом.
– Не бывать этому, джанум![5] – орал Джерзелез, и лицо его сияло от восторга при одной мысли о том, что прекрасную венецианку хотят отнять и он сможет за нее биться.
– Бог мой, кто первым придет, тому она и достанется, – вставляет кто-то.
– Крылья нужны, крылья! – горланит Джерзелез, больше объясняя руками, чем словами.
– А вы бегите наперегонки; подвесим яблоко – кто раньше добежит, тому девушка и достанется, – советует им какой-то проезжий из Мостара[6].
Словом, комедию разыграли как по нотам.
Джерзелез сразу же вскочил, распрямился, повел плечами, как бы готовясь к бою, бегу или метанию камней. Он не сознавал больше ни что делает, ни для чего делает, ликуя, что пришел наконец час показать силу.
Вышли на лужайку перед домом. К столбу для качелей подвесили сморщенное красное яблоко. Все высыпали смотреть. Одни, громко смеясь и подталкивая друг друга, столпились возле соперников, которые стоят перед натянутой веревкой, другие расположились подальше. Фочанец засучивает рукава, вызывая новый взрыв хохота, а Джерзелез расстегнулся и повязал голову платком и выглядит от этого еще ниже и кряжистее. Одни ставят на Джерзелеза, другие – на фочанца. Вот мостарец дал знак, веревка оборвалась – и бегуны помчались.
Джерзелез бежит так, словно у него крылья за спиной, а фочанец, сделав два-три шага, остановился и затоптался на месте, как поступают взрослые, когда делают вид, что хотят догнать ребенка. Джерзелез летит, почти не касаясь земли, фочанец хлопает в ладоши, а толпа шумит, визжит, галдит и тоже хлопает в ладоши, надрываясь от хохота:
– Эй, Джерзелез!
– Браво, осел!
– Быстрее, сокол!
– Живей, ослище!
Чем дальше Джерзелез, тем он кажется все короче, словно ноги втягиваются в туловище. Распирает его бешеная сила, он наслаждается и этим сумасшедшим бегом, и свежим ветром, и мягкой травой под ногами. За спиной ему слышится топот противника, и это еще больше подзадоривает его. Добежав до столба, Джерзелез тянется за яблоком, но насмешники нарочно повесили его слишком высоко, он подпрыгивает и обрывает яблоко вместе с веревкой.
Зрители неистовствуют. Одни смахивают слезы, другие катаются по земле от смеха. Тучный бег из Посавины держится руками за живот и громко отдувается. А сухопарый надменный Диздар-ага так и замер в воротах и смеется беззубым ртом.
Джерзелез постоял минуту с яблоком в руках, потом обернулся, увидел, что фочанца нет, и внимательно оглядел толпу, словно издали ему было легче понять ее. Выражение его лица трудно было уловить, но, должно быть, взгляд его был страшен, потому что шутники вдруг поняли, что пересолили. Расстояние, отделявшее Джерзелеза от толпы, как бы вернуло ему то, что он потерял, окунувшись в нее. Мысль о том, что он стоит лишь в трехстах шагах от них и сейчас подойдет, мрачный и грузный, мгновенно привела всех в чувство, и даже самых бесшабашных обуял страх. Не было сомнений в том, что Джерзелез взбешен и что-то замышляет. Первым исчез со двора мостарец, а затем один за другим разбрелись по комнатам и остальные. Кое-кто скрылся за домом в орешнике.
Когда Джерзелез подошел, на лужайке уже не было ни души. На траве белел чей-то оброненный в спешке и страхе платок. Это безлюдье вконец разозлило его.
Задыхаясь от гнева и недоумевая, Джерзелез все глядел и глядел своими раскосыми глазами на ворота, за которыми скрылись гости. В его крепком, тесном черепе словно бы начало проясняться. Над ним зло подшутили! Эта мысль ожгла его, словно пламя. Его вдруг охватило бешеное желание тут же бежать к венецианке, увидеть ее, обладать ею, узнать, может ли он надеяться, а не то сокрушить все вокруг. Покачиваясь от усталости и размахивая руками, он побежал к дому, и, когда, поравнявшись с воротами, взглянул на лестницу, его затуманенному взору вдруг явились пышное зеленое платье и белая шаль. Он чуть не застонал от неожиданности и, как был, полураздетый и взбудораженный, протянув руки, в два прыжка оказался возле нее. Но зеленое платье плавно качнулось и исчезло. Дверь в комнату захлопнулась, послышался скрежет поворачиваемого ключа.
Джерзелез, могучий, как сама земля, страшный, как грозовая туча, на мгновение замер и стоял так, понурив голову и опустив руки, от него так и веяло жаром и мужской силой. Он не знал, на ком бы выместить свою обиду и гнев. Потом он обернулся, и заезжий двор огласила ругань. Какой-то мальчишка, не знавший, что произошло, и потому не спрятавшийся, уронил медный кувшин и забился под оттоманку, откуда выглядывали его босые, покрытые цыпками ноги. Слышно было только, как в конюшнях ржут лошади, все остальное словно вымерло. Вокруг никого не было, даже кошки скрылись. Все живое попряталось и оцепенело в страхе и ужасе. Эта тишина еще больше раздражила и возмутила Джерзелеза. Он снова бросился к дверям, но все они, точно их вдруг околдовали, были заперты.
Не помня себя от гнева, Джерзелез стал седлать коня и собирать торбы. Приготовившись, он обвел взглядом двор, словно еще раз хотел убедиться, что никого нет. Потом рванул поводья, вывел из конюшни взыгравшего коня и вскочил в седло с колоды для рубки мяса. Конь взвился. Зазвенели серебряные бляхи и оружие. Гнев Джерзелеза улегся, он сплюнул и выехал со двора. Словно во сне, мчался он по той же самой лужайке, где так недавно бежал на потеху толпе. Отъехав немного, Джерзелез невольно бросил взгляд на угловое окно. При виде этого окна, закрытого, холодного и загадочного, как взгляд женщины и человеческое сердце, в душе его с новой силой поднялись уже забытые было гнев и боль. В безумном желании убить или оскорбить кого-нибудь протянул он свою волосатую руку в сторону окна, потрясая кулаком и как бы посылая проклятие:
– Сука, сука!
Голос его был глухим от злости.
Он ехал рысью напрямик, не разбирая пути. Хотел бы он видеть снесенные мосты и разбитые дороги, по которым бы он не мог проехать!
Позади него остался постоялый двор, все еще в подавленном молчании.
Джерзелез в пути
На Уваце, перескакивая через речку, Джерзелез сбил ноги коню. Все лошадники и лихие прибойские наездники выхаживали его, как могли: прикладывали к копытам свежий навоз, обмывали мочой мальчика, а Джерзелез молча нагибался, осматривал копыта и не смел глянуть в глаза коню. Тому, кто вылечит скакуна и вернет ему прежний бег, он обещал целую меджидию.
Он стал неразговорчив, беспокоен и, что с ним случалось редко, совсем не мог есть. После Вышеграда[7] потерял всякий интерес к еде. За столом все время курил, от одной мысли о еде его чуть не тошнило.
На другой день вечером Джерзелез вышел из кофейни, осмотрел коня и, убедившись, что дело идет на поправку, по тропинке направился к дороге. Ночь была звездная, темная и холодная. Долго бродил он в темноте без всякой цели. Уже на обратном пути встретился ему согбенный монах, который, может быть, горбился нарочно, чтоб старше выглядеть.
– Эй, поп, ты здешний?
– Нет, дорогой бег, я только ночую здесь, – смиренно ответил монах, – совсем его не радовала встреча с турком, да еще в такое позднее время.
Джерзелез вдруг шагнул вперед и, сам удивляясь тому, что разговаривает с монахом, спросил:
– Скажи, поп, как написано в ваших книгах: допускает ли ваш закон девушке вашей веры полюбить турка?
Монах оторопел, съежился, втянул голову в плечи, но, увидев, что турок и в самом деле чем-то озабочен, осмелел и разразился целой проповедью:
– Люди разной веры – как цветы в поле, они созданы по воле господа и по его разумению. Стало быть, так и нужно, и каждый должен молиться богу по своему закону и любить и брать в жены девушку своей веры.
Как и всегда, пока Джерзелез слушал, чужие слова казались ему убедительными. Подавленный, ни о чем не думая, он шагал молча. Потом вдруг, обернувшись к монаху, спросил таким тоном, будто тот был в том повинен:
– Скажи, почему ваши женщины ходят с открытыми лицами?
– Такой уж у нас обычай. А впрочем, кто их там разберет, этих женщин. У нас, монахов, нет жен, и мы этого не знаем.
– Гм!
Еще мгновение Джерзелез смотрел на него, а затем холодно отвернулся и зашагал быстрее. В ночной тишине слышно было, как поскрипывают его кожаный пояс и гетры. А монах затрусил за ним мелкой рысцой. Дойдя до постоялого двора и ступив на лестницу, Джерзелез еще раз обернулся:
– Спокойной ночи!
– Да хранит тебя господь, эфенди. Будь счастлив! – сказал монах и скрылся в темноте.
На рассвете Джерзелеза разбудили голоса, смех и песни. Это цыганки, умываясь у ручья, брызгались водой, визжали и колотили друг друга ветками вербы. Был Юрьев день.
В кофейне Джерзелез застал братьев Моричей[8].
Отец их, старый сараевец, известный своим богатством и набожностью, умер на пути в Мекку. А сыновья, щеголи и моты, наглые, без стыда и совести, пользовались дурной славой.
Младший когда-то учился в стамбульском медресе, но, лишь только умер отец, сбежал оттуда и вместе с братом предался гульбе и распутству, что не мешало ему носить белую чалму. Несмотря на дикие попойки, лицо его оставалось безбородым и румяным, с пухлыми губами, как у избалованного ребенка, и только зеленые глаза, нагло глядевшие из-под отекших век, говорили о его возрасте. Старший брат, высокий, бледный, с густыми черными усами и огромными глазами, отливающими золотом, слыл когда-то самым красивым парнем в Сараево. Теперь лицо его было холодно и безжизненно; он заживо гнил от дурной болезни, но никто, кроме цирюльника с Бистрика[9], не знал лекарства, чтоб его вылечить. Цирюльник пользовал его травами и снадобьями и не желал никому открыть секрет их приготовления. В последнее время братья не смели показаться в Сараево. Они знали, что, в ответ на жалобы об их бесчинствах и художествах, из Стамбула пришел наконец приказ арестовать и казнить обоих, и Моричей повсюду искали стражники. Моричи были накануне разорения. Крестьян они давно распродали, оставался у них лишь большой постоялый двор на Вароше и знаменитый отцовский дом в Ковачах. В этом доме жили их старая мать и единственная сестра – горбатая и болезненная девушка.
Справившись о здоровье друг друга (Джерзелез и Моричи были старыми знакомыми), они начали пить. Братья сразу же заметили в Джерзелезе перемену и стали подшучивать над ним:
– Что с тобой, Джерзелез, отчего ты такой мрачный? Да ты никак постарел!
– Даринка из Плеваля привет тебе передает, говорит, как ты уехал, – одна спит.
Джерзелез молчал. Старший Морич говорил чуть грустным, добродушным тоном опустившегося человека, дружески и доверительно. А младший только улыбался.
– Видно, несчастье с тобой приключилось, – беззвучно и коротко смеялся старший Морич.
Джерзелез только смотрел на них. Он уже почти успокоился, боль притупилась, гнев улегся, лишь на душе было тяжело. Братья кажутся ему детьми, наивными и глупыми, как, впрочем, и все, кто не видел тонкой венецианки в пышном платье из зеленого бархата, с маленькой головкой над отороченным мехом воротником. Он молчал. Братья уговаривали его отправиться после полудня к цыганам. Он отнекивался. Лишь после обеда, почувствовав скуку, уступил.
На вершине холма, там, где зеленеет лужайка, окаймленная с трех сторон высокими редкими соснами, раскинулся цыганский табор. Горели костры, слышались звуки бубна, дудок и домры. Танцевали коло. Переливаясь на солнце, полыхали огнем яркие цыганские одежды. Пили, ели, смеялись, с хохотом носились по лужайке, валялись на траве и без умолку пели.
Джерзелез и Моричи сидели у костра вместе с какими-то людьми из Прибоя. Пили ракию, Джерзелезу она показалась кислой. Но потчевали его радушно, да и день был теплый, ясный, пилось хорошо, и, опрокидывая чарку, он видел, как покачиваются в весеннем небе верхушки темных сосен.
– Услышал я, что ты здесь, джанум, – лавку на замок и скорей сюда, – говорил ему бакалейщик из Прибоя. – Дай, думаю, взгляну на него… – Громкая музыка и смех прервали его на полуслове: на качели взобралась Земка, стройная, зеленоглазая и, в отличие от своих соплеменниц, белолицая цыганка.
Говорили, что была она за тремя мужьями, и ни один не смог ее обуздать.
Качели, привязанные к стволу дикой груши и подталкиваемые сзади цыганятами, взлетали вместе с Земкой высоко над землей, а она, крепко держась за веревки раскинутыми, как крылья, руками, раскачивалась сильнее и сильнее. С закрытыми глазами, бледная, взлетала она высоко над горизонтом. Ее шаровары колыхались сотнями складок, шелестели на ветру и хлестали небо. Джерзелез, сидевший у самого костра, следил за нею жадными глазами, и всякий раз, когда она взлетала в небо, а потом стремительно падала обратно, сердце у него замирало, а по телу пробегала приятная дрожь, будто на качелях был он сам. И он пил все больше и охотнее.
А Земка продолжала качаться. Тяжело дыша и побледнев еще больше, она взлетала выше и выше, и каждый раз, достигнув высшей точки, открывала глаза и, сладко замирая, смотрела на расстилающееся внизу вспаханное поле и бегущую под холмом речку. Сначала на нее смотрели с молчаливым восхищением, но вскоре послышались смех и пьяные возгласы. Цыгане и прибойские парни улюлюкали и кричали, хотя Земка не могла их услышать:
– Эй, Земка, погляди сюда!
– Не надо, упадет, бедняга!
– Ничего, здесь мягко!
– Вот ей подушка!
– Ха, ха, ха-а!
– Эх! Еще разок!
Но Земка устала. Цыганята перестали подталкивать качели, взлеты становились слабее и слабее, и наконец ноги ее коснулись травы, она сошла на землю, возбужденная и улыбающаяся.
Джерзелез, глядя на нее, растроганно и беспомощно разводил руками. Его захватили молодость, красота, пестрые шаровары, что развевались, как знамя, сливаясь с верхушками сосен и ясным небом. Прежняя тоска его будто искала выхода в неудержимом веселье. Лишь на мгновение в душе его всколыхнулись боль и стыд: так скоро отречься от своей недавней тоски и гневного решения никогда больше не приближаться к женщине! Даже к кошке!.. Даже к кошке!..
Цыганки, пошептавшись, вдруг дружно запели:
Поднялся шум и смех, головы повернулись к Джерзелезу, но он уже никого не видел. Глаза его сверкали, лицо пылало, но в теле была странная слабость – хоть и легок, а никак не подняться с земли.
Эту песню слышал он в первый раз от цыганок в тот год, когда всю весну пролежал в Сребрнице. Как-то в пятницу его тяжело ранили под окном у дочки Нурии-бега. Он уже не помнит ни той пятницы, ни окна, ни Нурии-беговой дочки, которую давно забыл. Помнит лишь, как лежал, слабый и раненый, у открытого окна, а внизу плескался и журчал вздувшийся ручей. Был Юрьев день, на холме раскинулся цыганский табор, и цыганки первый раз пели о нем, Джерзелезе, песню. Песня неслась от холма к холму. Голоса цыганок сливались с журчанием ручья, сребрницкая долина содрогалась от их песен. А он лежал неподвижно и был так слаб, что не мог поднести к губам даже кружку с лимонадом. Картина эта как живая встает перед его глазами, и он не знает, что же было тогда и что сегодня, в голове все смешалось: песни, музыка, вино и люди. А тут еще перед глазами в дерзком порыве взлетает в небо Земка, и прямо дух захватывает от ее смелости и бросает то в жар, то в холод. Последние дни Джерзелез почти ничего не ел и поэтому быстро захмелел. Солнце село, подул холодный ветер, зашумели сосны; в сумерках дым от костра казался синим.
Джерзелез кликнул цыгана и приказал ему играть над его головой на самой тонкой струне. Но мешал ему, бранился, норовил ударить, посылал к черту и скрипку, и ее создателя. Старший Морич тщетно его утихомиривал. Потом Джерзелез вскочил и хотел было погнаться за Земкой. Моричи, смеясь, удерживали его; постепенно осмелели и парни из Прибоя. Все вокруг сотрясались от хохота. А Джерзелез бормотал заплетающимся языком:
– Она моя… погибель…
Он вырвался и, протянув руки, бросился к Земке, которая стояла в толпе цыганок возле качелей и ела красную албанскую пастилу. Его вишневый шелковый пояс, облитый ракией и вымазанный сажей, волочился по земле, штаны сползали, собираясь в складки, так что короткие ноги казались еще короче и толще. Он едва держался на ногах и раскачивался из стороны в сторону. Глядя на него, цыганки визжали от восторга, а цыгане совсем обнаглели. Музыка умолкла.
– Ха, держи его, земля!
– Давай, давай, ребята!
Цыганята вскарабкались на деревья и швыряли в него оттуда шишками. Джерзелез вернулся на место, сел, выпил и затянул песню.
Стемнело. Народ понемногу расходился, а у Моричей с приятелями гульба в самом разгаре. Они подшучивают над Джерзелезом, который с напряжением вглядывался в темноту, пытаясь разглядеть Земкино лицо, пока в глазах не зарябило. Музыканты хотели было уйти, но гуляки их не отпускали. И, перейдя от уговоров и посулов к брани и ругательствам, осыпали их то деньгами, то побоями.
– Поздно уж, добрые господа, отпустите нас.
– Темно, далеко до дому, пропадем!
Тогда младший Морич вскочил, безбородое лицо его побелело, надулось и стало злым, словно он был готов на все:
– Сейчас я вам посвечу, цыганские ваши души!
Он выхватил из костра огромную еловую головешку и, держа ее в вытянутой руке, чтобы уберечься от дыма и летящих искр, медленно зашагал по лугу. Там, на западном склоне холма, стоял стог сена, обнесенный камышовой изгородью и общипанный по краям скотиной. Морич разыскал в темноте стог, но сено никак не загоралось. Тогда он наломал сухого камыша с изгороди и тоже сунул туда. По стогу побежали яркие языки, они поднимались все выше и наконец превратились в огромный столб пламени, который, разрастаясь на ветру, трепетал, словно огненный парус. Сено трещало, огненной метелью летели искры, зарево осветило и сосны, и поляну, и оставшихся на ней людей. Все стали расходиться. Музыканты дрожали от страха:
– Ах, господин, что ты наделал! Судья повесит нас!
– Плевал я на него и на вас!
– Вам-то что, ведь на нас свалят! Цыгане, мол, спалили сено у судьи. Ох!
Лавочники тоже перепугались и, хотя были пьяны, все же поняли, что дело плохо. Лишь братья Моричи сидели как ни в чем не бывало, палили из своих коротких ружей, потягивали ракию и, моргая, смотрели на пламя.
Джерзелез, спотыкаясь, гонялся в полутьме за цыганками, стараясь поймать Земку. Он почти догнал ее, но она вдруг метнулась влево и исчезла на полевой дороге. Джерзелез не ожидал такого крутого поворота; нерасторопный, грузный и пьяный, он никак не мог остановиться и, сбежав с холма, мчался теперь по высокому обрывистому берегу к ручью. Сначала он еще держался на ногах, но спуск становился круче, и, потеряв равновесие, Джерзелез скатился, как колода, к самой воде. Руки его уперлись в мокрые камни и грязь. Он приподнялся. В глазах прыгали отблески яркого пламени, но вокруг не было видно ни зги. Набрав пригоршню воды, Джерзелез смочил руки и лоб и долго сидел, точно окаменев. Надвигалась ночь.
Почувствовав холод и неприятную дрожь в теле, Джерзелез немного пришел в себя и полез наверх. Он карабкался вверх и снова скатывался вниз, хватался руками за траву и кусты, полз на четвереньках, забирая влево, где берег был не такой крутой, но делал это как во сне.
После долгих усилий Джерзелез очутился на краю поляны, где давно не было ни души. Уже совсем стемнело. Он ощутил ровную и твердую почву под ногами, и тут силы покинули его. Джерзелез упал на колени, под руками было что-то теплое и рыхлое – тут недавно сгорело сено, – и какое-то время лежал там, опершись головой на руки. В куче черной золы поблескивали редкие искры. Слышно было, как собаки с лаем и ворчанием грызут оставшиеся после пирушки кости. С сосны к ногам его упала шишка. Он улыбнулся.
– Земка, блудница, не кидайся, иди сюда!
Он никак не мог прийти в себя. Ему хотелось кого-то лупить, спросить кого-нибудь, что с ним случилось, но черная мгла заволокла небо, и в этом ночном безлюдье не с кем было сражаться и некого спрашивать.
Джерзелез в Сараеве
Несчастный, знаменитый и смешной, Джерзелез объехал в то лето полцарства. О его последних похождениях известно очень немного; да он и сам о них тут же забывал. Поговаривали, что немало глупостей наделал он из-за вдовы ушчупского торговца и что одна еврейка, бродяжничавшая вместе с салоникскими музыкантами, обобрала его до нитки.
В канун рамазана Джерзелез прибыл в Сараево.
За три дня до этого в Ковачах на широком перекрестке, где торгуют сеном, казнили обоих Моричей. Схватили их в корчме на дороге, ведущей в Трново, и вели через весь город. Они семенили мелкими шажками, как обычно ходят албанцы; руки у них были связаны, по бокам шли стражники с ружьями. За ними поднималось легкое облачко пыли. Люди оглядывались и долго смотрели им вслед.
Когда вели их по Нижнему базару, вдогонку им понеслись проклятия. Торговцы вскакивали и шарили своими кривыми ногами в поисках деревянных сандалий.
– Ату их!
– Разбойники!
– Топор свиньям!
Так они прошли до самого Ташлихана[10].
Моричей не стали казнить на берегу Миляцки, под Латинским мостом, где обычно вешали простонародье и где казненные висели по два дня, а досужие прохожие дергали за веревку, и труп вертелся, как веретено. Их прикончили быстро и с наступлением сумерек похоронили на Бакиях. Мать, увидев с балкона, куда ведут ее сыновей, тут же без единого стона испустила дух.
Огромный дом их с бесчисленными окнами, из которых виден был весь город и даже Игман, остался пустым и темным. Лишь внизу в одной из комнат теплилась свеча. Здесь угасала от чахотки сестра Моричей. Ее светловолосая голова тонула в жарких подушках, глаза лихорадочно блестели. Она слушала шепот своей няни Анджи, тайно мечтавшей хотя бы перед смертью окрестить ее.
Омытые первыми осенними дождями и ветрами улицы казались необыкновенно чистыми и ясными. Крыши сверкали в лучах яркого осеннего солнца, а летящая с деревьев паутина блестела, словно шелк. Кое-где пестрела первым багрянцем листва.
Был рамазан. День прошел спокойно, но к ночи весь город гудел от музыки, веселья и любовных песен. Лавки были завалены фруктами, а битком набитые кофейни не закрывались до утра. Из харчевен доносился острый и терпкий запах масла и жженого сахара. По улицам проходили стайки женщин, предводительствуемые мужчиной, который освещал дорогу огромным фонарем.
Где-то в дальних садах в ночной тишине слышался глухой стук падающих на землю перезрелых груш. Деревья сгибались под их тяжестью, а своевольные ветви свешивались за изгородь, задевая головы прохожих.
Загорелый и легкий, Джерзелез шагал по улицам, чувствуя в себе необычайную силу, которая обычно накапливается к осени. Каждый уголок здесь мил его сердцу; все сулит радость и счастье!
Все подряд приглашали его на ифтар. Однажды под вечер, направляясь к Бакаревичам, он, дойдя до углового дома между Кршлой и Турбетом, вдруг стал как вкопанный. В полуоткрытые ворота выглянула девушка в светлых шароварах и красном жилете, о чем-то перемолвившись со старушкой-служанкой, которая чистила песком ворота. Всякий раз при виде красивой женщины Джерзелез сразу же забывал о времени, о границах, разделяющих людей, и терял всякое чувство реальности. Вот и сейчас, увидев девушку, молодую и свежую, словно гроздь винограда, он ни на мгновенье не усомнился в своих нравах, – стоит только протянуть руку!
С минуту смотрел он на девушку, оторопев и прищурив правый глаз, потом чуть слышно засмеялся и, разведя руки, бросился к ней. Девушка отпрянула и, схватив старуху за рукав, втащила за собой во двор. Джерзелез успел лишь полюбоваться гибкими и порывистыми движениями девушки. Раздался скрип, и большие белые ворота закрылись, слышно было, как задвинули засов. Джерзелез все стоял и стоял, на лице его блуждала бессмысленная улыбка; вдруг он крикнул:
– Видал!..
В бессознательном восхищении он несколько раз повторил этот ничего не значащий возглас, в котором слышалась горечь обиды человека, получившего жестокий удар.
Темнело. За Кршлой косматые и кривоногие суварии скоблили пригоревшие котлы, готовясь к ифтару. Джерзелез медленно побрел дальше.
За ужином он громко говорил, стараясь заглушить воспоминания, и жадно ел. Но еда не разгоняла сердечной тоски. После ужина, когда все, сопя и покуривая, лежали на диванах, он не выдержал и поведал свое горе молодому Бакаревичу, стройному юноше с зелеными глазами и насмешливой улыбкой на румяном лице. Рассказывая, он чувствовал, что все случившееся кажется со стороны мелким и незначительным. И он невольно прибавлял, преувеличивал, вплетал воспоминания о других встречах, чуть не давился словами.
На другой день после полудня он отправился к дому у Тур-бета. Все было как вчера: сентябрьский день и боль в душе, лоза, свисающая с высокой белой стены, и массивные ворота.
Вдруг кто-то его окликнул. С порога кондитерской, расположенной по соседству, с ним почтительно здоровался старый его приятель-албанец. Был он сыном призренского торговца и вечно скитался по свету «по торговым делам», но, где бы ни был, оставался верен своей страсти, которая вела его к гибели. Однажды с порога кондитерской, хозяином которой был его земляк, он увидел во дворе белого дома на углу девушку. Теперь он здесь проводил целые дни, тщетно подстерегая ее у ворот.
Навстречу приятелям из-за перегородки, где подручные, тяжело дыша, месили сладкое тесто, вышел хозяин и, постелив циновку, предложил им отдохнуть. Оба постарались сесть лицом к улице. Изнывая от жажды и желания курить, они говорили сначала очень мало, потом Джерзелез не выдержал и открыл приятелю душу. Албанец искренне обрадовался. Желтое лицо его, прорезанное глубокими морщинами, ожило, в потухших глазах затеплился огонек. Завязался дружеский разговор. Приблизив к Джерзелезу свое бледное лицо с подстриженными усиками, албанец заговорил, запинаясь и растягивая слова:
– Она словно груша, гладкая и мягкая. Наверное, христианки самые горячие женщины.
Они долго и оживленно шептались по-турецки. Голос албанца был сиплый, с лица не сходила неприятная усмешка. И Джерзелез узнал от него все об этой девушке.
Она была дочерью Андрии Поляша, и звали ее Катанкой. Красота ее, о которой по всей Боснии распевали песни, приносила ей, только несчастье. От женихов не было никакого житья. Она не смела выходить из дому. Лишь по праздникам ее выводили, закутанную в покрывало, как турчанку, к ранней мессе в Латинский квартал. Даже во двор она выходила редко: прямо против них находилась турецкая школа, на целый этаж выше их дома, и юноши, которых плохо кормили, но зато много били, бледные от желания, часами висели на окнах, пожирая ее глазами. Гуляя во дворе, она каждый раз видела в окне школы осклабившееся лицо школьного сторожа Алии, желтолицего и беззубого идиота.
Случалось, что солдаты или сараевские парни после буйных попоек часами простаивали у нее под окнами, переговаривались, двусмысленно покашливали или же вовсю колотили в ворота. Мать тогда бранила ее, ни в чем не повинную, и удивлялась: в кого она такая уродилась, что ни в городе, ни дома нет из-за нее покоя. А она слушала, теребя на груди пуговицы жилета, и большие глаза ее выражали крайнее недоумение. Часто она целыми днями плакала, не зная, для чего ей дана эта проклятая красота и что ей с собой делать. Она проклинала себя, терзаясь и мучаясь в своей великой невинности, и пыталась понять, что же в ней такого «порочного и турецкого», что сводит с ума мужчин, отчего вечно торчат у нее под окнами солдаты и турки, почему она должна все время прятаться и стыдиться, а семья – жить в постоянном страхе. И день ото дня становилась прекраснее.
С тех пор Джерзелез стал завсегдатаем кондитерской, где по вечерам собирались его знакомые сараевцы. Приходили сюда и молодой Бакаревич, и Дервиш-бег с Широкачи, рыжий и отекший от беспробудного пьянства, а теперь из-за поста злой, как рысь; и маленький, худощавый, живой, как огонь, Авдица Крджалия, известный скандалист и бабник. Здесь, в полутемной кондитерской, где все предметы потемнели от пара и стали липкими от сахара, они ждали выстрела пушки, которая во время рамазана возвещала правоверным, что можно приступить к трапезе, и вели долгие разговоры о женщинах, лишь бы забыть про жажду и табак.
Джерзелез слушал их с горечью и с какой-то болезненной дрожью каждого мускула, иногда и сам принимался рассказывать, то и дело запинаясь и тщетно стараясь подыскать слова. А белые ворота были по-прежнему заперты, и в окнах не было ни малейшего признака жизни.
Как-то после полудня завсегдатаи кондитерской со скуки и злости избили булочника-христианина, который, проходя мимо, попыхивал трубкой. Шутки ради пытались из-за девушки поссорить албанца с Джерзелезом. Но из этого ничего не вышло. Албанец был невозмутим, и в его улыбке не было ни тени ревности. А однажды наняли мальчишку и подучили его кричать из-за угла тоненьким голоском:
– Катинка, Катанка! Как ты поживаешь? Да где же ты? Никак тебя не встречу.
Услышав эти возгласы, албанец сверкнул глазами и бесшумно, словно ласка, метнулся к двери. Джерзелез кинулся за ним, и они оба выскочили на улицу. Но там никого не было: перед ифтаром на улицах было особенно тихо, белый дом по-прежнему казался безлюдным, лишь из-за угла доносился топот улепетывающего мальчишки. Все долго хохотали, даже сам Джерзелез не мог удержаться от смеха.
Молодой Бакаревич посоветовал приятелям позвать Ивку Гигушу, известную сводню с Бистрика, которая была вхожа во все дома. Она торговала полотном и платками, но больше доходов приносили ей чужие грехи и чужая невинность. Это была тучная высокая старуха с карими круглыми глазами. Разговаривая с Джерзелезом, она легонько похлопывала его по колену и обещала все разузнать, хотя и не обнадеживала: ведь девушка сидит под замком. Громко попрощавшись, она ушла.
На другой день, придя в кондитерскую, Джерзелез застал там албанца и сводню. Албанец закачал головой:
– Уехала она, уехала.
– Ей-ей, господин, вот уже два дня, как ее нет. Увезли, говорят, еще до зари, а теперь попробуй узнай, где она. Больно много парней возле ее дома вертелось, вот и решили спрятать девушку. Вот так, приятель. Ищи теперь ветра в поле.
Рассказывая, старуха то понижала, то повышала голос и так сокрушенно покачивала головой, будто ее обокрали. Албанец смотрел куда-то вдаль. Трудно было сказать, о чем он думает.
Джерзелезу кровь бросилась в голову. Дело было совершенно ясным и несомненным: в доме нет больше девушки с бледным лицом, тяжелой косой и пышными формами (как-то раз ему удалось хорошенько ее разглядеть). Внутри у него все кипело. Кондитерская стала словно еще темнее. Старуха и албанец кровавыми пятнами запрыгали у него перед глазами, он повернулся и, словно слепой, вышел на улицу.
Его душил гнев. Эта христианка никогда, никогда не будет принадлежать ему! И некого убить и нечего разрушить! (Кровавая пелена снова заволокла ему глаза.) Все обман! Его опять оставили в дураках. Неужели он вечно будет сносить насмешки? И что это за женщины, до которых так же далеко, как до бога? Сейчас он ясно почувствовал, что нити этого узла слишком тонки для его рук и что он – вот уже в который раз – не может понять ни людей, ни их самых простых поступков. И, как и прежде, отступает и остается один со своим смешным гневом и ненужной силой.
Отупевший и убитый, он шел не оглядываясь. Перед глазами его, словно тучи, плыли багровые пятна. Позади остались белый молчаливый дом и мрачная низкая кондитерская.
В Кршле упражнялись трубачи. Монотонная мелодия военного марша то обрывалась, то начиналась снова. Солнце припекало, Джерзелезу стало душно. Он шел, обливаясь потом, берегом Миляцки; внизу зеленели ракиты и вербы, на которых еще сохранились следы весеннего паводка.
Хорошо, что дорога вдоль Миляцки такая прямая и длинная. Пусть ей никогда не будет конца! Чтоб не надо было никуда сворачивать!
Джерзелез остановился лишь в Хисетах и, свернув с дороги, направился в Нижний Табак. Там он вошел в маленький дворик, скрывавшийся за высокими воротами. Затрещали и заскрипели стертые множеством ног узенькие ступеньки. В небольшой опрятной полутемной комнате, окна которой были задернуты занавесями из тонкого полотна, будто поджидая кого-то, сидела Екатерина. Взгляд у нее был спокойный, а руки – белые.
Екатерина была дочерью лекаря, приехавшего сюда из Одессы. Никто не знал, почему он покинул родину. Говорили, что лекарь этот грузин, но на самом деле он был русским и, хотя носил феску и звали его Велибег, перед смертью позвал священника и умер как христианин. Дочь его, осиротев, хотела уйти в какой-нибудь монастырь в России, но знакомый грек уговорил ее остаться. А когда он ее бросил, она поселилась в одном из тех маленьких домишек, что выстроились в ряд от Хисет до Нижнего Табака и в которых по одной или по двое жили под полицейским надзором продажные и известные всему городу по именам девушки. На остаток отцовских денег она купила такой маленький домик, в котором жила теперь со старой служанкой, тоже бывшей хисетской жительницей. Днем она спала или вязала в тени двора накидки для подушек, а по ночам принимала богатых гостей. Была она невысокая, коренастая и молчаливая.
Когда-то Джерзелез наведывался к ней. Дневной визит удивил ее; она встала, а он еще в дверях сказал ей спокойно:
– Екатерина, вот пришел к тебе.
– Добро пожаловать! – отвечала она, покорно взбивая для него подушки.
Он присел на небольшой диванчик, а она, чуть склонившись перед ним, сразу же принялась снимать с него пояс.
Потом он лежал, уткнувшись головой в тонкую ткань ее шаровар, а она гладила его сожженную солнцем шею. Перед глазами его плыли светлые и красные крути, а в памяти возникали все новые и новые воспоминания, уже умиротворенные и далекие.
Чья это рука прикоснулась к нему? Это рука женщины? Перед ним встает венецианка в мехах и бархате, гибкая, стройная и такая желанная. Цыганка Земка – дерзкий и коварный, но милый зверек. Дородная вдова. Страстная, но непостоянная еврейка. И Катинка – цветок, не знающий солнца. Нет, это рука Екатерины. Только Екатерины. Лишь одна она ему доступна!
И снова явилась мысль, с которой он не раз засыпал, неясная, загадочная, но грустная и оскорбительная: почему так извилист и таинствен путь к женщине? Почему он со своей славой и силой не может его пройти? Ведь для всех других, даже самых ничтожных, этот путь вовсе не труден. Лишь он один в своей сильной и смешной страсти весь век напрасно протягивает к ним руки. Чего хотят женщины?
Маленькая рука все гладит и гладит его, ловко и умело скользя по спине. И снова гаснет и ускользает эта нерешенная и тягостная мысль.
– Сколько я народу всякого видел, Екатерина! Сколько земель обошел! – говорит он ей как во сне.
Джерзелез уже и сам не понимает, жалуется он или хвастает, и замолкает. Сонная тишина, в которой сливаются и примиряются все дни и все события, убаюкивает его. Он смыкает глаза. Ему хочется продлить это мгновение без мыслей и желаний, как человеку, которому дан лишь короткий отдых – ведь скоро снова в путь.
Ага – землевладелец, господин, уважительное обращение к состоятельным людям.
Актам – четвертая из пяти обязательных молитв у мусульман, совершаемая после заката солнца.
Антерия – род национальной верхней одежды, как мужской, так и женской, с длинными рукавами.
Аян – представитель привилегированного сословия.
Байрам – мусульманский праздник по окончании рамазана, продолжающийся три дня.
Бег – землевладелец, господин.
Берат – грамота султана.
Вакуф – земли или имущество, завещанные на религиозные или благотворительные цели.
Валия – наместник вилайета – округа.
Газда – уважительное обращение к людям торгового или ремесленного сословия, букв.: хозяин.
Гайтан – веревка.
Гунь – крестьянская одежда вроде кафтана.
Джемадан – род национальной верхней мужской одежды без рукавов, обычно расшитой разнообразной тесьмой.
Жупник – католический священник в жупе (приходе).
Ифтар – ужин во время рамазана после захода солнца, когда прекращается дневной пост.
Ичиндия – третья по счету обязательная молитва у мусульман, совершаемая между полуднем и закатом солнца.
Кадий – судья у мусульман.
Каймакам – наместник визиря или валии в уезде.
Коло – массовый народный танец.
Конак – административное здание, резиденция турецкого должностного лица.
Маджария – венгерская золотая монета.
Меджидия – золотая турецкая монета.
Мейтеб– начальная духовная школа у мусульман.
Мерхаба – мусульманское приветствие.
Министрами – служка в католическом храме.
Мудериз – учитель в медресе.
Мулла – мусульманин, получивший духовное образование.
Мусандра – стенной шкаф в турецких домах для постелей, убирающихся туда надень, и прочих домашних надобностей.
Мутевелий – турецкий чиновник.
Мутеселим – чиновник визиря.
Муфтий – мусульманский священник высокого ранга.
Окка – старинная мера веса, равная 1283 г.
Опанки – крестьянская обувь из сыромятной кожи.
Райя – христианские подданные Оттоманской империи, букв.: стадо.
Ракия – сливовая водка.
Салеп – сладкий горячий напиток, настоянный на коре ятрышника.
Салебджия – торговец салепом.
Се имен – стражник.
Слава – праздник святого покровителя семьи.
Софта – ученик медресе.
Субаша – помощник паши.
Суварий – конный стражник.
Тапия – юридический документ на право владения недвижимостью.
Тескера – официальная справка.
Тефтедар – министр финансов, чиновник по финансовой части.
Улемы – мусульманские вероучители, знатоки и толкователи Корана.
Учумат – административная власть, здание, где помещается административное управление.
Фратер – католический монах францисканец, букв.: брат (лат.). Сокращение «фра» обычно прибавляется к имени монаха.
Чаршия – торговый квартал города, базар.
Чемер – узкий кожаный или холщовый пояс, в который, отправляясь в дорогу, прятали деньги; носился под одеждой.
Чесма – естественный родник, облицованный камнем или взятый в желоб; фонтан.
Чехайя-паша – заместитель визиря.