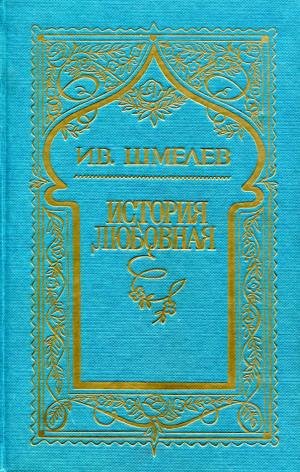
Е. Осьминина. «Рыцарь саблю обнажил…»
В 1927 году в Париже в русском журнале «Современные записки» начал печататься роман Ив. Шмелева «История любовная». По воспоминаниям одного из издателей, нетерпеливые читатели являлись в редакцию за гранками, не желая ждать очередного номера с продолжением. Получилось точно так, как предсказывал сам Иван Сергеевич:
«За „читабельность“ ручаюсь. Полагаю, что читатель будет сердиться, что приходится дробить. Вещь ЛЕГКАЯ. Будто сидишь в кинемо и – всякие представления! На макароны не задаюсь. Вопросов не ставлю и не разрешаю. На небеса в детском аэропланчике не мечусь. А просто – запускаю „монаха“ и „змея“. „Героев“ не имеется, а жители. „Любовей“ больше, чем достаточно… „Циник“ имеется и даже 1 1/2 циника Романтизма – хорошая доза есть. На… С прищуром. Вот какой товар-то! Много „стихов“ всякого сорта. Есть такой даже: „Рыцарь саблю обнажил, свою голову сложил!“ Или: „У одной-то глаз подбитый, у другой – затылок бритый, третья – без скулы!“ Не подумайте, что это всё героини! Нет, мои героини (две) – прямо к-р-р-а-савицы, с небо-голубыми глазами, а одна даже – бельфам!
Есть даже такие стихи:
Но есть и лирические:
Одним словом – гимн любвям! Вот подите, как все это преломляется. Но надо – для очистки и отчистки с жизнью»[1].
Письмо это сразу настраивает на шутливо-бытовой стиль романа о гимназической любви; но сначала надо сказать о жизненных прототипах и реалиях произведения.
Описанный дом на Калужской улице – это дома 15, 17, принадлежавшие купцам Егору Васильеву и Сергею Ивановичу Шмелеву[2], а домом 19 владела мещанка Анна Ивановна Карих Дом, где произошло убийство, фигурирует в рассказах «Кошкин дом» (1924) и «Миша» (впервые: Возрождение. 1928, 8 февр.). В начале двадцатых годов Шмелев собирался написать роман «Кошкин дом», связанный, вероятно, с каким-то сильным детским впечатлением. Мещанское училище на Калужской площади – впоследствии Горный институт. Церковь Ризоположения – Донская улица, 20, а вот «часовня» была разрушена в двадцатые годы – это часовня Ферапонтова Лужнецкого монастыря на Калужской площади.
Словесник Федь-Владимьгч – Ф. В. Цветаев (1849–1901), дядя известной поэтессы, инспектор Московского учебного округа и преподаватель 6-й гимназии в Б. Толмачевском переулке, где учился Шмелев. Женька Пиуновский – друг детства. Его дальнейшая судьба описана в очерке «У плакучих берез» (1915, впервые в сб.: В помощь пленным русским воинам. – М., 1916). Старец Варнава – преп. Варнава Гефсиманский (1831–1906), встречи с которым изображены в рассказе «У старца Варнавы» (1936, впервые: Православная Русь. 1936. № 1). Синеглазая девушка, промелькнувшая на последних страницах книги, – будущая жена писателя О. А. Охтерлони (1875–1936). Она училась в Патриотическом институте в Петербурге и приехала на каникулы к родным, снимавшим квартиру в доме Шмелевых. Там молодые люди и познакомились. Сцена с поцелуями у забора, как нам представляется, где-то подсмотрена или пережита – она описана в неоконченном произведении «Зобово логово» (1918): там героев зовут Гриша и Сима Однако по поводу основного сюжета книги Шмелев писал: «Рассказ, как увидите, (или роман) бытово-психологический, с юмором. Могут думать, что это и от автобиографии. Нет, могу заверить. Автор здесь – в кусочках. Но, конечно, через ЕГО глаза пропускались»[3].
Авторские «глаза» прежде всего в общем настроении романа: мечтах ранней юности, упоенной литературой и грезами о будущем.[4] Шмелев сам начинал с Жюля Верна, Майна Рида, Мариэтта и Эмара; их стилизованное «присутствие» легко обнаружить в романе. Приведем еще один автобиографический «кусочек» из очерка «Книжный человек» (1917): «…Август, холодеющие вечера, галки в стаях. По садам – тихие, грузно завешанные рябины. Бывало, прибежишь из гимназии и – в сад: не оборвали ли рябину, оставленную до морозов? Залезешь на нее, устроишься в развилке сучьев и почитываешь „Великого предводителя аукасов“. И ешь до оскомины упруго-лопающиеся горькие ягоды. А сам – далеко-далеко, и какие чудесные дали видишь!.. И сердце бьется высоким чувством, и душа жаждет чудесного геройства».
В этом состоянии – жажде чудесного геройства – наш молодой человек и сталкивается с низкой прозой жизни. Тут и вторжение в его стилизованные грезы сочной и грубой замоскворецкой речи; и мыло «Конго», которое олицетворяет «одуряющие ароматы Востока»; и смешные ситуации, когда «прекрасная из Муз» егозит с кучером и конторщиком. И наконец, общая литературная аллюзия к «бедному рыцарю», к «Дон Кихоту», которого наши герои читают на той самой рябине. Вспомним романсы, сравнения горничной («Дульцинея с тряпкой»), двоящуюся пару: герой – Женька и Дон Кихот – Санчо Панса (причем попеременно). И презрение к земной пошлости во имя возвышенной любви к «прекрасной даме».
Но Шмелев не был бы Шмелевым, если бы сохранил тон этой нежной насмешливости и не начал бы, по обыкновению, свой серьезный, скорбный и высокий разговор.
Роман построен весьма прихотливо. Первые восемнадцать глав (больше трети книги) посвящены подробному описанию одного-единственного весеннего дня, когда, в общем, ничего особенного не происходит. Но потом темп повествования сразу и резко меняется. События разворачиваются все быстрее и быстрее – за четыре дня герой увидит кровь, убийство, смерть, которая подходит к нему совсем близко.
Критик и философ И. А. Ильин, разбирая «Историю любовную», выделяет «три драматически-трагических столкновения», которые выстраивают сюжет. Первое: убийство старика и молодой («Грех» из повести «Весной» – так назвал Шмелев свою первую публикацию из романа; впоследствии это почти не измененная глава 34, где изображены молодая и бык) Второе: смерть кучера, запоротого быком (бык – «живой символ безудержного инстинкта»).[5] «Это две попытки одолеть грех – слепым отвращением и слепою храбростью. Два крушения: кровавое преступление и ненужная смерть. Приближается развязка»[6].
Она связана уже с самим героем. Вот он выстоял вечерню и вышел из церкви во время полиелея (который возвещает «переход душ наших из Египта греха и заблуждения к вере во Христе»[7] – конечный путь героя). Но пока он направился в Чертов овраг – глухое, гнилое черное место, где ему, в любовном свидании, открылось уродство героини: «темные, кровяные веки, напухшие, без ресниц, и неподвижный, стеклянный глаз». Потрясенный, он заболел, три недели бредил на грани смерти, видя странные картины: толстые змеи в черно-зеленых пятнах, пунцовые жирные цветы, бык…
Все это символы. От традиционного любовного романа (критика не зря сравнивала его с «Первой любовью» Тургенева) Шмелев переходит к новой прозе: символической. Здесь значимы все мелкие детали Всякий раз, когда герой думает о грехе, ему представляется этот черно-зеленый змей (змей с фрески Страшного суда в Троице-Сергиевой лавре) или бык – традиционный для прозы Шмелева символ «плотского», животного (рассказы «Свет разума», «Москва в позоре», «Это было»). Овраг противоположен не только церкви, но и зале в доме, где герой настраивается на молитву и любуется на аквариумных рыб: рыба – известный христианский символ Устами одного из персонажей писатель напрямую объясняет и болезнь, и выздоровление, сцену омовения героя: «У вас вот горе было, мозги горели… а это в очищение! Послал Бог! <…> И Иоанн Златоуст говорит. „Опалитесь и обновитесь!“ В глазок попало?.. А вот когда в сердце оружие пройдет, горе… – надо живой водой омыться, от Писания: „Аз есмь вода живая“!»
Наконец, об основном сюжете книги Шмелев иносказательно пишет уже в первом письме: о «монахе» и «змее». Монах – это порода голубей, а голубь – символ Святого Духа. Змей – искуситель рода человеческого. Их борьба – это борьба Добра и Зла, чистоты и греха.
Наш герой, пятнадцатилетний гимназист, «бедный рыцарь», вступает в ЭТУ борьбу. И одерживает победу.
Если в «Истории любовной» борьба добра и зла, чистоты и греха происходит в душе одного человека, то во втором предлагаемом читателю романе «Солдаты» она должна была развернуться в огромном масштабе, в ДУШЕ РОДИНЫ. К сожалению, роман остался недописанным, практически – лишь начатым, и мы можем говорить, в сущности, только об истории замысла.
«Солдатская» тема вошла в творчество Шмелева со времен первой мировой войны. В эмиграции Иван Сергеевич начал с публицистики: с воззваний, статей, открытых писем об инвалидах войны, туберкулезных, калеках; о студентах. Судьбе белых офицеров в эмиграции посвящены и большие публицистические статьи, и ряд рассказов[8]. Шмелев был членом бюро при центральном комитете по устройству дня русского инвалида, собирал как непосредственно пожертвования для бывших воинов, так и материалы для литературного номера газеты «Русский инвалид», где публиковались и его наброски к «Солдатам»: «Метельный день» (ноябрь 1924), «Гроза» (май 1926), «Проводы» (1928), «Душный день» (май 1933), а также глава из «Иностранца» (май 1938).
Связано все это было с судьбой сына писателя Сергея Шмелева. Валясиком (имя денщика в «Солдатах») звали именно его денщика[9]. Сергей был отравлен газами на фронте первой мировой войны и болел туберкулезом. Служил у Деникина, в Туркестане, при Врангеле в Крыму, где после установления советской власти и был расстрелян. Конечно, в эмигрантской судьбе его сверстников, оставшихся в живых, Шмелев видел возможную судьбу Сергея. И все «военное» творчество писателя – венок памяти на могилу сына.
Отсюда и особенности «звучания» этого творчества, наиболее хорошо видные в сравнении. Так, например, И. А. Ильин в своей «белой» публицистике подчеркивает мотив сопротивления – «сопротивления злу силою». Шмелев же – жертвенность, страдание, мученичество. Для него добровольцы – символ страдания русского: «ИМ ставили капканы, их предавали, их продавали, выбрасывали с пароходов в эвакуациях, оставляли больных и раненых в полях, в станицах. Предавали в тылах <…> Сотни тысяч ИХ полегли в боях, сотни тысяч умучены по чрезвычайкам, брошены в овраги, в ямы, в реки, в моря…» («Крестный подвиг»). И в «Солдатах», рассуждая о своей профессии, герой подчеркивает главное: «К смерти всегда готов – будь чист <…> Наше дело – самое страшное из искусств. Игра со смертью…» Лучшие из набросков к роману – «Зеркальце» (впервые: Иллюстрированная Россия. 1932. Май), «Душный день» – о смерти брата героя и переживаниях отца.
Военную прозу Шмелева следует сравнивать с «генеральской» и «офицерской» прозой: произведениями П. Н. Краснова, А. И. Деникина, К. С. Попова. Скажем сначала об их отличии (кроме общего художественного уровня, хотя справедливости ради надо отметить, что генералы писали совсем неплохо). Шмелев куда более демократичен, народен и даже – простонароден. «Он – белый. Он монархист-консерватор с демократическим оттенком[10]», – совершенно верно замечала о Шмелеве В. Н. Муромцева-Бунина. Для Краснова солдаты – «серая масса». У Шмелева денщик Валясик и самобытные огородники[11] получились едва ли не лучше красавчика главного героя. И назван роман именно «Солдаты», а не «Офицеры» (очерки А. И. Деникина, 1928) или даже «Гг. Офицеры» (очерки К. С. Попова, 1929). Эти очерки писались одновременно с основной работой над «Солдатами», причем не без помощи Шмелева, соседа Деникина и Попова по летнему отдыху в Капбретоне.
Но общий пафос и Шмелева и всех идеологов Белого дела сходен. Сходны и идеи: верности долгу, полковым традициям, чести, служения – как служения России. Со словами Ю. Семенова на зарубежном съезде (1926): «Все должны считать себя связанными общим обетом и, живя будничной жизнью рабочего, шофера, банковского служащего и т. д., каждый должен знать и помнить, что не может не быть он воином за великое дело России»[12] – прямо перекликаются рассуждения героев «Солдат»: «Надо, чтобы идея охватила массы, чтобы все были как бы в круговой поруке, как бы в приказе у России… чтобы все были, как верные ее солдаты».
Об этом же Шмелев писал, когда пояснял замысел романа: «Начало происходит в мирное время, в захолустье, где стояла воинская часть. Офицер Бураев – один из многих моих героев, долженствующих впоследствии появиться. Дальше в романе я предполагаю изобразить эпоху войны, потом он перекинется за рубеж.
Мои „Солдаты“, – не только военные, – я к ним в будущем причислю вообще всех тех, кто стоит за свою идею: журналистов, писателей, общественных деятелей и просто сильных духом русских людей»[13].
Соответственно в противоположность им были и «несолдаты». Шмелев объяснял К. С. Попову: «Сейчас приступил – и плотно, кажется, – к великой (по размерам) работе „Солдаты“, где постараюсь не только дать СОЛДАТА, русского солдата-офицера, но пущу перышко по всей России, по многим несолдатам: когда солнце сияет гуще, виднее – тени»[14]. 1928–1929 годы – пик работы над «Солдатами». В 1929 году Шмелев пишет А. И. Деникину: «…летом, „Солдаты“ и „Иностранец“».[15]
Однако «Солдаты», начало которых печаталось в № 41, 42 все тех же «Современных записок» за 1930 год, были резко оборваны, продолжения так и не последовало (хотя Шмелев говорил: «Хочу взяться за роман „Солдаты“, ДОЛЖЕН закончить его»[16]). И «Иностранец», намеченный еще в 1925 году[17], писался в январе – апреле 1938 года в швейцарском пансионе Schloss Holdenstein bei Chur. Задумывался он также чрезвычайно широко: «Здесь будет дана душа Европы и Америки и – русской культуры. Посмотрим, – это ВСТУПЛЕНИЕ в „СПАС ЧЕРНЫЙ“».[18] Судя по письмам, к так и не написанному «Спасу черному» относился и рассказ «Родное», начатый еще в России и впервые опубликованный в одноименном белградском сборнике в 1931 году. Однако и «Иностранец» был оставлен после первой публикации в «Русских записках» в № 4–5 за 1938 год. Почему?
Сам Шмелев отвечал на вопрос об исчезновении «Солдат» так «…потому что я приостановил его. Мне показалось тогда не под силу развитие моей темы. Роман должен объять необъятное <…> Получается не роман, а целая эпопея. Широта горизонтов меня смутила»[19].
Современники приводили другие причины. Так, Кс. Деникина вспоминала: «Я помню, когда он задумал писать „Солдаты“ и приходил к нам читать каждую главу. Антон Иванович, возможно осторожнее, отмечал неправильности и неточности в описаниях военного быта. Их было очень много, так как Шмелев никогда близко не прикасался к военной среде и имел о ней довольно смутное представление», – и далее с несомненным знанием дела жена генерала объяснила: «Так, его пехотные офицеры носили саблю или палаш; командир полка являлся на бал с револьвером у пояса, а штык висел прикрепленный к седлу кавалериста… В конце концов, он бросил этот роман и, насколько я знаю, никогда его не дописал»[20].
Весьма распространено было мнение и о том, что «левые» круги эмиграции затравили Шмелева, просто не дали ему дописать «Солдат». Действительно, Руднев, один из редакторов «Современных записок», ужаснулся «черносотенным духом, с привкусом еще какой-то небывалой у нас в журнале полицейщины черносотенной (сцена ареста нелегального, напр.)»[21]. За этим быстро последовали две отрицательные рецензии на «реакционно-охранный роман» (в «Воле России»), на «политлитературу» (в «Последних новостях»). Всю эту историю много лет спустя с негодованием разобрал К. Рудинский и подвел итог «Мудрено ли, что после соответствующей обработки он (И. С. Шмелев. – Е. О.) свалился больной с неврозом сердца! <…> Величину этой потери для русской литературы, вероятно, оценят лишь в будущем <…> Именно ТАКОЙ роман – художественная правда о старой России и о революции, о ее кознях, необходим сейчас и вдвойне будет необходим будущей России».[22]
Интересно, что с Рудинским оказался солидарен историк А. А Кизеветтер, которого, в общем, трудно упрекнуть в «правых» симпатиях: «Мне жаль, что „Солдаты“ Шмелева куда-то исчезли. Все кричали, что эта вещь бездарна. Это, конечно, вздор. Вещь очень талантлива. Ссылками на бездарность хотели просто прикрыть неудовольствие на то, что Шмелев рисует военных сочувственно, тогда как согласно политическому „хорошему тону“ требуется обливать военных презрением»[23].
Со всем этим можно согласиться, и материал все-таки был «чужой», что для такого «бытовика», как Шмелев, создавало довольно ощутимые сложности. И замысел оказался весьма (а в «Иностранце» – даже слишком!) обширен и энциклопедичен. И критика была жестокой.
Но позволим себе и мы некоторую догадку-версию. Представим дальнейшее развитие событий в романе. Уже достаточно четко обозначены полюса: консерваторов и революционеров, военных и интеллигенции – как полюса добра и зла[24]. Понятно, что они должны будут столкнуться на всем огромном русском поле. Несмотря на прекрасные слова о долге, служении и идеале, из истории Отечества мы прекрасно знаем, кто победил в дальнейших событиях (к которым только начал подходить Шмелев). Ему надо было бы изобразить полный триумф Зла, его торжество, силу, победное шествие по полям нашей несчастной родины. А в «Иностранце» – масштабно показать чужую культуру, которая для Шмелева была ничуть не менее враждебна, чем большевизм, и в которой он тоже не видел торжества добрых сил.
По всей вероятности, всего этого он больше не мог изображать. Он уже отдал дань горю, скорби, негодованию и отчаянию. Не зря Ильин поместил «Историю любовную» (непосредственно предшествовавшую «Солдатам») «как бы на грани, на водоразделе обеих групп»: темных и светлых произведений. Вслед за «Историей…» у Шмелева стали преобладать именно «светлые» произведения: «Богомолье», «Няня из Москвы», «Лето Господне», «Старый Валаам». Мы встретим лишь несколько небольших «темных» рассказов. Шмелев больше не мог и не хотел писать о Зле.
В русской литературе мы найдем множество писателей, которые сильно, талантливо, полно изображали Зло: от Гоголя до Горького (не говоря уже о веке двадцатом). Активное, сильное, торжествующее Добро написать, по всей видимости, гораздо труднее.
И в этом смысле Шмелев – уникальный писатель. Ему удавался идеал. Удавалось Добро прекрасное, побеждающее. Причем удавалось с истинной художественной силой. Герои – сильные, благородные, добрые люди. Будь они простыми замоскворецкими мастеровыми, кучерами, плотниками, или купцами, или священнослужителями, или военными, как старый полковник из «Солдат», – все они ЖИВЫЕ, зримые, реальные. Или природа прекрасная – яблони в цвету, сирень благоуханная, весенние тополя. Каждая страница Шмелева расцветает перед нами в дивную картину. Картину гармонии, благодарения и благословения всего сущего.
Удавалось это Шмелеву потому, что он сам носил в душе искру того огня, который видел везде. И которым освещал все. Огонь этот – огонь веры. Сам он был в какой-то степени рыцарем, который «саблю обнажил» в борьбе со злом. Или солдатом, служащим России, чести, добру. Можно сказать, рыцарь, солдат. А можно и – ВОИН ХРИСТОВ.
Елена Осьминина
История любовная
I
Была весна, шестнадцатая в моей жизни, но для меня это была первая весна: прежние все смешались. Голубое сиянье в небе, за голыми еще тополями сада, сыплющееся сверканье капель, бульканье в обледенелых ямках, золотистые лужи на дворе с плещущимися утками, первая травка у забора, на которую смотришь-смотришь, проталинка в саду, радующая новым – черной землей и крестиками куриных лапок, – ослепительное блистанье стекол и трепетанье «зайчиков», радостный перезвон на Пасхе, красные-синие шары, тукающиеся друг о дружку на ветерке, сквозь тонкую кожицу которых видятся красные и синие деревья и множество солнц пылающих… – все смешалось в чудесном и звонком блеске.
А в эту весну все как будто остановилось и дало на себя глядеть, и сама весна заглянула в мои глаза. И я увидал и почувствовал всю ее, будто она моя, для меня одного такая. Для меня – голубые и золотые лужи, и плещется в них весна; и сквозистый снежок в саду, рассыпающийся на крупки, в бисер; и ласкающий нежный голос, от которого замирает сердце, призывающий кошечку в голубом бантике, отлучившуюся в наш садик; и светлая кофточка на галерее, волнующая своим мельканием, и воздух, необыкновенно легкий, с теплом и холодочком. Я впервые почувствовал – вот весна, и куда-то она зовет, и в ней чудесное для меня, и я – живу.
Необыкновенно свежи во мне запахи той весны – распускавшихся тополей, почек черной смородины, взрытой земли на клумбах и золотистых душков в тонкой стеклянной уточке, пахнувших монпансье, которые я украдкой, трепетно подарил на Пасхе нашей красивой Паше. Ветерок от ее накрахмаленного платья, белого с незабудками, и удивительно свежий запах, который приносила она с собою в комнаты со двора, – будто запах сырых орехов и крымских яблок, – крепко живут во мне. Помню весенний воздух, вливавшийся вечерами в окна, жемчужный ободок месяца, зацепившийся в тополях, небо, зеленовато-голубое, и звезды такие ясные, мерцающие счастьем. Помню тревожное ожидание чего-то, неизъяснимо радостного, и непонятную грусть, тоску…
На ослепительно-белом подоконнике золотая полоска солнца. За раскрытым окном – первые яркие листочки на тополях, остренькие и сочные. В комнату мягко веет свежей, душистой горечью. На раскрытой книге Тургенева – яркое радужное пятно от хрустального стакана с туго насованными подснежниками, густыми, синими. Праздничное сиянье льется от этого радостного пятна, от хрусталя и подснежников, и от этих двух слов на книге, таких для меня живых и чудесно-новых.
Я только что прочитал «Первую любовь».
После чудесного Жюля Верна, Эмара и романов Загоскина начало показалось неинтересным, и, не поспорь мои сестры – кому читать, и не скажи лохматый библиотекарь, прищурив глаз, – «ага, уж про „первую любовь“ хотите?», – я бы на первой странице бросил и взялся бы за «Скалу Чаек». Но эти два обстоятельства и удивительно нежный голос, призывавший недавно кошечку, так меня растревожили, что я дочитал до флигелька против Нескучного, – в наших местах как раз! – до высокой и стройной девушки в розовом платье с полосками, как она щелкала хлопунцами по лбу кавалеров, стоявших перед нею на коленях, – и тут меня подхватило и унесло…
Дочитав до конца без передышки, я как оглушенный ходил по нашему садику и словно искал чего-то. Было невыносимо скучно и ужасно чего-то стыдно. Садик, который я так любил, показался мне жалким-жалким, с драными яблоньками и прутиками малины, с кучками сора и навоза, по которым бродили куры. Какая бедность! Если бы поглядела Зинаида…
Там, где я только что побывал, тянулся старинный, вековой парк с благородными липами и кленами, как в Нескучном, сверкали оранжереи с ароматными персиками и шпанской вишней, прогуливались изящные молодые люди с тросточками, и почтенный лакей в перчатках важно разносил кушанья. И она, неуловимо прекрасная, легкая, как зефир, увлекала своей улыбкой…
Я смотрел на серые сараи и навесы с рыжими крышами, с убранными до зимы санями, на разбитые ящики и бочки в углу двора, на свою измызганную гимназическую курточку, и мне было до слез противно. Какая серость! На мостовой, за садом, старик-разносчик кричал любимое – «и-ех-и груш-ки-дульки варе-ны!..» – и от осипшего его крика было еще противней. Грушки-дульки! Хотелось совсем другого, чего-то необыкновенного, праздничного, как там, чего-то нового. Лучезарная Зинаида была со мной, выступала из прошлого сладкой грезой. Это она дремала в зеленоватой воде, за стеклами, в чем-то большом хрустальном, в бриллиантовой чешуе, в огнях, привлекала жемчужными руками, воздыхала атласной грудью, небывалая рыба-женщина, «чудо моря», на которую мы смотрели где-то. Это она блистала, летала под крышей цирка, звенела хрустальным платьем, посылала воздушные поцелуи – мне. Выпархивала в театре феей, скользила на носочках, дрожала ножкой, тянулась прекрасными руками. Теперь – выглядывала из-за забора в садик, мелькала в сумерках светлой тенью, нежно манила кошечку – «Мика, Мика!» – белелась на галерее кофточкой.
Милая!.. – призывал я в мечтах кого-то.
За обедом я думал о стареньком лакее во фраке и перчатках, который нес там тарелку с хребтом селедки, и мне казалось невероятным, чтобы чудесная Зинаида эту селедку ела. Это ее мать, конечно, похожая на молдаванку, обгладывала селедку, а ей подавали крылышко цыпленка и розанчики с вареньем. Я оглядывал стол и думал, что ей не понравилось бы у нас, показалось бы грязно, грубо; что Паша, хоть и красива, все же не так прилична, как почтенный лакей в перчатках, и квас, конечно, у них не ставят, а ланинскую воду. Вышитая бисером картина – «Свадьба Петра Великого»: в золотой раме, пожалуй бы, ей понравилась, но страшный диван в передней и надоевшие фуксии на окнах – ужасно неблагородно. А ящик с зеленым луком на подоконнике – ужас, ужас! Если бы Зинаида увидала, презрительно бы швырнула – лавочники!
Я старался себе представить, какое у ней лицо? Княжна, красавица… Тонкое, восковое, гордое? И оно выступало благородно-гордым, чуть-чуть высокомерным, как у Марии Вечера, с полумесяцем в волосах, которую я видел недавно в «Ниве»; то плутовато-милым, как у Паши, но только гораздо благородней; то – загадочно-интересным, неуловимым, как у соседки с удивительно нежным голосом.
За обедом я ел рассеянно. Мать сказала:
– Чего ты все мух считаешь?
– Заучились очень, екзаменты все учут… – вмешалась Паша.
Меня ужаснуло ее неблагородство, и я ответил:
– Во-первых, «екзаменты» не у-чут, а сдают! И… пора бы научиться по-человечески!..
– Какие человеки, подумаешь! – сгрубила Паша и стукнула мне тарелкой.
Все глупо засмеялись, и это меня озлило. Я сказал – голова болит! – вышел из-за стола, ушел в свою комнату и бухнулся головой в подушку. Хотелось плакать. «Боже, какая у нас грубость! – повторял я в тоске, вспоминая, как было там. – „Мух считаешь“, „екзаменты“… Ведь есть же люди, совсем другие… тонкие, благородные, нежные… а у нас только гадости! Там прислуге говорят – вы, лакей не вмешивается в разговор, приносит на серебряном блюде визитную карточку… – „Прикажете принять?“ – „Проси в гостиную!“ – Какая деликатность! Если бы совсем одному, на необитаемом острове где-нибудь… чтобы только одна благородная природа, дыхание безбрежного океана… и…»
И опять выступала Зинаида. Не совсем та, а похожая на нее, собранная во мне совсюду, нежная, как мечта, прекрасная…
Где-то она была, где-то ждала меня.
…Будто мы в океане, на корабле. Она гордо стоит на палубе, не замечая меня. Она высока, стройна. Тонкие, благородные черты сообщают ее лицу что-то небесно-ангельское. На ней голубое платье и широкая легкая «сомбреро» из золотой соломки. Легкий, но свежий бриз шаловливо играет ее пышными локонами пепельного оттенка, красиво обрамляющими ее наивно-девственное лицо, на котором еще ни одна жизненная невзгода не проложила своего удручающего следа. Я одет, как охотник прерий, со своим неразлучным карабином, в низко надвинутой широкополой шляпе, какие обыкновенно носят мексиканцы. Возле нее увиваются нарядные кавалеры с тросточками. Небесная синева чиста, как глаза младенца, и необозримый океан покойно и ровно дышит. Но барометр давно упал. Капитан, старый морской бродяга, опускает на мое плечо грубую свою руку. «Что скажешь, старина?» – показывает он бровью на едва различимое пятнышко на горизонте, и его открытое честное лицо выражает суровую озабоченность. «Господам придется потанцевать!» – лаконически отзываюсь я, окидывая презрением увивающихся кавалеров с тросточками. «Ты прав, дружище… – сурово говорит капитан, и по его обветренному, просоленному океанами лицу пробегает тревожной тенью. – Но ты со мной. Само Провидение… – и его голос дрогнул. – Предчувствие не обманывает меня: это последний рейс!.. Нет, дружище… твои утешения напрасны. Или ты не знаешь старого бродягу Джима?… Но эта прекрасная сеньорита… – показал он взглядом к тому месту под тентом, откуда доносился безмятежный смех молодой девушки, шаловливо игравшей веером, – поручена мне благородным графом д'Алонзо, из Буэнос-Айреса, старинным другом нашей семьи. Пусть все погибнут, но… – и на его глаза навернулась предательская слеза. – Поручаю ее тебе, дружище. Поклянись же священной памятью твоей матери, а моей молочной сестры доставить ее целой и невредимой к ее благородному отцу и сказать, что последним предсмертным вздохом старого Джима… был прощальный привет друзьям!» Я без слов крепко пожимаю честную руку морского волка, и непокорные слезы закипают в моих глазах. «Теперь я спокоен!» – с облегчением шепчет капитан, направляясь к своему мостику, но по его торопливым шагам я вижу, как он взволнован. Пятнышко на горизонте уже превратилось в тучу, ветер крепчает, начинает свистеть в снастях, налетает порывами и переходит в бурю. Налетевшим внезапно шквалом швыряет корабль, как щепку. Подкравшаяся чудовищная волна смывает кавалеров с тросточками, и рухнувшею на моих глазах грот-мачтой увлекает капитана в бушующую бездну. «Тонем! Идем ко дну!!..» – дикими голосами ревут матросы и рубят «концы» на шлюпках. Она, с развевающимися дивными волосами, простирает с немою мольбою руки. Но она неописуемо прекрасна. Я подхожу спокойно и говорю: «Сеньорита, перед вами друг! Само Провидение…» – и волнение прерывает мои сло-ва. «Ах, это вы?!.» – восклицает она с мольбою, и ее глаза, наполненные слезами, делают ее еще прекрасней, похожей на существо из другого мира! «Вы не ошиблись, сеньорита… перед вами тот самый незнакомец, который уже однажды, когда бандиты дона Санто д Аррогаццо, этого презренного негодяя… Но не стоит говорить об этом. Мужайтесь! Само Провидение…»
– Блинчиков-то покушайте… – услыхал я знакомый шепот.
Это – Паша. Она сунула на кровать тарелку и убежала, перебила мои мечты.
Без особого удовольствия я поел блинчиков. Навалившаяся тоска не проходила. Я принялся опять перечитывать «Первую любовь», но меня послали в библиотеку менять книги. Сестра сказала:
– Спроси продолжение Тургенева, два тома.
Мне показалось, что будет продолжение, и я весело побежал в библиотеку. С «Первой любовью» я уже не хотел расстаться и вместо нее понес еще не читанную «Скалу Чаек».
Стыдясь посмотреть в глаза, я спросил у лохматого:
– Пожалуйста, продолжение Тургенева… два тома! Лохматый понюхал книги, ткнувшись очками в каждую взглянул на меня насмешливо, – показалось мне, – и, напевая под нос – «прродолжение… прродолжение!» – отметил и выдал книги.
– Не задерживайте, все спрашивают «Первую любовь»! – сказал он строго из-под волос, и показалось, что он посмеивается. Я спустился в Александровский сад, присел на лавочку и стал отыскивать «продолжение». Но продолжения не было.
На обратном пути я зашел, как всегда, в часовню и приложился ко всем иконам, «чтобы все было хорошо». И тут была мысль о Зинаиде. Старичок в скуфейке потрепал меня по плечу:
– Пошлет тебе Угодник-Батюшка за твое рвение!
Я так растрогался, что положил на тарелочку копейку, и у меня не хватило на верхушку конки. Дорогой я сокрушенно думал, что Бог, пожалуй, накажет за такие мысли. Вот и иду пешком, – может быть, в наказание? И стало жутко: не провалиться бы на экзаменах!
Дома я взялся опять за книгу. Дочитав, как Володя прыгнул с высокой оранжереи к ее ногам и как она осыпала его поцелуями, я почувствовал такое волнение, что заструились буквы и страшно забилось сердце. Я испугался, что сейчас будет разрыв сердца, как у нашего булочника под Пасху, и стал креститься, призывая Великомученицу Варвару. «Может быть, это предупреждение, за дурные мысли? Господи, отпусти мне грехи мои!» Мне стало легче. Я намочил лоб квасом и пошел прохладиться в садик.
Я обежал его раза три, но мысли меня не оставляли. «Милая!..» – говорил я в небо, лаская словом. И то, что вчера случилось, казалось теперь чудесным.
Вчера я ходил по садику, разбивал каблуками лед. Самая-то последняя полоска, и вот – весна. На сарае сидел наш «Рыжий», кошачью весну правил, как говорила Паша. И вдруг я услышал возглас: «Боже мой, они раздерут Мику! Ми-ка! Мика!» От этого я вздрогнул. Это был нежный голос, небесный голос! Он потянулся к сердцу, и сердце мое заколотилось. «Ради Бога, молодой человек… пугните оттуда Мику… забегите сзади и пугните!» Я вертел головой и ничего не видел. Какая Мика? Откуда голос?! «Ах!.. – услыхал я капризный шепот, – какой вы… право! Да она же на столбике, в голубом бантике! Ну, кошечка!» И я наконец-то понял: кричали от соседей, за забором.
«Рыжий» уже поднялся и шел по крыше. На беседке, разинув пасть, горбился и водил хвостом незнакомый мне черный кот, встрепанный и колючий, злобный. А между ними, на столбушке забора, вылизывала грудку Мика, в голубом бантике. Я сразу сообразил – в чем дело. Я выбежал из сада, пугнул со стороны двора Мику, запустил в черного кота картечью и заработал «браво»! «Мика, Микочка… глупышка! Иди, Мика!.. Пожалуйста, еще пугните!..» Мика еще сидела на заборе, откуда разливался голос. Я наскоком пугнул ее, и она пропала за забором. «О, как же я вам благодарна, молодой человек! – услыхал я ласкающий, нежный голос. – Вы сберегли мне Мику, мою радость! Она еще совершенная девочка, а эти коты ужасны… Они бы ее разодрали! Ах, как я вам благодарна, милый! Нам мешает забор, а то, кажется, я бы вас расцеловала! Ах ты, глупенок ты этакий, Микушка!» И я слышал, как целовали Мику. «Спасибо и… до свиданья!» – услыхал я сочный, прелестный голос, словно меня самого поцеловали. Я что-то пробормотал, не помню. Когда я прильнул к забору, было поздно: мелькнула синяя юбка, и застучали каблучки на галерее. А в ушах ласково играло – «до свиданья!».
Это показалось теперь чудесным.
Щелястый забор к соседям представлялся совсем – как там. И казалось, что тут судьба, что у нас такой же забор, и флигелек за забором, и появляется иногда она. Чудилось радостно и жутко, что если сейчас взгляну, – увижу стройную девушку, и вот – начнется…
И в томительном ожидании и страхе я прикладывался к щелям в заборе.
Там был дворик одного вихрастого, странного человека. Вихрастый с утра до вечера громыхал опорками по двору, гоняясь за петухом с метелкой, и кричал на жильцов за беспорядки. Иногда ему отзывалась с галереи новая жиличка, толстуха в бородавках, что они с дочкой самые благородные и выносят помои всегда в необходимое место, «а не середь двора, прости Господи!». Вихрастый расшаркивался с метелкой, возя опорками, прижимал руку к сердцу и уверял, что это не к ним относится, а к этим свиньям-бахромщицам, с нижнего этажа. Гришка недавно назвал его – «дурак истошный», и последнее время я с интересом к нему приглядывался. А после одного разговора даже возненавидел.
Еще до Мики, только что переехали жильцы, я удивился, каким тоненьким голоском заговорил вдруг вихрастый.
– Я их, будьте покойны, уж допеку! – услыхал я дурацкий голос. Вихрастый стоял под галереей, как генерал, и яростно потрясал метелкой. Толстуха смотрела с галереи. – Свиньи необразованные! Воздух такой роскошный… самый весенний климат, приятно на воле чайку попить… и портят всякими нечистотами! Ну, скажите, пожалуйста?!.
– Да как же можно! Самая гигиена начинается… – поддакивала ему толстуха.
– А льют и льют! А у благородных людей и помоев не может быть!..
– Какие у нас помои. Дочка у меня образованная, доктора бывают… самые умные разговоры всегда у нас…
– Да я же… Ради Бога, не принимайте же на ваш счет… умоляю вас!.. – расшаркивался вихрастый, возя опорками. – Все мы, как благородные люди, и примите извиняющий поклон за неприятность, и… если вашей барышне какое беспокойство, и за платой не погонюсь, сгоню свиней! Моя мечта… в моем доме, чтобы только благородные, как семья! А перед женской красотой я всегда преклоняюсь. Имейте в виду… я человек решительный!
Меня возмутила его дерзость. Говорить так о барышне!.. Дурак истошный!
Фамилия его была Карих, и я одно время думал, что это немец, пока этот Карих не сдернул меня с забора. Но это случилось раньше. Он так меня дернул за ногу, что полетел вместе с сапогом, и так ругался, что я сразу понял, какой он немец.
На карихином дворе и жила она, еще до «Первой любви» и до истории с кошечкой привлекавшая мои взгляды роскошными каштановыми волосами, распущенными по всей спине, и вязаной белой кофточкой, чудесно ее обтягивавшей. Лицо же ее оставалось для меня неуловимым. Но кофточка-Кофточку я давно приметил. Такие кофточки назывались у нас – «жерсей», и это таинственное словечко меня почему-то волновало. Такую же кофточку купила себе на Пасху Паша, только синенькую с полосками, – «синенькое-то к блондинке лучше!» – и я из-за двери видел, как она вертелась перед зеркалами в зале, обтягивала бока и все хихикала:
– Ба-тюшки, груди-то как видать… ма-тушки, страм глядеть!..
Она увидала, что я подглядываю, – а в доме никого не было, – и стала вертеться пуще и охорашиваться, как глупая.
– А что, хорошенькая я стала, правда?… Блондиночка какая!.. – сказала она, вертясь, и выпятилась, как пьяная.
Я смутился и убежал, а Паша запрыгала и засмеялась. Она мне очень понравилась, но было чего-то стыдно.
Дворник Гришка, открывший мне много в жизни, сказал как-то, что это «все для приману любви, особенные штуко-винки… шибко их бабы любят, чтобы все свои потрохи выказывать».
Была у ней еще вишневая бархатная шапочка, как у студентов в «Фаусте», с бантиком на бочку, и придавала ей такой разудалый вид, что мне иногда казалось, будто это хорошенький ряженый мальчишка.
В тот вечер «Первой любви» я долго слонялся у забора, где лежала еще стеклянная полоска снега, но уже зеленел крыжовник, и Гришка справился, не потерял ли я пятака для игры об стенку. Я сказал, что потерял гривенник, и он поискал со мною. Самое это место казалось мне необыкновенным. Здесь говорила она со мной! «О, как я благодарна вам, молодой человек!» – сладко дрожало в моей душе. Какой голос, манящий лаской! Неужели она красавица? Мне казалось по голосу, что она истинная красавица, что у ней синие-синие глаза, розовый ротик и благородное выражение лица аристократки. Как она удивительно сказала: «ах, какой вы… право!» Капризно-гордо. Я досадовал, что не разглядел ее. Показал свою невоспитанность и дикость. Она подумает – какой же неразвитой мальчишка! Но, должно быть, я ей понравился, она удивительно сказала: «Нам мешает забор, а то бы я вас расцеловала!» Надо бы мне сказать: «Позвольте представиться… ваш сосед… мне так приятно оказать вам эту маленькую услугу, и я счастлив…» Всегда начинается с пустяков, и эта кошечка, прямо случай… Расцеловать! Я бы должен сказать на это: «О, я счастлив, что слышу вас… этот музыкальный голос!» Ну, что бы она сказала на комплимент? Сразу бы поняла, что нравится. А теперь и не познакомишься…
Мне было и очень грустно, что никогда не случится со мной чего-то необыкновенного, о чем я даже боялся думать, то радостно замирало сердце: а вдруг случится?… Но что же могло случиться?! Боялся себе представить: так это было жутко, чудесно-жутко! Но какое у ней лицо? Похожа она на Зинаиду? Но какое лицо у Зинаиды? Не мог представить. Прелестное, нежное лицо… Я восторженно рисовал себе, как она склоняется надо мной и осыпает безумными поцелуями, как в «Первой любви» с Володей, и замирал от счастья. С каким бы восторгом бросился бы и я с самой высокой оранжереи к ее ногам. Но у нас не было оранжереи, а с сарая – совсем не то, ужасное безобразие, и какие-то ящики и бочки… и еще этот дурацкий Карих в своих опорках. Все казалось таким противным, что было стыдно и хотелось плакать. Так, бывало, вернешься из театра после волшебного балета, а заспанная кухарка сердито сует тарелку с остатками поросенка с кашей:
– Нате вот, доедайте… а лапша прокисла.
Я прождал у забора до темноты, но она так и не появилась.
II
Что-то веселое мне приснилось…
Я смеялся еще впросонках, лицом в подушку, – так меня разбирало, до щекотки.
Проснулся – и тут же вспомнил: новое у меня, какая-то большая радость! Она дрожала во мне восторгом, сияла в глазах – утром. Колокола звонили. Новые колокола звонили!
Я увидал голубое утро на изразцах, совсем другое, чем было вчера и раньше, – новый какой-то отблеск, живой и свежий, – вспомнил, что печку топить уже не будут, что вчера выставили рамы, а сегодня весна и воскресенье, – и радость моя стала еще больше.
Я смотрел на чудесный отблеск и радостно-затаенно думал, как ходил вчера по нашему садику, где уже пропала последняя полоска снега и начинала показываться травка, и в томлении, радостном и жутком, сторожил у щелей в заборе.
Не ее ли во сне я видел?
Я зажмурил глаза от блеска. Она тянулась ко мне из утра. Она – близко, за нашим садом. Какое счастье, что она так близко, что сейчас я ее увижу… – и случится необычайно-радостное, должно случиться! Я смотрел с восхищением на образ, на розовый веночек, на сахарное яичко под лампадкой, и молитвенно говорил глазами, что так хорошо на свете, благодарил за открывшееся мне новое, за то, что пришла весна, что солнечное такое утро и на окошке стоят подснежники.
Кто же поставил их?…
Я смотрел на подснежники и вспоминал в восторге:
Какая от них нежность, свежесть! Весною пахнут, снежком и ветром. Синие они, от неба.
Постукивает щеткой Паша, метет у моей двери. Не Паша ли принесла подснежники?…
– Паша, который час?
– Во-семь било! – словно издалека поет Паша, – такой у нее сегодня певучий голос.
– Паша… кто поставил ко мне подснежники?…
Приятно переговариваться за дверью. Можно представить, что там не Паша, а совсем другая, только у ней Пашин голос.
Я жду, но она все постукивает щеткой.
– Ну что пристали?… Сами прибежали! – смеется Паша. «Она, она», – думаю я, счастливый. Стараюсь вспомнить ее лицо, но оно почему-то ускользает. «Она же на Богородицу похожа!» – стараюсь представить я. Вспоминаю ее розовые губки, ямочку на круглом подбородке, скромное, милое лицо, когда она о чем-то думает или шьет, и «незабудковые глаза», – так я писал в стишках. Вспоминаю свои стишки, сочиненные вчера только. Они не первые у меня, но «Старая мельница» совсем другое, – мертвое описание и тоска:
Когда я прочел «Русалку», – и написалось. Я прочитал Женьке, и он сказал, что никуда не годится и пахнет Пушкиным. Но эти стихи, «про глазки», совсем другие:
Мне нравится, но – четыре восклицательных знака! Но это потому, что восторг! Восклицательный знак употребляется для выражения удивления, восхищения, призыва… Женьке не покажу. Стихи прекрасны. Кому я написал их? Паше или… ей? Вышли они легко. Можно еще и Паше, и ей, и всем. Напишу про «Утро», про «Ожидание»…
А щетка постукивает дальше.
– Паша, да поди же сюда!..
Мне хочется ей продекламировать, но стыдно. Что-то она подумает? Я читал ей из Лермонтова «Маскарад». Она сказала, что очень много людей, и все поют. Она не понимает, но очень любит. Говорит – «слушать весело»! А мои сразу угадает, про кого…
– Ау-у!.. – отзывается звонко Паша и подбегает на цыпочках. – Ну, чего? То сердитесь, что вхожу без спросу, а то зовете? Ну, что еще?…
Она шушукается, боится, что ее услышат. Это меня волнует и мне приятно. Если застанут, что девушка входит к молодому человеку в комнату, когда он еще в постели, могут подумать все! Конечно, она боится.
– Да некогда же мне… – шепчет она нетерпеливо, поскрипывая ручкой двери.
– Вот что… Ты, пожалуйста, не входи. Кто поставил подснежники?…
– А, баловники… время мне с вами!.. Сенька Попов принес!
«Она, она. Это она за „уточку“!..»
Я подарил ей душки на Пасхе, в тонкой стеклянной уточке, сунул стыдливо в руку и убежал. А вечером Паша столкнулась со мною в коридоре, неловко сунула свою руку в мою и сказала серьезным шепотом: «Ну, давайте… Христос Воскресе!» И протянула губы. Мы поцеловались наскоро, будто по делу это. И лицо у Паши было совсем другое, серьезное, как в церкви. Целуясь, я слышал, как пахнет от нее «уточкой». А в руке у меня оказалось голубенькое граненое яичко – лежит в троицком сундучке, где редкости. Если смотреть в него, все представляется праздничным и другим, и Паша – в незабудковой кофточке.
Дверь отворяется на щелку, и видно свежее розовое лицо, с русыми бровками, и светлые взбитые кудряшки.
– Да вставайте, девятый час. Открыть окошечко?… – ласково шепчет Паша, оглядываясь зачем-то на коридор. – Теплынь сегодня!..
– Нет, уходи… – говорю я в смущении, под одеялом.
– Ну, как хотите.
Она притворяет дверь. Позвать и прочесть стишки? Нет, стыдно. Но она принесла подснежники, а я ей могу – стихи. Они уже переписаны, лежат на столе. Позвать и сказать: «Это для тебя я, ты принесла подснежники»… А она вдруг покажет?!. Значит, она входила, когда я спал? Не раскрылся ли я во сне? А если она влюбилась? Прошлым летом она попросила у меня карточку, где я снят один, в лесу, на поваленной березе. «Да у тебя же есть, все мы сняты!» – сказал я ей. «А вы почему одну меня сняли на карточку, на альбом? – спросила она лукаво. – Я тоже хочу одного вас. Уйду от вас – буду вспоминать». Если мы влюбимся, что тогда?… Ей только семнадцать лет, и все называют ее девчонкой. Осенью мне шестнадцать. Недавно она принесла мне блинчиков, а сегодня подснежники… Если бы я не нравился, почему она так ко мне?… Цветы же подносят, когда любят…
И я счастлив, что Паша такая милая, умная, красивая, что она принесла подснежники.
Радостное поет во мне, – радостное и новое.
За очень светлым окном, будто совсем без стекол, шумело новым – первым весенним шумом. Такого – я никогда не слышал. Живое звенело в нем, полное сил живое. Такое призывно-радостное, бодрящее, что было щекотно сердцу. Я замотал ногами и стал похлопывать по ушам, как в детстве. Заквакало, затрещало, и все выходило – «здравствуй»! С дребезгом мчалась конка, лихо трезвонили к обедне, стучали по-новому пролетки. Прыгали голоса и стуки. Даже старьевщик-скука дудел о сапогах и мехе как будто совсем другое – «не надо старья, у всех обновки!» Даже метелка Гришки шуршала куда быстрее, словно дразнилась с пылью, – «ну-кась – ну-кась – ну-кась», – выходило. Покатывались под навесом куры, бойко отстукивал колодец, резались под забором в бабки, весело хлопало коврами, и, вскрикивая, чихал кто-то, а Гришка считал и нукал:
– А ну-ка, разок… ну-ка?…
Он метет под моим окошком, тычет метлой к кухарке:
Я распахнул окошко, – и меня закружило шумом, пахнуло теплом и холодочком, чем-то неуловимо тонким, что бывает всегда весною, – весной только. Как будто – снегом… – таился еще он где-то! – дыханием деревьев, почек и первой чудесной травкой, зеленой преснотцою, – откуда-то доносило струйки. Пахло и двориком весенним – теплевшей пылью, сенцом и дегтем. В тополе расклеились почки, текли смолою. Первые, светлые, листочки совались копьецами, лепились в пачках, хотели распускаться. Я высунулся в тополь, и меня затопила свежесть, теплынь и зелень, и воробьиный щебет, и блеск, и солнце. Я потянул за ветку… Она подалась так мягко – и в комнате все зазеленело и стало новым. Нежные, клейкие листочки светились солнцем, свер кали изумрудно. Я любовался ими, ловил губами. Губы мои и щеки заклеились, залились соком. Пустил на волю – и все закачалось в блеске, радостно закивало копьецами.
Я увидал все это – такого еще никогда не видел! – и весь задрожал от счастья.
Я радостно умылся – водой как пахло! – и стал утираться у окошка.
Галерея звенела солнцем, кололо глаза от стекол. Крыши, с танцующими голубками, ворковали. Сияла пролетка у колодца, сверкала голубая струйка. Голорукий дородный кучер брызгал на Пашу тряпкой, топтался в луже. Визгливая Паша изогнулась, отряхивая юбку, бойко кричала из-под локтя. Я смотрел на ее крахмальную юбку, на пляшущую ногу, и меня сладко-стыдливо волновало. Гришка подкрадывался сзади, но Паша увидала. Кучер тряхнул кудрями:
– Не подходи, бьет задом!..
Мальчишки сидели в холодочке, кусали ситный. Пузырились на них новые рубахи.
Я взглянул на подснежники в стакане и поцеловал их синюю густую свежесть.
Далекое, радостное утро!..
III
В это утро я собирался с Женькой на Воробьевы горы.
Первая весенняя прогулка! Снаряженная сумка поджидала еще с поста. Мы хотели исследовать овраги, ночевать под открытым небом, у костерка. Женька натолок даже «пеммикана», говяжьего порошка, «без чего не бывает экспедиций». Я добыл листового табаку – «бетеля».
Но в это утро желанная прогулка потускнела. Хотелось рассказать Женьке, и было стыдно. Но про книгу рассказать необходимо: что-то теперь он скажет?! Неужели опять все то же, – «сердечная дребедень!» – и сплюнет?
Я с нежностью посмотрел на книгу. Она лежала на подоконнике, как вчера, раскрытая на заглавии. Атласная белая бумага казалась разноцветной. Радужное пятно от солнца, через стакан, с отсветами подснежников, сияло на четких буквах. Я колыхнул стаканчик, и радужно заиграли буквы, забились зайчики. Было удивительно красиво.
«Неужели и „Первая любовь“ не тронет?! – раздумывал я о Женьке. – Ведь тут показана самая идеальная любовь, святое святых любви! Только стальные души и каменные сердца… Отчасти он прав, конечно… нельзя отдаваться любви безумно, предаваться изнеживающим наслаждениям, как Ганнибал в Италии… но надо же различать, если она идеально влечет к себе! Ведь даже князь Гремин, суровый полководец, весь изувеченный в боях, и тот страстно полюбил Татьяну и поет: „Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны!“ Благотворны! А Женька уверяет, что любовь – чепуха и дребедень!..»
Любви Женька не признавал и на женщин смотрел с презрением. «Бабье в жизни мужчины, – говорил он решительно, – как пушечное ядро на ноге у каторжника! Если хочешь совершить подвиги, не поддавайся чарам! Яркий пример – Самсон! Я читал в одной редкой книге… гм!.. что к Наполеону перед решительным сражением под Аустерлицем привели такую красавицу немку, что даже старые маршалы почувствовали расслабление сил, и был момент, когда Наполеон задумался глубоко и… хотел поставить на карту все свое героическое прошлое, настоящее и будущее! Но… его Гений шепнул ему: „сырое мясо!“ – „Обыскать ее тряпки и вывести за черту лагеря!“ – крикнул Наполеон. И грянул бой. После победы Наполеон съел две порции бифштекса и сказал маршалам: „Не правда ли, друзья мои, что это прожаренное мясо не так опасно для славы и желудка, как сырое?“ Никто ничего не понял, и только потом уже догадались!»
Помню, на меня этот рассказ подействовал. Женька предлагал поклясться, что мы отныне никогда не предадимся изнеживающим наслаждениям, как Ганнибал в Италии, а примем за образец железный характер Цезаря. «Но ведь Цезаря называли… ты знаешь как!» – смущенно возражал я. «Да, называли „мужем чужих жен“! Знаю. Но это объясняется ухищрениями врагов!» – «Но его еще называли… „старый развратник“!» – «Может быть, к старости он и развратился и потому утратил славу и любовь народа! А я знаю… гм!.. из одной книги, что Цезарь ненавидел женщин, и с ним делались корчи, и он страшно скрипел зубами, если приходилось встречаться с женщиной». И, подражая великим полководцам, Женька боялся встречаться с дамами. Когда попадались навстречу гимназистки, он задирал голову, подымал плечи и переходил на другую сторону мостовой – прямой как палка.
Это был мой закадычный друг, года на полтора постарше. Он уже пробовал говорить баском, вжимая и раздувая шею, старался шагать «полковником» и настойчиво мял резину, вырабатывая «мертвую хватку» в пальцах. Я гордился его железной силой и независимостью в семье. Жутко бывало слушать, как он говорил при матери:
– Из гимназии выгонят?… Плевать. Махну в матросы!
А когда мрачные мысли начинали его давить, он встряхивался ретиво и вскрикивал из «Капитана Гаттераса»:
– «А компас показывал на Север!»
Чтобы закалить тело и приучиться к жизни, полной опасностей и лишений, он пил из загнивших луж, сплевывая по-боцмански, ел на прогулках какие-то «питательные корни» и глотал пескарей живьем.
– Мало ли что случится! – говорил он мечтательно. – Дослужусь до полковника, попаду в военную экспедицию, в Корею куда-нибудь… придется всего хлебнуть! Были великие путешественники, и еще будут!.. Надо готовиться.
Правда, он стал полковником. Был и в Корее, и на горах Карпатских, и пил из загнивших луж. И много хлебнул – всего…
Он уже «разговаривал» с учителями. Латинисту переводил с усмешкой – «Цезарь выстроил на холме три когорты… ветеринаров!» Историку начинал про обесчещенную Лукрецию с развалочкой: «Жила-была одна молодая жена одного мужа, по прозванию Лук-реция, соблазнившая своей красотой одного легкомысленного юношу…» А при попечителе рассказал, как «Пифия садилась на расселину, и из нее выходили одуряющие пары». Хрипевшего от удушья старичка-попечителя увели под руки, а не моргнувшего глазом Женьку посадили на воскресенье.
Словом, он был для меня авторитетом.
Прошлой осенью мы заключили с ним «союз крови». Мы сидели на нашей рябине и дружно читали «Дон-Кихота». Не помню, что нас растрогало. Было что-то в осеннем саду темневшем, в небе ли тихом, звездном, или в нашей душе притихшей: мы почувствовали любовь друг к другу, потребность ласки. Он обнял меня за шею, а я его.
– Тонька, – сказал он мне, – ты славный парень! У тебя дом, а у меня ни черта, но ты простяга. Потому и вожусь с тобой. И если когда-нибудь проживешься в пух и прах, рассчитывай на меня смело, я разделю с тобой последнюю корку хлеба! А если случится мне напасть на золотые россыпи, когда предприму экспедицию… твоя половина обеспечена. Вот моя рука, я не бросаю слова на ветер!
И на его глазах показались слезы. Навернулись и на моих. Я сказал:
– Для меня богатство на последнем плане, как для Дон-Кихота. Мой дом и кров всегда для тебя. Располагай мною, как… Вот, на нас смотрят звезды, и я…
У меня захватило дух. Вздохнул и Женька и сделал – гм!.. В волнении он всегда так делал, так всегда делают полковники.
– Дай руку… – сказал он глухо.
Он сдавил «мертвой хваткой», как всегда пожимают англичане, и произнес торжественно:
– Друг, предлагаю тебе «союз крови»! Так всегда поступают гренландские эскимосы, самый симпатичный народ на свете, ведущий борьбу с ледяными объятиями жизни и смерти!
Он сказал удивительно искренно, хотя я и уловил некоторую рисовку.
– Так было у Норденшильда, у Франклина, у… и у других. Тогда – навеки!
Мы спустились с рябины и заключили союз навеки. Он царапнул себя моим перочинным ножом повыше кисти и дал мне лизнуть крови. В сумерках она зачернелась струйкой. То же и я проделал.
– Менять ножи!
И отдал свой перламутровый.
– «Мои олени – твои олени, моя жена – твоя жена, мой огонь – твой огонь, моя жизнь – твоя жизнь!»
То же сказал и я.
– Теперь – потремся носами!
Мы потерлись носами, как всегда делают гренландские эскимосы, самый симпатичный народ на свете, и пожали друг другу руки.
Чудесный это был вечер под рябиной, в осеннем саду, при звездах. Пахло сухими листьями тополей, острой осенней горечью, растерзанными подсолнухами – последнею красотою сада, размятою горькою рябинкой, которую мы жевали, осенним холодочком. Но в сердце было тепло и сладко. Чудесное было впереди – вся жизнь. Такая же голубая даль, как небо над нашим садом.
И вот в то утро я ждал его.
IV
Он заявился франтом. Шинелька его была все та же, выгоревшая и в пятнах, накинута на одно плечо, но крахмальный воротничок, недавно столь презираемый, подпирал его оттопыренные уши, а на фуражке, с примятыми бочками, сияли начищенные лавры с выломанными буковками – для шику. От воротничка, должно быть, он показался мне еще длиннее и худее, остренькая черная головка – еще чернее, а вихры еще в большем беспорядке. Совсем недавно он считал лучшими духами в мире запах порохового дыма и смоляных канатов, – я добавлял к ним дымок бивуачного костра и соленую свежесть океана, – а сегодня он надушился какими-то кислыми духами, – сестра плеснула! – «ландышевым одеколоном», напоминавшим уксус.
– «Здоро-во, милый друг… здоро-во, ме-э-льник!..» – выкрикнул он с порога, и я сразу почувствовал, что у него что-то радостное.
Недавно мы видели «Русалку», и Женька стал величать меня «мельником», когда был в духе. А в это утро он прямо сиял от счастья, и веяло от него отвагой. Пропев «мельника», он сунулся в окошко, потянул и ноздрями, и губами и потащил ветки в комнату.
Он дергал ветки, словно звонил на колокольне, задел и свалил подснежники.
– Что это ты такой?… – удивился я его резвости. – Денег дали?
– Так, хорошее настроение… – улыбнулся чему-то он, и его остренькое лицо стало глупым. – А ты все зубришь… – увидал он книгу и заглянул. – А, «Первая любовь»… Знаю, чепуха!
Я только хотел спросить, почему он такой парадный, мы же идем на «Воробьевку», но его восклицание потрясло меня.
– Как чепуха?! По-моему, это… прелесть! Я прямо… влюбился в героиню!.. – Никакой и героини нет, а… размазано, больше ничего! – презрительно сказал Женька, отталкивая книгу. – Терпеть не могу сентиментальностей!
– Но она же страдала… от любви?!. – растерявшись, пробовал я отстаивать. – Ты нарочно…?
– Чушь. Почитай-ка про физиологию, узнаешь! – сказал он басом, напруживая горло.
Я был обескуражен. А он бухнулся на кровать, закинул ноги и стал насвистывать.
– А на «Воробьевку» как же?… Мы же условились… – говорил я растерянно, чувствуя, что случилось что-то.
– Сегодня не придется. Разные обстоятельства…
– Какие обстоятельства?
– Домашние…
Меня кольнуло. Я хотел упрекнуть его, но он перебил меня:
– На любовь, брат, надо смотреть проще. Как вдумаешься хладнокровно, с точки зрения… физиологии… – с важностью сказал он, словно читал по книжке, – просто… физическая потребность! Мужчина… гм!.. – продолжал он басом, разглядывая Пржевальского на стене, – чувствуя прилив… гм… физической потребности, берет женщину, как добычу! Это совершенно просто. И с ней бы не так надо, как размазано у Тургенева твоего, а… иди навстречу физическому влечению!..
Когда он сказал – «берет женщину» и «физическая потребность», по мне пробежало искрой, и я смутился.
– Но… почему с ней не так бы надо?… – спрашивал я растерянно, избегая глядеть в глаза. – Как же надо?… Я тебя не понимаю. У героя такая чистая, возвышенная любовь… к женщине… – с усилием выговорил я это, зазвучавшее новым слово, и сердце мое заликовало, – к прекрасной Зинаиде…
– «Во-звышенная»! – передразнил Женька. – Сама навязывалась, а этот слюнтяй Володька не сумел ее взять под жабры! Вон, Македонов-шестиклассник, влюбился – сразу и овладел. Теперь и живет с шикарной дамой, с бельфам! Так и с ней бы. Если бы со мной было…
Зинаида светилась передо мной, но сладость греха манила. Мне было жутко, и подмывало слушать.
– Но это же идеальная любовь! И тут… поэзия! – с восхищением спорил я. – Она, в своей ослепительной красоте… женщины… – выговорил я смущенно, чувствуя, что грешу, – была для него как небо, как… богиня, как идеал?!
Я смотрел в изумрудные листочки, и новое – открывшееся мне счастье – переполняло душу. Милая! – отзывалось в сердце.
– Хо-о!.. – засмеялся Женька каким-то бесстыжим смехом. – Да она самая настоящая гете-ра! сколько хочешь!.. Сама лезет – и хватай под жабры! – сделал он пальцами, словно помял резину. – Подарил бы ей там душков, прокатил бы на лихаче в Сокольники… а он со стенки прыгнул, дурак! Отец его понимал, в чем штука, хлыстом ошпарил! С женщинами надо всегда решительно!.. И он затянул песенку про «Анету»:
Я не узнавал Женьку! У него даже голос изменился, стал каким-то расслабленным и наглым, и манеры стали нахальные, словно его испортили.
– Женька!.. – кинулся я к нему, – услышат!! Это же… Мы же дали слово не оскверняться такими мыслями, грязными разговорами…! Помнишь, как у Сергия-Троицы с старцем Варнавой говорили!..
– В каждом индивидууме должна происходить ломка… убеждений! Прогресс идет вперед. В последнее время я много узнал из споров с очень развитыми людьми! К нам, к сестрам, приходят студенты-медики и даже приват-доцент! Спорим… Есть идеализм и реализм! И есть две дороги – жизнь со всеми… гм… страстями и наслаждениями, и монастырь! Я выбираю дорогу наслаждений и борьбы за право на счастье, чтобы все страсти и потребности… находили полное удовлетворение естественным путем!.. – сказал он бесстыжим тоном, распирая кровать ногами. – Быть жертвой женских капризов недостойно мужчины! Иначе он будет влачить жалкое состояние раба и… не совершит подвигов!
– А знаешь, и я бы прыгнул к ее ногам! – вырвалось у меня в восторге, и закололо в носу от счастья.
Она, чистая и прекрасная, представилась мне так ярко, склонилась ко мне так нежно… И я закричал на Женьку:
– Ты оскорбляешь идеалы! Женщина – это… божество!
И виденное во сне сегодня, чего я совсем не помнил, – как будто мелькнуло мне.
– Да, я непременно бы прыгнул к ногам ее! Пусть я сломал бы ногу, но… чувство выше ноги!..
– Ты уж блоха известная! – сказал Женька, сплюнув уголком рта, как всегда делают бандиты, и встал с кровати. – «И-эх, да на последнюю да на пятер-рку… наймем с ми-лай ло-ша-де-эй!..» – затянул он разнузданно и вытащил розовую коробочку с «Голубкой»… – Не трусь, я в окошко буду… Все чепуха… Почитай-ка физиологию… Лью-иса!.. – сказал он, расставив ноги и выпуская в ноздри густыми струями дым, как всегда делают матросы. – В сущности любовь происходит от раздражения… нервов, факт! Доказано на лягушке! Поговори с медиками… Например, Базаров у Тургенева… такой же взгляд. У нас спорили, и я согласен с медиками, а не с сестрами. Только приват-доцент колеблется. Доказано, что если мышам давать только воду, они могут жить, а любви и потомства у них не будет! Факт!.. Даже и поэзия прямо смотрит. Декамерона как-нибудь притащу… тогда увидишь!..
– Ах, гости у вас!.. – хихикнула в дверь Паша и убежала. Должно быть, хотела убирать комнату. На Женьку она всегда смеялась, а он напускал суровость. Так и теперь случилось: Женька насупил брови.
– Недурна девчонка! Только не советую тебе, рано. Лучше занимайся гимнастикой. Впрочем, она для тебя… богиня, не опасно.
Мне стало стыдно, что я написал стишки, и я сказал, стараясь прикрыть смущение:
– Да, я признаю только идеальную любовь!
– А если она вдруг сама придет к тебе ночью, с распущенными волосами?…
– Как же она… может ко мне прийти?! – изумился я искренно и тут же вспомнил, – «а она ведь ко мне входила, когда принесла подснежники!» – Неужели сама женщина… может прийти к мужчине?! Это же неприлично… – ужаснулся я, сознавая, как мне приятно, что Паша ко мне входила.
– Это бывает часто, потому что… физи-оло-гия! – сказал Женька уверенно. – Когда мужчина нравится женщине… Со мной раз было, когда гостил на даче у Соколова… гм!.. Там была одна дама… очень эффектная…
– Да?!. – задохнулся я от волнения, – что же было?…
– Что… Понятно, пал!.. – небрежно ответил он, отводя глаза.
– Ты… пал?! – ужаснулся я, чувствуя жгучее любопытство услышать все. – Но ты же мне не рассказывал… Неужели ты…?
– Об этом не говорят. Лучше заниматься гимнастикой. Он проделал несколько упражнений.
– Кровь приливает, отливает… В «Гигиене для молодых людей» про все есть. Я тебе притащу.
– Но почему же она, по-твоему, гетера? Она же терзалась от любви, а гетеры… только для услады пиров! – продолжал я волнующий разговор.
– Знаешь ты гетер! – усмехнулся Женька. – Вот тебе Клеопатра… или Аспазия… За одну ночь наслаждений они требовали платы… жизнью! – сказал он мрачно и пообещал притащить «про гетер» особенную редкую книгу. – Македонов сейчас читает! – И ты… уже пал?! – пробовал я дознаться.
– Не стоит… – уклончиво сказал он, – это одна из рискованных страниц моей жизни. Я находился на краю пропасти!..
– Но, Женька… Но мы же заключили…
– Она уже умерла… – сказал он глухо. – Не будем тревожить воспоминания.
Мы помолчали в трескучем щебете воробьев.
– Значит, не пойдем сегодня на «Воробьевку»?
– Сегодня не придется… – озабоченно сказал он, и его тощее, угловатое лицо стало строгим, как на геометрии у доски. – Свиданье у меня, с одной особой…
– У тебя свиданье?! – воскликнул я.
– Ну да… с одной особой! Что же тут удивительного?!. В его тоне слышалось торжество, и меня уколола ревность.
– С какой… особой? – спросил я его с укором.
– Разумеется, с женщиной!
– С… женщиной?! – повторил я звучное это слово, какое-то странно-новое. – У тебя… с женщиной…?!
Это слово звучало во мне соблазном, нежностью Зинаиды, лаской. Вспомнилось – «Мика, Мика!..» – «ах, как бы я вас расцеловала, ми-лый!».
– Ну… может быть, я влюбился… – нерешительно выговорил Женька, словно и его смутило, и его тонкий и длинный нос – признак мужества, по его словам, – вытянулся еще больше.
– Ты врешь, Женька?… – недоверчиво сказал я.
– Что же, по-твоему… не могу я влюбиться?
– Ты… влюбился?! – воскликнул я, только сейчас заметив, что его хохолок в помаде, и стало ясно, что Женька действительно влюбился.
И меня охватило радостью, родившеюся во мне сегодня: да ведь и я влюбился! Эта радость сияла на синем небе, на подоконнике, в хрустале, на весенних подснежниках, в радужном озарении на книге. Звенела во мне: влюбился!..
– В кого… Женька?
– Ты ее не знаешь… – мечтательно сказал он в окно. – Скоро притащу карточку, увидишь!
– Но как же теперь… что же ты будешь делать?…
– Что делать… – как будто смутился Женька, – ухаживать! Будем прогуливаться, сближаться… как всегда делается! Сперва – общие разговоры, чтобы узнать друг друга, а потом… как-то получится! Жениться, понятно, я не буду, связывать себя! Македонов говорит – смелей! Написал письмо. С женщинами надо решительно…
И он взглянул на меня, словно искал поддержки.
– Женька, милый… – предостерег я его, – а если из гимназии выгонят? Помнишь, в прошлом году… Я напомнил про пятиклассника Смирнова, как мать одной гимназистки показала инспектору записку, и Смирнова посадили на воскресенье. Но Смирнов был любимчик, а Женьку выгонят!
– Плевать, в юнкерское уеду. Моя не гимназистка, и я брюнет. Брюнеты всегда раньше…
– Она… не гимназистка?! Кто же она?…
– Она… акушерка! – сказал он важно.
– Акушерка?! – воскликнул я.
Это меня страшно поразило: акушерка! У нас была знакомая акушерка, стриженая, вертлявая старушка с саквояжем, пропахнувшая насквозь карболкой. Она закидывала ногу за ногу, сосала тонкие папироски и все черкалась, и у нас в доме говорили, что все эти акушерки – «сущие-то оторвы».
– Ну да, акушерка… – нерешительно сказал Женька – Но… они же по таким делам! – объяснил я в смущении, представляя себе старушку, – и воняют всегда карболкой!..
– Ну что ты понимаешь! – сказал Женька презрительно. – Моя, во-первых, самая настоящая бельфам и пахнет ландышами! Роскошная ж-женщина… – проговорил он бесстыжим тоном и потянулся в неге, и мне мелькнуло, что он хочет предаться изнеживающим наслаждениям, как Ганнибал в Италии. – Прямо, моя мечта!..
– Значит, она… красивая? – расспрашивал я смущенно, уже завидуя.
– Краса-вица, как античная Венера… все формы, поражающие глаза, дивные волосы… самая настоящая бельфам! Раз уже провожал! Поговорили, вообще… о развитии…! Очень интересовалась моим развитием, советовала прочитать этого… как его?… – Шпильгагена! Взял вчера «Один в поле не воин», – чушь. Скажу, что читал.
– Хорошо, но как же ты так… Как же вы познакомились? Ведь стыдно как-то…
– Чепуха. Сначала переглядывались, потом проводил от всенощной до крыльца и прямо отрекомендовался: «позвольте с вами познакомиться!» Вот и все.
– Так, сразу?! А она…?
– Сразу обернулась и… Женщины любят, когда решительно. Немножко удивилась… «Ах, это вы? Как вы меня испугали!» Вот ей – Богу! И засмеялась… Поражающие глаза!
– Так просто, сразу?! – не верил я.
– С акушерками всегда легко себя чувствуешь! – хвастливо говорил Женька, примасливая хохол и вытирая руку о коленку. – Македонов говорит… все акушерки очень легко смотрят на физиологические сношения, для них естественно! Прошлись к Нескучному, поговорили про Шпильгагена… Оказалась ужасно развитая, массу читала.
– Она… очень молодая? – спрашивал я, не веря.
– Двадцать лет так… Недавно только акушерские курсы кончила. Уж не девица, видно!
– Почему видно?
– Сразу видно! По глазам. Сразу дала понять, глазами. – Как, глазами?!. – выпытывал я смущенно.
– Да это же сразу видно! Если движения такие… ну, как бельфам, и формы… Без ошибки могу узнать.
– А как же у вас… дальше?
– Дальше… увлекать надо! Попросил карточку и локон, обещала притащить. Синеватое пенсне носит, для красоты!
– Неужели и локон даже, так сразу?! Этого не бывает никогда, чтобы сразу…
– Зависит, как приступить! Надо знать психологию. Женщины любят, когда настойчиво! Наполеон всегда говорил: «Идешь к женщине – бери хлыст и розу!»
– Но ты же сам говорил, что Наполеон относился с презрением?…
– Это-то и выходит – презрение! Смотрел, как на… красивое мясо! Хлыст!.. И я ей прямо: «Влюблен безумно и хочу ваш локон!» Сразу и пошло. Пожал руку – даже затрясла.
– Ты ей… неужели по-английски?!. – поразился я.
– Понятно, мертвой хваткой! Вот так…
Он так мне стиснул, что я зашипел от боли.
– Так и просияла! Женщины любят в мужчине силу. И сказала: «Боже, какой вы сильный!» Ясно, физиология… А когда попросил локон… – чудесные волосы, как шелк!.. – так взглянула необыкновенно…! Сказала: «Боже, какой же вы романтист!»
– Такого слова нет «романтист!» Романист?
– Отлично помню, что «романтист!» Романист – это который романы пишет, а…
– Надо сказать – романтик! А не романтист!.. Не понимаю, какое у ней развитие, если… романтист?!.
– А – гимна-зист?! Можно как угодно… Главное, замечательно красива, и все движения… Здорово в нее врезался!.. Македонов говорит… пожалуй, клюнет! Пожалуй, может начаться… связь!.. – шепотом сказал Женька, вытаращил глаза, и меня охватило жутью.
– Значит, ты будешь, Женька… семейной жизнью, с ней!.. – спросил я его, жалея и стараясь себе представить, как это может выйти. – Переедешь к ней? Мать, пожалуй, не согласится…
– Не семейная жизнь, а просто… связь! – посмотрел он на потолок растерянно, и мне показалось, что он боится. – Немножко жутковато, как это может получиться… А Македош-ка говорит – пустяки! Главное, не робей! Ну… все равно. Ничего не поделаешь…
Он прошелся по комнате, в волнении потирая руки, задумчиво посмотрел в окно, на воробьев, прыгавших и оравших в тополе, и, что-то решив, сказал:
– «А компас показывал на Север!»
Взглянул на истертые серебряные часики с ключиком, от отца, – и тревожно сказал: пора! Я понял, что у него свиданье, и сердце мое заныло ревностью.
– Теперь ты, пожалуй… и заходить не будешь! – сказал я в тополь, удерживая губы.
– Нет, почему же… – сказал он неопределенно, разглядывая себя в зеркальце, – все-таки буду заходить…
Он так раздувал шею, выпячивая кадык и так втискивал в плечи голову, что набежали под щеки складки и лицо стало – «как у полковника». Бросив рассеянно-небрежно: – «ну как, ничего морда?» – он даже не простился, а сказал только, что вечерком, может быть, забежит.
V
Эта история меня страшно взволновала.
Еще совсем недавно Женька доказывал, что если хочешь сделаться знаменитым – великим путешественником или полководцем, – надо вести самый что ни на есть суровый образ жизни и отнюдь не связываться с бабьем, а то – пропало! И приводил в пример Александра Македонского, Наполеона и Тараса Бульбу, которые никогда не предавались «изнеживающим наслаждениям» и сохранили великую силу духа. У запорожцев ни одна женщина не смела переступить за черту лагеря, а то – смерть! Александр Македонский умер даже бездетным, и на вопрос – кому же царство? – сурово сказал: «достойнейшему»! Подражая героям, Женька избегал даже разговоров с дамами и принимал неприступный вид. И вот – влюбился!
Очевидно, она необыкновенная красавица, если даже железный Женька не устоял.
И она рисовалась мне похожей на Зинаиду в «Первой любви», – стройная, высокая, в черной шелковой амазонке, с хлыстиком, с благородным, тонким лицом горделивой красавицы, одно мановение руки которой делает все возможным. То являлась таинственно-очаровательной соседкой, с каштановыми волосами и ласкающе-нежным голосом, от которого замирало сердце. То – Венерой, с роскошными формами, от которых пахнет ландышами. Я вспоминал «акушерку», и это меня смущало. Вспоминал, что «все акушерки – как гетеры», и мне становилось страшно: погубит его любовь! Я не раз слышал, как «погубила его любовь!» – и знал примеры. Максимка-лавочник с нашего двора спутался с арфисткой из трактира Бакастова, потерял голову и пропал. Я эту арфистку видел. Ее увозили на извозчике, простоволосую, в красной шали, а на подножках стояли городовой и дворник. Арфистка Гашка дрыгала ногами в голубых чулках, озиралась глазищами и проклинала всех подлецов, хватая дворника за свисток, а на пороге закрытой лавки сидел Максимка и умолял похоронить его на высокой горе в цветах. Все кругом хохотали, только Гришка один сочувствовал:
– Не плачь, гармонистом будешь! Вытрезвится в части, будете песни играть ходить! А с мясником она не уйдет, же-на-тый!
– Н-нет, прошла тройская жизнь! – рыдал Максимка, стуча кулаком в порог. – Пряники ели сладкие… привыкла она к роскошной жизни! Шабаш!.. Погребите меня с ней вместе… на высокой горе, в цветах!
– У Баскакова не зароешь! – смеялись люди.
А наутро нашли Максимку в сарае, на сахарной бечевке.
– Пропал через любовь! – сказал мне Гришка. – Не дай Бог с язвой с такой связаться. Вредная, дьявол, троих купцов заиграла!
Это воспоминание усилило мои опасения за Женьку: погибнет через любовь!.
Я размышлял об этом, когда Паша пришла убирать комнату. Приход ее очень меня встревожил. Я из-под локтя следил за ней, как она изгибалась, выметая под стульями, ловко переставляя ноги. Она уже приоделась и стала интересней. От разгоревшегося с работы лица ее, от гофреного нагрудничка, от русой ее головки с голубым бантиком и от высоких черных чулок из-под прихваченной пажом юбки шло на меня ласкающее, радостное очарование. Я смущенно следил за ней, и лаской во мне звучало новое слово «жен-щина». «Жен-щина… женщина…» – словно ласкал я Пашу, черные ее ножки в прюнелевых ботинках, пышные складки фартука, светлые бойкие кудряшки. И новое это слово делало Пашу – новой. Будут бранить за фартук – с утра оделась: «в голове мальчишки!» А у ней благородный профиль. «Что-то в ней благородное!» – говорили сестры. «Это у деревенских часто, от крепостного права». Мои взгляды словно передавались Паше: она иногда оглядывалась, переставляя вещи. Меня смущало, и хотелось, чтобы она заговорила. Я смотрел на подснежники и думал: стишки ей надо!..
Скажу, что за подснежники это я! Поэты всегда подносят и пишут – «К ней»… Или только таинственную букву и звездочки? «Тебе, прекрасная из Муз!» Если ее одеть в тунику и обвить цветами, она будет похожа на богиню весны Флору.
Я вспоминал – «физиологические отношения», «берет женщину, как добычу», – смотрел на Пашу, и мысли дразнили меня соблазном. А вдруг она придет ночью, с распущенными волосами? Я стыдливо закрылся локтем. «Господи, я грешу! Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем! Я прелюбодействую… Но я же слабый, грешный… Но для чего же тогда… красивые женщины? Мне уже скоро шестнадцать… Почему же грешно?» На Страстной спрашивал меня батюшка про дурные мысли, не заглядываюсь ли я на женский пол. Я смутился и сказал: «Не знаю». Батюшка посоветовал читать чаще – «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения…». Но Паша ведь не лукавый и не соблазняет меня, она принесла подснежники… просто мне с ней приятно! Такая радость, как от цветов. Греки любили красоту, и Христос любовался лилиями. Паша – как лилия! «Ты, лилия полей… Ты – полевой цветок…» Полей, полей…? «Скорей, вина налей!..» Я схватил перышко и записал. Руки дрожали. Я напишу стихи, много стихов!.. «Я уронил платок… Ты подняла так нежно… Взглянула на меня… небрежно?!» И так легко выходит! «Ты мне даешь намек… что полевой цветок… увянет под косой жестокой… И буду горевать… о деве синеокой!» Я написал неожиданно дивные стихи! Паша, как Муза, посетила меня… И она этого не знает!..
Мне стало трудно дышать от счастья. Перед глазами лежала книга, раскрытая на заглавии – «Первая любовь». Радужное пятно пропало, солнце ушло за крышу. Я посмотрел на подснежники, на Пашу. Она возилась, выметала из-под стола. От нее пахло «уточкой» или душистым мыльцем. Ей подарили розовые яички, с ребрышками, душистые. Я косился на ее виляющую юбку, пристегнутую пажом, на бойкие ноги, ловко переступавшие. Мне стало трудно дышать, и в ногах побежали иглы.
– Ну, пускайте, читатели… – сказала Паша, цепляя меня щеткой. – Расселись не у места! Я уткнулся в книгу, будто ничего не слышу, напружил ногу. Она подергала…
– Да ну же, пускайте, всамделе, некогда… А то сдерну!.. Щетка меня дразнила. В голове сладко замутилось.
– Попробуй, сдерни!..
– А вот и сдерну! – сказала она задорно, цепляя ногу. – Ишь, голенастые какие… Да ну, пускайте!
Я взглянул на нее задорно, увидал точки ее зрачков, остро в меня смотревшие, близкие розовые губы, похожие на цветок-бутончик, темную родинку на шее… Губы ее смеялись, глаза смеялись…
Она подергала ногу, и я подергал. Мы смотрели в глаза друг другу, и что-то у нас было… И щетка была живая – сама Паша. Я схватил щетку и потянул, и мы принялись возиться. Она ловко вертела щеткой, выкручивая из рук и упорно смотря в глаза, и толкнула меня коленкой. Я почувствовал ее ногу, и меня обожгло огнем. Я перехватил за кисти и стал тянуть. Разгоревшееся ее лицо приблизилось, и я чуть не поцеловал ее. Губы ее кривились, глаза смеялись… Вдруг она строго зашептала:
– Оставьте… услышат, возимся… Нехорошо, оставьте… От ее шепота мне стало приятно-жутко, будто мы знаем что-то, только одни мы знаем, чего другие не могут знать. Я отнял руки.
– Сама начала возиться…! – сказал я, задыхаясь.
Она запыхалась тоже, измяла фартук. Глаза ее блестели.
– Рано вам возиться!.. – сказала она насмешливо, стукая под столом и взглядывая плутовато из-под локтя.
– Почему это рано?…
– Потому! Усы не выросли… Я не смог ничего ответить.
– Смотрите, не скажите! – погрозилась она от двери, разглаживая фартук. – Всю измяли, баловники…
Меня охватила радость, что она так сказала, что у нас с ней что-то, чего другие не могут знать.
Она ушла, а я долго ходил по комнате, вспоминая ее лицо и руки, и открытые пажом ноги.
Паша – женщина… и у меня с ней – что-то… Неужели мы с ней влюбились?! Она принесла подснежники…
Я стал разбирать каракули.
Как же дальше?… Боже, как это хорошо!.. «Ты мне даешь намек… Что полевой цветок… Увянет под косой жестокой! И буду горевать о деве синеокой!» Конец, больше ничего! Все. Но почему – увянет под косой? Очень понятно, потому что…
В восторге я засновал по комнате. «Синеокая дева… ты, Паша! Ты дева, но ты – женщина, чудная женщина! Ты придешь ко мне и скажешь, стыдливо прошепчешь: „я – твоя“!»
У меня замутилось в голове. Я наклонился к подснежникам и поцеловал их свежесть. Пахли они так нежно, тонко, как будто хлебом. Я увидал – «Первая любовь»! И страстно поцеловал страницу – Зинаиду. В голубом платье, стройная, с алыми свежими губами, как у Паши, она улыбалась мне.
– Ми-лая! – зашептал я страстно, сжимая пальцы, – приди ко мне… покажись мне, какая ты?!.
Я зажмурил глаза до боли. И увидал ее, создал воображением. Увидал – и забыл сейчас же.
VI
А Паша уже на дворе, звала:
– Да Григорий!.. И куда его шут унес?…
– В трактир с земляком пошел… – сказал от сарая кучер. – Хочешь подсолнушков, угощу?
Через тополь мне было видно. В начищенных сапогах с набором, в черной тройке на синей шерстяной рубахе и в картузе блином сидел в холодочке кучер и грыз подсолнуш-ки, клевал в горсть. Паша подошла и зачерпнула, а он опустил горсть в ноги и защемил ей руку.
– Во, птичка-то на семечки попалась!..
– Да ну тебя, пусти… хозяева увидят! – запищала она, смеясь.
Мне стало неприятно, что она и с кучером смеется, – и как он смеет! – и я сказал про себя – болван! Она сбила с него картуз и вырвалась.
– У, демон страшный, – крикнула она со смехом уже с парадного, – свою заведи и тискай!
– В деревне свою забыл, далече… – лениво отозвался кучер, грызя подсолнушки.
«Молодчина, Паша!» – подумал я.
Зашла шарманка. Два голоса – девчонка и мальчишка – крикливо затянули:
Я высунулся в окошко, слушал. В утреннем свежем воздухе было приятно слушать. Весь двор сбежался. Явилась Паша. Поднялся кучер. Слушал и грыз подсолнушки. В клетке, на ящике, птички вытаскивали билетики – на счастье. Читал конторщик, совсем мальчишка, в шляпе, при галстуке шнурочком, с голубыми шариками, в манишке. Читал и смеялся с Пашей. Вырвал даже у ней билетик! Я не утерпел и вышел. Загаженные снегирь и клест таскали носиками билетики.
– А ну-ка, чего вам вынется? – сказала задорно Паша.
– Глупости, поощрять суеверия! – сказал я.
– Собственно, конечно-с… – сказал конторщик, – шутки ради, для смеху только, а не из соображения!
Он был прыщавый, – «больной и ерник», – рассказывал мне Гришка. Несло от него помадой.
– Ну-у, ужасно антересно, чего вам выйдет! – юлила Паша.
– Судьба играет человеком! – засмеялся конторщик. – Прасковье Мироновне вышло очень деликатно.
– Будто все мне станут завидовать, вышло! – юлила Паша. – Через высокое положение! Ну, а вам чего?…
Меня очень тронуло, что она думает обо мне. Я дал семитку. Снегирь тыкался долго носом, выдернул, наконец. Вынулся розовый билетик.
– И мне розовый, ба-тюшки! – заплясала Паша. – А вам чего насказано? Мне 87 годов жить! Да путем никто не прочитает… Хоть бы вы меня грамоте поучили… «по-человечески»!
Она смеялась, а у меня играло сердце. Я вспомнил – «екзаменты все учут»! Какая же она умная!
Я взял у ней розовый билетик, чувствуя радостное волнение, что – «у нас с ней что-то», что касаюсь ее руки, и прочитал, как старший, а она, усмехаясь, слушала. Было вроде того, что – вам шибко покровительствует щастливая планида «Венера», и «козни врагов (конечно, это кучер и негодяй-конторщик!) минуют вас, вы в скором времени получите желаемое от любимой вами особы (как это верно!), но не возгордитесь вашим высоким положением! Все будут завидовать вам в щастьи…»
– Вот как хорошо насказано! – обрадовалась Паша и вырвала у меня билетик. – Может, замуж за князя выйду!
– С шурум-бурум-то ходит! – сказал конторщик.
– По-шел ты, с шурум-бурум! – толкнула его Паша. – Не хочу татарина, а желаю барина!
И она подмигнула мне:
– А чего вам выходит?
От ее песенки и от того, как она подмигнула мне, я почувствовал, что краснею, сказал – «после» и побежал к себе. И сейчас же понял, что я влюблен, что и она, должно быть, в меня влюбилась, и мне без нее скучно. Хотелось, чтобы Паша пошла за мной, и я бы прочитал ей, одной. Но стыдно было сказать, а она почему-то не догадалась.
Я раскрыл розовый билетик – такой же достался Паше, а были всякие! – и прочитал с волненьем: «Меркур-планида благоволит к вам. Ваши пылкие чувства разделяет близкая вам особа, но укротите страсть вашу, чтобы не доставить огорчения прекрасному существу, которое вами интересуется. Не превозноситесь успехами, дабы изменчивая Фортуна не отвернулась от вас…»
Я перечитывал кривые строчки, вдумываясь в судьбу.
«Близкая вам особа…» – Паша? Разделяет мои пылкие чувства! Да, я… люблю ее, люблю! – повторял я молитвенно. И она принесла подснежники. Ясно, она влюблена в меня, разделяет мои чувства, заигрывала со мной и сейчас так смотрела! «Хочу за барина»! «Может быть, за князя выйду!» За образованного?! Но почему же – «старайтесь укротить страсть вашу, чтобы не причинить огорчения прекрасному существу, которое вами интересуется»? Кто же это прекрасное существо, которое мною интересуется? Неужели это – она? – подумал я про соседку с роскошными волосами и чудным голосом. – Если – она?… Вчера она выглядывала с галереи к садику… Если это она… Господи!..
На дворе все еще галдели. Я посмотрел в окошко. Высокий кучер стоял в толпе скорняков и сапожников и махал синим билетиком. Паша подпрыгивала, стараясь у него вырвать. Прыгали с ней мальчишки. Мне стало неприятно, что она рядом с кучером. Он, должно быть, ее дразнил: мотнет перед носом и поднимет. «Болван!» – шептал я от… ревности? Противны были его черные, жирные усы, толстое бурое лицо и широкий крутой картуз. Противно было, что к нему забегала в конюшню Манька, уличная девка из трактира, которую дразнили все – «Манька, на пузо глянь-ка!». Противно было, что кучер был очень сильный, – мог поднимать пролетку. Женщины любят в мужчине силу! «Если бы его лягнула лошадь! – злорадно подумал я. – И чего к нему Пашка лезет?» А она так вот и вертелась! Тут же вертелся и конторщик.
Кучер мазнул Пашу бумажкой по носу и дал конторщику:
– Начисто вали все! Чего присказано?…
Я не мог расслышать, но, должно быть, было смешное что-то: все вдруг загоготали, а Паша запрыгала бесенком.
– Сразу четыре жены будет!.. – донесся ее визгливый голос.
Она хлопала кучеру в ладоши под самыми усами – вела себя просто неприлично! Кучер долго отмахивался, крутил головой и, наконец, плюнул:
– Пускайте, жарко!
Расталкивая, он больно ущипнул Пашу, – так она завизжала!
«Ах, негодяй! – возмутился я. – И она… развращенная девчонка! И я посвятил стихи! – Мне стало стыдно. Прекрасная из Муз! Возится с кучером, как Манька!.. „Ты мне даешь намек… Что полевой цветок… Увянет под косой жестокой… И буду горевать… О деве синеокой?…“ Никогда! Никогда не буду горевать!.. И не о ней это вовсе, а вообще… об идеале!»
Мысли летели роем.
…Если разбит идеал, я напишу эпитафию, вот и все. Мне никого не надо. Мир велик, уйду в дикую пустыню, зароюсь в книги, как старый Фауст. И вот, на склоне дней нежданно постучится гостья! В плаще, в сандалиях… «Ты меня искал… и я пришла!» Дрожащими руками я подвигаю обрубок дерева: «Вот вам кресло, отдохните…» Она снимает капюшон, и… Боже! Она!.. Я простираю руки – и умираю. «Поздно, но я счастлив… я красоту увидел неземную! Дайте вашу руку… и прощайте!..»
Шарманка пустилась дальше. Скоро я услышал, как на карихином дворе запели:
Я лег на подоконник и, выворачивая шею, стал смотреть, не видно ли ее на галерее. Но как я ни тянулся, и галереи не видно было. Может быть, спустится к шарманке? А может быть, ушла к обедне? Выбежали бахромщицы, но появился с метелкой Карих и погнал шарманщика со двора.
– У меня тебе не трактир, а приличный дом! – закричал он, как бешеный. – Порядочные люди спят, а тут содом подымают! Вон!!. Собаку заведу на вас, окаянных!..
Я понял, что она еще спит, что Карих так говорит – про «барышню». И вдруг я услышал ее голос, как музыка:
– Ну что вы, право… Степан Кондратьич! Это же так приятно, на свежем воздухе… Я ужасно люблю шарманку!..
Я весь высунулся в окошко, схватился за сучок тополя, но увидал только отблеск стекол. Белелось что-то.
– Пустая музыка-с. Самая дикая, орут очень, паршивцы! – раскланивался Карих. – На роялях когда возьмутся, это так. А тут побоялся, что вас обеспокоят… поздно вы вчера вернулись!..
– Боже, какой вы милый! – пропела она дивно. – Правда, вчера я немножко загуляла.
И я услыхал ее удаляющийся напев, нежный-нежный, как звуки флейты:
Дверь на галерее захлопнулась. Карих, опершись на метлу, смотрел под крышу, а я на Кариха. И в сердце звенело грустью:
VII
В дальнем дворе тягуче вела шарманка, и доносило песню. И вдруг меня охватило дрожью, даже зазвенело в пальцах. В груди сдавило, чуть я не задохнулся от… восторга? Что со мной сделала шарманка! Вдруг захотелось мне излить ей свою любовь, высказать свои чувства…
Я решил написать стихами.
Вчерашние мне не нравились. «О, незабудковые глазки!» Это же написал я Паше… Она недостойна их, пусть ей напишет кучер или этот дурак конторщик! Они только и умеют, что «черная галка, чистая полянка» да «когда я был сло-бодный мальчик». И потом… у Паши глаза, как незабудки, а у нее?… Я не знал – какие. Божественные, небесные? Ее мелодичный голос, похожий на звуки арфы, – «ах, Ми-ка… она еще со-всем де-вочка…!» – и как она царственно говорила Кариху – «Боже, какой вы милый!» – пропела будто, и таинственная ее неуловимость – я не мог рассмотреть ее! – делали ее для меня полной тайны и неземного очарования. Она таилась в чудесной дымке, как дивная Зинаида, лицо которой – неземная красавица! – было для меня неуловимо. Это я должен высказать, как сладкую муку сердца! И я решился.
Я исписал несколько листочков, но стихи все не получались. Вышло всего две строчки:
Рифму на – «тайна» я так и не мог найти. Я знал, что бывает «пафос», когда посещает Муза, и тогда только записывай! Вот как сегодня, Паше: «Ты – лилия полей… Ты – полевой цветок… Скорей, вина налей!..» Какая сила! И вот, улетела Муза. Она капризна. «Господи, помоги создать!» – шептал я, кусая ручку. «Тайна…? М-айна, л-айна, с-айна, к-айна… все чепуха выходит!» Если бы можно было сказать – «та-и-на», тогда можно бы – «Каина»! «Не любишь меня, как Каина!» Пришлось бросить, хотя первая строчка мне очень нравилась.
«Улетаешь от меня!..» Ужасно! Представлялась летящая ворона… «Ускользаешь»? Лез в глаза полотер, мальчишки на мерзлых лужах, – казалось совсем противным. Надо что-то воздушное… И на «незнакомку» не удавалась рифма. Котомку – если?…
И мне представился старичок, идущий на богомолье к Троице, – совсем никакой поэзии! Да и «отыскивать» – очень грубо! Молоток отыскивать можно, в словаре слово, а… ее?! Я напрягал все воображение, проглядывал стихи в хрестоматии, даже Пушкина у сестер достал… Прочитал «Буря мглою небо кроет». Я даже оглянулся: может быть, Пушкин видит, его душа, как какой-то стриженый гимназист… Я закрыл книгу с трепетом. «Прости, великий Пушкин! – прошептал я молитвенно, – я не… это, а только хочу учиться, благоговеть… Ты видишь мое сердце! Осени меня твоей светлой улыбкой Гения!» А в сердце пело:
Я называл себя дураком, тупицей, – и чуть не плакал. Лермонтов с четырех лет начал писать стихи… или – Некрасов?… А мне осенью уже шестнадцать, и – не могу! Сочинения хорошо пишу, за «Летнее утро» получил пять с двумя плюсами, и Фед-Владимирыч сказал даже – «ну, молодчи-нища!»
И вдруг пошло:
Нет! Я чувствовал, что у меня остается только – «царица», «певица» и «синица»… Можно еще – «кошница»… Пугало и – ца-ца-ца… Я напрягся – и вот, пошло:
Не давалось мне – на «ручей». Я перебрал – лучей, бичей, ночей, речей, мелькало – печей и кирпичей… «Лучей» – было бы хорошо, но трудно связать по смыслу. Мне хотелось шикнуть «лучами», манила картина «света»… И я таки отыскал:
Но что же должна сказать? Стихи вышли бы длинные, а у меня не хватало сил. Но зачем же ей – говорить? Скажи! – это мольба поэта: скажи! ах, скажи!.. Когда мужчина умоляет женщину – «скажи!» – всякая догадается – о чем. Значит, теперь только маленькое изложение и заключение. Вступление готово.
Я в восторге ходил по комнате и напевал. Какие удивительные стихи! Это меня сильно подбодрило, я почувствовал вдохновение и, помарав немножко, написал «изложение»:
Я мучительно представлял себе, как она с горделивым презрением и укором отвергает мою любовь, но я готов спокойно встретить даже укор очей ее, – это выходило очень тонко! – встретить любовью, – до того я ее люблю! Пусть отвергнет, пусть «дарит меня презрением холодным» или «улыбкой состраданья», но я готов нести любовь до гроба! Я изложил все это, по-моему, очень сильно, даже всплакнул от счастья, что такие хорошие стихи и такие большие стихи, а я написал так скоро, – и что безумно люблю ее.
Под конец я блеснул всей силой:
Хотелось кому-нибудь прочитать, поразить этими стихами, но я боялся, что выдам тайну. Если у нас узнают, будет такой скандал!.. Скажут – «нечего пустяками заниматься, лучше бы вот к экзаменам готовился!» Женьке читать не стоит: стихов он совсем не любит, скажет еще – сентиментальная чепуха! – и, пожалуй, начнет выпытывать, кто – она? А если узнает про соседку – начнет ухаживать. Сам же сказал сегодня, что выбрал дорогу наслаждений! На женщину смотрит, как на добычу. Примется развращать и вообще может оказать самое тлетворное влияние.
«Если прочесть их Паше?…» Но меня уколола гордость. Нет, может хохотать с кучером! Что-нибудь одно: пошлость – или восторг поэта! Лучше я буду одинок, никем не понят, но я не отдам на смех толпе холодной своих мечтаний! пусть я – погасну в мраке дней моих, но…
Вдруг прибежала Паша и затараторила:
– Ну что, что вам вышло? Обещали почитать… Она была еще лучше, чем давеча. Кудряшки ее рассыпались, губы вспухли и растрепались, горели жаром, словно хотели пить, голубой бантик съехал. Совсем забывшись, она подхватила платье и подтянула чулок, – я слышал, как щелкнула подвязка, – и как ни в чем не бывало торопила:
– Скорей только, а то на стол накрывать надо… Чего у вас написано?…
Я сразу не мог опомниться. Она до того мне нравилась, что я только смотрел и мямлил. Черная ее коленка с белой полоской тела и розовой подвязкой и теребившие фартук руки мешали думать. Я чувствовал, что влюблен безумно…
– Я думаю, что тебе вовсе неинтересно…
– Страшно, страшно антересно! – торопила она и прыгала. – Да ведь сами обещали?… Ну, какой вы…
– Тебе интересней там… – показал я в окошко, – смеяться с кучерами, с конторщиками!!.
Она не поняла как будто: так на меня взглянула! И вдруг – глаза ее засмеялись светло, словно она проснулась.
– А вы, что же…? – начала она и не сказала. – Миленькие, почитайте… С вами антересней… вы мне про «Золотую рыбку» читали! Ну, чего вам досталось?…
Она схватила мою руку, потянула… Я отдернул – чего-то испугался. Мне хотелось сказать ей что-то, держать и пожимать руку, сказать, что я так счастлив… Она не отставала. Она даже облокотилась рядом, шептала – торопилась:
– Ну, чего вы такой стали… А давеча какой веселый были!..
Она мне напомнила глазами, что между нами – что-то. Я взял ее руку под косточки у кисти и прошептал:
– Паша!..
Она помотала кистью.
– Ну, что?… – шепнула она с лаской.
Это было такое счастье! Она не шепнула даже, она – вздохнула.
– Паша… – повторил я.
Она молчала и тихо водила кистью, качая мою руку.
– Ну, читайте! – сказала она бойко и даже оттолкнула.
– Ну, слушай…
Я прочитал розовый билетик. Она сказала:
– Вот как хорошо вам вышло! Сразу две барышни анте-ресуются. Это кто же?…
– Глупости, я ничего не знаю…
– Знаете, знаете… уж не врите! А чего все у забора стоите, заглядываете? Все я знаю!.. – засмеялась Паша.
Должно быть, я покраснел. Она засмеялась пуще, запрыгала.
– Вон, вон, по глазам вижу… врете! – Ничего ты не видишь… – смутился я. – И если интересуются, я не знаю. Мне этого не нужно! А вот, послушай… я сочинил стихи… сам!..
– А ну, почитайте… Только скорей, бежать надо!.. – даже и не удивилась Паша.
– Вот. Это я сочинил для одной особы… сам!
– Для какой особы? Для барышни?…
– А вот послушай…
Руки мои дрожали. Мне было стыдно и хорошо… и я ничего не помнил. Я прочитал «Незабудковые глазки». Когда я кончил – «Тебе, прекрасная из Муз!» – и протянул ей бумажку, промолвив: «возьми себе, на память!» – Паша посмотрела во все глаза – они стали у ней огромные, – осветила меня глазами и растерянно-глупо засмеялась:
– Вы… про меня это? Вот хорошо, складно как, и про губки, и про глазки… а «измус» что такое, а?
Я объяснил ей, что это богини-красавицы, как ангелы. Она прямо засияла.
– Это вы уж… так? Я ничего, хорошенькая девчонка, все говорят, а… богиня – это грешно! Это нарочно вы, для слова?…
– Ну, это только поэты так, выражают чувство! – старался я объяснить.
– А у меня, верно… губки красненькие, а глазки синенькие… вот хорошо! – восхищалась Паша.
– Только никому, смотри, не говори! Пусть это секрет. Ты спрячь на груди, за это место… – показал я себе под ложечкой. – Так всегда… И береги на память.
– Значит, будто любовные стишки? – шепнула она, смеясь, и вдруг посмотрела на меня ласково и грустно, словно хотела сказать: «шутите вы?…»
Она отколола нагрудник фартука, расстегнула пуговочку на кофточке и старательно спрятала бумажку.
– Никто и не достанет! – шепнула она, мигая. – Идет кто-то…? – Она насторожилась к коридору. – Нет… Если застанут, скажите… – посмотрела она по комнате, – будто чернилки пролили, а я и прибежала. Прольемте тогда чер-нилки?…
– Верно, – радостно сказал я, счастливый, что теперь у нас с Пашей что-то. – Я их на пол?…
– Да это тогда!.. Только смотрите юбку мне не забрызгайте с фартучком!.. – прихватила она юбку и опустила, – словно я уже пролил.
Я смущенно скользнул глазами по стройным ее ножкам.
– Ну, что…? – шепнула она. – Пойду уж…
– Погоди… я еще написал стихи… – заторопился– я, жалея, что она уходит. – Ты послушай… – А энти кому?
– А вот… послушай.
Я прочитал ей с чувством. У меня даже выступили слезы, когда я читал последнее:
– Жалостно-то как! – вздохнула Паша. – И сами слаживаете?…
– Конечно, сам! Это я сочиняю…
– Для другой какой барышни? Знаю, знаю!..
– Вовсе нет, вовсе нет… – в замешательстве сказал я, – это так, в мечтах просто… Будто я… в кого-то влюблен, нарочно… и она решает мою судьбу! Даже в бездну готов за ней. Значит, любовь страстная, до гроба… Но все нарочно!
– А зачем нарочно, нехорошо! Вы и мне нарочно?
– Да нет, тебе я… отдал, на грудь!
– Да, на грудь… – заглянула она у фартучка. – А ведь нельзя двух любить! Ежели любовь до гроба, то всегда один предмет! А то баловство. Вон девчонки на улице, всех любят… Это не любовь.
– А ты… только одного любишь! – неожиданно спросил я, и мне стало и хорошо, и страшно.
– Ишь, вы чего знать хочете! – усмехнулась она и передернула фартучек. – А вот не скажу!..
пропела она скороговоркой и ловко вильнула к двери, –
И убежала, захлопнув дверь. В глазах у меня осталось, как она передернула плечами, и блеснули ее глаза. Новыми показались мне бойкость и что-то в ней, отчего захлебнулось сердце. «Паша!» – хотел я крикнуть. Новое в ней мелькнуло, с чем я проснулся.
Я мысленно повторял ей вслед:
«Паша, красавица, милая… женщина! Люблю, люблю!..»
Лег на постель и думал:
«Милый… конечно, я! „Только к милому хожу!“… Она приходит ко мне часто… входила утром, когда принесла подснежники, потом со щеткой, сейчас… качала мою руку и так хорошо вздохнула – „ну, что?“ И такие у ней глаза, с такою лаской!» «А ведь нельзя двух любить!» Или – можно? Пашу же я люблю? И с каждым часом люблю все больше. И Зинаиду бы полюбил, стройную, в розовом платье с полосками или в серой, – нет, лучше в черной! – шелковой амазонке, с благородно-гордым лицом красавицы. И, должно быть, могу полюбить ее, неуловимую, которая сейчас пела…
С улицы, через залу, доносился цокот подков и громыхающий дребезг конок, кативших на «Воробьевку». Там теперь зеленеют рощи, шумят овраги. Я вспомнил Женьку…
«Пусть, у меня теперь тоже свое. Паша тоже красавица, и мы влюблены друг в друга. Но она не сказала мне, она только качала руку и так смотрела! Любит или не любит? Она же должна понять, что я ее воспеваю, глаза и губки? И ей приятно. Нарочно и прибежала, чтобы побыть со мной…»
Я старался вызвать ее воображением, вспоминал, как щелкнула подвязкой, как откалывала нагрудник, совала бумажку в лифчик… «Никто и не достанет!» Вспоминал, как она возилась.
«Будем любить друг друга, украдкой целоваться… Того не надо. Я не могу жениться, бесчестно ее обманывать…»
Представлялись жгучие картины. Но я боролся. Я обращался к Богу: «Помоги и не осуди меня, Господи! Я загрязняю свою душу… я хочу любить чисто! Только немного ласки… И зачем она так красива? Почему же грешно любить?… А если мы сильно влюбимся?…»
Я видел, как мы венчаемся.
…Пашу привозят в золотой карете, с лакеями. Приехали кондитеры и официанты, все сбежались и шепчутся: «красавица какая, не узнаешь!» Но все родные обескуражены. Злая тетка, которая вышла замуж за богача, сидит в углу и поводит носом, будто не видит нас. Даже перо на шляпе у ней колючее. Я слышу, как она шепчет в сторону: «Читать даже не умеет и говорит „екзаменты“! И он женился!» Паша слышит, и слезы дрожат на ее глазах. Я пожимаю ее руку и шепчу: «Мужайся, скоро все кончится!» После бала я говорю гостям: «Да, я вижу все ваши чувства, прощайте, мы уезжаем, но мы еще вернемся… И вы увидите!» Все поражены. Мы удаляемся в глухие места России, живем, как анахореты, но в нашем лесном доме все комнаты уставлены до потолка книгами. Через пять лет, глухого осенью, мы появляемся неожиданно на балу. Я приказал кондитеру «для свадеб и балов» устроить роскошный вечер и пригласить всех родных и знакомых. Залы блещут огнями и цветами. Все съехались. Никто не понимает, что такое? И вот, заиграли музыканты туш, и я вывожу под руку из гостиной – Пашу! Все поражаются красоте и уму ее. Она разговаривает по-французски, по-английски и даже полатыни. Все шепчут: «какое чудо!» Она подходит к роялю и поет арию из «Русалки», из «Демона», из «Фауста». Я читаю свою поэму – «Надменным». Все потрясены. Злая тетка прикусывает губы. Я говорю торжественно: «Моя жена – великая артистка! Она приглашена в Большой театр, у ней волшебное меццо-сопрано, как у Паи и у Коровиной… потом поедем по Европе. Сам Царь приедет ее слушать!» Все ахают. Злая тетка плачет, обнимает нас. Несут шампанское…
Мне стало жарко от волненья. Я пошел прохладиться в зал.
VIII
В белом прохладном зале мне всегда делалось покойно. Вечерами заглядывало сюда солнце, а днем было голубовато-бело. Огромный золотой образ «Всех Праздников» вызывал в памяти молитвы. Сюда приносили Иверскую и Великомученика-Целителя Пантелеймона, здесь славили Христа на Рождество и Пасху. В высоком круглом аквариуме сонно ходили золотые рыбки, плавали кругом грота, словно сторожили часовые. Я подолгу следил за ними: ходят, ходят… И на душе становилось сонно. Поглядишь на «Все Праздники», на Распятие посередке – давний был образ, староверский, – и запоешь-зашепчешь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…» А рыбки ходят, а стекла из дома, что напротив, наводят «зайчики» на обои, на потолок. Светлая зала к вечеру – свет вечерний.
И только вошел в залу, на душе стало строго и покойно. Прохладно белелись стены, пустынно смотрели стулья. Ходили рыбки.
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…»
Я прошел чинно по «дорожке» и вспомнил детство, как красные и зеленые полоски уводили меня куда-то… Далеко-далеко тянулся коврик. Теперь – все видно.
Через фуксии в красных ветках и зеленые планки кактусов, с приставленными к пупырьям сочными алыми цветками, я с интересом глядел на улицу. Летние уже конки неслись к заставе, мотая полосатыми шторками. Синие, новые, извозчики неторопливо поспешали, шикуя вымытыми пролетками. С узелками валил народ – навестить в городских больницах, на «Воробьевку», в Нескучный сад. Шли, оборачиваясь, мороженщики, видные издалека по ушатам, опоясанные пестрыми полотенцами; приземистые грушники с лотками и квасными бочонками, с медными на задах тарелочками весов за поясом; мальчишки с пузатыми стеклянными кувшинами «малинового лимонада», лотки с апельсинами и «крымскими», решета с серым подсолнухом, тележки с пряниками-орешками, связки шаров воздушных. В лавочке напротив, у Пастухова дома, брали печеные яйца, жареную колбаску, ситнички – поесть на воле.
Все было весенне-ново. Но больше всего меня привлекали женщины. Бывало, не замечал их вовсе; теперь – отыскивал. И шляпки, и пестрые платочки. Какая – молодая? какая – стройная? какие у них ноги, юбки?… кофточки…? Вот – «жерсей»! Черненькая, блондинка… В фартуке пробежала – горничная. Я видел на шляпках перья, рябину, вишни, сирень и груши. Ехали парочки – влюбленные, мне казалось; у них – тайна. Напротив, из Пастухова дома, глазела из окошка «молодая». Она мне нравилась.
И вдруг я увидел Гашку, арфистку Гашку, в красно-зеленой шали. Она катилась на лихаче, вразвалку, с высокой арфой. Розовая нога, в туфельке, моталась. Должно быть, на «Воробьевку» тоже. За ней прокатили две гармоньи, блестя ладами. И вдруг я увидел… Женьку!..
Он шел по той стороне, шинель внакидку. Он лихо шагал, «полковником», подняв плечи. Втянув подбородок в грудь, вытягивая ноги и крепко ставя, он надвигался прямо и с таким видом, будто шел кому-нибудь «дать в зубы». Мне даже смешно стало: такой у него был вид вояки. Верно, – подумал я, – ловко его прозвали – «аршин проглотил, шагало»! Куда это он? в Нескучный? Должно быть, на свиданье!..
Я следил за его удалявшейся фигурой. Он дошел до железной решетки Мещанской богадельни, приостановился и поглядел в нашу сторону, словно поджидал кого-то.
«Конечно, – подумал я, – назначено здесь свиданье, поджидает!»
Я стал следить за проходившими барышнями и дамами, но проходили в платочках больше. Наконец, показалась очень пышная дама в шляпе с зеленой птицей – самая настоящая бельфам. Но была до того толста, что казалось невероятным, что в такую влюбился Женька. Она поравнялась с нашим домом, и я увидал, что это молодая булочница Лавриха. И тут же появился Женька. Он шагал медленно и поглядывал в нашу сторону. На Лавриху и не взглянул. Напротив, перед Пастуховым домом, он приостановился, почесал нос, вынул часики, посмотрел… «Ясно, у них свиданье», – подумал я. Шла стройная молодая дама в зеленом ватерпруфе, с белой птицей на высокой зеленой шляпке, с ней девочка. «Неужели это она? – тревожно подумал я. – Прямо, красавица! Но она ведь замужняя, если девочка…» Женька и не взглянул на даму, а она была удивительно красива, с высокомерным видом, с манерами аристократки. Такою могла быть Зинаида! Я не удержался и замахал в окошко, но Женька смотрел куда-то. Куда он смотрит? Он дошел до решетки богадельни, шагов сорок, и опять медленно вернулся. Теперь уже было совершенно ясно, что у них здесь свиданье. Он часто лазил за курточку, мялся и передергивал плечами. Я смотрел на него и думал: «Был железный, презирал женщин, хотел прославиться, и вот, как лакей или как нянька у пансиона, дожидается, когда выйдут! Безобразие! Всегда был гордый, и она его так унизила! Может быть, даже она смеется? Акушерки ведь – как гетеры! Максимка повесился, а арфистка опять играет! Вот, связался…»
Пробежала вертлявая портниха с нашего двора, которая «жила» с околоточным, как говорил мне Гришка, очень нарядная, в шляпке с маком. Протащился жилистый дурачок из Мещанской богадельни по прозванию – «Гроб-несут!» – зевая и озираясь, не несут ли и в самом деле? – он ужасно боялся гроба. Потом вразвалку последовал диакон от Казанской, страшенный голосина, с огромным пузом, размахивая кондитерским пирогом, – должно быть, на именины. А Женька чего-то все топтался. Перед ним остановился мороженщик и прокричал – «а-тличное морожено!» – приложив руку к уху. И тут Женька не обратил внимания, хоть и очень любил мороженое. Старушка-нищенка встала перед его носом и принялась кланяться. Женька и не пошевелился даже. Но она кланялась так долго, что он достал кошелек, долго перебирал в нем пальцами, словно у него денег невесть сколько, – а больше двугривенного никогда и не было, – и дал что-то. Нищенка головой даже закачала: не пуговицу ли дал-то?
И вдруг Женька шагнул на мостовую. Я загнул голову, чтобы лучше видеть.
– Кушать скорей идите… без обеда хотят оставить! – услыхал я Пашу.
– Да сейчас!.. – сказал я нетерпеливо, следя за Женькой.
– Да сердются же! – приставала Паша. – Это чего вы… барышень, что ли, все глядите?… – добавила она потише, и я почувствовал, что у меня с ней что-то.
– Может, и барышень! – подзадорил я. – Она пройдет, а потом я выйду?…
– Ска-зывайте… – усмехнулась Паша, – это вы на Пастухову «молодую» загляделись! Ничего кралечка, далеко только целоваться!..
– Ну, на «молодую»… она мне нравится! – сказал я и почувствовал возбуждение.
– А, болтушка!.. – тряхнула головой Паша, – оставят вот без обеда!
«А-а, ревнует!» – сладко подумал я и побежал за нею. Она шла полутемным коридором, оглядываясь и смеясь зубками. Мне захотелось догнать ее и повозиться, как было утром. Я слышал, как пахнет за ней духами, как монпансье, из моей «уточки».
– Паша!.. – позвал я нежно. Она обернулась, усмехнулась.
– Ну, что?… – шепнула она и погрозилась. – Ах, какие баловники!..
Мы входили в столовую.
– Обдумывал геометрию! – сказал я важно, на выговор.
– По окнам трешься… какая тебе там геометрия! – сказала приживалка-тетка. – Баклуши бьешь, а екзаменты на носу…
Опять – екзаменты!
Я ел рассеянно. Не давал мне покоя Женька. Показалось смешно, как кланялась ему нищенка, как шагал с пирогом диакон.
– Что ты все ухмыляешься, как дурак? – сказала тетка, стараясь допечь меня.
– Во-первых, я не дурак!..
– Я говорю – ухмыляешься, как дурачок… – пугливо огляделась тетка, не забранятся ли. – А так-то ты, может, всех нас умнее… про гиметрию учишься!
Й засмеялась скрипом. Ее не поддержали.
– Видел о. диакона! – сказал я, чтобы замять неприятный разговор. – Большой пирог пронес, может быть, в три рубля!
– Ну, такого не бывает. За полтора…
– Нет, сразу видно, что за три! Высокий пирог…
– Не пирог, а кулич, должно быть… – сказала мать. – За рубль с четвертью. Он и нам за рубль с четвертью приносит. Это он к паркетчику Журавлеву шел, преподобного Феодо-ра-сикеота нынче…
– Да разве Федора нонче?! – всполошилась другая тетка, у которой был дом в Сущеве, за это ее сажали на лучшем месте. – Батюшки, пирог посылать надо Прогуловым, зять ведь у них Федор Никитыч! Совсем забыла… гордые они такие!..
– Да, у них большие капиталы… – вздохнула приживалка-тетка. – А только Варенька-то, говорят, мужу куры строит…
– Гм… гм!.. – остановила тревожно мать. – Посылать пирог надо…
Я притворился, что не понял.
– «Куры строит»? Это, что же… курятник? – наивно заметил я.
И все захохотали. Я смотрел на Пашу. Она даже поперхнулась в фартук. Сегодня она была совсем другая. Она все на меня смотрела, подмигивала даже, словно хотела сказать глазами, что у нас с ней что-то. Стоя у двери, она весело бегала глазами и раз даже погрозилась и показала на нагрудник, где лежали мои стишки. Я забылся и застучал ногами.
– Ты что это, в конюшне?… – окрикнула меня мать.
– Ах, я… вспомнились мне стихи! – вырвалось у меня нечаянно, – я вчера сочинил стихи!
– Врешь! – сказала сестра, чтобы подзадорить.
Я посмотрел на Пашу. Она заморгала, отвернулась.
– А скажи, я сейчас узнаю, кто написал! – сказала сестра, которая «все романы в библиотеке прочитала».
– А вот, вчера сочинил…
– Матушки! – удивилась тетка, у которой был дом в Сущеве, – да как хорошо-то, как молитва!
– Да он у нас неглупый, только лентяй… вот скоро, пожалуй, на екзаментах провалится… – кольнула меня наша тетка.
Сестры смеялись, но и это меня не рассердило. Я был счастлив, что Паша смотрела на меня из двери, и как смотрела!
– Заснула? Давай телятину! – крикнула на нее тетка. Я посмотрел на тетку: «как ты смеешь?!»
– Не знаешь, кого слушать! – ловко сказала Паша.
Мне было так приятно, когда Паша касалась меня платьем, когда я слышал, как ее юбка шуршит за моим стулом. Сегодня она была особенно проворна.
– Сколько раз тебе повторять… не трепать парадные фартуки, когда нет гостей! – выговорила ей мать. – Выдумала Франтить! Все женихи в голове?…
– Да ведь праздник сегодня, барыня!.. – обидчиво отозвалась Паша. – Сама стираю…
– Сама стираю! И мыла сколько, и фартук трется… выдумала франтить! В голове все мальчишки…
– И вовсе нет!
– Ты мне не отвечай! Знаю, что мальчишки все в голове…
Я с радостью подумал – «я у ней в голове!» Мне стало ее Жалко: всегда бранят! Я смотрел на ее лицо, ставшее вдруг похожим на Богородицу, – и голову она преклонила набок, – и думал: если бы я был хозяин, она всегда бы носила фартучки с кружевцами и даже лучше, – голубые, розовые, с цветочками, а на плече бутоньерку роз. Я не мог удержаться и заступился:
– А вот… в аристократических домах, лакеи всегда в белых перчатках! Это красиво и благородно.
– А ты не лезь не в свое дело, молчи и ешь! – оборвала мать. – Аристократ нашелся! У аристократа лакей в перчатках, а на стол подать нечего…
– На брюхе-то шелк, а в брюхе-то – волк! – вмешалась тетка.
– У нас, в Сущеве, листократы-графья живут, на шесть человек фунт людской говядины берут, да и то мясник не верит! – сказала другая тетка. – И лакей рваный ходит. А как к столу подавать – кричат: надень перчатки!
Все так и закатились.
– Зато у них благородные манеры! – заспорил я. – У них визитные карточки на серебряной тарелочке!.. И все красиво и благородно.
– Ты-то это откуда знаешь, перец! Всем дырам покрышка! – удивилась сущевка-тетка. – Правда, барышни у них субтильные, красивенькие… одна за полковника выходит… И карточки на блюдечке подает человек…
Я вспомнил Зинаиду, и сердце забилось-затомилось.
– Они далеко от вас? – спросил я тетку.
– Соседи наши, да дом заложен. Зато каждую субботу танцы, рояль напрокат берут. Люди ко всенощной, а они тра-ля-ля! То забирали у нашего Зайчикова закуски, а намедни назвали гостей, а им отказ: ни колбасы, ни мадеры не отпустил. Ну, ла-пинской воды уж сама старуха выпросила, две бутылки!
Мне стало больно за бедность их. «Барышни у них красивые!» Но если красивые, к их ногам принесут все сокровища! Все миллионеры будут рады, да только их отвергнут, скажут – «не в деньгах счастье!» Недавно я смотрел у Корша «Не в деньгах счастье!» И я сказал, видя, что Паша слушает:
– Русская пословица говорит, что «не в деньгах счастье»! Были случаи, что и бедная девушка выходила замуж… даже за князя! Когда она достойна. А доктор Устриков женился на горничной… из Голицынской больницы!.. «Счастье – в самом себе», у нас сочинение было…
Опять все захохотали. Я даже рассердился:
– И они выйдут замуж за миллионеров! А у Лощенова-мясника какие быки громадные и три дома, а сами, мамаша, говорили, что уроды очень и в девках засядут! А смеяться нечего над бедными, но благородными!..
Опять покатились все, а тетка подавилась телятиной. Все стали бить ее по горбу. Паша так старалась, что тетка стала ее ругать: – Обрадовалась, дура! Кулаки, как у хорошего мужика.
Наконец успокоились и стали хлебать миндальный кисель со сливками. Паша смотрела на меня от двери, держала у сердца руку. Там лежали мои стишки. Она благодарила меня чудесными синими глазами. Сегодня я будто впервые увидел их: они говорили мне! Смотрела из них другая Паша, тайная, с которой у меня что-то, которую никто не знает, которая так хорошо шептала – «ну… что?» – не обыкновенная Паша, а… же-нщина! Они были сегодня синей и больше, и напомнили мне – круглотою своей и блеском? – «девочку с синими глазами» в картинной галерее, рядом с нашей гимназией. В эту девочку был влюблен пятиклассник Букин и собирался даже ее стащить, и все называли эту картинку «Букина девчонка». Но живая Паша была красивей. Сенька Волокитин, заходивший, бывало, к нам, – его прогнали за книгу «Парижские камелии», которую он притащил раз сестрам, – сказал мне как-то: «А знаешь, ваша Паша похожа на одалиску из Индии! У ней глаза полны восточной неги!» И принес мне картинку из «Нивы», с «одалиской». Одалиска мне нравилась, но была толста и почти голая, а Паша худенькая, и… я ни разу ее не видал без платья. Сегодня только, когда она щелкнула подвязкой, я подумал, какая она будет…
Я вспомнил «одалиску» – это все равно, что «гетера»! – и посмотрел на Пашу. У Паши глаза смеются и сверкают, а у той сонные, усталые. И у Паши глаза что-то хотят сказать. И жалуются, будто… Да, словно хотят сказать:
«Только вы одни, Тоничка, любите меня и всегда заступаетесь!»
Мне хотелось показать ей, что я всегда готов заступиться, и ждал, когда забранят ее. Когда мать сказала, поймав у ней пятнышко на груди:
– Франтиха, а неряха!.. Я не вытерпел и сказал:
– А вот на пирах у римлян рабы надевали даже венки из роз на свои головы, чтобы капли пота не стекали на кушанья… у Иловайского есть!..
– Ну и дураки! – сказала тетка.
Намека никто не понял, но Паша опять радостно на меня взглянула. И я подумал: если бы ей венок!..
IX
Когда я пил квас в передней, Паша сносила посуду в кухню. Она осторожно спускалась с лестницы, а я перегнулся через перила и кинул ей на тарелки крымское яблоко. Оно упало в соус из-под телятины и забрызгало ей лицо и фартук. Она вскрикнула от испуга, увидала, что это я, и так взглянула, что у меня повернулось в сердце.
– Всю загваздали… баловник!.. Что теперь мне за это будет!..
А глаза ласково смотрели.
– Миленькая, прости!.. – зашептал я растерянно, – сюрприз я тебе хотел…
– И что вы только со мною делаете, – шептала она с укором. – Еще увидят…
– Я тебе куплю новый фартук, у меня есть в копилке!.. Но она уже сошла в кухню. А я убежал к себе и упал на кровать, не зная, куда мне деться. Что-то со мной творилось. Неужели я так влюбился?! Без Паши мне было нестерпимо. Я только о ней и думал. Вспоминал – с самого утра, как было. Нет, раньше, гораздо раньше! Вечером сочинил стихи. Она принесла подснежники, думала обо мне. Конечно, она влюблена в меня, с самой Пасхи. Первая потянулась целоваться. Нет, раньше, когда примеряла кофточку. Переговаривалась за дверью, нарочно стучала щеткой. Хотела меня увидеть, открыть окно. Сама зацепила за ногу… прибежала прочесть билетик! Ревнует даже! С каждым часом она милее. «А если придет к тебе ночью с распущенными волосами?» – вспомнились слова Женьки. Темное, что я знал, стояло во мне соблазном тайны. Я вспомнил один случай.
…Первый весенний день. Слепит совсюду. Огромная лужа на дворе, плавают в ней овсинки, утиный пух. Под бревнами у сарая почернело, капает с крыш, сверкает. Падают хрустальные сосульки, звонко стучат о бревна и разлетаются в соль и блеск. На бревнах сидит кучер, расставив ноги, и что-то смотрит. Кругом скорняки смеются, гогочет Гришка. Все головы суются: что-то показывает кучер, прячет… Я прохожу из сада. Гришка загадочно моргает:
– Глядите, какого жучка поймали!
Кучер и скорняки смеются. Гришка что-то такое держит, ладони у него корытцем.
Я подбегаю, наклоняюсь. Гришка подносит к носу, и я вижу в грязной его пригоршни…
– Во, жучок-то!.. Меня оглушает гогот.
Коричневая картонка, пятна, две фигурки… высокий клобук монаха, другая – с распущенными волосами… Мне стало тошно, словно пропало сердце. Стало невыразимо гадко, и я побежал по луже. А сзади гоготали:
– Во, жучок-то!..
– Он еще етого не зна-ет!.. – сказал кучер. – Только, Тоня, смотрите не скажите, а то и вам попухнет… – Пороть будут! – смеялся Гришка. – Это только мужское дело…
Я обернулся и увидал Пашу. Она выбежала с коврами, чистить.
– Иди скорей! – закричал ей Гришка. – Гляди, мохнатенького жучка поймали!..
Крикнуть? Как онемелый, я наблюдал из лужи. Она с любопытством подбежала.
– А ну, покажьте?…
Гришка поднес ей в горсти, под самый подбородок.
– Тьфу вам, охальники!.. Она отскочила, заплевалась.
Тогда эта «грязь греха» мутила меня весь день. Теперь – я томил себя. Паша манила тайной. Я слышал ее шаги, шелест вертлявой юбки, притихший шепот – «ну… что?»… Ласковые ее глаза манили.
…И вдруг я на ней женюсь? Можно так горячо влюбиться, как доктор Устриков, из Голицынской больницы. Он влюбился в сиделку, в простую девушку, у которой отец извозчик, а мать кухарка. Такая была красавица! Вот и Паша… А граф в Кускове! Это и Паша знает. Когда мы в Кускове жили… И песню знает: «Вечор поздно, поздно из лесочку я коров домой гнала… едет барин важный, две собачки впереди, два лакея позади!..» И он в нее влюбился, страстно, женился на ней и сделал образованной. Графиней стала. Так и я: возьму и женюсь на Паше!..
…Кончу гимназию и женюсь, уедем… У ней, в Смоленской губернии, много лесов, буду лесничим, займусь охотой, а она будет вести хозяйство и воспитывать малюток. В лесах хорошо, раздольно. Вспашем небольшой клочок поля, выжжем лес, как переселенцы в Канаде. И зимними вечерами, когда кругом мертвая лесная глушь, будем сидеть у пылающего огня, обнявшись, совсем одни… и спокойное дыхание нашего малютки будет напоминать нам о нашем счастье. Всевышний благословит нашу дружную, полную любви и взаимного уважения жизнь… Это же самое благородное – жить своими трудами, в поте лица есть хлеб! К нам будут изредка заезжать гости – приедет Женька! – и будут удивляться нашей суровой жизни. Я, в охотничьих сапогах, с ружьем, поведу гостей на охоту за тетеревами и зайцами… – «хотите, и на медведя можно?» – а Паша, как лесная царица, в венке из лесных цветов, будет поджидать нас к обеду, простому, но сытному – глухарь на вертеле и «лесная» похлебка с грибами, – и покачивать колыбель младенца. И гости скажут: «Да, вы создали удивительную жизнь, полную удивительной поэзии, в дружественном единении с природой!» – «Да, – скажу я, – это простая жизнь, полная, может быть, лишений… но я, как говорит Лев Толстой, не променяю ее ни на какие богатства ваших душных городов, где люди утратили первобытное блаженство!» И Паша будет глядеть на меня благодарными глазами. Гости уедут, и мы сольемся с ней в дружном, святом объятии…
Так мечтая, я унесся в детство, и мне вспомнилась худенькая Таня, деревенская девочка лет восьми. Мне было тогда лет девять. Она мне нравилась до стыда, и на меня нападала робость, когда я встречался с ней. Слово – «Таня» – и все для меня светилось. Это была моя первая, детская любовь. Сладкое замиранье овладевало мною, когда я видел ее хотя бы издали. Я передарил ей все, что только у меня было: хрустальные шарики от солитера, египетскую марку, часовой ключик, яичко с панорамой, пушечку, павлинье перо, все редкости. Это было – благоговейное обожание, восторг. Когда я случайно ее касался, по мне пробегало, как сотрясение. И это, похожее на щекотку, мне очень нравилось. Как детям, – когда пугают! И ничего «грязного» я не знал.
Помню, лето только что начиналось. Мы ходили «на вырубку». Под березовыми пеньками, в поросли, земляника уже поспевала. В самое это утро приехали из Москвы гости и привезли лубяную коробочку оранжерейной вишни. Она так ярко алела в зеленых листочках клена! Мне дали кисточку, и я захватил ее в кувшинчик. И там-то, на сушняке, выискивая под пеньками земляничку, я украдкой сунул в кувшинчик Тане диковинные вишни. Мне хотелось ее обрадовать, поразить чудесным. И вот когда голубые ее глазки – и у ней были голубые и синие! – заглянули в кувшинчик и увидали «чудо», ее худенькое лицо осветилось и удивлением, и страхом, и восторгом…
Я вспомнил ее лицо и испуганно-удивленные глаза, в которых мелькнул восторг, и вспомнились глаза Паши, когда она шла с посудой. Эта первая детская любовь снова отозвалась во мне, словно она и не кончалась, а неслышно таилась в сердце и вот – загорелась ярко. Таня сменилась Пашей, с веселыми, бойкими глазами, в которых что-то, прелесть какой-то тайны. И между нами – что-то, и мы это с ней знаем, и оба хотим чего-то… и боимся…
Вспомнив Таню, я вспомнил о деревне. Скоро на дачу едем, будем ходить с Пашей за грибами. Как чудесно! Можно уйти подальше, никто не увидит, и можно целоваться. Прошлым летом мы даже заблудились, зашли в самую глухую чащу, двое. Отдыхали, лежали рядом, и не было такого чувства. А если теперь случится?… Скорей бы лето!.. Я вспомнил, как Паша продиралась в чаще, и у ней зацепилась юбка. Я увидал белую ее коленку… Она закричала: «Да отцепите же, не смотрите!» И смеялась. Мне стало стыдно. Я потянул за юбку, стараясь не смотреть на Пашу. А она только отряхнулась. А если теперь случится?…
Я даже задохнулся.
«Еще экзамены! – тревожно подумал я. – Поправляться по геометрии завтра надо…» Я посмотрел на образ, и стало страшно, что у меня такие мысли. «А вдруг меня Бог накажет?…» Я зашептал молитву и обещал, если перейду в шестой, сходить взад и вперед к Троице. И когда обещал, чувствовал, что думаю о Паше, как пойду с нею за грибами.
Я пробовал заняться, но ничего не вышло.
«Внешний угол треугольника равен двум прямым без внутреннего, с ним смежного». Что значит – двум прямым? Чушь какая! «Без внутреннего, с ним смежного?» Пустые были слова. Что это такое – «смежного»? Почему такие углы – прямые! Все они острые, как пики!.. Я перебирал страницы и ужасался, как много надо. Все, что я знал, смешалось.
Кричали на дворе мальчишки, играли в бабки-салки. Счастливые! У них никаких экзаменов. И скорняк Василий Васильич счастливый тоже: должно быть, пошел к вечерне. Скорнячиха за ним плетется, счастливая. И зачем забегает к нам конторщик? Кажется, есть свой двор… Вздумал выпрашивать газетку! Каждую субботу ему – про «Чуркина»! И почему-то через Пашу просит… И что ему здесь нужно, трется? У него тетка скорнячиха… С утра трется!
Я улегся на подоконник и наблюдал. У Кариха на дворе было совсем безлюдно, – должно быть, после обеда спали. Только один петух стоял у закрытого сарая, тихо. Давила скука. «Женька, должно быть, на свиданьи, – подумал я, вспомнив, как он мотался. – Провалится – в юнкерское уедет».
Я забрал геометрию и решил заниматься в садике.
Но и тут ничего не выходило. За забором мальчишки играли в бабки, били свинчатками об забор и орали, как сумасшедшие – «бей с одной да я со-с-пар!», «Петька не ставил, черт!», «Блохе бить!». Хотелось пойти сыграть – былые друзья играли, но было стыдно: пожалуй, она увидит. Я перешел от гама под рябину. Заглянул к Кариху во дворик. И петуха даже не было. Я исчертил дорожку, доказывая равенства треугольников, добрался до параллельных линий, но вдруг за забором зашумели. Стукала дверь сарайчика, слышалось – «у, поганка!» – и трепыханье крыльев. Это Карих возился с курами – должно быть, щупал. Я наклонился к Щелке и увидал, как Карих лупил петуха ладонью, держа за ножки. Шлепал и приговаривал: «Я тебя разожгу, стервец! Разожгу-y!!» Петух извивался крыльями и орал, наконец вырвался и умчался стрелой к воротам. Но там заложено было подворотней. – Будешь у меня, бу-дешь! – грозил ему кулаком Карих. Петух оправился, встряхнул своей ожерелкой и пропел необыкновенным басом, злым, показалось мне: «А вот не буду!» И сел на брюхо, – должно быть, притомился.
Это меня развеселило: уж очень смешон был Карих. По случаю весны и воскресенья он был в параде, в сюртуке без пуговок, надетом на красную рубаху, в нанковых панталонах канареечного цвета, в продавленном котелке и в резиновых ботиках на босу ногу. Густые рыжие усы его были чем-то намазаны и вытянуты в стороны, так что можно было подумать, что он держит в зубах смазанный лисий хвост, а бородка расправлена в две котелки, как любили ходить официанты. Он стоял за забором очень близко, и я хорошо слышал его сипловатый голос:
– Боже мой, Боже мой… оборотень какой-то, на мою голову! Ах, мерзавец… Думаешь, не дойму? Дойму! В святую воду окуну, а достигну! Или лучше зарезать, негодяя? Голова от него болит…
Он потер затылок и повернулся лицом к забору. Глаза у него были кровяные, словно он сильно выпил.
– Странное дело, а?… Его я купил под «Вербу», и в самый тот день изволила переехать ко мне она! И он оказался никуда! Какое роковое совпадение… Враги подсунули, что богатый домовладелец и имею желание… За рубль двадцать! Чтобы меня тревожить. И с тех пор голова болит… Пусть, воля Божия!
Мне казалось, что Карих пьяный. Про кого же он говорил – она? и при чем, наконец, петух? Я ничего не понял.
Пробормотав что-то о каком-то «мерзавце-фершале» и о краденом сале и портвейне в «семи кулечках», Карих вынес под бузину столик, накрыл его алой скатертью, притащил ведерный, шибко бурливший самовар и принялся пить чай с куличиком. Куличик был, видимо, от Пасхи, с бумажной розой. Отрезая ломтик за ломтиком, Карих поглядывал на галерею и раз даже поклонился, сняв котелок, и даже помахал им. Я старался увидеть, с кем это он раскланялся – не с ней ли? – но солнце светило в стекла. Выпив стакана три, Карих взялся за петуха и долго гонял его метелкой, а за стеклами весело смеялись. Смех был очаровательно-волшебный, и я сразу узнал его.
Потом села под бузину толстуха в бородавках, повитуха, как я узнал, – и Карих расшаркался и извинился:
– Уж извините за неспокойное состояние… не петух, а полено, Божие наказание, навет! Не прикажете ли чайку с куличиком? Куличик богатый, филипповский, с цукатцем, за два рубли! Хоть и на холостом положении, а не жалею для праздника. Мог бы и «бабу» на заказ… хе-хе… если бы была собственная!.. И захохотали оба.
– А вот и заводите! – смеялась ему толстуха.
– Заводите… легко сказать! Потруднее, чем хорошего петуха купить. А что вы думаете! С петухом мучаюсь, скоро вот месяц будет… – тревожно сообщал Карих.
– То-то я все гляжу, с петушком-то у вас не ладится. Что такое, очень уж вы тревожитесь?
– Такой уж у меня характер, мнительный… Отлично знаю, что это враги завидуют… моему богатству! И подсунули петуха! У меня от него голова болит. Разве у него петуший голос, как ему полагается? Не поет, а мычит, как… буйвол! Вся у него сила в голосе, а на дело не остается. Купил на Трубе за рупь за двадцать в самый тот день, как вы переехали в мой дом… а к курчонкам полное хладнокровие! Вот и гоняю для моциону, для разгула. Ну, печальная самая история. Самая пора, а от десятка курчонок ни одного яичка! Желал преподнести от собственного завода, и лишен! Посоветовали бы чего, по вашей специальности…
– Да ведь петух-то не по моей специальности! – засмеялась ему толстуха.
– Это все одинаково на глаз природы! – вдумчиво сказал Карих. – Я вам скажу по секрету… в Боге сомневаться начинаю! Вот ученые доказали, что у всякого одно устройство! Все студенты доказывают… А ваше как понятие?…
– Природа, конечно… – сказала толстуха в небо. – Господь.
И посоветовала кормить петуха горошком с перцем.
Потом говорили о вреде холостой жизни. Карих объяснил, что он совсем как молодой человек, снял даже котелок и показал, нагнувшись: «Извольте поглядеть, никак не светится, даже и с грошик не найдете!» – но куда ни поглядишь – не видишь основательной девицы с симпатией, а домишка, сами видите, на плохой конец тысчонок двадцать… и в государственном банке, на случай семейной жизни…
– А одному… какое же основание семейной жизни? Одна, как говорится, тряска!
– Как же можно, – сочувствовала толстуха, – и за курочками поприглядеть, и чайку попить с человеком… как можно!
– Так что имейте в виду, очень приятно… если и Серафима Константиновна снизойдут на чашку чая, чайку попить на воле, под сень растительности…
И я увидел, как Карих посмотрел на галерею.
«Серафима! Боже, какое имя! – в восторге подумал я. – Если бы снизошла!»
Что же, как-нибудь можно… скажу ей! – сказала толстуха гордо. – Ученая она у меня уж очень, сурьезная!.. – Ученых я очень уважаю, и счастлив, что… Только я тогда, конечно, явлюсь при манишке, из уважения! – воскликнул Карих, запахивая на груди сюртук. – Пуговицы пришить некому! Но у меня еще сюртучок имеется, парадный. Папаша помер, один раз надевал всего. Они у вас, конечно, высокого образования! По ихней даже походке видно…
– Ученая у меня Симочка, уче-ная! – сказала толстуха в небо и головой даже закачала. – Недавно андендантский полковник сватался, и с некоторым капитальцем… да она только не желает!
– И правильно-с! – с жаром воскликнул Карих. – Что такое андендантский полковник! Крыса – больше ничего! Такое уж им прозвание. А другой мещанин выше любого чиновника, дом собственный, если и еще капитал в государственном банке, на случай семейной жизни! Но главное для меня – любовь!
– Любовь… как можно, первое дело любовь! – сказала мечтательно толстуха. – Другой и урод, и… смеются все, а он такие чувства может показать… и разговор такой интимный… как можно! Любовь… это и…
Я навострил ухо. Было и смешно, и интересно.
– Это… мечта! – сказал Карих гробовым голосом и пропустил в кулаки усы, словно хотел их вырвать. – Я… если по любви сочетаюсь законным браком, так и решил – пустить пыль в глаза! К чему, например, беречь большие капиталы, если чувство горит огнем? А без любви… скончался человек – и что?! Теперь вот у нас поется: «Грудь накрыли полотном и послали за гробом!»
– Ка-ак можно! Кто любит, тот уж… все…
– Все! Медовый месяц приятно провести торжественно, в разных местах. Думаю первым делом посетить Тулу, самовар редкостный купить. Оттуда… на Кавказ! Смотреть кавказские горы и долины, арбузы там знаменитые… Мечтаю. Песня такая есть: «Куды ты, ангел мой, стремишься, на тот погибельный Кавказ?»
– Страшно там, небось, на Кавказе-то? – замотала головой толстуха. – Турки там с пиками на горах сидят, – рассказывают…
– Это все равно-с. Я человек решительный, имейте в виду! Вооружусь пистолетом… Я всегда защищу супругу!..
Они сидели совсем близко, под бузиной, и мне было хорошо все слышно. Я видел даже, как толстуха выбирала из кулича изюмины и складывала на блюдечко. Вдруг заскрипела воротная калитка и просунулась чья-то шляпа.
– Собачка бы как не укусила?… – спросил картаво писклявый голос. Вышло у него – «шобашка» и «укушила». – Входите, входите, Ксенофонтушка… очень рады! – обрадовалась старуха и, переваливаясь, поспешно пошла навстречу. – Давно, давно…
– Все собирался, да опять легкое воспаление лица… врачи не выпускали! А как рвался на Праздник к вам… Вот-с, в презент прошлого…
– Ах, транжир-транжир! ах, баловник!.. – кокетничала толстуха, прижимая пачку кондитерских коробок.
– И ваша любимая пастила, рябиновая… и соломка от Абрикосова…
– Ах, транжир-транжир! ах, баловник вы… ребенок, право!
– Простите, Пелагея Ивановна… по… позвольте… Христос Воскресе!
И они стали целоваться.
Меня схватило оцепенение. Гость оказался… «Рожей»! Известной «Рожей»! Я его знал прекрасно. Ему было лет сорок, он разгуливал всегда франтом, в широкополой шляпе и перчатках, с тростью. Он был страшилой, и мальчишки кричали ему вдогонку: «Губошлеп»! и – «Рожа»! Он жил в больнице, в «хронической палате». Вместо лица была у него рожа с волдырями – синевато-красный кусище мяса. Не было ни глаз, ни носа, – одни губы.
Я смотрел с ужасом, как христосовалась с ним толстуха. А она даже и не утерлась!
– Пойдемте, дорогой Ксенофонтушка… пойдемте! – лебезила возле него толстуха, – как я рада! Ах, транжир… ах, баловник вы милый!.. Ну, постойте!..
Она прыгала чуть ли не на одной ножке, как девчонка. «Рожа», коротенький и толстый, изогнулся и сделал рукой в перчатке: «ах, что вы!..» И они поднялись на галерею.
– Пфу-у… – сделал губами Карих, словно его проткнули, и начал перебирать посуду.
– Идите чай пить, давно сели! – крикнула, запыхавшись, Паша. – Опять все у забора!..
– Ах, очень интересно было! – сказал я Паше. – Ты знаешь, к этой старухе пришла «Рожа»! И они даже целовались!..
– Ну, знаю. Это всем известно… На Бабьем Городке они жили, сама видала. Старухин полюбовник… Эн, вы чего глядите, как полюбовники ходят! Тут и еще один ходит…
– Как?! Эта «Рожа»… – мне стыдно было выговорить перед Пашей – «полюбовник». – Он… старуха… и она его любит?!
– А вот и любит! Как говорят-то… «любовь зла, полюбишь и козла!» Все, что ли, хорошенькие и молоденькие… как вы?! Скорей идите! И она зашумела платьем.
Меня обожгло прямо: «хорошенькие и молоденькие, как вы!» Она влюблена в меня, и я люблю ее! какое счастье! Но эта радость смешалась во мне с другим, таким безобразным, грязным, как красная рожа гостя. Да неужели у них – любовь?! Какая гадость!..
Я забрал книжку и тетрадки, как вдруг услыхал крики. Карих опять гонял петуха метелкой. Он носился, как сумасшедший, потерял ботик и пустил в петуха поленом. Петух подпрыгнул и кинулся к воротам.
– Убью, проклятый! – неистово орал Карих, – достигну!.. – совал он ногой в ботик, а ботик падал.
На галерее засмеялись. За пылавшими стеклами я видел смутно ее фигуру. Окно открылось, и высунулся чайник. Я видел маленькую ручку и белую манжетку. Ручка вытряхивала чайник. И тут же подбежал Карих и нежно подмел метелкой.
– Бо-же, какой вы ми-лый! – услыхал я небесный голос, и у меня заиграло в сердце.
– Я всегда с… с удовольствием для вас! – шаркнул ботинком Карих и споткнулся.
Вся галерея зазвенела, словно разбились стекла. Половинки окна раскрылись, и я увидал… виденье! Она была царственно прекрасна. Во всем белом, с двумя пышными темными косами, перекинутыми на грудь, она нежно склонилась из окошка. Косы ее качались, колыхались. На белом, как снег, лице ярко алели губы. Зинаида?…
– Как все зазелене-ло… – сказала она, мечтая. – В Нескучном теперь…!
– Знаменито теперь на «Воробьевке»-с! – вмешался Карих. – Видал, проехали гармонисты… А то хорошо на лодоч-ке-с!.. «Вниз да по матушке по Волге-с!»
Окно закрылось. Я едва оторвался от забора.
X
Подходя к крыльцу, я увидал конторщика Сметкина, который утром читал «про счастье». Он раскланялся, мотнув на мои тетрадки:
– Жара вам теперь-с, с экзаменами! Сам, бывало, страдал ужасно, перед дипломом!..
Его усики и прыщи показались особенно противными, и я сказал:
– Наши экзамены не чета вашим, городским! Да ты и училища-то не кончил, выгнали тебя! Мне Василий Васильич говорил…
Он по-дурацки ухмыльнулся: – Выгнали… А в каком смысле выгнали? Надо знать. А дяденька в меховом деле понимает только. А я сорок рублей в месяц получаю! Вот вам и выгнали!
– И нечего здесь болтаться! – закричал я.
– Извините, я к тетеньке хожу! – нагло ответил он.
– Тетенька не на нашем крыльце! И потом… – вспомнил я слова Гришки, – ты гнилой… можешь нас заразить!
Он подскочил ко мне, так что я поднял книжку.
– А за это я… исколочу! – проговорил он злобно. – Ты, кишочки зеленые… смотри!..
И как раз появился Женька! Он подошел «полковником», налился кровью и пробасил:
– В-вон отсюда!!! Или я тебя… вышвырну!..
Он сказал так решительно, словно железным голосом, что Сметкин сейчас же сдал.
– Да они ко мне придираются, а я только… к тетке сюда хожу!
– Связываться со швалью… – сказал Женька, толкая плечом конторщика.
– Ноги ему поломать!.. – послышался голос кучера. – Ты, гнилой черт, лучше не заявляйся! Знаю, чего ему надо! За Пашкой привдаряет, давно гляжу…
– Вот-дак ловко! – побледнел конторщик. – И не думал… Они мне «Листок» давали про «Чуркина», я и дожидался!..
«Листок» я ему давал, передавала Паша. Мне стало стыдно, и я сказал:
– Это верно, за «Листком» он ходит…
И мы ушли.
– Ну что, было? – спросил я Женьку. – Встретил ее на улице? Я из окошка видел.
– А, видел… Пока ничего… Посоветоваться к тебе…
Это мне польстило. Когда мы пришли в мою комнату, Женька насупил брови и сказал нехотя:
– Гм!.. Хотел под дверь ей сунуть, да черт у ворот сидел!..
– Какой черт?! – удивился я.
– Домовой хозяин. А то девчонки…
Я ничего не понял. Какие девчонки, где?…
– Она же рядом, соседи ваши, Постойки…
У меня пошло перед глазами.
– Она?!. с роскошными волосами?!. – воскликнул я.
– Так вот… – сказал он мимо меня и кашлянул. – Чего ты так? Разве ты с ней знаком?…
Сердце мое сжималось, но я сдержался.
– Конечно… недавно… она познакомилась со мною… через забор… – Через забо-ор!.. Какое же это…
– Она хотела даже… подарить мне поцелуй!
– Ого! – насмешливо сказал Женька, но губы его скривились.
– И я чувствую, что она… Ну, это… для тебя не интересно. Хочешь послать письмо? – насмешливо сказал я. – Попробуй…
– Нечего и пробовать! – заносчиво крикнул Женька. – Мы уже переговорили… раньше заборных комплиментов! Пожалуйста, не форси, что можешь стать на моей дороге! Глупо. Да и рано, только четырнадцать!..
– Во-первых, давно пятнадцать, а все дают шестнадцать! И я… произвожу впечатление на… же-нщин! Что у меня нет усов, это только… наивная девушка может!.. И у Аполлона тоже нет усов, а все… признают! Женщины ценят глаза и… ум! Пушкин вовсе не был красив, а все с ума сходили! – сыпалось из меня. – Всякую женщину можно покорить… жаром души и сердца! И все поэты имеют миллион поклонниц!..
Женька слушал насмешливо и почесывал себе нос. Я боялся, что он скажет сейчас такое, что сразу меня убьет. Но он только сказал – «гм… гм!..», – но и это меня убило. Из этого «гм!» я понял, как он уверен.
– Ты всегда признавал только и-де-альную любовь! – насмехался он надо мной. – Можешь и-де-ально любить ее! Не запрещаю! Люби! А я смотрю реально, и она бу-дет моей!
Мне представились ее косы и царственно-бледное лицо, и я остро почувствовал – что теряю!
– А я по одному ее голосу чувствую, что она недоступна… ничему низменному и грязному! Да ты не в старуху ли влюбился? – пробовал посмеяться я. – Повивальная бабка, акушерка? Жирная старуха в бородавках? Но у ней уже есть любовник, «Рожа»!
– «Ро-жа»?! – поразился Женька. – Не может быть!..
Я ему рассказал про «Рожу». А сердце ныло. Я оглядел его длинный нос, выпуклые глаза, «рачьи», его долговязую фигуру. Не может такой понравиться! Ну, пококетничает… А у меня… И Паша в меня влюбилась, а над Женькой всегда смеется.
– Так ты в эту старуху врезался? – пробовал я дразнить.
– Нечего дурака ломать! – рассердился он. – Она – ученая акушерка, красавица… Читал на вывеске – «Акушерка, С. К. Постойко»? Она и есть.
А я думал, что это – повитуха!
– Конечно, я мог бы подождать до субботы и проводить из церкви, но надо ковать железо, пока горячо! И Македонов советует… Написал признание в любви и прошу свиданья… хотел под дверь сунуть, чтобы сегодня же приходила в Нескучный… прошу решительного ответа. А этот черт… и девчонки торчат, увидят!
– Женька, я должен тебе сказать… Она… тоже мне нравится… Я ее давно заметил… она поразительно красива!..
– Да, недурна… – процедил он сквозь зубы. – Не запрещаю… пожалуйста! Я смотрю на нее просто как на красивую же-нщину! Не люблю рассысоливать! Не я, а она мной заинтересовалась? Ясно, что я ей нужен!.. А ты еще слишком молод! Попробуй… – повел он плечом и сплюнул. – Только ничего не выйдет.
– Но почему ты воображаешь, что она так легко смотрит на… на любовь? Она же не такая…
– Есть данные! – сказал он нагло. – Видно сразу, что ищет приключений. И вот, написал письмо… Просмотришь?
Хоть и сосало сердце, но мне польстило, что Женька со мной советуется. В сочинениях он всегда просил просмотреть ошибки и, главное, знаки препинания.
– Если хочешь… – скромно ответил я.
Он достал «Учебный календарь М. О. Вольфа» и вынул письмецо на розовой бумажке. На уголке был голубь, с конвертиком, в веночке.
– Знаешь… катнул стихами! Я так и вспрыгнул.
– Ты… сти-хами?!.
– А что, не могу я, по-твоему, стихами? Чепуха! Ни черта наскоро не вышло, а то бы я… Сдул из Пушкина! Македонов тоже своей из Пушкина. Мелкие стишки, никто не знает…
– Пу-шкина-то не знают?!
– А ты, зубрила, всего Лермонтова знаешь? – спросил он хитро.
– Надеюсь, «Мцыри» даже наизусть могу. И почти весь «Маскарад»…
– А это откуда, помнишь?
– Конечно, помню! Это… из «посмертных стихотворений»!
– На-ка вот, из «посмертных»! Это и есть из Пушкина!
– Как из Пушкина?!
– Так из Пушкина! Зубрила, и то не знаешь. А она и подавно. В пятницу ты отсутствовал… Я самого Фед-Владимирыча нарочно спросил, что вот, в одном журнале предложено угадать, какого знаменитого поэта стихотворение… – «Вы съединить могли с холодностью сердечной…» и прочитал до конца! Не Лермонтова? Тот так и бухнул: «Понятно, Лермонтова. Сразу его дух сарказма виден!» Даже Фед-Владимирыч промазал!
– Ра-зве это из Пушкина?
– Разве? В книжке не ошибутся. Ну, слушай… «Посвящается – С. К. П.»…!
– Но, по-моему, тут надо знак восклицательный, а у него стоит точка? а?…
– Да, пожалуй, лучше знак восклицательный… – сказал я, считавшийся в этом деле специалистом, – пожалуй, лучше! Хотя можно и точку, как утверждение…?
– Никакого утверждения! Я же… что? Я ей с восторгом, как страсть! Обязательно знак восклицательный… Спроси хоть Фед-Владимирыча.
– А ошибок нет? – покосился я на письмо.
– У Пушкина списал, какие ошибки! Мое посмотришь. Дальше:
– По-моему, очень хорошо! А дальше я сам, стихами:
«Ученик 7-го кл., Московской… и т. д… Прошу назначить свиданье в Нескучном, день и час. Если можно, сегодня даже, так как день табельный».
– Ну, как находишь… сильно выражено?…
Он пытливо смотрел в глаза, правду ли я скажу.
– По-моему, очень сильно! – слукавил я, радуясь, что стихи смешные, а «из Пушкина» она, конечно, сейчас узнает: ведь она очень развитая. Мне даже показалось, что и я угадал, что «из Пушкина».
– Нарочно вкатил – «посвящается», чтобы она не подозревала?! – выпытывал меня Женька, упорно смотря в глаза. – А… размер выходит? Ничего такого?… шероховатостей?…
– Да ничего… Только, лучше бы… – «Скажите, небожи-тельница, да? Ваш друг покорный навсегда!» Размер, понимаешь, лучше… И потом, ты же не хочешь быть рабом ее?!.
– Почему это – «небожи-тельница»! Сентиментальности… А раб… это для… сильней подействовать. Размер?… Ну, не стоит переписывать, мысль выражена! – Как хочешь… Только вот – «красавица, что да!»? Вот это – что да?… Немножко режет ухо, как какофония…
– Какая там какофония! – рассердился Женька. – Не глупей тебя. Ты бы вот написал попробовал! Помню, как «мельницу» из «Русалки» хапнул!
У меня захватило дух. Я сказал:
– Да я и написал!
– Ей?! – смерил он меня взглядом.
– Пока… не ей, а другой! – гордо ответил я. – У меня есть любимое существо, которое меня любит… страстно!
– Уж не Пашка ли твоя – «любимое существо»? Ну, с горничными это не считается. Еще ни один поэт не посвящал горничным! – издевался Женька.
Это меня убило.
– Во-первых, я написал… «Мечте»! Я представляю себе любимую женщ… то есть существо, как идеальное существо! как Музу! Для нее я готов броситься в стремнину, в бездну!.. погаснуть во мраке дней моих! испустить последний вздох у подошвы ее ног… не у подошвы, а… так сказать, под чарующим взглядом ее очей! Здесь выражена вся глубина, вся мучительная сила моей… волнующейся любви… моих идеальных стремлений, как, например, у Дон-Кихота или у… Фауста! Нет, не у Фауста, а у… у этого вот, у…
– У Демона? – спросил Женька. – Ради тебя… «все проклинаю, ненавижу»?…
– Нет, ничего ты не понимаешь! – кипела во мне досада. – Я весь в… истине, добре и красоте… как Фед-Владимирыч объяснял о «душе поэтических произведений»! Когда разбирали «Чуден Днепр при тихой погоде»! И я… переливаю чувство в стихи! Чту, как Богоматерь с Младенцем на руках, молюсь!..
– Врешь! – поддевал меня Женька, – ты просто в душе-то мечтаешь, знаю – о чем!..
– О чем? о чем?… Ты хочешь взять добычу и вступить в эту, в… физиологическую связь, я… я боготворю в ней неземной образ, все высокое и прекрасное… как в «Лесе» почтенный человек говорил помещице… и неуловимое, как… божество! Когда Лермонтов поет «Русалка плыла по реке голубой», разве он про русалку поет? Он поет про… чувство! И я тоже…
Женька махнул рукой.
– Ты не знаешь же-нщин! – сказал он басом. – А ну-ка, почитай про… чего ты написал! – и я по его глазам понял, что он боится, что я написал лучше.
Задыхаясь, я прочитал – «Неуловима, как зарница…», что написалось утром.
Я сразу понял, что зацепил его. Он потягивал себя за нос, моргал и морщился. – Вот дак… сочинил! – проговорил он раздумчиво, а я хорошо заметил, как натянулось его лицо. – Это ты просто под Пушкина! Сразу видно, что его дух! «Скажи мне, чудная девица!..»
– Во-первых, не «девица», а «певица»!
– Ну – певица… Это сразу видно. «Спой мне песню, как синица…» Девица, певица, синица…
В нем кипела досада, зависть – по глазам видно было. Это после его-то – «что да»! А у меня – «Погасну в мраке дней моих»! В «Ниве» даже напечатать можно! А у него – «что да»!
– Стихи – пустяки! – проговорил он, позевывая, и я сразу почувствовал, что и зевает-то он с досады. – Женщины ничего в стихах не смыслят! Женских поэтов нет?! Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Вашков… Надсон! А ни одной бабы нет. Им не стихи, а они любят в мужчине силу и… упорство! У нас на дворе гимнаст из цирка живет, так какие красавицы к нему ездят, с буке-тами! Купчиха с Ордынки отравилась на крыльце, даже в газетах было… С Македоновым он приятель… И говорил всегда: «Если хотите успехов – развивайте мускулатуру!» Гляди… как сталь!
– Ну… а зачем ты сразу через два класса? Это же ложь! – зацепился я за последнее, лишь бы его притиснуть.
– Ну, а что тут особенного! – растерялся он и сейчас же полез наскоком. – Я и должен быть в седьмом! Это «Васька» меня несправедливо… А она все равно не знает. И по фигуре в седьмом как раз! Чтобы заинтересовалась. Все-таки солидней!..
– Обманом хочешь, а не своими достоинствами! – не знал я, чем бы его донять. – Но ты же… но она же может обидеться… Ты говоришь, погоди… глупо ее любить! Это же оскорбление?!
– Какая же ты дубина! – усмехнулся Женька. – Во-первых, я пускаю комплимент… Это сказал сам Пушкин! Ты пойми: кто вас не любит, тот… в сто раз глупей!! Значит, я весь в ее власти! Какая тонкость слов! Это же ка-кой комплимент! Только Пушкин мог так тонко…! Сейчас подсуну ей под дверь, и будем ждать в Нескучном.
В Нескучном, где «Первая любовь»!..
Он ушел торжествующий, а я терзался. Ну да, он сильнее меня и выше. И очень остроумен, а женщины это любят. Он станет ей врать и хвастаться. Пожалуй, скажет, что я горничной написал стихи?… Ну и пусть, и пусть!..
«Хорошенькие… как вы!» – радостно вспомнил я.
И вспомнилось со стыдом: «с горничными это не считается!»
XI
Радостное, с чем я проснулся и что сияло во мне весь день, сменилось тоской и болью. Я почувствовал пустоту в душе, словно покинут всеми. Лучезарная Зинаида, являвшаяся мне в ней, погибла.
…Неужели она – смеялась?… Заглядывала в садик, нежно ласкала Мику… И этот небесный голос! «А то бы я вас расцеловала!»… А сегодня! Напевала: «Кого-то нет, кого-то жаль…» Показывала косы, завлекала, а сама обещалась Женьке, прогуливалась с ним под ручку. Самая бессердечная кокетка!
…Женька прекрасно знает, как надо с ними. «Когда идешь к женщине, бери хлыст и розу!» И там, в «Первой любви», ударяли ее хлыстом, а она целовала руки! И это – Зинаида, самая дивная из женщин! А эти акушерки…
Я ненавидел Женьку, хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось, чтобы наскочил извозчик… Теперь он уже подсунул письмо под дверь. Она уже прочитала, спешит в Нескучный… Может и не догадаться, что это Пушкин! Увлечется его «талантом», лестью… Женщины любят, чтобы льстили. «Но кто не любит вас, тот во сто раз глупей!» Какая тонкая лесть! Долгоносый и пучеглазый понравиться не может, так хочет лестью. Похвастается силой, женщины любят сильных… и уродов! Красавицы часто выходят за уродов. Мария и – Мазепа!..
…Посвятил стихи… горничной! Ни один поэт не посвящал прислуге… «Тебе, прекрасная из Муз!» Она даже не поняла, спросила: «А что такое „измус“?» Какая гадость! Всегда с тряпкой, возится с кучерами, говорит «екзаменты учут», спит в каморке на сундуке, неграмотная, и руки жесткие… И ей я поднес стихи!..
Я вспоминал с отвращением, как она сказала: «Ежели до гроба любят, так всегда бывает один предмет!» Предмет!.. Только портнихи говорят так: «Предмет»! «Ужли это вы сами насказали?!» Насказали! У Женьки поражающая красавица, с дивными волосами, развитая, была на курсах, а у меня неотес, прислуга! «Прекрасная… измус»! Боже, что я наделал!
Я услыхал Пашины шаги, и меня передернуло. Чего она ко мне все лезет? Вот нахалка!..
Не спросясь, она отворила дверь.
– Сердются, останетесь без чаю! Все отпили…
Я не оглянулся, крикнул:
– Не сметь входить в мою комнату без спросу!
– Ишь, строгие какие стали! – сказала она шутливо. – Чего надулись? Она так смеет! Не оглядываясь, я крикнул:
– Можете так говорить… конторщикам, с кучерами возиться… а не со мной! Не желаю чаю!..
– По-думаешь!.. страсти какие, испугали! – сказала она дерзко, постояла, – я все-таки не оглянулся! – подождала чего-то и хлопнула дерзко дверью.
«Вот какая!.. – подумал я, – а потому что я с ней запанибрата. С ними нельзя запанибрата!»
Дверь приотворилась. Я оглянулся – и увидел Пашу. Лицо у ней было красно, глаза блестели.
– Вы, Тоня, не смеете так, не смеете!.. – зашептала она прерывисто. – Я не гулящая какая, не шлющая!.. Что у меня отца-матери нет, так… – губы у ней запрыгали, – позорите?… Все ругают, а от вас мне еще горчей…
И ушла, хлопнув дверью.
Это меня очень удивило. Мне казалось, что она за дверью, стоит и плачет. Я схватил геометрию и бросил на пол. Поглядел на тополь. Увидал подснежники в стакане… Мелькнуло утром, светлым теплом и холодочком, и я услыхал, как пахнет тополями.
Зачем я ее обидел?!.
Я послушал: шуршало в коридоре, как будто – плачет? И меня охватила жалость.
Но чем я ее обидел? Она не должна, конечно, входить без спросу… А что она с кучером возилась… это правда! Сбила с него картуз, выхватила билетик, всегда смеется… И я должен еще просить прощенья?!.
Из столовой кричали – Па-ша! Я слышал, как она побежала на носочках. Значит, она стояла, дожидалась, что я выйду и попрошу прощенья? Никогда не попрошу прощенья! Подарила подснежники, думает, что теперь… А я посвятил стихи! Это выше ее подснежников… Они у нее за лифчиком… А если она покажет?
И меня охватил ужас.
Вдруг она кучеру покажет, конторщику?!. Весь двор узнает, Гришка, все лавочники, скорнячиха, Василь Васильич!.. Похвастается, что я влюбился, стишок написал любовный! Узнают наши, и тетка, и «сущевка»… Уточку подарил с душками, ухаживал! С уточки началось… Зачем я подарил уточку?! Всю неделю не покупал на завтрак, откладывал все на уточку!..
Нет, не скажет. Она подарила мне яичко, подснежники! Конечно, я не скажу, у меня хватит благородства, я-то ее не опозорю!.. Нет, не скажет… Конечно, надо объясниться, я вовсе не хотел оскорбить… Так меня все расстроило…
И тут я вспомнил, что она собирается в Нескучный!..
Я кинулся к воротам. У ворот сидел на дежурстве Гришка, со свистком и бляхой. Я выскочил к нему как угорелый. – Ай кто едет?! – перепугался Гришка и быстро оправил бляху.
Мы выскакивали к воротам, когда проезжал Царь в Нескучный. Но я нашелся: – Пожарные будто скачут?…
– А я че-го подумал!.. Нет, с каланчи не подавали. Да и народ не бегет… – осмотрелся Гришка. – Садитесь, подежурим.
– Да нет… Не проходил Женя?
– Видал давеча, проходили. Звонился к повитухе… должно, родить у них занадобилось кому. Дело это без задержки! Сестра, может…
– Нет, – сказал я, – ничего такого нету. А ты не видал… – Но Гришка и договорить не дал.
– У них нет – у Жени, может… для своей, может, требуется. Может, завел какую! Вот и подошло. Дело житейское.
Гришка всегда говорил такое. Он был уже не молод, но все его называли Гришкой – Плетун-Гришка.
– Нет, – сказал я, – ему только семнадцать!
– Ничего не означает. Это дело надобное. Кажная женщина должна… Господь наказал, чтобы рожать. Ещество-закон. Что народу ходит, а кажный вышел из женщины на показ жизни! Такое ещество. А без народу чего сделаешь! Железные дороги там, дома строить, гуляньи всякий… – все баба-женщина оправдывает! Я их страсть уважаю. Де-вять ей месяцев протаскать! Гляди, скольких она протаскала!.. И кажный оправдать себя должен. У меня в деревне пятеро сынов, каких. И кажный себя доказывает…
– Конечно… – пытался я перебить его.
– Нет, от этого не уйдешь! – продолжал он, оглядывая свои сапоги. – От Бога вкладено, никто не обойдется. Кажный обязан доказать ещество! А то тот не оправдался, другой не желает, – все и прекратилось, конец! Этого нельзя. Кто тогда Богу молиться будет? О-чень устроено. Ишь как, ишь привдаряют! Не может она без этого. И вы, чай, на Пашу заглядываетесь. Ужли нет? А девочка хорошенькая, в самый раз…
У меня захватило дух.
– Ничего подобного! – сказал я. – Если заниматься книгами, никаких дурных мыслей!..
– Зачем дурных? Девчонку-то… Да они сами рады! Я б на вашем месте давно сыграл. А то другому кому поддастся… Гляди, как играться-то стала… самая ее пора. А молодое-то дело… «Рожа» вон… и тот норовит в куточек какой… к старухе ходит! В Банном они жили, все смеются. А я прямо говорю: это его занятие! Что Господь послал…
– Погоди, Гриша… Он позвонился, а потом? – Ну, барышня отперла…
– Сама?! Это… такая, красивая?
– Со-чная!.. Прямо репка! Ну, он ей пакет подал – и побежал.
– Побежал?! А она…
– Чего, она? Она, понятно, как полагается. Стала собираться.
– Стала собираться?!.
– Мотнула головой – ладно, говорит, приду. Может, за извозчиком побег. Екстренность! Жалко тоже женщину, как она, может, опростаться не может. Их дело тоже… бе-довое! А вот решаются, вот что ты хочешь. Значит, так уж ей по закону требуется. Сами называются…
– Сами?…
– Вот я вам объясню, какой у них секрет замечательный. Кажная женщина имеет срок, как все равно звонок! И она, как увидит, что…
Подошли кучер и скорняки, и мне показалось неудобным слушать. Я побежал в залу – следить в окошко. Но плохо было видно, и я поспешил в садик. На дороге попалась тетка.
– Да что ты шмыжишь, как чумовой? То туда, то сюда… Учи екзаменты!
– В садике геометрию учу! – крикнул я. – На земле ее надо, теоремы!
– Вижу, чего ты шмыжишь! В бабки тебе с мальчишками!..
Я засмеялся даже.
– Смейся, смейся! Провалишься уж, попомни мое слово! Я даже и сон видала…
У меня засосало сердце.
Ничего не соображая и не стыдясь, я влез на заветную рябину. Она только что начинала распускаться, была в сероватых почках. И вдруг я услышал голос… ее серебристый хохот?… Я чуть не упал с рябины: она появилась на крылечке! Она смеялась. В руке у нее был розовый листочек! Женькин?! Тугая белая кофточка обтягивала ее девственную, но уже расцветшую фигуру. Вишневая шапочка игриво сидела на пышной ее головке, и роскошные волосы золотисто-темного каштана красиво обрамляли девственное лицо ее, на котором неумолимая жизнь не проложила еще своих нестираемых следов. Это была как Нелли из Эмара, перед красотой которой смягчилось сердце даже у «Серого Медведя»! Я разглядел капризные розовые губки и поражающие глаза, скрывавшиеся за синеватым пенсне, от солнца. Это продолжалось одно мгновенье. Она повернула за угол, к воротам. – Прогуляться идти изволите? – услыхал я вкрадчивый, сладкий голос.
Я даже вздрогнул. Из-под меня шел голос! Я понял, что это Карих: он стоял подо мной, в сарае.
– Да, немножко. Чудесная погода… – пропела она, как флейта.
– Прямо… райская погода! Счастливо погулять, нас не забывать! – послал ей вдогонку Карих.
Побежать к воротам? Но там торчали. Застывший, сидел я на рябине.
…Сразу пошла навстречу! Никакой гордости, ни чувства чести! Так поддалась обману… Не может понять, что ему нужна только женщина, как раба, добыча!!. Летит, как бабочка на огонь, а он, как Мефистофель, цинически хохочет! У него мефистофельское лицо! А она, девственно-чистая, как ребенок, стремится к бездне…
…Но она же акушерка! Все они легко смотрят… Женщины «сами называются»! И вот она ищет приключений, как такая, как арфистка Гашка… Сейчас покатят… Часы заложит за два рубля, на Рождестве закладывал! Мороженым угостит, в Сокольники прокатит… Потом…
От Гришки я много слышал. В семейные номера ходят. И сам я видел, когда приходилось дожидаться в банях.
…За сборкой сопит хозяин, дремлет. Коридорный банщик стучит в номер. Я жду, кто выйдет. Крючок отщелкнул. Макарка-банщик ловко заслоняет дверью, чтобы проскочили незаметно к другому входу. Но я вижу: пробежал розовый платочек; мужчина тяжело ступает, темный. «Пожалте-с!» – приглашает меня Макарка, утаскивая поднос с бутылкой. Идти я не решаюсь, сказать – стыдно. Хозяин говорит сонно: «Проведи в чистый номер!» Макарка ведет с ворчанием: «Все чисты!» Противен его голос, вихляющая походка, ситцевые розовые штаны, болтающиеся, как на палках, прелый, тяжелый воздух, сырые стены, разбитое зеркало в камине… Я сажусь на чистую простынку и подбираю ноги. Ковер холодный, мокрый. И вижу – образ! Пыльная вербочка, сухая… под праздник горит лампадка. Думаю о «грехе», о Боге. Все смешалось.
Я сидел на рябине, выдумывал страшные картины.
– Женька, втянув подбородок, говорит ей басом: «Любовь – физиологическое чувство, и надо смотреть просто. Я мужчина, и беру женщину, как добычу!» Она говорит спокойно: «Да, я очень легко смотрю на это!..» И быстро идут куда-то.
То представлялось, что они в Нескучном. Она смеется: «Вы совсем мальчишка, усы не выросли!» Он стискивает ей руку по-английски и говорит мрачно: «А компас показывал на Север!» Она говорит в восторге: «Боже, какой вы сильный!» Но что-то ее держит. Она так еще молода, чиста! Тогда он ломает жимолость, – жимолости там много! – и с резким свистом ударяет по нежной ручке. Кровавый рубец остается на белой коже. «Ах!» – вскрикивает она покорно. Он жарко шепчет: «Ты будешь моей, или… я пущу себе пулю в лоб!» Она глядит на него долгим взглядом, подносит к своим губам истерзанную руку и запечатлевает на ней покорный и благодарный поцелуй. И нежно шепчет: «Для тебя… я на все готова!» И, обманутая его игрой, чувствуя овладевшую ею слабость, опирается на его стальную руку, и он жадно влечет ее…
Я скатился с рябины и стал крутиться по садику.
«Господи, он обесчестит чистую девушку, чтобы тотчас швырнуть, как старую перчатку! Он лишит ее этой недосягаемой чистоты, светлую мою грезу, неуловимо-прекрасную мечту!..»
Образ лучезарной Зинаиды и других девушек, неосязаемых женских лиц, соединившихся для меня в одну, – замазывался грязью.
«Но есть же она где-то, есть же?! – спрашивал я себя. – Когда-нибудь я ее найду же? Ведь на самом же деле была она, не сочинил же ее Тургенев, Эмар, Вальтер Скотт?! Сколько на свете прекрасных незнакомок, чистых, как Богородица, девушек, которые не поддаются преступному обману, не торгуют святой любовью?! Есть, непременно есть! Даже Демон у Лермонтова пел Тамаре: „Я дам тебе все-все земное, люби меня!“ Даже Демон не мог купить Тамару, и она вырвалась из его объятий. Ангелы унесли ее душу в небо».
Я перебирал оперы, где героиня боролась с искушеньем. Фауст овладел Маргаритой, но там были чары цветов, которые заклял Мефистофель, чтобы одурманить сердце Маргариты. И всегда побеждала чистота! И вот, на глазах, теперь Женька, как Мефистофель, посмеиваясь, басит жирно – ха-ха-ха… нашептывает в ее розовое ушко пошлости, а она… Ужасно!
И вдруг:
– Маловато погуляли, Серафима Константиновна!.. – услыхал я радостный возглас Кариха…
Я бросился к забору.
– Как я вас обманула!.. ха-ха-ха… – рассыпался серебри стый смех. – Ходила за пирожным, гости будут. – Дело хорошее. Я тоже иной раз гостей принимаю, попировать. Приятного аппетиту!
Я застал только синюю ее юбку и щепную коробочку с пирожным. Быстро-быстро вбегала она на галерею. Она не ходила на свиданье, она все та же!
XII
Идя из сада, я столкнулся в сенях со Сметкиным. Он проскочил так быстро, словно гнались собаки. Мне мелькнуло: шептался с Пашей! А он, уже со двора, крикнул:
– «Листок» хотел попросить, про «Чуркина»-с!
Когда я вошел в переднюю, Паша метнулась ко мне из коридора. Она быстро облизывала губы и тараторила:
– А я за вами идти хотела, надоел Мишка, «Листочка» просит! Говорит, страшно написано, опять Чуркин убьет кого-то! А вы не сердитесь? Не сердитесь, чего надулись? А я все про вас мечталась… – сказала она тише. – Стишки все вспоминала…
«Нет, она не шепталась с Мишкой!» – подумал я.
– И с чего вы взяли… с Мишкой! – шептала она, облизывая губы. – Ндравлюсь я ему, сватать меня хотел, а… паршивый он! – уткнулась она в руки, словно ей стыдно было. – А я… хорошенького люблю, мальчика одного!..
И побежала-запрыгала по коридору. Я так и замер.
«Хорошенького люблю, мальчика одного!..» А если она нарочно, чтобы я не думал, что она с ним шепталась? Женщины очень лживы… Есть даже песня:
Я нашел «Листок», вышел в столовую. Гадала на картах тетка.
_ Сейчас на тебя раскинула… могила тебе вышла! – сказала она язвительно.
– Мо-гила?!. какая могила?… – не понял я.
– Не совсем могила, а крест будет. Значит, провалишься! – Сами вы провалитесь! Всем только гадости говорите!
Засиделись в девушках, потому и злитесь! – истерзанно крикнул я.
– А ты… пащенок! Матери дома нет, так ты зубастишься с теткой, наглец ты эдакий!
И она стала плакать. – Дай вам Господь хорошего жениха! – сказал я кротко и искренно. – Простите меня, я так расстроен. Вот ей-Богу! А теперь хочу всех любить, по Евангелию… – бормотал я, чувствуя, что действительно хочу всех любить.
– Правду ты говоришь? – обрадовалась тетка и стала милой.
– Ей-Богу, сущую правду. И пусть вы выйдете замуж за мучника с Полянки. Он очень хороший человек. И если бы я был богат, я дал бы за вами пятнадцать тысяч, как он просит. Вы еще молоды… вам тридцать два года только…
– Мне тридцать один только… – задумчиво сказала тетка. – Правда, ведь он хороший человек?
– Он… красавец! – воскликнул я. – У него щеки розовые, а когда в бобровой шубе… Нет, Пантелеев очень симпатичный и солидный человек!
Она вздохнула и посмотрела в карты.
– Ах, Тонька-Тонька, – сказала она, вздыхая, – вот смотрю я в карты… а ведь ты не провалишься! Девятка, смотри, треф как легла! Ты бубновый, а она рядышком! И дамочка около. А пиковый хлан отворотился. Нет, тебе хорошо выходит…
– И вам, тетя… очень хорошо выйдет! – растроганно сказал я, и защипало в глазах от слез.
– На, тебе, Тоничка, на орешки гривенничек… – сказала растроганная тетка, доставая деньги из носового платка, – я знаю, ты добрый мальчик! Пойдешь на екзамен, я за тебя пойду помолиться к Иверской. И когда я выйду за Пантелеева, если Бог даст… я тебе подарю золотой. И ты помолись тоже!
– Конечно! Я пойду пешком к Троице и… все будет хорошо. А когда я женюсь… я всем привезу по бонбоньерке! Я запрыгал по коридору и закричал:
– Паша, Паша!!
Паша отозвалась: «а-у-у!»
И я вспомнил радостное утро. Радостный был и вечер.
Она вышла из своей комнатки, и я не узнал ее. На ней было синенькое «жерсей», похожее на матроску, с белыми полосками, которое к ней так шло. Сразу она стала тоньше и благороднее. Черную юбку она подстегнула пажом, и я увидал новенькие, на каблучках, ботинки. Она стала гораздо выше. И я подумал: если бы она нарядилась амазонкой, была бы совсем как Зинаида!
– Вот! – сказал я, протягивая «Листок», – передай этому… конторщику!
Я побоялся взглянуть в глаза: а вдруг узнаю, что она шепталась!
– Очень нужно! Горничная я ему, что ли, передавать! Сам пусть у вас попросит… – сказала Паша, разглядывая свои ботинки. – Смотрите, какие справила! – и она покачала ножкой. – И без скрипу! Вы все смеялись, дразнили «скрипкой»! А теперь так подкрадусь, что и не услышите… Правда?
И она прошлась по коридору, любуясь на ботинки.
– Хотите, покажу «сороку»?
– Ах, покажи! Ты так чудесно…! – воскликнул я. Мне хотелось подольше побыть с нею.
– Вот сорока летела…
Она вспорхнула и так зашумела юбкой, словно летела стая.
– Села…
Она подпрыгнула и скакнула. Мелькнули юбки – беловато-черным.
– Хвостиком покачала…
Она подтянула юбки, сдвинула плотно ноги и так стянулась, что стала одна ножка. Она нагнулась, и ее черно-белый хвостик закачался.
– Носиком затрещала… Чирстырр, чирстырр!.. Ну, самая настоящая сорока!
– Повертелась, на все стороны огляделась…
Она повертела каблучками, сжимая ноги. Вертелась, как сорока. Я видел сзади обтянутые черными чулками икры. Над ними качался хвостик.
– Паша, да ты… артистка?! – воскликнул я.
– Скакнула…
Она поскакала боком, сдвинутыми ногами, быстро-быстро.
– П-пы!.. Убили сороку-белобоку!.. Она упала и вытянула ножки.
– Ах, ты… жерсю запачкаешь!.. Хорошо?!.
– Па-ша… так у тебя красиво…! – изумленно воскликнул я.
– А что, правда… хорошенькая я стала? Намедни околоточный даже загляделся, приглашал в Зологический сад гулять!
– С полицией! – возмутился я. – Ты, пожалуйста, не ходи! Ради Бога, Паша…
– Да я же пошутила! Ах, погуляла бы я, да…
– Да – что? что – погуляла бы, да…? – Да… не с кем!
И я встретил ее убегающие глазки, которые словно говорили: «С тобой погуляла бы!»
– Ты куда-то идешь? – спросил я ее, желая, чтобы она осталась. – А я про «Чуркина» почитать хотел…
Вот бы хорошо-то! – вздохнула она, стрельнув куда-то мимо меня глазами. – Да к портнихе велели сбегать. Вечер-Ком уж послушаю… – А сегодня Осип пошел с кистенем ночью под мостик на большой дороге и ждет купца, но попал на офицера с пистолетом! – соблазнял я ее, чтобы побыть с ней вместе.
Я представил себе, как она слушала, передергивая плечами и поджимая ноги, когда становилось страшно, и шептала: «Ах, ужасти какие!» – и лицо ее, с испуганными глазами, становилось детским.
– Да ведь идти велели, никак нельзя!.. Забегу уж к вам вечерком… – шепнула она таинственно.
Я протянул к ней руку, но она ловко увернулась.
– И… – она побежала с лестницы, – к гадалке хочу сходить!
– Паша, постой… – перевесился я через перила, – зачем к гадалке?
Она плутовато усмехнулась.
– Про счастье свое узнать… любит или не любит?…
– Кто – любит?… Ну, скажи… Паша!..
Мы шептались: она на лестнице, я – лежа на перилах.
– Ми-лый!.. – шепнула она неопределенно, скользнув глазами.
Я так и остался на перилах. Милый!.. Это она мне сказала, или – кто ее любит… – милый?
Я походил по комнатам, не зная, к чему приткнуться. Опять я влюблен в Пашу? Что она со мной делает?! Хотела забежать вечерком… Как она ловко увернулась! Но как же говорил Гришка: «Сама рада, если ей срок пришел!» А Паше… пришел ли срок? Какой же это «срок»?
Я вспомнил, что конторщик все ждет «Листок». Я спустился в сени. Конторщика в сенях не было. На дворе уже вечерело. Я вышел за ворота. Гришка еще дежурил.
– Сметкина не видал? За «Листком» приходил опять.
– Знаем мы, за «Листком»! – сказал, ухмыляясь, Гришка. – Пашуху все стерегет. Ну, поломает ему ноги Степан! Вы слушайте… – радуясь чему-то, зашептал Гришка. – За ней – сорок кобелей, ей-ей! Такая девка. И жгет, а огню не видно! Степан давеча говорит: а ну ее, говорит, женюсь!
– На ком это – женюсь? Он женатый!
– На Паше! Он ведь шутит, он холостой. С прачкой… знаете, черненькая такая, хорошенькая ходила… будто цыганочка… с ней он жил. Двоех от него родила, в воспитательный отдала, по четвертному билету на их имя положил, понятно. Ну, бросил ее… Ему новая требуется! Говорит – пробовал Пашу достигать, склизкая! В конюшню даже раз затащил – вырвалась! Значит, не иначе как жениться надо, не дается нахолостую! Такая девчонка выдающая… первую такую вижу! Двадцать лет у вас живу, двор огромный, всякой девки прошло через меня… может, тыща девчонок всяких… хуже немки! Ей-Богу. Пастух подсылал, квартеру предлагал– сорок тыщ намедни на билет выграл! Не пошла. Щипнуть не дается; а ей уж строк…
– Какой срок?
– Какой-какой! Доходит… как вода через кадку хлещет, ребенка требуется иметь. Мыше – и той требуется, а она, мыша, что ли? Ещество-закон. Я кажной женщине по глазам узнаю, когда у ней строк будет! Знаете, корова начнет биться, играть! Мычит-мычит… да ведь ка-ак… Стонет, прямо…
– Так ты говорил… Мишка – что?
– За ней побег. Она это хвостом завертела на пряжке-то, зад поджамши… говорит, со двора пошла… А он ждал. На той стороне стоял. Увидал, как вышла, – сиг за ней петушком. Ну, погоняется маленько. Только она ему не дозволит, ни под каким видом. На него-то она плюется, а кучер ее накроет. Я уж на эти дела любитель. Он накроет! Почему ж я вам-то сказываю, не пропущайте такой девчонки! Эх, годков бы пятнадцать… моя была бы! Инженер Николай Петрович, с третьего номера, с танцоркой живет… от него кухарка-старушка приходила, сманивала к нему в горничные. Двадцать целковых жалованья кладет! Ну, сами понимаете, чтобы в его распоряжение… Сказал я ей, что же не сказать… обоюдное желание! Вырвала метлу да в морду! ей-Богу! Ну, я не рассердился. Разок хоть поцелуй, я тебе в отца гожусь! Нет, подлюга, грямасничает, и все. А то хохотать примется… Кучер говорит, – не то с места уйду, не то… Запрягать кликнули, не сказал. Чего уж у него будет… А думается, она им интересуется!..
– Кучером?
– Посмелей будет – его будет! Вот помяните слово. На него глядеть страсти, во шеища! А ей такой-то в самый раз. Они это о-чень уважают! А, может, где и встретются, сговорились. Он оттуда порожнем поедет, на именины повез… ну, прокатит он ее рысью! Куда-нибудь закатются. Дай Бог. Он человек хороший. А я бы на вашем месте не упускал. Вреду от этого не будет, а ей лестно, до мужа-то погулять без вре-ду. А кучер – мне, говорит, все едино, девушка она или нет… сомневается. Она, говорит, с ним… с вами, значит… Это, говорит, баловство мне без внимания…
Я ушел от него в тумане.
XIII
Когда я пришел в себя, я упал на постель и плакал. О чем я плакал? Я понял, почему не осталась Паша: у ней свиданье! Ее просили – и не могла остаться. Сказала про портниху… А Гришке сказала, что со двора уходит! И кучер хочет на ней жениться… Теперь он ее прокатит, сговорились… Она же расфрантилась, надушилась… Моими душками надушилась, из уточки! Я посвятил стихи, я умолял остаться, и она изменяет с кучером, отвергает мою любовь, играет мною! Горничная, простая, – и играет! Я ей отвечу, сумею ей ответить! «С горничной не считается!» Верно, нельзя считаться. Я, чистый, отвергающий все соблазны… пишу стихи, развитой, и… это все говорят, – красивый… не раз получал записочки… и какая-то деревенщина, едва разбирает по печатному, не понимает простого слова – «из Муз» – и я позволяю играть собой?… Пусть она с кучерами, уходит к инженеру, женятся с пастухом… Надо же, наконец, быть гордым!..
И мысли мои помчались…
…Я выдержал экзамен, и мы собираемся на дачу. Приходит кучер и говорит, что женится на Паше. Превосходно! Они получают паспорт и уходят. Она останавливается в коридоре… «Прощайте, Тоня! – бледная, говорит она. – Конечно, я вам не пара… и вы должны учиться, чтобы добиться славы… Но я… я вас любила… и, может быть, еще… Ах, прощайте!» Она глотает слезы. «Будьте счастливы… я очень рад… вы прекрасная пара… кучер с горничной. Я даже написал стихи для вашей свадьбы…» – ледяным тоном говорю я. – Посвящаю вам… обоим… Вот, сейчас… «Высоким новобрачным». «Ты – пыль стираешь грязной тряпкой…» Нет… «Ты правишь парой лошадей! Ты пыль стираешь грязной»… «Ты пыль стираешь ловко тряпкой!» Да, чудесно! «Рождайте ж кучеров-детей и горничных – от связи сладкой!» Может быть, и еще острее. Они поражены, и кучер – дурак! – ухмыляясь, просит написать на бумажке! Проходит десять лет. Исследуя Россию, я попадаю в глушь, в Архангельскую губернию. Кучер из Архангельской губернии… Заезжаю в село. Останавливаюсь в трактире. И вижу… бывший кучер Степан! Он сидит перед бутылкой водки, и пьяные слезы текут по его постаревшему лицу. В этом исхудавшем старике трудно уже узнать былого купеческого кучера, лихо перебиравшего вожжами. Мы узнаем друг друга – «Ну, как живете? как Паша, дети, если Господь благословил ваш счастливый брак?» – спрашиваю я Степана, и горькая усмешка змеится на моих сомкнутых губах. «Паша… дети… – словно в бреду похмелья говорит кучер, и пьяная слеза тяжело падает в стакан с зеленоватой водкой. – Они давно спят сном могилы! Поздно, но я должен сказать вам, дорогой барин, что… какая-то страшная болезнь подтачивала хрупкое тело моей покойной жены и дорогой супруги. Она тосковала невыносимо все годы, с первого дня нашего несчастного брака! Детей Господь прибрал… чудесные были ребятишки! Тоня… так хотела назвать жена, и… Любовь, Любочка. наша… И То-ня, и Любовь скончались в один день и час… от скарлатины! ужасный день! А Паша… я нашел ее бездыханный труп в один ненастный вечер, когда вернулся из путешествия с обозом. Я возил соль и рыбу. Странная смерть ее покрыта тайной!» И он уронил голову на стол. «Сведите меня на ее безвременную могилу! – прошу я несчастного старика, стараясь удержать просящиеся на глаза слезы. – Я хочу отдать последний долг той, которую я… которая была… подругой дней моих суровых… так сказать, свидетельницей светлых дней моей незабвенной юности! Мы должны отслужить па-нихидку и помянуть ее мятущуюся душу, а ее прекрасное… ее внешний, материальный облик, конечно, только прах!» Кучер молча пожимает мне руку, и мы отправляемся на запущенное сельское кладбище-погост. Старенький священник, узнав, кто я, – он уже прочитал в газетах о моих важных открытиях в безлюдном краю, – трогательно совершает грустную службу над ее могилкой, где на уже отцветающих травах лежит свежий венок из незабудок. Поздние птички как бы вторят печальным мотивам своим осенним чиликаньем. Я про себя шепчу: «Где вы, незабудковые глазки? Чувствуешь ли ты, о, Паша, кто сейчас проливает слезы над твоей одинокой, безвременной могилой? Спи же, несчастная жертва человеческого бессердечия! Мы не нашли в себе силы перешагнуть через установленные предрассудки тщеславия! Но я до смерти буду носить в душе твой девственно-чистый образ!» – «Аминь!» – говорит священник. На прощанье я обнимаю одинокого старика. «Мужайтесь! – говорю я твердо. – Жизнь полна испытаний. Но пусть в нашей печали будет светить нам чистая душа той, которую мы оба так… уважали! Я сейчас уезжаю – и навсегда». – «Нет, дорогой барин, – взволнованно говорит бывший кучер, теперь совершенно опустившийся несчастный, – я не могу вас оставить! Вы воскресили меня к жизни. Только теперь, перед ее могилой, я постиг глубину своего нравственного падения и высоту ее кристальной души. Я еще силен. Вам нужен ям-щик. Наши дороги Севера опасны… Будемте же вместе коротать нашу трудовую жизнь…» – «… и в унылой дороге, среди пустынных тундр… – добавляю я, – вспоминать минувшие дни, когда нам улыбались ее веселые и иногда грустные детские глаза совсем еще юной девушки!» Он смахивает навернувшуюся слезу, и через десять минут лихая тройка, управляемая преобразившимся ямщиком, с павлиньими перышками на шапочке, лихо выносит нас из заброшенного северного села в неведомые, манящие нас просторы…
Мечтая, я так расстроился, что к горлу подступил ком, и глупые слезы меня душили. Конечно, с Пашей уже покончено. Возможно, что так и будет. Ясно, что мы не пара. Если даже она и любит, она скрепя сердце должна отказаться от надежды. Наши дороги – разные. Конечно, в порыве страсти, она может собой пожертвовать, может даже прийти ко мне, но я не должен способствовать ее гибели, нравственному ее падению!
Мне стало легче. Мысли перебежали к Женьке.
Письмо он отдал, но почему она не идет к нему? Если бы она интересовалась, сейчас бы пошла в Нескучный, где, конечно, он ждет ее. Значит, мало интересуется! И – кто знает! – может быть, та встреча, когда я спасал Мику, – не бесследна?! Может быть, она ждет шага?… А если самому написать письмо? Я могу написать страстно, излить все обуревающие меня чувства… что без нее я не могу жить на свете, что я должен высказать ей все, все, пока еще не поздно. Женька ее не любит, смотрит на нее, как на забаву, как на предмет наслаждений, и, конечно, швырнет, как смятую перчатку! Конечно, я не назову Женьку, все-таки он мне друг, и это – подлость… но я должен предостеречь от роковых последствий, от ослепления. Можно выразиться неопределенно… Сказать, например, что – «вас хотят очаровывать письмами и приглашают на свидание, но выслушайте же, умоляю вас, мольбу преданного вам до гроба друга, который не требует от вас ничего! – даже снисходительной улыбки, но… берегите себя, не верьте соблазнам обещаний!»
Я перечитал написанные стихи и пришел в восторг:
Слезы навернулись на мои глаза – от счастья умереть у ног, от жалости к себе.
Если она прочитает эти стихи и то, что напишу ей прозой, – а я так могу написать, что… – непременно она заинтересуется – кто он, молодой поэт?… А я ей буду посылать еще, еще, я ее завалю стихами! Я ее буду увлекать, очаровывать музыкой слов, как песня флейты зачаровывает даже змей, – и она будет ждать все новых писем. И когда она будет сгорать от нетерпения узнать – кто это?… – я – может быть, это будет пятое письмо! – не откроюсь сразу, а подпишусь – «Печальный Незнакомец», или лучше – «Загадочная Личность», или, пожалуй, лучше – «Неизвестный», – и попрошу минутного свиданья, чтобы в двух словах сказать ей все и устраниться с ее дороги, если ее сердце уже принадлежит другому…
Пусть решает!
XIV
Я стоял у окна. Золотился вечер. Березы в садике чуть розовели. Червячки на них висели золотисто-розовой бахромкой. У сарая сидели скорнячиха и кухарка и шептались, качая головами. Мальчишки, сидя на коленках, считали бабки. День кончался.
Я посмотрел на тополь. Как за день выросли листочки. Торчали копьецами, – теперь уж лодочками смотрят. Сквозь них чуть видно, а утром все сквозило. И запах – крепче, горький. В светлом небе стояли облачка, как пятна снега. Скоро проступят звезды.
Я смотрел на небо. Тревога, ожидание чего-то – переполняли душу. Мелькала Зинаида, она, неясная… И было грустно.
Вдруг – гармонья! У Кариха, хрипело басом. У нашего забора, к садику, сидел сам Карих и пробовал гармонью. Раньше он не играл. Оказывается – он умеет! Играл он плохо. Пробовал бас, врастяжку. Я все ждал, когда сыграет, но он все пробовал, хрипел басами. Раздирало уши, а он все пробовал. Гармонья была большая, громкая. Словно назло, с басов он перевел на визги. Начал польку и оборвал. Потом похоже на – «Господи по-ми-луй»! – так заунывно. Вдруг:
– Учитесь играть, Семен Кондратьич?
Я узнал сочный, серебристый голос, ее голос! Сердце у меня вспорхнуло и упало. Я высунулся из окна – не видно. Стоит на галерее, ясно. Подумал – в садик?…
– Я-с – Степан Кондратьевич! Когда мне грустно… – устало сказал Карих, – развлекаюсь под звуки музыки-с!
Он приподнялся, поклонился и сел опять.
– Что-нибудь сыграйте! Я так люблю гармонью. – Да ведь… я по фантазии играю… для сердца-с!
– Ну же, что-нибудь такое…
Она проговорила, как пропела: кокетливо-капризно. Басы завыли, захрипели…
– Нонче не могу! Что-то не тово, в руках…
– Ну, а… «Я вновь пред тобою стою очарован…» – не знаете?
– Это очень тяжело. Я его знаю, но… романц грустный! – сказал уныло Карих. – Трафлюсь все подбирать тоже один Романц, за сердце берет. Такие слова… начало забыл! А под конец так хорошо помню. Может, вы, Серафима Константиновна, знаете?…
– Ну, скажите…
– Так будет-с…
– Как… как…? – рассыпалось серебристым смехом, – «голову сложил»?!.
– Сложил! Из любви, понятно… и от храбрости. Поехал поздно на свиданье с Мавриней…
– Вот, бедняга! – пропели с галереи. – И что же?…
– Только под самый кончик помню… Так:
«Дурак»! – чуть не закричал я, но прежде чем я подумал, что он дурак, такой ослепительный смех рассыпался, словно вся галерея зазвенела всеми своими стеклами. Даже собаки где-то залаяли, а мальчишки полезли на заборы. Захохотал и Карих. Хохотал он страшно, приседая и взмахивая гармоньей, и кричал дико:
– Вот какой поражающий романц! Умо-ра!..
– Ой-ой-ой… не могу… погодите… ха-ха-ха-ха!.. – раскатывалось с галереи. – Где… где это вы слыхали?! как, как?…
– В портерной на уголке недавно пели, восхитительно! Помню, помню!..
– Ой-ой-ой!.. не могу… ха-ха-ха!..
– Чему это вы, Серафима Прекрасная?… – раздался басистый голос, и я разобрал тяжелые шаги по двору.
– А, Померанцев!.. Давно, давно вы… – певуче отозвалась она. – Подстриглись вы, наконец, или все еще Квазимоду изображаете? Ну-ка, снимите фуражку?!
– Можете похвалить! На целый вершок окоротился. А давно потому, что, во-первых, был жестоко влюблен!.. «Что на свете прежестоко?!»
– Не хвастайте, не хвастайте!.. вы совершенно неспособны…
– С точки зрения акушерки и фельдшерицы?… Протестую! И сумею доказать противное… – подделываясь под пьяного, басил невидимый мною какой-то Померанцев.
– И в кого это вы были влюблены, интересно?
– Сразу в двух! В весну и… в анатомию! Покойничков потрошил к экзамену и провонял, как… кошатник. А посему и страшился предстать пред ваши о-чи… и жаждал той… вол-ше-еб-но-ой но-о-чи… когда ты позовешь меня-а-а…! – пустил он из какой-то, должно быть, оперы.
– И я таки позвала вас! – засмеялась она на галерее, а у меня затомилось сердце.
Померанцев отошел в глубь двора, и теперь я его увидел. Это был широкоплечий студент, в красной рубахе под серым легким пальто внакидку, в приплюснутой фуражке, с очищенной добела дубинкой. Густая черная борода закрывала ему грудь веером, а черные космы – плечи. Я понял, что, должно быть, это тот самый «чернявый», который «упокойников режет, и воняет от него – не подходи!» – как сообщал мне Гришка.
– Ахх… не убегай! ахх, не исчезай… прел-лестное виде-э-нье! – орал он, мне показалось, из «Фауста». – О, Серафима, мое оча-ро-ва-нье!..
«Да пьян он, что ли?» – негодуя, подумал я. В это время рявкнула на басах гармонья. Померанцев оглядел Кариха и размашисто снял картуз:
– Домовладыке и… великому меланхолику! Врагу нигилистов, социалистов и… счастливых любовников! «Не спи, казак, во тьме ночной, студенты ходят за рекой!»
– Наше почтение-с, господин студент! – ядовито ответил Карих. – А хорошего мало-с… в Охотном били-с!.. За без-образие-с. Никого не признают, а бомбы готовят! Царя уби-ли-с… и надсмехаются! Даже и над Богом-с! И будут бить, как собак!
– Под суд!., под суд!.. – насмешливо заорал студент. – А хотите, научу, как китайцы приветствуют? Серафима, не слушайте! – погрозил он на галерею своей дубинкой. – Мои вам почтанники… годятся на утиральники!..
Карих так и затрепыхался, всплеснул гармоньей. И я очень возмутился.
– При барышнях-то!!. – воскликнул он укоризненно и закачал рыжей головой.
– Ужасно! – крикнул студент, воздевая руки. – А потому _ споем!..
– Отку-да у вас эта прелесть?! – восторженно прозвенело с галереи. – За анатомией сочинил! Напечатал в «Стрекозе», получил два двугревенных и вот – принес вам сразу две палки… щиколаду!
И он показал сверточек.
Нет, он, положительно, был разнузданный. Хотя песенка и понравилась, но сердце во мне дрожало. Она… может позволять так?! А студент опустился на колени, тряхнул длинными волосами, так что закрыло ему глаза, и затянул, как утопленник:
А она царственно хохотала на балконе.
– Да что с вами сегодня?! Откуда такой пафос?…
– Тррупики на «весьма» сдал! И один был ужасно похож на знакомого домовладыку! По вскрытии оказалось… мозги у него проникли даже в… живот. Необыкновенный случай!..
– Не говорите гадостей!
– В таком случа-е… дозвольте посеренадить!
Весело было, как в театре. Студент распялил пальто дубинкой, – словно гитара под полою, – и запел очень красивым баритоном, перебирая по дубинке:
– А?!!.. – оборвал студент, кидаясь к галерее, и я слышал, как загремело по лестнице.
Карих взмахнул руками и так разодрал гармонью, что она чуть не лопнула. Я смотрел, ничего не понимая. Неужели же она позволяет… все?!.
XV
Я сейчас же побежал в садик. На галерее никого не было. В саду темнело, проглядывали звезды. Я смотрел на звезды, и они ободряюще мигали. Сейчас же написать ей письмо, а то утратишь! – говорило в моей душе. Студент, должно быть, влюблен в нее, но они еще говорят на «вы».
Я вспоминал ее ловкие словечки, кристальный и нежный смех. Конечно, она очень тонкая кокетка, но это и чудесно – кокетство в жен-щине! Даже Паша – и та кокетка! Знаменитая Клеопатра поражала кокетством и всех покоряла чарами. И все гетеры!.. Они были очень образованные и приглашались для услады пиров. И я представлял себе, как она, в розах и с обнаженными дивными руками в золотых запястьях, с роскошными волосами, полулежит за столом и сыплет своим кокетством. Все мы пируем с нею: Женька, студент и я. Карих прислуживает у дверей. Я читаю свои стихи, а рабыни за пурпуровыми завесами сладко позванивают на арфах. Она взволнована. Шутливые фразы уже не срываются с ее надушенных губ. Светильники начинают чадить и гаснуть. Подходит час, когда рабам уже не место среди господ. «Поэт, останься со мной, чтобы услаждать мой слух дивными песнями!..» – взволнованно говорит она. Студент и Женька должны уйти, иначе свирепые рабы по одному мановению ее сверкающего пальца выкинут их на мостовую. И они нехотя уходят. Мы, двое, в немом молчании смотрим в глаза друг другу…
Надо спешить, высказать, какие чувства обуревают мою душу. Все часы и минуты я простаиваю в саду и слежу за каждым ее движением, за каждым вздохом… Мне ничего не надо, только… пусть позволит любить себя, смотреть на себя влюбленными очами, писать ей о всех перипетиях пылкой моей любви, называть ее тысячью всяких слов, провожать ее издали, благоговейно поклоняться, как божеству! Только такую святую любовь и призываю я, а не физическую потребность, как говорит развращенный Женька. И студент тоже развращенный. Это любовь поэтов – благоговеть! Как прекрасно у Пушкина говорит Онегин, утративший – увы! – Татьяну:
я забыл, но, кажется, там было – «И… умереть у ваших ног». И я удачно сегодня выразил: «Умру, как раб, у ног твоих!»
Во мне запело, и чарующие слова стали летать под звездами. Меня посетила Муза! Она сыпала на меня цветами которые расцветали в моем сердце. Почти не видя, я записывал карандашиком в календарик, и вылились удивительные стихи, перед которыми утренние были пустяками. Я описывал ее фигуру, «поступь розовой зари», «грудь как пена вод морских», глаза «как золото в лазури» и волосы «как дождь златой». А в заключение сыпалось цветами:
Муза сыпала на меня из роскошной своей кошницы. Потом – не знаю, почему, – я изобразил возможную ее утрату. Кто-то – может быть, бородатый студент, – шепчет ей искушения, и она, поддаваясь обману его речей, внезапно уезжает, когда весь дом погружен во мрак предрассветной ночи. Я не слышу больше чарующего ее смеха, все кончено. Лихая тройка уносит ее в мрачное будущее…
Я писал и плакал. Неужели она не поймет чистоты и святости чувств моих?! откажется от блестящего будущего, полного славы, блеска?! Мне ничего не надо. Тайна любви – в созерцании и благоговении. Я буду целовать следы ее шагов, маленьких шажков ее неземной ножки! Ароматы ее волос обольют мое истерзанное сердце целительным бальзамом. И это неземное имя – Серафима! Она похожа на роскошнейшую красавицу, которая дремала в хрустальной воде, в бриллиантовой чешуе, в огнях, привлекала жемчужными руками!.. И вот, выходит ко мне теперь…
Я услыхал звон гитары и чарующий смех ее. Галерея осветилась, проплыла лампа. Сновали тени. Я видел, как Серафима распахнула окно, высунулась до пояса, и зазвенело небесной музыкой:
– Какая дивная ночь! Пахнет тополями, как духами. А какие звезды… прямо сияют, как… – …алмазы! Следующий номер: «Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат!»… Ого-о, мда-а… – высунулась лохматая голова над нею, и я задрожал от ревности. – Здорово несет навозом, и все помойки жадно дышат густейшими испарениями! Весна!.. Чудная пора любви, надежд и… котов! Стойте! Сейчас я вам спою…
Я узнал отвратительный, жирный баритон студента. «Пошляк! – обругал я его в душе, – ты все отравляешь своим гнусным прикосновением!»
– Только что-нибудь вдохновенно-высокое! – сказала она мечтательно.
– Как Иван Великий! – отозвался чей-то скрипучий голос. – Жарьте, Кузьма Кузьмич, про «трех граций». Здорово у вас выходит…
– Не смейте про «граций»! Не люблю этой гадости… – закричала она капризно.
– Это же не про вас, Симочка! – заскрипел голос, и я разглядел в окне низенькую толстую фигуру, похожую на «Рожу». Но то была не «Рожа», та была во всем черном, а эта – в белом. И звали ее – Павел Тихоныч.
Гитара пустила плясовую, и жирный баритон начал:
– Трре-тья… без скулы! – поддержал и скрипучий голос, должно быть – фельдшера. – А где ж «Губа»-то наша? Неужели голубки еще воркуют?!
– Они читают что-то такое… запрещенное цензурой! – заговорщицким тоном сказал студент.
– Ну, господа… вы же знаете, что это платоническая любовь. Ксенофонтушка очень мил, и мне его страшно жалко… Зачем же пошлости?! – сказала Серафима. – Зачем уходить в натурализм?…
Я был растроган: какое благородство!
– Ах вы, идеалистка надсоновская! – сказал студент, и я заликовал от счастья: она – идеалистка, как и я! она не может опускаться до пошлостей!
– А мне он нравится, это я понимаю!.. Это «ученик седьмого класса!» – закричал студент, и я навострил уши. – «Ответьте мне, кррасавица, что да!! И буду я рабом последним завсегда!»…
И все захохотали. Она – всех громче. Она предала Жень-ку! А если и мое покажет?… Пусть покажет, если хватит ду-ху! Но я-то напишу настоящее, я так напишу, что… поразятся! И она сразу почувствует, что с серьезным чувством нельзя шутить. Вполне естественно, что ее страшно возмутило нахальство Женьки, – обокрасть Пушкина! Для нее еще есть святое, она – идеалистка!
XVI
Пашу бранили, что она воротилась поздно. Все с именин приехали, а она только-только пожаловала! Где это она шаталась, по портерным? Она оправдывалась, облизывая губы, что тетка на денек только приехала из деревни и надо было ее напоить чайком, ходили к какой-то куме в Лафертово, очень далеко, потому что «в трактир вы сами не позволяете!» И я понял, что про портниху она врала.
Она была сама не своя, путала все тарелки, а по лестнице так носилась, что мать сказала:
– Бес у тебя в ногах? Чего ты, как полоумная?… выпила, что ли? Смотри ты у меня!..
– И вовсе не пила ничего! – дерзко сказала Паша. – Всегда ни за что бранитесь!..
– А ты не огрызайся, я все вижу! – погрозила мать. – Будешь потом пальцы кусать! С Грушки пример взяла?
– Да что это вы, барыня?! – всхлипнула Паша и закрылась передником. – Тетку не смеешь повидать… в кой-то веки навестить приедут… сироту… работаешь день-деньской…
Мне стало ее жалко. Но почему она наврала?… На галерее о чем-то спорили. Я разобрал, как она сказала:
– А я верю, что душа есть! Смейтесь, циник, а я иногда хожу ко всенощной и к обедне!.. И свечки ставлю!..
Она – святая и чистая… она и свечки ставит!..
Потом пели. Недалеко от меня урчало: собака, должно быть, забежала, пугала кошечку в бантике. Пел баритон: «И будешь ты цари-цей ми…и…ра-а-а-а!» Потом начали петь дуэтом: «Глядя на луч пурпурного заката». И тут я понял, что это не собака: урчал Карих! Он сидел у сарайчика в темноте, и я хорошо расслышал:
– У меня не трактир для безобразия! Ходят, как кобели. Всех сгоню! Черт толстопузый, больничный коньяк таскает… каждый раз кульки волочит казенные! Трое к одной ходят… соблазнители! У меня не веселый дом… Нигилисты проклятые! Околоточному вот сказать…
Я знал про нигилистов, которые Царя убили. Неужели и она – такая?! Я слышал, что нигилистов сажают в «Петропавловку», где страшный подземный люк, который открывается прямо в море. Неужели и она из них? Они даже не женятся, а «каждая живет со всеми». Это передавал мне Гришка. «Такой порядок, вроде как у них такая вера!»
Во мне мелькнуло: значит, правду говорил Женька, что она смотрит на это очень просто, и… Нет, это невозможно: она – идеалистка!
Кликали меня ужинать.
– А ты помни, замечу только и прогоню! Мне потаскушек не надо. Давно уж замечаю. Обламывают дуру, в люди выводят, а она… Думаешь – смазливенькая, так замуж возьмут? Так и пойдешь на улицу, только дайся!..
Мне стало стыдно, и я опустил глаза. Уж не заметили ли чего, как утром возились с Пашей?
Я знал, что Грушка, с нашего двора горничная, «путалась» с лавочником, и ее прогнали, теперь она живет в подвале и приходит иногда под вечер, шушукается у ворот с Пашей. Паша ее жалеет и как-то сказала мне: «Вот свяжись с вашим братом, мужчинками… закружите голову девчонке, а там – ищи!» Мне польстило, что Паша считает меня мужчиной и даже способным закружить голову. Лавочник женатый, жена у него красивая и пушистая, когда ходит в малиновой ротонде, трое детей у них, и как же это он… с Грушкой? Ребенка в воспитательный дом у Яузского моста, там все такие дети – «дети любви»! Я слышал, что это самые красивые из детей. Меня это очень волновало – «дети любви»!
Паша, конечно, обманула. И прекрасно. Может свататься с кучером! Теперь мне неинтересно. После ужина я ушел к себе и думал о письме к ней. Надо спешить, пока сердце у ней не занято. Я начал писать стишки. Но разве стишками скажешь?!
Я писал и горел восторгом. Весенний воздух, смешанный с запахом навоза, дразнил меня. Я часто высовывался в тополь. Все, что случилось днем, переполняло всего меня. Опять выступала Паша, ее словечки, ее прикосновенья. «Ну… что?» Я видел, как она прыгала «сорокой», приподымала платье, качала ногой в ботинке, стояла внизу, на лестнице, сказала – «ми-лый!» Хотелось, чтобы Паша пришла ко мне. Она же говорила, что – вечерком… Все во мне спуталось, прожигало меня, бурлило. Я живо видел, как входит ко мне Паша в голубом лифчике, берет меня за руку и долго глядит в глаза. Глядит и шепчет, ласково-ласково: «Ну… что?» Я ее целую. Она лепечет: «Все вы, мужчины… кружите голову…»
Когда я писал ей, мучившее меня весь день, копившееся во мне желание, раздражавшееся словами – «женщина», «живет с бельфам»… – открыло себе выход в бессвязных словах письма. Я вызывал ее, чистую и нетленную, как образ Зинаиды, как радостное что-то, явившееся мне утром в блеске. Подснежники, густые, синие… юные, влажные листочки на тополях!.. И радостное такое, что в этом было, покрывалось вдруг жгучим – женщина! Я шептал это сладостное слово, и оно принимало формы… Все, что манило в ней – волосы золотистого каштана, линии тугой кофточки плавность ее движений, нежный голос и то, что скрывалось в ней, полное жгучей «тайны», что называлось чудесно – женщина – вылил я к ней в письме.
Я писал о тысячах поцелуев, которыми я покрою оборку ее платья, – «вашего небесного платья, складки которого оставляют в моих ушах божественный шелест крыльев». Я называл ее сумасшедшими словами… «Ваши поцелуи я буду пить, как умирающий путник пьет из гремучего родника пустынь!»
Остыв немного, я понял, что так нельзя. Это ее оскорбит, конечно! Она скажет: «Пить мои поцелуи? а разве я вам позволила? „Пьют поцелуи“… одни любовники! Кто дал вам право? А я – разве ваша любовница?!» Слово «любовница», которое я шептал и написал даже, чтобы посмотреть, что – в нем, напомнило о грехе, еще незнакомом мне. Я вызывал Пашу в голубом лифчике, и ее, входящую ко мне в комнату, как Ева, стыдливо прикрывающуюся роскошными волосами. Еву я хорошо запомнил: ее я видел в монастыре на стенке. Она стояла в стыде наготы своей, съежив округлые плечи и колени.
Я кое-что исправил, и вышло чудеснейшее письмо. Там было: «царица души моей, прекрасный ангел рая», «белокрылый Серафим» – тонкий намек на ее дивное имя! – «ваши чудные очи пронизывают все мое существо, как живительные лучи солнца растапливают ледяные горы», «ваши роскошные волосы пышного каштана, эмблема женщины, чарующе обрамляют ваше ангельское лицо, достойное кисти великого Художника-Творца», – отблески героинь Эмара, – и заканчивалось криком из недр души: «Итак, в ваших руках моя участь! Скажите, умоляю вас, могу ли я питать хотя бы самую слабую надежду на вашу снисходительную благосклонность, или – я все поставлю на карту!»
Я перечитал – и был растроган. Я плакал, когда переписывал на листке, вырванном из алгебраической тетрадки. У меня не было розовой бумажки и голубка. Я склеил конвертик и, сказав, что забыл в саду геометрию, выбежал за ворота и сунул под дверь парадного.
Сразу стало легко. В сердце дрожало ожидание. Будет – новое. Что-то должно случиться!
XVII
Придя к себе, я неожиданно застал Пашу. Она готовила мне постель, как всегда вечером. Она переоделась, была в будничной кофточке, розовенькой с горошками, но бантик на голове остался. И модные, нескрипучие ботинки: двигалась она неслышно. «Если заговорит – ни слова!» – подумал я и взялся за геометрию. Торчали серые треугольники, похожие на пасхи. Как галки, сидели на них буковки. И по всей странице гуляли галки, резали мне глаза. «И чего она возится, прекрасная измус… – с раздражением думал я. – Врушка, гуляла с кучером… развращенная девчонка!..»
– Прошу больше не стелить постель! – неожиданно сказал я. – Ваших услуг не нужно! Можете ходить к… портнихам, с кем угодно…
Я услышал, как Паша фыркнула. Это меня взорвало. Смеется еще, негодная!
– Я не позволю над собой смеяться! – шепотом крикнул я, а она еще передразнила, грубиянка:
– Тише-тише, рыбу испугаете!..
Я не утерпел и обернулся. Она стояла возле моей постели, держала подушку-думку и смеялась во все глаза. Сверкали ее зубки в тени от абажура.
– А я вещичку хотела одну сказать. А раз сердитесь… – и она вздохнула. – Теперь уж некому и сказать…
И, бросив думку, пошла из комнаты. Около печки она споткнулась на ранец и бережно подняла его.
– Не желаю никаких «вещичек» от вас! – бешено прошептал я и, неожиданно для себя, схватил подснежники из стакана и бросил на пол:
– Вот ваши… «вещички». Можете дарить кучеру!
Она молча подняла их и посмотрела на меня с укором.
– Обижайте, не привыкать…
Она поцеловала подснежники – или понюхала? – и когда целовала, большие, от синей тени, ее глаза смотрели ко мне из-за букетика. Во мне перевернулось болью. А она все стояла и смотрела.
– Погоди… – тревожно сказал я ей, боясь, что она заплачет.
– Нечего мне… го…дить, – сказала она прерывисто, прислушиваясь к чему-то. – Что вы меня терзаете?… Что сирота я… некому заступиться?…
– Я… терзаю?!.
– Позорите… как последнюю…
Она швырнула подснежники и выбежала из комнаты.
Я слышал, как она налетела на что-то в коридоре и побежала по лестнице, кому-то отзываясь: «У Тони постель готовила!»
Я понюхал подснежники, самой весною пахли! Выкинуть за окно?… Почему-то мне стало жалко. Я бережно положил их на пол. Подумал, что завянут, окунул в стакан ножками и опять положил у печки, куда они упали. Пусть увидит свои подснежники! Меня это так расстроило, что я не находил места. Я выходил послушать, не идет ли. Мне казалось – должна прийти. Вспоминал, как она смотрела над цветами, закрыв лицо. Что она со мной делает? И чем я ее обидел?! Сказал, что она все врет… Про какую-то «вещичку» сказать хотела… «Теперь уж некому и сказать»? Теперь… Почему – «теперь»? Может быть, очень важное?…
Я приотворил дверь, чтобы не пропустить Пашу, когда она побежит к себе. Подумал: «Увидит полоску света и догадается, что я жду… не ее жду, а… объясниться!»
Гришка не мог наврать. Она побежала не к портнихе, а к какой-то тетке! И про тетку вранье, конечно. Кучер… Значит, – вспомнил я, как говорил мне Гришка, – пришел ей «срок»? Корова даже мычит, когда «срок» подходит!..
А вдруг она побежала к кучеру?… Я выглянул в окошко и послушал. Было тихо. Конюшня была закрыта. Гришка прошел под кухней. Я услыхал Пашу:
– Ну тебя, плети что хочешь!
– А чего я плету такого? Ну, каталась… ну и дай Бог. Может, и замуж выйдешь… Я тебя зна-ю, зубастая… укусишь! Только и на тебя зуб найдется, погоди…
– Обломится… – огрызнулась Паша. Плеснули что-то, как из ведра.
– А, шут тебя… шутовка!.. – испуганно вскрикнул Гришка: должно быть, окатили. – Всюю мне рубаху измочила… Па-ш! Что я те скажу-то… нет, в самделе… в каких листора-нах были? Ну, Степан все мне скажет!..
В кухне захлопнулось окошко.
«Значит, верно… они катались!..» – подумал я.
Загремело внизу посудой. Сейчас будет запирать двери и пойдет спать. Я стал сторожить у двери. Вот, побежала кверху, топнула на последнюю ступеньку. Я отступил от двери.
На полоске она остановилась, заглянула… Я стал у печки, будто о чем-то думал.
– Можно?…
Я не отозвался. Она просунула голову и заглянула. – На одно словечко… – шепнула она живо, – можно?…
– Войдите…
– Вот я сейчас напугалась как, – начала она весело, прихватывая себя за плечи и качаясь, – кот глазищами напугал! Шасть мне в ноги, в самые-то коленки… сюда вот! Человек какой, думала, хватает!.. За что же цветочки-то мои вы так… брезговаете? – и она подняла букетик. – А стишки ваши… вот они где томятся… – показала она на сердце. – Знаю, чего вы сердитесь! Сказала, что к портнихе?…
– Да, ты лжешь и лжешь! – не удержался я. – А вы не знаете, почему? У каждого своя тайна есть. И у меня пришла тайна…
– Тайна? Ну да… с кучером ты каталась! Знаю. Она и не смутилась.
– А вам-то что же, что прокатилась? Мало ли кто катается… – говорила она быстро-быстро, а ее глаза следили.
– Ну да… мне это безразлично совершенно! Пожалуйста, можете и с конторщиком…
– Ах, Тоничка, миленький вы мой!.. – зашептала она быстро-быстро, прижимая ладони к горлу, и стала маленькой. – Ах, если бы вы знали!.. Я вот каталась, а сама все…
– Что – все?…
– Так, ничего… Вам неинтересно это. Вы считаете меня лгушкой… А вот тетка приехала, замуж меня проворит…
Я не сказал ни слова.
– Вот и сойду скоро… Так и забудете… Вот уж и мои цветочки швырнули…
Я посмотрел на ее лицо, и мне захотелось нежно ласкать ее. Ее побледневшее лицо – от зеленого абажура – стало совсем как детское, а маленькие губки поджимались, будто сейчас заплачет.
– Степан… сам тетку выписал, чтобы сватать… вот ей-Богу! – перекрестилась она. – И надо было повидаться… Все торопит… а мне не хочется… Что я, совсем девчонка!.. – поджала она губы. – Гоняется за мной, как вихорь, проходу нет… Как демон какой страшенный! Повез нас в листоран… медом угощал. И тетка-то говорит, погодить маленько… за-кабаливаться-то… не урод какой! Поживет – и в деревню сгонит, к свекрови…
Она прислонилась к печке, поджала руки к горлу и так смотрела. Я ничего не мог сказать: сердце мое сдавило.
– Он, Тоничка… знаете, что?… Нет, не могу выговорить… – затрясла она головой и засмеялась в руки.
– Что – он?…
– Сказал тетке… Она уж мне сказала… Ах, бесстыжий!.. ах, бесстыжие его глаза!.. а?!. Никак кличут?… Нет, спят, небось…
– Что же он сказал твоей тетке? – тревожно спросил я Пашу.
И она ткнулась в печку.
– А вы не глядите на меня, тогда скажу… Сказал, что… я… с вами… живем, будто… какой охаверник!.. Говорит, я на это не обращаю… все равно. Баловство у них… Женются лю-ди на вдове! На этом не настаиваю, говорит… охаверник!.. Ах, Тоничка, миленький вы мой… – вздохнула она тихо-грустно. – Ему это, будто, Гришка…
У меня в голове звенело. «С вами живем, будто!» – Только вы не глядите… мне вас стыдно…
– Ах, Паша… – только и сказал я, вздохнув.
– А тетка его хвалит. Нестреботельный он… обходчивый. Сама не верит! Может, ты с баринком чего имеешь! Это ей Гришка все… Не верит мне! А тебе, говорит, какая печаль… – говорит, – тебе веселей, с баринком-то, лучше! Может, лучше кого найдешь, не обсевок в поле… А что, всамделе… все говорят, что хорошенькая!..
Она повернулась ко мне лицом, веселая и смущенная, и посмотрела из-под бровей.
– Теперь… не сердитесь?…
Я… – я не знал, что делать, – быстро поднял подснежники и обцеловал их со всех сторон.
– Вот, Паша! – сказал я страстно и поставил цветы в стакан.
А она была уже около, робко заглядывала в глаза. Я взял ее за руку и прошептал чуть слышно:
– Паша…
Она не отнимала. Смотрела стыдливо, с любопытством.
– Ты… не выходишь за него… Паша? Она откачнула головой – нет.
– Тетка ему сказала… пусть еще погуляю… Ах, как хочу гулять! – сказала она восторженно.
– Паша… – прошептал я, покачивая ее руку.
– Ну… что? – шепнула она затаенно-нежно и посмотрела, как старшая.
Она была так близко, что я чувствовал ее платье и видел, как дышит на груди пуговка.
– Ах, хорошо… с тобой! – шепнула она мечтательно, и меня восхитило это вырвавшееся у ней – с тобой!
– Ты… любишь, Паша?… очень любишь?… – спрашивал я ее, не отпуская.
Она нагнулась ко мне, а я потянулся к ней. Она притянула меня к себе, и я услыхал, как пахнет ее духами, как монпансье, и встретил ее губы. Они были влажны и горячи.
– Ах, задушишь… – шептала Паша. – До чего сладко любиться с милым!.. Ах, теперь я могу любиться, мне все равно… Мой хорошенький меня любит… теперь знаю!.. Никого не любил еще?… правда?… А побожись…
– Ей-Богу, – перекрестился я. Она недоверчиво взглянула.
– И на улице… ни с какой?…
– Паша… я с отвращением отношусь к грязи!.. – с возмущением сказал я.
Она так и затопотала.
– Ах, ужас, какая я счастливая! – заиграла она ладошками. – А Гришка чего только не болтал про вас, во-от!.. У него, говорит, имеется… мне известно! У них деньги вольные– Вот какой плетун-охаверник!.. Ей-Богу, никогда не целовались… со своим предметом?
– Ни-когда! – решительно сказал я. – Только нельзя говорить – с предметом!
– А все говорят так… Теперь и у меня предмет! – и она опять прижала мою голову. – Совсем мальчишечка… прямо, по мне! Мне семнадцать, а тебе шишнадцать… совсем погодки! Теперь уж мы будем целоваться… всласть!
И опять потянулась ко мне тубами. Мы целовались молча. Я разглядывал ее маленькие губки. Верхняя поднималась и была похожа на тонкий красивый лук, с выемочкой на серединке. Пахло душистым чем-то…
– А это медом… Степан угощал с теткой. Такой пахучий, как с розаном! Ох, миленький, идти надо…
Но я не пускал ее.
– Ну, посидим немножко… Какие у тебя глаза, Паша…
– У меня… васильковые!..
Я вспомнил про «незабудковые». Лучше – васильковые!..
– А… никому не показывала стихи?
– Да что я… ду-ра?!
Она сделала губки трубочкой, и мы опять стали целоваться. Я почувствовал, как она куснула. И я куснул…
– Ах, милый… что ты только со мною сделал… про тебя только думаю. И давно уж, сама не знаю… А с утра сегодня чумовая совсем хожу, ей-Богу… А как стишок спрятала на грудь, так сердце и загорелось! Будем любиться с тобой… ах, будем!..
Она захватила мои губы и, закрыв глаза, провела своими губами по моим, словно погладила.
– Никак кто-то?…
Она подбежала к двери.
– Нет, Рыжий прыгнул… Прислушиваясь, она глядела на меня от двери.
– Ми-лый!.. – шепнула она, всплеснув руками, и стремительно кинулась ко мне.
Она опустилась на пол, обняла меня за ноги и прижалась лицом к коленям.
– Ах, чумовая… кого люблю!.. – шептала она, смеясь, – мальчика совсем, молоденького, светленького… – терлась она щекой. – меду, что ли, я много выпила, голова у меня дурная…
Я обнимал ее голову и не мог ничего сказать. Она вывернулась лицом, взглянула на меня туманным взглядом, словно глядела издалека, смеясь, уронила голову и стала Целовать мне руки…
– Ах, я глупая… ужасть счастливая… Я видел ее розовую шею с желобочком, по которому светло золотилось. И стал целовать ей шею. Она мягко поймала мои губы…
– Любишь?… никогда не разлюбишь?…
– Никогда… А ты?… Я страшно в тебя влюбился, помнишь… стояла в зале, в синей кофточке?. прыгала ты тогда!..
– Ах, помню… миленький…
– И когда умывалась, в голубом лифчике…
– Давно уж примечала… подсматривал все за мной! Всегда мужчины антересуются…
– Надо, Паша… ин-тересуются! – целуя, поправил я.
– Ну, ин-тирисуются… – прошептала она покорно.
– Ты очень умная, Паша… ты сразу сделаешься образованной! Ты, Паша… – я посмотрел на нее подольше, – настоящая женщина! Красивая женщина…
– Нет, нет… – сказала она испуганно, – девушка я еще… вот тебе крест!.. девушка я совсем!..
И она часто закрестилась, а глаза умоляюще смотрели. Восторг охватил меня.
– Ты… девушка, да, я знаю… но ты… моя женщина! Я мужчина, а ты жен-щина… моя!
– Миленькая твоя, – шепнула она нежно, – первенькая твоя буду… только твоя… А ты мой, первенький… Когда еще я!.. в Скокове у нас барчуки верхами катались… офицера! Думала, прынцы какие… никогда такого не полюбишь! А вот… со мной теперь!..
И стала целовать мне руки.
– Ах, напиши по-печатному, покрупней только, хорошо?… – просила она, поставив мне на колени локти. – Я сама стишки почитаю! Ты меня обучи писать? Я сразу выучусь, я смышленая…
– Я теперь тебе много напишу! – восторженно шептал я.
– А эти не умею, крючочками!.. Я сейчас… Только отворотитесь… отвернись… – поправилась она смущенно, – за лифчиком они… Нет, вы не смотрите…
Она отошла и отвернулась. Я слышал, как звякали крючочки, и думал: за лифчиком у нее!..
Она возилась, а сама следила через плечо, гляжу ли.
– Ишь, как измялись, тепленькие стали… Бегала, а все думалось… стишок у меня любовный!
Она отдала мне бумажку и, забывшись, стала застегиваться передо мною. Пахло от нее духами. Меня потянуло к ней, и я тронул ее за кофточку…
– Паша…
Она шатнулась и подняла ладони:
– Нет, не балуй… не надо этого… ей-Богу, не надо, миленький!.. Она умоляюще шептала. Глаза ее потемнели и стали больше.
– Ты, Паша… красавица… я хочу только… – шептал я страстно, – какая ты… красивая…
Она пятилась от меня, не сводя глаз, прикрывая руками кофточку.
– Миленький, не надо… спите…
В зеленоватой тени от абажура белели ее зубки. Вдруг она повернулась к двери…
– Кличут?… И пропала.
Я выбежал за нею. Слышал, как добежала она до своей комнатки, к чуланам, как щелкнул крючок за дверью…
Я долго слушал. Пробили часы внизу, кукушка прокуковала. «Па-ша!..» – сказал я вздохом и страстно поцеловал воздух. Рыжий терся у моих ног. Я схватил и нежно помял его. Потом долго ходил по комнате. Губы мои горели, обметались. Я вспоминал, как она смотрела, как втягивала мои губы, прижималась к моим коленям. Какое неземное счастье!.. Я слышал ее духи, сладкое монпансье из «уточки». В комнате пахло Пашей, розовой ее кофточкой, ее дыханьем…
Я бегал из угла в угол. Стоял у окна, глядел на звезды. Они говорили мне. «Да, ты ужасно счастлив!» Пахло чудесно тополями. Милые мои звездочки! Я дернул ветку, и звезды замерцали. Боже мой, до чего я счастлив! Я бил по лицу листочками. Пахло как будто Пашей, ее дыханьем.
Я увидал смятую бумажку. Мои стихи! И нежно поцеловал ее… Пахло Пашей! Я развернул бумажку. Буквы на ней размазались. Весь день бегала она с бумажкой!..
…Пойти и постучаться? Можно пробраться в сени и постучать в окошко. Окошко выставлено у ней… Дверь у нее скрипит и крючок щелкает, – она непременно забоится! Сени с другого бока, и я подойду неслышно. И посидим тихо у окошка!..
Я снял сапоги и тихо прокрался коридором. Страшно скрипели половицы. Сейчас услышат!.. В стекле чернелось. Я узнал Рыжего. Он попал между рамами, – должно быть, провалился, хотел убежать в окошко. Он увидал меня и замяукал. Негодный… пожалуй, перебудит!.. И тут мелькнуло: надо захлопнуть форточку, можно сказать, что кот мяукал… и потому я вышел!..
Я прикрыл форточку и тихо пробрался в сени. Галерея-сени тянулась коридором. Стояли сундуки и шкафы. И между ними, в самом конце – окошко. Оно светилось!..
Меня охватило дрожью, и ослабели ноги. Подумал: «Сейчас увижу…»
«А если она раздета?…» И стало страшно. «Нет, – сказал я себе, – она увидит… это низость!»
Я постоял, подумал… Окно погасло.
«Стукнуть?…»
И тут я понял, что не могу и стукнуть: подумает, что подглядывал в окошко, не поверит.
Это меня сдержало, я не стукнул.
Я поцеловал воздух и прошептал нежно: «Паша!..»
«И Дон-Кихот бы ни за что не стукнул! А Женька бы наверно стукнул! Мы любим идеально с Пашей… Я объясню ей, что значит идеально».
Мысли меня томили. Я вспомнил, что скоро дача… Пашу могут оставить убирать квартиру! Последний экзамен 28 мая, а уедут 20-го. Останусь с Пашей… один в квартире… Я даже задохнулся. Но это же грязное вожделение?! Меня охватило страхом. Экзамены!.. Я упал на колени и стал молиться. Молился и об экзаменах, и чтобы любила меня Паша, и чтобы Пречистая сохранила меня от искушений. Лампадка освещала ее грустный и кроткий лик. Показалось, что так похоже, когда Паша печально смотрит, задумается с иголкой.
Ночь я провел тревожно. Снилось, будто Женька схватил подснежники и вышвырнул их в окошко. От этого я проснулся. «А где подснежники?…» Помнил – они валялись! Я сам их швырнул об печку. «Ах, целовались с Пашей!.. Подснежники в стакане!»
Я соскочил с кровати. Сверкали звезды. В открытое окошко дуло. Какая свежесть! Я сел на подоконник, слушал. Чудесно петухи кричали! Подснежники чернелись пышно. Я их погладил, словно лаская Пашу. Милые мои цветики!..
Сон повалил меня.
Приснился Карих, очень хорошо одетый. Сидел в цилиндре, как у нашего пастуха, напротив. Будто он муж ее и что-то грозится сделать. А на нашем дворе, на бревнах, сидят математик и «Бегемот», с журналами, и будет сейчас экзамен. Я рад, что они на бревнах, будто родные, и надо предложить им чаю. Надо непременно послать за плюшками, и тогда они женятся на ком-то, как будто на тете Маше или на скорнячихе. И Женька снился, будто он тоже муж и сидит с Карихом на галерее. И должен приехать Пушкин. Мне очень страшно, что Пушкин меня увидит, а еще не посыпано песочком. Гришка стоит в воротах и что-то машет. Сейчас приедет. Я стою у забора, она со мною. Стоим так близко, что ее волосы щекочут шею. Что-то она мне шепчет, но я не могу расслышать. Я беру ее руку и умоляю: «Не говорите Пушкину!» И так мне сладко, что она рядом, что я держу ее за руку и умоляю!.. А Карих и Женька видят. И надо бежать куда-то… И Паша снилась. Сидит на моей кровати в голубом лифчике. Мне стыдно, что она раздета. А она манит, протягивает руки. Я хочу целовать ее…
Я проснулся в изнеможении, как будто таю.
Рассветало.
…Что же это со мной?! Я таю… Какая легкость, какая слабость…
Помню – заснул я крепко.
XVIII
Меня разбудила Паша:
– Вставайте, девятый час! Опять в гимназию опоздаете… Так хорошо все было, куда-то ехал… И стало стыдно.
Первою мыслью было:
«Паша… Но как же теперь с нею?… А она говорит, как раньше… Скажу, что живот болит. Но геометрии не успел еще, а сегодня надо поправляться, а то выходит двойка… Могут не допустить к экзамену. В пятницу последний урок будет, еще поправлюсь».
– Не пойду сегодня. Скажи… голова болит!
– Ну, вот какие… – шептала за дверью Паша, – в прошлый раз ведь голова болела! Не поверят мамаша…
Про «живот» бы надо, но стыдно перед Пашей.
– Скажите лучше… живот болит! – советовала она тревожно. – Сказать, что всю ночь не спали… сама слыхала?…
Какая же она умная! Я закрылся: даже и через стену стыдно.
– Сказать, что ли?…
– Ну, хорошо… как хочешь.
«Сейчас представление начнется!» – с тоскою подумал я.
Началось представление. «Лучше пусть выгонят лентяя, чем платить даром за ученье!» Дело известное. «У доктора Энке оболтуса-сына сам репетитор выдрал!» Тоже давно известно. «Марья Васильевна дурака своего в сапожники отдала!» Раньше – «в портные» – было!
– А фуражку и сапоги запру, не шляйся!.. Угасающим голосом я просил:
– Дайте мне, ради Бога… венского питья… Должно быть, тиф у меня начнется!..
– Не венского тебе питья, а касторки выпьешь! Лень, а не тиф у тебя, лентяя! Книжечку до свету читаешь? Выгонят вот, и будешь, дурак-неуч, камни гранить, конторщиком!..
Все проходит. Пробило девять. Я оделся и увидал смя-тую бумажку, мои стихи! То, что вчера случилось, казалось гадким. Как я взгляну на Пашу?… Взялся за геометрию и стал разбираться в теоремах. Потом занялся стишками. Надо переписать для Паши. Я стал перечитывать – и ужаснулся. До чего же глупо! «А губки – розовый арбуз!» У ней чутошный ротик, как у рыбки, и вдруг – арбуз! К черту арбуз, и не нужно тогда – «из Муз!»
И я стал переделывать. Вспомнил вчерашний вечер, увидел губки…
Это же ужасно: «сей листок»! «На последнем сем листочке напишу четыре строчки»… Так и Сметкин напишет! Вспомнил, как целовались с Пашей, – и сразу вышло:
Как это верно, что любовь рождает поэзию! Какая тонкость! Она не поймет, пожалуй, что значит «урони лепесток», но я объясню ей, и все поймется. В какой же восторг придет и уронит не один «лепесток», а много!
На радостях от удачи я пробежал «об окружностях» и быстро решил задачку. А раньше все путал с сектором. Ясно: я стал умней! Совесть моя затихла: вовсе я не дурак-неуч.
Я видел из окошка, как Степан подал к крыльцу пролетку. Уехали! Сестры ушли в гимназию. В доме осталась только тетка. Но она побежит к «Нечаянной Радости» молиться о мучнике.
Постучалась Паша:
– Скорей вставайте, чаю вам приготовила! Пока никого нету…
– И тетки нет?
– Унесло!
И она раскатилась с лестницы.
«Бес у нее в ногах! – нежно подумал я. – Совсем и не придает значения. Опять будем целоваться!»
Я надел белую курточку, которая шла ко мне. Совсем молодчик! И пошел, посвистывая, в столовую. Навстречу попалась Паша, бежала с самоваром.
– Слава Богу, выздоровели, – сказала она смеясь, словно ничего не было. – Я вам розанчик припасла с колбаской, а то не велено ничего давать… пусть постится!
Стукнула самовар и убежала. Я нашел розанчик и сливки. «Какая же она милая! – радостно думал я, хрупая розанчик, – какая у ней чуткая душа! Да, она будет любящая жена… Дикие предрассудки, что простая крестьянка не может играть роль в обществе. Наденет шелковое платье и шляпку, сядет в коляску, – никто и не отличит! Ездит вон Лавриха в бархате на своей лошади, а отец у ней землю пашет… Можно замечательно образовать!»
– Велели непременно выпить! – давясь от смеха, сказала Паша и поставила на стол чашку. – Велели побожиться, что скажу правду, что выпили…
И засмеялась хрустальными глазами.
– Если ты побожилась, придется выпить? – спросил я ее шутя, и стало совсем легко. – А вдруг ты попадешь в ад? Нет, мне тебя очень жалко…
Она схватилась за живот от смеха, вырвала у меня чашку и выплеснула в окошко.
– Выпили! А поп простит.
Я схватил ее за руку, но она вырвала и погрозилась:
– Это с понедельника-то, на всю неделю?… У вас и живот болит…
– Ну, Па-ша… разочек только?… Она весело замотала головой.
– Погоди до вечера, когда делать нечево!
Она отбежала к двери и стала слушать, плутовато поглядывая ко мне.
– А тетка вернется, подкрадется?… У ней плюнелевые, тише мыши! Это с меду вчера я так… а днем стыдно небось!..
Она взглянула бойко из-под бровей, вздохнула. Я тихо подошел к ней. Она прислонилась к двери, закинув голову.
– Что вы только со мною делаете… – сказала она мечтательно.
Я взял ее за голову и поцеловал нежно-нежно.
– Ах, как целуетесь хорошо… – шептала она с закрытыми глазами. – И вчера… губы обметало даже… Никак идут?…
Словно она проснулась: взглянула, застыдилась.
– Ступайте, учитесь, право… Нет, оставьте… еще застанут!.. Тогда меня, прямо…
– Ну, не буду… Я тебе по-печатному написал стишки. Вечером приходи, отдам.
– Теперь дайте!
И лицо ее так и засияло.
– Нет, лучше вечером. А ты уронишь… несколько «лепестков»?…
– Это каких таких лепестков?… – спросила она серьезно.
– А вот послушай.
И я прочитал стишки. Она отгадала сразу.
– Ах, ты… Уж и хитру-щий ты-ы!.. – сказала она чудесно и стала опять на «ты». – А знаешь, миленький… всю ночь не могла заснуть! Под самое утро только… Я играл ее пальцами. Они были совсем покорные. Она стала вертеть моими.
– Ой, не жми так, бо-льно!.. – сморщилась она вся и сама сделала мне больно. – Иди лучше учить уроки…
А сама все не отпускала.
– А вчера я хотел постучать к тебе…
– Чего выдумал! – зашептала она испуганно, и глаза ее сделались большими. – И не выдумывай никогда! Нельзя…
– Да не постучал же! Я подумал, что это неблагородно, мне стало стыдно, и не пошел…
– Уж не ври, не ври!.. – мазнула она меня пальцем, – я все слыхала! И дверью, как стукнули… У меня свет горел. Чего вам нужно?…
– Хотел в последний разок поцеловаться…
– Зна-ю, какие последние! Никогда не смейте, нехорошо…
– Я видел, как ты погасила лампочку!
– Потому и погасила! Не глядите. Мало ли… раздетая была, может… Бесстыдники! Подсматривали?… – сказала она, стыдясь.
– Ей-Богу, Паша, я не подсматривал! Это бы подло было! – старался уверить я.
– Все вы одинаки, знаю… Образованные-то еще хуже! Мне до того понравилось, что она так стыдлива, и я поцеловал ей руку.
– Ай, разве можно!.. Это попам целуют да мамаше! – отдернула она руку.
Мы шептались, пока не окликнула ее кухарка.
Но вчерашнего я не чувствовал. Не было в ней чего-то, что манило меня вчера. Она была в затрапезном платье. Ни фартучка на ней не было, ни голубого бантика. Я видел из окошка, как вытрясала она ковры, потом полоскала у колодца. Совсем простая! И хвост даже подмочила. А ноги – в разношенных башмаках, ушастых!
День был совсем весенний. Распушившийся за ночь то-поль стоял зеленый, и в комнате стало по-другому. И старые сараи обновились; за ними зеленело. Прохаживался с метлой Карих, толстуха выносила ведра. Было отлично слышно.
– Ночью будто звонок к вам был? – спрашивал толстуху Карих.
– Наше такое дело. Симочку на практику вызывали.
– Государственное ваше дело, да больно беспокойно. А для нежной особы!.. Лучше жить в покое. У кого капитал, спишь до сколько хочешь, чайку попил – то-се… «Листок» почитаешь, кого обокрали… А тут в самую полночь с-под одеяла выхватют! Беспокойное ваше дело…
– Как можно, с капиталом! Будь у нас капитал… – Яишничиху мне сватают с Серпуховки, две у ней лавки… ну, только необразованная, и из роту пахнет. А моя мечта… даже рояль купить, чтобы всякие романцы, как приятно! Вон, пастух завел для «молодой» рояль… одну польку и выучилась, глядел я. И то, знаете, приятно. Сядет у окошка, а она польку играет.
– Да что… сына бьет, а сам со снохой живет!
– Сказать по правде, мне ее сватали. Она, я вам скажу, такой породы, что… деликатно нельзя сказать. Я ее отверг. Мне надо существо тонкое, в мечтах! – сказал вдохновенно Карих. – Я ищу существо с манерами, только счастья не задается. У пастуха один-разъединый был билет внутренний заем, и выиграл в прошлом годе сорок тыщ! А я владетель сороками билетами от папаши-покойника, и пятнадцать годов все жду. А могу двести тыщ выиграть!
– Co-рок билетов! – выкрикнула толстуха.
– Это для подарка только. У меня капитал Кредитного банка, по шесть процентов! Имейте в виду!..
– Капитал… как же можно!
– И я человек определенный! – постучал метлой Карих.
Обедать по случаю «живота» не пришлось, но Паша принесла мне украдкой вчерашнего супу с потрохами и хороший кусок телятины.
– На Рыжего свалила, утащил будто. Лупила его кухарка!..
– Зачем ты, Паша?…
– А вас-то еще жальче… одни вон глаза остались! – сказала она сердечно. – Стишки дадите?…
Я дал бумажку. Она тут же запрятала за лифчик. Женька почему-то не заявлялся, – а всегда заносил уроки. Фуражку мою забрали.
– Надо узнать уроки!.. – просился я. – Дайте же, наконец, фуражку! И когда экзамены, не знаю…
Наконец заступилась тетка:
– На нашей душе грех будет, если провалится! Весь день, видела я, учился…
Я получил фуражку и сказал тете Маше:
– Видел я сон… вам будет радость. Что-то необыкновенное…
– Голубчик, Тоничка… – стала она просить.
– Только возьму уроки, а то уйдет… – торопился я: сна еще я не выдумал.
Я дошел до часовни на уголке… Но тут случилось событие, которое все перевернуло…
XIX
Это была любимая моя часовня. Несешь единицу или двойку, станешь перед иконой и горячо помолишься. Я знал наизусть молитву, написанную под образом. «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго…» И в этот раз я остановился помолиться. На душе было тяжело, тревожно: грехи, экзамены… Я горячо молился – и вдруг услышал:
– Не оборачивайтесь и не обращайте внимания…
Это был чудный голос, ее голос! И рука замерла на лбу.
– Это вы… бросили мне письмо?…
У меня онемел язык. Кажется, и она молилась.
– Я вам отвечу… Куда писать?…
– Я… напишу вам… – прошептал я растерянно.
– Не оборачивайтесь… нас знают.
Когда я обернулся, она уже переходила улицу. Я видел волны ее волос, пышный, изящный стан, стянутый синей кофточкой, и что-то розовое на шее. Уже синяя шапочка-беретик придавала ей бойкий вид. Можно было подумать, что это гимназистка.
Я шел, как пьяный, очутился в каком-то переулке.
Хочет ответить мне… подошла сама! Письмо увлекло ее…
Не хотела скомпрометировать, шепнула. Может быть, ее тронуло, как я молился? Может быть, это… перст судьбы… Владычица… Видела один раз, через щель забора, и так запомнила!..
Я понесся, как сумасшедший, к Женьке. Мчались и пели мысли, складывались экспромтом…
Ворвавшись к Женьке, – он хлебал что-то торопливо, – я дико крикнул:
– Слушай!..
– И врешь, – сказал Женька, дохлебывая. – А тебя, кажется, не допустят. «Штучкин» сказал… не успеет поправиться – на солонину!
– Чепуха, – сказал я лихо. – А знаешь… только, ради Бога, никому… Я начинаю чувствовать, что такое полюбить женщину!..
– Ого!.. – усмехнулся он, перекосив рот. – Купи ей под-солнушков.
– У тебя только гадости! Пусть она не совсем образованная…
– Знаю, не хвастай. Образованную увлеки… вот! А с горничными не считается. Так я и ожидал, что скажет, и подосадовал на себя.
– Может быть, и увлек уже! – вызывающе сказал я. – Ну, а она ответила? свиданье было?…
Он втянул подбородок в грудь, так что образовались складочки, и внушительно пробасил:
– Она была занята… на практике!
– Вовсе и не была на практике, а у них были гости!
– И нельзя было отлучиться!
– И за ней ухаживает чернобородый студент!
– Ничего не значит! Я не требую иде-альности! «Мне все р-равно, мне все-о… рравно!» – деланно пропел он.
Но это больно его задело: он стал потягивать себя за нос.
– Женька, – не удержался я, – я должен тебе открыться. Я… тоже написал ей!
– Ты?… – вымолвил он презрительно.
– Я, кажется, тоже имею право высказывать свои чувства!
Он пробасил «полковником»:
– Мо-ло-ко-сос-маль-чи-шка!
Меня захлестнуло вихрем. Чудесная встреча у часовни!..
– Во-первых, они соседи и… она заинтересовалась мной!..
– Ффф… – презрительно сделал он губами, но по натянувшемуся лицу его я понял, что он ревнует.
– И… я вовсе не виноват, что две женщины мною интересуются!..
– Дульцинея с тряпкой, и… – кто?…
– Это уж мое дело! И я написал свое, а не сдирал у Пушкина! Пусть она сама решит, кто!..
Он презрительно выпятил кадык и фыркнул:
– Ду-рак!
Я чуть не крикнул ему: «А над твоим письмом издевались все вместе с нею!»
XX
Надо мной открывалось небо.
Прекрасная, неземная, к которой так все влекутся, а она, как лучезарная Зинаида, властно играет ими, – она мною интересуется! И как поэтично вышло! Этот божественный Шепот у часовни, этот смущенный лепет!.. Словно ниспосланная мне с неба, рядом со мной молилась! Быть может, это судьба… кто знает?
И я стал сочинять письмо.
– Я слежу за каждым звуком ее шагов, за вибрацией ее неземного голоса, за каждым ее движением, за каждым вздохом… О, мне ничего не надо! Только в благоговейном молчании созерцать светлый образ, слышать напевы рая! Оцените же мои чувства, как подскажет вам ваше сердце исключительно чуткой, чистой, прекрасной женщины и просто человека! Одно ваше – «нет», один ваш жест, – и я покорно отдамся участи и не потревожу вашего взгляда своим вниманием! Да! я… «погасну в мраке дней моих!» – как уже написал я вам, и лишь прибавлю:
Я просил положить ответ – в столбике нашего забора, под рябиной: там много дырок.
В комнату заглянула Паша. Я даже не заметил.
– И все-то пишете! и все-то учитесь-мучитесь…
– Ах, это ты, Паша… – сказал я, чувствуя перед ней неловкость. – Ужасно трудно… экзамены!
– Теперь скоро, будете отдыхать. А когда у вас екзамен-ты-то будут, в который день? Помолиться хочу за вас…
Во мне защемила совесть.
– В субботу, латинское экстемпоралэ!..
– Самый злющий? которого боитесь?…
– Геометрии я боюсь и «грека».
– Вы мне тогда скажите. Ну, учитесь, учитесь…
Я поглядел на исписанный листочек. Если бы она знала!
Перед ужином поймала меня тетка. У ней сильно болели зубы, – «ходячий флюс»! – и она была вся обвязана. На весь коридор воняло камфарным маслом. Я даже испугался, как она вынырнула из передней.
– Тоничка, голубчик… – зашептала она таинственно, обдавая меня «зубным», – какая же большая радость? какой ты сон-то необыкновенный видел?…
А я и забыл про сон-то!
– О, я такой сон видел!.. такой видел… такого никогда еще не видел! Даже и не верится, что можно такой увидеть! – стал я рассказывать, чтобы чего придумать.
– Думаешь, про меня видел?
– Думаю, что… вам что-то особенное будет! Прямо необыкновенный сон… довольно странный…
– Да расскажи же! А не страшный?…
– Не знаю, как вам покажется. Сон такой, что… А в голову ничего не лезло.
– Вижу я… мучника Пантелеева…
– Его?! Да не может быть?…
– Ну, тогда сами постарайтесь увидать! – усмехнулся я.
– Нет, нет, Гоничка… я же тебе троюродная тетка… Ну, видишь Пантелеева?… – Как живого, вижу мучника Пантелеева… Но как я его вижу? Это-то самое необыкновенное. Будто… он в роскошной бобровой шубе, веселый и румяный!..
– Нехорошо – в шубе! Шум будет…
– Увидите, непременно большой шум будет! – уверенно продолжал я. – Без шуму не обойдется. Раз такое событие, всегда шум бывает!
– Какое… событие? – совсем растерялась тетка.
– Не знаю, но событие, как будто. И Пантелеев въезжает к нам в ворота… в громаднейшей карете!
– В ка-рете?…
– Будто даже… в сверкающей золотом карете, с этими… ливрейными лакеями. И говорит: «Я приехал за… товаром!» И смеется!
– Так и сказал – за товаром?…
– Русским языком говорил! А я сижу будто на этом… на крыльце. А лакей в перчатках мне говорит: «Купец Пантелеев приехал за товаром! Где у вас товар?»
– Что-то такое, как будто… знамение?… – перекрестилась тетка.
– Я во сне даже удивился! Думаю – за каким они товаром?!
И выносят из кареты грома-дный-громадный пирог, кондитерский, или кулич! Во всю карету. Как он там у Пантелеева поместился… но во сне все можно… Даже во все крыльцо. И поставили прямо на крыльцо! И отворяется дверь на лестницу. И я смотрю, а на самом верху… вы сидите в кресле!
– Я… на кресле? наверху? А какая я, в каком виде?…
– Но это мало. Вам кто-то причесывает волосы. Волосы дивные, волнами, распущены по всей спине! И тогда Пантелеев пошел по лестнице прямо к вам. И дверь закрыли. И ни кулича, ни кареты. А лакей меня за плечо взял и будто будит: «Позвольте на чаек, господин хороший, поздравляю вас с праздником!» И все пропало!
– Тоничка!.. – вскрикнула тетя Маша и, должно быть, задела зуб: вся так и сморщилась. – Неужели ты это видел?… Врешь, ты этого так не видел! Выдумал ты это?…
– Не верите… не надо! – сказал я кротко. – Разве, тетя, можно так выдумать? – и я поверил себе, что видел.
– А ну, побожись, Тоничка! что ты так видел?!
Я подумал, что если я это выдумал, так это же все равно, что во сне приснилось, и я перекрестился.
– Бо-же мой!.. – воскликнула тетя Маша. – Неужели такое сбудется?! Я тогда непременно подарю тебе золотой!
Она сияла, и белые ушки платка на темени играли, как ушки зайчика.
Я был так счастлив, что всем хотелось сказать хорошее. Сестрам сказал, что они, по-моему, должны получить медали, и старался придумать сон. Паше шепнул в передней: «Не дождусь, когда поедем с тобой на дачу, будем искать грибы!» Она тяжело вздохнула. За ужином я был кроток и всем услуживал. Объявил, – что «теперь уж увидите… может быть, перейду с наградой»! Самому даже стыдно стало.
– Не хвались, а прежде Богу помолись!
– А что… – поддержала тетка, – может, и получит! Как ни раскину карты, а бубновому хлапу успех выходит! Кто же бубновый-то хлап у нас?…
– А не король я бубновый?
– У кого королева есть – тот король, а ты еще хлап покуда.
«Две королевы есть!» – подумал я сладко-сладко.
– А вы все не верили, что у него живот болел! – жалостливо сказала тетя Маша. – Ишь, как осунулся, и глаза горят!..
– Да, у меня ужасная слабость… – сказал я вяло. – В голове все треугольники от геометрии, и словно колются там, в мозгу! Вон, один ученик у нас… учил-учил… и воспаление мозга получил! Недавно хоронили.
Паша взглянула жалостливо. Да и все как будто обеспокоились.
– Голова гудит, словно песок шипит. Немножко бы прогуляться…
– Пусть прогуляется немножко… – сказала тетка.
Я сейчас же пошел прогуливаться и подсунул письмо в парадное. Никто не видел. Улица засыпала под луною. Напротив, у Пастухова дома, спал на лавочке дворник с бляхой. Фонарей уже не зажигали: лето.
На крыльце флигеля, во дворе, сидел кучер, наигрывал тихо на гармонье. Против него стояла Паша и горничная инженера. Стояли, обнявшись, тихо. Кучер играл «Стрелочка».
Увидя меня, Паша обняла подругу, и обе засмеялись.
– А я… брунетов! – весело крикнула подруга, и я подумал: «Это она про кучера: он „брунет“! А она так и лезет к кучеру!..»
XXI
Прошло три дня, а ответа все не было. Только начинало темнеть, я подкрадывался к забору и ожидал, не заслышу ли легких ее шагов, не увижу ли светлый образ. Я обшаривал скважины в заборе, куда можно вложить записочку, перешаривал весь крыжовник, исцарапал себе все руки, а письма все не приходило. Не смеется ли надо мной, как смеялась она над Женькой? Или – следят за нею? Карих всегда туг шмыжит… Наконец я ее увидел… Она прокатила с саквояжем, – должно быть, на родины! – и я поверил, что она и в самом деле акушерка. Но она была все так же очаровательна, хоть и акушерка. Я долго глядел ей вслед.
Получив по геометрии три с плюсом, я валялся, задравши ноги, и все сочинял стихи. Я мечтал очутиться с нею на необитаемом острове, приносить ей моллюсков и одуряющие цветы магнолий… то – в пустынных степях Ориноко и оберегать ее тихий сон, стоя у ее изголовья с карабином.
Это случилось в тот самый день, когда получил я по геометрии тройку с плюсом…
Я облазил все дырки в столбиках и опять не нашел ответа. Это меня убило. И я написал кратко: «Немедленно ответьте! умоляю, как умирающий! Я готов сделать безумный шаг!» Когда стемнело, я сунул письмо в парадное, дернул звонок и сейчас же понесся в садик.
Было совсем темно. Вдруг блеснуло на галерее. Я узнал беглые, легкие шажки, и сердце мое остановилось… Я видел в щелку, как она осторожно подходила, озиралась. Я слышал шепот:
– Что он только со мною делает!.. Это было неземное счастье!
– Мальчишка… сумасше-дший…
Я даже слышал, как она тяжело дышала: нас разделяли доски! И пахло волшебными духами, негой.
– Да где же это?…
Руки ее шуршали, обшаривали доски…
– Здесь, что ли?… – сказала она вздохом. – Ах, мальчишка!..
И она побежала к дому.
Я жадно схватил бумажку. Она пахла томящими духами – как будто ароматами Востока, как… мыло «Конго»! Я вдыхал этот запах неги… Божественная амбра!..
Я не помнил себя от счастья. Я целовал бумажку, я гладил столбик… Как тать, выбежал из сада.
Я не мог зажечь лампу, – так у меня дрожали руки. Зажег. Розовая, нежная бумажка! Она была сложена изящно, как порошки в аптеке. Написано было торопливо:
«Чего вы от меня хотите? Я уже сложившаяся женщина, а вы… еще совсем мальчик. Вы очень милы, и я любуюсь вами. Наша Мика нежно целует вас. Как старшая сестра, нежно целую вас, милый, сумасшедший поэт! Пишите, я вам изредка буду отвечать через наш „почтовый ящик“. Пусть это остается между нами, как наша тайна. Не настаивайте на свидании! Не „страсти“ же вы от меня хотите? Ваши стихи наивно-милы. Извольте, можете меня целовать заочно, но зачем же… „шелест моего платья“? Неужели вы любите во мне – „женщину“? Интересно, сколько вам лет? 15? Ваша – увы! – не „богиня“ С.»
Я исцеловал строки, и особенно – большую кляксу. Как раз на словах – «и я любуюсь вами»! Я перечитывал без конца, стараясь вычитать сокровенное. «Наша тайна», «не страсти» же вы от меня хотите?… Почему кавычки? «Неужели вы любите во мне – „женщину“?» Опять кавычки! Да, женщину, чудную женщину!
Почему ей интересно, сколько мне лет? И она нежно меня целует! «Как сестра»… Но это всегда так пишут! Но для чего она написала, что она «уже сложившаяся женщина»? Что это значит? не девушка? Сложившаяся… прекрасная, как самая настоящая бельфам? Что же характеризует «сложившуюся женщину»? Почему я, юноша… не могу быть хотя бы… в дружбе со сложившейся женщиной? Пишет – «а вы… совсем еще мальчик!» А потом – что ее интересую… Чего я от нее хочу?… Я сам не знаю… безумно хочу любить ее, пожимать ее руку, смотреть в глаза, дышать ароматом ее духов, ее прекрасного существа!..
Моя голова горела. Я схватил перо, и безумство меня помчало.
Мне помешала Паша, пришла открывать постель. Я видел замызганную юбку, ушастые ботинки, простоволосую… Меня смущало, как бы не подошла, не протянула губы… Тогда… – это было увлеченье!..
– И все-то пишет! – сказала Паша. Я даже головы не поднял.
– Чтой-то как хорошо пахнет? Будто хорошим мылом…
– Да… где-то обертка была, от мыла «Конго»…
– Вот-вот… – потянула она ужасно носом, – «конгой» пахнет!.. всю даже комнату продушило…
«Продушило! – так меня передернуло, но я сдержался. – И чего она топчется?…»
– Ну, учитесь-учитесь, Тоничка… может, потом и меня подучите…
– Конечно… Ученье свет, неученье – тьма!
– На даче будем, вот и подучите. Она подошла к окошку.
– А подснежнички-то уж повяли… – сказала она грустно. – Да уж и пахнут…
Она выкинула их в окошко и ушла неслышно.
Мне стало легче. Передо мною лежала ее записочка, а неграмотная и внимания не обратила! Слышала только носом.
Я сумасшествовал, отвечая ей. Чего я хочу? Любви! Только одной любви! Я не знаю, что значит «страсть». «Вас я боготворю, как женщину! – писал я. – Прекрасную и святую! Почему вы удивлены? Что же любить мне в вас, если вы – женщина? Я готов вам слагать молитвы! Я весь трепещу пред вами, о незабвенная! Самая высшая мечта – целовать ваши руки, дышать одним с вами воздухом, слушать, как вы вздыхаете. Вы – тайна. Я видел ее во сне. Ребенком еще влюбился! Именно вас я видел в хрустальном ящике, вы раскачивались на трапециях, – и вот, я дождался вас! Вы не откажете алчущему и жаждущему сердцу! Я еще мальчик, да… но чем же я виноват, что в моем юном воображении вы занимаете царственное место? Вы – волшебная сказка, и я хочу вас слушать! И пусть я сгорю, как бабочка, на огне любви!..»
Было еще сильнее. Письмо я закончил стишками, которые я посвятил Паше. Но я переделал их.
Я изобразил молнию, ударяющую в сердце. Под ней:
Я умолял ответить. «Завтра, когда стемнеет, я буду ждать!»
Нужно было сунуть под дверь сейчас же. Я вышел в сени. Было уже за полночь, и луна на ущербе вышла. Я прошел коридорчиком, сенями. Пашино окошко не светилось. Когда подходил – подумал: «Услышит и подумает, что я к ней!»
– Это вы, Тоничка?… – услыхал я тревожный шепот. Окошко у ней было приоткрыто.
– Я… голова болит… хочу подышать, в садик…
– Вот, полунощники, разгулялись…
– А ты почему не спишь?
– Ах… «Мне не спится, не лежится… и сон меня не берет!» – пропела она сонно – прошептала: – Про кого-то все гребтится… да не знаю, по ком скучаю.
Она сидела в окошке, на подоконнике. Может быть, на луну глядела, встававшую над сараями, за галереей: на полу отражались стекла. Было свежо, и она куталась в шерстяную шаль.
Я спустился по черной лестнице и прошел к воротам. Гришка не дежурил. На той стороне пастухов дворник дремал на лавочке. Я прошелся по спящей улице. Прыскали в подворотни кошки. Выла у пастуха собака, но кто-то цыкнул – и стало ти-хо – Да так тихо, что дошло из Кремля, со Спасской: пробили часы – двенадцать. У Постойко еще светилось.
Я сунул под дверь записку, позвонился тихо и перешел на другую сторону. Парадное открылось и закрылось. Лампа в окне погасла. Опять завыла у пастуха собака. Проехал пустой извозчик, дремал в колени. Луна поднималась из-за дома, совсем косая. Пахло чудесно тополями и березой. Стало как будто парить, сходились тучки.
Паша еще сидела. Теперь окошко было совсем открыто.
– Нагулялись… – сказала Паша.
– Так, прошелся…
Я уже прошел мимо.
– Тоничка… – позвала она. Я приостановился.
– Что вы на меня сердитесь?
– Ничего не сержусь… напротив! Выдумала чего-то… сердитесь! – сказал я бодро, а в сердце укололо. – Не на что мне сердиться!
Мне стало ее жалко. Я присел к ней на подоконник и только теперь заметил, что она в новой кофточке.
– Вот, хорошо… кофточку ты надела, а то такая была грязнуха… Надо всегда одеваться чисто! – ласковей сказал я, придумывая, что бы еще сказать.
– Чистенькой-то, известно, лучше! – сказала она грустно. – И франтила б, да нет франтилов… Чистеньких-то и любят! Уличные-то вон, все чисто ходят…
– Конечно. Но надо и еще… образование, и красоту…
– Хорошенькая да приоденется если… всякому с такой лестно! – сказала она живо. – Не любите вы меня, Тоничка…
И она прижалась ко мне плечом.
– Во-первых, ничего подобного! Но… эти ужасные экзамены, расстраивают нервы, а я все время только и думаю…
Она положила голову на плечо ко мне. Я ее потрепал по щечке. Она вывернула лицо и заглянула в мои глаза.
– Не любишь?… – сказала она грустно.
– Люблю же, Паша!.. Какая ты чудачка…
Она протянула губы. Я представил себе ее и нежно поцеловал Пашу. И она меня поцеловала. Я поцеловал ее еще раз, но Паша отняла губы.
– Уж я знаю, не любите вы меня, Тоничка! Ну, идите, а то опять проспите…
Я погладил ее по щечке и быстро пошел к себе. И все об одном думал: что-то она напишет!..
XXII
Я сидел у забора и поджидал. Стемнело. Придет?… Любит – придет. Обрывал на крыжовнике листочки. Если уколюсь, то – любит. Переколол все пальцы. Сколько на галерее окон? Если четное, то не любит?… Пять окон! Любит. Но я кажется, знал, что пять?… Сколько буковок в «Серафиме»… четное – любит! Восемь!
Корову подоили, сейчас и ужинать позовут. А она все не выбегала. Я сосчитал до тысячи, а она все не приходила. Начал вторую тысячу. Бахромщицына девчонка пробежала, постояла под бузиной и убежала.
И вот – услыхал шажки. Она бежала на цыпочках, как фея.
– Конечно, вы здесь… и ждете?… – услыхал я чудесный шепот.
– О, это вы!.. – прошептал я страстно. Она так чудесно засмеялась!
– Вы сумасшествуете… Это последний раз! Слышите?… Меня начинает мучить совесть… Мы должны кончить. Ну, вот, я вам ответила… И это все… Мне вас жаль, но, милый… нельзя же так. Прощайте…
И она пропала, прежде чем я ответил.
Ее, сиреневая теперь, душистая записка говорила:
«Я совершаю преступление, отвечая вам. Я не могу ответить на ваше юное непосредственное чувство. Не такой же любви вы ждете? Вы ждете чего-то необыкновенного? Но… так все обыкновенно! Советую вам читать Шпильгагена, Жорж Санд и, особенно, Чернышевского – „Что делать?“. Тогда ваши идеалистические стремления найдут выход. Ваша страстность вносит в мою душу смуту. Но я не смею отвлекать вас, мешать учебным занятиям. Я плачу над вашими письмами, но… забудьте выдуманную вами „небожитель-ницу“. Я просто самая обыкновенная „бабенка“!
Ваша, немножко увлеченная вами С…
P. S. Хорошо. Я решаюсь объясниться. Я должна на два дня уехать. Во вторник или среду я напишу вам, где и когда мы встретимся. И кончим? да? Право, милый мальчик, кончим?… Не будем распеленывать ваш „идеал“? Вы можете разочароваться, прикоснувшись к грубой реальности. Посылаю вам маленький „лепесток“. Какой вы хитрый обожатель! Довольны? „Неземная“ – пишете вы! О, слишком земная и слишком грешная, как все женщины, хотя и Серафима. И недостойна вашей нетронутой чистоты. Ах, если бы вы забыли выдуманную вами „нетленную“, „неземную“ и „божественную“! Будьте же благоразумны…»
Я рыдал над ее письмом. Я вдыхал одуряющий аромат востока, я припоминал музыку ее шепота, ее удивительное – «ах милый мальчик!» Она уже посылала мне маленький «лепесток»! Я мечтал, как она подарит мне обворожительный поцелуй женщины… Я понимал, что в ней происходит страшная внутренняя борьба. Она готова со мной расстаться, но в приписке она не в силах бороться с одолевающею ее… с зарождающимся в сердце чувством? Она плачет… Она боится, что я разочаруюсь!.. Мы встретимся в Нескучном, в глухом уголке сада, у каменной беседки, где колонны, на берегу зарастающего пруда… или в «Аллее Вздохов», откуда виден купол Христа Спасителя! Или – у «Чертова Оврага»… Там соловьи поют… Но почему она – «грешная, как все женщины»? она… не девушка? Если она любила… почему же – грешная?… Значит, кого-то она любила…
Кончить?… Нет, это невозможно. Я хочу держать ее маленькую ручку, ручку ребенка-женщины, пожимать ее нежно-нежно, пить аромат шелковистых ее волос, пропитанных ароматами Востока… Я хочу носить ее, как ребенка, сажать к себе на колени, целовать ее чудные глаза и розовый «цветочек», с которого будут падать душистые лепестки, страстные поцелуи женщины, и читать ей свои стихи, написанные кровью сердца, написанные для нее одной…
И я написал отчаянное письмо.
«…Это не преступление, что вы уделяете мне хотя бы крупицу счастья. Да благословит вас Творец! Вспомните „лепту вдовицы“! Пушкин сказал словами князя Гремина: „Любви все возрасты покорны, ее порывы… благотворны! для юноши в расцвете лет, едва увидевшего свет!“ Это знаменательная фраза в устах Пушкина, и, конечно, Пушкин, как великий поэт, не мог бросать ее на ветер! Если вы уважаете Пушкина, вы должны признать это. Даже для – „едва увидевшего свет!“ – как я, хотя я уже многое повидал и много уже прочитал, как, например: „Дон-Кихот“, „Юрий Милославский“, „Демон“, „Мцыри“ и „Маскарад“ Лермонтова, массу всяких романов! Конечно, я немедленно проглочу всего Шпилгагена и Жорж Санд и „Что делать?“ Чернышевского, но уверен, что они не разубедят меня! Сама жизнь, устами Гения, говорит мне – люби! И вы сами уже немножко интересуетесь мною? Или я ошибся? Нет, не отнимайте у меня последнего утешения видеть Солнце! Вы – Солнце, вдруг осветившее мне весь мрак моей суровой жизни. Вы, как Зинаида из „Первой любви“ – удивительная повесть И. С. Тургенева, если вы уже читали! Да, вы для меня – лучезарная Зинаида, тоже „грешная“ женщина, отдававшаяся безумной любви даже под хлыстом любимого человека! Я плачу, перечитывая ваши письма, вдыхаю аромат женщины! Да, вы женщина, как античная Венера, а я только „мальчик“, но если ваша любовь только игра сложившейся женщины, то и тогда я с радостью пью яд обмана! Дайте мне, умоляю вас, пить этот отравляющий обман и боготворить вас! Вы мне необходимы. Я знаю, что вас окружают тысячи поклонников – может быть, более меня достойных, но бросьте мне хотя бы корку от вашего пира любви, и в этом я почерпну силы, чтобы завоевать в ваших глазах место, достойное вашей любви. Любимый мною поэт Лермонтов сказал когда-то: „Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит!“ Так и я. Я один выхожу на дорогу, и впереди туман, и кремнистый путь! Но… пройдут года, и я завоюю место в ваших глазах и… сердце? да? и получу право просить вашей руки и сердца, если хоть одна слабая искорка любви и чувства ко мне сохранится в нем! О, позвольте мне хотя бы мысленно лобызать края вашего платья! Простите, я не в силах сдержать обуревающее меня чувство. Я медленно сгораю, я не сплю и не ем, ночи и дни напролет думаю о вас, и ваш телесный образ божественно наполняет мою душу! О, розоперстая Эос! заря утренней моей жизни! Если бы я был Гомер, я написал бы „Серафиаду“ и воспел бы вас героически! „Эннепэ, Муза, полютронон гос мала полля!“ – как поет Гомер Одиссея! Отныне я ваш Гомер! И вы… о, вы должны быть моей! Вся вы, и ваша бессмертная душа, и ваше прекрасное и бессмертное для меня и святое тело! да, тело богини Венеры! Я безумствую, я целую ноготки ваших пальчиков и ваши каблучки! Простите безумного сумасброда, я в каком-то вихре! Ваш Тон. Так меня зовут. Я не люблю, когда прибавляют „Ан“. Некоторые зовут меня Тоничка… и, кажется, влюблены в меня. Но что же мне делать с сердцем?!»
Были еще приписки, и заканчивалось стихами:
XXIII
Был вечер. Я подошел к парадному, бросил письмо в прорезь и решительно позвонился. Увидят или не увидят – мне было безразлично.
Гришка, оказывается, дежурил, но, должно быть, дремал, когда я прошел к парадному, а я проглядел его.
– Чего к бабкам-то звонились? – спросил он меня с усмешкой. – Для прахтики?
– Да… просили знакомые передать письмо… – нашелся ответить я. – Хотят акушерку пригласить!
– Сказывайте, знако-мые!.. – сказал плутовато Гришка. – Чего-нибудь такое. Портнишечка, что ль, какая?
– Глупости… – смущенно сказал я Гришке и быстро прошел в ворота.
А он мне крикнул:
– Ну и ребята пошли отчаянные! Мастаки-и!.. Я кинулся к забору. Галерея едва светилась. По потолку поплыло пятно света. Потом проплыла и лампа. Дверь в квартиру захлопнулась. По тихому ходу лампы я сразу понял, что это прошла толстуха. Серафима бы пробежала быстро. «Толстуха, – подумал я, – выходила на мой звонок и, должно быть, взяла письмо».
Я прождал больше часу. Неужели она не выйдет? Я просил знакомую звездочку, – это была моя звездочка… – быть может, это и есть Венера? – чтобы она сманила. Я помнил, как сестры пели: «Звезда любви мне тихо говорила, что любит он печальную меня!..» Ко мне подошел Рыжий и принялся тереться. Я нежно его погладил. Он стал мурлыкать. «Милый Рыжик! – сказал я ему, лаская, – ты тоже любишь… кошечку в бантике!» Помурлыкав, он сиганул к соседям.
Кликали ужинать. По двору пробежала Паша. Я укрылся под куст крыжовника.
– Нету, не видать… – услыхал я Пашу: она заглянула в садик. – А плетун сказывал… во двор пошли! К портнишкам, может? Мухлюют что-то… Тоничку не видал? – спрашивала кого-то Паша. – Не у девчонок?
– Девчонки в баню пошли. Есть мне время Тоничку тво-во сторожить. Ты за ним все хвосты отрепала… и гоняй! – сказал недовольный голос Степана-кучера.
– А-а, трепало! – усмехнулась Паша. – Пусти… сейчас закричу, бугай страшный! Что, всамделе, проходу не даешь?… Ей-Богу, барыне пожалюсь…
– Са-харная, что ли… рассы-пешься!.. Шутков не понимаешь. Тот тебе небось… не обижаешься?…
– У, бесстыжие глаза, ломовик!.. Какая-никакая, а пока не твоя!
Все, до одного слова было слышно в вечернем воздухе. Говорили они у бревен. Кучер мне был противен. От Паши я был в восторге. Какая она… зубастая!
– Паш!.. – окликнул кучер, – на одно словечко, по сурье-зу!..
– Погоди до морозу! – крикнула звонко Паша.
Я слышал, как портнишки пришли из бани, смеялись с Гришкой. Потом кучер проваживал во дворе лошадь. Потом – затихло. Прошел Карих, приколотил что-то у сарая, ругнулся, – должно быть, попал по пальцу, и, сказав: «Храни Бог, ежели в пожарном отношении», – зашмурыгал в свою квартирку, рядом с бахромщицами.
У бахромщиц погасла лампа. Карих еще светился. Погас и он. Портнишки кончили «Чудный месяц», и только скорняки и сапожники, отужинавши, что-то еще галдели. Пропели про Дуню и лапушок, про какой-то «корешок-корешок» и, наконец, умолкли. Я уже собирался идти домой. И вдруг сердце мое мотнулось. Галерея взблеснула и погасла. Она?… Я разобрал легкие, осторожные шажки. Потом – легкий и частый шорох…
Я прижался плотнее к столбику, где опустит. Услыхал милую одышку…
– Какое-то безумие… что меня заставляет?… странный мальчик. Да куда же?… Ничего не вижу… – шептала она нежно над самым моим ухом.
Я прижимался к столбику, и у самого моего сердца зашуршала ее записка!
– Простите, Серафима!.. – вырвалось у меня отчаянно, – я не мог дождаться… я посмел беспокоить… но я, прямо…
– Ах, как вы меня испугали! Вы здесь?! Ах, отчаянный!.. – шепнула она с улыбкой: я чувствовал по тону. – Вы… сумасшедший?! и хотите свести с ума! Со мной еще никогда… таких романов!..
– Я… я сам не знаю… – бессвязно зашептал я, – я безумно вас… обожаю, люблю… я как в ослеплении… от вас…
– Тише же, ради Бога… вы очень громко… – перебила она мой лепет. – Скандал, если нас застанут! Тоничка? да?… Вот что… – она говорила, задыхаясь… – что мне с вами делать? я положительно теряюсь, вы так настойчивы. Это последний раз… Я вам написала, все… Сейчас же идите спать! Я вас целую… горячо целую! Вы слышите? ну, если хотите… поцелуем жен-щины! Довольны? Вот… Вы слышите… Тоничка?…
– О, дорогая… – шептал я в бреду, не помня.
– Милый… – она задышала часто, – вот, самый… жгучий…
И она поцеловала забор, три раза! Совсем близко, против моего глаза. Я слышал ее дыханье, ее вздохи… как пахло восточными духами!
– Ах, целую… Серафима… богиня… – в ослеплении бредил я.
Странное чувство легкости, потери всего себя, какого-то сладостного беспамятства и неги, какого-то чудного растекания, – вот что было! Я обнимал забор, шарил по нем ладонями, целовал доски, щели, гнилушки, ямки. В рот мне лезли труха и плесень. Но я целовал и плесень, и гнилушки…
– Однако… вы хорошо целуетесь! – шептала она, смеясь. – Но я вас не вижу, Тоничка… Да где же щели? Погодите… – шептало мне сладко за досками, – на гвоздь не попадите… – смеялась она нежно, задыхаясь, – кажется, я попала… и оцарапалась…
– Ваши глаза… ваши губы, Серафима… ваше дыханье… Целую ваше душистое дыханье… все ваше… Серафима… Где вы? Вот здесь… здесь… сюда… Я бредил – и слышал, помнил! Она смеялась странно, словно ей было больно:
– Какой счастливый забор. Мы его всего исцеловали… кажется, оба сумасшедшие… вы, однако… страстный!.. не ожидала… от мальчика… никогда со мной… ха-ха-ха… подобного… – она истерически смеялась, словно ее душило, – и последний, самый последний… Вот, кажется…
Кажется, мы нашли друг друга. Я почувствовал теплоту, дыханье…
– Кажется, мы и в самом деле… поцеловались?! – вскрикнула она острым шепотом, как с ожога. – Ох, ради Бога… дайте… дай скорей твои губы… сюда!
И мои губы нашли ее! И я утонул в истоме. Я утонул в этом душном поцелуе, глубоком, крепком. Я слышал ее зубы, которыми она давила, прижимаясь к моим зубам, влажные ее губы, которыми она вбирала…
– Уходите… глупый… сумасшедший… – шептала она с удушьем, – чудесный мальчик… что вы со мной… не понимаю… Спите и забудьте… Боже мой, что я делаю… как это страшно… глупо!..
И она побежала от забора. Затрещало что-то, может быть, зацепилась шалью? – зашелестели юбки.
Я сидел на земле, как пьяный. На рябине что-то серебрилось, луна всходила? По садику потянулись струйки. Черные ветки яблонь путались в них рогами. На сарае блистала крыша. Луна всходила! Петухи яростно взывали, разливались. Пахло сырой землею, раздавленной ногами, весенней травкой, помятыми кустами. Цветами пахло! Цветы еще не народились, и это было ее дыханье, оставшееся в щелях забора, на гнилушках, на воздухе, на моем дыхании, на моем языке, губах, на подбородке, – на всем пространстве… – в моем воображении. «Восточные ароматы „Конго“ греховной женщины…» – сверкало в мыслях. Да что же еще нужно?… Ах, записка!..
Я вытащил бумажку… И – рявкнуло на меня, оттуда:
– Вот эта дак мамзель! – узнал я ужасный голос. – Через забор махает!.. Чистое привидение, как проскочила… Черт их знает…
Разговаривал с собой Карих. Он стоял, весь белый, на крылечке. Видел?!
Он подошел поближе, пригляделся.
– Чего ей у забора?… За кошкой, что ли?… Он потер себе голову и обругался:
– Чего оно там, звенит? Кис-кис!.. – хрипло покликал он. – Гнать, больше ничего… лахудры!..
Я побежал из сада.
Целовались… любит! чудная, необыкновенная!.. Я шатался по комнате, натыкался на стол и стулья, искал спички… Я разорвал бумажку. Дрожали пальцы. Она была залита духами, даже растеклись чернила.
«Что вы пишете, сумасшедший! – восторженно читал я. – Я должна быть вашей?! Да вы с ума сошли! И почему все о моем теле, о платье, о Венере? Черт знает что! Даже и душу мою хотите и „святое тело“? Так физиологически смотреть, в ваши годы! У вас сумбур, и я должна с вами серьезно поговорить. Вам нужен какой-то „аромат женщины“? Хотите даже „корку от моего пира любви“? Что вы вообразили? Какой это „пир любви“? Хорошенький, сумасбродный мальчик! Я знаю, что вы хорошенький, и готова расцеловать вас, ну… пусть даже „как женщина“… Не скрою, вы что-то во мне затронули, будите во мне странные ощущения… вакхические, когда женщины бегут, опьяненные страстью, с огнями, и кого-то даже разрывают в кровь… В каждой женщине есть вакханка. Но вы, мальчик, не можете же вызвать во мне физического влечения! Это было бы ненормально, а для вас и вредно. Что же мне с вами делать? Вам не юбки моей надо, а чего-то другого! Вам „незнакома женщин ласка“. Допустим, что еще незнакома. Ну, довольно, я хочу лечь своим „прекрасным телом“ в постель. Я очень одинока, но… не стоит. Мы поговорим. Какую ошибку я сделала, что начала играть с вами. Во вторник или среду я напишу, где мы встретимся. На два дня еду. Теперь – как бы я хотела не ехать! В Нескучном? Пусть. Я люблю глухие местечки в нем. И мы поговорим. Будете терпеливы? Будете учиться? И… вспоминать меня? чуть-чуть? Роняю три, четыре, пять… самых ароматных лепестков! А вы?… У вас, кажется, детский рот? Но многое в вас совсем не детское. Ваша „Венера“ С***… А вы – мой „амур“? А много в вашем колчане стрелок? Будем охотиться?… Ах, вы… ми-лый! Целую ваши глаза и заочно баюкаю. Спите, мой мальчик. До свиданья. Ваша С***.
P. S. Кстати, непременно Шпильгагена прочтите! И еще некоторые романы удивительной женщины, много любившей, которая писала, как мужчина, – Ж.-Санд! Ваша маленькая (что-то вы мне писали про колени, хотели держать меня на коленях и носить на ручках?) Симочка».
Я вдыхал жгучие, ароматные слова, я целовал их страстно и тер по лицу бумажкой. Все пропитали они во мне.
XXIV
На последнем уроке перед экзаменами Фед-Владимирыч, «Русский», посмотрел на меня быком, но ласковым, и промычал, прищурясь:
– Ты, должно быть, сегодня именинник. А некоторые молодцы и до сего дня пишут – «и-мя-ненник»! Ну-ка, на прощанье… «Василия Шибанова»…?
Я прочитал так лихо, что сидевший у нас директор «Васька» долго потирал красную плешь свою, перегнувшись совсем в колени, назвал «артистом-с Императорских теат-ров-с» и прокартавил милостиво:
– А по-греческому рентяй-с, изворьте ри видеть-с-да-с… У меня двоечки хватает!.. – и на следующем уроке поставил мне за Гомера, по живому подстрочнику, тройку с плюсом.
Любовь принесла мне счастье. К экзаменам допустили, и тетя Маша предсказывала «какую-то победу». О «победе» я и без ее предсказания знал отлично. Победить жен-щину!.. Это потруднее Гомера с секторами. На перемене я обнял Женьку, которого тоже допустили, – «из уважения к сединам», – и стал восторженно говорить, что решил усиленно заниматься и перейти с наградой.
– Ты прав, Женька, что женщина может погубить и лишить подвигов! Я даже на себе заметил… – говорил я с таким азартом, что выступили слезы. – Не стоит размениваться на мелочи. Уйду с головой в науки!..
Он втянул подбородок в грудь и внушительно сделал – гм!..
– «Голодная кума-лиса… залезла в сад! В нем винограда кисти рделись!..» Это давно известно. Когда к одному пустыннику пришла одна молодая женщина, он, за неимением ничего лучшего, стал горячо молиться! Это ты можешь прочесть в одной очень редкой книге, которую я тебе притащу. Non solum, sed etiam! Период уступительный!
– Не уступительный, а… Но он не дал и возразить:
– «Молчи, кар-рамбо! – яростно зарычал Дон-Хозе, и его усы бешено встали дыбом!» Послал запрос в юнкерское, в Казань! К дьяволу всех шпаков! Скоро война, и предстоят тучи подвигов!
Хоть и бодрился он, но его что-то удручало.
– Получил от нее? – спросил я его небрежно.
– Dum non… – сказал он, яростно жмя резину. – А ваша милость?
– Nihil dum, – хмуро ответил я. – Знаешь, бросаю все пустяки. Не стоит.
Мне хотелось запрыгать, бешено обнять Женьку и все поведать. Когда выходили из гимназии, я был до того в восторге, что раскланялся с кучкой гимназисток. Они захохотали.
– Да ты… что?! – поразился Женька.
– Очень хорошенькая… заметил, блондиночка с косами? Моя симпатия. Встречаемся иногда в Нескучном!
– Врешь. Это ты с твоей Пашкой развратился. По себе знаю. Всякое соприкосновение с ними вызывает… эмоцию! Не советую, брат, растрачиваться на пустяки. Пойдем-ка переулками… хочу показать тебе одну штуку!
Когда мы свернули в переулок, он остановился у фонаря, посмотрел на меня без мысли, словно прислушивался внутри себя, и поморщился, как от боли.
– Живот болит?… – спросил я его, жалея.
У него часто болел живот – от питательных корешков, должно быть.
– Дурак Г – сказал он шипящим голосом.
– Да что ты сердишься! – крикнул я. – Что у тебя такое? Может быть, мать больна?… Женя… ну, ради Бога!.. – сказал я нежно, желая, чтобы он был счастлив. – Мы же друзья навеки.
Тронутый моей дружбой, он вдруг остановился и сказал саркастически:
– А она ведь все-таки ответила, сквернавка!..
– Кто – «сквернавка»? Я совершенно тебя не понимаю… – сказал я сухо.
– Она!.. Ну, дама из Амстердама! Твоя любезнейшая…
– Почему… моя?! – возмутился для виду я, но сердце мое возликовало. – И что же она ответила?…
– Поганка, больше ничего! – и он вынул клочок бумажки. Бумажка была совсем простая, – чуть ли не из заборной книжки.
– Духами пахнет?… – вырвалось у меня невольно.
– На, понюхай! Поганка знает! Нет, этого не прощают… нет!..
От бумажки ничем не пахло. Написано было твердым и круглым почерком, совсем не ее рукой. Я прочел, делая озабоченное лицо:
Меня распирало от восторга! Я понял сразу, что это студент, с дубинкой. Жестоко, но… поделом. Конечно, не она писала. Ни одной ошибки! А у нее, – это меня смущало, – иногда встречались. Например, в последнем ее письме попалось семь ошибок! «Вы пишите» – вместо «пишете», «приклоняетесь», «арамат», «с ума-шедший», «будете во мне», «местечьки»! – ужас! – «в вашем калчане»… – не говоря о знаках препинания! А тут и знаки препинания на месте, и кавычки… Конечно, студент с дубинкой.
– Хороши духи?… Нет, я с ней поговорю!
– Стихи никуда не годятся! – старался я его утешить. – «Подлость» и… «пошлость»! Разве это рифмы?… Я бы написал, ну… «дерзость» и… «мерзость»!
– Да уж ты бы… написал мерзость! – даже и тут сострил Женька. – Стихи дурацкие, но… зачем издеваться над… чувством?! над сердцем, которое всегда… таилось?!. Нет, так оставить… кануть в Лету?… Не-эт, под жабры!..
Я вспомнил о его «чувстве», но промолчал из такта.
– По-моему, Женюк… – хотел я его утешить, – простая шутка! Даю голову на отсечение, она… не хотела тебя обидеть! Она же… развитая, кончила такие курсы…
– А… «надо драть»?! Так… меня никто еще не оскорблял! Такую обиду только кровью смывают, крро-вью!!. – заорал он на переулок. – Если бы мужчина, я бы ему всю рожу растворожил!.. Так не шутят с человеком, который со всей искренностью!..
– Но тут же игра слов! Видит, что ты «содрал» у Пушкина, ну и… сострила! «А кто „дерет“, того бы надо драть!» Даже в кавычки поставлено, игра слов!
– Игра… ослов! Просто пустая дрянь!
– За что ты оскорбляешь ее?! Если игра слов?… Например, Аспазия у Иловайского… «отличалась удивительным остроумием, для услады пиров»! Это-то и прелесть, когда красивая женщина еще и остроумна! Клеопатра и не так еще издевалась…
– Ты осел! Клеопатра-Клеопатра… на то она и Клеопатра! А она… какая она, к черту, Клеопатра! Акушерка! И еще, поганка, оскорбляет! Нет, я этого… Пошлая баба!..
– Не смеешь ты оскорблять… совершенно невинную девушку… или женщину! – возмутился я. – А если это вовсе и не она?!.
– Как не она?! – совал он кулаками.
– Да… почерк… по-моему, мужской! Женщины, я прекрасно знаю, пишут нежными елочками… или как мелким бисером! Я переписывался с одной дамой и уверяю тебя, что… Ты вглядись!..
– И я переписывался… сто раз! – поглядел Женька на бумажку. – Да, как будто… Почерк уж очень хлесткий! Но тогда… тогда…? Значит, она посмела кому-то показать?… Издеваться над чувствами, самыми интимными!.. Смеяться вместе с любовником?! Подлячка!..
Меня полоснуло, как ножом. С любовником?!. Этот студент – любовник! Я вспомнил о своих письмах… – и у меня захолодело в сердце. Неужели они читают вместе?! И все – только ее игра?!. Мне стало тошно. Но… мы же целовались! Сама подбежала у часовни… И такое предположение показалось мне просто кощунственным.
– А представь себе, Женька… – пробовал я оправдать ее. – Ты бросаешь письмо под дверь. Приходят гости, какой-нибудь студент. Он входит в парадное, видит у ног письмо… Ба! письмо! Оно ведь было не запечатано…?
– Да, черт… без конверта. Кончики всунуты, и написано – С. К. П.
– Тем более! С. К. П.?! Ясно, что тут секрет! Он, может быть, давно и безнадежно ухаживает за пей, влюблен безумно, и им овладевает жгучая ревность? Разве это невозможно?!
– Возможно. Ну-ну, жарь…
– Дальше… – нарисовалась мне картина, и я увлекся. – Он нервным движением вскрывает письмецо! О, ужас! Розовая бумажка, с голубком, с веночком?!.
– А, черрт… – прохрипел Женька.
– «Ого! – думает он взволнованно, – голубки воркуют!» И тут же, на лестнице, при свете, падающем из окошечка над дверью, он узнает, к своему ужасу и отчаянию, что ты, ученик седьмого класса, умоляешь о свидании!..
– Да, черт возьми… глупость какую сделал… без конверта! Ну?…
– У него в сердце целый ад! Ты требуешь свиданья! Не просишь, а именно – требуешь!..Я ошибся: ты не умолял, а требовал!
– Нисколько не умолял, а… «ответьте мне, красавица, что да!»
– Вот! Ты уже называешь ее… «красавица»! Словно она Уже дала право называть ее так фривольно. Ты уже требуешь ответа – да! Жизнь или смерть! И что же он, безнадежно влюбленный, должен был ощутить в своей израненной Душе?! Какие муки ада?! Отвергнутый любовник… то есть не любовник, а влюбленный! Он потрясен, обескуражен. Все эмоции возбуждены до крайности! Он уже не владеет своим мозговым аппаратом… Ведь он, может быть, сам шел к ней за ответом, после трудных экзаменов, нес ей свои ужасные стихи, вроде, например, – «Она была девицей скромной, не ела булочки скоромной!» Я недавно как раз такие слышал при очень некультурной обстановке! И она, представь, ему еще отказала!.. И он, конечно, не захотел передать ей твоего письма… он просто скрыл его, украл, как вор, в порыве ревности! На что не подвигнется человек в порыве ревности! Ромео душит… то есть не Ромео, а Отелло душит там Джульетту, сам плача! И вот, взял да и хватил тебе со злости! Я почти уверен, что так и вышло. В то время у ней были гости, и как раз был мрачный студент, играл во дворе грустный романс, а она демонически хохотала… над ним! Разве невозможно?…
– Возможно… – уныло ответил Женька. – Но я ведь ей еще два письма катнул, и она не ответила! Впрочем, он мог и перехватывать?…
«Не ответила! А мне ответила страстно-страстно, и сама прибегала целоваться! Боже, какое счастье! Только не покарай меня! – взывало в моей душе. – Я так несчастен и одинок!»
– Мог и перехватить. Но возможно, что… и с ее согласия… – поспешил я разочаровать его, чтобы он не писал ей больше.
– Эти акушерки… все наглые и легко продают себя! Акушерки, фельдшерицы… это такая…!
– Почему – все?… Есть и из них женщины с чутким сердцем! Они могут иногда потерять голову, забыться до… Мне, например, недавно рассказывали случай, как одна поразительной чистоты женщина… – она тоже акушерка, и ее хорошо знает наша тетка, в Сущеве она живет… – и поразительной красоты!..
– Ври, ври… – сердито сказал Женька.
– Не вру, а было! Мне тетка клялась, что это у них на дворе произошло! И она, кристальной чистоты и красоты, сгорая от любви к одному… очень симпатичному молодому человеку, в порыве экстаза… а до того случая она вполне индифферентно относилась даже к докторам, которые ее окружали… – она даже целовала доски и все предметы, к которым прикасался вышеупомянутый мною молодой человек! Тетка так ахала!.. – с увлечением говорил я.
– Чепуха! – захохотал дико Женька. – Это ты про «Бедную Лизу» волынку тянешь… «О, сколь ужасно было страдание бедной нашей героини…»! А я знаю целых трех акушерок!.. Ты не защищай. Не гетеры даже, а как…
– А я знаю факт! Она целовала даже гнилые доски забора, за которым притаивался вышеупомянутый молодой человек! Какая же это должна быть самозабвенность, высший альтруизм, самопожертвование для ближнего… какое всеохватывающее чувство страсти, когда головка ее и сердце закружились в огне желаний самых платонических… и забыт весь мир, и позор, и стыд… когда кругом низменные людишки готовы вывести ее на позор, назвать, как ты сейчас… наглой и даже хуже, чем гетера… и она все, все неглижирует, ей море по колено, и только одно чувство, только один предмет… не предмет, а… а преклонение и восторг перед кристально чистыми чувствами молодого человека, может быть, даже юноши!.. Тетка говорила, что ему что-то около… семнадцати лет, а ей… уже двадцать четыре года…
– Скажи еще – сапоги лизала твоему молодому юноше! – злобно хихикнул Женька. – Это ты у Марлинского вытащил. Нет, поговорю! Македонов говорит… это она чтобы раздразнить! Приставай и не отставай, как банный лист, не давай проходу! Раз она хитрая кокетка – напролом! Потребую объяснений… – жадно повел он пальцами, словно разминал резину. – Македонов прямо советует: откажет в свидании – грози, что повесишься или с колокольни бросишься и оставишь записку, что ввиду недостойной игры со стороны такой-то, имя-отчество, проживающей по такой-то улице, покончил самоубийством! Тогда ее могут замотать! Придет на свидание! А раз придет… можно договориться! У него раз так было, и кончилось победой!
Меня это очень обеспокоило.
– А если она уже любит другого?…
– Чепуха! Они могут свободно, брака не признают. Я говорил с ней на эту тему, про Шпильгагена. Сразу видно! Жорзанда какого-то советует, он тоже про свободную любовь.
– И Жорж Занда советовала, она?! – изумился я совпадению. – Но это не «он», а любившая многих, которая писала, как мужчина…
– Знаю и без тебя! А чем я хуже какого-то студента! Я физически как двадцатилетний! – проговорил он басом. – Гм!.. Э-э-э… Октава!
Меня очень это обеспокоило. Вспомнилось, как ругался Карих: «Вот это дак мамзель!»
– Завтра катну такое!.. Попомню, как «надо драть»!
– Не стоит, Женя. Встретишь еще много юных девушек, которые…
– Это уж мое дело.
XXV
По случаю весны у нас выколачивали шубы, и, проходя двором, я видел, что толстуха глядит из-за забора. Я скинул ранец и стал разговаривать со скорняками.
– А скажите, Василь Василич… это чернобурая лисица?
– Самая чернобурая-с. Теперь такой лисички и не най-ти-с, теперь все пошла подделка-с!.. Такой лисичке теперь цена-с… – Тысяча рублей, пожалуй? – спросил я с наивным любопытством и повел глазом на толстуху.
Толстуха навострила ухо, – отлично видел!
Хромой Василь Василич, похожий на вытертую половую щетку, старый скорняк и мой приятель (он учил меня приколачивать к правилкам вымокшие в квасцах шкурки, скор-нячонки его называли «Выхухоль»), поднял жимолостный жигач и погрозился.
– Ты-ща-с? Нет-с, три добавьте!.. – сказал он таким тоном, словно его обидели.
Он встряхнул мех таким манером, словно накрывал на стол, и так ловко – воздушно – бросил, что мех заскользил по крышке.
– Да неужели четыре тысячи! – радостно удивился я, приглашая и толстуху подивиться, хотя уже не раз слышал, что «такой лисички и не найти».
– Не неужели, а… Как бы это вам…? – поискал Василь Василич кругом себя, бодаясь железными очками. – Да вот-с… Вы вот, Пелагея Ивановна, приносили лисий спорочек мне надысь, просили три ста!.. – сказал он толстухе в бородавках.
Я оглянулся, будто только сейчас заметил, и вежливо поклонился Пелагее Ивановне. Она приветливо закивала мне. Должно быть, стояла она на ящике, – скрипела чем-то. Мне было очень приятно, что Пелагея Ивановна любуется мехами.
– Он и дороже стоил… – сказала Пелагея Ивановна.
– Стоил! Совсем это другой разговор-с. А теперь его и моль поточила, и ости-то уж нету, одна подсада, жидкая да белесая… сами знаете! Не лиса, а прямо… мездра одна! прямо, можно сказать, кошачья выхухоль!..
– Нет, какая же это выхухоль! – обиделась Пелагея Ивановна. – Не так чтобы уж, а… лиса приличная. Что вы уж лисичку-то мою так?…
– Ну, я ничего такого не говорю, ваша лисичка совсем середняя и, понятно, она лисичка… да ведь она сиводушная!.. у ей краснины-то и в свадьбу не было! А вы – три ста! Коли уж за вашу сиводуху три ста, чего ж тогда за эту-то положить? Мало, что она чернобура, не в этом дело-с!.. А вот хребтовая она вся, чернь чернью-с! Да нет, за такую лисицу и семи мало! Вот как я вам осортирую… десять тыщ, и ни копейки меньше! Вот как хотите-с…
И он принялся поглаживать лисичку.
– Да неужели даже де-сять тысяч?! – приглашал я подивиться со мною и Пелагею Ивановну. – Такая, Василь Василич, маленькая, – и де-сять тысяч!..
– Ма-ленькая?… Это-то, по-вашему, маленькая?! Ну, тогда вы, стало быть, настоящей лисы и не видали-с! Да тут ее будет… шкурок двадцать! Вы вот на Ильинку подите, справьтесь. Всю проедете, а пяти даже шкурок не найдете! Я такую для покойного Государя Александра Николаевича подбирал, от них приезжали камергеры… У Сорокоумовского я тогда был меховщиком! Понятно, я все-таки для их нашел, но… только семнадцать шкурок. И не лучше этих. Ее мастеру дать нельзя! А выколачивать-то как надо совестливо!..
Я покосился на Пелагею Ивановну и воскликнул:
– Неужели даже для Государя Императора могли отыскать всего только семнадцать шкурок, как эти?!. – хотя про «семнадцать шкурок» я и в прошлом году слыхал.
– Для лисы все едино, что царь, что мы с вами… – сказал Василь Василич. – Не стала разводиться, истребилась. Может, и есть где по глухим местам. А на Ильинку не попадает!..
– Ну, а этот бобровый воротник?… Покойный папаша отказал его мне. Когда я выро… то есть по окончании гимназии. Он, должно быть, не очень хороший?…
Про этот воротник я знал. Но мне хотелось, чтобы и Пелагея Ивановна знала.
– Этот не хороший?… – сердито сказал Василь Василич, высматривая поверх очков и так оглядывая воротник, будто только впервые видит. – Да это ж кам-чатский бобрик!..
Он взял воротник за бортики и так перетряхнул ловко, что хлопнуло из него, как из пистолета.
– Да за такого боберчика… на кузнецкие цены ежели… Ну, что за него просить?… – спросил самого себя Василь Василич, задумчиво склонив голову, и оглянул воротник любовно.
Он нежно его погладил, подул до мездры, любуясь, как побежало беловатыми звездочками, задумался…
– Тысячки… три-четыре? Да не найтить. Серебрецо живое-с! Вот будете, сударь, жениться, на плечико шинельку… залюбованье!..
Во мне заиграло смущение и гордость. Пелагея Ивановна засмеялась.
– А на невесту да чернобурую ротонду!.. – пропела она льстиво, – и будете такая пара!..
Сердце мое взыграло. Я невольно взглянул на галерею: если бы и она полюбовалась! Но на галерее были одни герани.
Я с восхищением примечал, как Пелагея Ивановна шарила по мехам глазами. Какая масса! Одни еще полеживали в куче, другие, выбитые уже, расчесанные щеткой, висели на веревках спустя рукава и лоснились; третьи – полосовались жигачами. Хотелось крикнуть: «Все, все это – для нее одной Пелагея Ивановна!» Хотелось, чтобы еще и еще рассказывал милый Василь Василич.
– Нет, Василь Василич!.. – сказал я нарочно громко, чтобы и с галереи услыхали. – Мне меха не нужны! Я не придаю ни малейшего значения этим… тряпкам! Я думаю посвятить себя науке! Когда кончу университет, то поеду от Географического общества в ученую экспедицию вокруг света, исследовать… Есть еще такие страны, где совсем еще не ступала нога ни одного европейца, как, например, Гренландия и полюсы! Там царство пушных зверей, и попадаются иногда такие роскошные меха, что…
– Вот и нам, может, привезете!.. – засмеялась Пелагея Ивановна.
– Что же, я с удовольствием!.. – посмотрел я на галерею. – Хотя я с научной целью, а не для торговли, но это очень приятно, привезти… Как, например, знаменитый путешественник Пржевальский, в «Вокруг света» недавно было…
Но тут толстуха, должно быть, оступилась и полетела с ящика.
Все захохотали, высунулся из-за забора Карих, и я ушел.
XXVI
Наскоро пообедав, я сейчас же пошел к себе и достал кованый сундучок-шкатулку, от Сергия-Троицы, где хранились ее разноцветные записочки. Было тут и другое: голубенькое Пашино яичко, шпилька консерваторки Любы, когда-то меня поцеловавшей, коралловый крестик, который подарила мне Фирочка-епархиалка, дочка священника, ее записочка со словами: «не забудь ты меня, что люблю я… не тибя», и локон ее волос. Были и еще редкости: крабья лапка, «выловленная у берегов Африки», – подарок Женьки, «Гималайский камень, привезенный знаменитым путешественником», – тоже подарок Женьки, сухая травка из Палестины, купленная за три копейки у странницы и оказавшаяся полынью, и зуб необыкновенной величины, «тигровый», подарок Василь Василича. Но все покрывалось – ею! Все – пропиталось чудесными ароматами Востока.
Я лег на кровать и в неземном блаженстве перечитывал ее письма, в которых знал наизусть все буковки и кляксы. Читал и читал обжигающие слова – «я хочу лечь своим „прекрасным телом“ в постель», «вы что-то во мне затронули», «Буди(е!)те во мне странные ощущения», «а много в вашем ко(а!)лчане стрелок?», «будем охотиться»?…
Что это она хочет сказать – «будем охотиться?» Что значит – «много ли стрелок»? То есть сильно ли я люблю? Я вспоминал в истоме, как она шептала – «дайте ваши губы скорей…» – как прижимала свои зубы к моим зубам…
Я поцеловал полные неги ее письма, полные, быть может, муки… Писала же она – «я очень одинока!..» и «теперь… как бы я хотела не ехать!»…
Одинока!.. Боже мой, кто, какие люди окружают ее?! Мать, грубая, развращенная старуха, которая на глазах дочери принимает своего обожателя, этого урода «Рожу»! Пошлый фельдшер, который притаскивает кульки с казенным мясом и коньяком и похож духовной стороной своего существа на Санхо-Панчо! И этот студент с дубинкой, позволяющий себе в ее присутствии говорить: «И я… как Люцифер, тебе возьму… и будешь ты вопить проклятья…» Ты, вопить!.. «и вспоминать свово(!) Кузьму!»? И он – Кузьма действительно! Его фельдшер называл Кузьма Кузьмич! Почему же он – ее Кузьма?! Это величайший цинизм и профанация!.. И она, бедная, обречена влачить свою жизнь в среде пошлой, так напоминающей Ноздрева, Коробочку, Собакевича, Чичикова и прочих лиц бессмертной поэмы Гоголя! И этот ужасный Карих, который носит на себе некоторые черты Плюшкина и Чичикова, вместе взятых! И она, как бриллиант среди этого грязного навоза, среди этих отбросов человечества, сияет незапятнанной чистотой и красотой! Она массу читает, и, конечно, только это может нравственно поддержать ее в постепенно засасывающей ее зловонной тине! Она инстинктивно хватается за мою нравственную поддержку! Она пишет: «Я недостойна вашей нетронутой чистоты»! Она называет себя грешной, обыкновенной, даже – «бабенкой»! Какая поразительная скромность, которая характеризует ее с самой высокой стороны! Боже, как я ее люблю! Теперь, узнав ее по этим полным скрытой любви и муки письмам, я ее и люблю и уважаю. Я прямо чувствую, как она подымает меня в отношении нравственных оценок! Что я – без нее, без женщины? Значение прекрасной женщины в истории нравственного человеческого роста – очень громадно! Любовь к женщине будит в мужчине таинственные струны, расширяет его кругозор, вызывает самые благотворные эмоции! Вот почему и Зинаида – может быть, тоже предмет страсти И. С. Тургенева? – дала и ему высокоблаготворный толчок для его творчества, как знаменитого писателя! Нет, женщина не ядро каторжника, а огонь, зажигающий кровь… крылья Икара!.. Вот я… сразу постиг всю геометрию, сыплю стихами и напишу любое сочинение! О, Серафима! Ты мне даешь восторги, упоенья, и я, как великий поэт Пушкин, восклицаю: да, мне «явилось вновь: и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слава, и любовь!» Потом я думал, как Пелагея Ивановна расскажет ей про меха. Женщины так любят одеваться, особенно в меха! Даже Паша купила кошачий воротник! И «молодая» Пастухова… с Костюшкой поругалась, что ей «под соболя» купили, а не соболий! Пелагея Ивановна расскажет ей, какие чудные у нас меха! Она, конечно, поразится и скажет: «Он все положит к моим ногам!» И я рисовал ее себе в ротонде, из голубого бархата. Чернобурый лисий воротник, громадный… полы распахнулись, видно, что чернобурая лисица.
…Я иду сзади, по глубокому снегу, в ботиках. На мне чудесная шинель с бобрами. Я подхватываю полы красивым жестом, спешу за нею… Она оглядывается и устало шепчет: «Ах… я упаду сейчас,…ах, милый, дайте же скорее руку!» Я вижу порозовевшую с мороза щечку, обнимаю нежно за талию, с одного плеча бобры съезжают… Но это так красиво! «Ах… Боже мой, вы простудитесь!» – шепчет она мне нежно. – «Нет, я привык… что за пустяки! Позвольте, я вас закутаю в бобры…» Она колеблется, ей стыдно, что я закутаю ее с собою. «Тепло… тебе?» – нежно шепчу я ей, и дух захватывает от восторга.
Или я вижу зимнюю, далекую дорогу. По сторонам сугробы, льды голубовато блещут. Где-нибудь в Канаде… Полная луна все озаряет своим волшебным колдовским сияньем. Мы мчимся за город на тройке. На мне шинель с бобрами, накинута едва на плечи. На ней – ротонда. Мороз крепчает. Колкий снежок навстречу, бьет в лицо. Она теснее прижимается ко мне: ей страшно! «Что с тобой?» – шепчу я и вижу подозрительные огоньки… зеленоватые, в сугробах. Волки?!. «Ах, мне что-то страшно, милый… – шепчут ее губки, близко-близко. – Там… подозрительные огоньки!» – Я слышу, как она дрожит от страха. – «Боже, как она дорога мне!» – молитвенно шепчу я в небо. Я шучу, чтобы отвлечь от страха: «Взгляни… какие изумруды освещают путь! Нам и луны не нужно!» – Она все жмется. – «Это же светляки, моя малютка… Они слетелись, чтобы нас поздравить… затеплили свои фонарики для нашей брачной ночи, дорогая! Что, холодно тебе?…» Она простосердечно шепчет: «Ах, мне страшно!» Я кутаю ее в бобры, вытягиваю осторожно карабин… «Ну, – думаю себе, – уж будет кому-то жарко! Эй, гони, ямщик, на водку хорошо получишь!» – кричу я и лихо стреляю в волчьи пасти. Мы мчимся, мчимся…
И у меня закололо в носу от счастья. Я подошел к окошку. Тополь совсем раскрылся, стоял зеленый, пышный. За его стеной – сквозило солнцем. Полосовали лихо скорняки. Смеялась Паша.
Цветы?!.
Желтенькие цветы в стакане! Первые цветы, с зеленой травки. Пахнут? Я нагнулся, понюхал… Пахли – детством!.. Я вспомнил – первые цветы, которые увидел… Земля, зеленая, густая. Пахнет. Няня меня ведет по ней. И много золотых цветочков, «желтунчиков». Потянешь за головку, – рвутся. Тянешь в рот…
Щекотно, горько на зубах, и пахнет травкой… Радостно, светло. Зеленые деревья, как стена. Няня подбирает юбку и садится. Два башмака, большие, придавили травку. Рвет цветочки, играет ими по моей ручонке. И я играю. А по цветочкам прыгает собачка. Радостно, смешно. Облизываю губы – горько…
С какой радостью я вспомнил! Хотелось прошлое увидеть, все. Не мог увидеть…
Я поцеловал цветочки. В сердце поныло сладко… Паша принесла…
XXVII
Во вторник-среду она напишет!..
Надо было подготовляться к экзаменам, а я только одно и думал: «во вторник-среду…» Уехала… Пустая галерея темнела окнами, и стекла, казалось, тосковали: уехала!
«Но зачем же она уехала?» – спрашивал я пустые стекла.
Стекла темнели и молчали.
Чуть свет – будили меня воробьи в тополе, и я высовывался в окошко.
Все уже распускалось. Бузина у Кариха закурчавила бутоны, где-то цвела черемуха, или мне казалось, что пора бы цвести черемухе, поехать на Воробьевку и наломать огромный букет. Можно предложить и Пелагее Ивановне, с которой я теперь раскланивался из окошка. Березка в нашем саду выкинула колбаски и пустила зеленоватый дымок листочков. Беленькая она была, совсем еще молодая, и я особенно полюбил ее, что она такая молодая и беленькая. А корявая антоновка у беседки казалась похожей на Пелагею Ивановну. Я полюбил и рябинку у забора, пустившую ветки с пушистыми серебристыми листочками туда, к соседям. Еще совсем недавно я взбирался на милую рябинку и устраивал «гнездышко», чтобы читать Эмара и Вальтера Скотта, но теперь это было невозможно. Я хотел вырезать перочинным ножом на ее сочной бурой коре «С. П.», но она захрустела, засочилась, и я пожалел рябинку. Я простаивал у забора, надеясь уловить чудный образ, но стекла пустели и темнели. Уехала! Я искал ее на картинках «Нивы» и находил как будто – то в польской красавице графине, в пушистом мехе, с распущенными волосами и надменной, то – в поражающе-прекрасной, аристократично-горделивой, похожей на Диану, с полумесяцем в волосах, венгерке, с таинственным именем – Вечера, которая полюбила принца и умерла с ним вместе в лесной сторожке. В картинки «Нивы» я теперь всматривался все больше, и не волки под елками на снегу, и не охотники в снежной тайге привлекали мое внимание. Теперь началось другое. Играющие в жмурки графини и маркизы… белокурые пухленькие дамы, в открытых лифах и воздушных платьях, грациозные амазонки в цилиндриках, прыгающие в седло с колена кавалеров, – притягивали мои взгляды, и я находил в них прелесть знакомых очертаний. Шаловливые служанки, потчующие веселых солдат вином, танцующие одалиски, покуривающие кальян красавицы Востока, под опахалами, захваченные врасплох купальщицы, сбрасывающая одежды Фри-на… – вызывали во мне волнение. Я заглядывался на них подолгу, и они выходили из картинок. Их бумажные и бесцветные глаза делались синими, их неживые губы розовели и дрожали, их руки шевелились, а пышные груди за корсажем начинали дышать волненьем…
Я встречал их на улице, в легких прозрачных платьях, любовался изгибом шеи, округлившейся линией корсажа, воровато следил за выгибом колена, за ботинком, вздрагивал от радостного смеха, от летающей юбки гимназистки, от беглых шажков по тротуару…
Пелагея Ивановна вывесила белье, и я затаенно-стыдливо любовался на кружевную рубашечку, на узенькие чулочки… Но тут меня захватил Гришка:
– Чего это вы все глядите?… Петуха, что ль, опять гоняет?
На дворе петуха уже не было: Карих запер его с курами в сарае. Гришка пригляделся в щели, толкнул меня в бок и усмехнулся:
– Эн вы на что глядите! Бабское бельецо… разные разности, редкие преподобности, самые главные истории!.. Ишь, ка-кое…! – причмокнул он. – А вон, гляньте, махонькое-то самое… кильсоны это! А какие у них легенькие да короты-шишные!.. И все с кружевками, для заманки… Я всякие их штуковинки понимаю, чего к чему. Вы, понятно, еще без непривычки. Что наша Пашка… с деревни еще не отмылась, и то жерсю завела… А бельишко, небось, знаете…
Я хотел обругать его. Почему я знаю?! Но было интересно. – Я этими глупостями не занимаюсь! – сказал я Гришке.
– Каждый скажет, а всем лестно. Я вот вам расскажу, чего я видел…
Он присел под крыжовник и стал скручивать «собачью ножку». Если уж свертывает – значит, хороший рассказ будет.
– Желаете, и вам сверну?… До сердца прочишшает…
– Нет, у меня «Голубка»…
– С ее кашель, а с этой легше. Вот я вам скажу, чего раз вышло… Пошел я со скорняками в такое, понимаете, место! Сотродясь в таком не был, с зеркалами! Скорняков там земляк швейцаром служит. Вы в таком доме не бывали?…
– В каком таком доме?… – пробормотал я, избегая смотреть на Гришку.
– Понятно, в каком! Вот уж всего-то насмотрелся, как для богачей все удобно пристроено!.. Пустили через него, только велели не безобразничать. Он там первая голова, через его все преисходит… Вышло их штук пятна-дцать, одна к одной, как на параде… и все до одной кра-савицы!.. Прямо до чего тонко-деликатно! Как благородные, из хорошего семейства…
– Какой-нибудь бал там был?…
– Чу-дак! Дом такой для холостых мужчин! И жанатые забегают, у кого карахтер. Были бы только деньги, а то какая хочешь раскрасавица любовь подарит. Что хошь… И музыка, и угощение, и… Называется – заведение!
– Врешь ты… – сказал я Гришке, затаив дух.
– Чего там – врешь! Жалованье я, что ли, получаю, врать-то! Сам видел. Ды… – зашептал он таинственно, – желаете, свожу?… Только три рубли надо на расходы! Хоть вечерком сегодня?… За час сгоняем, сами увидите!..
Мне стало неспокойно, в груди сдавило.
– Нет, – сказал я, – это разврат и мерзость!
– Ха… Однако вон все туда бывают! Нам скорняков земляк рассказывал! Образованные-то еще хуже… Не говорите, когда не знаете. Обучают-то не деревенские. Вы мне не говорите напротив. Самые похабники.
– Ну, говоришь – вышли?…
– Ну, вышли. Завитые все, набелены-нарумянены… и по сех пор, все кирсеты открыты… и все в брелеянтах и духами пахнут! А платья брахатные… И на крючочках у них. Только Дотронись, она ослобождается…
И он принялся рассказывать такое, что неприятно стало, и я убежал к себе.
Из окна я видел, как подошел к белью Карих. Он долго его рассматривал и все покачивал головой, пошевелил даже шестиком метелки. Я хотел закричать: не смей! Потом я увидел Пашу. Гришка манил ее к забору – скорей, скорей!.. Она сиганула к саду, бросив вытряхивать самовар, прильнула к щели – и вдруг, затопотала-заерзалась, словно ее щипали. Гришка шептал ей в ухо и весь ломался. Она закинулась, схватилась за живот и перегнулась от хохота. Карих оглянулся строго, отошел от белья и принялся мести. Похохотав, Паша вернулась к самовару – стала его трясти, но хохот так ее разобрал, что она и с самоваром покатывалась, так что он у ней вырвался и мотался в одной руке. Она присела и тыкалась головой, как пьяная.
Я смотрел, как она моталась, как ее маленькая нога в ботинке на каблучках и в голубом чулочке высунулась из-под платья. Волосы у ней раскололись и рассыпались по спине, по розовой ее кофточке. «А чудесные у ней волосы… – нежно подумал я, – и она стала наряжаться, а ведь сегодня будни! Это потому, что сказал, какая она неряха. Хочет мне больше нравиться. И принесла новые цветочки!..» Я любовался, какие у ней чудесные золотистые волосы и нежно-розовый цвет лица, и мне казалось, что она будет похожа на маркизу, если ее одеть.
Она подхватила волосы, зашпилила их копенкой и опять звонко закатилась.
– Ишь раздирает дуру!.. – сказал Гришка, замахиваясь на нее метелкой. – Дать вот!..
Мне стало радостно, что Паша очень хорошенькая, что она меня любит и что мы целовались с нею. И всегда можем целоваться.
Гришка что-то сказал и показал на окна. Она взглянула, увидала, что я смотрю, и погрозилась. И стала еще красивей.
XXVIII
Кажется, было в пятницу. Я шел в гимназию и неожиданно увидал ее. Она подкатила на извозчике, спрыгнула с саквояжем и стала расплачиваться. Я схватился за козырек, но она не заметила, должно быть. Она говорила со студентом! Я в смущении почесал над ухом, стараясь казаться равнодушным. Студент – это был тот самый! – сделал рукой ей так, словно посылал поцелуй, и ткнул извозчика. Извозчик завертел кнутиком и, откинувшись на студента, – должно быть, он был пьяный, – взмахнул вожжами. Пролетка поскакала боком. Откинулся и студент, словно и он был пьяный, и они поскакали дальше. Я проводил дорогой образ за дверь парадного, захлопнувшегося, как гробовая крышка.
Эта встреча меня смутила. Значит, она уезжала со студентом? А может быть, встретил на вокзале и проводил? Возможно, что и студент был на практике, он же медик, и они распрощались, как коллеги. Она же с саквояжем!.. Суббота, воскресенье… понедельник… Ответ во вторник… А завтра первый экзамен, латинское экстемпорале!..
Ученья не было: нас только распустили. Женька явился франтом, в воротничке. Домой возвращались вместе. Он шагал «по-полковничьи», не сгибая ног, и все поднимал плечи. Что-то его взбодрило. Всю дорогу гудел ужасно:
Прощаясь, он не удержался.
– Mo-жжете!.. – проговорил он глухо, – свиданье!.. Нюхай!.. – ткнул он мне в нос конвертик. – «Кики-рики, кики-рики! я аллигатор Соляной Реки!» – гаркнул он на всю улицу любимейший «клич победы» из Купера.
У меня завертелись мушки. Ее письмо!..
– Мо-жете прро-читать!..
Лиловый конвертик, с маркой, показался мне необыкновенным, страшным.
– А как па…хнет!.. – проговорил он восторженно, не выпуская письма. – Письма любимой женщины всегда пахнут очаровательно!.. – тыкал он мне конвертиком.
Пахло «ароматами Востока»!
– Ммааа… запах страсти… действует опьяняюще, – в упоении шептал он, потягивая носом. – Даже руки…! По духам можно узнать характер любимой женщины, есть книга-Один мудрец сказал: «Скажи мне, какие духи она употребляет, – и я тебе скажу, кто ты!» Одуряющий аромат показывает страстную натуру!..
Я вспомнил «одуряющие пары Пифии», но было не до смеха.
– Что же она пишет?…
– Нет, в руки не дается!.. Мо-жете!.. И я увидал знакомый почерк.
– Нет, я сам… а вы можете любоваться! И он прочитал басом, как диакон:
– «Господин поклонник!..»
– Как?!. «полковник»?! – крикнул я в изумлении.
– «Поклонник»! Слушай ухом, а не брюхом.
– А мне показалось, что «полковник»!..
– «Не скрою, как меня удивило ваше письмо. Вы грозите? Как это все печально! Но раз вы этого хотите, я выслушаю вас. В воскресенье, в 4 часа, на кругу в Нескучном?… И я вам все скажу. Ваша „обидчица“».
Я заглядывал через его руку и проверял. – Три ошибки! – вырвалось у меня с обиды. – «П-и-чально» в «воскресенье» – через «ять» и… после «не скрою» нет запятой перед «как»!
– Ну, мало ли… описки! А… от волнения?! От волнения?… Это было вполне возможно.
– Она все скажет! – проговорил он восторженно.
– Пойдешь?… – спросил я с болью.
– Рубикон перейден!.. Жутковато, но раз ищет приключений, идет навстречу… лови момент! – выпятил он кадык и крякнул. – Македонов говорит… раз пишет прямо – «вы этого хотите», – тут-то и хватай под жабры!
– Но это подло! – воскликнул я. – Так смотреть на женщину, которая доверчиво… Это подло, унижать личность другого человека!.. Ты подумай…
– Видишь, что… – нерешительно сказал он, – я люблю ее и готов… даже на брак! Впервые в моей жизни так близко… гм!.. женщина стоит на моей дороге, гм!.. играет в моей жизни такую роль… Если она готова разделить со мной все испытания судьбы, при моей некоторой необеспеченности… Но она зарабатывает, а я через два года офицером…
– Но ты же ломаешь свою карьеру?!. – воскликнул я. – Пойдут дети!.. Ты это взвесил?… А если война?…
– Она пойдет в сестры милосердия! В чувствах не рассуждают. Да я вовсе и не желаю брака!.. Если она свободно смотрит… Пожалуй, побриться надо, что-то на щеках шероховато…
Он погладил щеки и над губой. Но и над губой не синело, хоть он и натирался редькой.
– Просыплюсь если, не оставят на третий год?… Ну, плевать! – и он хватил по тумбе ранцем. – У тебя полтинника не найдется?…
У меня и двугривенного-то не находилось. Он хорошо знал это и сказал так, чтобы шикнуть успехом.
– Продам Шульца-Ходобая и словарь. В юнкерское подаю, не надо. Свидетельство бы за пять классов… дадут, как думаешь?…
Я видел, как в его глазах прошло тревогой.
– Мать жалко… – сказал он грустно. – Мечтала, что буду доктором, все перезаложила… А, дадут?…
– Как-нибудь дотянешь… – попробовал я успокоить.
– Нет у нас паров. На ноги стать скорей бы… А, дадут?… Раз ухожу… ведь не провалят?…
– Конечно, Женя. Раз уходишь из гимназии… из снисхождения, всегда…!
– У меня наклонности к военной службе! А эти чертовы экстемпорале, мертвечина!.. Мне живое надо, – для родины!.. Голову сложу, не пожалею!.. Время пришло – и он не пожалел, сложил геройски!..
Мне стало больно. Вот и разойдемся скоро! Хотелось говорить о дружбе, как мы мечтали – вечно, вместе. Вот уж она и жизнь!..
– Гм!.. «Каррамбо! – бешено крикнул Дон Мигуэль дель-Санто-Педро, и из его глаз сверкнуло пламя!» – крикнул Женька свое любимое, когда одолевали думы, и подбодрился. – Сельтерской угостить придется или пирожными! А Македошка говорит: «В портерную тащи!» Неудобно, все-таки она приличная?…
Я крикнул:
– Македонов твой скотина!..
XXIX
Входя в ворота, я натолкнулся на такую сцену.
Гришка стоял в окне на сеновале и швырял к конюшне сено. Кучер таскал в конюшню. Паша стояла, поджавши руки, и глупо любовалась. Я вошел в сени – никто меня не видел – и остановился. В окошко было видно. Гришка норовил швырнуть на Пашу, а она вертелась и смеялась. Кончилось тем, что кучер накрыл ее охапкой и сам на нее свалился, а Гришка на них сыпал. Меня это страшно возмутило. Я хотел крикнуть… Но тут случилось!.. Кучер зацапал ворох, а с ним и Пашу, и потащил в конюшню, болтались ее ноги, вырывались. Я сорвался и крикнул, как хозяин:
– Что здесь за безобразие?!.
Кучер опустил охапку, а с ней и Пашу. Она выскочила из сена, как чумовая, и умчалась.
– Гадость!.. – топал я с криком на Степана. – Похабники!..
– Еще кто похабней!.. – нагло сказал Степан. – Мы тебе не мешаем с ней… останется!..
– Как ты смеешь?!. – закричал я. – Это ты гадостями занимаешься!..
– С невестой я все могу, а вам чего? – грубо сказал Степан. – Попользовался, тебе не мешали… и не лезь!..
– Ты?!. Так ты мне – ты?!. – заорал я, как бешеный, и кинулся на Степана кошкой.
Он только повел рукой.
– Ну, чего наскакиваешь-то, глу-пый?… – сказал он мягче. – Мальчик еще вы, а… в такие дела встреваетесь… А «ты» мы и Богу говорим!.. Я в ваше корыто еще не лазил, с чего вы такой горячий?…
Мне стало стыдно.
– Я… гадостями не занимаюсь… – примирительно сказал я. – А смеяться над девушкой… нельзя! – Ах вы… Тоничка… да мы ж играем!.. Девчонка сама лезет. Сено берем, а ей в диковинку! – подмигнул он Гришке. – Доведись и до вас…
– Обязательно! – смеялся на сеновале Гришка. – Давайте, Тоничка, на косушку, замириться!..
– Барыне-то не сказывайте… – сказал Степан. – Я вам ничего не говорю, если ндравится какая… Ну, балуйтесь… А уж чего она желает, это ее воля! Дело полюбовное…
И он стал собирать сено.
– Дела-а!.. – ухмыльнулся Гришка и затянул:
– То-то и есть… – поддержал Степан. – Может, придет и к Гришке!..
– Обязательно. Я клейкой…
Было до того противно, что хотелось плакать. Словно облили грязью.
Я пошел, а сзади меня смеялись. На лестнице меня остановила Паша:
– Чего это вы меня страмите?…
– Я тебя срамлю?!.
– Понятно, на весь двор кричали, острамили!.. Ну, прихватил… я бы все равно вырвалась… а вы меня страмите!..
Она даже тряслась от злости! Глаза ее так и прожигали.
– Нарочно буду к нему!.. Вот, ей-Богу! – закрестилась она неистово. – Что я, не вижу, что ли, как через забор-то целовались!.. Нашли кого, последнюю шлюху!..
И она убежала в кухню.
Я опешил. Паша меня ревнует! Увидала, что я вхожу, и побежала к сену?… Но как же она смеет… шлюхой?!
У меня голова кружилась. А завтра экстемпорале! И она назначила свиданье Женьке, а мне почему-то отложила!.. Да что же это? Я перечитал – в который уже раз! – душистые ее письма…
Это не то, что Женьке: «Я выслушаю вас!»
Неужели нас Паша видела?!. Опять принесла цветочки! И потом хохотала у забора… А если это истерика?! Хохотала, потому что душа страдала! Ведь булочница наша хохотала, когда хоронили булочника! Шла за гробом и хохотала…
Экстемпорале будет из Цезаря, «Бегемот» говорил недаром: «Кто желает попасть в шестой, должен проштудировать все, что перевели из Цезаря!..» …Ужасно, если я провалюсь! Как она посмотрит?… «Провалились! все еще в пятом классе!» Надо достать подстрочник у Волокитина…
Сенька Волокитин жил через улицу, и я побежал к нему: у него все подстрочники! Слепая его бабка сказала мне:
– Да где ему быть-то, пакостнику… Отказалась, батюшка, от него, в солдаты бы его, пакостника!.. В саду небось, куревом занимается, пакостник!.. Завтра проваливаться пойдет.
Волокитина я нашел в беседке. Он тоже готовился к экзамену. Подстрочники лежали листочками по всей беседке. Но он занимался… с мухами!
– Изображаю эпоху казней! – сказал он мне. – Время Ивана Грозного… по «Князю Серебряному». Завтра у нас «грек», провалюсь! – махнул он рукой на книжки. – Немножко хоть развлечься…
Я тоже заинтересовался. Весь стол представлял очень интересную картину. Мухи висели на ниточках, сидели на колышках из спичек, горели на кострах, ползали, четвертованные, без ножек и без головок. Ожидавшие казни летали, привязанные на ниточках…
– Вот – бояре! – показал Сенька Волокитин на самых крупных, синеватых навозных мух, которые жужжали на ниточках. – Будут четвертованы и посажены на кол… А это у меня – «грек Васька», сейчас ему будет пытка…
Он взял самую большую муху, рыжеватую с проседью, – где он только ее нашел! – и спросил, не нахожу ли я, что она похожа на директора? Она была как будто и в самом деле похожа на директора! Он оторвал ей крылья и посадил задком на иголочку.
– А самое интересное… вот! – сказал он вяло.
Он взял латинский словарь и показал мне «карточки». Это было гораздо хуже, чем у Гришки.
– А ты… этого не знаешь еще?…
Я жадно-смущенно слушал. Выпросил у него подстрочник и вернулся совсем разбитым. Ничего в голову не лезло. Я выписывал самые каверзные фразы: «Верцингеторикс через послов ответил, что он-де посылал к Цезарю, дабы Цезарь не сомневался, что, хотя он еще и не успел доставить съестные припасы, пусть не думает, что, если он и боится коварств Уругов, Лимнитов, Нугавов и всех живущих по сю сторону Рейна, то все же пусть не сомневается, что какие бы события ни произошли, несмотря на преданность вождя Ав-Дуков, коварство сего последнего…»
– Ничего не переведу… провалюсь… – сверлило мою Душу.
А над всей этой чепухой, над Сенькой с мухами, над грязью, мутившей душу, подымалась она, чудесная… Не Серафима, не Паша, а она, скрытая от меня где-то. И желтенькие цветочки на подоконнике, в тесном букетике, как сплошной золотистый бархат, яркая золотая желть, – чем-то мерцали мне, что-то напоминали мне… – словно я сам был ими, родился с ними! Когда это было, где?…
Светлая-светлая река, церковь… желтая, как эти цветочки, церковь… над нею – синее. Небо? Должно быть, небо. Травка, зеленая-зеленая, кто-то меня целует и говорит: «Боженька… бом-бом…» Звенит и звенит кругом – и струящаяся вода, и синее, и желтенькие цветочки… И золотое бежит в лицо. И так хорошо, тепло. И я, засыпая, чувствую, что это и есть весна. Но когда это было?… Может быть, во сне было…
И вот когда я смотрел на желтенькие цветы в стакане, мелькнуло во мне – неуловимое ощущение радости, чистоты и света, необычайной какой-то легкости, словно у меня крылья, и я летаю. Такая радость… И все заливает звоном – боммм… бомм… Невозвратимо-далекое, чего я никак не вспомню. Но – было?… И где-то есть?… Неужели же никогда не повторится?!.
Отсвет забытой радости, чистоты и… Бога?!. – коснулся моей души, и сердце во мне затосковало.
«Пусть же помнят вероломные вожди племен, что, хотя он, Цезарь, вопреки неоднократному их коварству по отношению к римскому народу, терпел их возле себя и даже помогал им военными и съестными припасами и посылал вспомогательные войска, но, что бы там ни случилось, он найдет достаточно средств жестоко наказать их огнем и железом, а их поселения сотрет до основания…»
Подстрочник поехал по столу. Цезарь выглянул на меня из копий, и я куда-то поплыл, в цветах…
XXX
Когда я проснулся, уже смеркалось. Я подобрал разлетевшиеся странички «Цезаря» и с ужасом подумал, что я ничего не знаю.
Я подошел к окошку и увидал на цветах – бумажку, мои стихи! Паша… вернула мне?!. Каракули, по-печатному, _ словно писал ребенок, карандашом: «отвас мине нинадоть!» «Е» она написала налево лапками.
Меня это сильно укололо. Вернула, гордая девчонка! Значит, входила, когда я спал, и положила прямо на свой букетик: нате!.. Горничная – и вдруг вернула!.. Из ревности?! оскорбила ее, назвала мне в лицо «последней шлюхой» и швырнула мои стихи!.. Прекрасно.
У конюшни играли на гармоньи. И я услыхал Пашу: – А кадрель можете, Степан Трофимыч?…
Она называет его – Степан Трофимыч!.. Он ее потащил в конюшню, а она… Степан Трофимыч?! Я высунулся в окно и крикнул:
– Паша, налей мне лампу… скорей!..
– Сейчас, не умрете!.. – откликнулась дерзко Паша. Я слышал, как смеялись. Вот нахалы!..
– Чего там, поспеет… – сказал кучер.
– Екзаменты они учут, надо.
– Целоваться тебе с им надо!..
Во мне кипело. Но что же я должен сделать?… Я стиснул зубы и стал дожидаться Паши. Во мне дрожало. А она все не приходила. Пиликала гармонья. Крикнуть?…
– Вчера только наливала лампу! – сказала Паша.
Я даже вздрогнул. Она почему-то не входила, стояла в коридоре. Она почему-то расфрантилась: на ней было светленькое платье в сборках, шумливое ситцевое платье, в незабудках. На лбу – кудряшки.
– Буду заниматься ночью, налейте лампу! – сказал я резко.
– Сами будете наливать скоро… – сказала она дерзко, хватая лампу.
Я заступил дорогу.
– Оставь лампу!.. – сказал я, задыхаясь. – И выкиньте эту… дрянь!.. – показал я на ее букетик, – и не смейте… дарите вашему Степану Трофимычу… вашему любовнику!..
Она растерянно на меня глядела, усмехнулась.
– Покуда еще не любовник! Это у других по десять любовников, а не брезговают… А я, думаете, вам принесла?… Я так поставила, для комнаты!.. И у барышень поставила. Думаете чего…
Она схватила букетик и швырнула в окно, как камень.
– Ты не мне поставила?!. – шепотом крикнул я, растеривая мысли.
– И не подумала даже!..
– Не мне, а… для комнаты?… А ты что же говорила тогда… «цветочки мои швырнули»?… Не мне?!
Я впивался в убегающие глаза ее. Лицо ее похудело и побледнело – или мне показалось в сумерках?
– Было да прошло! – сказала она с усмешкой. – Снегу вон сколько было, да потаял!.. Бывают дуры, а потом умнеют. Думала, прынцы какие есть, а… Вот, вот ваши поцелуи… вот!..
И она быстро потерла рот.
– С шлюхами целуйтесь!.. – зашептала она со злостью, чуть не плача. – Думала, дура…
– Па-ша… – зашептал я растерянно, боясь слез, – но ты же сама!.. как ты себя ведешь!.. – А как я себя веду? как?!. Кто меня целовал?!. Кого я целовала?! На что я зарилась?… Бог с вами, Тоничка… Поиграли и… Я вам не тряпка, швыряться… Была дура…
Я схватил ее за руку, но она оттолкнула меня и убежала. Кончилось – и прекрасно! Осталось в душе щемящее что-то, стыдное: смела ее позорить! Но я подумал, что в ревности даже кислотою обливают.
На дворе еще было светло. На кухне ужинали. Проходя мимо окон в садик, я заметил, что Паша сидела скучная, сложив руки, о чем-то думала. Степан, в красной рубахе и жилетке, рассказывал что-то, махая ложкой. «Поженятся – и прекрасно!» – подумал я. Потому и сказала: «Сами будете наливать скоро».
В столбике было пусто. И на галерее было пусто. Я уже хотел вернуться, как вдруг стукнула калитка, и во двор вошел пузан низенького роста, с двумя кулечками.
– Здравствуйте, Павел Тихоныч! – услыхал я толстуху с галереи, – а Симочка в Серпухове на практике!..
– Как же она не предупредила!.. – раздраженно сказал пузан, взмахивая кулечками. – То в Коломну, то, черт ее знает… в Серпухов! Это уж… я уж не понимаю!..
– Да вы зайдите, Павел Тихоныч… Самовар у меня горячий…
– Благодарю-с… Извольте передать ей, что или значу я что-нибудь, или… ноль?… Я сюрпризов-с… не терплю-с! да-сс!..
– Да вы зайдите, Павел Тихоныч!.. – заискивающе упрашивала толстуха. – На практику вызвали…
– Знаем мы эти пра-ктики! Войти я могу, конечно-с… – размахивая кулечками, сердито сказал толстяк и пошел к ней на галерею.
Я был взбешен, почему этот наглец смеет так говорить о Серафиме. Пузан коротконогий! Говорить – «она»! «Или я что-нибудь…»? Что это такое – «что-нибудь»?
Появился Карих и стал прохаживаться под галереей; видимо, подслушивал разговор. На галерее гудели голоса, словно бубнила в стакане муха. Я видел голову толстяка. Он снял шляпу и оказался совсем плешивым. Арбуз в золотых очках! Он стучал по столу и тряс «арбузом».
– Не одна-с! – выкрикнул он к окну. – С бородатым болваном, знаю-с!.. – голос его сорвался и снова вырвался, – благодаря мне-с, да-с! обязаны-с!.. – затерялся голос, – …в портнихи-с, самая верная ей дорога-с!..
Толстуха закрыла окна. Карих присел на корточки и состроил рожу: видимо, был доволен.
«Уехала не одна, а с бородатым болваном»!
Бородатый болван – студент, конечно. Я тоже всегда так думал. Уехала со студентом в Серпухов! Какая же это «практика»?… Стукнула калитка, и появился студент с гитарой, и какой-то еще с футляром, в котором таскают скрипки. Их встретил Карих и торжественно объявил, что Серафимы Константиновны дома нет.
От радости я подпрыгнул. Она уехала! Все – вранье! Не могла она ехать со студентом. Она – чистая, несравненная, ангел-Серафима!
– А не врешь, друг ситный? – засмеялся студент и толкнул Кариха в живот гитарой. – А вот мы посеренадим, и милая птичка выпорхнет!
Он – веселый же был он парень и совсем не болван, по-моему! – задрал картуз на затылок и пустил на гитаре – трам-там-там…
Окно открылось, и высунулась толстуха, а за ней и арбуз в очках. Студент – уж и молодчина! – послал им воздушный поцелуй. И воскликнул, словно в порыве страсти:
– О, ди-вное… виде-нье!.. Ко-го я ви-жу! Сам фельдшер смо-трит! Сама… манти-лья!..
– Кузьма Кузьмич! Вон он, Кузьма Кузьмич! – воскликнула радостно толстуха.
– А, Кузьма Кузьмич! – весело закричал толстяк. – Входите, у меня что-то есть!..
– Но, говорят, ее нет! Обманула! Сама клялась, что в пятницу свобо-дна!.. И вот мы притащи-ли скри-пача, и он готов скрипеть, и… обман-ну-ла! Но… человечество не ждет и прет! И посему мы выпьем за здоровье новорожден-ного!..
Студент подхватил скрипача, и они загремели по лестнице.
– Ужинать сели! – окликнула со двора Паша.
Проходя по двору, я заметил, что она у конюшни, болтает с кучером. Заметив меня, она захохотала и стала баловаться дверью: отворит и захлопнет. Я прямо удивился ее бесстыдству.
– А все я дюжей тебя!.. – смеялась она Степану, балуясь Дверью: они тянулись.
Только я сел за ужин, явилась Паша. Я глазам даже не поверил: она расфрантилась, как на праздник! Взбила прическу, надела бантик… голубенькую шелковую блузку, с высокими рукавами, и самый парадный фартук. Все так и ахнули!..
– Да ты очумела, что ли? – изумленно сказала мать.
– А что, барыня?… – спросила невинно Паша.
– На бал едешь?!.
– Что оделась-то?… – весело огляделась Паша. – А надеть нечего, в грязное покидала все…
– Как так, все в грязное?…
– Стирать буду. Сама заработала, мне не жалко!..
– Да она прямо одурела?!.
– Ничего не одурела! Может, у меня жених есть?… Ндра-виться ему вот хочу…
– Да ты что… пьяная?!. Да как она отвечает?! – сказала тетка. – Бесстыжая девчонка… про жениха!..
– Да что же я, уж и кофточку не могу надеть? А может, я именинница сегодня?
– Нет, она очумела! – сказала мать, когда Паша ушла на кухню. – Вы, Марья Михайловна, последите. Голову девчонка потеряла! Сирота, Богу за нее ответишь…
– По часу у рукомойника полощется, зубы даже начала начищать! – сказала ехидно тетка. – Катерина говорит, с кучером все смеется… – покосилась на меня тетка.
– А знаете что… – сказала сестра, краснея, – просто у ней… наследственность!
– Что ты какую чушь мелешь! – сказала мать.
– У ней что-то благородное в личике! Посмотрите, какой у ней ротик… и маленькие руки!..
– Ну и что же?…
– Ну… родовитая кровь в ней, может быть. Отец у ней был лесник… Романическое что-нибудь случилось… В романах очень часто это! А романы всегда из жизни… Очень, мамаша, возможно! – настаивала сестра, «прочитавшая все романы». – Около них имение графов Замойских-Лоцких. Одна из Замойских фрейлина была даже!..
– А леснику могли и подкинуть! – вмешался я. – Первые римские цари Ромул и Рем были подкинуты и вскормлены волчицей! И у Пушкина, например, есть.
– Аль на фа па дир, – шепнула тетка, заслышав шаги Паши, только всего и знала по-французски. – А нынче и вправду Пелагеи-девы!
Все замолчали. Я украдкой взглянул на Пашу. Вот почему: именины ее сегодня! Она была удивительно сегодня интересна, как маркиза.
«Вполне возможно, что в ее жилах течет кровь аристократов! – подумал я. – Она горда, любит цветы, наряды… У ней даже прирожденные манеры! Как она даже тарелки ставит!.. А когда ей грустно, и она шьет, и задумается с ниткой кажется, будто это забытая принцесса!.. Вернула мои стихи, положила на свой букетик… „Я вам по-жа-ловала цветы, а мне ничего от вас не надо!“…»
– Нет, Паша, ты поскромнее одевайся… – сказала мать. – Кокетки-то по бульварам ходят!.. В девушке скромность ценят… а не финтифлюшки!
Вернувшись к себе, я зажег лампу, чтобы приняться опять за «Цезаря». И вдруг увидал… «уточку»! Она стояла на стеклянных лапках на стопке листков из «Цезаря»! Паша вернула и «уточку»! И прекрасно.
«Уточка» была не тронута: пробочка в носике была заклеена бумажкой. Но та-то была открыта, и Паша при мне душилась. Значит, она купила, не пожалела и тридцати копеек!
С тяжелым сердцем стал я переводить подчеркнутые «Бегемотом» главки.
На какой же стояла «уточка»?… – почему-то пришло мне в голову. Я взглянул на листок и поразился: на самой грязной, исчерканной всякими надписками, – цветными карандашами и чернилами! Над ней мы сидели долго.
«После того, как пришли послы, Цезарь приказал, чтобы их не допускали, и велел сказать: „Он-де доволен, что из страха римского оружия старейшины Урсулов достаточно мудры; что если бы этого не случилось, то до наступления таяния снегов три легиона и наемники внушили бы, как надо отдавать почести и выполнять условия мира, чтобы приобрести благожелательность римского владычества; что пусть-де они не сомневаются, что если будет наблюдена измена, то ничто не могло бы удержать его в самых ужасных планах, ибо“…»
«Будет это! – подумал я. – Паша поставила „уточку“ на самое трудное, что было!..»
И я загадал: «Если – это, то…»
И выучил назубок параграф.
XXXI
У Кариха заиграла скрипка, потом гитара. Я высунулся в окошко. Горели под бузиной фонарики, словно там были именины, как на даче. Да, Пелагея Ивановна тоже, должно быть, именинница! Я услыхал бешеный рев студента:
Она вернулась?!.
Пели под скрипку хором – «Не осенний мелкий дождичек». Я слышал ее нежный голос – «пей, тоска пройдет!» И побежал к забору. Пробегая сенями, я встретил Пашу. – Поздно придете – отпирать не буду!.. – сказала она дерзко.
– Не отпирайте, я и через чердак могу спуститься! – сказал я ей. – А… вашу «уточку» я вышвырнул в окошко! Кучеру можете дарить!..
– Уж подарила! – сказала она каким-то фальшивым тоном.
– И прекрасно!..
Вечер был очень теплый. Под бузиной, за большим столом, под фонариками, сидело что-то много, даже Карих! Он был в манишке и сюртуке, в белом галстуке, как на свадьбе, и сидел вытянувшись, словно его приклеили к стулу. Она показалась мне невестой, – в белом воздушном платье. Белая лента стягивала ее головку. Она показалась мне – богиней!..
– Богиня моя! – шептал я страстно. – Ты поешь и не чувствуешь, что я близко, что я молюсь на тебя, богиня!..
Она приставала к Кариху:
– У вас чудесный голос! Вы же говорили, что поете…
– Я только под гармонью, когда тоска… люблю мечтать под звуки вальца… – стеснялся Карих. – Не стоит нарушать природы!
Все захохотали.
– Друг, нарушь природу! – приставал студент. – У тебя чудный бас, как у Бутенки… Спустись с высот… в юдоль печали и забот!..
– Вы, Степан Кондратьич, по-эт!.. – сказала она нежно.
– Где же-с… – смутился Карих. – Я терзаюсь в жизни через голову. Сызмальства опоили. А теперь… встретил небесное творенье… как во сне!..
– Браво! – всплеснула Серафима. – Извольте выпить за «небесное творенье» и спойте для меня!
– Извольте… – сказал уныло Карих. Он принял из ее рук рюмку и объявил:
– За… все прекрасное! Как пропечатано в «Листке»:
Так все и покатились. А Карих поправил галстук, выступил, как артист на сцене, и сделал рукой – вот так: внимание! Студент сделал – трам-тамм-тамм…
– Сперва надо, как из-под земли. Значит, уж на него навалили земли! Скоро помрет, через любовь!.. – сказал Карих и потер затылок. – Дебют! Называется – «Жгущая Любовь»!
– Жги! – крикнул ему студент.
Серафима завалилась за толстяка, словно хотела спрятаться. Скрипач мотал головой, как пьяный. Толстуха ела халву горстями. Только «Рожа», обвязанная до глаз, сидела, как сфинкс египетский.
– Дебют! – повторил Карих. – «Скажи: ты мой!» Романц без слов! «Жгущая Любовь»!
Он приложил руку к сердцу и начал скороговоркой, шепотом:
Припев Карих пропел так тонко, словно петух запел. Все загоготали от восторга. Карих ободрился, отошел в темноту двора и пустил оттуда рыданием:
– Все!
Карих вытер рукой лицо, сел осторожно, словно боялся измять сюртук, и вытянулся, как деревянный. Я был в восторге, когда она взяла из вазочки розовую пастилку и двумя пальчиками подала ему:
– Это вам от меня – за ваш романц без слов! Он ужасно захохотал и сразу проглотил.
– Вся жизнь – обман ужасный! – сказал он мрачно. – Ждешь и не дождешься. Живешь – помрешь!
И опять страшно захохотал. И все захохотали. Потом он стал мотать головой и стучать кулаком по темени. Студент повел его под руки куда-то. Наконец стали расходиться. Скрипач и студент ушли. Толстяк поднялся на галерею. Толстуха сунула «Роже» конфетку под повязку, а он сделал ей ручкой – так. Потом выпила прямо из бутылки. Фонарики погасли. Стало совсем темно. Пропел петух. Пошли кричать петухи кругом. У пастуха напротив протяжно заревел бык. Я хотел дождаться, когда же уйдет толстяк. Неужели он ночевать остался?… Может быть, он их родственник? Не могла же она его полюбить, такого?! Плешивый, жулик, кульки таскает!.. Может быть, брат двоюродный… Они чемто ему обязаны… Отца нет, и он ей вместо отца?…
Сени таки заперла Паша, и как я ни царапался за Дверью – а громко стучать боялся, – пришлось лезть по пожарной лестнице. Ее окошечко было закрыто и занавешено. Я не утерпел и стукнул.
– Это называется… нахальство! Кажется, я просил не запирать сени!..
Она не отозвалась ни шорохом. Меня озлило.
– И раз вы горничная, вы обязаны отпирать… – сказал я громче.
– Шлюху свою просите!.. – услыхал я несонный голос.
– А вы… кучера своего!..
– Он ко мне по ночам не бегал… заборы не лизал…
– А ты… нахалка!..
– А вам не помыкалка!..
Я всегда знал, что она зубастая.
Лампа моя горела. «Уточка» все стояла среди листков, словно вместо меня учила. «На ранней заре Цезарь послал к Верцингеториксу сказать, что он-де нисколько не сомневается…» Ну и пусть не сомневается!..
Я очень сомневался. Сомневался, что выдержу экзамен… сомневался, что она пишет искренно. Я достал ее розовые письма, и оглушающий аромат опять закружил меня. Я вспомнил белоснежное ее платье и роскошные волосы, прихваченные белой лентой. «О, богиня! – шептал я страстно, уже не сомневаясь. – Ты… „очень одинока“»! Она же написала: «Будете вспоминать меня?» И потом, когда написала – «роняю три, четыре, пять… самых ароматных лепестков», написала дальше – «а вы?» Конечно, любит! И я нисколько не сомневаюсь, «quin» – и сослагательное! И я скоро буду с ней в Нескучном. Она любит глухие местечки в нем!.. Разве подарить ей на память… «уточку»?… Сказать: «Примите от меня этот наивный пустячок и поставьте к себе на столик! пусть эта прозрачная „уточка“ напоминает вам о светлой душе и чистом сердце, которое полно самыми ароматными чувствами?…» Или – поднести ландыши? Но они еще не цветут! Но можно купить один стебелек и спрятать?… Поспорить с ней? Подойти с ней к «Чертову оврагу» и сказать: «Для вас хочу найти хотя бы один ландыш!» Она усмехнется, скажет: «Теперь – ландыш?! Еще только цветет черемуха!» Я восторженно скажу ей: «В любви – все возможно!» И брошусь в самую глубь оврага! Там уже должны быть ландышевые листья, в трубочках. Там я всуну оранжерейный ландыш и стремительно упаду к ногам. «Вот, я верил… и я – нашел!!.» И она, пораженная, прошепчет: «О, вы нашли с этим волшебным ландышем… что-то великое!..» И стыдливо опустит свои шелковистые ресницы. «Что я нашел? умоляю вас, скажите хоть одно слово!» – прошепчу я ей. В кустах и оврагах будут заливаться влюбленные соловьи. И она, склонившись ко мне, прошепчет: «Любовь». Я убрал «уточку» в сундучок, а письма положил в курточ-ку – «на счастье». Завтра, во время экстемпорале, я буду дышать ими, и их аромат будет придавать мне силы.
При лампе я и не заметил, что на дворе уже рассветает. Порозовело небо. Серые сараи прояснились. Сонные пекаря качали у колодца, несли ушаты, скребя по камням опорками. В тополе бесновались воробьи. Звонили к утрени. У Кариха задребезжали стекла, кто-то открыл окошко. Я высунулся в тополь. Под галереей стоял толстяк и прижимал руку к сердцу. Я вытянулся дальше в сучья, рискуя упасть на камни. Толстяк поцеловал свои пальцы и послал поцелуй – вот так!.. Меня тряхнуло, я чуть было не свалился…
XXXII
Сегодня первый экзамен – латинское экстемпорале. Я лихорадочно умылся, мелко во мне дрожало, щекотало. Трясло за чаем, и я выпил его без хлеба, отломил только у розанчика носик. Паша мела в столовой.
– Сегодня первый экзамен, Паша… – сказал я кротко: не хотелось, чтобы она сердилась, – дурной признак! – Поздравляю тебя с прошедшим Ангелом.
– Спасибо. Ну, авось не провалитесь!.. – сказала она неласково, и меня пуще прежнего забило дрожью.
На ней была розовенькая кофточка, и сама она была ро-зовенькая и свежая. Она ступала совсем неслышно. Я украдкой взглянул на ее ноги и увидал, что на ней новые ботинки. «Если бы прошлась „сорокой“!» – подумал я.
– Совсем ничего не ели! – сказала она ворчливо.
– Какая еда, когда экзамен… – сказал я скорбно.
– Бог даст, выдержите!..
– Когда в сердце… ад!.. Выдержишь… – чуть не плача сказал я сливкам. – И… никто не любит…
– Еще полю-бят!.. – сказала она насмешливо. – Заборов еще много.
Я хотел ей сказать глазами, до чего это бессердечно, но она выметала под диваном, ловко переступая каблучками. Меня перекрестили.
– Тетя Маша, иду… не сердитесь. Я сегодня на краю пропасти… Чувствую, что не переживу, если… – сказал я мрачно.
– А я тебе говорю, что выдержишь! – сказала она уверенно. – Такие твои карты… странные!..
– Странные?…
– Дамы так от тебя и не отходят! По твоим годам это к прибыли! Вот увидишь.
Это меня ободрило. Я подошел к часовне и стал молиться. «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго»… И вдруг выбежала из часовни – Паша! Увидала меня и растерялась.
– Сегодня память… по тятеньке! – сказала она быстро и умчалась.
«Это она за меня молилась… ставила, должно быть, свечку! – ласково пробежало в мыслях. – Еще тогда сказала…»
И меня пуще забило лихорадкой. Я завидовал крикунам-мальчишкам с зеленым луком, подрядчику, ехавшему на дрожках, бутошнику, который со мной раскланялся. Хотелось всем объявить, что сегодня у нас экзамен и я страдаю. Попался знакомый плотник, чинивший у нас беседку, и спросил на ходу, застанет ли мамашу, деньжонок надо. Я сказал, что застанет, и не удержался:
– А я вот иду в гимназию… у нас сегодня страшный экзамен, латинское экстемпорале!..
Он посочувствовал:
– Да, бядовое ваше дело.
Сады в переулках уже зеленели густо. На сиренях лиловые елочки торчали, рябины выпустили белые пенки цвета. Доносило черемухой, травою. На церковном дворе густо золотился одуванчик, ходили с цыплятами наседки. Хотелось прилечь на травке и ни о чем не думать. Пухлые облачка недвижно стояли в небе. Я молился на каких-то угодников на церкви, сухих и строгих, на архангела с мечом и в шлеме, – как будто Цезарь.
Как всегда на экзаменах, в гимназии было празднично и по-другому. Все приоделись, подтянулись, словно сейчас привезут икону. Дозубривали в книжках, тревожно ощупывали карманы. В саду курили. Отчаянные раскачивались на брусьях, прыгали в чехарду и ели завтрак. Первый ученик Соколов 3-й ходил с помощником классного наставника в обнимку. Его перевели без экзамена, и он приехал полюбоваться и похвастать, что едет сегодня в Нижний, а оттуда по Волге и по Каме. Иные, по уголкам, крестились. Женька сидел под гимнастикой и надписывал на манжетах.
Сообщили, что «Бегемот» приехал и кому-то сказал _ «держитесь!»
Женька поглядел страшными глазами:
– Говори все случаи на «quin»! Когда «сомневался», когда «не сомневался»? Ничего в голове не получилось. Когда «si» с чертовым конъюнктивом? Все «ш» ы перепутал! А после «timeo» – «quin»?
Он прямо меня засыпал. Я старался ему втолковать, но он ничего не понял и обругал зубрилой.
– Хочешь моей погибели! Завидуешь, что назначила свиданье? – Я сам имею от нее письма!.. – сказал я резко. – Я тебе дам списать. Будет тридцать восьмая глава… увидишь!
– Почем ты знаешь?… – бормотал он, уже отыскивая по «Цезарю». – Это?… «После того, как пришли послы. Цезарь приказал…»?
– Уверен! Я знаю назубок.
Женька вырвал из книжки, и нас потащили на экзамен. Отчаянные засовались по карманам. Робкие вознесли моленья.
«Бегемот», рыжий и толстопузый, вытянул снизу бороду, поймал и погрыз кончики.
– «Листики» выложить на стол! Кого поймаю – выгоню! Caveant consules! Готовы? Место самое легкое, не раз читанное…
«Господи! – глядел я на „Бегемота“ с верой, – пусть это будет – „После того, как пришли послы…!“»
– Готовы, римляне? Ба-бушкин…! Ба-бушкин!.. пойдешь к де-душке! – замотал пальцами «Бегемот». – Вы, близнецы, там…! За доску сядешь!.. Готовы? Гм…
«После того, как пришли послы… Цезарь приказал не допускать их…»
В голове сладко зазвенело, и я кротко взглянул на «Бегемота». Женька гымкнул и лихо толкнул меня:
– Откуда ты, черт?!
А я старательно выводил, дыша «ароматами Востока».
Через час работа была готова, с хитрыми изменениями где надо. «Бегемот» подошел ко мне, обдавая табачным духом и тесня животом, как глыбой.
– И раздушился же ты, мой друг… – сказал он, трогая мою голову, словно хотел отвинчивать. – Хороший-то латинист что значит!..
Я был в восторге: даже «Бегемот» восхищается ее духами! Вышли мы, торжествуя.
– К букинисту всю эту ерунду сейчас, на завтра нужно! – сказал Женька «полковником» и даже не простился.
Я отлично помню этот субботний день. Удача ли на экзамене, или одурение от бессонной ночи, – но я решился на то, о чем раньше и не мог подумать.
Я прошел по той стороне, мимо нашего дома и вошел к Кариху. Вошел решительно, не зная, что буду делать. Меня тащило. Навстречу попался Карих.
– Кого?… – спросил он хмуро, оглядывая мутными глазами. Как будто он не узнал меня.
– Мне по делу… Пелагею Ивановну… – сказал я, чувствуя, что сейчас погибну.
И туг же, смутившись, понял: думает, что я по такому делу! – Ах, вы ко мне, молодой человек? – приветствовала меня толстуха с галереи, – пожалуйте, по лесенке сюда…
Я очень развязно поклонился.
Ни о чем не спрашивая, – может быть, и она подумала, что я по такому делу, – она пригласила меня в покои. Я шел и думал: «Что же я делаю, и что сказать?…» Но что-то во мне сидело.
В эту минуту отчаяние мое погасло: я только хотел знать правду. Отчаяние было на дороге.
Я встретил, или мне показалось, что я встретил?… Она прокатила со студентом! Я хорошо рассмотрел студента – черная борода сверкала! – и шляпку с широкими полями, соломенную шляпку с васильками. Издали я заметил, но извозчик помчался в переулок.
Это меня и потащило.
Толстуха ввела в гостиную и показала на продавленное кресло. Пахло какой-то дрянью, чем пахнут акушерки. Лежала «Нива», на вытертом диване дремала Мика, без бантика, валялся комочек из перчаток.
– Что вам угодно, молодой человек?… – сказала таинственно толстуха, и ее бородавки заплясали: это она мило улыбнулась.
По ее лицу я понял, что она ожидает «тайны»: должно быть, я был взволнован.
– Может быть, курите… – прохрипела она галантно и подвинула пепельницу с разметавшейся голой дамой.
– Я, вообще, курю… но сейчас что-то голова болит! – сказал я глупо.
– Пожалуйста, не стесняйтесь… – сказала она, оглядываясь, – наше такое дело, если секретно… барышня имеется, в… екстренном положении, что нужно… все грешные, а уж молодому-то человеку…
И она поглядела умильно, ласково.
Я смотрел на фарфоровую даму, вертел фуражку и чувствовал, как мне гадко. Может быть, от волненья, забило в ушах колоколами.
– Видите, Пелагея Ивановна… у меня завязалось знакомство… – начал я как в тумане.
– Так я и думала! – перебила она меня. – Помочь надо?… Будьте спокойны, совсем в секрете! Я же вас знаю, и вашу семью… люди со средствами… понятно, девочка увлеклась…
– Пелагея Ивановна! – воскликнул я. – Ни-ничего подобного!..
Я даже засмеялся. Засмеялась и Пелагея Ивановна.
– Чего уж от нас-то таиться! Уж чего-чего только мы не видим… Поп да бабка – одна повадка!..
– Видите… я познакомился с вашей дочерью… Серафимой Константиновной… – Не зна-ла… совсем не знала!.. – обрадовалась с чего-то Пелагея Ивановна. – Симочка не говорила… Очень рады, молодой человек… Мы-то с вами давно знакомы!.. Помните, шубы-то ваши… уж как же я залюбовалась!.. И давно познакомились с Симочкой? Она у меня прямо неравнодушна к молодежи… А уж ухажеров сколько!..
Я опять посмотрел на фарфоровую даму.
– Видите… она обещала мне… написать…
– Написать?… – ласково повторила Пелагея Ивановна, жуя губами. – Хорошо-с… обещала вам написать?…
– Про книги… рекомендовала почитать книги, а я, правду сказать, забыл! Понимаете, масса экзаменов… вот, сейчас только с экзамена, латинское экстемпорале было… Книги очень интересные. Я хотел бы видеть Серафиму Константиновну… или она напишет… про книги… теперь я скоро освобожусь, почитать…
– Да, да… любительница она почитать, да все прахтика… Вот, на два денька уехала отдохнуть к Троице-Сергию… уж так запарилась на приемах!.. Там и прахтика у ней, заодно уж… в посаде-то.
– На два дня?… к Троице?
– Значит, сегодня у нас суббота?… Воскресенье, понедельник… вечером в понедельник обещалась быть. Только-только уехала, маленько не захватили…
– Ах!.. – притворно воскликнул я, – не ее ли я это встретил? Не в соломенной она шляпке, в желтенькой, большой… кажется, с голубенькими цветами!..
– Ну, она и есть. Новенькую вчера купила только, майскую, с василечками. Дело молодое. А я-то уж, простите, чего подумала… – кокетничала со мной толстуха. – У нас и имназисты иной раз требуют, по секрету. Знаете, может, Мозгов, фабриканта сынок… жениться у них нельзя, а есть любовишка… Симочка и принимала. Да ведь какой мальчишка! Говорит, один-цать фунтов вытянул! Ну, имназист, правда, рослый, солидный… да и бабочка-то ядреная попалась… такого-то мальчонку!.. – и она посмеялась мне. – Сколько вам годков-то… небось, семнадцатый?…
– Да, приблизительно… – без смущения сказал я. – Я тоже считаю, что брак – явление естественное!
– Да как же можно!.. Молодые, влюбятся… ну, ребеночек! А любовь, она… не спрашивается! Влюбитесь вот в какую, ну и… дело житейское!.. Нас уж не забывайте… – пошутила она, смеясь.
Мне было очень приятно беседовать с умной женщиной. Она смотрела на это вполне свободно. Правду говорил Женька, что все акушерки смотрят вполне свободно.
– Ну, я так рано не… не женюсь… – Зачем жениться? А так, в холостом браке случиться может! Подвернется какая хорошенькая да свободная, вот и… будете к ней захаживать…
Я взглянул на фарфоровую даму. Она раскинулась на ковре, прикрывая лицо руками.
– Извините меня… – сказал я, подымаясь, – она… то есть, Серафима Константиновна вернется в понедельник… прошу вас, напомните ей про обещание, она знает…
– С удовольствием. Да уж если Симочка вам сказала, не обманет. Значит, про книжечки. Ночами даже зачитывается! Захаживайте когда, очень ради. Симочка и попоет когда. А уж молодежь она как любит… Самой-то всего двадцать два годика. И всем нравится, веселенькая. Ну и кружатся. А выйдет замуж да пойдут ребятишки… А вы и знакомым своим скажите, кому понадобится… Квартирку имеем для секретных…
– С большим удовольствием… – радостно сказал я, в восторге от Пелагеи Ивановны. – У вас так легко себя чувствуешь… в такой атмосфере… Передайте мой сердечный привет Серафиме Константиновне… и про письмо… то есть она обещалась мне…
– Как же, непременно… С компанией целой поехали… маевочку там отпразднуют…
Я пошел от нее в восторге. Вылетел из ворот и прямо прошел к Нескучному, чтобы никто не видел.
XXXIII
Я вернулся домой разбитый. Возбуждение от экзамена погасло. Я угадал параграф – «уточка» мне сказала, – но что из того, что я написал экстемпорале? Правда, я загадал, что если будет по «уточке» – «если – это, то… все прекрасно выйдет с моей любовью». Вышло по «уточке». Но… она у Троицы со студентом! Правда, Пелагея Ивановна говорила, что с компанией целой она поехала, «маевочку там попразднуют»… Но это простая хитрость, самая женская уловка! Еще бы она сказала: «Я еду с моим любовником!»
Я лежал и терзал себя.
К Троице! Ездят туда не только молиться Богу. Булочник Муравлятников ездил запивать к Троице. Так все и говорили: «А Муравлятников-то опять „к Троице“ поехал, недельки на две!» И влюбленные ездят к Троице. И Максимка, когда проживался с Гашкой, частенько катался к Троице. Гришка так и рассказывал: «Возьмут у монахов номер в гостинице – и гуляй! А потом и к отчельникам толкнутся, – грехи замаливать!» Я возмущался и говорил, что там же мощи Преподобного Сергия, самое святое место, великий грех… А Гришка посмеивался только: «Грех в орех, а на том свете уж разберется, кому какое будет происхождение в аду!»
На том свете… Я часто бывал у Троицы и видел в соборе картину во всю стену: «Страшный Суд». В огненных языках в аду тянулся по всей стене, извиваясь жирными кольцами, черно-зеленый Змий. В жутких его извивах терзались грешники. Все они были голые, раскаленные докрасна в огне. И по всему Змию адскому обвивалась беловатая грамота, на которой черными буковками стояло: «воровство», «сребролюбие», «убийство», «пианство», «сквернословие», «блуд»… – все грехи.
И она поехала с ним – туда!..
Я готов был кричать от боли. Виденная у Гришки карточка с монахом и нагой женщиной, этот постыдный грех, сплетался во мне с белым монастырем у Троицы, с розовым огоньком лампады, с красными языками ада, с голыми грешниками, с дьяволами и бесами, с бородатым студентом, от которого пахнет трупами, и с чистенькой, белой Серафимой. Ее, на моих глазах, обесчещивал грязный и жуткий грех.
Сердце мое терзалось, разрывалось. И я заплакал. Лучезарная Зинаида, явившаяся моей душе, и многие-многие, слившиеся в одну, – в неизъяснимо-прелестный образ чистой и нежной девушки, или в другой, столь же прекрасный образ, только более яркий по красоте и обжигающей душу «тайне», – прелестной женщины, – все покрывалось чем-то ужасно грязным. В невыразимой тоске прижимал я к груди под курточкой ароматные ее письма, словно бы прижимал ее. Они уже там теперь! Он ее обнимает страстно, и у них отвратительный, грязный грех. А рядом – горят лампады, звонят к вечерне. В скиту старцы творят молитвы… И она, блудница, вся обнаженная, с распущенными прекрасными волосами, закрыла лицо руками, как на фарфоровой пепельнице, и разметалась. А он, с черной ужасной бородой, обнимает ее грязными лапами, шепчет всякие непристойности, как дьявол на той картине… и она бьется, молит, рыдает от омерзения. Но все напрасно: для нее уже нет исхода. Она – погибла.
Я представлял себе, что не в силах снести позора. Жизнь кончена. Единственно, что осталось, – смерть! Пусть же она почувствует!..
И я рисовал себе…
…Я внезапно опасно заболел. Пока она предавалась ужасной и мерзкой страсти, теряла свою чистоту и честь, я принял ужасный яд, от которого нет спасения. Яд этот действует медленно, но верно. Все перед ним – бессильно. Наш старый доктор Эраст Эрастыч, шатаясь от ряда бессонных ночей и горя, выходит из комнаты, утирая добрые старческие глаза платочком. Долго стоит в полутемном коридоре, не решаясь спуститься вниз. «Доктор, умоляем вас… скажите нам всю правду, не скрывайте! – упрашивают его плачущие родные. – Неужели нельзя спасти?! Он еще так молод! он не испытал ничего радостного в жизни, не знал любви… молодой и прекрасной женщины… это ужасно!.. Спасите его, доктор!» – «Увы, наша наука бессильна. Я подозреваю, что Тоничка принял какой-то ужасный яд! Может быть, даже страшнейший растительный яд кураре, который непоправимо делает свое страшное дело разрушения! Через два часа… – доктор вынимает свои часики с веночком на крышке, – самое большее – через три часа все будет кончено!.. Наука тут бессильна. Пригласите священника». И в этот миг, среди рыданий всего дома, – Паша бьется в истерике, уже не скрывая своей любви, а Гришка утирает кулаком глаза, – слышится пронзительный вопль: «О, пустите меня к нему, пустите!» Все расступаются и дают дорогу… Это – она!.. Она, с обезумевшими глазами, стремительно вбегает и падает на колени возле моей кровати. «О, великий Боже!» – вскрикивает она, ломая руки. Я последним усилием беру бледную ее руку и долго гляжу в глаза тускнеющим, уходящим взглядом. «Прощайте… – шепчу я уже коснеющими устами. – Будьте счастливы, если можете… при таких обстоятельствах… Да, я не мог пережить этого… позора. Ваш грех убил мое бренное тело… но душа бессмертна! Молитесь за… себя!.. А я… буду молиться там… там мы встретимся, в чистых одеждах, и новая, светлая любовь… соединит нас навеки…» Она падает замертво. Я подношу к холодеющим устам безжизненную ее руку. И слышу, как даже Гришка говорит, жалея: «Ка-кого человека загубила!» Кто-то шепчет угасающим голосом: «Кончается…»
Глухой грохот вырвал меня из сковавшей меня картины.
За окном зелень потемнела. Темное было за нею небо – туча. Закрапал дождик. Весенняя, первая гроза. Гром покатился долгим, глухим раскатом, как всегда это в городе, ру-хая по стенам и крышам, – не было ему раздолья. И грянул ливень.
Я вскочил и высунулся в окно, под ливень, – первой грозой умылся. Сразу запахло тополями, пылью… Паша выбежала на двор и, затиснув в коленки юбку, совала цветы под дождь. Выбежала и скорнячиха с гераньками и мозольным столетником, и сапожникова кухарка с фикусами в жестянках, и Гришка с громадным филодендром, который он повалил и обозвал «собакой», и наша кухарка Катерина, с лимончиками и бальзаминчиками в банках из-под грибков, и чья-то слабая старушонка с «бабьими сплетнями», и портнишки с месячными розочками в цвету, стрекотавшие, как сороки. Все суетились, срывались с лестниц, роняли горшки и толкали друг дружку в лужи. А дождь порол и порол по камню, смывая грязь, хлестал по стенам струнами, долбил по крышам, звонил-дребезжал по окнам. Ручьи бороздили двор, вышибало из желобов, било из сорванных труб с сараев, хлестало через крыши. Потемневший до сумерек двор резало синей молнией, освещало трескучим громом. Застигнутые ливнем куры ниточками стояли под сараем, обирались. Измокший смешной петух так и закаменел с расставленными ногами, – с него стекало. Сапожниковы мальчишки, завернув на голову фартуки, плясали в лужах. Разбуженный громом кучер стоял в конюшне, распялив в пролете руки, смотрел на дождь. Пробежал под рогожей Гришка. Оба вытащили кисеты, закурили. Стали махать кому-то:
– У нас не замочишься, иди!.. Сенцом прикроем!
Должно быть – Паше.
И так ударило, что все попрятались кто куда. Даже кучер с Гришкой захлопнули конюшню.
По промытому до белых камней двору бежали реки чистой теперь воды. Светлело, просветлело. Блеснуло солнце. В затихших лужах юрко купались воробьи, мальчишки пускали щепки. Встряхивались и выходили куры, запел петух. Вымытые цветы зазеленели, заблестели, заслышалась шарманка. Стало парить. Запахло тополями и березой.
XXXIV
Я вышел в залу. Заглядывало солнце – свет вечерний, обои золотились. Ходили золотые рыбки, тихо. Я подошел к окошку.
Булыжники промылись и уже белели, но у заборов еще сияли лужи. От воробьиной гомозни, на солнце, в ушах стучало. Воробьи слеплялись, комками падали с заборов и уносились с писком в листья. На тополях висел малиновыми червячками цвет, желтелся в лужах. Мороженщики звонко заливались; их дальний крик был удивительно отчетлив, тонок. Перекликались петухи с дворов. Певучая шарманка обрывала – и вдруг оказывалась близкой, громкой. Дворники щеголевато подметали мостовую, по-майски, – в ситцевых рубахах, в новых картузах, от Пасхи, в ясных бляхах и новых сапогах. От Воробьевки шли подводы с кирпичом и оставляли красную дорожку пыли. Возчики тряслись, болтали розовыми сапогами, ели ситный. Несли черемуху и желтые цветочки с кладбищ. Коров уже гоняли за заставу, и наш пастух Пахомов, выигравший недавно сорок тысяч, сидел на лавочке напротив, – поджидал быка. Он был нарядный, в новой синей чуйке, в дегтярных сапогах, в цилиндре, седой, но крепкий. Поглядывал к заставе и, шаря по карману, неторопливо выбирал и грыз орехи. Рядом с ним лежал ломоть ржаного хлеба с солью – для быка.
Я стоял между горшками фуксий в розовых висюльках. Напротив, в пастуховом доме, сидела у окошка «молодая». Она мне нравилась, и слово «молодая» звучало для меня как ласка. Я любил шептать, растягивая нежно: «моло-да-я»…!
Совсем недавно она сидела с матерью в лавчонке, рядом с Пастуховым домом. Там были кнутья, лапти, кисеты для карпичников, бутылки с квасом, копченые селедки, мешок подсолнухов, кадушка с дегтем, свистульки, сахарные петушки, орехи в банках, кубари в лукошке… Бывало, побежишь через дорогу и думаешь – увижу Маньку! Так все и звали: «мазаная Манька». Но скоро она выросла и растолстела. Гришка говорил: «Вот, телка стала!» Она мне нравилась – улыбкой, белыми зубами, волосами, молочно-золотистыми, как пшенник. Нравились и красные, как клюква, губы, замазанные сладким, и глаза, голубоватые, стеклянные, как у барашка. Она выглядывала плутовато, снизу. «Таращится, как кот на сало!» – смеялся Гришка. Я любил смотреть, как она крутит голубые бусы, балует ими. Бегали они неслышно, мягко, а шея извивалась, как гармонья, – и хочется погладить Вбежишь и скажешь в угол, где орехи:
– Подсолнушков мне на монетку!.. Манька непременно усмехнется:
– А, жени-их! А что ж орешков?… И почему-то станет стыдно.
– Ну, где карман-то?…
Потянет за кармашек и насыплет, всегда прибросит. И непременно пощекочет. Иногда шепнет:
– А целоваться-то умеешь? Ишь, глазастый… А губы близко-близко, даже стыдно.
Пахло от нее – как будто черносливом или дегтем. Всегда она жевала – пряники, стрючки, или хрустела карамелькой, облизывала пальцы и вытирала губы кофтой на груди, бодалась. Грудь у нее была засалена, и там переливалось и возилось. Глядишь на деготь, на кнутики, а там, где Манька, – светло-светло.
Как-то, года тому четыре, я забежал купить орешков. Летом было. Манька была одна и ела красную смородину горстями из корзины, запихивала в рот пучками, выплевывала ветки и кривилась. Увидав меня, она так передернулась от кислоты и вывернула губы, что стала страшной, словно ведьма. – Сладенького хо-чешь?… – сказала она, дергаясь и морщась, и вытерла об розовую кофту губы. – Уж и смо-ро-дина!..
На ее груди налипли ветки.
– Дай немножко… – сказал я робко.
Она захохотала, достала кисточку, – и так хлестнула по щеке, что ягоды размялись. Я растерялся и обтерся.
– Что, глазастый… сла-дко? И, дура, показала мне язык!
– Ну, давай орешков… – сказал я.
– Ишь, оре-шков! Разбогател, глазастый… Ну, выбирай… каких тебе орешков…? – потягивая бусы, сказала Манька.
Я смотрел на бусы. Она подтягивала их под грудь, таращилась, выглядывала снизу, затаенно, странно.
– Ну, что молчишь, глазастый?… – шепнула она ласково, кося глазами и потягивая бусы. – Таких тебе орешков… крупных, а?… – и ткнула в бусы. – Мягких… сладких?…
– Шпанских… – сказал я робко.
– Шпанских?… Ну, иди сюда…
Орехи были за прилавком в банках. Я вошел к Маньке за прилавок и стал раздумывать: каленых – или шпанских?… Вдруг Манька навалилась на меня, прижала в уголок и стала тискать. Я упал на ящик. Она нашаривала у кармашка и щипалась. Я зажал кармашек: не вытащила как бы деньги!
– Пусти… задушишь… – зашептал я в страхе.
– Шпанских, – шипела она в ухо, – глазастый, шпанских?!.
Я задыхался в кофте, сучил ногами. Она щипалась, покусывала ухо, шею, словно загрызть хотела.
– Шпа-нских тебе… шпа… неких?…
Я рванул за бусы. Посыпалось и заскакало.
– Пусти-и… – шипел я в кофту, – закричу!..
Я укусил ее за палец. Она пустила. Застегнула кофту.
– Выдумал чего, бесстыдник! Ишь, забрался… – сказала она глухо, кося глазами. – Поросенок.
Она смеялась, подбирая бусы. Лицо ее горело.
– Вот и покупай мне бусы… что?…
Глаза ее смотрели мутно, как у пьяной. Она взяла меня за подбородок.
– У, чертенок!.. – шепнула она нежно, затаенно. – А я-то думала… в женихи годится! Ну, шпанских, что ли?… – шептала она глухо, нанизывая бусы. – Порвал, чертенок… Ну, шпанских?…
– Ка… леных… – выговорил я чуть слышно.
– Ну, подставляй карман. Не бойся… Вот ей-Богу, не стану…
– Перекрестись…? Она перекрестилась и всыпала мне много – и шпанских, и каленых, и даже грецких. Прибавила стрючков и наказала приходить еще – «за шпанскими».
С той поры я опасался заходить, когда сидела Манька. А хотелось.
В лавочке любил сидеть старик Пахомов. Он восседал на ящике, в своем цилиндре, важно. Постегивал кнутом по стенке, по сапогу, зевал. Или пил чай из толстого стакана с кусочком сахара. Рядом лежало «лимпасе» в бумажке, и Манька грызла. А то попробует свистульки, как свистят. А Манька смотрит. Или возьмет на палец дегтю, сапог помажет, а палец оботрет о стенку. Манька скажет:
– А ну-ка, съешьте! Возьмет и съест. И хвастается:
– С твоего дегтю здоровее буду, смолодею! Бороду выкрашу. А ты чего такая, белая?
– А с дегтю!.. – засмеется Манька, глаза таращит. Забежишь, бывало, – Пахомов непременно скажет:
– А, «штаны навыпуск»… пора жениться! Хочешь, посватаю?…
И подмигнет на Маньку:
– Хороша невеста! А, «штаны навыпуск»? Не надо и перины. Посватать, что ли?…
Мне стыдно, а Манька ничего, смеется:
– Возьмешь меня, глазастый, замуж? Подсолнушков-то у нас сколько будет, орешков!..
Я побегу и непременно спотыкнусь на ясную подковку на пороге, прибитую «для счастья».
Недавно Манька стала – «молодая». В прошлый мясоед пастух женил Костюшку. Молодую привезли в атласно-золотой карете, в малиновой ротонде, с лакеем на запятках. Я стоял в толпе и любовался новой Манькой. Мне было грустно: куда-то уходила Манька от меня. Кругом шептались:
– Ка-ак срядили… со-лидная какая!.. Ка-кая, сопляку досталась!..
Я знал Костюшку. Бывало, мы менялись голубями, пускали змея. Он гонял коров с подручным, ходил оборванный и грязный, шмыгал носом. Гришка кричит, бывало: «Подбери товар-то!» Говорили, что на Афон уходит, спутался с монахом, «в житие читает»… И вдруг – женили!
Я глазам не верил. Костюшка – стал «молодым», нарядным, в манишке, в сюртуке, с цветочком в белых лентах. Он теперь казался совсем другим, необычайным, как будто приготовили его к чему-то, чего другие недостойны. Все в толпе одеты были, как обычно, – грязно, рвано; а Костюшка – в шубе на хорю, внакидку, – и в цилиндре! Цилиндр отъехал на затылок, тощее лицо, в прыщах, смотрело глупо, глаза стояли, как у мерзлой рыбы. Выпрыгивая из кареты, он наступил на шубу, ткнулся и побежал в ворота. Все засмеялись. Кто-то крикнул:
– Корова убежала! Шафер-москотилыцик воротил:
– Эй, а молодую бросил? Тащи под ручку!.. Костюшка воротился, разинув рот, и размахнулся, чтобы взять под ручку. Свалилась шуба. Все загоготали. Василь Василич похвалил хоря:
– Знаю, Пастухова шуба… хорь приличный! Старухи говорили: «Не к добру!»
Мне казалось, что Костюшке стыдно и что он хочет убежать от Маньки. А Манька выступала важно, как царица. Шептали:
– Молодая… молодая!..
Я сравнивал себя с Костюшкой и горделиво думал: «Вот я бы… – так прошел под ручку!» Подумал про шинель с бобрами, про чернобурую ротонду: «Вот бы Маньке!..»
Шлейф за ней тащил сын нашего трактирщика. Пашутка Рыжий, «реалист», в мундире. Он его так задрал, что были видны кружевца на панталонах. Гришка меня толкал:
– Гляньте, гляньте… Вот дак те-лка!.. Какому сопляку досталась…
Горничные попрыгивали на снегу, хихикали в передник, жалели Маньку.
– Сласть какая, с таким михрюткой. Девчонку только загубили…
– Взял за красоту, в одной рубашке. Все приданое старик поделал! Кровать какую, в розанах…
Я слушал жадно и словно видел – и кровать, и розаны, и Маньку, как она, в розанах, в одной рубашке…
– Вот привалило счастье!
– Старик вдову все спаивал. Придет к ним в лавочку – за полбутылкой спосылает! Она напьется, а он за Маньку… «Ступай за моего Костюшку, все тебе оставлю!» Сорок тыщ выиграл намедни, на билет…
На свадьбе играли четыре гармониста и труба. Я уже шел в гимназию, синело утро, а в пастуховом доме еще огни горели, и пьяный шафер выбежал к воротам и терся снегом.
Потом все говорили:
– А молодая-то, бедняжка… а?!.
Почему – бедняжка?… Гришка мне объяснял:
– Ну, Костюшка не может соответствовать. Как да как… Ну, неполноправный! Жаловаться даже к матери ходила. Понятно, самая-то «молодая», кровь горит. А Костюшка у них дурашный… Заладил: «Хочу и хочу в монахи!» Все в житие читает. Ну, старик его лупцует. А тот свое: «Грех, боюсь греха!» Ну, пастух учуял, ходит кругом ее… Он, понятно, может соответствовать, крепкий еще старик. Харч хороший, солонина всегда своя… И шут их разберет… как ночь – крик, шум, стекла летят-звенят. Намедни городовой уж приходил, справлялся… «чего у вас тут не выходит?» Все смеются.
Из окна я видел «молодую» и думал: «Грех у них… Кос-тюшку на богомолье отпустили после Пасхи, в Воронеж. Одни остались… „Грех“ у них теперь…»
Слово – грех – являлось для меня живым и страшным. «Страшный Суд», у Троицы, в соборе… Грех… Его я видел. Он был зеленый, в черных пятнах, Змий, огромный, в толстых кольцах, в черных и красных языках огня. По нем белели узкие полоски, кривые буковки чернели жутко: «грех»… «грех»… «грех»… В кольцах Змия – все гнездышки грехов, «местечки». Грешники страдали в кольцах, – в дыму и пламени. В одном «местечке» лежала молодая толстая блудница, с распущенными волосами. Рядом с ней – иссохший грешник, с седою бородой, весь красный. Над ними – черно-зеленый черт, с крылами, похожими на зонтик. Черно-зеленый грех тянулся, жирный, страшный…
Я знал, что в пастуховом доме – грех. Стоило взглянуть на диковатый дом напротив, с раскрытыми воротами, с навесами и сеновалом во дворе, – и я сейчас же видел… Жирный Змий, зеленый, в черных пятнах, лежит на доме, вытянулся дальше… В окошко смотрит «молодая», грехом обвита, – и не знает! Я вижу языки огня. А он, зеленый, с крыльями летучей мыши. Мне жутко: грех так близко!..
И в этот светлый вечер я смотрел. Сидела у окошка «молодая». Через дорогу мне было видно ее пышную фигуру в розоватом платье, пушистые кудряшки и красные, как клюква, губы. Я смотрел и думал: «Моло-да-я»!.. Она полулежала на окошке, на локтях, лениво поводила головой, глазами, лениво щелкала орешки, – как одалиска. Падали скорлупки за окошко, на пастуха. Старик Пахомов поглядывал из-под цилиндра кверху. «Молодая» встала, лениво повела локтями и потянулась сладко-сладко. Я затаился, чувствуя: вот – грех!
Со стороны заставы, где густо зеленело по заборам, шло стадо. Слышалось мычанье. Я высунулся из окна – какая впереди корова? Шла рыжая. Хорошая погода завтра! Переливались и качались спины, ревели морды. Посередине шел громадный, тупомордый бык, весь черный. Он подымался на дыбы, валился и опять вздыбался. Мне было омерзительно и жутко, – как становился он горбом над стадом. Чувство жути, грязного греха – мутило. Ну, так бы и ударил по слюнявой морде! Подручный сбил его кнутом и завернул к воротам. Старик Пахомов подзывал на хлеб, а «молодая», высунувшись в окно, кричала:
– Васюх… Васюх… Васюха!..
Бык тяжело вошел в ворота, заревел. В моих глазах зеленое струилось, черное пятно ревело. Тянулась из окошка «молодая»…
Ударили ко всенощной.
Я посмотрел на образ «Всех Праздников» – старинный, в золотом окладе. Посередине был Животворящий Крест. Мне стало радостно-покойно, и сонный огонек лампадки показался мне таким чудесным – аленьким цветочком! Я запел, вполголоса, без слов – «Кресту Твоему поклоняемся, Вла-дыко…» Ходил по солнечному залу, по «дорожкам», и запевал. Ходили золотые рыбки в аквариуме, в солнце, тихо, сонно. Зайчики играли от воды.
Волнение мое утихло.
Чем-то, в глубине, постиг я в этот светлый вечер, что есть две силы – чистота и грех, две жизни. Тихо ступал по коврику. Зеленые и красные полоски когда-то уводили далеко, куда-то… Теперь – все видно. Но почему же, в детстве, – далеко, теперь – все видно?…
Я вышел за ворота. Светло зеленело по садам, к заставе, – проснулось в ливне. Радостно смотрел я на сады, на небо – тихий свет! В церквах звонили – звон вечерний. Чудесно пахло тополями и березой. Было тепло и тихо. И в сердце – ласка: как хорошо весной!.. И грустно. Почему же грустно?… В благовесте я слышал песню – шарманка заводила где-то:
XXXV
Она уехала…
Окна ее квартиры, с кисейными занавесками, в гераньках, были открыты, тихи: чудилась пустота за ними.
У ворот сидел Карих, засунув в карманы руки, смотрел ежом. И он одинок, тоже?… – подумал я. И зеленая улица показалась мне вся печальной. Пройти в Нескучный?…
Вечер был тихий, зелено-золотистый. Такие вечера бывают в мае, после дождя. Хотелось бродить, мечтать. Я прошел далеко, к заставе. Вот и Нескучный, бесконечная желтая ограда. За ней густело, зеленело глянцем березовых листочков. Клены золотились нежно, молочным цветом. Липы еще чернели, но после дождя проснулись, задымились, стояли в сетке, в розовато-зеленых мушках. Тянуло густо черемухойглушило. Грузно она мерцала белым, кисти ее обникли, отцветали. Я вспомнил Пашу: умывалась черемуховым мылом! Я шел и мысленно напевал – «Видевше свет вечер-ний… поем Отца-а-а…» И зелень как будто пела своим молчаньем. Я приостановился и послушал: не слышно ли соловья в глуши?…
Как будто – чокал?…
Было совсем безлюдно. В старых, развесистых березах краснелось солнце. От сада доносило струйки, – чем-то душисто-тонким, розоватым. Не жимолость ли начинала распускаться?
Купы загадочно дремали, обещали…
Налево, за широкой луговиной, шли домики посада. Над ними золотились клены. Я смотрел в очаровании и грусти. Здесь, против Нескучного, когда-то, стоял тот домик, с колонками и садом, резвилась Зинаида…
…Где-то она теперь? Она не могла состариться, превратиться в сухонькую старушку или ожиревшую старуху. Она могла умереть трагически, сгореть от страсти, но ходить с ридикюльчиком к обедне, вязать всякую чепуху, в очках…! А может быть, вышла за какого-нибудь графа, живет где-нибудь в Италии… В Италии – все красавицы. Во всяком случае, лицо ее и в старости прекрасно, ни одной морщинки, локоны снежно белы, и только в глазах, как у Минервы, – холодность, строгость. А ей на смену сколько явилось новых прекрасных женщин, полных неизъяснимой прелести, обаятельно жгучей тайны! Сколько прелестных девушек… Может быть, и сейчас даже, в этих простеньких домиках, таятся перлы!.. Может быть, от их связи остался кто-то…? У Тургенева ничего не сказано, а очень интересно… Что она, была уже женщина, когда целовала ему руку?… И за что он ее ударил? Положим, хлыстом ударил… И она же поцеловала ему руку?! За что?! Что она требовала безотчетной любви и полной отдачи страсти? Да, она требовала и имела на это право. Она все отдала ему! Она перешагнула через пошлые предрассудки, она пожертвовала собой во имя любви!.. О, лучезарная, дивная из всех женщин!..
Я мечтал, медленно проходя вдоль сада, глухой стеною.
«И вот, и в моей мрачной жизни явилась она, прекрасная, чудная Серафима, полная женской тайны, и я пробудил в ней что-то! Она же пишет: „вы вносите в мою душу смуту, что-то во мне затронуто, какие-то странные ощущения!“ Боже мой, неужели она еще никогда не любила так, неужели ей еще незнакомы эти жгучие ощущения, и я своим страстным чувством разбудил в ней таинственное, что скрыто в женщине?! Но почему она написала, что она – уже „сложившаяся женщина“? Физически – сложившаяся или психически, так сказать – морально, нравственно? Надо разуметь последнее. Как поется, на слова Пушкина, – „В душе настало пробужденье, и вот опять явилась ты…!“ Явился я… – и зажег в ней, „как солнца луч среди ненастья, и жизнь, и молодость, и счастье!“ И во вторник все объяснится…»
Я смотрел на вершины сада. Они дремали, словно хранили тайну. Соловьи уже начинали робко, нежно пускали трели. От затаенно-сладостного их чоканья томилось сердце. Пели они, должно быть, над самой глушью, у «Чертова оврага».
Мы пройдем к самому оврагу, где зыбкий мостик. Сколько там всего было!.. Какой-то студент Ребров застрелился на мостике от страстной любви к княгине, был у нее репетитором. Княгиня сошла с ума. И до сих пор барышни вешают веночки на ветви дуба, под которым студент лежал. Весь дуб изрезан, брали кору на память!.. Какая-то даже написала: «если бы ты из-за меня!» Какое чувство!..
Я вспомнил мостик и черные перильца. На столбике вырезаны стихи. Мы списали их с Женькой себе на память:
Подписано – «Эдип». Я жалел, что в прошлом году сменили столбик и стихи уничтожили. Я бы показал ей и спросил бы, что она думает о любви. Не все, конечно, смотрят пессимистически, но, по крайней мере, здесь нет цинизма! Стихи трагичны и изобличают в авторе, может быть, даже в самоубийце-студенте натуру вдумчивую и глубокую, отравленную горечью любви. Она – графиня, он – простой студент-бедняк, дороги их слишком разны… И стихи подкупают благородством чувства, искренностью… А ниже какой-то «Сенека», вроде бородатого болвана, написал пошлость, изобличающую в авторе натуру легкомысленную и циническую, не вдумывающуюся в кардинальные вопросы жизни. Он написал:
Когда мы списывали с Женькой в прошлом году, я решительно заявил, что скорее склонюсь к мнению о любви – «Эдипа», а не к размениванию чувства на всяких там «Маш и Люб», как это у «Сенеки». Женька заспорил и назвал «Сенеку» гениальным человеком.
– Прямо мефистофельское отношение! – обрадовался он чему-то. – Фауст ка-кие вопросы решал, а он подсунул ему Маргариточку да еще глупенькую, – весь Фауст и скапустился!
– Это ничего не доказывает, и ты – болван! – рассердился я. – У Фауста из любви трагедия получилась… то есть у Маргариты! Да и у Фауста!.. Черту душу продал, а не получил любви на полтинник! Это твой «Сенека» сидел под липкой с портнишками…
– И я бы посидел!.. – сказал Женька. – Нет, гениальный человек! Так и Наполеон смотрел.
– Нет, – сказал я, – тогда никакой поэзии, и все эмоции слез, страданий и радостей, – для чего даны? А чичиковское отношение к жизни, как только приобретателя, – пошлость и торгашество! Все за деньги купить можно? и Машу, и Любовь? И сидеть под липкой?! Чу-вства нельзя купить! «Эдип» заплатил кровью! Графиня сошла с ума!.. Вот что значит любовь.
– Оба и дураки! – сказал Женька и потом всю дорогу напевал «Сенеку».
Теперь я еще более уверился, до чего я был прав тогда. Пусть Женька купил бы ее любовь! Она ему отписала. А что назначила свиданье на завтра – ясно, что посмеялась. Ее же нет…
Меня потянуло в сад, но что-то меня держало. Нельзя нарушать очарования! Там будет первая моя встреча с любимой женщиной, с первой женщиной, встретившейся мне в жизни. И пусть в первый раз в эту дивную весну моей жизни, когда я узнал любовь, я войду вместе с нею! И я нежно скажу любимой: «вы – первая женщина, с которой я так вхожу в этот таинственный, полный немого очарования и тайны, исторический сад, где каждый укромный уголок, каждая уходящая в глушь тропинка, беседка, скамейка и эти темнеющие аллеи говорят только о любви!» Как это восхитительно-чудесно будет: «вы – первая!»
Так мечтая, я вынул ее письма. Они по-прежнему одуряюще-дивно пахли. Я перебегал по строчкам, вылавливая любимые: «я знаю, что вы хорошенький»… и готова расцеловать вас, ну, пусть даже – «как женщина»… «вы будите во мне странные ощущения»… «в каждой женщине есть вакханка»…
Вакханка… Это значит – отдающаяся безумной страсти? Они, обнаженные, бегали по полям и холмам, ночью, с горящими факелами, и кричали в исступленном безумии – «эвоэ»! «Грек» Васька так и не объяснил, для чего они это делали. Прошепелявил только: «Ну, это, изворите ри видеть, да-с… к деру не относится! Просто сумашедшие женщины, симвор пороков, исчезнувший с появрением образования и христианства-с…пьяные бабы-с, крикуши-с!..» Но мы отлично поняли, когда намекнул Фед-Владимирыч, что это – «праздник богу Любви, как у предков наших, славян, – Яриле! Любовь просыпается весной! Понятно?…» – «Понятно!» – ответили мы хором. «Ну, то-то!.. – усмехнулся Фед-Владимирыч, – но вам, молодые люди, рановато… надо сперва экзамены-с!..»
Они метались, а сатиры на козлиных ногах, «крепкие телом», гнались за ними. И они, загнанные в леса сатирами, отдавались любви, как жертве!.. Боже мой, неужели и она тоже, как вакханка?! Пришел ей срок, и она отдалась сатиру, этому бородатому болвану?., и – толстяку?…
Очарование вечера и весны пропало. Захотелось – скорей туда. Вдруг подхожу и вижу: она – в окошке! Целой компанией вернулись!., просто в Сокольниках гуляли…
Я поспешил вернуться. Окошки были по-прежнему открыты. Глядела на улицу толстуха. Я снял фуражку в надежде, что она мне скажет: «а знаете, Симочка-то вернулась!» Но она сказала:
– Гулять ходили? Воздух-то уж очень… гигиена!.. Дура! И я ответил:
– Немножко к Нескучному прошелся. Передайте привет, пожалуйста…
– Будьте спокойны, – ласково ответила толстуха. – Может быть, к вечеру завтра и вернется. Отстоит обедню…
Меня охватила радость. «Отстоит обедню!» Может быть, она просто поехала молиться? Девушки, когда любят, ходят по сорок раз к Иверской, обещают!.. И она захотела помолиться…
XXXVI
Паша сидела на крылечке. Рядом сидел конторщик, читал газетку.
– А мы с «Чуркиным» увлекаемся. Осипу-то, читали?… голову размозжили! – заторопился Сметкин. – Прекрасный вечер-с!..
– Михаил Васильич очень читает!.. – сказала в восторге Паша. – Чисто как шьет машинка!..
– Немножко все-таки грамотны… – сказал приосанясь Сметкин.
Я постоял, помялся. – Поздравьте-с… – сказал горделиво Сметкин, смотря на Пашу, и меня почему-то испугало. – Красненькую прибавили! Полсотни-с получать буду!..
– Михал Василича очень хозяин ценит… – сказала Паша. – Прямо, капитал громадный! Жениться можно… Будете, что ль, жениться?
– При известных условиях, конечно! Могу жениться. Больше околодочного получаю. Раз знаешь итальянскую бухгалтерию, – могу и сотню!
Он нагло хвастал.
– Ах, Михайла Василич… да уж читайте дальше!.. – ломалась, как дура, Паша. – Или погулять пройдемтесь?… – услыхал я, идя сенями.
– Хотите, промчу к Нескучному?… Я приостановился.
– Нет, когда со двора пойду, тогда уж…
Я поднялся к себе и лег на подоконник. Крылечко было за уголком. И вдруг услышал:
– А вот за это!.. Крикнул как будто кучер?…
– Вы… не имеете права драться!.. – закричал Сметкин с плачем. – Не имеете… не смеете!..
– А вот сме-ю! Я ттебе… ноги поломаю, сволочь!.. – сказал кучер. – А вот тоже!..
– Я сейчас в часть пойду!.. – жаловался плаксиво Сметкин. – Я вам не позволю нарушать… прикосновение личности!
Я слышал, как орала скорнячиха, смеялся Гришка, резо-нил Василь Василич:
– Вы, Степан Трофимыч, рукам воли не давайте! Ежели племянник ко мне ходит…
– Что ж он, с людями слова сказать не может?! – кричала скорнячиха. – К девушке подошел молодой человек… Жена ваша?!.
– А может, она ему милей жены?! – смеялся Гришка. – Имеет полное право.
– Ты-то уж молчи, трепало! А она, может, сама с Мишей!
– Нет, тетенька, этого я так не оставлю! – храбрился Сметкин. – У меня околодочный Семен Андреич друг-приятель!.. Я протокол составлю!
– Боюсь я твоего протокола! Я тебе сказал… ноги поломаю! – спокойно говорил кучер. – Вон городовой идет… Да что, дурака ломает! Ты, Иван Акимыч, меня знаешь… Ходит по чужим дворам, пристает к девчонке. Я тебе сказывал. Девчонка от него плачет…
– Не годится, Михайла Василич, скандал делать! Ходи по своему двору… слова тебе не скажут… – узнал я городового. – Не годится скандалу делать, пристав ходит. Ну, свои люди… неприятностев не надо. Девчонку тоже… срамить не дозволяется!..
– В полпивной сидят вместе! Я сама приставу пожалюсь… – кричала скорнячиха.
– Ну, не шумите, не шумите, Марья Кондратьевна… вы лучше помои-то не лейте в нужник! Да двои у вас без прописки сейчас живут… Я вам ничего не говорю, раз свои люди, знакомые. Чего там, пристав ходит.
Немножко пошумели и затихли. По коридору прошмыгнула Паша. Она еще с самого начала прибежала и, должно быть, подслушивала в окошко.
– Как тебе не стыдно, Паша! – сказал я ей. Она мотнулась, словно ее кольнуло.
– Чего это такой – не стыдно?!. Вы-то чего, всамделе? Что я вам, подначальная досталась? Какой папаша!.. Вы лучше за собой глядите, в дрязги лезут!..
Она меня прямо закидала. Ко мне даже не обернулась, стояла боком, крича к чулану. Кудряшки ее дрожали, горели щеки. Я с удивлением увидел, что она и сегодня в новом, в голубенькой матроске! Она стала как будто выше, стройней и краше. И я подумал: какой же у нее изящный носик!
– Ты же себя срамишь… чуть даже не целуешься с мальчишкой… я слышал! Сама тащишь его гулять? Я слышал!..
Она кинула мне в лицо:
– А вам досадно? А когда с другими целовалась… не страмилась?! Бессты-жие!.. По бабкам ходят… Вы лучше за собой смотрите! С кем хочусь, с тем и волочусь!
– Да как ты смеешь…? – смутился я. – И ведешь себя, как такая…
Она скакнула ко мне «сорокой», я даже испугался.
– Какая я такая?! – крикнула она злым шипом. – Вы меня где видали?! Со мной гуляли?! Что ко мне дураки-то лезут, так – такая?! Почестнее вашей шлюхи!..
– Не смей оскорблять её! Не смеешь!..
Я поднял палец. Она вдруг плюнула и растерла.
– Шлюха и есть шлюха! Нате вот вам, отдайте… вашей шлюхе!..
Она сунула руку за матроску и вышвырнула клочок картона.
– Не надо… – зашептала она, закрывая лицо руками, – не надо вашего ничего… не надо… ду-ра!..
Я узнал свою карточку, которую она стащила из альбома.
– Ааа… – услыхал я всхлипы.
Она уткнулась в стену. Плечи ее дрожали, трепетали. Меня пронизало болью. Я подошел, коснулся… Она рванулась:
– Оставьте… не трожьте меня!.. – всхлипнула она громче и затряслась по-детски. – Не тро… жьте… ох, не трожьте!.. ой, не могу… закричу сейчас… не трожьте!
Я страшно испугался, растерялся. Такое же было у тети Маши, когда расстроилась ее свадьба с паркетчиком. Она закричала курицей и хотела скакнуть в окошко.
– Паша, голубушка… миленькая, не плачь… ну, Паша… – успокаивал я ее, поглаживая по кофточке.
Она стала еще сильнее плакать. Я почувствовал жалость к ней, что-то еще сильнее, – и мне захотелось ее обнять. Я обнял ее за талию. Она затихла.
– Пашечка, успокойся… это все глупости… – бормотал я в волнении, чувствуя, как она дрожит. – Ах, Паша…
И я поцеловал ее возле ушка.
Но тут… пол подо мной поехал, словно меня ударили.
– Вот так… пре-красно!.. – услыхал я ужасный голос.
У лестницы из столовой стояла тетка, как привидение! Она держала полосатую подушку и зачем-то качала ею. И головой качала. Паша пропала, юркнула в свою каморку. А я остался. Осталась и тетя Маша, качала своей подушкой.
– Поди-ка сюда, господин хороший…
И поманила пальцем. Я подошел покорно.
– Это… что же?… – сказала она, как мертвая.
– Ужасная история, тетя… ужа-сная!.. – угрожающим голосом сказал я. – Она чуть не умерла! Она… – я уже нашел выход, – лежала без помощи на полу, в истерике… Я выбежал из комнаты и подал помощь, как… беззащитному существу…
– Что ты мне…? – горячо зашептала тетя Маша, – я сама видела, как ты… сделал это?!
– Что же я такое сделал? Не понимаю… – горячо зашептал и я. – Я, я поднял и… стал уговаривать…
– Ты… ее… целовал! – выговорила с трудом тетка. – Ты занимаешься… развра-том?! С таких лет… У тебя с ней роман! Ну-ну… я уж теперь… У тебя… ро-ман?!
– Роман?! – в ужасе вскрикнул я, и слово «роман» показалось мне страшным. – Вы ска-же-те… Вот, могу перекреститься! – и я перекрестился. – Я ее уговаривал, шептал ей – «успокойся, не придавай значения»! Вы сами понимаете, милая тетя Маша, что для невинной девушки значит, когда оскорблена ее честь! Да, ей нанесли ужасное оскорбление! Сейчас на дворе… Можете спросить Катерину, скор-нячиху… В Пашу влюбился Мишка, а кучер ее ударил… все ругались. Паша прибежала и ляпнулась, стало ее трясти, в истерике!.. Я первый пришел на помощь, бросил даже заниматься геометрией!..
– Пойдем к тебе… – сказала тетка, махнув подушкой. Она притворила дверь.
– У тебя… с ней… ро-ман! – сказала она холодным тоном, словно приговаривала меня к смерти. – Изволь мне сказать всю правду… Нет, ты прямо гляди, не саркастичествуй, а прямо… я твоя тетка… У тебя, с ней, роман! Да, ро-ман!..
– Не оскорбляйте невинных девушек, тетя Маша! – поднял я руку к небу и погрозил. – Клянусь всеми святыми, что…
– Ты с ней… – она опустила глаза к подушке, – не… У вас ничего нет?
– Ровно ничего… не понимаю, чего вы меня пытаете!.. Если бы вы упали, я первый полил бы вас водой… и постарался успокоить!
– Ты успоко-ил бы!.. Я тебя, перца, зна-ю!.. – и она потянула меня за нос. – Вот что… Повторяй за мной: «Перед Богом клянусь…»
– «Перед Богом клянусь…» – тревожно повторил я, стараясь понять, что будет.
– …«что я провалюсь…» Повторяй, повторяй…
– Ну… «что я провалюсь…»? – повторил я отчаянно.
– …«если я соврал, что у меня ничего не было»!
– С удовольствием! – крикнул я, веря, что у меня ровно ничего не было. Разве целоваться – что-то? – «Если я соврал, что у меня ничего не было»! – И я даже добавил: «с Пашей». Ни-чего предосудительного!.. Могу поклясться жизнью!..
– Ну, теперь я спокойна… – прошептала тетка, пытливо смотря в глаза. – Помни, Тоня, что это в твои годы очень вредно. Ты можешь иссохнуть, как мумия… и умереть даже! Вася Кашин от этого и помер…
– Вы можете спросить Катерину, как там дрались, а Паша убежала. Я не могу видеть женских слез, тетя, я готов кричать… и мне стало так, жалко невинную сироту, что я готов был даже целовать ее… как ребенка…
– Я знаю, что у тебя доброе сердце…
– Надо же защитить невинную женщину… то есть девушку!.. И сказать, наконец, этому мужчине, чтобы он не смел оскорблять публично… У нас не трактир! – с возмущением сказал я, чувствуя нежность к Паше. – Тетя, употребите ваше влияние… вы сами понимаете, что для девушки добрая честь… И увидите, что Господь пошлет вам счастье! увидите, тетя Маша!..
– Это делает тебе честь, и я употреблю влияние… – проговорила задумчиво тетя Маша, и я услыхал, как кто-то поскрипывал за дверью.
Она, наконец, ушла, и я горячо перекрестился. У меня ничего же не было! После ужина ко мне заглянула Паша, в розовой кофточке.
– Ну и хитрущий вы! – сказала она, смеясь. – Я все слыхала…
Я учил геометрию. Приход Паши меня встревожил: опять, пожалуй, начнет про «шлюху». Она стала приготовлять постель.
– Ну и хитру-щий!..
– Вовсе я не хитрущий, а…
– …злющий, – сказала она шутя. – Пытала меня за вас Марья Михайловна… креститься заставляла! Перевести меня вниз хотят. Катерина ей наболтала бо-знать чего, Марье Михайловне… «ломовик» ей все жалился, Катерине-то…
– Чего он мог жаловаться?
– Сами знаете…
Она вдруг подбежала сзади, обняла и поцеловала в лоб. Я отстранился. Она посмотрела с болью.
– Тетка подслушать может… – шепнул я ей, играя ее рукой.
Она выпорхнула из комнаты. Я представил ее «сорокой», в голубенькой матроске…
– На лестнице скрипит что-то… – шепнула Паша, заглядывая из коридора.
И пропала. На лестнице скрипело. Я раскрыл готовальню и вынул циркуль.
– Не спишь еще?… – пытливо спросила тетка.
– Поспишь тут, с чертовой геометрией!.. Тысяча чертежей… – тыкал я циркулем, – концентрические окружности, сегменты, хорды, секторы, касательные!.. Можно с ума сойти. И со всякими пустяками пристают.
– То-ня… – сокрушенно сказала тетка. – У меня болит сердце, за тебя. Поклянись, что у тебя… нет с ней…
– Чего у меня нет?! – с недоумением спросил я.
Она покачала головой, словно прощалась со мной навеки.
– И ты не знаешь, что я хочу сказать?…
– Не знаю…
– Ты… не знаешь?! – впивалась она глазами. – Неужели ты и в самом деле еще не знаешь?…
– Уверяю вас, не знаю. Объясните, пожалуйста…
– К Паше… ты ничего не чувствуешь?…
– А что же мне к ней чувствовать? – сказал я, глядя на потолок, словно решал задачу. – Я ее не ругаю… Только не люблю, когда она убирает на столе, путает мои тетрадки! Если бы у нас был лакей… Лакеи всегда понятливей.
– Ну, учи екзамены, Бог с тобой. Ты добрый мальчик. Она перекрестила меня и пошла к Пашиной каморке.
Минут через десять она ушла. Сейчас же вьюркнула Паша.
– Тоничка, Тоничка… вы знаете? что она мне сказала!.. – фыркала Паша в руки, – сказала, что… – она перегнулась и замоталась в смехе, – сказала… что вы… младенчик!., ничево-шеньки-то не знает!..
Я только теперь увидел, что она опять в голубенькой матроске.
– Нравится вам, ка-кая?… – повертелась она «сорокой». – Я знаю, мужчины любят… все барышни пошили!
Она подошла так близко…
– Паша… – прошептал я, – ты, прямо… – вертелось в голове – «вакханка», но я сдержался, – прямо, весенняя…
Она протянула руки, и мы зацеловались.
– Опять любишь?… Никогда не разлюбишь?… Мой будешь…? – шептала она, целуясь.
Я ничего не слышал. Она метнулась. Я видел ее кудряшки, заломленный воротник матроски…
– Боюсь, еще подкрадется… – шепнула она от двери. – Ми-лый!..
Она поцеловала воздух и пропала.
Я долго не мог заснуть. Лежал и думал: «Но ведь я же люблю ее! это же преступно, – любить двоих?»… Но Паша совсем вакханка… Кажется, шептала… – «приду к тебе…» или – «можно прийти к тебе?…»
XXXVII
Приснилась Паша. Подошла к двери и открыла. Стоит, не входит. Она полураздета, в одеяле. Словно чего-то ждет. В коридоре совсем темно, и что-то там есть, опасное, – будто бы тетя Маша или кучер. Я показываю – иди скорей! Мне мучительно хочется, чтобы Паша скорей вошла – и сейчас же на ключ запремся. Но Паше, должно быть, стыдно. Одеяло на ней лоскутное. «Куплю ей одеяло, как у тетки, стеганное цветочками, розовое!» – подумал я. А Паша стоит и манит: скорей идите! Мне стыдно, что я раздетый, и захватывающе приятно, до щекотки, что Паша хочет войти ко мне… И я полетел, как птица. Такая радость!.. Стоит ударить ногой, подпрыгнуть, – и вот я легко летаю, плыву, как воздушный шар. Полетел к Волокитину и сел у дома. Виден наш сад с березами. Хочется крикнуть Паше: «Смотри, летаю…!» – как вдруг выбегает Волокитин, в одной рубашке, и прямо бежит, где Паша. Я хочу полететь на помощь, но ноги мои увязли. А там – орут!.. Волокитин орет ужасно. Это его бьет кучер?… Может совсем убить!.. И я просыпаюсь в страхе.
Кто-то орет ужасно, звериным воем. Кричат голоса, свистки. Драка на улице?… За дверью кричала Паша:
– Тоничка, Тоничка!.. Господи, убили кого-то там… в фортку слыхала, кричат – убили!..
«Конторщика убил кучер?!» – подумал я, и меня затрепало лихорадкой.
– Тоничка… я боюсь, пустите… ради Бога, Тоничка! Как я ее пущу… раздетый?
– Погоди, сейчас…
Я совал ноги в куртку, схватил шинель. Паша, в одной юбчонке, стояла и дрожала. Было часа четыре, в комнате уже рассветало.
– Кого-то там убили, у пастуха… Кричат как, слышите?… На улице кричали. Кричали из столовой: «Паша!.. Паша!..»
– Беги, Паша, – сказал я ей, а зубы мои скакали, – тетка еще застанет…
– Туда еще погонят, боюсь!.. Но она все же побежала.
Пробило внизу – четыре. Я оделся и вышел в залу. Наши, все в одеялах, глядели в окна.
– Да что случилось?… – спросил я крестившуюся тетку. Но она только отмахнулась. Паша побежала одеваться, – должно быть, ее погнали за вестями. У пастуха в окошках горели лампы и, видно было, ходили люди. На мостовой толпились. Гришка кричал с дороги, сияя бляхой:
– Враз, обеих!.. – хлопнул он себя в голову. – Колуном. Так рядком и лежат в кровати, как уснумши!..
– Господи!.. – перекрестилась тетка.
– Кого же убили, тетя?… – дернул я ее за руку. Желтое ее лицо позеленело, она на меня ощерилась:
– Ну, убили!.. Пастуха убили…
– И «молодую»… – сказала сестра, прочитавшая все романы. – Убил Костюшка…
– И молодую?! – в ужасе вскрикнул я. – Костюшка?!
– Я так и знала, что должна быть драма, трагедия… – говорила с собою сестра. – И все отлично знали, что старик с «молодой» живет… Какой ужас!..
– Ли-да!.. Аль на фа па дир! – сказала тетка, подумала и заплевалась.
Я выбежал на мостовую. У ворот было трудно протолкаться, весь двор сбежался. Рассказывал что-то Гришка, но его позвали:
– Еноткина пристав требует!..
– Григорий, тебя!.. на допрос велели, к приставу! – тревожно-радостно закричали люди.
– Ступай трепаться!..
– Сейчас, докурю маленько!.. – сказал Гришка, затягиваясь и сплевывая спешно. – Заканителют. На меня первым делом выбег, дежурил я… Гляжу, бегет человек с колуном через дорогу, в одних исподних… кричит: «Грех убил, берите меня в часть!» Ну, я его зацапал… он мне колуном всю поддевку кровью измазал… вон она, весь подол… Смотрю – Костюшка-сопляк, так!.. «Обеих, – говорит, – наказал!» – И давай креститься, а потом завы-ыл, не дай Бог. Да сейчас!.. Иду, докуриваю…
– Так и надо! – кругом галдели, – снохача!.. Манюшку жалко, бабенка была ласковая…
– И ей поделом, дуре… на что польстилась!..
– А… человека нету?… Надо и в ее положение…
– Про мертвую-то так!.. – укорила скорнячиха, – чего уж теперь зря болтать, за все теперь отквитались.
– И ничего не отквитались! Их теперь там, за такие дела, прямо… черту в лапы угодили!..
– Вот те и со-рок тыщ! Счастья не принесли…
– Как так, не принесли? Какую птичку-то прихватил… – весело говорили скорняки.
– По заре-то свежо-то как… Спать, что ль, пойти?… Не пускают туда-то?…
– Пристав прибыл, воспретил, а то пускали. Тащить уж начали, городовой с сапогами захватил, дал по шее щеточнику!.. Говорит – на помин души!..
– Сказывали, покрестился сперва на икону, лампадочка горела… А они не чуют, лежат рядышком под одеялом, на его кровати! Вон, Митрий видал. Митрий, ты как видал?…
– Очень хорошо видал, – сказал Митрий, бараночник. – Кручу баранки, гляжу… человек кричит: «Уби-ил!..» Не своим голосом, а как в ведро. Думаю, пьяные подрались, пой-тить посмотреть. Выхожу к воротам, – Григорья наш возится с каким-то мужчиной, у мужчины колун в руке, ржавый словно. Значит, кровь на нем, по заре-то… Я смотрю, а они все мотаются. Рубаха на мужчине белая, залита будто краской. А они все волочутся, друг дружку тянут. Энтот кричит – в часть веди, а Григорий его не желает уводить, – не имею право с убийства отойтить! Свисток подал. Сейчас за городовым, пристава разбудили… А мы глядеть побегли. В сенях его работник Алешка плачет. Я, говорит, и знать не знаю, спал – не слыхал. На дознание его! Пришел, говорит, Костюшка, в одиннадцатом часу, с машины. А те уж спали. Пастухов работник ему предупреждает: «Не ходи кверху, они теперь спят обязательно вместе, а тебе не советую!» Ну, чтобы греха не вышло. А то как он сразу вшел бы да захватил, уж тут не миновать. Ну, он будто ничего, только покрестился, пошептался. Стал он его чаем поить, самовар поставил. А Костюшка просвирки повыклал, образочки всякие, и все крестился. Чайку попил, а сам бле-дный. И все на потолок смотрел, кухня-то у них как раз под горницей, где они лежат. Лексей спать лег, а Костюшка молиться стал, – грех ихний замаливать! Чудной он… А потом неизвестно. Городовой нас пропустил – поглядите! Лежат рядком, волосы только из-под одеялки, а над ними лампадка коптит. Меду хорошего две бутылки на столе, мятные пряники. Тут Степка, сукин кот, допил одну бутылку, пряники тоже расхватали, на память. Пристав всех и погнал. Протоколы пишут.
Я увидал Кариха. Он был страшно взъерошенный, ко всем приставал и кричал: «Что женщина может! Скольких на свете погубила!» Почему-то взял меня за пуговку шинели и повертел. Я даже испугался. Потом уцепился за портниху, которая с околодочным… Портниха отмахивалась, и все смеялись, но он стал ей рассказывать:
– Свяжешься с такой… капиталы растранжирит, любовников наведет, грязь разведет… а снаружи чистенькая, хорошенькая, а сто бесов! Вас всех в святой воде надо окунать, перед венцом! Вы не гримасничайте, я к слову так, а не задеваю по личности. Они секрет имеют на мужчинов! в голову чего вставит – только она и видится. Имейте в виду, я человек на практике! Вста-вили-с! И с петухом было мнение, а теперь дознано! Она… – показал он на жуткий дом, – убийственно сваталась за меня, но я ее отверг! Было у меня мнение! Она неудержная, и такой породы… стыдно говорить в глаза женскому полу. Иверскую надо пригласить, и по всем домам чтобы молебны. Десятого числа пригласил, а то нельзя.
– Ладаном кури больше, Кондратьич! – сказал Василь Василич. – Как с петухом-то, наладился?…
– Петух… Не в петухе дело, а… для раздражения! Они планы имеют, имейте в виду, я на практике достигаю…
– Вот, тоже, – сказал кто-то возле меня, – в опасности человек, а ходит! Возьмет так же вот струмент какой да за здорово живешь и втемькает! У него отец в сумашедшем доме помер, кабак держал.
На улице была ярмарка. Пришел с пышками парень из трактира, расторговался. Потом появился сбитенщик с калачиками и круглым самоваром на долгой дужке, кричал: «Кому сбитню горячего, за упокой помянуть? пастух-покойник, царство небесное, всегда заказывал!» Народу прибывало, и все гудели. Ворота у пастуха закрыли. Слышно было, как бык ревел: шум его напугал, должно быть. Дикий пастухов дом казался мне совершенно черным: может быть, от рассвета, или от ламп в окошках. От жути и от холодной зари зубы мои стучали.
– Шли бы вы спать, Тоничка, чего глядеть… – сказал мне Василь Василич. – Теперь все сниться будет, нехорошо. Казалось невероятным, что Маньку и пастуха убили! что их и на свете нет. Только вчера я видел, как она тянулась из окошка, розовая и белая, с красными яркими губами, красавица, молодая, Манька! Теперь… под лоскутным одеялом, в грехе, и неживая. «Молодую» положат в гроб! И – страшная будет Манька, не женщина. И душа ее вся – в грехе… не беленькая и чистая, которую я видел в поминаньях, взирающая на муки с трепетом, стоя на облачках с ангелом, ручки крестом сложивши, а раскаленная докрасна, с лицом, искаженным мукой, душа-блудница! Я смотрел на дом пастуха и мысленно видел – грех. Зеленый, жирный, черно-пятнистый Змий вытянулся на доме, на сараях, ползет повсюду, опутывая своими кольцами, – грязный, поганый Грех. В петлю попала «молодая», и с ней – пастух. «Молодая» – как та блудница, на «Страшном Суде» в соборе. Похож и пастух – седой. Тот был ужасно тощий и ростом с куколку, а пастух здоровый, в поддевке и в цилиндре. Но теперь и пастух, как куколка…
– А, и вы, молодой человек, любуетесь, – услыхал я скрипучий голос.
Это спросила Пелагея Ивановна, в ковровом платке, по-бабьи.
– Ужасное происшествие! – передернула она плечами. – Симочка, хорошо, не видит… ужасно нервная она.
– Да, ужа-сно!.. – сказал я с жутью. – Это ненормально. Люди должны нормально относиться…
– Совершенно верно. А грех-то вот и… – выпятила Пелагея Ивановна губы, – смутил!..
– Да, ужа-сно! – вздохнул и я. – Я счастлив за вашу дочь… Это могло бы на нее ужасно подействовать, панически повлиять на хрупкую… систему!.. Я все-таки мужчина, но, знаете… и я чувствую, Пелагея Ивановна, что и мои нервы начинают пошаливать!.. – старался я ей понравиться. – Тем более что я… несколько был знаком с «молодой», – я чуть было не сказал – «женщиной», – это было незадолго до ее замужества…
Пелагея Ивановна посмотрела, прищурив глаз.
– Это в каких же смыслах… – знакомы-то вы были? – спросила она, смеясь и растягивая – «знакомы».
Я тоже улыбнулся. Приятно было беседовать с умной женщиной, для которой все так естественно.
– Ну, конечно, не… в романтическом смысле, а просто… встречались в одном доме… – почему-то соврал я ей, – хотя вам можно сказать свободно, Пелагея Ивановна, вы человек без этих предрассудков… – она закивала одобрительно и стала жевать губами, – я однажды убедился, что что-то во мне ей нравилось… может быть, моя юная наивность?…
– Да как же не понравиться-то, Господи! Гляжу-гляжу я на вас, а сама думаю: какой же милый молодой человек! ну, совсем хорошего воспитания, светского…
– Вы мне льстите, Пелагея Ивановна! Может быть, сказывается некоторая начитанность, но я, вообще, конфузлив… – млел я от удовольствия, что разговариваю с Пелагеей Ивановной, совсем как с другом. И тут я сказал совершенно как светский лев: – Я был бы счастлив, с вашего позволения… нанести вам визит.
– Очень ради будем… и Симочка, всегда ради!..
Я ног под собою не слышал, забыл и о пастуховом доме. Вдруг прибежала Паша.
– Идите же, сердются! – сказала она строго.
Неужели она подслушала?! Я взглянул на нее и понял, что это – страх. Глаза ввалились и стали еще больше; маленький рот поджался, – совсем как детский, – дрожала губка.
Когда мы вошли в ворота, попался кучер. Он тряхнул головой и засмеялся:
– Видали, барин? Сопляк, а как разделал!.. Вот чего бывает через бабу.
– А потому, что силком женили! – швырнула ему Паша. – Девчонку только загубили… То же и с тобой будет.
– Со мной не бу-дет, не Костюшка…
– С одной гряды… той же лебеды! – без усмешки швырнула Паша, не взглянула.
– Зубы-то чем точишь? – крикнул вдогонку кучер.
– Твоей головой… чем хочешь!.. Меня это прямо восхитило.
В сенях, где было еще темно, она остановилась.
– Тоничка… – сказала она с болью, словно вот-вот заплачет.
– Что? – спросил виновато я.
Она стиснула мою руку, прижалась ко мне, как девочка.
– Миленький, Тоничка… вот жуть-то!..
Страх ее передался и мне. Я почувствовал его в ней, в себе, в темных уголках сеней, в реве быка оттуда, в желтых огнях окошек, – во всем, что было.
Мне ее стало жалко. Я почувствовал, что люблю ее, что она больше, чем женщина, и что-то нас с ней связало, что мы еще оба дети, и теперь нам обоим страшно. Я обнял ее, а она меня, и мы постояли молча.
XXXVIII
День этот был особенный, как бывает в большие праздники. Но тогда – радостное и светлое, как ни в какие другие дни, а в этот воскресный день было у всех такое, будто ничего не важно. Экзамен завтра – у «грека» Васьки – казался совсем нестрашным, словно его не будет: какие теперь экзамены! Кухарка сказала, что у ней «руки отвалились», – какие теперь обеды! – и побежала на улицу толпиться. Гришка заявил важно, что он «главный свидетель, и теперь затаскают», и ходил при свистке и бляхе за околодочным и каким-то «казенным господином», не пускал и пускал в ворота того дома, а к обеду совсем шатался. Никто не ходил к обедне, а все – по окнам. Пашу загоняли за вестями. Говорили вполголоса, поглядывали туда и все крестились. Тетя Маша оправила лампадки. Пастухов дом казался проклятым местом, в котором уселся дьявол, – и радом с нами! Я его ясно видел: черно-зеленый, страшный, с козлиными ногами, с крылами, похожими на зонтик. Он жадно стоял над ними, над новой кроватью в розанах, и мерзко глядел на Маньку. Даже окошки дома смотрели грехом и смертью.
Непрестанно кипели самовары, – уж и досталось Паше!
Приходили гости за гостями, ужасались. Наползли незнакомые старушки, зашел дьякон, советовал пригласить иконы:
– Духовная атмосфера, знаете!..
От дьякона стало веселее. Зашел на минутку пристав и выпил водки. Сказал – не беспокойтесь! Его просили: «скорей бы похоронили, что ли!..» Обещал ускорить. И опять стало веселее. Тетка сказала, что одна нипочем не ляжет, и стало опять страшно. Решили – всем лечь в гостиной.
Я толкался на улице, в народе. Приезжали на собственных лошадях с округи, – с Зацепы и с Таганки. Смотрели в окошки, на ворота, расспрашивали Гришку. Гришка рассказывал с охоткой:
– Вошел босой, с колуном… видит – они заснули. И заплакал. Говорит – ну, теперь вам конец! Я, говорит, давно через вас страдаю. Выпил меду, пряником закусил… нашли у него в кармане пряник, измазан кровью… Перекрестился на лампадку. Рраз, колуном обеих! Все подушки замазаны мозгами. Доктор при мне глядел скрозь бинок, – во какие ды-рья! Вешали колун в булочной, – два-дцать три фунта вытянул! Теперь называется орудие убийства, в суд забрали.
Ему совали гривеннички, и он прибавлял охотно:
– Кра-сивая была женчина!.. При мне их раскрывали. Картина убийства замечательно зверская! Первый пунхт… так и записали, – что лежат рядышком… рука пожилого мужчины обнимала убитую молодую женщину, это место… под самыми грудями. Так и пристыла. Я сам помогал оттягивать, – заколела. Разные разности… следователь говорит, – все ясно, нечего и резать, нашли при документах!.. Что, господа, через женчину-то бывает!.. Я видел, как повели Костюшку и Пастухова работника Алешку. Вели городовые. Костюшка был в пальтеце, картуз козырьком на ухо, в валеных сапогах. Лицо его обострилось и посерело, но глаза были ласковые. Он крестился и говорил народу: «Простите, братцы, не поминайте лихом! Не их я убил, – грех на них убил!» Его жалели: «Ничего, Костя… ослободят! Бог с тобой!..» Я не удержался и заплакал. Косте совали деньги, калачики, крестили. Городовой дал даже папироску, но Костя отказался. Алешка ревел, как баба. Ему сказали, что он помогал Костюшке, и он боялся. А был высокого роста и мурластый.
– Пойдемте, со мной пропустят… – шепнул мне Гришка.
Мы прошли черным ходом. Городовой сказал, что «сейчас сам прокурор приедет, скорей глядите!» Я боялся, что будет страшно, но было интересно-жутко.
Я увидал полутемную каморку, заставленную большой кроватью, и сразу заметил пышные «розаны» на спинке, в зеленых и золотых разводах, розовые и красные подушки и чьи-то волосы. На кровати горбом подымалось одеяло из цветных клинуш-ков-лоскутков. Головы были накрыты полотенцем, в бурых засохших пятнах. У меня зазвенело в пальцах, когда Гришка попробовал «показать головы» и протянул уже руку… но городовой не дозволил трогать. Гришка хотел было приоткрыть ноги, но. и тут городовой помешал, сказав: «Не годится ему глядеть такое» – и даже пихнул Гришку. Гришка шепнул: «а ноги у ней, как бревна… так разнесло!..» Я вспомнил невесту Маньку, как она выходила из кареты, и ее беленькие ножки. Гришка пошевелил сапогом беловатое что-то у кровати… «А вот ее самые эти… пынталоны!» – сказал он, сплюнув. Городовой запретил касаться. Я заметил розовые подвязки на беловатой кучке. Рядом, согнув пыльные голенища в сборах, лежали громадные дегтярные сапоги и грязные портянки.
– Ат, чего через эту любовь бывает! – сказал мне Гришка. – Беда!
Я был как сонный, челюсти мои сводило, и было тошно. Пахло чем-то ужасно острым, сладковатою кислотой какой-то, а слово «любовь» показалось мне жутким, грязным, как жесткие пятна на сером полотенце. И волосы на розовой подушке, чьи-то… – ужасно страшно.
– Дал бы чего такого, а?… – попросил у городового Гришка. – Целый день мотают, с самой ночи, заслаб… помянуть бы, что ли!..
– Чего я тебе дам помянуть, все запечатали!.. – сказал лениво городовой и дал коробок серничков.
– На, помяни серничками, покури. Деньги вот, сказывали, пропали… считал пристав при понятых. Говорит, должны быть капиталы, а их нет! Вот это дак помянули!.. – А чего им теперь деньги… – сказал Гришка, пошевеливая ногой сапоги. – К Пасхе только пошил, а кому теперь надевать!..
– Может, тебе достанутся… – подмигнул мне городовой на Гришку. – Костюшка обует, пой-дет по Владимирке гулять!..
– Это чего там, а вот… женчина ни за что пропала, вот! Ах, какая была дивительная! И с чем связалась! Сколько ей говорил…!
Когда мы вышли, я увидал Женьку, и мы пошли к заставе. Он был нарядный, и я вспомнил, что у него свиданье. Я сказал, что ее нет дома. Но он не верил. Я удивился, как это теперь – свиданье!
– Не философствуй, пожалуйста… Завидно?… – сказал он нагло. – Я и говорил, что надо смотреть естественно. Если бы он смотрел на женщину, как на… объект физиологический, не было бы и мерзости! Мог бы найти тысячи женщин! А вот, связался сантиментально с этой, отбил у сына, и…
Я заявил ему, что так рассуждать – цинично. Он зашел вечером, очень злой.
– Подлость, и больше ничего! Она – или струсила, или на нее подействовала драма. Завтра я выясню. Откуда ты знаешь, что она уехала?
– Мне сказала ее матушка, моя хорошая знакомая, – сказал я ему небрежно. – И приглашала меня бывать!.. Я же с ними в дружеских отношениях…
– Ты скотина! – бешено крикнул Женька. – Ты просто интригуешь, из зависти… Ты что-нибудь на меня наплел?…
– Клянусь тебе!.. – с возмущением сказал я. – Но ты же ее не любишь?! Ты смотришь, как на… объект! На меня все страшно подействовало, и я хочу смотреть на женщину… духовно, благоговеть перед красотою, поклоняться идеалу, смотреть на нее, как на сестру, подымать ее до себя!.. Я начинаю убеждаться, что грешить с женщиной – ниже человека и его морального образа! И в Евангелии… «кто смотрит на женщину…» – ты знаешь! И мне легко. Будь выше! Подыми себя духовно… и… Стать на уровень пастуха и этого красивого комка мяса, как эта несчастная Маня, и этого одуревшего от любви Костюшки!.. Именно, Дон Кихот, а не Дон Жуан!.. И если я буду говорить с ней, я буду будить в ней…
У меня выступили слезы. Я хотел обнять Женьку, умолять его хранить в чистоте душу. Но он сказал:
– Ловко ты поешь. Предсказываю тебе, что ты кончишь развратом! Кривая душа ты, теперь я это отлично вижу. Ты ей про меня наврал, что я добиваюсь только физического обладания?… Ты – скотина! Ты не понимаешь, что я… Ско-ти-на!..
Он даже хлопнул дверью.
А я… я стал на колени перед образами и зашептал: «Дай мне сил оставаться чистым и пробудить в ней…» А перед глазами горели «розаны», жутко чернели пятна. Казалось, что пахнет тем. Я переменил курточку, вымыл руки. Хотелось, чтобы забежала Паша.
На дворе дико закричали. Я выглянул в окошко. У Кари-ха кричали. По двору бегали бахромщицы, а за ними гонялся Карих. В руках у него была метелка. Вышла и Пелагея Ивановна. Набежало с улицы народу. Отняли у Кариха метелку. Хозяйка-бахромщица орала:
– Совсем-был убил девчонку!.. Мерещится дураку, будто она к нему вбегала!.. Мои девочки все честные, такими делами не занимаются!..
– Извините-с, когда я самолично видел, как она на кровать садилась, на подушку, разные порошки трясла!.. – неистово орал Карих. – Не соблазните! Видите, что вышло, как сгубила!.. Можете съезжать, а не соблазните!.. Она даже в одной рубахе осмелилась являться!.. Запираться должен!.. Петуха испортили, теперь за меня взялись?…
– Сумашедший, за городовым надо! – кричали бахромщииы-ны девчонки. – Нельзя выйтить, за ни что попадя хватает!..
– Водой их прыскаю, окаянных! Позвольте-с, а кто мне вчера в фортку?… Если я к кому чувствую, так это… не скажу!.. Когда люди благородные, я плохого слова не скажу!.. В сумашедчий дом хотите?., завладеть капиталами?… Можете съезжать! Сделайте милость! Одна вон двоих погубила, тоже меня окрутить хотела. Есть свидетели! Они вон, девчонки ваши, к портным через забор сигают, через забор целуются, в дырку даже! Свидетели есть!.. Ихняя барышня, вот Пела-геи Ивановны-с… свидетельницы!
Посмеялись и разошлись. Карих окатился под колодцем и стал расчесываться.
Когда стемнело, мне стало опять страшно. В коридоре скрипели половицы. Прибежала Паша и замахала:
– Ступайте глядеть скорей, в какой их теятор увозят!..
Вся улица была запружена народом. Храпела лошадь. В тишине слышалось – «стой, чо…!». Со двора отзывался бык. Тетя Маша крестила улицу из окна. Когда уехали, все перекрестились: ну, слава Боту. Стало как будто легче. Во дворе заиграл на гар-монье кучер. Отдежуривший сутки Гришка напился пьяный. Легли все рано, все двери закрестили и замкнули.
Я учил греческий, когда постучала Паша.
– Пустите меня, Тоничка… боюсь… – просилась она робко. – Я буду тихо…?
– Ну, иди… – сказал я великодушно. – Я буду заниматься, а ты поспи на моей постели…
– Нет, нет… что вы!.. Я тут посижу, на креслах…
В углу у меня стояло продавленное кресло. Она села конфузливо и осторожно.
– Ты же не спала, бегала… – старался я говорить спокойно, а в голове стояло: «Пришла ко мне, сама, ночью!..» – Почему же не хочешь лечь?…
Паша заплела на ночь косы, перекинула их на грудь и стала совсем девчонкой.
– А вы-то?… Тоже ведь не спали… Завтра у вас екзамент.
– Я мужчина, – сказал я ей. – Конечно, одной жутко. Хотя это предрассудки. Они теперь уже трупы.
– И их-то страшно… – передернула плечом Паша… – а еще… Степан выпил, поймал меня на дворе… говорит: «А что, приду я к тебе сегодня!., через чердак у тебя не запирается, заберусь!» С пьяных глаз-то и самделе… еще напугает!..
– Негодяй! Да как он смеет?!
– Охальник. Говорит, не все тебе с ним, с вами, значит… Такой негодяй-охальник!.. Он мне давеча чего сказал!.. «Что, змея… хочешь меня губить?!» Я ему плюнула, а он: «Я себя не знаю, что ты со мной сделала, чисто опоила!.. Себя не помню!..» А глазищи, как у чумового!.. «Лучше ты, говорит, не шути… а то…» – и загрозился. Ну, гоняется за мной, как вихорь… Я его боюсь прямо!..
Я спросил, заперты ли в коридор двери. Запер на ключ свою.
– Все пристает – давай венчаться!.. – шептала Паша. – Накопил, говорит, три сотни… сманивает к графу Голицыну, в именье.
– Паша… – сказал я ей, – может быть, так лучше?… Она посмотрела на меня, как будто издалека.
– К вам привыкла… – сказала она просто. – День не видала, все скучала… Да вы учитесь, а я подремлю немножко.
Но я не мог учиться: из уголка белелось, дышала Паша. Я чувствовал волненье… Меня толкнуло, и я подошел к Паше. Она поглядела робко…
– Паша…
Она прошептала нежно:
– Ну что?…
Я упал перед ней на колени, но она выставила руки, не пускала.
– Миленький, не надо…а то уйду… И опустила руки.
– Паша…
– Ну что?…
Я стал целовать ей руки. Она мотнулась.
– Что вы со мною делаете… не надо… Она обняла меня за шею и крепко поцеловала в губы.
– Нет, будемте только целоваться… милый… первенький мой, хорошенький, чистенький… Никого не любил, правда? Никого, я знаю… мне тетя Маша говорила… дестенник он… мальчик…
– А ты, Паша?… – спросил я ее, целуя.
– Вот побожиться, вот… твоя буду… только… все равно, твоя буду… жениться тебе на мне нельзя, а… твоя буду…
Я молил ее, не зная о чем:
– Паша!..
Она вскочила и затрясла руками.
– Тебе учиться надо… на душе грех будет… Пойду вниз ляжу.
– Ну, посиди немножко… Я тебя не пущу, Паша… Я коснулся пуговки на кофте.
– Ну, не на-до… – шептала она стыдливо, ежась.
– Я хочу видеть, Паша… – шептал я, бредил.
– Ну, видишь… – сказала она нежно, робко. – Девочка я совсем…
И она быстро запахнулась.
– Нет, не дамся… нет, ни за что!., тебе грех будет, и мне грех… учиться тебе… еще провалишься из-за меня!.. Ложитесь спать лучше, не спали… завтра в гимназию вам… Ах, миленький!..
Она меня чуть не задушила. Я слышал, как побежала она по лестнице.
Ночь прошла для меня в кошмаре.
XXXIX
Паша бежала от кого-то, а я спасал. В дверь кто-то ломился, страшный… – и я проснулся в оцепенении. На улице свистели, топотали. Орали: «Держи!., держи-и!..» «Неужто опять убили?! – в страхе подумал я. – Кучер убил… Пашу! Господи, Пашечку убили!..»
«Она вышла, а он подстерег и стукнул…? мог задушить, он сильный… и грозился! И это его ловят!..»
И на дворе кричали, летели по камням в опорках.
– Господи-батюшки… – услыхал я пронзительный голос скорнячихи, – да когда ж это кончится-то?… Поймали, что ли?…
– Поймаешь его!.. Он теперь по-кажет!.. Тут бы его перехватить бы надо, да Гришка, пьяный черт, растопырил руки… он его рраз, – и сшиб! Как черт, здоровый!.. Это уж как пойдет… не дай Бог. Стоит против больницы, а оттуда сдерживают, дворники набегли…
– Я его голой рукой возьму!.. – услыхал я Степанов голос. – Я умею!
«Нет, не кучер! Пашу не убили, милую ласточку!..» – нежно подумал я и перекрестился.
– Хоть бы скорей его приструнили, чумового!.. «Ка-рих?! – блеснуло мне. – Карих сошел с ума, и его теперь ловят… он сбесился!..»
На улице орали. Донесло издалека рев… Бык?! Убежал черный бык, тот самый)…
Я оделся и кинулся в зал, к окнам. Опять все проснулись и смотрели. Паша смотрела в мое окошко. Лицо ее было рядом, она даже касалась волосами.
– Всю ночь не спала… Не спали?
– Не спал, о тебе все думал…
– А я… об одном миленьком дружке… – шепнула она сладко и потерлась щекой о курточку.
Можно было хоть целоваться: все глядели на улицу. Бежали с рынка. Городовой устанавливал «запруду»:
– Крепче держись, смотри! Как побежит, левым флангом заходи, к воротам его дави!.. Ори-махай. Не пропущай на рынок!..
Высунувшись совсем в окошко, я увидел картину.
Поднявшееся солнце золотило уже деревья и заборы. И улица была, как золотая. И на золотой улице, на светло-золотой дали, стояло черное – пастухов бык Васюха. Он бешено ковырял рогами, крутил хвостом и подбрыкивал, словно в пляске. Сзаду его пугали, но он не подавался.
– Да что же они не напирают?! – кричали от «запруды». – Эй, нажима-ай там лише!.. А-а, боятся, стариков нагнали…
– Я его один приведу, гляди! Какого испугались! Самого черта за рога приведу!.. – крикнул кучер и вышел из «запруды».
– Вот дуролом-то наш, вызвался!.. – тревожно шепнула Паша и потерлась. – Жизни своей не жалко. Дурак-то, пошел… глядите!..
И она высунулась до пояса в окошко.
– Да он тебя на рога посодит!.. – крикнула она вдогонку. Степан посмотрел на окна, заметил Пашу.
– Пойдем вместе, найдем двести!.. – махнул он лихо. – Эх, молись за меня Богу, на помогу!..
– Как же, ста-ла!.. За дурака такого…
Пашу одернули: неприлично кричать из окон! Но она все забыла, высунулась с локтями на карнизик.
– Упадешь же, Паша!.. – шептал я ей, придерживая ее за платье.
– Ах, да не мешайте вы!.. – сказала она со злостью.
– Стой, не пугай там!.. – кричал городовой к больнице, грозя «селедкой». – Степан один желает!..
Все так и зашумели. Булочник закричал:
– Красную ему бью, возьмет если! Мясник подскочил к Муравлятникову:
– Идет полсотни? Этого ему не взять, что хочешь! Сотню ставлю. Я этого Васюху знаю!..
– И я Степуху знаю! Бей сотню!..
– Желаете на пятерку спору, не взять ему на себя бычка!.. – вступился и Василь Василич. – Красненькую желаете?… Пусть ему на поправку заклад пойдет. Пропорет ему Васюха!..
– Идет!
Но было уже не до разговоров. Степан натянул картуз, сбросил кучерскую куртку и уже подходил к быку боком. Бык перестал брыкаться и пошел головищей книзу, словно обнюхал камни. Степан сделал рукой вот так, распялил пальцы…
– Он его ши-пом напужает… – сказал кто-то, – шипу они во боятся!..
У меня замирало сердце. Я уже простил Степану: выходит на смерть! Паша возле меня дышала часто.
– Ах, дурак чумовой… Господи… вот проучит… А все смеются!..
Степан подходил красиво, смело. Лихо примял картуз, и… бык ахнул рогом!.. Он откинул его, мотнулся к нему опять и снова ахнул… И ахнуло все кругом. Визгнула дико Паша, упала со стула тетка, захлопали окошки, побежали…
– Ну, что?! – вскрикнула со слезами Паша, – за что?! Ни за что пропал!..
Она глядела с такой тоскою, мольбою и острой болью, что я заплакал.
– Господи, какой грех… грех какой… Я же ему и насказала… Она опустилась на пол и стала плакать. На нее крикнули: и так всем страшно, а она еще тут воет. Тетка плеснула на нее графином.
XL
Пришел, наконец, Гришка, полупьяный, и сообщил, как вышло:
– Помер, царство небесное… Свезли в градскую больницу, как раз напротив. Он ему под самое сердце, рогом, с одного разу. А потом еще, все кишки!.. Городовому здорово нагорит!.. На похороны набрали сто восемнадцать целковых, закладу и… так сколько давали! А быка в больницу загнали, в сад. Реве-от!.. За солдатами послали, убить. Наш мясник и деньги вперед выклал. Вот он, грех-то!.. Господь меня уберег, как он мимо меня промчался!..
А через час я уже писал греческое экстемпорале. «Васька» спросил, отчего я такой зеленый. Я объяснил, что не спал две ночи. О первой он уже прочел в газетах.
– Да-с, изворите ри видеть-с… вот это – ро-ок! Как у греков-с, да-с… Достойно самого Софокра-с!.. Именно, рок!., и через бычий рог!.. Игра сров.
Он был в очень хорошем настроении, ласково потрепал меня, при мне подчеркнул ошибки, залив все «кровью», – ошибок была масса! – и поставил тройку. Посмотрел на мое лицо и почему-то прибавил +. Я вспомнил гаданье тетки: «А бубновому хлапу успех выходит!»
Два чувства во мне боролись: темное, которого я стыдился, – что уже нет Степана, и Паше теперь не угрожает, и другое, – острая жалость к человеку.
Подходя к воротам, я посмотрел на страшный пастухов дом, и у меня сжалось сердце. Словно он был живое, смотревшее так несчастно. И дикая окраска, и наглухо закрытые ворота. Выкосило всех смертью. И даже бык… И с нашего дома зацепило. Красавец Степан, бедняга… Не может быть!.. Это же сон ужасный!.. Шел он красиво, дерзко, зубарил с Пашей… Умер вон в той больнице…
А вдруг – не умер?! Если бы не умер!..
И так мне ужасно захотелось, чтобы он не умер, что зазвенело в пальцах. Может быть, напутал Гришка? Ведь я на ходу услышал. Попалась Паша, скромненькая, в платочке черном, тащила узел.
– В часовне он… Мамаша послали распорядиться, старушку нанять обмыть, вот белье чистое и саван… панихидку надо… – и у ней задрожали губы. – За меня это… похвалился.
Тонкое ее лицо перекосилось, и она зарыдала в узел. Мы были на дворе, никто не видел. У меня тоже задрожали губы, и я не сказал ни слова. Она встряхнулась, ласково заморгала, словно ей стало стыдно. Хотела улыбнуться… побежала.
Нет, умер. Красавец, умер. Конечно, он был красавец! Солдат-гвардеец. И его не любила Паша?… Но почему так плачет? Не пойти ли и мне в часовню?… А сердцем думал: «Пусть они будут вместе, в духовной связи…» И еще думал сердцем: «Любила Паша!..» И стало мне грустно-грустно.
Встретила тетя Маша:
– Ну что, несчастный? Ну, слава Богу, что выдержал. Все мы сбились, а ты еще тут томишься…
– Тетя!.. – воскликнул я, – лучше бы все мы умерли!.. Да что же это?!
Я помню только, как она подняла руку с тремя перстами, и лицо ее стало страшным… Я помню, как отдалось где-то: «Да что же это?!» – каким-то визгливым криком, – моим криком? – и заглушилось шумом, словно забило ливнем.
Я лежал на своей постели. Пахло эфирным спиртом. По носу стекала капля, щекотала. Я понял, что на лбу у меня компрессик, и мешает смотреть бахромка. Я понял, что я о чем-то думал и спорил с кем-то. Кто-то, с кем я горячо спорил, ушел за занавеску, усмехнувшись. И так и не ответил!.. Я помнил, что он не мог ответить… Я убедил его, но он не хотел сознаться. Не мог сознаться, что я убедил его. А я убедил его и спросил: «За что же… это?!» И Паша когда-то говорила: «За что?!» И он не должен был сказать: «Ни за что, а… так, просто…» Через мешавшую мне бахромку я увидал икону. «За что?» – спросил я ее глазами. Богоматерь, лик ее грустно смотрит на что-то книзу… Не на что-то, а на него. И я улыбнулся сердцем. Она сказала – за что!.. Да это же и я думал, и это я сам ушел за занавеску. Потому что мне стало страшно. Не «ни за что», и не «так, просто», а – за что-то, за грех, за неправду, за ложь, за прелюбодеяние, за корысть, за… все! И вот, Богоматерь знает. И я знаю… Но и все же знают! Но почему же – все так? И всегда будет – так?… Рок?… Но тогда – для чего же Рок?…
– Для чего – Рок?… – спросил я сидевшую возле тетю Машу.
– Какой еще там рог? Нет никакого рога. Постарайся-ка, Тоничка, опять уснуть.
– А я разве спал, тетя?
– Немножко поспал, а потом все бормотал что-то. Да не думай…
– А почему Степан умер? Это же несправедливо! Он, как тореадор в «Кармен», помните?… Пошел за нее, блеснуть отвагой, без шпаги, рукава засучил даже!.. И если бы он победил, она бы полюбила и вышла замуж… Тетя, за что!! – спрашивал я упрямо: во мне кричало.
– Вот, опять бредить начал… – сказала тетя Маша, а я смеялся. – Чего ты, успокойся, ничего смешного…
– Ничего вы не понимаете! Никакого рога нет, то есть… был рог… и убил Степана-красавца, но есть будто бы еще Рок! За что?!. Нет, тетя, лучше бы всем умереть на свете. Это все чепуха, и самый простой рог! или – Рок?…
– Надо послать за Эраст Эрастычем!.. – сказала кому-то тетя. – Он весь горит, и может начаться воспаление.
– Я сейчас пошлю Пашу… – сказала сестра шепотом. – Мамаша лежит тоже.
– Никакого Эраст Эрастыча не надо! – сказал я твердо и что-то вспомнил. – Яду я не принимал и не стану. Она религиозна и уехала к обедне, а не с болваном!.. А если с ним, то ей будет Рок! Не «рог», а – Рок!..
Я говорил сознательно, но они меня не понимали. Потом-то они признали, что я говорил сознательно.
– Посылай скорей Пашу или беги сама!.. Этого еще недоставало, чтобы и он…
– Извините, пожалуйста, я вовсе еще не больной, как Карих! – насмешливо сказал я. – А когда-то я мечтал отравиться растительным ядом кураре, но тогда никакой Эраст Эрастыч, а будет Рок!
Уже были сумерки, когда я услыхал сигарный запах: приехал Эраст Эрастыч. Он показал мне лысину, слушая мою грудь, а я слушал, как в нем хрипело. Прописал, как всегда, слабительного и горчишник, а потом успокоительного, – «и все пройдет».
И действительно, все прошло. Утром я встал с постели.
XLI
Когда я проснулся, захотелось увидеть Пашу. Но она где-то пропадала. И только когда убедилась тетя Маша, что я здоров, она сказала, что «твоя Паша пошла провожать Степана». И сестра тоже провожала.
Когда вернулась Паша и принесла мне кутьи и заупокойную просвирку, я так обрадовался и был растроган, что поцеловал ей руку. Она была удивительно красива во всем черном. Она вся вспыхнула, а была совсем бледная, – и поцеловала то место, повыше кисти, где поцеловал я руку.
– И за вас молилась… – сказала она печально. – И не думала, что плакать на его могилке буду…
– Ты плакала?… – спросил я ее, любуясь, какая же она добрая, но что-то кольнуло сердце.
– Плакала, много плакала… – сказала она просто. – Он ведь очень меня любил… Только у него слов таких не было. Бывало, толкнет да обругает в шутку. А раз на коленках ползал. Ну, Господь с ним… – и она перекрестилась.
Завтра был праздник, Николин день, а послезавтра нестрашный «русский», и я мог отдохнуть свободно. Погода была чудесная, сирень уже начинала распускаться. Я прошел мимо Кариха и оглянулся. Она!.. Она стояла у окошка и кивала. Я быстро сорвал фуражку. Она высунулась в окошко и прокричала:
– Найдете там!..
Она откинулась в комнату и сделала мне рукой – вот так. Я ничего не видел. Нет, я видел… белую кофточку, с открытой шеей, и две косы, перекинутые на грудь, как змеи. Она, должно быть, только еще вставала, одевалась. Меня шатало, вертелась мостовая, окна. Кто-то сказал: «Не видите дороги?…» Помню, я снял фуражку, пошел к заставе. Она вернулась! Еще вчера вернулась. Пелагея Ивановна сказала ей о моем визите, о встрече утром… что я «светского воспитания»… И она вчера еще написала! Сказала ясно, что – «найдете!» Совершенный вид! Ступайте сейчас же и – «найдете!..»
И я нашел… розовенький конвертик! Надушенный, плотный. Я сразу понял, что это не записка.
Она писала:
«Я только что вернулась, устала, и, представьте, первое, что я сделала, – стала перечитывать безумные ваши письма. Странно, я очень без вас скучала!» – «Ми-лая!..» – прошептал я молитвенно. – «Чего-то мне не хватало. Даже, молясь в соборе…» – «Маргарита!» – воскликнул я. – «…в соборе, я часто грешила в мыслях… о вас, странный и нежный мальчик! Не обижайтесь, что называю так. Но вы для меня юное существо, полное свежести души и сердца, а это нравится женщинам, как сложившемуся мужчине нравятся юные девушки. В вас много романтизма, а мне суждено вертеться в самой грубой действительности, среди пошлых людей…» – «Это же она о бородатом студенте и пошлом толстяке, бедняжка!..» – подумал я с радостью и болью. – «…пошлых людей, которые не понимают, что душа женщины очень тонкий и хрупкий инструмент, который ждет нежного музыканта…» – «Нежного музыканта!» – «…нежного музыканта, идеала…» – «Да, именно идеала, которого и я жду, а не какого-то Кузьму Кузьмича Ноздрева или фельдшера Чичикова!..» – «…идеала, как Ромео, про которого вы упомянули, юного, красивого, свежего, пылкого, поэтичного…» «…Господи, „поэтичного“!..» – «который умеет благоговеть перед женщиной! Ну, я вам много должна сказать. Я знаю, что наше свидание ничем не кончится, вы так юны, а я уже слишком много пережила, мне уже двадцать пять лет!» – «а Пелагея Ивановна сказала – двадцать два» – «но между нами могут быть братские отношения. Просто мне нужно освежить душу и сердце… почти материнские отношения… вы на минутку станете моим хорошеньким мальчиком – ребенком, и я хочу слушать ваши наивные, прелестные и даже страстные излияния, полные аромата юности, судя по письмам. Конечно, вы… не пошлости же добиваетесь от меня? Вы уже не дитя и знаете, что „пошлость“ продается на улицах. Ну, одним словом, я долго думала, прежде чем решиться на этот шаг, прийти на свиданье к вам. Хотите, приходите накануне Николина дня, в седьмом часу, ко всенощной, у Риз Положения? Я всегда в этот день в церкви, в память моего покойного брата, которого я любила. Я буду стоять у колонны, а после „Хвалите имя Господне“ я выйду. Мы пройдем в Нескучный? Ну, хорошо, хоть в „аллею вздохов“, как вы хотели. Значит, завтра, во вторник? Покрываю вас „лепестками“. Как я устала! Вы держите экзамены, бедняжка! Мне уже говорила мама, которая вами положительно очарована. Она говорит, что в вас что-то аристократическое! Целую ваши глаза. Я очень хорошо разглядела их. В них есть что-то… Вы – особенный. Ваша „бессмертная и благословенная“ – ну, как не стыдно! – С.»
Это письмо рассеяло все сомнения. Она – страдающая душа, она тоже стремится к идеалу, романтична, презирает пошлость… тонкий и хрупкий инструмент! Она проводила все дни в соборе, готовилась, может быть, к решительному шагу?… Или – отрекалась от бурного прошлого, которое отравляло ее душу?… Ей только двадцать пять лет, мне шестнадцать, на каких-нибудь девять лет! Но ей не дашь больше двадцати двух. Когда мне исполнится девятнадцать и я поступлю в университет, – студентам разрешается жениться, – ей будет всего двадцать восемь… Но женщина даже в тридцать лет в полном расцвете сил и красоты, как роза. Вон Лаврихе тридцать пять, а она прямо расцветает, заглядишься! А Мария Вечера!.. А артистка Коровина в Большом театре! Дело не в годах, а в красоте и породе. Есть порода женщин, которые с трудом стареют, как, например, северного типа! А она северного, несомненно. Хотя у ней фамилия малоросская, но это от отца… Но и малороссы очень моложавый народ. Например, Тарас Бульба был молодцом в свои шестьдесят пять лет!.. А хохлушки, например, у того же Гоголя, самые нежные натуры, как, например, красавица Катерина из «Страшной мести» и прочие!..
– Что это не ешь ничего? – спросили за обедом.
Я был на седьмом небе, но это «небо» таил в себе и… боялся свидания в Нескучном.
– Кажется, лихорадка… – устало ответил я, и мне захотелось сыграть комедию: так все во мне играло! И я начал: – Я полон предчувствий, самых мрачных, и весь аппетит пропал. Ужасный я видел сон… старца!..
– Что ты видел?… какого старца?! – так все и всполошились.
– Я не хотел бы рассказывать… – сказал я, прикрывая лицо салфеткой, словно хотел заплакать. А во мне все играло!
– Господи, что такое с ним?… какого еще он старца видел! – отозвалась первая тетя Маша. – Час от часу не легче!
– Нет, ты должен сказать, Тоня… Это же может иметь отношение ко всем нам! – сказала сестра поменьше.
Мне стали даже приказывать – рассказать.
– Хорошо… Но я не виноват! Явился старец, в черной одежде, с костями и черепами… – Схимонах?! Неужели?… Это такая редкость… я никогда во сне схимонаха не видала!.. – испуганно прошептала тетя Маша.
– Я раз видала, кажется… – сказала самая маленькая сестра, у которой болели зубки. – Он с помелом был…
– Это трубочиста ты видала!.. И не лезь не в свое дело.
– Да, это редкость – увидеть схимонаха! Нам на Законе Божьем батюшка говорил, что явление во сне святых мужей бывает только праведникам и для исполнения воли Божией! – сказала сестра поменьше. – Ты, Тоня, праведник!
– Может быть… – задумчиво сказал я.
– А ты не возгордись. Знаю я, какой ты праведник! – погрозилась мне тетя Маша.
– Ну, страшный грешник! И мне сказал схимонах, похожий на Савву преподобного, из Звенигорода. А вот что сказал… – я посмотрел на Пашу, глядевшую на меня со страхом и лукаво, – «Горе, кто обидит сироту-девушку! Скажи всем, а то будет великое несчастье и…» Но дальше мне очень страшно…
– Изволь говорить, все равно! Говори, Тоничка, ради Бога!.. – все так и закричали.
– Хорошо… «несчастье, и будут… разные знамения… перед ужасным горем!» И затряс костями… Я заплакал, а он положил мне на голову епитрахиль, как на исповеди, и три раза перекрестил… И пропал.
– Странный сон… – прошептала тетка.
– Он выдумал! – крикнула сестра, прочитавшая все романы. – Даю руку на отсечение, что выдумал!
– Поклясться?! – трагически крикнул я.
– Не смей клясться! – замахала тетка. – Этим нельзя шутить! Что же мы, не поверим словам Угодника?… Он явился, а мы искушаем?… Но кто же – сирота? какую сироту?…
– Не знаю… – встряхнулся я. – Какую-то сироту!.. Девушку-сироту… Может быть, про вас, тетя Маша?… У вас ни отца, ни матери…
Тетя Маша перекрестилась. Все замолкли.
– У нас Паша еще сирота… – сказала сестра поменьше, дарившая Паше ленточки и кофточки.
– Знамения бывают… Вот, например, у пастуха бык ревел накануне! – сказала тетка.
– А оракулы?! в Древней Греции?! Сказал Эдипу: «Убьешь своего отца и женишься на своей матери! и будет у тебя дочь Антигона!»
– Про дочь ничего не говорил, врешь! – крикнула старшая сестра.
– У нас в хрестоматии сказано. И Софокл написал трагедию! И все вышло. Рок!
– Гадостям у вас учат! – строго сказала мать.
– Софокл?! Это же величайший!..
«Софос – софоклес – софотерос – дэврипидес – андрон – де – пантон – Сократэс – софотатос!»
– Три степени сравнения! И Сократ верил в знамения, – софотатос наимудрейший!..
– Да какой же ты у-мный! – радостная, сказала тетя Маша.
– И он сказал вообще… всякую девушку-сироту!
Зачем я такое выдумал – не знаю. Нервы мои дрожали, хотелось плакать. Было не по себе, – мучила совесть перед Пашей? Степан за нее погиб, она готова всем для меня пожертвовать… а я – о другой мечтаю, обманываю Пашу. И она это чувствует. Какая драма! Я же иду на… грех?…
Я думал и не думал. Думал – какую курточку? Конечно, белую. Она очень ко мне идет. Надо непременно надушиться, почистить ногти. Если бы к парикмахеру, чуть подвиться?… Если бы чуть подлиннее волосы!.. Вихры какие, ужасные… Боже мой!..
Я тщательно чистил ногти, точил подпилком. Ужасные заусеницы… Она непременно станет играть рукой! Женщины всегда «играют рукой», во всех романах… «Она задумчиво поиграла его рукой!» Или – «она нежно коснулась его руки»… «Она взяла его мужественную руку и, играя, приложила к своим глазам!» Зубы, кажется, ничего, блестят… «Его крепкие зубы блестели из-под усов настоящей слоновой костью!» С зазубринками немножко, но ничего… «Уточка» тонко пахнет… и непременно помазать губы, а то сохнут…
Я рассматривал себя в зеркале, что же во мне красивого? Заячье лицо какое-то, и вихры! Что же нравится женщинам? «Она положила на свои колени его красивую, благородно очерченную голову и рассеянно провела по волосам», или – «и, балуясь, взъерошила ему волосы». «О, нет, так ты мне больше нравишься! – сказала она, любуясь, – в таком поэтическом беспорядке!» Только этот вихор, словно у лавочного мальчишки! Я примасливал мокрой щеткой, но он упорно торчал, как чертик. Вымыл в ушах, и шею, вычистил зубы мелом, сжевал гвоздичку. Только бы изо рта не пахло! И пошел к тете Маше.
– Не пахнет у меня изо рта? С зубом что-то… – сказал я, морщась.
– А ну, дыхни… Гвоздикой от тебя пахнет! Ты жевал гвоздичку?! Что за новости?…
– Болел зуб, и я положил гвоздичку… Теперь лучше.
– Знаешь, от тебя… мужчиной пахнет!.. – удивленно сказала тетя Маша. – Правда… – понюхала она у шеи, – такой запах… И она поцеловала нежно, под самым ухом. Я был в восторге.
– Я не знаю, как это такое, мужчиной?! Что я, собака, что ли?… – сказал я притворно-удивленно.
Она захохотала.
– Ах, дурачок-дурачок!.. В комнате у мужчин всегда… как-то по-особенному пахнет… И от тебя, как будто… тоже!
– Может быть, табаком?… Я попробовал курнуть от боли, лавочник посоветовал, дал окурок…
– И нисколько не табаком, а чем-то… ужасно свежим!.. А ты не видал его… Пантелеева?…
– Ах, конечно, видал… забыл!.. Он велел кланяться. Я вчера проходил по рынку, а он как раз выкинул голубям совок.
– Он… веселый?…
– Он был… ужасно грустный, ужасно! Взглянул на меня и говорит: «Ах, передайте мой горячий поклон Марье Михайловне!..» – находчиво сказал я, желая ее обрадовать.
– Боже мой!.. И сказал – «ах»? И – «горячий»? Так и сказал – «горячий»?!
Я подтвердил и попросил кольд-крема:
– У вас чудесный кольд-крем… а у меня что-то губы больно. Должно быть, лихорадка выступает.
– Знаешь, Тонька… У тебя очень красивый рот… Как у карасика… Ты будешь нравиться!..
– Кому, тетя? И зачем надо кому-то нравиться! По-моему, это глупости. Надо развивать ум… А кому я могу нравиться?…
– Будущей невесте, глупенький!..
– Какие глупости! Дайте же мне кольд-крему, у меня горят губы…
Она поцеловала меня в губы и сама намазала их кольдкремом. Потом я отчистил пояс и лавры на фуражке. Сапоги вычистил до блеска. Совсем молодчик. И «уточкой» пахнет, как от Паши.
XLII
– Куда это вы такой нарядный? – спросила Паша.
– Ко всенощной. Завтра ведь Николая Чудотворца, великий праздник.
– А мне и помолиться-то некогда!..
Меня заточила совесть, и я вздохнул. Паша взглянула благодарным взглядом, – подумала, должно быть, что я по ней вздыхаю. А я подумал – какой я гадкий! Она мне швырнула «уточку», а я душусь. Никакой гордости, все ниже опускаюсь. Женька сказал: «Предсказываю тебе, что ты кончишь развратом!» Неужели это путь к разврату?… Что-то мне говорило – да, к разврату! – но я уже не владел собою.
Меня колотило лихорадкой, звенело в пальцах, – так все во мне дрожало. Не вернуться ль?… Звонили по церквам, и в этом звоне было для меня томленье, – голова кружилась. Проходившая мимо дама сказала господину: «Какой он бледный!» – про меня, должно быть. Это ужасно, если бледный!.. Не было магазинных окон – посмотреться: сады, заборы. Вот и «Риз-Положения», в березах.
Ноги мои дрожали и немели, когда я поднимался по ступенькам. Вместе со мною в церковь входил священник – служба еще не начиналась, – приветливо поглядел, – какой, дескать, примерный мальчик! – а я подумал, что это не к добру – священник. Шмыгали неслышно богаделки, стелили коврики, обмахивали перьями иконы, роняли свечки. Я встал направо, к стенке. «Направо, у колонны!» Посмотрел к колонне: отлично видно. Или встать поближе? Заслонят ведь. Вон уже встал один, лохматый, и старушонка. Звяканье дверей пронизывало искрой. «Прошкина тут стоят… вперед пройдите, места много!» – сказала богаделка и ткнула костью. Это меня озлило, и я уперся. «Разве у вас по билетам?» – сказал я резко. «Шмоняться ходят только…» – шипела богаделка, проходя. А я подумал: и это не к добру, пожалуй… Выйти на паперть, встретить? Было стыдно. Она же помолиться хочет, а я, как искуситель!.. Церковь понемногу наполнялась. Батюшка прошел с кадилом, диакон со свечою. Батюшка меня заметил и покадил отдельно, – дескать, примерный мальчик, покажу-ка ему отдельно, как в награду! Томила совесть, я пробовал молиться, но все напрасно: она не отходила. Бухало дверями, в сердце, – я косился. Запели: «Свете ти-хий… свят-ты-ыя сла-а-вы…» Сердце мое упало и рванулось… Соломенная шляпа, с широкими полями, с васильками!.. Она, вся в белом, как невеста, как божество!.. Белое «жерсе»! Пышные волосы, золотистого каштана, покрывали плечи, красиво обрамляли… Но лица ее я не видел. Она стала направо, у колонны. И там, где она стояла, струилось светом… Она молилась. Она горячо молилась! Я взирал восхищенным взглядом, как склонялась ее головка, как изгибалась шея. Маргарита!.. Чистая и невинная, как Маргарита…
Я стал осторожно продвигаться и стал неподалеку, у колонны. Какое это было счастье – стоять так близко! Я уже не слышал певчих; я слышал: она дышала! Я слышал, как шелестело ее платье, как переливались волны золотистого каштана, когда она молилась. Я смотрел с восхищеньем, как шевелились пряди, и в них трепетала и играла, как золотая рыбка, цепочка на полной шее. Крестильная цепочка! Я следил, как мраморные пальцы игриво поправляли падавшие на щеки пряди. С благоговением я смотрел, как падали складки ее юбки, белой, чудесной юбки, когда преклоняла она колени; как выглядывал крохотный каблучок-катушка из-под милой ее оборки, как прятался стыдливо. Я вдыхал чарующий аромат ее – как будто гиацинтов? – сладкий. Я прожигал возмущенным взглядом широкую спину какого-то болвана с подрубленными волосами, который встал почему-то перед нею и закрыл иконы. Он бухался перед нею на колени, и его сапоги с гвоздями касались ее платья. Как она горячо молилась! Она опустилась на колени и поникла… А я… – над нею. Мелькало в мыслях, что это ужасно дурно, что я же искушаю. Она предалась молитве, душу открыла Богу, а я, как Демон. «К тебе стану прилетать!..» За шестопсалмием мне звучало: «И будешь ты царицей… ми…и…ра-а-аааа…!» Вспоминался и Мефистофель, как он из-за колонны, в храме: «Маргарита, ты когда-то была невинна… теперь погибла… спасенья не-эт!»
Должно быть, мои взгляды и вздохи сказали ей… Она повернула голову и чуть взглянула. Она улыбнулась даже?! Я уронил фуражку. Она взглянула и мило улыбнулась. Я нервно оправил пояс и стал креститься. Я разглядел родинку, другую… и вспомнил Пелагею Ивановну. У той были просто бородавки! А это – милые родинки, как «мушки». Я разглядел полные, розовые губы, не розовые, а пунцовые, как пурпур, выгнутые капризно, нежно. И милый подбородок, немного полный, и носик, вздернутый чуть капризно, но очень мило, и щечки, пушистые, как персик. Я созерцал, забывшись, и вдруг – меня затрепало дрожью, толкнуло в сердце…
«Хвалите имя Господне, хвалите раби Го-спода… Аллилу-й-я!»
Она пошла, скользнувши взглядом через пенсне. Прошла, – и повеяло сладкими духами. Дыхание во мне остановилось. Я замялся… – и невольно пошел за нею. Кажется, все смотрели, но я не владел собою.
«Пусть, все равно… погибну… – мелькало во мне, как счастье, – и с нею вместе! С тобой мне ад, как рай чудесный… – вспомнилось из последнего моего. – Какое счастье!..»
Я шел на веревочке, за нею. Меня тащило. Мы вышли вместе, и я совершенно растерялся. Ноги мои сводило – счастьем, страхом. А она выступала так свободно, небрежно даже, чуть-чуть поводя плечами. Мелькало в мыслях: «Соблазняет… увлекает в бездну…» Я шел, как опьяненный, и в голове играло и стыдило: «Шла де-ви-ца… за-а-а во-одой… за ней парень молодой…» Я громко споткнулся – она не обернулась. Но все ее движенья говорили, что она знает, что я иду за нею. Меня тащило. И было нестерпимо стыдно, …кричит – «девица, постой… красавица, подожди-и!..» Она выступала затаенно, томно, – как будто ожидала: «Ну же…?» Соломенная шляпка говорила: «Так что же?!» Синие васильки кивали: «Можно, можно!..» И, кажется, ласточки кричали от восторга: можно!..
Мы очутились в переулке, за оградой. Я снова споткнулся, и меня окатило жаром. И вдруг она обернулась, улыбнулась… – и сразу ослепило.
– Ах, вы…! – спела она игриво. – Мы… знакомы?…
Я запнулся, обдернул пояс, сорвал фуражку. Она протянула руку, ужасно мило. Но что же надо?… знакомиться?…
– То… Тоня… – выдавил я смущенно.
– Ах, если вы То-ня… ну, тогда я Сима?… И она звонко засмеялась.
– Что же вы ничего не скажете? А так писали?! Вы смущены, То-ня? Чем вы смущены? что идете впервые с… женщиной?… Да ну-у же, начинайте смело. Что? боитесь вашего надзирателя?…
– Нисколько, а… вообще! И потом я уже в старшем… У нас просто… можно сказать – с сестрой!.. – выговорил я бойко, и стало легче.
– В таком случае, берите под руку. Да не так, не с правой руки! Ну, вот. Вы будете отличным кавалером. Не шагайте так, по-военному… я прямо задыхаюсь.
Я боялся взглянуть в лицо. Но она смотрела.
– Какой вы юный! Вам пятнадцать? Шестнадцать?! Да вы мужчина! Но… детское лицо какое! – сказала она нежно.
Я шел, ничего не видя.
– Пе-рышко раздавил! – заорал мальчишка, игравший в перышки. – Черт слепой!..
Я чувствовал ее дыханье, ее благоуханье. Плечо ее каса; лось, обжигало. Она прижимала мою руку.
– Но какой вы, однако, взрослый… в письмах! Вы прямо как мужчина!
– Когда выражаешь чувства… вообще, чувства к женщине… Простите… я, кажется, не так выразился?…
– «К женщине…» Ну, что? Ну, говорите… – сказала она, касаясь меня плечом. – «Чувства к женщине…?»
Я видел ее губки, похожие на херувимов, и вдруг подумал: «Мы будем целоваться?!»
– Что с вами?… – сказала она быстро, – как побледнели?…
– Разве?… – смутился я. – Не знаю… Может быть, от экзаменов… от всего пережитого?… Как я счастлив, что вы… вообще, не видали ужасов… этого потрясающего… Я видел картину преступления, этого потрясающего… – Да, мама говорила… Ах, да… оказывается, вы были знакомы… с этой толстой красавицей, которая все по окошечкам валялась! Были влюблены? Нет, правда? Что-то у вас было…?
– Так, пустяки… – уклончиво сказал я, рисуясь. – Она… вообще, дарила меня вниманием, но… это до замужества еще…
– Ка-ак, давно?! – захохотала она. – Вот не ожидала! Да вы, молодой человек, оказывается, уже о-пытный в «амурах»?! И целовались? и что-нибудь… серьезное?… Посмотрите в глаза… «дарила вниманием»?
– Ах… – загорелся я и почувствовал, что опять бледнею, – вы не так поняли, Серафима Констан…
Она перебила бойко:
– Говорите – Симочка! Мы же совсем друзья!
– Ах, я не могу… Серафима Константиновна… мне трудно так…
– То-ничка, скажите – Си-мочка! Ну, я так хочу!.. – повторила она настойчивей и притиснула мою руку локтем.
– Си…мочка… – робко повторил я и покосился: губы ее смеялись.
– Я же вам позволяю! Ах, какой вы стеснюга… А что писали?… «Целую твои… божественные ноги»?! Вы же позволили себе написать? А тут вдруг… Вы даже позволили себе такую интимность… написали про мою грудь! «Как пена вод морских»! А? В письме вы смели, а…
– Простите… – прошептал я, – но там это, вообще… как «поэтический беспорядок», сфера поэзии…
– Значит, вы все выдумали? И ваше чувство, ваша…?
– О, нет, нет!!! – воскликнул я горячо, – мои чувства вполне гармонируют с…
– Письмами? Прекрасно. И вы позволили себе называть меня «прекрасным телом, ароматы которого кружат…» ваши мечты! Так, «кружат»? а? Вы хотели… «расцеловать всю» меня?… – шептала она, заглядывая в лицо. – А теперь стыдно, а?… А если, – она опять притиснула мой локоть, и меня охватило жаром, – если вы вызвали во мне что-то?… Ваши письма прямо вулканического происхождения! Вы – мальчик, но в чувствах вы, как опытный мужчина! О-о… – погрозилась она перчаткой, – надо смелей, что думаете, то и делать! Не надо раздваиваться. Почитайте Шпильгагена, Жорж Санд… Они говорят, что в любви надо быть смелым! Любовь между мужчиной и женщиной… а мы мужчина и женщина? правда?… – это же так естественно!.. – болтала она, а я замирал от счастья, я видел сон. – Вы какой-то «роман» уже имели? Поглядите в мои глаза…
Я посмотрел в ее синеватое пенсне, за которым чаровали меня глаза. Они казались огромными, сияньем неба. – О, вы о-чень большой плутяга! И глазки вовсе не невинного мальчика! Серьезно, вы целовали женщин? Ага, сознались. Если вы целовали женщин, я не поверю, чтобы у вас еще не было романа!..
– Клянусь, Серафима Констан…
– Се-ра-фи-ма! Я так хочу. Мы достаточно близки, правда? А кто так страстно целовал заборы? Вы забыли?…
– О, Серафима… – прошептал я, и во мне зазвучало смутно: «О, Серафи-ма… о, Херуви-ма…» – слова студента.
– Вы ловко тогда меня поймали! Умеете, сладко чмокаете, мальчи-шка! То-ня… – прошептала она мечтательно, и я еще более смутился. – Помните, я писала, что я немножко… вакханка? А, романа не было? Вы – чистый, в таком смысле? Я еще впервые целовалась с «ангелочком»…? – сказала она взволнованно, показалось мне, и мне стало совсем легко.
Я понял, что с ней можно говорить совсем свободно: она смотрит на все естественно!
– Итак, я вам очень нравлюсь? Вы не разочаровались? Я красива?…
Она забросала меня словами и все прижимала локтем. И я невольно поддавался ее порывам. Было такое чувство – как будто таю.
«Боже мой, – спохватился я, – я и забыл про ландыш!»
– Что вы так вздрогнули? Вам страшно с… женщиной?…
– С вами… нет, Серафима… – пролепетал я. – Кого безумно любишь… Я не знаю, я схожу с ума от любви к вам…
– Что же вы хотели бы от меня?… Вы писали… осыпать поцелуями, вечно сидеть у моих ног и даже лобызать край моего платья! Будете довольны этим?… – прошептала она, склоняясь. – Вы читали «Дафниса и Хлою»? Нет?! Так надо вам дать прочесть. Это такая прелесть!..
– А там про что же?… – спросил я, стыдясь чего-то.
– Да про любовь! Один мальчик любил девочку, а попал на опытную женщину! И она научила его любви.
– Научила любви?… Как же она… научила?! Это же так само собой понятно… любовь! Научить любить нельзя! – сказал я с жаром. – Если человек не питает в душе чувства к… женщине, то чувству научить нельзя!..
– Говорите, говорите… это интересно! – сказала она, что-то во мне разглядывая.
Я смутился: что же еще сказать?
– А что такое – чувство? Ну, например, что вы чувствуете ко мне?… Что-то во мне вам нравится? Что же вам нравится?…
– Все! Ваши волосы, ваш голос… ваш стан богини!..
– Так… – сказала она нежно, – а видали богинь?…
– Статуи, скульптуры… – смешался я. – Но они без платья! Значит, вы меня воображаете… как статую? И вам нравится мое тело, да?…
– Нет, это… я не могу выразить. Что-то такое… вообще, таинственное, как тайна. В каждой красивой женщине… кажется мне, есть что-то особенное… таинственная прелесть…
– И вы хотите узнать, какая это… тайна?! – наклонилась она ко мне, и я скользнул боязливым взглядом по ее белой шее, по линиям ее корсажа. – Что же вы молчите, Тоня? Ну, что вы чувствуете сейчас?…
– О, я так счастлив!.. – воскликнул я и с ужасом заметил, как проходившая баба усмехнулась. – Я иду с вами, и во мне такая радость… Я так мечтал!.. что встречу таинственную и необыкновенную…
– «Царицу солнечных лучей?»… Мне ужасно понравились стихи, все стихи! И еще… «прелестны, невинны как ландыш весны»! Я выучила наизусть.
Я вспомнил опять про ландыш.
– Стихи стихами, но вы еще написали, что «ваш телесный образ божественно наполняет мою душу»! И выходит, что вы желаете чего-то «телесного»? а? правда, Тоничка?… Говорите прямо, я люблю, когда говорят прямо…
– Но я тогда горел безумием, Серафима Константиновна…
– Симочка! Нет, лучше говорите – Серафима.
– Я тогда ничего не помнил…
– А теперь, когда мы идем рядом, и я прижимаю вашу руку? Теперь вам уже… что вас наполняет?…
– Я вас люблю безумно, страстно… Серафима… – шептал я, уже ничего не видя, и голова кружилась.
Нет, я видел носочек ее туфли, выпрыгивавший из-под края платья, выгиб ее колена…
– Вот и Нескучный! – сказала она, – совсем и незаметно дошли мы с вами.
Зеленые березы золотились, качались в солнце. Было тихо, но как будто они качались. Солнце стояло низко, за кустами, и дрожало.
Она на меня взглянула.
– Теперь вы румяный стали, а были бледноваты. Глаза горят, что это с вами? Так разволновались?… Какой интересный вы, свеженькое лицо какое, как девочка… – шептала она нежно и прижимала локтем. – Посмотрите, как на нас смотрит сторож. Интересно, что думает?…
Старичок, с красным околышем, добродушно смотрел на нас.
– До которого часу можно гулять? – спросила Серафима. – А сколько погуляется, барышня… хоть до одинцати. Соловьи петь стали. Свои, знаю… Гуляйте на здоровье.
– Чудесный старик! – сказала она, смеясь. – Он сразу понял и покровительствует… влюбленным, правда?…
– Симпатичный старик, я ему дам на чай… – сказал я важно. – Копеек двадцать, я думаю?…
– Какой богач! Гривенника довольно.
– Что такое гри-венник! – шикнул я своим богатством, хоть и было у меня всего двугривенный. – Знаете, мой принцип, вообще… давать всегда хорошо на чай. Люди рабочие, все-таки… Пусть выпьет за ваше здоровье!
– За наше! – сказала Серафима, засматривая в глаза. Сердце мое вспорхнуло: какое счастье!.. И все осветилось счастьем: и сторож в придавленной фуражке, с буковками «Д. В.» – Дворцового Ведомства, конечно, – а мне припомнилось, как Женька называл этих сторожей – «Дай В зубы»! – и желтые корпуса построек, и купы дерев, дремавших, хранивших тайну.
Мы прошли предсадовую длинную аллею. Липы уже зелено дымились. В сочной траве под ними, у стен построек, слабо желтели одуванчики, закрывшись к ночи. Пахло ве-сенне-тонко. За каменной оградой сирени начинали распускаться.
– Идемте совсем поглуше, – сказала Серафима. – Где соловьи.
– У Чертова оврага? И еще, в Аллее Вздохов, там заросли! Ах, Серафима… я чувствую, что вы разбудили во мне мечты, поэзию. Этот старинный сад на меня производит чарующее впечатление!.. – мечтательно сказал я. – Мне хочется сочинить вам стихи, воспеть наше первое свидание…
Она восхитительно взглянула.
– О, я знаю, что вы поэт!.. Ну, попробуйте, интересно.
XLIII
Я углубился в мысли. Она посмотрела с любопытством.
– Вы сочиняете?… Это очень трудно?
– Пустяки! Впрочем, зависит от настроения. Но когда около тебя любимое существо, мысли слетают роем!.. – говорил я дрожащим голосом. – Вы, Серафима… не глядите. Я вам сейчас… Вы устали, дорогая?… присядем, если хотите, под эту липу…
И я вспомнил:
– И вы сейчас сочините?… Ну, посмотрим. Она побежала, подхватив меня под руку.
– Какая же вы бегунья!.. Как девочка, честное слово…
– О, я с вами еще побегаю!.. – крикнула она, падая на скамейку и увлекая меня. И вдруг, поцеловала!
Я даже вздрогнул.
– Нет, нет… – зашептала она, смеясь, – немножко рано. Вы меня поцелуете, когда мы услышим соловья, да?
– А если не услышим?…
– И тогда поцелуете. Стемнеет, и мы повторим то… помните, у забора?…
И она стиснула мне руку.
– У, мальчишка… совсем увлекли меня!.. Ну, стихи?… Стихи у меня были с утра готовы, когда я ее увидел. Но я все думал. Она пожимала мои пальцы, играла ими.
– Кажется, я могу… Вот, что-то… Дайте мне вашу руку, и я сейчас сочиню стихи!..
– Она у вас.
Я стал целовать руку, пахнувшую как будто ландышами. Как это кстати!..
– Как ваша прелестная ручка пахнет ландышами! – воскликнул я. – У меня кружится голова…
Правда, голова у меня кружилась. Маленькая ее ножка царапала по песку носочком.
– Как вы, однако, ловко умеете целовать руки!.. Кто вам давал уроки? Оставьте, не поверю.
– Совсем ландышами, ландышами… – шептал я, целуя уже выше кисти.
– Вы угадали. Я всегда мою руки ландышевой водой. Это очень гигиенично, – сказала она. – Слышите, птичка…?
Над нами, в липе, посвистывала какая-то пичужка. Мимо прошел худой и бледный молодой человек и болезненно посмотрел на нас.
– Он нам завидует, как вы думаете? – спросила она и засмеялась нарочно громко.
А я все разглядывал пичужку, вспоминая свои стихи.
– Пойдемте туда, поглуше. Да, а стихи-то что же?…
– Вот, что-то у меня вышло…
– Вы?! – воскликнула она, крепко сжимая руку. – Да вы совсем поэт!..
– Немножко… – сказал я скромно, замирая от похвалы. – Это ваши душистые руки дают мне силу!
– Идемте. Мы должны непременно найти соловушку. Идемте к Чертову оврагу.
Она подхватила под руку и потянула.
– Правда, как хорошо? Когда любишь, может быть, впервые?…
Я не помнил себя от счастья. Я хотел бы остановиться в аллее и целовать ее маленькие ножки. Но она все бежала. Волосы ее щекотали мои щеки.
– Постойте, – сказала она, – мы почти одного роста с вами? Давайте меряться…
Она стала ко мне лицом, вплотную. Я почувствовал даже ее ноги.
– Ну, что же… мои губы чуть-чуть повыше, на полвершоч-ка… – шептала она, и я слышал ее ароматное дыханье. – Вы… чего это побледнели?… Ми-лый… – шепнула она и поцеловала в губы.
– Догоняйте!.. – повернулась она и побежала.
Я видел, как волосы ее взметнулись, разлетелись, как завертелась над каблучками юбка. Я сейчас же поймал ее за локоть.
– Кажется, соловей…? Постойте… – зашептала она, дыша. – Слышите?… Не дышите, тише!.. Что вы такой… дышучий?…
Она затопотала.
Соловей нежно чокал, как будто целовались. В темно-зеленых елях, на поляне, к Москве-реке, черемуха еще мерцала грузно, осыпалась. Но пахла сильно. Я обнял Серафиму, осторожно…
– Ми-лый… – шепнула она, – увидят…?
Я быстро отдернул руку, но было совсем пустынно. Прямо, за рекой, красно садилось солнце. Молодые клены розовели.
– Скорей, идемте, где соловьи… – сказала Серафима нервно. – Здесь очень солнце, вредно моим глазам. Да, свет мне вреден, потому я и не снимаю пенсне. Так вот… Странно, как у нас с вами вышло! Мы все уже сказали в письмах!.. Теперь, что же у нас с вами… дальше? Нет, постойте… сперва скажите, что вы во мне нашли?…
– Я в вас нашел… идеал! – страстно воскликнул я. – Я мечтал, что вот, я встречу когда-нибудь… женщину, лучезарную женщину… как… я не знаю!.. Ваш нежный голос, ваши движения, ваши чудные волосы, ваши глаза… О, снимите пенсне… дайте мне ваши глаза… лучезарные глаза, как небо!.. – умоляюще шептал я.
Она отстранила мою руку. – Успеете, это будет там… – сказала она стыдливо. – Ну, как это вы сказали… «лучезарную женщину, как…» кто же?… Держите меня крепче, прижмите к себе… крепче!.. Нет, оставьте пенсне, после!
И она сама прижала меня к себе, охватив голову.
– Какой горя-чий. Почему вы такой… жаркий? Так волнуетесь? Почему это? боитесь… женщины? а? Ну, так – как кто же?…
– Я не знаю… что-то волшебное, нежное, как… Зинаида, в «Первой любви» Тургенева… вы читали?…
– Конечно. Чудесная девушка… или там… женщина…
– Она любила его отца, и поселила в душе Володи страшные муки ада!.. Он не спал ночи, целовал ее в мыслях… И со мной, то же… явились вы, и я полюбил вас безумно, с того вечера… помните, за забором Мика?…
– И… живая интересней для вас, конечно? И не будет «ада»? Вас я не буду мучить, как ваша Зинаида. Дайте скорее ваши губы…
Она сама нашла мои губы и даже надкусила.
– Ах, сладкий какой… мальчи-шка!.. – сказала она нежно и потрясла за плечи. – Не надо «ада», правда?…
– Нет… – сказал я тихо. – Но… может быть, вы читали, на мостике Чертова оврага стихи? Теперь их нет… Как вы смотрите?… «Эдип» написал, что «ад», а «Сенека»…
– И вы читали?! – воскликнула она и засмеялась. – Это же когда еще Кузик написал! Один знакомый студент, мы его зовем – Кузик! – И она пропела:
– Это самое?…
– Но там не было – «и целуй-ка Липу!» – сказал я.
– Это мы уж потом присочинили. И даже больше…
– Это тот студент, с бородой? Я его видел у вас…
– Ревнуете? – спросила она, смеясь. – Он тоже в меня влюблен, и очень даже…
– А вы? Ради Бога, скажите правду… я так измучен!.. Вы… его любите?… Ради Бога, умоляю вас!.. – воскликнул я, падая перед нею на колени.
– Отку-да вы вообразили?! Успокойтесь, встаньте… увидеть могут!.. – прошептала она, оглядываясь. – Боже, вы плачете?! Ну, что вам… какой-то пустяк! Просто, знакомый наш… И она подняла меня. Она сама вытерла мне глаза платочком, сказала мило: «Какой бяка!» Я отвернулся, ломая руки от возбужденья, от стыда, от боли.
– Но я же видел! вы ездили к Троице!.. – сказал я, подавляя слезы. – Видел вас на извозчике. Он обнимал за талию…
– Однако, какой вы сыщик! Успокойтесь, милый… – потрепала она ласково по руке, – не раздирайте сердца. Сейчас я люблю то-лько одного… То-ничку!..
Она вдруг обняла меня, прижала к груди и стала ласкать и гладить.
– Идем туда… Я тебе все скажу… все… Ты мой, и я твоя… вся твоя, мой чистый, юный… мой… – шептала она нежно, увлекая меня куда-то.
Мы перебегали темневшие тропинки, пробегали кустами, спустились к каменному павильону с колоннами, прошли мимо глухого пруда, в холмах, завернули по кривой аллейке, к темному и сырому гроту. В голове у меня стучало, словно шумело ливнем.
– Стойте, Тоник… – сказала она, как будто не своим голосом, когда мы проходили гротом. – Поцелуй меня… крепче поцелуй!.. – шептала она, сжимая мои плечи. – О, как ты сладко целуешь… мальчик!..
Она меня чуть не задушила. Она перегнула мою голову и целовала-впивалась сверху, обжигала своим дыханием, волосами…
– Идем, я тебе все скажу, мой первый… мой… – сказала она, куснув мне ухо. – Почему ты такой смирный? а?… Ты боишься? Ах, какой ты мешок, мишка!.. – Она потрепала мои щеки, словно взбивала сливки, потом сжала мое лицо ладошками и потянула к себе на грудь. – Да какой же ты расчудесный… и горячий! Почему горячий, скажи? Ну, почему такой горячий?… Ну, что же ты молчишь?…
У меня голова кружилась и горела, серые стены грота колыхались…
– Ах, Серафима… – воскликнул я, – что-то со мной странное…
– До чего же ты интересный… глаза какие, как угольки! – шепнула Серафима и потянула меня на воздух.
Мы выбежали из проходного грота, прошли ущельем. Здесь было совершенно глухо.
– Нет, нет, дальше… Тут сторож иногда проходит… – торопила она куда-то. – Пойдем к самой окраине, к оврагу… Почему ты закрыл лицо?… Как ты мне нравишься… до чего же ты еще ма-льчик!..
Я говорил ей что-то, она не слушала. Она потянула меня в горку, шептала что-то, наклоняясь к моим губам, и ее васильки мелькали. Я не узнавал ее голоса, – странный какой-то шелест! Пальцы ее дрожали, куда-то торопили, скользили сухо в моей руке, казались ледяными. Мы попали в глухое, сырое место. Солнце уже закатилось, и здесь было зеленовато-светло, под сводом кленов. Она беспокойно осмотрелась, ее васильки мотались.
– Ах, это не здесь, подальше… – шепнула она рассеянно, и мы побежали дальше.
Белое ее платье шелестело, волосы развевались, веяли мне в лицо, цеплялись… «Вакханка… вакханки такие, безумные… – путались мои мысли, – бегают по полям и лесам, с дикими криками…»
– Вот сюда… – шепнула она, сжимая мои пальцы.
Мы выбежали на откос, где было еще гуще. Черемухи висели над Чертовым оврагом, кривились молодые липки и рябины.
– Немножко дальше… Я знаю одно местечко, похоже на беседку!..
Она подхватила юбку и показала ноги, под белым платьем. Я только и видел – ноги. Они мелькали, чернелись и манили. Она оглядывалась, бегу ли, смеялась и кивала, – совсем вакханка! Шинель моя путалась полами и цеплялась.
– Фу, задыхаюсь… – шепнула Серафима, улыбаясь. Она закинула за голову руки и дышала. Я видел ее шею, плечи. – Вот, здесь…
Это было самое глухое место, у Чертова оврага.
– Правда, здесь уютно, ми-лый?… Как ты меня волнуешь… – сказала Серафима не своим голосом. – Ну, поцелуй же меня, Тоник!..
Она протянула губы, схватила меня и сжала. Голова у меня кружилась…
– Сядем… – слышал я, как во сне, – какой ты странный! Что же ты все молчишь?… Какое бледное у тебя лицо?… Хочешь? – протянула она тонкую папироску. – Ах, Тоник… какой ты славный!..
Орешник и рябины вверху сплетались, и было похоже на беседку. Совсем под нами темнел овраг, откуда тянуло сыростью. Я сразу узнал место: резали мы здесь ореховые палки, с Женькой. Широкий пень от росшего когда-то дуба был весь исчеркан.
– Здесь бывают только влюбленные… – шепнула Серафима. – Знаешь, что такое, когда хочешь любить безумно, страстно?… Не знаешь?…
Она притянула меня к себе.
– Обойми же меня, крепче, креп-че!.. – шептала она, целуя. Я обнял ее за талию. Руки мои ослабли. – А кто писал такие страстные письма? а кто хотел… всю меня? Да обними же крепче… как женщину!.. – шептала она устало. – Ведь ты же мужчина!.. ты То-ня… мальчик То-ня!..
Ее отрывистые слова отдавались во мне, как взрывы. Я вздрагивал, словно просыпался от испуга. Мне было тошно, голова кружилась, в глазах ломило. Зачем она завела в овраг?… зачем мы пришли сюда?… Я устал… мне хотелось тихо любить ее, говорить нежные-нежные слова, сидеть рядом и говорить о моей любви. А она беспрестанно обнимала, тормошила, сжимала мои руки, кричала в уши и пахла до тошноты духами.
Словно сквозь сон я слышал:
– Ты очень меня любишь, очень?… Ну, что ты такой… Тоня? Ну, покажи… как любишь!..
Я вспомнил, что так говорят детям: «А ну, покажи, как любишь!» Она нагнулась ко мне, впивалась в мои губы. Мне было душно. Я слышал ее дыханье, зубы, сладкий запах ее волос…
– Да целуй же… крепче целуй!.. – шептала она, целуя. – Постой, я сниму шляпку…
Она сорвала шляпку.
– Мой первый… ты мой первый… мы так случайно… – шептала она бессвязно, – я должна тебе сказать все… как я несчастна!.. Я еще не знала самой настоящей, чистой любви! Все на меня смотрели, как на… ты понимаешь? Мой чистый, мой невинный!.. У меня был роман… Я тебе писала, какая я грешная… А каждая женщина тоже мечтает об идеале, видит в мужчине тайну!.. И теперь я нашла ее… в твоей чистоте, в этих невинных глазках… – шептала она страстно и обжигала меня дыханием.
Свод надо мною закачался, и все поплыло…
– Что с тобой… мальчик?… – слышал я чей-то шепот. – Тоничка, придите в себя!.. То-ничка! Гос-поди…!
Она стояла на коленях, терла мои виски и за ушами. Курточка и сорочка были расстегнуты. Мне стало стыдно, и все понеслось куда-то…
– То-ничка!.. – услыхал я ужасный голос.
Серафима стояла на коленях, терла мне грудь и целовала.
– Как же я испугалась, Тоник… нежный мой, славный мальчик!.. До чего ты чувствительный… Что, голова болит?… Горячая… Ты болен, мальчик?…
– Нет, ничего… – прошептал я горевшими губами, – домой… воды дайте… ужасно хочется пить.
Мне казалось, что где-то шумит вода. Меня погрузило в холод, и я очнулся. Она прижалась к моей груди, шептала:
– Милое мое тельце… Тоник… Славный ты мой… До чего я тебя люблю, цветочек!.. Она повернулась ко мне лицом, и я увидал глаза… Я увидал только один глаз… страшный! Я увидал темные, кровяные веки, напухшие, без ресниц, и неподвижный, стеклянный глаз! Этот ужасный глаз смотрел на меня безжизненно… «Не хотела снимать пенсне… – прошло у меня в сознании, – она кривая… урод!..»
– Глаз!.. какой у вас… глаз!!.. – вырвалось у меня невольно, в страхе.
Она вскочила, закрыла лицо руками. Я услыхал молящий, зажатый стон.
– Ах!.. Ты видел мое несчастье!.. – вырвалось у нее с мольбою. – Ах, Тоничка… ты теперь не станешь меня любить…! – Она подняла пенсне. – Ну, довольно… Пора идти…
Я опять почувствовал себя дурно. Серафима взяла мою руку, щупала пульс, шептала:
– Да, ты болен… Ну, как?… можешь пойти? Милый, надо… уже поздно… – уговаривала она меня, прикалывая шляпку. – От этих экзаменов, переутомился… Лучше?… Какие мы оба сумасшедшие!.. Мой мальчик… – она закрыла лицо руками, – не надо… дальше тебе не надо, ты уже почти знаешь, как любит женщина. Ты все забудешь, все?… Я наглупила немножко… Ну, дорогой, можешь пойти? Уже поздно…
Во мне боролись сознание и слабость. Хотелось уснуть, не двигаться. И хотелось скорей в постель.
Она застегнула на мне рубашку, поцеловала шею. Потом долго возилась с курточкой, отыскивая крючочки и пуговки.
– Что, опять дурно?… – спрашивала она испуганно.
Я хотел улыбнуться, хотел поблагодарить ее, что она так обо мне заботится, но губы мои не шевелились.
– Сейчас мы возьмем извозчика, и я тебя отвезу домой. Скажешь, что стало дурно… упал, а я случайно попалась и помогла тебе… Ты понял?… – спрашивала она в тревоге. – Чтобы не было сплетен, понимаешь?… Ах, Боже мой, извозчиков нет поблизости… Ты пока посидишь у сторожей в казарме, а я приведу извозчика. Ты понял?… Почему ты закрыл глаза?… опять плохо?… – слышал я смутно в шуме.
Вспоминаю, как сон. Проходили темневшим садом. Белая беседка, колонны и блеск воды. Черные ветви в небе, зеленые и голубые звезды. Как будто чокали соловьи, пускали трели. Она вела меня под руку, сажала на скамейки, веяла на лицо платочком, целовала и называла мальчиком. Наконец выбрались на широкую дорогу, постучались в какую-то казарму. Горели огоньки в окошках. Я с жадностью напился. Сидел в высокой и скучной комнате, с голыми белыми стенами, с красными занавесками на окнах. Сидел на табуретке, придерживаясь за стол, смотрел на Государя в рамке, на спавшую канарейку в клетке. Они качались. Усатый старик в розовой рубахе пил чай с баранками и все приставал налить:
– А то бы выпили. У меня чай дворцовый, по знакомству. Чай знаменитый. А то налью?… Когда Государь здесь был, самый этот чай пил. И от головы оттянет… А то бы выпили, а?… Значит, сестрица это вам, барышня-то с вами?…
Он макал в чай баранки и все приставал с чаем. Я пробовал что-то говорить, но было тошно. Комната качалась, и самовар, и розовый старик усатый, и занавески с клеткой. Сверчки трещали.
– Водка у меня есть! – выпалили усы, как пушка, и закачалось в треске. – Первое дело, как слабость, – водки выпить!..
Я помню серые усы, и рюмку, и баранки. Помню седую лошадь, гремучую пролетку, чоканье подков, ночь… соломенную шляпку, щекочущую васильками щеки, руку за спиной, томящие духи, ужасные… прикосновенье губ, тревожный шепот… Я забывался, вздрагивал от стука. Узнавал заборы. Вот и дом…?
– Помни… – шептал мне кто-то, – дурно… встретила тебя…
– Прощайте… – шептал я фонарю, который падал. Ворчал извозчик. Хлопала калитка. Мотался Гришка… – узнал я бляху. Со свечкой кто-то… Кричали… куда-то подняли и опустили на потолок в сенях…
Кто-то возился около меня, шептался: «Доктор!., доктор!..» Нашатырный спирт, одеколон… лампадка, тени… сигарный запах…
XLIV
Я потерял сознание этой жизни – был где-то, вне. Сразу я был как будто во многих жизнях, но странного в этом не было. Это уже потом, когда вспоминалось смутно, казалось странным, как я себя мог видеть, с собой кружиться, видеть себя умершим, куда-то убегавшим с нею… И столько было чудесного! Звенели такие звоны, сияли такие светы!..
Но что я помню?…
Кружило меня в пространстве. Я взлетал на качелях, над чудесным, великим садом. Шумели внизу деревья. Я падал в ужас. Помню цветы… – таких никогда не видел, таких и нет: как будто розы, живые, в воздушных тканях, – цветы из волшебного балета, сквозного живого блеска, как драгоценный камень. Они перебегали, распускались, летели ко мне веяли мне в лицо, качались со мною вместе… Я взбегал по мостам над морем, которое пылало, – и падал в бездну. Множество странных женщин – как будто весталок и вакханок, словно с картинок «Нивы» – кружилось со мной в огнях, и мне становилось дурно от их круженья. Множество обнаженных рук, осыпанных драгоценными камнями невиданного блеска, куда-то меня манили… И черный, мохнатый бык гнался за мною ужасом.
Склонялась лысая голова, в очках, я слышал сигарный запах, меня томивший, узнавал комнату, чьи-то скорбно смотревшие на меня глаза, лампадку… Лысая голова хрипела, и я понимал как будто, что это доктор. Он меня нежно гладил, и мы уплывали с ним. Он показывал мне на льдины, мерцавшие синими огнями, плывшие на нас глыбами. Великое золотое море, расплавленное, в огнях, плескалось у самых глаз, плавилось нестерпимым жаром, – ломило глаза от блеска…
Являлась она, вся в белом… – всюду она являлась! – льнула ко мне, шептала, играла своими волосами… – тянула меня куда-то, торопила, – и мы убегали в сад. Дымное огненное солнце срывалось с неба, катилось, как красный шарик. Темнело сразу, и становилось страшно. Она тянула меня в овраг. В чернеющей глубине его подымались пунцовые жирные цветы, похожие на огромные пионы. Я падал с нею в мертвую черноту оврага…
Я пел удивительные песни! Были они без слов, одни напевы. От этих чудесных звуков сыпались хрустали, как крупный роскошный бисер, светившийся изнутри огнями, – и она делалась стеклянной и вся сияла… – дремала в зеленоватой воде, за стеклами, в чем-то большом хрустальном, в бриллиантовой чешуе, в огнях, привлекала жемчужными руками, воздыхала атласной грудью, небывалая рыба-женщина, «чудо моря», на которую мы смотрели где-то…
Помню ужас – извивавшихся толстых змей, черных, в зеленых пятнах. Они клубились за мной по комнатам. Я кидался от них на стены, и стены загорались…
Помню старенькое лицо… – священник? – маленькую золотую чашу, закрывавшую мне глаза, бледное лицо чье-то… – Паша?… почему она плачет?… – медный сиявший таз, откуда сверкали льдины, сквозившую восковую свечку…
Помню – самое страшное – мохнатого черного быка. Он гнался за мною всюду. Я взбегал на страшную высоту, над бурным, пылавшим морем, – он лез за мною… Он ревел в темноте оврага, подстерегал меня за стеной, за дверью. Он был огромный, с кроваво зиявшим глазом. Кровью мутился глаз, истекал ужасом, отвращением, – прожигал меня. Смерть была в нем – я знал. И вот, мохнатый настиг меня. Он поднялся черным горбом, и смрадный, палящий глаз брызнул в меня огнями. Что-то спасло меня… – сверкающая льдина?… Она закрыла. Меня понесло, качая… накрыло белым. Мне стало холодно…
– Теперь я тебе скажу, голубчик… – говорил мне Эраст Эрастыч, когда я совсем поправился. – Чудо тебя спасло. Ты на том свете уж побывал… тридцать два часика трупиком, под простынкой вылежал… под образами! И головенка твоя была вот под этим местом, между лопатками… – Он меня нежно обнял и поцеловал в голову. – Доклад о тебе пишу. Воспа-ле-ние мозга у тебя было, да ка-кое!.. О-те-ки уже появлялись… – Он поднял плечи от удивления и недоуменно развел руками. – Уж как ты это?., как-то уж сам, брат, выдрался!..
– Ну, конец, думаю, нашему Тоничке… – рассказывала тетя Маша. – Уж и причащали тебя, и гробовщики у ворот дежурили, негодяи. Ну, думаю, поеду-ка в Вознесенский монастырь, положу на гроб шапочку… вот эту самую, шелко-венькую, Паша сшила… слезами всю измочила, глупая… Положу на гроб преподобной княгини Евфросинии, пусть разрешит… к какому-нибудь уж одному концу. Ведь две недели лежал без памяти! Надели мы на тебя, а ты и обмер!.. Переложили мы тебя под образа, простынкой накрыли. Два дня не дышал, как мертвый… А вот – и опять Тоничка у нас!.. – воскликнула тетя Маша, сияющая, необыкновенная тетя Маша. – А сколько ты раз с кровати-то скидывался… привязывали даже! И чего-чего ты только ни наболтал!.. Такое ужасное говорил… ах, Тонька-Тонька!., да какой же ты… аааа!.. Ну, постой, уж поговорю я потом с тобой!..
Первое время, дня три-четыре, когда я пришел в себя, я как будто забыл слова. Когда Паша меня спросила: «Хотите клюковной пастилы?» – я даже засмеялся:
– Почему ты так… «клюковная… па-стель»?! Она защебетала:
– Вот, болтушка яишная… Да не велит же вам доктор говорить!..
Она поерошила мне «ежик», – меня обрили, – и потерлась щекой по одеялу.
– Бледненький вы мой, совсем сквознюшка… картофельный росточек… – зашептала она сквозь слезы. – Уж как я измучилась об вас!
Она опустилась на колени, прильнула ко мне и стихла. Я погладил ее светлую головку. Комната вдруг качнулась и поплыла… и явилась опять, как чудо. Чудесны, свежи были легкие голубые занавески, живые занавески! завитушки на потолке, бронзовый шар над лампой – с чудесной дробью! – книжки мои на этажерке, белый бюстик милого Пушкина лобзик с блестящей пилкой, пышный букет сирени, сиявшей белыми крестиками, живыми, новыми!.. Чудесной казалась мне золотистая милая головка Паши. Она уткнулась в белоснежную простыню, сжимала и целовала мою руку, и я увидел вздрагивающие плечи в голубой кофточке, нежную ее шею, в голубоватых жилках, в вьющемся золотом пушку, услыхал сдавленные всхлипы. Мне стало беспокойно.
– Паша… – выговорил я тревожно, – почему ты…?
Она вдруг резко откинулась, словно я испугал ее, выглянула сквозь слезы, издалека, – новая моя, голубоглазка…
– Ласточка ты моя… залетная!.. – шепнула она надрывно, с болью, тряхнула кровать и убежала.
Но это было уже потом. А когда я пришел оттуда, где был вне жизни, открыл глаза… – я сразу не мог понять, что же такое – это?…
Это было – радость живого света.
Случилось это на третий день, как сняли с меня простынку, когда я ушел оттуда.
Я проснулся. Должно быть, было еще очень рано. Я увидал золотисто-розовое окно, легкие голубые занавески, новые на них ромашки. Они играли, кивали, пропадали, – ромашки по голубому полю. Солнце сквозило в них. За ними струился тополь – зелено-золотые струйки играли в нем. Густой, золотой, зеленый, – чудесный тополь! Голубою полоской сияло над ним небо. Оно дышало. Оно надувало занавески. Оно дохнуло и на меня свежей, густой струей, – земляникой, как будто… травкой?… – впивалось такою радостью!.. Я потянулся к свету… Руки мои упали, комната помутнела, заструилась, – мне стало дурно. Прошло. Я открыл глаза. Чудесное, новое, живое!..
Я вдыхал голубую свежесть, и первое мое слово, которое я вспомнил, было –
Утро?…
Сколько было в этом немом звучании – утро!..
Я лежал, очарованный. Лился в меня поток – солнечный, голубой поток, – вливался жизнью. Занавески вздувались, опадали. Играли на них цветочки, и все за ними: струившийся за окошком тополь, золотисто-розовые пятна на косяке, от листьев, язычок задуваемой лампадки, утренний стук колодца, журчливые голоса на воле, звонкие петушиные разливы… – все трепетало, играло, жило. Я ловил и вбирал в себя очарование новых звуков, – открывшееся мне чудо…
«Господи… это – жизнь!..» – пело во мне беззвучно.
И струившиеся голубые занавески пели, и радостные на них ромашки, и пятна солнца, и радость холодочка… И вот, когда я лежал один, очарованный первым утром, забытым утром, которое вернулось, – радостный, нежный шепот коснулся сердца:
– Ми…лый…!
Первое слово, которое я услышал, придя оттуда, – Милый-Белая Паша – она спала на полу, возле моей постели, – наклонилась ко мне, придерживая на груди рубашку.
– Тоничка…!
Нежный, чудесный шепот! Я сейчас же узнал ее.
– Паша… – выговорил я слабо, – ты… Паша?…
– Нельзя, милый, – шепнула она, как ласка, – не говорите.
Она отошла куда-то. Опять явилась и дала мне попить из ложки.
– Господи… – слышал я радостный, торопливый шепот, шуршанье платья. – Слава Богу… и узнает уж!
Я понял, что Паша одевалась: мелькало и шуршало голубое. Я видел, как она подошла к окну, обдернула скрученную занавеску, оправила лампадку.
– Паша… – позвал я слабо.
– Нельзя! – зашептала она тревожно, подбежала на цыпочках и ласково потрепала мои губы. – Нельзя же… ну ради Бога!.. – шептала она с мольбою, – доктор никак не велел… милый!..
Она нагнулась и поцеловала мне глаз, другой… – едва коснулась. Опять отошла, вернулась, поцеловала в губы. Опять отошла куда-то, и я увидал цветы… много цветов, в белых, чудесных крестиках. Их я как будто помнил, но как они называются – забыл. Чудесная белая сирень! Пышная, свежая, как утро. Паша достала ветку, провела по моим глазам, пощекотала…
– Милый…
Нагнулась, – я видел через ветку, – поцеловала в губы, под самой веткой.
– Ласточка ты моя… залетная!..
Мне было сладко от этой ласки – в первое утро жизни.
Меня заливало холодочком, зеленовато-белым, душистым, влажным. Через этот прохладный свет, через пышную веточку сирени, я видел новую комнату, новые занавески, вздувавшиеся от ветра пузырями. Они набегали на меня, обливали сияньем, небом…
Пропала Паша. Ушли голубые занавески. Ушло утро.
Я проснулся от щекотанья, от холодка. По мне струилось, приятно холодило. Радостный, звонкий вскрик раздался за моими подушками, и я увидал мордочку сестренки, тонкие ее пальчики, бегавшие у меня за шеей, за рубашкой. Я увидал миндалик, выпрыгнувший, сверкнувший, чудесно-белый… еще миндалик, выюркнувший у крестика на моей груди… Миндалики брызгали на меня, прыгали рыбками за шеей, скользили под рубашкой. Это моя сестренка сыпала мне миндалики, детскую свою радость. Я поймал у себя на шее один миндалик, холодный, мокрый, – и раскусил… Какая радость!.. А она прыгала и хлопала в ладошки:
– Смотрите, смотрите… он совсем выздоровел!.. То-ничка наш совсем здоровый… он съел миндалик!
Кто-то сказал – шшш… шшш… Зеленое окно за занавеской закрылось темным. Комната вдруг пропала. Сияла одна лампадка. Скрипнула тихо дверь.
Дремавшей мыслью прошло во мне – чудесное, радостное –
Завтра…
XLV
Завтра пришло и прошло. Я понемногу поправлялся. Закрывшееся болезнью прошлое начинало сливаться с новым. Серафима… О ней я боялся думать, но она выступала ярко и казалась совсем не Серафимой, а какой-то другой, без имени. Она будила во мне острое ощущение чего-то ужасно стыдного, связывалась со страшным и отвратительным, с Пастуховым домом, с ужасным черным быком, с грехом. Я мысленно напевал молитвы, но она выплывала и томила. В этом чувстве чего-то ужасно стыдного, в ощущении грязного чего-то, к чему я прикоснулся и что всегда связывалось с нею, были и сожаление, и тоска, и боль. Что-то я потерял, и оно уже не вернется. Дурного я ничего не сделал, – и все же меня томило, и было чего-то стыдно. Самым темным – вспоминалась прогулка с нею, ее разгоревшееся лицо, обнимавшие до щекотки и душившие меня руки, одуряющие духи, страстный и торопящий шепот, темневшие надо мной деревья… и так потрясший меня мертвый стеклянный глаз, в сине-багровых веках. В этом мертвом стеклянном взгляде вдруг мне открылось что-то, ужасно стыдное и отвратительно-грязное, связанное с грехом и – смертью?… Оно закрыло-замазало нежный, чудесный образ, живую Серафиму, чистую, первую мою, женщину-девушку…
«Она скрывала… обманывала меня!.. – горело во мне стыдом. – Кривая… стеклянный глаз… грязный, ужасный глаз!., я мог полюбить такую… писал ей такие письма и так вознес!..»
Вся ее красота, все ее обаяние – пропали. Серафима ушла. Осталась тоска утраты чего-то светлого.
Сидя один, в подушках, я плакал о ней, о прежней. И было до боли стыдно. Неужели – знают?! Я боялся спросить об этом. Знают?… – вглядывался я в тетю Машу, пытаясь прочесть в лице. Мне иногда казалось, что тетя Маша по-особенному поджимает губы и странно как-то поглядывает, словно хочет спросить о чем-то. Знает?… Сестра Лида, «прочитавшая все романы», поглядывала тоже как-то, с загадочной усмешкой. Знают…
Как-то, давая мне микстуру, Лида переглянулась с теткой и надула от смеха щеки.
– Ну, пей… писатель… – сказала она с намеком, – пей, «царица души моей»!..
Меня обварило варом. Тетя Маша зафыркала. «Царица души моей»?! Но это же… из письма к ней!.. Они узнали, читали мои бумажки, черновики…?!
– Ты чего это разгорелся так… заморгал?… – спросила Лида насмешливо. – А?… не болит головка… «прекрасный ангел рая»?… Нет, холодная, ничего… – приложилась она губами.
– А глазки как у него? – участливо наклонилась тетя Маша. – Ничего, шустрые, ясненькие… Его глаза… – сказала она баском, словно декламировала на сцене, – «достойны кисти художника – Творца»!..
Меня обожгло стыдом, я даже задохнулся, и глаза налились слезами. А Лида побежала к двери, сделала так руками, словно посылала поцелуи, и пропела:
– «Ваши глаза, как звезды ночи, будут отныне озарять для меня потемки будущего… и поведут меня в прекрасное далеко!..»
Она прыснула и выскочила из комнаты. За ней убежала и тетя Маша.
Я вскрикнул в бешенстве:
– Подло!., подло так поступать!.. Утащили мои бумажки… опозорили все мое!..
И я закричал в истерике. Они вбежали, обмотали мне голову мокрым полотенцем и стали перекоряться, что «так нельзя». Я неистово закричал: «Мозг мой горит пожаром!» – и повалился без памяти. Они перепугались, начали целовать меня и уговаривать: «Ничего, успокойся же, Тоничка… Боже мой!..» Лида упала на колени перед образами и принялась бешено креститься, – я это отлично видел, сощурив глаз. Они все плакали надо мной, притащили тазы со льдом и снегом, хотели даже приложить к пяткам горчичники. Мне это надоело, и я простонал чуть слышно:
– Дайте же мне хоть умереть спокойно… Я в полном сознании, но… может повториться… Оставьте меня, уйдите… хочу уснуть.
Крестясь и озираясь, они вышли на цыпочках. С этого случая – они больше не издевались, до полного моего выздоровления. Они узнали?! Боже мой, а где же ее письма?! Меня охватило ужасом. Были они в шкатулке… Значит, обшарили, все узнали!..
Заглянула Паша.
– Ну, как вы… Тоничка?… – спросила она робко.
– Паша… – умоляюще сказал я. – Я совсем здоров, но… меня терзают… меня истерзали, Паша!.. – не мог я сдержать рыданий. – Они… Дай мне шкатулочку от Сергия-Троицы… и уйди. Мне надо успокоиться.
Она принесла шкатулочку. Я перебрал все «редкости». Даже записочка Фирочки пропиталась ее духами, даже кра-бья лапка и хрустальное Пашино яичко. Хлынуло в меня прошлое, чудесная, неземная Серафима… – и стыд, и грех. Но розовых писем не было. Они утащили мои письма, мое последнее!.. И я зарыдал над заветной моей шкатулочкой, в серебряной-золотой фольге, с чудеснейшими «елочками» в морозце. Я долго плакал, накрывшись одеялом. Плакал и от обиды, и от стыда, и от обмана, и от сознания, что было такое чудесное и ушло, замазалось чем-то гадким.
«Боже мой… – в ужасе думал я, – все теперь знают все… я совершенно опозорен!., лучше не жить на свете… отравиться…»
И вдруг я вспомнил, что в самый тот день письма ее были со мной, у сердца! Я кликнул Пашу, спросил, – где моя белая курточка? Она сказала, что курточка готова, – «опять можете щеголять».
– Хороши вы тогда явились, от всенощной! – сказала она с усмешкой. – Так-то изгваздались… Где только вас вываляло в глине, – в церкви, что ли?… Вон, ваша курточка, выстирала…
– Там… ничего нет, в кармашках?
– Марья Михайловна все выбрала, что было… все ваши бумажонки душистые! – сказала она ворчливо. – Ничего, опять напишут…
Я промолчал, ни слова. «Взяли, ограбили… Эраст Эра-стыч не велел меня волновать… на цыпочках даже ходят… – с горечью думал я, – дают по часам лекарство… но стоит мне только выздороветь, они все примутся меня мучить». Я вспомнил мои письма… знал я их наизусть, до самой последней буквы, – и они казались теперь бесстыдными. Я сгорал от стыда, от которого не мог никуда укрыться: словно меня раздели перед всеми, на улице. Как же мне теперь быть?…
Спросить Пашу…? В Паше я был уверен, в одной Паше. Она меня любит больше всего на свете, – я это чувствовал. Я знал, как она страдала, как она «ревела», – рассказывала тетя Маша, – когда я горел в болезни, скидывался с кровати, бредил. Я знал, как она бегала в часовню, к Великомученику Пантелеймону, шила шапочку – «всю залитую слезами». Тетя Маша как-то сказала ей:
– Раз дала обещание, надо… а то Бог накажет, смо-три!.. Я спросил, что за обещание. Тетя Маша сказала:
– Ну, мы все за тебя молились. Я вот дала обет десять раз сходить к «Нечаянной Радости» – и схожу!..
«А для мучника Пантелеева, если на ней женится, сорок раз сходить к Иверской обещалась! – подумал с досадой я. – А для меня только десять!»
– А Паша вон дала… к Сергию-Троице взад и вперед пешком сходить. Вот сколько ты хлопот наделал!
– Лучше бы уж я умер, чем доставлять такое беспокойство… – сказал я сдавленным от рыданий голосом: после болезни я часто плакал.
– Не смей так… ужасный человек, безбожник! – затрясла на меня пальцем тетя Маша. – Ему жизнь вернули, а он, так…!
– Кто это мне вернул? кто?! – зарыдал я в голос. – Не вы, а Бог! И пусть Он и возьмет ее!!! Не хочу жить, не надо, не надо мне!..
– Ну, успокойся, голубчик… не нервничай… Мы поговорим, когда ты выздоровеешь… обо всем!.. – сказала, поджимая губы, тетя Маша.
Я знал, о чем будут говорить, мучители! Надеяться можно было только на одну Пашуточку. Все эти дни она была необыкновенно нежна со мной, такой не видал еще. Оставаясь одна со мной, она опускалась на колени возле моей кровати, гладила и целовала мою руку и тискалась головой к груди. И все шептала:
– Ласточка вы моя залетная… Тоничка мой, сердечный… Никого у меня, окроме вас, Тониночек мой…!
Мне становилось сладко и грустно-грустно, – словно мы только одни на свете.
И вот я спросил у Паши:
– Паша, скажи мне все… что было!..
Она насторожилась. Сине-голубые глаза ее взглянули на меня тревожно, горестно.
– Чего было…? Да ничего не было… захворали – и все.
– Нет, нет… я отлично помню, что было – до… А когда меня привезли на извозчике, что потом было?… Паша, скажи мне все!.. А то я могу умереть совсем… – прибавил я, чтобы напугать ее. – Мне это нужно! я мучаюсь, у меня может зайти ум за разум… опять что-то начинается с головой…
Она затормошила мою руку.
– Тоничка, только не заходите за разум… – зашептала она, трогая мою голову, – я все скажу… только не сказывайте, не велели, чтобы тревожить вас… боюсь я!.. Тоничка… – Клянусь жизнью! – воскликнул я, – я унесу с собой в… затаю на сердце!.. Знаешь, у меня украли ее письма!.. Ты знаешь!..
Она отвернулась, поджала губы, тяжело вздохнула…
– Да что ж… всякого хламу было… все перешарила ваша тетя Маша с Лидочкой! И мою «уточку» выкрали… от ее, говорят!.. Все бумажки из курточки вышарили. И вы-то тоже хороши… со всякой кривой шлюхой…! Тьфу!.. И что тут только бы-ло!..
И она рассказала все. Оказывается, не только украли письма, выкрали все записочки и стихи: они посмели даже пойти туда, к ней, и устроили такой постыдный скандал, что чуть не дошло до мирового.
– Мамаша еще, спасибо, ничего не знают. Им уж и не говорят, вас чтобы не тревожили. А бахромщицы все слыхали, как там шумели. Марья Михайловна последний глаз той хотела выдрать, так и обозвала: «Кривая шлюха, мальчишку, поганка, соблазняла».
– Она так… сме-ла?! – в ужасе слушал я.
– Самыми последними словами ее… а той и сказать нечего, письма-то на руках у тетки. Вьюноша так соблажнять! Она замертво прямо повалилась, водой уж отливали. И все записочки ваши отдала: «Возьмите, говорит, эти детские записочки!» И зарыдала.
– Она… отдала им мои письма?! – вскрикнул я так страшно, что Паша кинулась ко мне и зажала рот.
– Тоничка, не расстраивайтесь!.. Стала плакать, что была как сестра, жалела, будто… успокоить хотела… мальчика! А у ней будто… жених есть, фершал. Ну, они и стали все читать-хохотать. Заперлись с теткой и ужахались, смеялись. Я все слыхала. Ах, Тоничка… – зашептала Паша, моля глазами, – скажите уж хоть мне, по правде… никому не скажу… были вы с ней… в любови?…
Я перекрестился, что не было ничего, решительно.
– Тоничка… поглядите на меня, в глаза… у вас чего-нибудь… было? Я сама слыхала, как тетка шушукалась с сестрицей – «руку на отсечение отдам, она его совратила!» А Лидочка не верит. Они еще вас будут выпытывать, увидите! Скажите… было?! Хоть шепните…
– Клянусь! Жизнью клянусь… пусть опять воспаление мозгов…!
Она порывисто обняла меня и прижалась к губам щекой.
– Господи!.. – вздрогнула она вся и стала меня крестить. – Что я, сумасшедшая… Головка не болит?… – приложила она губы к виску и шее, как делала тетя Маша, и стала целовать и глаза, и губы, и все лицо. – Кажется, ничего… Ах, какие у вас глазищи стали огромадные… как Михаил Архангел у Казанской!.. Вредно вам… сволнуетесь опять…
Я не мог удержаться от рыданий. Она целовала мои слезы.
– Паша… все меня опозорили, ненавидят… одна ты меня жалеешь…
Я плакал от жалости к себе. Я выплакался, и мне стало легче. Паша сидела на полу, опершись локтями на подушку, и грустно смотрела на меня. Помню, был тихий вечер. Кто-то за окном пел грустно так, тенорком: «Святый Боже, Свя-тый Крепкий»… Душу мою обвеяло молитвой.
– Кто это… хорошо так поет у нас?… – с удивлением спросил я. – Монах зашел?
– Нет, Степан наш, кучер.
– Как, Степан-кучер?! – даже испугался я. – Да он же…?
– А новый, тоже Степан… уж три недели у нас живет… – сказала вздыхая Паша. – А верно сказали вы, что монах. Мы его все зовем монахом, такой чудной. Он хороший, священный. Библию все читает, самую толстую книгу. Такой громадный, русый… красивый мужик, и молодой вовсе, а в монахи готовится, ей-Богу!.. Говорит, на миру один грех, надо в монастырь спасаться, как святые отцы. И все-то знает!.. – она вздохнула. – Да и верно, как по писанию… от греха надо дальше. Он нам уж все рассказывает про Адам-Еву, про монастыри. Непьющий, некурящий, одно только духовное поет. И на лицо не смотрит, глаза все так… на руки себе смотрит. Как вот девушка, а здоровенный!.. Ни-когда худого слова не скажет… Гришка и то его не дразнит. Говорит – «святой урод», есть такие…
Меня это почему-то заинтересовало, обрадовало даже. И тоже – Степан! Один ушел, другой пришел. И совсем другой.
Мы слушали, как сладко пел тенорок. Пропел «Достойно», потом стал колоть дрова у сарая, и доносило в треске сухой березы: «…Бога истинна от Бога истинна-ааа… рожден-на, несотворенна, единосущна Отцу-у»… Пели за ним вечерние петухи. Ударили ко всенощной.
– Ну, а потом что было?… – спросил я Пашу. – Простили ее?…
– Давно уж и съехала от Кариха, унесло. А что-о тут бы-ло-о…! Скандал такой… Карих-то ведь с ума сошел! Да, совсем спятил! Вы три недели без себя были, а тут у нас скандал за скандалом. Как с вами случилось это, они на другой день к ней побежали, к вечерку. Письма отымать. А тут толстый фершал пришел, заступаться стал, что не смеют оскорблять. А Марья Михайловна ему прямо: «Я главному доктору Эраст Эрастычу нашему пожалюсь, он тебя с места долой!» Ну, тот испугался, что его места решат, стал тоже на нее кричать, на нашу сторону стал! На другой день съехали на Ордынку куда-то, как ветром сдуло. А Карих тоже тут шуметь стал, и спуталось у него в мозгах. Выбег голяком на мостовую, да с петухом! Стал петуха щипать, пух полетел… да за ноги и разорвал пополам, при народе! Наро-ду собралось…! «Вот, – кричал, – какое она колдовство мне делала! петуха подсунула, чтобы женился!..» Хохоту было…! Побег во двор, схватил метелку, окна побил, за бахромщи-цами гоняться стал, так одну бил по голове… ну, его городовой с Гришкой, и еще помогали… связали… в сумашедший дом отправили. Стеклами все руки порезал… так из него, ключом!.. Бахромщицы рассказывали, будто она его соблазняла, дом чтобы подписал… мать, будто их сводила… а ей-то он не ндравился…
В ту ночь я долго не мог заснуть, все плакал.
XLVI
Наконец ко мне допустили Женьку. Сперва он прислал записку на голубых клеточках из математической тетрадки. Паша передала тайком. Писал Женька с росчерком, лихо:
«Дружище Тон! Хорошо, что ты выдрался из когтей смерти. Целую тебя, чертушка, в глупую твою мордасию и имею честь сообщить вашему превосходительству, что Рубикон перейден! Я шестиклассник, как и ты, дубина. Ты, должно быть, уже знаешь, что перевели тебя по годовым отметкам, Васька даже троечку натянул, во внимание „к мукам любви!“ Что я говорил: „Не верь восторгам упоенья!“ Все – чепуха. Надо индифферентно относиться к этому вопросу. Обязательно притащу тебе два тома „Жизнеописания Наполеона“. Вот это книжица! Скажи домочадцам, чтобы скорей допустили меня, я тебе расскажу такое, что даже твоя дурацкая голова треснет. Я дежурил под твоим окошком в самые критические часы и чуть не срезался у историка. Лобызаю твои глазки и остаюсь неразрывно-вечным другом. Дон Хозе дель Санта Педро. Двинем-ка пешедралом к Троице? Идет?… Имею капитал – 2 рубля 75 копеек. Хватит!»
Я читал и плакал, что имею такого друга. Записочка окончательно подняла меня. Все – впереди, чудесная, радостная жизнь!
Эраст Эрастыч сказал, что теперь я «на рельсах» и можно допускать посетителей. Помню, я сидел в кресле, еще в подушках, и любовался на воробьев. Тетя Маша принесла тазик, умываться. – Ну-с, умойте «ваше ангельское лицо»… и я допущу Женьку. Все пороги у нас обил.
– Тетя Маша!.. – радостно вскричал я. – Но… зачем вы мучаете меня? Зачем взяли мои письма?! – вырвалось у меня с мольбою, и я зарыдал от радости, что увижу Женьку, и от обиды, и от стыда – за все.
Она вдумчиво поглядела, с лаской, и взяла нежно за уши.
– И ты еще можешь вспоминать об этом?! Благодари еще, что это наша тайна, твои эти ловеласничества! И кто развратил тебя?!
– Если бы вы сами пережили, вы бы не говорили… вам непонятно все поэтическое в любви… самое…
– Мне все понятно! – сказала она гордо. – Что ты вообразил… что мне не могут написать такое?… Только не с тобой мне говорить о таком… – продолжала она загадочно, отводя глаза. – Но я горю со стыда, что… Посмотри на меня… Нет, ты прямо смотри, не моргай, а чистыми глазами посмотри!.. Ну…?
Она впивалась в меня зеленоватыми глазками, в которых сияла… радость? Последние дни она что-то все напевала, вертелась даже и прыгала, как девчонка. Она пышно взбивала челочку на лбу, напоминавшую мне новую мочалку, душилась даже! Неужели мучник Пантелеев сделал ей предложение?
– Могу поглядеть в глаза хоть всему свету! – вызывающе сказал я.
– Ты… косишь! – воскликнула тетя Маша. – Ты… у тебя бегают бесенята в глазках, ты не тот, не тот!.. Ты… испорчен!.. Я чувствую, чувствую!.. Можешь сколько угодно креститься… – бесенята в глазах играют!..
– Может быть, потому, что я выздоравливаю, тетя…?
– А… такие письма?… такие… страстные!.. – почему-то зарделась тетя Маша. – Ах, какие ты… и ты, ты мог писать так!! Только самые настоящие мужчины, опытные мужчины могут так… завлекать!.. И Лида… она все романы прочитала… она прямо… только у французов так, порывисто!.. Ну, я еще тебя… Умывайся.
Она принесла тазик с теплой водой, сама меня умыла с необыкновенно душистым мылом, какой-то «весной любви» – «Для тебя только, дурачок, пожертвую!» – шепнула она мне, мотая челкой и целуя мои глаза. Исцеловала до затылка и шептала:
– Первого такого вижу, маль-чишку… – душила она меня. – Какой же ты ужасный будешь, если уже теперь… такое!!! Ты же еще совсем, совсем… ангельчик!..
Она ущипнула меня за щеку, говоря, что надо «подрумянить», щипнула за другую. Полюбовалась, как разгорелись мои ввалившиеся щеки, всплеснула на меня руками: «Глаза у тебя какие, Тонька!..» – и упала ко мне на грудь. Я даже испугался.
– Только тебе, по секрету… Слушай… Мне сделали предложение! Но это тайна. Он… удивительно благородный человек… красавец… и брюнет!..
– Пантелеев! – воскликнул я. – Я же вам предсказал…!
– Ничего подобного! Тот грубый торгаш, а этот… кончил коммерческое училище, сорок три года ему и… у него посудная торговля. И это мыло… первый его подарок! «Весна любви»… Он прислал мне признание… в любви… – прошептала она, пряча лицо в подушки, и вдруг захохотала, вскочила и закружилась по комнате. И вдруг пропела… мои стихи!
Я выпучил глаза, а тетя Маша вылетела из комнаты, – и появился Женька. Он сделал два гордых шага, остановился и торжественно скрестил руки. Я еще сидел в кресле, был еще очень слаб, и только полюбовался. Устремив на меня взгляд любви, но строгий, Женька втянул подбородок в грудь и выговорил удивительным басом – гмм!.. Не сводя с меня чарующего взгляда, он полез за новую, парусиновую курточку и вытащил знаменитый кавказский кинжал, «по преданию нашего семейства, принадлежавший самому Шамилю, орлу Кавказа»! У меня задрожало сердце, и слезы заволокли глаза.
– Друг… – мрачно прохрипел Женька, – в этот час встречи… я дарю тебе эту историческую… гм… штуку, с которой не расставался в самые трагические минуты жизни! Храни его, как… символ мужества!..
Он показал мне лезвие с ржавыми пятнышками.
– Смотри, это капли крови… прошлого!.. – шепнул он и так меня крепко обнял, что захрустели кости. На его загоревшем лице я уловил предательскую слезу. Потом, в волнении, мы молчали. Он мерил шагами комнату.
– Меня сейчас попрут… разрешили только на десять минут. Но… мы поговорим потом. Я рад. С ней… – неожиданно сказал он, – все кончено! Был обман. Она – кривая! И у ней – стеклянный, фальшивый глаз! Я понимаю твое потрясение, чуть не стоившее тебе жизни. Не стоит размениваться на мелочи. К черту увлечения, недостойные мыслящей личности. Я давно предвидел, что она кривая, во всех отношениях, и потому относился иронически. Ты, как идеалист, попался в ловко расставленные сети. Тон… – сказал он, отворотившись, глухо. – Как друг, скажи… Ты остался… девственной натурой… или…? Одно слово, ты… пал?…
– Клянусь…! я был на краю… но моя сила воли удержала от рокового шага!.. – взволнованно прошептал я.
– Верю, и кончим этот щекотливый разговор, – сказал он, очень довольный. – А то бы ты сильно упал в моих глазах! Я спокоен. Прочти «Страдания молодого Вертера» – и ты все поймешь. Одна удивительная особа, гимназистка, с нашего двора… чарующая блондинка… та самая, которой ты когда-то так нахально поклонился и наврал, что у тебя с ней встречи… она только что к нам переехала… дала мне эту потрясающую книгу гения, и я отхватал ее за один присест. Я под страшным впечатлением этой любви, и только один Наполеон еще может соперничать в моей душе с новыми чувствами. Теперь – вперед, к университету, к цели! Надо слагать, наконец, собственное мировоззрение.
Эта встреча меня благотворно взволновала. До чего же прекрасно – жить!..
XLVII
Новый Степан принес в мою комнату огромную цинковую ванну, грохнул. И улыбнулся в меня чудесными белыми зубами.
– Доброго здоровьица, сударь! – весело сказал он, и меня просто осияло.
Он был огромный, тяжелый, мягкий, пушистый даже. Белая его рубаха, из деревенской холстины, блистала белизною, подчеркивала здоровое, крепко румяное, ясное лицо его, светлые, голубые его глаза, – удивительно добрые, радостно и спокойно смотревшие на меня, в улыбке. Большая русая голова, в добрых вихрах, мягко курчавившаяся пушком бородка – придавали ему пушистость огромного, доброго медведя. От него пахло полем, раздольем, солнцем. И это раздолье слышалось в медленной, чуть с напевом, ласковой его речи.
– А я помыть вас хочу, все ваши болести смыть… как говорится, «банею водною во глаголе»… Чистая душа – чистое тело-плоть. И помоемся, и Богу помолимся… вот и хорошо, ладно будет. Водички вам сейчас наношу. Образа у вас благолепно хороши! Древлии, старого письма. Ну, за водичкой пошел.
Я вдруг полюбил его, этого нового Степана, – у меня заиграло в сердце. До чего же чудесно жить!.. И чудесно-ловко позвякивает он ведрами, опрокидывает их в ванну, как чашечки, идет плывуче, любуется, как шипит вода. – Ну, с Господом… вот худященький вы какой! Это ничего, душа была бы в духовном теле, а… Не горяча водичка-то? – напевал он, лаская меня мочалкой. – Напечатано в книгах – пустынники не мылись… – разговаривал он со мной, с собой, с водичкой, с мыльцем, казалось мне. – Но я полагаю, что это не от Господа, а от мнения. Мойся, питайся, радуйся… – будь как лилия полевая, умывайся росой-красой, солнышком вытирайся… – а душа петь будет Господу красоту Его! У вас вот горе было, мозги горели… а это в очищение! Послал Бог. Я знаю, мне Паша говорила… а вы радуйтесь! Господь огонь посылает – опалить тело, как свинью палят к празднику! И Иоанн Златоуст говорит: «Опалитесь и обновитесь!» В глазок попало?… А вот когда в сердце оружие пройдет, горе… – надо живой водой омыться, от Писания: «Аз есмь вода живая»!
Он напевал как будто ласкающую песню. Он обвивал мое сердце светом, – пушистый, мягкий мужик Степан. От него веяло чистотой и волей. Сидя в ванне, под его светлыми глазами, под его мягкими и ловкими руками, я чувствовал, как мне славно. Взмывала моя душа, и темное, что в ней было, стекало в ванну.
– После баньки всегда легчает. Еще окачу разок… – ласково говорил Степан. – Ну, Господь даст, на здоровье будет… так-то-ся. И лошадки любят, как мыть поведешь к колодцу, а человечья душа играется!.. А пустынники это от мнения. Будь чистый… а то есть нечистый! Ему так определено. Он – те-мный… и дела его темные. Есть свет, и есть тьма. Есть зло, и есть добро… и каждый в себе понимает. «Аз есмь – Свет! – сказано в святой книге. – Берегите Свет, и тьма его не обья!» Вот. С легким паром.
Он накинул на меня простынку и перенес перышком на кровать. Он нежно обтер меня, перекрестил почему-то и поцеловал в голову.
– Здоровей рости, братик… – перешел он со мной на «ты», и я – заплакал… от этой ласковости, от мягкости его рук, от синеватого света глаз, – от Света.
В этот памятный день выздоровления, первой моей встречи со Степаном, с другим Степаном, я особенно глубоко почувствовал, гораздо глубже, чем в золотистый субботний вечер, когда я смотрел на стадо, что есть две силы: добро и зло, чистота и грех, – две жизни! Чистота и – грязь… что разлиты они в людях, и люди блуждают в них.
– А теперь, братик, Господний сон на тебя найдет, после баньки всегда бывает. И вот, погляди… кататься с тобой поедем скоро.
Через смыкавшиеся глаза я видел светлого мужика, возившегося с водою, пушистого, мягко ступавшего, ласково громыхавшего. Я думал дремотной мыслью: «Как хорошо на свете… милый какой Степан… как легко на сердце… все прошло… петушки поют ласково… светлое какое небо, вечернее… если бы все такие были… как славно поет молитву…»
Степан подымал ванну, взвалил на спину, поволок. Уже со двора доходило пение: «Без нетления Бога-Слово ро-о-одшу-юуууу…»
И засыпая, я мысленно закончил:
«…сущую Богородицу Тя велича-ем!..»
XLVIII
Я проснулся свежий и радостный. Я – здоров?… И зная, что я здоров, я потянулся сладко. Троицын День сегодня!.. Вон и зеленые березки под образами и по углам, над дверью, над моей кроватью. Березовой рощей пахнет. Я смотрю через голову – повисли зубчатые листочки, крупные, – зеленые колбаски. Срываю, разминаю… – пахнет лесною глушью. На подоконнике – беленькие кудряшки ландышей, в сочных листьях, пунцовые пионы в банке, – Троицын День. Я из кровати слышу, как пахнет ландышами, их сладкой и горькой свежестью, – шуршащим холодочком. Я – здоров!.. Руки мои тревожны, хотят свободы. В доме, кажется, никого, – ушли с цветами. В кухне, внизу, выстукивает котлетный нож – кухарка начинку рубит, пирог готовит. Господи, я здоров!.. Милые мои березки, тихие… Стучит-прокатывает рубель, – это Паша белье катает, – торопится, кофточку будет гладить. В передней, за моей дверью, кукушка прокуковала – десять. Кукушка, березовая роща… – праздник!..
Заглядывает Паша, новая, незабудковая Паша. Платье на ней шумит. Белое платье, в незабудках.
– Паша, а я здоров! – весело кричу я. – Совсем не кружится…
– Будете одеваться?… А то полежите… обедня нонче долгая.
Грустная она сегодня. Да и все эти дни – какая-то… Словно что потеряла – и не найдет.
– Слава Богу… вот вы и выздоровели. Будете жить, долго…
Она ходит по комнате, что-то ищет. Поправила голубые занавески. Нагнулась к ландышам.
– Хотите, на столик к вам?…
Теперь – она почему-то не говорит мне «ты», не шепчет. Потому что я выздоровел?… А еще недавно шептала «милый» и целовала руки. Я чувствую – что-то с нею, случилось что-то. Ее я люблю больше всего на свете. Чисто ее люблю, духовно. Духовно – мне очень нравится. Вот: так и надо – любить, духовно. То есть, идеально?…
– Тоничка… – говорит Паша и не смотрит – в окошко смотрит. – Помолиться хочу за вас… к Троице завтра пойду пешком… Ах, какие веселые березки!.. Пойду, цветочки собирать буду, сплету веночек…
Я вижу ее профиль, тонкий, с впалою щечкой, с заострившимся носиком… косит голубой глазок.
– Ты хочешь исполнить обещание? Сколько я причинил хлопот… Помнишь, сказала тетя Маша?…
– Глупости какие!.. Я даже рада… пойду и пойду ходить, в деревне где заночую… хорошо-о!.. А скучать станете без меня?…
Она нагибается к ландышам, долго-долго…
– Немножко буду скучать… – хочется подразнить ее. – Чуточку поскучаю. А ты?…
Она отрывает лицо от ландышей, смотрит ко мне, идет… Я вижу ее глаза. Они печальны. Она тихо подходит, оглядывается на дверь, садится на край постели.
– Ах, буду об вас скучать… – говорит она грустно, перебирая край одеяла в пальцах. – Привыкла я к вам, Тоничка… Да что!..
Она вскакивает с кровати и начинает прибирать в комнате. Ставит на столик ландыши. Смотрит на меня как-то странно, – и вот, начинает опускаться, опускаться, хватает мою руку, стискивает ее…
– Ах, милый… Тоничка мой… покажите глазки… посмотрю… – в слезах говорит она, сжимая мою руку. – Идет кто-го?… Нет, обедня долгая…
Она тычется головой в мою подушку, я вижу ее косу, щекочет мои ресницы. Сегодня она в косе. Я украдкой ее целую, ее косу…
– Можно в душку поцеловать?… – спрашивает она робко, тихо.
Я открываю рубашку, оттягиваю голову, даю «душку». Мне приятно-щекотно, когда она целует. Я сам целую ее, в душистые волосы, вижу белый, как ниточка, проборчик. Меня не волнует это: я же люблю духовно. Она подымается, берет мою руку и начинает заматывать косою. Зама-тывает и так, и так, – играет. Глаза ее печальны, начинает моргать, моргать. Она опускает голову, смотрит себе под локоть… – Паша, почему ты плачешь? какие-нибудь неприятности у тебя?…
Мне больно слышать, как она всхлипывает и давится.
– Так… – говорит она изнутри, с усилием. – Вспомнилось… сирота я… Троицын День… и веночка-то никогда не завивала… – говорит она взрыдами, чуть слышно. – Будете скучать по мне?…
Я хочу ответить, но она вскакивает, не дает сказать. Она опять начинает убирать в комнате.
– А на дачу так и не поедем, поздно… А что, если обещалась чего, накажет Бог, если не сделать? Я знаю, что накажет. И наш Степан говорит… и сны я вижу, что надо… белой себя видала. А что я вам, Тоничка, скажу… Вот как вы совсем помирали, у образов… в тот вечер монашка к нам из Хотькова заходила… собирают они для Бога… ужинала у нас, ночевать оставили… Она мне чего сказала!.. Я ей сказываю, вот у нас мальчик-вьюнош помирает… третью неделю себя не узнает, а я Богу молюсь за него… даст Бог?… А она: «Даст Бог, молись – и даст Бог, обещай чего по душе!..» А Марья Михайловна скатилась к нам на кухню, кричит: «У него голова крутится под спину, кончается!» Я и пообещалась… при ней, при монашке той… мать Маргарита, хорошая такая. Она и перекрестила меня… «Вот смотри, говорит, он встанет!» Вот и вышло, встали, Тоничка…
– Вот и сходи, конечно… – сказал я Паше, любуясь ее глазами: смотрела она, как Богородица!..
– А то накажет Господь… тем человеком и накажет. Монашка сказывала. Это – как испытание. Не шутка…
– Каким – «тем человеком»? – не понял я.
– А который… за которого обещалась!.. Может, чего опять случится… заболеть смертной болезнью. Так много разов бывало, будто…
– Ну, конечно… сходи… – суеверно подумал я, и стало мне почему-то стыдно: столько из-за меня хлопот!
– Люди везде живут… – кротко сказала Паша. – Для Бога… И Степан тоже говорит; «Живите с духом!»
Она подошла к березке, остановилась, – будто стоит в лесу. Она показалась мне светлой-светлой, как белая невеста. Почему-то я вспомнил Пасху, как она подарила мне яичко, как прыгала «сорокой»…
– Пашечка… – вырвалось у меня невольно, – покажи «сороку»!..
Она встряхнулась, радостно на меня взглянула…
– Ну!.. – мотнула она косою, – смотрите, ладно!.. Она отбежала к двери, подняла до колен платье, сдвинула ножки, тонкие, в черных чулочках с голубыми полосками, подобрала юбку хвостиком. Завертела головкой, как самая настоящая сорока! Скакнула боком…
– Вот сорока летела… хвостиком вертела… села… Да что я, чумовая!.. – спохватилась она и опустила платье, – обедня еще идет.
И жалобно на меня взглянула.
– Лучше я «зайчика» покажу?…
Она села под березкой и стала «умываться». Но и «зайчик» у ней не вышел.
– Приехали от обедни!.. – сказала она, заслышав, как стукнули ворота. – Побегу я…
Это было последнее свиданье с Пашей. Ранним утром Духова Дня пошла она на богомолье, странницей. Провожала ее до ворот кухарка. Потом Катерина рассказывала часто:
– Это она загодя еще удумала, готовилась. Сухариков ржаных насушила, сумочку сама пошила, лапотки напротив в лавчонке выбрала, надела самое-то плохонькое платьишко, белым платочком повязалась… по-шла! «Прощай, говорит, Катеринушка… не суди меня, я за вас Богу молиться стану…» Да… – начинала всхлипывать Катерина, утираясь передником, – «Богу, говорит, молиться… за вас… что ж мне, говорит, мыкаться-то сироте… из-за меня сколько горя было…» Это она все из-за того… что Степан-то не своей смертью помер! Она сколько раз поминала, что из-за нее он. А наш-то Степан, глупый, ее нахваливал, потрафлял все… «Надо о Боге думать да об душе… посвяти свою красоту на святое дело… пожертвуй!..» И за Тоничку при монашке обещалась… – уйду и уйду, если жив будет! Вот и ушла… Ну, Господь с ней, не на плохое дело…
Когда это узналось, – а узналось через неделю, когда приехала из Хотькова старушка монахиня за Пашиными вещами и сказала, что в трудницы Паша определилась к ним, и – «пожалуйте зажитое, паспорт ее и укладочку с платьями и добром, Бога ради», – меня это потрясло ужасно. Я был уже на ногах и даже выходил в садик. Сказал мне в садике Гришка:
– Про-пала наша Пашуха! – и засмеялся. – В монашки пострыглась!..
Я так и сел на дорожке, под яблонькой.
– Вот дура-то полосатая… добилась! Ездить на ней там будут. Я энти дела все знаю, чего в монастырях делают. Попам разжива… наскочит на какого протудеякона…! Эх Тоничка… что я вам предупреждал?… Малин-ка была, прямо, а!..
Я насилу, дошел до комнаты. И так я плакал, как никогда не плакал!.. «Паша… Пашечка моя… зачем ты так?!.. – взывал я, ломая руки. – Не сказала… ни словечка мне не сказала… не попрощалась!..»
Я рыдал в подушку, я оплакивал первую любовь, первую, самую чистую, детскую любовь… первую радость жизни. Я вспоминал страшную странницу из недавно прочитанной книги Мельникова-Печерского – «На Горах», любимой книги, где такой же, как я, несчастный потерял Фленушку, ушедшую на его глазах из «мира». Я вспоминал «Юрия Ми-лославского»… – и рыдал, рыдал…
«Но я же могу написать ей… я ей докажу, я приведу ей ужасные случаи, трагедии и драмы, когда люди сжигают чужое сердце из пустяков! Я могу же добраться до Хотькова… найти случай встретить ее украдкой… и я сумею ее вернуть!!!»
И я сладостно рисовал себе:
…Мы – я и вернейший друг Женька, – перелезаем через монастырскую стену, проникаем к ней в келью… Она стоит на ночной молитве. Ее милая бедная головка, под черной шапочкой, бьется о каменные плиты пола. Ее бледные губы, – монастырские камни уже успели высосать розы с ее лица и губок, – ее бледные губки шепчут молитвы? воспоминания? может быть, милое чье-то имя, незабвенное имя человека, который когда-то их целовал так нежно? Кто узнает монашескую тайну?! Только немые стены суровой кельи. С благоговением я взираю, как вздрагивают ее плечи, слушаю сдавленные рыданья, вздохи. Она отдалась молитве. Сзади торопит Женька: «Спешим, скоро рассвет! Если она откажется, мы обязаны применить даже силу, но мы вырвем ее из этого каменного мешка… из этой могилы жизни!» Я прикладываю к губам палец: «Тише… мы не смеем нарушить ее молитву!» Скрестив на груди руки, я замираю в нише, у порога. Розовая лампада бледно озаряет бедное убранство кельи. На голой, белесоватой стене, над самым изголовьем девственной ее постели, где голые доски едва прикрыты бедным, но белоснежным одеяльцем, рядом с потемневшим образком «Казанской», – висевшим когда-то в другом месте! – я узнаю в веночке из незабудок карточку молодого человека, не совсем для меня чужого. Серая гимназическая куртка, открытое, мужественное лицо, светлые, радостные глаза… «Боже! она любит?! – сладчайшей болью пронзает мое сердце, – она не в силах забыть!!!» Она медленно поднимается с колен, вешает у аналоя четки и долго-долго, задумчиво смотрит в окно с геранями, за которым уже начинает синеть рассвет. Я готов кинуться к ней, упасть перед нею, обнять ее слабые колени, прижаться к черному одеянию, к этому ужасному покрову смерти… – но что-то сдерживает меня. Женька взволнован, – я это чувствую по его нервному покашливанию, – но не дерзает войти, нарушить священное свидание. Вот она поворачивает головку… ее глаза широко открыты, в безумном ужасе… она протягивает трепетную руку, как бы хочет оттолкнуть от себя видение, другою хватается за сердце… «Вы?! – чуть шепчут помертвевшие ее губы, – вы… здесь?!» – «Да, я – здесь! – шепчу я безумно, в муке. – Но, Паша, жизнь моя… не могу без тебя, вернись!!! Заклинаю всеми муками ада души моей!..» Она в бессилии опускает голову. Я вижу, как она, в мучительной борьбе с собою, отрицательно качает ею. «Увы… – лепечут ее губы, – поздно… вчера… был постриг… и вы ошиблись… я не знаю вас… перед вами сестра Пульхерия!..» – «Зачем ты разрываешь мое сердце… а, Паша! – умоляю я. – Ты любишь меня и здесь… есть данные!.. Смотри!.. – показываю я на карточку в веночке. – Этот печальный отзвук прошлого!» Она закрывает мертвенное лицо, борясь с собою. Страшная минута колебаний. – «Вы ошиблись. Умоляю вас… уйдите… не смущайте израненное сердце… последний мой покой… в святой обители…» – шепчет она с мольбою, смотрит… и я… я узнаю чудесные глаза, как незабудки, на них дрожат слезинки! Только миг. Она вдруг выпрямляется, ее лицо бесстрастно, – холод, лед. – «Той, кого вы ищете… нет здесь! Есть только сестра Пульхерия… дайте мне покой…» – Голос ледяной, бесстрастный. И, не замечая, как я убит, склоняется у аналоя. Женька стучится в келью: «Спешим, иначе нас захватят! Я вижу, как звонариха плетется к колокольне… и занимается заря!..» Я бросаюсь к коленопреклоненной, обнимаю, и после кратковременной борьбы я с силой разжимаю холодные уста и запечатлеваю последний, братский поцелуй… и убегаю. В цветнике, среди цветов печали – георгин и астр, я оборачиваюсь, вижу… Тихо отворяется окошко, и чья-то бледная рука благословляет предрассветный мрак… как будто говорит – «прощай!»…
Я рыдал, рисуя себе сладкие картины мук. Меня застала Лида.
– Тон…? Что это значит, почему ты плачешь, Тоник?! – спросила она в тревоге. И тут, уже не в силах удержаться, я ей открылся. Она задумалась и заглянула в мои глаза.
– Ах, братишка… какой ты странный мальчик! Ужасно, какая у тебя мечтательная душа. Но почему же это у тебя… так рано? Кажется, еще ни в одном романе…! Ну, успокойся. Во-первых, твоя Паша… – как это у тебя все быстро! – не постригалась, а просто послушница, ушла в монастырь поработать… и, смотри, годика через два еще замуж выскочит, не за тебя, понятно, потому что ты еще мальчик, хоть и с наклонностями… Не делай такие глаза, пожалуйста… А во-вторых, столько еще ты встретишь разных «глазок», в твоих мечтах, конечно… да еще с этими глупыми глазищами… Не щурься, пожалуйста, не кокетничай… – похлопала она меня по глазам нежно-нежно, что меня очень удивило. – Вот, глупый… ну, чего ты опять, плакать?… А твои «розовые письма» я тебе как-нибудь отдам, годика через три. Впрочем, ты сам даже можешь написать не хуже… А для отвлечения прочти-ка «Дворянское гнездо». Там есть про одну Лизу, которая тебе что-то напомнит… может быть, даже Пашу… но – не про мальчугана!
Она поцеловала меня мечтательно и пошла, что-то напевая. Я слышал, как она, выйдя за дверь, сказала:
– Вот мальчишка!..
Прошло с месяц. Как-то в июле, проходя сенями, я услыхал, как Лида переговаривалась с кем-то. Кто-то был наверху, на лестнице, на третьем этаже, и спрашивал хрустально-чистым, девичьим голоском, от которого у меня насторожилось сердце:
– А скажите… в вашем саду можно гулять?…
– Разумеется, можно… можете гулять, читать… – хозяйски важно сказала Лида.
– Благодарю вас.
Только. Но сердце мое насторожилось.
– А мы уже здесь, с ухом?… – сказала Лида насмешливо, заметив, как я остановился. – Не успели еще познакомиться?
– И не собираюсь даже! Что это… новые жильцы приехали?…
– Ну, пожалуйста… не разыгрывайте «все безразлично»! Да, новые жильцы… можете познакомиться. Барышня, и очень миленькая… как раз по вас. Ну, смотри, Тон!..
Она поймала меня за начинавший подрастать вихорчик.
«Барышня… и очень миленькая»? Конечно, Лида в насмешку просто. Какая-нибудь дурнушка… И я не обратил внимания. Я прочитал «Асю», «Дворянское гнездо»… Они пробудили тоску о Паше.
Как-то, под вечер, я шел из сада, и у самой калитки столкнулся с прелестной девушкой, подростком. Она?… Тоненькая, стройная… бледное личико, робкие, узенькие плечи, совсем детские локотки, стягивающие вязаный платочек, словно ей холодно. Она взглянула, пытливо-скромно. Бойко закинутые бровки, умные, синеватые глаза. Они опалили светом… Залили светом – и повели за собой, в далекое.
1926-27 гг
Ланды
Рассказы
У плакучих берез
Памяти павшего в бою кап. Е. Е. Пиуновского.
Мы идем в дальнюю дорогу, с котомками, с палками, в помятых гимназических фуражках. Впереди – много радостного, впереди – радостная жизнь наша. Идем к Угоднику. Впереди – святое. И кругом – святое: березовые рощицы, на взгорьях; тонкие пики ровного молодого ельника; пробитые лапотками тропки. Вон, в овраге, часовенка. Мы пьем студеную воду из колодца, увенчанного крестом. Над колодцем плакучая береза. Старый монах рассказывает нам и богомольцам о «тихой смерти»: вчера, вот на этой лавочке, сидел старичок, пел молитву и за молитвой помер. И неизвестно – кто он; лежит вон под рогожкой, полиции дожидается, и некому над ним поплакать. – «Только береза плачет… плакучая, называется». Мы смотрим на страшную рогожку, видим мертвые, босые ноги. И правда: плачет над ним повислая береза. – «Ах, горе-то какое… родные и не знают», – говорит жалостливо баба.
А у нас нет никакого горя. Светла перед нами жизнь, и невнятны нам слышимые слова о горе. А оно тут, кругом: и в запеченном лице старушки, и в деревянной ноге старого солдата, который тоже идет к Угоднику. Плачет за рощей печальная кукушка.
Монах ведет нас в часовню, берет с окна книгу и спрашивает, не запишет ли кто «на поминовенье». Солдат вынимает две копейки, кладет на книгу: «пиши новопреставленного Петра… то сын был, а теперь вот остался один на свете». Записывает монах кого-то у старушки. Молодая баба записывает «во здравие» младенчика: «Васеньку моего запиши». И другая, с ребенком, выглядывающим из-за холстинки у ее груди, ласково говорит: «и Ванюшечкю мово пиши во здравие».
А мы кого запишем? Приятель подмигивает мне, берет перышко, что-то пишет – за упокой, и читает унылым голосом: «утопшего отрока Сидора и угоревшего Тита». Все жалеют, расспрашивают, как это утонул Сидор, и как же угорел Тит. Мы говорим-придумываем ужасное. Старушка жалеет нас: «горе-то у вас какое, косатики!..»
И весело нам: нет у нас никакого горя, не по нас плачут старые березы, для нас – веселые, молодые. Только отойдя подальше, рассказываем мы солдату, что пошутили, и монах теперь будет поминать Сидора и Тита, которых нет. Солдат говорит: «найдутся… всего будет, много впереди будет». А впереди – веселый ночлег, молодость, молодость без конца.
А впереди – и для нас насадила жизнь плакучие березы. По дорогам стоят они, неведомые нам, опустив плачущие ветви. В тихую пору они неслышно плачут, в ветер – звенят уныло. По тебе они уже отзвонили, товарищ детства. Мои же еще позванивают…
Откатились года назад, – и нет уже будущего без края и неизвестности светлой-светлой.
…Я живу на той самой большой дороге, по которой, четверть века назад, бежали мы к радостному – вперед. Я узнаю деревни, узнаю и березовые рощи. Окраины их стали строже, выпустили усталые ветви-плети, плакучие. А зеленое молодое войско елок куда выше подняло строевое свое оружие и потемнело. Но тропки – те же, и люди те же, и так же бредут к Угоднику. Много их идет в это лето. Вижу я крест часовни, погнувшийся шатер колодца. Здравствуй, хмурый свидетель далекого радостного дня! Я оглядываю – до лоска затертую скамью: не найду ли царапин от наших перочинных ножей. Нет царапин: всё затерто годами, ничего не понять в трещинах, в которых возятся муравьи. А вон часовня. На этих плитах стояли мы, на этом окне лежала раскрытая книга поминаний. Лежит и теперь. Монах, такой же старый, как и тогда, спрашивает меня, не запишу ли. Я оглядываюсь назад, хочу сделаться маленьким, хочу вспомнить невозвратимую легкость в сердце. И тихий июньский вечер, всё такой же, заглядывает в часовню червонным золотом.
Я беру книгу: самое то – за упокой и о здравии. Опять «младенцы» и – рабы Божии. Но всё потонуло в новом и страшном численностью: одно и одно я вижу – «убиенные воины», «болящие воины». Их занесло сюда и несет каждый день дорожным потоком бабьим. Монах заносит их в придорожную свою книгу скачущим почерком. Да, теперь больше «за упокой». – «А вы не пишете?»
Есть у меня, кого бы я мог вписать. Когда-то стоял он здесь, выдумывая Сидора и Тита. Я перелистываю книгу, хочу найти… Нет это другая книга. – «А прежние где?» – «Нарушены», – говорит монах.
Прежние книги нарушены, и я не увижу знакомого почерка, милых Тита и Сидора, и младенцев, имячки которых ласково повторялись матерями и спесно-скрипуче заносились монахом – «о здравии». Теперь и они нарушены. Они рушатся час за часом, неведомые, переходят незримо с левой страницы на правую, и сплошь чернеют страницы, принимающие «убиенных», – и рушатся с ними жизни поколений.
Я подымаюсь на пригорок. Вот местечко, где мы тогда сидели, вот и плакучие березы, те самые. Я присаживаюсь, смотрю на них, спрашиваю тоскливым взглядом, – узнают ли они меня, помнят ли мальчугана, который лежал под ними, глядел в голубое небо сквозь червонно-вечернюю их листву, и которого уже нет на свете. Я молчаньем рассказываю о нем: он стал большим, с сердцем мужественным и сильным… теперь он лежит в неизвестном далеком поле, куда не найти дорог, братски-рядом с тысячами других. Березы видали их: они проходили здесь мальчуганами, матери носили их на руках к Угоднику, чтобы вымолить для них лучшей доли. Березы знают, за что они все легли. Они всё знают… шепчут… – позванивает в них ветром.
Кошкин дом[25]
Первые слова о «Кошк-(ином) – Доме» Миша слышал от няньки старухи Домны. Ему было года четыре. Скажет бывало няня: – «не спишь»?..
– А вот спать как не будешь –
Сейчас за забор выкину в Кошкин Дом!..
Там вот!.. Узнаешь…
Миша боязливо поведет глазами от лежанки к окошку: окошко завешено ситцевой занавеской и на нем бегает много-собак, летят много-много уточек, и большой человек, – много-много высоких человеков, – охотников, стоят в траве и машут палкой. В занавеске длинная синяя щель, от потолка до полу и в эту синюю щель искрились огоньки, что всегда ночью бывают в небе – звездочки.
Звездочки и темная ночь, забор, снег, лес за забором и в лесу Кошкин Дом.
Теперь там страшно.
Днем там очень светло, все белое. Много снегу, там много снегу, что (и) больно смотреть, когда светит солнце. Там нет людей и только бегают собаки, можно утонуть. Там на деревьях к вечеру слетаются галки и так кричат, что через окна слышно.
Бегают и вертятся собаки, прыгают и едят снег и гонятся за хвостами.
Там есть домик без окошек, через который видно и в домике много снегу. Кусты завалены снегом.
А за кустами, за деревьями большой дом. Окон в нем нет, на них набиты доски.
Дом серый, деревянный, как и заборы. На крыше снег! А из под него видно окошечко, как через пустой глаз. Дом странный. Человеков там нету, и даже дворника нет.
Когда Миша выходит на улицу в тулупчике и с лопатой, нянька ведет его вдоль серого забора. В заборе дыры и щели. Если посмотреть – все снег и снег, и кусты и собачьи дырки от ног. И все деревья, деревья, деревья – и (все) снег.
– Ну, чего не видал? Вот Кошкин-то дом какой, страшный.
– А почему?
– Почему – почему… Такой уж уродился.
– Почему? – Нечего ради…
Но кошек не было.
Потом, когда снег сошел – Миша, любил смотреть из окна на черную землю, на черн(ый) дом, окошко-глаз, под крышей.
Сидели и летали голубки. Они сидели и бегали по крыше красной и лазили в окошко.
Потом раз… к вечеру, Миша увидал (радостно) кошку! Она вылезла из дыры, села и стала лизаться. Кошка была красная, как крыша. Потом вышла другая серая кошка как забор, и тоже села. Потом они вытянули головы и заплясали. И Миша радостно захлопал в ладошки.
– Кошкин дом! Кошкин дом!
Теперь он понял почему – Кошкин Дом.
Но кошки бывали редко. Иногда ночью она слышал как стучит дождь, в окошко, как шумит веткой, где кошкин дом, и вдруг заплачет, замяучит кошка.
– Ишь ее раздирает! скажет Домна.
– А почему?
– Почему все тебе знать надо! Живот болит.
И много знает Миша. Звездочки – глазки Божии – все-это смотрят как злые люди обижают добрых и за это быв(ает) гром и пожар от молнии.
Знает, что в Кошк(ином) доме живут они…черти – отовсюду выгнали дворники метлами и только вот тут им ход. Кошки мол не боятся. Кошка она хитрая, – сиганет, ее не поймать. С той ночи, как узнал Миша про чертей, у них на голове рожки, язык зеленый – ему к ночи дел(ается) страшно и он старается чтобы не было на окнах щели. Но можно закрестить – так нянька умеет: возьмет да и закрестит. А когда проснется ночью, непрем(енно) посмот(ри)т на окошки и сам поманит рукой и пошепчет свят-свят-свят.
Когда опять пришла зима и опять стало много снегу в Кошк. Доме, Миша увидал к ночи как в мал. домике, кото(рый) называется беседкой бегала большая черная собака и мал(енькая) собачка.
– А черти… гуляют?
– Плюнь – перекрестись – сказ. нянька и сама покрестила его.
– Нельзя к ночи. – А почему?
– А почему?
Почему – почему… страшно! Возьмут да еще к нам налетят.
Мише становится страшно.
– Греться? А им… холодно? Там печек нет?
– Ну и греться – тьфу! Хрестись!
Глухой ночью, когда на стенках нанесло снегу и он блестел розовыми звездочками через щель – от лампы, Миша проснулся от страшного, что приснилось. Ониприснились. Они шли по саду, где Кошкин Дом, две… или два, как собаки черные и положили на забор лапы и все смотрели на окошко – просились в тепло. Миша долго крестил окошко, см(отрел) на лапы, на черные образа… и вдруг закричал криком:
– «Няня! не пускай!»
Потом ему стало жалко. Они – стоят на снегу, и просятся. А тут так тепло от лежанки, от огонька лампадки. И так хорошо – квас в кружке стоит, а там они снег едят…
Когда Мише было шесть лет, он уже знал: много-много. Дворник Левон знал всю правду. – Расскажет что нибудь, а Миша спросит
– А это правда?
А Левон:
И метлой по земле хлопает. Узнал Миша, что Кошк(ин) Дом большой, «сто покоев»! И все, как было, как старик Кошкин помер, а наследники судятся.
– Понятно, нечистая сила проживает. Значит, как святки подошли, она такую там муру зачнет… на гармоньи, на балалайках… жуть! Тут ужо не подходи. Как ухватят – прощай!
– А почему?
– Почему! Попы с крест(ом) не ходят, водой не кропят. Самый им вод там.
Миша знает, что Антипу все известно. Он спит в конюшне с лошадьми, и всего видал. Там у него фонарь со свечкой, в клеточке, и так хорошо пахнет сеном и лошадьми, сладко пахнет. И от Антипа сладко пахнет – силой, черн(ым) хлебом, колесами и лошадьми. Ночью там к нему приходит «хозяин» – который и наш дом строил, мутный, будто дымный, и с фонарем, сам лошадей обойдет, следит значит, не украли-ли овсеца.
– Намедни говорит – овес краду! А я разве могу? Он все усчитает. Закатает ночью, не отдышишься!
Миша слушает и понимает и в груди, и в глазах, и щекоч(ет) в носу: ах, какой хозяин хороший! В летние сумерки, когда начинает темнеть во дворе, сараи, и за заборами, в саду (Кошкин) Д(ом) пустеет тьма, – все предст(авляется) Мише живым и жутким, полным таинственного и милого, – и хорошо, и жутко. Где то живет «хозяин».
А там – тоже есть хозяин, в К(ошкином) Д(оме)? Там он – бедный, пустой. Ни лошадей, ни фонаря нет там. И всего Антипа. Антип знает все: у нас чертей быть не может, потому на воротах крест, и на погребах кресты выжжены, страстной свечей, – такая, замечательная от плышшиницы…
– Значит – все прожжет, нечистую силу запирает. А то бы с ей и не справиться. Ну, туда и не подается – пока(зывает) он на К(ошкин) Д(ом).
– Страшно небось ему? спрашивает Миша.
– Кому – ему?
– А… К(ошкину) Дому?..
Антип думает, раскуривает черн(ую) трубку с мед(ной) решеточкой и пускает зеленый дым.
– Как тебе сказать… понятно, страшно. Вот тебе метла… там она свое дело делает… Ладно. Вот поставлю в уголок – стоит, ничего. Ладно. Ну, вот ночь, все спать мы полегли… Ну, кто ее знает… Может она на свое горе жалуется, плачет. Мету, а там в печку или на помойку! Ну! А кажное сучество про себя понимает.
И… ворота?
– Понятно. как их хозяину помирать – обязательно с петли соск(очить) должны. Сперва будто скрипят – скрипят… чу-ють! Рраз! – жди – помрет. Почему ж сказ(ывают) о ворот(ах) душа.
Вот хозяину помереть… первым делом собака знает, завыла, а то не желает в глядеть – возьмет и разозлится ни с чего. Понимаешь? Иль самовар – загудит-загудит… знать… уж моркотно уж ему, жалеет… Али вот тараканы… Им первым открывается. Ночью знак такой – выбирайся ребята!
И по-шли ходом, ходом… через дорогу. Тут ты им дороги не перебивай, такое наведешь – беда…
Миша смотрит на стар(ого) Антипа. Откуда он все знает? Это ему хозяин в конюшне сказывает… Антип особливый, не как другие. У него на глазу белое пятно, бельмо, и смотрит он на кого-то, кого нету, но кто стоит тут, невидимый. Борода у него седая длинная, как у Святого на иконе, и в конюшне медный крест прибит гвоздями, под ним сухой подсолнух – один картуз колючий, в дырах, – и для уважения, – а подсолнушки высыпались. Мише очень нравится этот крест и эт(от) подсолнух. Он знает, что Антип еще до снегу его засунул в стену, когда по улице несли иконы на палках, когда был крестный ход, и все несли цветики ергины. – И Антип подобрал подсолнечник свалившийся с образов. И принес в конюшню. Сказал:
– Повеселей будет. И ему приятней…
Это кому, хозяину?
Ну, зачем!.. Хресту. Я с им ничего не боюсь. Вот он, Чалый.
– Ты думаешь он не чует? Он, брат, все чует. Вот ты гляди. Вот сыму я хрест, уберу… ну скучать будет… не дай Бог. Хрест… он, брат, силу свою доказывает. Кузнец ковать придет Мих(ал) Иванов. Он нипочем без хреста… Без хреста лошадь не может, забьет, себя не помнит. Узду гляди… хрестом делают… Окны гляди – хрест. Ворота… опять хрест.
Когда Мише было лет 8 и он уже ходил в пансион и учил басни и умел бойко читать, – новое открылось ему. Кошкин Дом наполнился для него новым, еще более таинственным. Он уже мог и зимой и летом пролезать через отставшую от столба доску. Глухой сад, с березами, тополями и липами уже открыл ему все свои глухие углы. Правда там уже не было явно-таинственного. Кусты бузины, акации, (черной смородины), две три рябины, уже раскрывш(ейся) на двое, с облом(анными) верхушками. Гнилая решетчатая беседка с провал(ившимися) доскмми пола. Развалив(шийся) сарай и погреба с ржавыми замками.
Но дом, забитый досками накрест, с балконом в сад на столбах-колоннах, с галлер(еей) из столбушков, уже не серый, как казалось раньше, а бурый, исчерна-бурый, – до француза; закрытый ставнями изнутри. Многое уже знал Миша.
Дворяне Кошкины жили в нем, пиры давали. Приходил иногда выбивать шубы хромой скорняк Василь Василич, приносил прутья жимолости и выбивал моль. И рассказывал:
Этому годов 60 будет. Я в мальчишках жил еще… Ну Кошкина молодого знал видел…
Ему уж годов 50 было. А старый уж полоумный был, его будто на цепи держали, под кухней, под балконом. Там он и удавился. Суд был, будто его невестки удавили… Ну, деньги, конечно, выправили все. И стали пировать, как похоронили. Будто три бочки золота нашли в подвале. Там глуб(окие) подвалы были… Такая была лиминация… вся наша улица в плошках была, а последние бочку смол(яную) зажгли. Ну, кварт(альный) пришел… и я на огнях был… воспрещать. А тут Кошкин молод(ой) вышел – кварт(альному) в ухо. Потом загреб его с гостями – пировать. И полон картуз ему серебра ему нашвыряли. Потом вскорости горничная повесилась.
Скорняка слушает Миша и Антип. Антип бьет хорьковую шубу прутьями и иногда скажет:
– Ах-ты какой хорь то приятный был! Сколько и у нас хорей было под сараями…. ушли от беспокойства.
Мише хочется и про хорей знать. Но про горничную тоже интересно. Он смотр(ит) на хром(ого) Вас(иля) Вас (илича) и ему непонятно, что и он был так же, как он Миша, и бегал на лиминацию.
– Так… повесилась? – спраш(ивает), Антип: – это Марфушка?
– Она самая, – говорит Василь В(асилич) – тормоша воротник с бобром.
– Бобрик-то… седины-то – серебро! камчатский, дремучий.
Он дует в ворс и на его лике Миша улавливает радостное сияние, – теперь пошел жуль(нич.) бобрик полесский…
– До чего… говор(ит) и Антип. – Все! Метла теперь… Разве такая метла была годов… ну, тридцать? Была – метла! Месяца три себя держала. А теперь – раз прошелся… а, сукины дети!
Так Марфушка? Это которая Кошкина по щекам лупила?
– Самая. А ты почем знаешь?
– А сказывали-то летось…
– Ага. Она самая. Ну, бы-ла! Ну, скажи… бабка какая была раньше! Откуда таких выкапывали?! – говорит В(асиль) В(асилич), щелкая языком.
– Да уж… – кряхтит Антип, а Миша ловит слова и то неясное для него, что слышится и в кряхоте, и в пошелкив(ании) В(асиль) В(Асилича).
– Нонче пошла короткая, и даже не женщина а…
– Выхухоль! говор(ит) В(асиль) В(асилич) приглажив(ая) прутяной щеткой мех.
А то бы-ла… чернобурая лиса. И Марфушка. Приношу я так в од(ин) прекр(асный) день белую душегрейку на кухню…
Она пирожки на блюде несет. Румяная, широкая ситичком от нее новым аромат… как из бани. А глаза у ней были – во как у святых, в Храме Спасит(еля) есть.
Как глянула на меня, и пару пирогов мне, с ливером, помню, были…
Миша смотрит на К(ошкин) дом и думает и не верит. Там были пироги, и какая-то рум(яная) женщина?
– Ну, полюбил я ее с тех пирогов… Не с пирогов, а с того взгляду, не могу сказать. А было мне к 17 годам… Теперь дело прошлое. Стал у хозяина кусочки воровать от лисы-меху… с вершочек, кромочку. И как мастера уйдут в праздник, на погребицу заберусь или на чердак – за год ей такой воротник справил… А я мастер был перв(ый) сорт… и к Рожд(еству) прихожу поздравлять.
А на Рожд(ество) у них полна улица карет, лакеи в соб. ливреях, в форме, не(шестеро) бывали. Полна людская… пьют, едят – чад(душе), а на верху музыка – оркестры… трех свиней жарили для людей. Водку ковшами употребляли! Весь этот сад затопчут, бывало. Самовары во такие по пять ведер стояли, жглись, и повара на снегу прямо блюда ставили, мороженое вертели… чисто ярмарка. А что теперь?! А.
– Ну… какое м(ожет) быть сравнение! – сплев(вывает) Антип. Теперь пропил за рупь купец, а шуму на целк(овый)! Маху того нет. И все это вы, с. д. б. видали….
Приношу лисицу. Выбегает наш буфетчик Ив(ан) Кузьмич… Тогда ему уже годов 40 было… годов двадц(ать) в мещ(анской) богад(ельне) помер, а то у князя Долгору(кого) служил и во дворце Нескучном жил на покои… Кстати дружбу с ним водили… в еното(вой) шубе щеголял. Я им делал… Выходит буфетчик. Дать ему мадеры и кусок индейки. Это за душег(рейку) он. Вот ей-Богу! Ну, он с Марфушкой жил, понятно. А я ей лису принес в поздравленье. Чувство-то какое было!
– Ну, понятно – говор(ит) Антип. – Нонче пятиалт(ынный) в зубы…
– Нет, я про лису-то! Год подсобирал… для ее… Мне дорого, как она поглядит! Влюблен был! Поймай меня хозяин – голову бы оторвал.
– Ну, понятно…
Мише тоже понятно. Он уже видит Марфушу, женщину у которой глаза, как у святой. И она держит блюдо с пирогами.
– Выпиваю я стакан мадеры, стою на вытяжку, а лисица под рукой у меня.
Говорю – что подарок хочу из уваж(ения) к Марфе Степановне.
Сгреб меня, потащил по лестнице, к себе – вот на верх на… вот то окошечко заколочено под слуховым-то… А там у него диван бархатный, и всякие бутылки, поросен(ок) заливной… и горшки с живыми цветами… Сиди, я говор(ит) ее пришлю!
И вот она вошла… розовая, как купидом… и я к ней пал…
Вас(иль) Вас(илич) поправ(ил) жел(тые) очки и погрозил жимолостью к дому.
– Ну… сказ(ал) Антип строго и тоже посм(отрел) к дому.
И Миша посмотрел. Там?
– Пал к ее ногам, красавицы… и преподнес лисий воротник. Чувство-то какое было!
– Ну, понятно… Ну, а она…
– Развернула как… как ахнет… Победил!
– Господи!.. ужели победили?
– Победил. Так это поглядела… горько на меня поглядела и слезы у ней из глаз…
Лучше возьмите обратно – говорит. – Я уж живу с буфетчиком и барин меня домогается, но я не могу. Возьмите вашу лисичку, мне очень, говорит, прискорбно, но неужели вы могли подумать, что я из ваш(их) подарков могу преступить!
Как вам, говорит, не совестно! А я… заплакал. Тут она меня поцеловала прямо в губу и… перекрестила! Ей Богу!
– Ну, вскричал Антип и Миша тоже вскричал, от вдруг толкнувшего в грудь непонятного восторга.
– Как поцеловала! Я, говорит, вам буду как сестра!.. И мне не надо в(ашей) лисички!
– Не взяла?!
– Взяла. Очень я заплакал. Ну, взяла. И пришел буфетчик, и они меня вдвоем, наскоро… господа ждут… поили сельтерской, а я плакал. Ах, какие люди бы-ли… Это как в книжечке у меня, вот у С. в лавке купил, книга продавца Морозова… Я люблю трогат(ельные) истории… про благор(одного) принца Выпицияна и очароват(ельную) Менфису. Неграмотный был Антип!
– На том и кончилось? спрашив(ал) Антип, а Миша видел, что лицо его к.-б. другое, ласковое и грустное.
– Кончилось, да не все, спустился я в людскую, ничего не помню, как в горестном состоянии, – вот хоть или на кладбище и у могилы какой печальной каким кинжалом прямо в грудь. Но повар еще поднесли, буфетчик наказал угостить меня. Потом – выхожу, костры в саду, и на небе мерцают звезды бож(ией) красоты, очи небес. И вот молодой лакей подходит из темноты, от водовозки и кладет руку мне на плечо: скажите, говорит, вы от любви к прекр(асной) Марфуше в таком ужас(ном) состоянии? Я, говорит, сам не сплю все ночи и уже иссох. И он, вправду, в злой чахотке был. Советую вам, оставьте душе покой, не надрывайтесь. Вы еще молоды, а мне скоро лежать на Ваганькове. Идите домой и никогда не возвращайтесь к гордой красавице! Она невольно губит при всей своей благор. (душе) карактере.
Вспоминай все… Как сон!
Антип слушал.
(К концу. Он увид. ясно-ясно, как он ограблен! От всего чуд. мира, – остались так осязаемые, такие жестокие ржав. ребра жизни. Где-то?!)
– Метель стегает в окна: хлес… хлес… Ночь – там, снег и ветер. В жаркой печке, с лежанкой взывает жалобно. Стукнет въюжкой. Комнатка вверху, под сам(ой) крышей. Низенькая, уютная – детская. На дворе ночь: девять часов, а ноччь. Ночь – до утра. На лежанке на жарком войлоке – кот разместился, старый котище Васька, бурый, в зелень. Спит крепко, храпит на славу, – заслужил. Он подался в детскую, там и потише, потеплее. Другой год подался, – говорит Домна старуха, – нянька. И правда, кот тут тихо, мышей ловить не надо, – там внизу другие пришли на смену, бойкие. А здесь: Домна, да маленький Федюша. Домна погасила лампу – чулок вязала. Услыхала, что кукушка внизу прокуковала девять, погасила лампочку и помолилась. Помолилась богородице Казанской, потом Жив(отворящему) Кресту, потом Кириллу и Мефодию с Крестом, мученице Домне, Ерусалиму граду. Лествице и Святый-Боже, всем, кому умела. Отвернула полог и покрестила Федюшу. Он спал распахнувшись. Она поправила голубое стеганое одеяльце, покрестила в ножках, в головках… Анг(елу) хранителю – поручила и закрыла полог…
– Ай-же, му-ха!.. гривуха! в лицо шарахнулась, опять та самая, своя. Заснула, муха, здешняя. В тепле живет. Домне приятно, что муха еще живет. Каждый вечер устраивается она нп ологе и еще (кружась) жужжжит: – стало быть тело. А за окном – зима, декабрь, подходит – скоро Рож(дество), а муха все живет: к добру, к теплу.
– Н-и-я… – невнятно шепчет за пологом Федюша: –
– На сево…двора…по!.. тена…гора…
Старое, морщинистое, с двумя бород. лицо Домны сторожно слушает: ну, вот: только сегодня вечером, в первый раз, рассказывала про петушка и про лисичку:
Хорошо, спокойно. Главное – тепло уж очень! Морозище такой был – дерева в Кошкином Доме, в саду все в инее, на заре солнце было красное, огнистое. Галки на березах и тополях по-утру седые были, – тридцать градусов!.. такой скрып был и два раза ночью стреляло в бревна на-верху… а здесь – Господи – муха живет, живет: И Ваське жарко. Господи! – тепло так, что не надо и ватного. Умные-то люди строили, все-то по закону правильно. Ветер воет и хлещет в стекле, а лампадка – спит усиком не дрогнет. Когда внизу бьет десять – глухая ночь. Спит Домна. Чулок чуть видно при розовой лампадке. Черный таракан поднялся по столовой ножке. За ним другой. Квас ан столе, в кружке каменно, цветистой в розанах голубых – пахнет хлебом и яблоком – в квасу сухие яблоки, размокшие. Тараканам сладко, манит. Ползают по мягкому чулку. Глядят на угол, где огонек лампадки. И тараканам тепло. Муха зимуха дремлет на пологе: напилась украдкой квасу, – и спит.
Федюша дышет тихо – ангельские сны пришли. Какие они? Не вспомнить… Сны детские – их никто не вспомнит. Сны… светлые сны, радостные, детство… Кто расскажет?
Кот повернулся на другой бок – жарко стало. Метель стегает. Вьюшка стучит – стучит. Шевельнулась занавеска на окошке, розовая занавеска. По ней бегут: пушистая собака, утки летят, охотник стоит в траве. Все разное – и опять собака, охотники, утки… и – еще, еще. Метель шумит и бьется за окнами. Огонек в ламп(адке) проснулся и заиграл. По потолку забегали усы, тени от цепочек. Струйки прошли. И опять все спит – до огонька. Тени на потольке уснули. Чуть виданы у лампадки волки у мельницы – обои, голубые, голуби на крыше мельницы, опять волки и мельница, и голуби… все голубое! И все спит. Старый диван клеенчатый, проваленный, с подушкой в ямке, с попугаем из бисера. На нем желтый паровоз с трубой, и зайчик с барабаном. И карты рассыпаны – гадала Домна с вечера Анюте, горничной. Хоть и пост – гадала. Грех, а что-ж поделаешь: надо знать Анюте будет ли ее свадьба после Святок. Домна знает, что скажут карты.
Кот проснулся, зевнул, послушал, как постукивает, вьюшка и завернулся будто с холоду.
В Кошкином Саду – гудят деревья. Что там за окном? Страсть какая!
Никто не слышит. Тараканы ищут, как попить квасу? Страшно лезть в обрыв. Но лезут, усиками дергают, нагнулись, падает один. Другие шевелят усом. Ночь ползет неспешно… печка стынет. Кот завернулся туже. Усы по потолку играют. Муха забирается под полог. Домна во сне натягивает одеяло. Огонек лампады – ярче и можно бы увидеть, если бы кто смотрел, как скорбный лик Казанской смотрит в полутьму безгрешной комнатки. Слышно тихое дыхание спящих – чистых. Детское, святое…
У изголовья, белый, неподвижный, стоит невидно Ангел в цветах. Дети видят его во сне? Видят и не помнят. Помнят только цветы. Дети во сне смеются – видят.
Федя смеется за белым пологом. Храпит и Домна и кот…
К полночи скрипят промерзш(ие) ворота, слышно за вьюгой, как лошадь фыркает. Хлопает дверь внизу, парадная, воет на петлях – от морозу. Это приехали из театров. Весь в снегу Антип, старый кучер, охлестывает волосяным хвостом снег. Дворник Максим светит фонарем к кар(етному) сараю.
– Н-ну..!
Задом осаживает санки в сарай. Слышно через вьюгу, как Чалый глухо ступает копытами в сарае, по постилу. Распрягают. Ветром швыряет тени по стенам, – прыгает тень Чалого, голова Антипа в шапке, ход(ят), оглобли пролетки, крытой чехлом.
– Чай, смерз? – говор(ит) Максим.
– Беда… костер заносит… дымище… кому киятры, эти… а нам…
– Да… ст-о-ой…
Н. Б. Домна молилась: за тех, кто в ночи – метели в поле погибает и благодарила за то, что она в тепле и сыта. посм(отрела) на полог белый и помолилась, чтобы и Федюшу сберег Господь и Пречистая от горей и избавила его от метелей и горестей жизни (надо, конечно, проще (примеч. И. С Ш).
Отступление лирич. Хорошо когда и т. д. – есть кров, и стены и теплое сердце около.
Миша
Впервые о Кошкином доме Миша узнал от Домнушки.
– Чего не спишь, глазками щуришься? Возьму да выкину за забор, в Кошкин дом!
– В какой… ко-шкин?..
– В такой… Галки где прячутся!..
– А почему… галки?
– Потому. Посадили кота в тюрьму!..
– Глупая нянька! – рассердился Миша.
– А ты не говори чего не след, примера не бери.
Миша глядит к окошку. Ситцевые занавески, бегают по ним собаки, летят утки, и большой человек машет из травки палкой. И все собаки, и утки, и много человеков. В синюю щель на занавесках светятся звездочки на небе. За окном мороз, темная ночь, забор с дырками, за забором снег, лес, и в лесу – Кошкин дом. Там страшно. Днем бегают собачки, хватают за хвостики друг дружку, хватают снег. На деревьях летают галки и так кричат, что даже и через окошко слышно, словно шипит вода. За деревьями серый дом, на окнах его прибиты доски. Человеков там нет, и даже дворника нет.
Когда снег стаял, Миша увидал на Кошкином доме голубков. Они весело бегали по крыше друг за дружкой. И вдруг из черной дыры на крыше выпрыгнула кошка, села на самый краешек и принялась лизаться. Кошка была красная, как крыша. Выпрыгнула другая кошка, серая, как забор, и стала возить хвостом. Потом они стали целоваться. Миша от радости запрыгал: теперь он понял, почему это – Кошкин дом.
Многое уже знал Миша. Звездочки – глазки Божьи. Знал, что в Кошкином доме живут они, – надо перекреститься только! – и не надо говорить – «черти», а так, – они. Их отовсюду выгнали, а тут им ход. Кошки их не боятся, – «не православные». Узнав про них, Миша стал просить Домнушку закрывать щель на занавесках на ночь.
Когда опять навалило снегу, Миша увидал как-то, что в саду Кошкина дома бегает черная собака и маленькая собачка, черненькая. Подумав, он спросил Домнушку:
– А черти… – и перекрестился, – едят снег?
– Не поминай к ночи, глупый! – заплевалась Домнушка и покрестила Мишу. – А то и к нам налетят еще…
– Греться? А им…очень холодно? У них нет лежанки?
– Тьфу, ты… Крестись!..
Миша проснулся в страхе: они приснились! Они шли по саду и ели снег. Потом положили лапы на забор и стали смотреть на Мишу… – в тепло просились?..
– Няня… – заплакал он, – не пускай, не на-до!..
Нянька оправила лампадку. Летели утки, махали человеки. И стало жалко: они стоят на снегу и просятся. А тут хорошо, тепло. Спят тараканы на столе, около кружки с квасом.
Скоро Миша узнал «всю правду». Рассказал ему все Левон. Скажет, метлой похлопает и свистнет:
Узнал Миша, что Кошкин дом огромный, «сто покоев», и все там, как было, когда сам Кошкин помер.
– Ну, нечистая сила водится, конечно. Как святки, она та-кую муру зачнет… и старик Кошкин, понимаешь, с ними, и горничная его, которая удавилась…
– А это как? почему?
– Ну, решилась жизни. Давай, говорит, удавлюсь. Ну, ступай к Антипу, он всего знает.
Антипу все известно. Он живет с лошадьми в конюшне. Там у него фонарь со свечкой, в железных клеточках, и пахнет сеном и лошадьми. А от Антипа пахнет колесами. Ночью приходит к нему «хозяин», мутный, «будто дымок», ходит у лошадей, следит, не украли ли овсеца у них.
– Говорят, намедни… – рассказывает Антип Мише, – овес краду! Я этого не могу. Он все знает. Закатает ночью – не отдыхи ешь!
У Миши даже в носу щекочет, от восхищения: «хозяин» какой добрый!
– А у тебя они…есть? Да эти, «черти»… тьфу, тьфу!.. – и Миша крестится.
– У меня быть не может, у меня хрест медный, вон… и вот еще, выжген, от плышшиницы. Это в Кошкином доме – там уж им самый вод!
– А страшно ему? Ах, какой ты глупый… Да Кошкину дому!
Антип раскуривает черную трубочку с цепочкой, надувает щеки и пукает – пуф-пуф-пуф. Голубые клубочки дыма плывут на Мишу.
– Как тебе сказать… понятно, страшно. Вот тебе метла, ладно. Стоит в уголку, ладно. Ну, подошла ночь, все поснули, ладно. Кто ее знает, она, может, на свою судьбу жалится? Да так. Плачет: мету-мету, а там меня на помойку!.. Каждое сучество понимает…
– И ворота?
– Обязательно. Как кому помереть, скрипеть начнут. А хозяину помереть… – с петель обязательно соскочут. А самовар? Самовар, брат, никогда не обманет… загудит, заплачет… – хозяину помереть! А то вот тараканы… Махонькие, а им все известно. Как пожару быть, – по-шли! И нипочем не удержишь.
Миша смотрит на строгого Антипа: почему он все знает? А потому, что особенный Антип: у него на глазу бельмо, и смотрит он на кого-то, кого и нет, а он где-то тут. Борода у него белая и длинная, как у Святого нянькиного. И над стойлами прибит медный крест, а над крестом подсолнух, сухой, колючий, весь в дырочках, как мед. Повесил его Антип из уважения: поднял на улице, когда проносили высокие иконы на трех палках, а святой подсолнух упал на мостовую.
– А то бы опоганили, замяли. А крест я для лошадок держу.
– А лошадки молятся?
– Неизвестно. Вот Чалый. Думаешь, не чует? Все, брат, чует. Убери крест… – ну, скучать будет… не дай Бог! И коваться Михал Иванову не даст, кузнецу. Узда, гляди… крестом делана. Окна, гляди – опять крестом. Ворота – крестом!.. На церквах – кресты. На грудях – опять кресты!..
Зарывшись в сено, где в самой глубине живут мышки, питаются, Миша смотрит, как Антип берет с полки горбушку черного хлеба, разламывает, покрестившись, на четыре куска, солит – и говорит Мише: «на хлебушка, крестись!» Крестится и сам на медный зеленый крест на стойлах и дает по куску Чалому и Кавказке. Жуют в тишине все четверо. Сидят на стропилах, перебирая красными лапками, голубки, прыгают воробьи в кормушки. А голубой ясный день глядит со двора сияньем. Ветром гонит воротину, – не скрипит! Голова Чалого выглядывает из стойла, чешется о побитый столбик. Миша протягивает руку, и Чалый, фыркая тихо брызгами, тянется к ней губами.
– Рабенок… – ласково говорит Антип. – Ты рабенок, и он рабенок. Три ему годочка только. А умней нас с тобой.
– Умней… А почему?
– Потому. От Бога, для пропитания. Прячься, Домна никак идет!..
Миша зарывается в сено. Пропал голубой день. В сене зеленовато, смутно. Хочется лежать долго-долго, совсем остаться, слушать Антипа, который все знает, как святые.
1928 г.
Музыкальная история
Случилась эта веселенькая история, когда мне было тринадцать лет, на переломе из отрочества в юность: я вдруг пристрастился к музыке. Я и теперь-то в ней мало понимаю, а тогда ничего ровно не понимал, и черные хвостики на нотах представлялись мне галочками на телеграфных проволоках, – но потянуло и потянуло к музыке, бывало, играет сестра в зале на рояле, – она училась в консерватории, и собиралась кончать «на виртуозку», – а я заберусь под фикус и слушаю, слушаю, как во сне. Вечер весенний, мартовский, падают капли с крыши, в форточку слышно, сквозь музыку, как галки справляют свадьбу, кружатся в сумеречном небе, кричат стукотливым криком… – а сестра быстро-быстро разыгрывает «Прялку», или мечтательную «Сомнабулу», «Труа ревери», или бетховенскую «Лунную сонату». Скоро у ней страшный экзамен с «публикой», она играет по пятнадцати часов в день, все уши прозвенела, только один я слушаю. Передохнет, отопьет водицы, покрестится от страха и спросит меня тревожно: «ну-как… ничего играю?..» Я говорю уверенно: «ты замечательно играешь… как Аренский!» А Аренского я уж слышал в консерватории, куда затащила меня сестра и ее подружка Лисагоровская; там известный всем музыкант Аренский играл свою знаменитую «Бурю на Волге», которую и сестра играла. Сестра обрадуется и скажет: «ну, это глупо, и ты дурак… а что я, выдержу?» Говорю – «обязательно выдержишь, вот ей-Богу!» Она и повеселеет, скажет: «поди сюда, и я тебя выучу играть». Но из этого ничего не получалось. Сколько раз принималась учить меня, выламывала пальцы, «ставила руки» мне, – нет, ничего не получалось. Побьется часок-другой и скажет: «нет, ты решительно долбежка!» А у меня один палец на правой руке болел, и ногти росли невероятно, и нот я не мог запомнить. «Нет, – скажет, – из тебя ничего не выйдет, ты идиот!» А я и не обижаюсь, знаю, что нервы у ней развинчены от такой игры – в обморок часто падала. Не всем же быть музыкантами – надо кому и слушать. И я слушал. И так меня захватила музыка, что я как с ума сошел. К Коршу уж не ходил – смотреть «Свадьбу Кречинского», или «Лес», Лии «Маскарад» Лермонтова: это уж всё я знал чуть ли не наизусть. «Маскарад» Лермонтова я отлично знал наизусть и разыгрывал перед мальчишками на дворе – за всех. Помню любимую первую картину, глее игроки «Иван Ильич, позвольте мне поставить?» – «Извольте». – «Сто рублей». – «Идет». – «Ну, в добрый путь». – «Вам надо счастие поправить, а семпелями плохо…» – «Надо гнуть!» Так мне нравилось это непонятное – «семпелями» и «гнуть».
Словом, я перебрался в Большой Театр. Ночи простаивал на морозе, чтобы достать на галерку за 35 копеек, откладывал пятачок от завтрака, спускал букинистам книжки и всячески изловчался, лишь бы попасть на «Демона» с Хохловым, или на «Лоэнгрина» и «Фауста» с Донским или Преображенским, ли на «Травиату» с Фостером. Я знал по имени-отчеству всех любимых певцов и певиц, знал наизусть многие либретто опер, и целая стопка их составляла теперь мою библиотеку. Я знал все славные арии, и когда в доме никого не было, пел во всё горло – «Привет тебе, приют священный», из Фауста, «Знойною степью идем» – арию Олоферна из «Юдифи», или – «В глуши лесов, за синими морями, высится замок, грозный Монсавальт!» – из «Лоэнгрина». Я мог пропеть «Демона» на все голоса, всего «Руслана», все арии Рауля и Марселя из «Гугенотов». Идешь из гимназии, отсидев два часа за «музыку на гребенке», фонари уже зажигают, – и напеваешь с грустью: «На землю спускается ночь, пора возвращаться домой»… – из «Гугенотов», хор. Остановишься на мосту и замурлычишь из «Жизни царя»: «В поле чистое гляжу, вдоль по реке родной очи держу!» На звездочку поглядишь – «Звезда вечерняя моя, тебе привет шлю сердцем я!» – из «Тангейзера».
И до того дошло это увлечение музыкой, что оказался я последним учеником и остался на второй год. Стали мне угрожать: «прописать ему надо музыку на музыкальном месте!» Ну, конечно, и прописали. Но увлечение только закрепилось. Я сначала не подозревал – да откуда же это увлечение? И вот, однажды, пою я в зале перед зеркалом «Демона». Только пустил высоченнейшую нотку – «и будешь ты царицей ми-и-и-ррра-ааа…» – сестра выскочила из-за двери и кричит с удивлением: «да у тебя, долбежка, удивительный у тебя слух!» Велела еще попеть. Я ей пустил из арии Синодала, Тамарина жениха, – «словно подломилися кры – ы-ы-лия-а-аа мо-и!..» Она и вытаскивает из передней… Эльзу Лисарговскую! И начали аплодировать. Я со стыда сгорел, а Эльза, коварная полячка, схватила меня за уши и затормошила и… поцеловала в глаз. Ах, как пахло от нее гелиотропом!
Но надо сказать об Эльзе. Она тоже была консерваторка, только по пению: готовилась поступать в театр. Высокая, тонкая блондинка, с золотистыми косами: шейка у ней была длинная и нежная и изгибалась, как стебелек. А глаза большие, голубые, как бирюза в крупных ее сережках, которые болтались. Ходила она к нам уже три года, сильно с сестрой дружила, а меня считала за десятилетнего мальчика, как вначале, когда познакомилась со мной. Возьмет за вихорчик и потреплет. Я ее, правду сказать, боялся. А вот почему боялся. Все у нас в доме говорили, что она полячка, а полячки очень коварные и хитрые, и потом у поляков не признают поганого: в чем белье парят – в том и говядину варят; и лучше от низ подальше. Плакала сестра, что «последнюю подругу отнимают»; а всё-таки настояла, чтобы ее к нам пускали. А я из Гоголя знал, что панночки очень хитрые и коварные, как, например, прекрасная полячка из «Тараса Бульбы», которая загубила бедного Андрия, так что он предал веру православную для нее и изменил славному казачеству. Потому-то я и боялся. Пела она необыкновенно, особенно – «слышишь, в роще звучали трели соловья», из Шуберта. И была до того красива, что у меня замирало сердце.
Я-то и прозвал ее Эльзой, из «Лоэнгрина», а звали ее Тося или Зося, по-настоящему. А я, конечно, был Лоэнргин. Бывало, поешь, вздыхая: «о, Эльза!»… и плакал, что так и отъеду на лебеде – распрощусь навеки, ибо – «я – Лоэнгрин, я Чаши той слуга!» Ну, той самой – Грааля Чаши. Очень бывало грустно. Как-то и говорит, сестра: «что-то ты, музыкант, краснеешь, когда Лисочка к нам приходит.. что за новости, уж не влюбился ли ты, долбежка?» Я завертелся по залу на одной ножке, от удовольствия. И пропел из «Демона» – «я скачу и лечу… о, Тамара… моя-а-а!» Она сказала – «выпороть тебя надо», и посмеялась.
Тут вскоре Эльза позвала сестру на именины, что-ли, и – «для пробного экзамена». Оказывается, к ней пришли товарки и товарищи по классу, и будут судить, провалятся или не провалятся. Сестра очень забоялась, но я ее подбодрил, что лучше сперва попробовать на дому, а потом и решится, провалится или не провалится. Она сказала, что, впрочем, всем ведь придется выступать, лучше попробовать. Прибежала Эльза и потащила сестру насильно, и меня почему-то прихватила.
– И ты будешь нас судить, ты продувной мальчишка, и у тебя слух чудесный! – Ну, угощали меня очень хорошо, поили шоколадом с бисквитами. Сестра отличилась, все даже удивлялись. И Эльза отличалась, и все тогда очень отличились. И пили потом лимонад с каким-то душистым вином и ели апельсины. Был там здоровенный молодой человек, по имени Трезвинский, который после в Большом Театре прославился. Была еще красивая барышня, тоже, кажется, из коварных полячек, – Скомпская, тоже потом известная певица, и еще, кажется, знаменитая потом Звягина или Эйхенвальд. И какой-то седой и хромой музыкант, Кашкин. Он, говорили, самый строгий из музыкантов, и всегда во втором ряду в партере сидит и на тетрадку «грешки» заносит. Великое было торжество. Я сижу и ем сливочные тянучки. Вдруг коварная Эльза схватывает меня и тащит на авансцену, к роялю, и говорит хромому старику про меня: «вот, Николай Димитрич, позвольте вам представить знаменитого певца, все-то оперы знает!». Коварная, так и чуял. Все закричали – петь! Рдин волосы взъерошил и стал разыгрывать. Слышу – из «Демона» под армию Синодала, про «кры-лья»! Как тут я не вертелся, как ни сопел, вытащила она меня из-под стола, куда я спрятался, и пришлось мне по строгому пальцу хромого музыканта идти на муку. Сперва я скрипел со страху, но вдруг, посмотрев на Эльзу, махнул рукой. Нате же, слушайте, коли так! и спел. Да так спел, что великан Трезвинский подкинул меня под потолок, а хромой музыкант, покачал волосатой головой и говорит: «и слух прекрасный, и голос будет». А Эльза меня поцеловала, как всегда, в глаз. Все решили, что все выдержат экзамен, и поехали прокатиться в Сокольники. А я окончательно пропал.
И вот тут-то и пришло мне на мысль… написать оперу! Для Эльзы. Я отлично знал все либретто, и как строится опера. Конечно, не музыку я хотел писать, – это уж дело музыкантов, – а либретто. Но либретто тоже дело великое. Приятно, когда читают: «„Нижегородцы“, опера в 4 д., музыка Направника, по либретто Калашникова»! Или там – «Жизнь за Царя», опера М. Глинки, по либретто не хуже барона Розена. Ну, разве можно так – «вдоль по реке родной очи… держу»?! А в «Демоне» и еще того хуже: «Тише, тише подползайте, стража крепко спит… всех их изрубим!» Глупо даже. Но были и прекрасные места, как, напр.: «караван наш запоздал, и напрасно нас сегодня поджидает князь Гудал»! И решил я написать оперу «Маскарад», по Лермонтову. Но со своей поправкой. «Партию Нины Арбениной исполнит меццо-сопрано Эльза Лисагоровская»! «Маскарад», опера известного музыканта Аренского – обожал его за его «Бурю на Волге», которую сестра удивительно играла, – по либретто… И тут стояла бы моя фамилия! А для Эльзы я придумывал удивительно «выигрышные» нотки.
И вот, в каком-то умопомрачении и страсти, принялся я составлять либретто. Написал я его в три дня. Я дал арии для Арбенина, которого должен был петь Трезвинский, дал и для Неизвестного – Бутенко, бас, который очень мне нравился в Руслане и в Марселе, и, вообще, наградил всех любимцев. Но для Нины – Эльзы я не пощадил самого себя. Я, можно сказать, весь истекся – для прославления красавицы-певицы.
Началась опера мрачной увертюрой, в которой должны проходить угрожающие звуки труб и барабана, как «подземное предостережение судьбы», – так я и написал в либретто, для сведения музыканта Аренского. Так и написал: «нечто вроде грома из „Руслана и Людмилы“». Пометил, что лейтмотив увертюры должен выражать стон женской души несчастной Нины Арбениной, из ее арии – «О, я невиновата, муж драгой… ты для меня один – никто другой!» – а также мрачную арию Неизвестного в маске: «Свершилось мщенье! ей нет прощенья! Ты не сказала – „я – твоя“… так пропадай, душа моя!» Опера начиналась блестящей картиной азартной игры на зеленых столах. Игроки, потрясая колодами карт и кошельками с золотом, поют у рампы «гимн игре», в страшно бравурном тоне, под одни медные инструменты, причем время проходит «подземное предостережение судьбы»:
И каждый куплет хора игроков заканчивался припевом, лихо:
Необыкновенно блестящей была дана картина маскарада, где под увлекательный вальс и пенье хором под вальс – «Какое жизни наслажденье превыше вальса нам дано?» – Арбенин – Трезвинский подносит Нине – Эльзе отравленное мороженное и поет арию – «О, дорогая… как ты бледна… Душой страдая, ты не верна… Ты изменила, меня казнила, так пусть могил-ла-а… рассудит нас!» А Бутенко – Неизвестный демонически хохочет у колонны, «„как Мефистофель“: О, тонкий яд любви обманной… прохладой сладкой напоит! Но – ха-ха-ха… тоскою странной… ха-ха-ха-ха… душа горит!» В апофеозе князь Звездич, всё потерявший в жизни, стреляет в игроков, и что-то еще очень эффектное. Ангелы уносят душу Эльзы – Нины на небо, а Неизвестный, в черном плаще, отворачивается от победного зрелища святых, проклинает свою судьбу и саркастически восклицает: «Не рад – иль рад? Так вот он, жи-зни маскарад!..»
Кончил – и написал музыканту Аренскому письмо, с приложением первого акта оперы. Писал, что «я чту Вас, как великого музыканта, творца „Бури на Волге“, и рад послужить Вам своим трудом. Прочтите, и, если понравится, я немедленно принесу Вам всё остальное, где эффектов гораздо больше». Написал, что у меня и мотивы арий придуманы, и даже могу пропеть; ноты писать пока я не умею, но у меня есть знаки, по которым всегда напою до точности. Приложи и адрес.
Я хранил это в страшной тайне. Ждал дни, неделю, – письма от Аренского не приходило. Прошли в консерватории экзамены. Выдержала и сестра, и Эльза. А я всё ждал письма. И вот, как-то врывается к нам с хохотом Эльза, – о, коварная полячка! – схватывает меня за уши и начинает крутить по залу и припевать: «мы игроки, мы игроки! Каки-каки, мы игроки!..» Я обомлел от ужаса. Оказывается – всё известно! Кому-то показала Аренский мое письмо, а я-то сглупа упомянул, что «музыка мне дорога, потому что я постоянно пребываю среди учеников консерватории и постиг все звуки, а моя сестра кончает „на виртуозку“ и ученица Вашего знаменитого директора Сафонова!» От Аренского всё узнал какой-то певец, сказал другому, и дошло до коварной полячки Эльзы… – и был мне великий срам. И срам надолго.
Года через два после этой истории встретила меня Эльза, уже поступившая на сцену в провинцию, и первым ее словечком было, на всю-то улицу: «каки-каки, мы игроки!» Она была еще красивей и еще коварней. В синих ее глазах, – теперь они стали синие! – играла обжигающая, коварная усмешка и сладко пронзала сердце. Эльза протянула мне ручку, пахнущую гелиотропом, и пропела, тряся сережками: «ты теперь почти взрослый, и я жду от тебя новой оперы – „Люблю тебя“. Обещаешь?» И засмеялась… ну, как Кармэн! Я долго глядел ей вслед, и в голове звучало: «бойся ты лю-бви мо-е-эй!..»
И дома проходу не давали. Чуть что – и начинается:
Тем моя музыка и кончилась.
Март, 1932 г.
Первая книга
Два месяца писал. Перечитал, переписал, прорезал, еще переписал, еще прорезал. Ну, куда такое! Стало грустно. И спокойно, будни. Послать – куда? Вспомнил редактора: «пишите, приносите». Принес. – «Зайдите… так, месяца через два». Сталосовсем покойно: еще не скоро.
Через месяц – письмо, полуславянским в заголовке: «Русское Образование». Удача! Не совсем: «зайдите переговорить». Иду, в волнении. Усач швейцар, когда-то недопускавший до самого, – «гимназистов никак не допускаем!» – распахивает двери к самому: «пожалуйте-с», – усы играют весело и строго. Всё то же: груды на столе, «леонтьевском». Пальма еще пышней, как куща. В седых кудрях, редактор, Анатолий Александров, приват-доцент: – «а, садитесь… вот в чем дело…» – сердце тук-тук-тук… – «недурно, можно напечатать…» – сердце, по-другому: тук-тук. – «Интересно дали. Напечатаем…получите недурно…» – приятный взгляд, – «а для студента и совсем недурно…» – черкает на бумажке, множит, рублей четыреста! Думаю: куплю Шекспира, Гёте, «Историю Земли», Неймайра – «Но вот в чем дело. Надо ой-что резать. В цензурном отношении, и… редакция не может согласиться с вашим взглядом на аскетизм… Погодите. Вы легко разделались с этим… „аскетизм плоти!“» – строгий взгляд. – «Постойте… Дух нашего монашества…» – лекция минут на двадцать. Слушаю с восторгом. Начинает листать, отчеркивать. – «Это неуместно. Что это за… „благо-уха-ние“, с тире, в кавычках?.. Старец, двадцать лет не обмывавший тела, преставился, и „от его тела истекало неизреченное благоухание“… это жи-тийное! а вы – в кавычках! вам смешно…» И снова лекция о «преображении плоти». Интересно. – «Даете новую речь, прекрасно… но не всё выносит книга: надо от-би-рать. Искусство слова…» Лекция о лове. Я в восторге. – «В общем, предлагаю сократить, вот, где синим… страниц тридцать. Вы согласны?» Я: нет, не могу. – «Почему?! „На скалах Валаама“ мне нравится, будет читаться с интересом. При некоторой игривости… – это у вас пройдет! – внутренно вы духовно-близки…» Ласково глядит. – «Ваша душа чувствует красоту святого…» Я рад, но на урезку не согласен. – «Не по-ни-ма-ю… – встряхивает кудрями, – вы же получите… и еще могу вам предложить… сделаем для вас триста оттисков, в рубашечку оденем, можете раздать по магазинам, как книжечку. Это вам даст больше ста рублей…» Я что-то говорю: это мое, если выбросить, это уже будет… Он поднимает руки к пальме: – «Вы чудак! не понимаю, что за… упорство!» – «Не могу». – «Но… цензу-ра!» – восклицает он. Это дает мне силы: – «Я не желаю подчиняться произволу!» – «О, ка-кой вы…Ну в таком случае…» – Холодный взгляд, холодное прощанье. Провожает усач, сочувственно: – «Вернул-с?» Дал ему целковый, за сочувствие.
«Как книжечку…» Самому издать? Прямо на Моховую, к К-ну, – мой поставщик «брошюрок». – «Да на что же лучше! такую книжицу закатим-с!..» Ловкий, ярославец, «с пеленок, скажу-с, при книжечках». – «Слушайте-с. Типографщица Е. Г., слыхали-с? Первый пионер, сам Гольцев поздравлял… женский труд ввела… облагодетельствовала, как сказать, про-грес-с…и в таком случае может брать дешевле все, не Кушнерев-с! Денежки вперед, понятно. Одно заглавие-с – „На скалах!..“ – из рук рвать будут. А с Картинкой, монастырек там… да пустим копеек 80 – тыщи пролетят! В глаз чтобы било покупателю, повеселей обложечку… ну, два завода, 2400, – на счетах чик-чок-чук, – вам тыщенку чистых, не меньше-с. Можете… рубликов 700 вперед? Чудесно. Завтра сама примчится, шрифт, бумагу…»
Завтра сама примчалась. Громада, шляпа в лентах, запыхалась. – «Женский труд, я первая… Гольцев поздравлял, дорогу женскому труду! В наших условиях…» – понизив голос, – «вы понимаете, полиция косится, обыски… первая ласточка… женщина – субъект гражданских прав, вы понимаете?.. Значит, вы мне 700 авансом…Завтра и в набор. Цицером? Прекрасно, я люблю цицеро… Цензура? Обойдем. Я в восторге, всю ночь читала…есть зацепки, но, по закону, свыше двести листов… разгоним, – без предварительной. Отпечатаем, три дня сроку…Не беспокойтесь, у меня рука…» – миг-миг, – «сколько раз сам Гольцев! Нет наличных?.. Ну как же?.. Ах, облигации? кредитного, московского? Охотно, по курсу, скидка на комиссию…» Трубка облигаций, сколько надо. Кладет в мешочек, вся красная, в удушьи.
Книга будет.
Корректоры, запах краски, радость. Первые листы – чудесно. Клише: скала над озером, под ней монахи, в лодочке, – «в глаз чтоб било покупателю». Ноябрь. Первая книжка, – красота!
«На скалах Валаама»
Тут обрывается: Бутырки, две недели. Университет – Манеж – Бутырки.
Дома, наконец. Телеграмма: «Книга задержана, будьте в Цензурном Комитете… Е. Г.» Гром с неба! Вспомнился редактор, Шекспир, Гёте… «по магазинам раздадите». Было бы уже в журнале. И – горделивое сознанье: жертва гнета! Ах, юность, юность…
Цензурный Комитет, на кисловке. Накурено, казенно, палачи. Вот главный: князь Н. В. Шаховской, – как будто и непохож на князя: одутлое лицо, мочалистое что-то на лице. Прищурясь: – «Вы… автор? Это что же, пикник из Валаама устроили? Не возражайте. Так нельзя-с. И порнография… Да позвольте, у бабы моют в банях… мужчин! Ну, не на Валааме… еще бы вы – на Валааме! В Финляндии, но в книжке о Валааме! И про пьяных купчиков и девок… В диалогах, да, но!.. Можете полюбоваться…» Показывает экземпляр «цензуры»: всё красно, залито. Затерзанная жертва гнета. – Не возвышайте голоса, г. студент. Да, потеряли, сами на то шли, – «„без предварительной“! Вам сколько лет?» – Даже благодушно: – «Э-эх, ю-нец, пи-сатель. Вот что. Не волнуйтесь. Приходите вечерком, и мы поборемся: будете отстаивать свое, а я свое».
Пьем чай. Князь – будто и не цензор, а добрый дядя, «благородный человек». В кабинете – комфорт, культура. Шкапы, в зеленых занавесках, книги, книги. Есть один, «секретный»: «мученицы», сожженные. – «Может попасть и ваша, если не согласитесь на „операцию“». Горько, но соглашаюсь. Князь – мягче: – «В чай коньячку?..» Чудесный человек, обворожительный, культурный… про-грессивный! я почти влюблен. Страница за страницей, проверяем. Князь уступчив: – «Хорошо, оставим. Да… вы в этом смысле?.. Ну, оставим. Больно, а? Не по живому телу. Ху-же? Это так кажется, обтрепитесь». После работы – говорим друзьями. Нет, он либеральный, прогрессивный, сам подгнетом… какой он цензор! Двадцать страниц отбито. Четыре вечера боролись. В итоге: вырвать 27 страниц. – «Перепечатают и вклеят, только. Да, приплатите: за грех и наказание». Князь сверх-любезен: показывает тайны: «мучениц», сожженных: – «Вот „Прогресс нравственности“, Шарля Летурно, пустая книжка! Ка-ак, читали?! Странно, сожжена». Показывает парижские журналы, карикатуры на приезд царя. Нет, он хороший. Я открываю ему душу, про книгу. Он тоже: – «Покаюсь, я немножко виноват. Дал одному приятелю… драматург Невежин, знаете? Ему понравилось – разговор народный. Дал другому – Ширинскому-Шихматову, синодальному. А тот – „интересно, но!..“ Запросил К. П. Победоносцева. Вот телеграмма, самого: „задержать“. Чего вы удостоились! Что делать… Посадили вас не мы, а типография, советчики. Дорогонько, вдвое-с», – помял он книжку. – «А сколько припечатают? Могут. Снимут сливки… бывает это».
Приятный человек. Погиб при взрыве, на Аптекарском.
Книга вышла, израненная, в пластырях, – февраль, 1897 г. «Била в глаз». «Сам Гольцев» написал о ней страницу, в «Русской Мысли». «Русское Богатство» – тоже благоприятный отзыв: понравилось про «общину» и про «народ». «Новое Слово» – красная рубашка, рождавшийся марксизм, – разделало: слог бойкий, но о чем: о затхлой жизни, об «изжитых предрассудках», «эксплоатация труда религией». Книга продавалась. – «Плоховато, 247 всего! – морщится К-н, – зарезала цензура». Я вспомнил князя: «снимут сливки». Не знаю. Так и тащилась: 248, 260, 293. Через год, К-н: – «только занимает место, лучше забирайте раз недовольны… не пошла». Продал букинисту за гроши. После мы с ней встречались – на Сухаревке, в нижнем, в Твери, в Архангельске… предлагали переиздать. Не согласился: ошибка юности.
Десять лет – ни строчки, не тянуло. Удручило? Не думаю. А просто – не исполнилась душа. Исполнилась – заговорила.
Давно ее не видел – свою ошибку. А посмотрел бы.
Февраль, 1934.
Париж.
Как я ходил к Толстому
Про графа Толстого я слыхал еще в раннем детстве. Он жил за Крымским мостом, в Хамовниках, и его дворник и еще какой-то «человек» ходили мыться в Крымские бани.
Говорили у нас, что он страшный богач и большой чудак, всё чудит… а пожалуй, что и скупец: дворник и «человек» ходили в «дворянские» бани, за гривенник, а граф Толстой, – от таких-то капиталов! – всегда в «простые», за пятачок. Возьмет веничек за монетку и парится-мается, и всё сам, без парильщика, потереть даже спину не покличет. Видать его не видали, а, говорят, бывает… рано придет, никто и не уследит, что, мол, граф Толстой, а так, мужичок и мужичок, в полушубке и в валенках. И еще говорили, – не то, будто, во святые собирается, не то в голове у него что-то… чу-дит! Сам за водой на бассейну ходит, а «человек» ему кушать подает, в перча-тках!..
Потом, когда я стал постарше, я узнал, что этот самый граф Толстой много книжек печатает, и такие капиталы ему идут… – не знает, куда девать, – с того и чудит, пожалуй. И ходит к нему на-роду… – «человек» его в банях рассказывал, – поесть даже не дадут, вот как. Со всего, говорят, свету на поклон к нему приезжают, такая ему слава. И даже самому царю известен.
Потом, поступив в гимназию, я узнал, что граф Лев Толстой – самый знаменитый писатель, другого такого нет.
Помню, было на Рождестве. Пришли к нам батюшки Христа славить. Сели после молитвы чайку откушать, выпили-закусили – батюшка и стал рассказывать про графа Толстого. Такое рассказал – всех нас напугал, очень кощунственно.
– «Что говорить, высокого дара человек, знаменитые написал ро-маны, и дар, что уж говорить, на весь свет романист… да только видно Господь его наказал… помрачение ума стало, от гордыни. Сказать страшно… Е-ва-нгелие, говорят, написал, сво-е!.. До чего занесся, а?! новую веру проповедует… тол-стовскую!..»
Так мы и ахнули! У нас тетушка сидела, из Сущева, чаем горячим поперхнулась, от потрясения, на всех и фыркнула, даже на рясу батюшке. А еще сидел арендатор банный, Иван Кондратыч, пришел поздравить. Ужасно толстый, глаза с белыми ресницами всегда закрыты, и всё зевает. Зевнет – и покрестит рот. Наслушался про Толстого, и стал рассказывать.
– Чего же это начальство допускает, а?! А потому, что графы, им всё дозволено. Тебя, за непорядок какой, – штраф сейчас, а им против Бога дозволено. Зло-то, сразу его не прижечь, оно вот какие последствия может оказать… не угодно ли послушать. Мой Ванюшка так через него и погиб, через Толстого-графа. А вот так и погиб. Всё книжки читал – и дочитал, про графа про Толстого. Как его, значит, разобра-ло… и купил это фотографию-портрет, за два рубли. А к нам его «человек» мыться ходил. Ванюшка и дай тому «человеку», пя-ать целковых!.. Откуда-откуда, – понятно, таскал из сборки. И уломал того «человека»: попросите, дескать, графа Толстого на память подмахнуть… расписаться, понятно. Ну, тот и… подсунул хозяину, – подмахните, ваше сиятельство, чего вам стоит. Тот и подмахнул, жалко, что-ли, ему чернил-то! – граф, мол, Толстой. Хорошо-с. Как получил мой Ванюшка прописанный тот партрет, – совсем и одурел. Под золото разукрасил, повесил в передний угол, будто икона у него, все его книжки купил, дни-ночи всё читал, дало забросил… ну, в башке у него и перемутилось, стал заговариваться… да сухие веники и поджег! Знаете наши сухие веники… порох чисто. Помните сами пожар-то наш, больше месяца бани не торговали, – прямо, нас подкосил. Пошутить-то пошутили, а все книжки и тот партрет графа Толстого… начисто всё спалило… все книжки поганые погорели и его за собой потащили, через год от чахотки помер, царство небесное. Я про него слышать не могу, про графа, про Толстого! В старину бы такого на кол бы, прямо, посадили, либо живьем сожгли. За такое дело.
Совсем был необразованный. А я уж тогда многое понимал. Прочитал «Детство и Отрочество», и мне понравилось. Потом «Смерть Ивана Ильича», купил у носящего за гривенник, не понравилось мне, скучно написано про одного чиновника, как заболел и помер. А «Казаки» очень понравились, про дядю Ерошку и про очаровательную Марьянку… влюбился в нее даже, очень хотелось на Кавказ поехать. А в пятом классе гимназии прочел «Войну и мир», дни и ночи читал на Святках. Неинтересные разговоры пропускал, а про Наташу очень нравилось, и тоже в нее влюбился. И про войну понравилось, про Кутузова и про Наполеона. Про Наполеона я и раньше слыхал, прабабушка Устинья много про него рассказывала, чего и у Толстого не записано, как он к нам во двор заходил, на Калужской улице, и прабабушку защитил от грабежей, велел заарестовать мародеров, и как наша Москва горела, а мой прадедушка ушел на Воробьевы Горы с мужиками и ловил по ночам французов.
В эту пору я сам начал писать романы. Написал почти полромана, из русской жизни XVIвека, про Ивана грозного, но сестра отняла у меня тетрадку, и спрятала, сказала – «нечего пустяками заниматься, учи уроки!» Я тогда всё литературой занимался, и меня чуть из гимназии не выгнали.
И стали меня мысли одолевать, про разные романы. Всего Загоскина прочитал, и Лажечникова, и «Князя Серебряного», и Пушкина. И учитель русского языка, замечательный человек, Федор Владимирович Цветаев, меня хвалил всё: «Старайся юноша, допишешься до чего-нибудь». И решил я написать роман в четырех частях. Придумал хорошее заглавие, помню, – «Два лагеря», всё разметил, набрал героев, придумал фабулу… А я тогда уж все тонкости понимал: где описания природы надо дать, где лирическое отступление, поэтический восторг, эпилог… всё как надо. Целое лето провозился, даже и про рыбную ловлю забыл. Даже плакал, когда писал. И написал к осени все четыре части, двенадцать тетрадок исписал. А во мне уж давно засело: пойти к графу Толстому, достукаться до него через того «человека», умолить, чтобы прочитал роман и сказал мне по чистой совести, можно ли мне писать романы. Роман вышел у меня отличный, прямо – захватывающий, и читался с громадным интересом. Я хранил его в глубокой тайне, прятал на чердаке, чтобы сестра не выкрала. Но она как-то изловчилась и вырвала у меня одну тетрадку. Я ее на коленях молил – не рвать. Ну, она снизошла, не разорвала. Прочитала – и говорит:
– Знаешь что, писатель… у тебя всё-таки ничего выходит, только зачем ты на каждой странице всё описания природы… то заход солнца, то восход солнца, про луну даже на двух страницах, а про грозу даже на четырех. Никогда у Тургенева на четырех страницах про природу не бывает, не ври. Бери лучше прмер с Толстого. И потом, зачем у тебя всё – ах, да ах! У Гоголя… У Гоголя, во-первых, не так часто… А это что еще… – «и пруд светился, как… опрокинутое зеркало»?.. Куда опрокинутое? Да у Гоголя мало ли что есть… ты не Гоголь. И почему у тебя девушки на каждой почти странице плачут? Ах, несча-стные они!.. Ну, хорошо, допустим, что несчастные… отчего несчастные? От… любви? Много ты понимаешь про любовь… Ну, не спорь. Да не надо же самому их жалеть, пусть читатель сам пожалеет. А ты – «ах, несчастная Аничка!..» И вот, это еще: «неужели согревающий луч счастья никогда в жизни не озарит ее грустные глаза… ла-ни?» Ну, на что это похоже – «гла-за-ла-ни»! У девушки – и вдруг «глаза-ла-ни?!» Мало ли что у Купера твоего! У Лермонтова?.. Не помню, чтобы было – «глаза газели», выдумываешь про газель. А почему я тебе подчеркнула? Нет, не только это, не только неудачное сравнение… почему еще? А потому, что: после отрицания ставится после глагола… ка-кой падеж?.. Родительный, а не ви-нительный! Ну, исключения бывают, а надо ухом слушать, как приятней. А описание сада… прямо, у Гоголя содрал! Это же «сад Плюшкина»! И про хмель у тебя, и про сухую березу. А клятва на могильной плите… у Марлинского про эти клятвы.
Сестра очень много читала, хорошо знала теорию словесности, и мне пришлось признать, что ее критика во многом справедлива… хотя «глаза лани» мне страшно нравились, я только для виду согласился и вычеркнул, а потом опять вставил. Я многое исправил, посократил «лирически места», но описаний природы не сокращал. Даже у самого Толстого они встречаются, особенно когда действие переносится в деревню. А у меня весь роман развивается в деревне, в роскошном барском имении, где старые пруды и развалины былой роскоши, где «мать-земля рассыпает щедро свои дары», где «Божье солнышко льет свои благотворные лучи в тела и души», где «благодарственный воздух мощно вливается в юную грудь, не знавшую никогда корсчета»! И как же выбрасывать описания природы, когда природа у меня – главное действующее лицо, – пусть угадают критики.
Я красиво переписал, прочел за один присест, и мне показалось замечательно, не хуже Тургенева, пожалуй. Роман был такого, помнится, содержания:
Ранней весной, в распутицу, пожилой господин едет инкогнито, чтобы сделать приятный сюрприз, в глушь Н…го уезда, одного из живописнейших в России, к сестре в имение. Едет он из Сибири, где у него богатейшие золотые прииски. Везет его бедный мужичок на тощей лошаденке. Следует подробный рассказ мужичка про деревенскую бедность и про злодея-управителя, который выжимает последний сок из крестьян. И путник с ужасом узнает про назревающую в имении драму. Сестра вверилась хитрому и низкому поляку-управителю, подпала под его влияние, – у него были лихие усы, в стрелку! – и хочет насильно выдать за него свою единственную дочь, красавицу Аню, с глазами лани. Путешественник потрясен и велит погонять лошадку, чтобы предупредить грозящее несчастье. Дорога ужасная, лошаденка выбивается из сил, падает и издыхает в студеной луже. Мужик убивается над ней, но тут сибиряк вынимает тугой бумажник и дает мужичку сотнягу-катеринку. Мужик потрясен таким великодушием и не решается взять, говоря: «Дорогой барин, за что мне такая от вас награда, помилуйте!» – «Зато, что ты открыл мне глаза на готовившееся свершиться преступление! за то, что ты, может быть, спасешь этим прекрасное и невинное существо, дорогую мою племянницу!» И с этими словами направляется пешком в показавшееся вдали селение. Потом в имении начинается борьба. Образуются два лагеря. Один лагерь – поляк-управляющий с помещицей, которая. На старости лет, как г-жа Гурмыжская в «Лесе» Островского, как будто сама неравнодушна к тонкоусому поляку, лихо танцующему мазурку и краковяк, и заодно с ними подкупленный поляком становой, мошенник из мошенников. Другой лагерь – прекрасная Аничка, сельский учитель – бывший студент, «по независящим обстоятельствам» уволенный из университета и решивший «служить народу». Аничка и учитель горячо любят друг друга, но таят это в глубине души, втайне страдают и любуются красотами природы. С ними дядюшка-сибиряк, решивший оставить им по духовному завещанию несметное свое богатство, которое они употребят на улучшение крестьянской жизни. С ними же и энергичный сельский священник с женой, на которых молятся мужики и бабы. Батюшка с матушкой занимаются самообразованием и читают такие, например, сочинения, как Бокль, Смайльс, Спенсер и проч. Злодей управитель кует свое злое дело, уже готов силой умчать Аничку в Польшу, как вдруг дядюшка неожиданно находит в парке оброненную поляком записную книжку с документами и узнает, что управитель не что иное, как беглый каторжник, убивший в Сибири инженера и завладевши его бумагами. Крестьяне, доведенные до отчаяния поборами управителя, собираются бунтовать, но тут влетает на тройке лихой капитан-исправник с урядниками. Пока исправник говорит речь мужикам, увещевая их разойтись, иначе будет худо, управитель со становым заманивают Аничку в парк, как бы для того, чтобы охранить от разбушевавшейся толпы, а на самом деле – чтобы умчать на приготовленной тройке. В этот критический момент в толпу врывается дядюшка и потрясает бумагами. Общее потрясение: правда теперь открылась. Управителя хватают, мужики мирно расходятся, хватают и станового, который оказался беглым солдатом и разбойником. Помещица падает в обморок, кается со слезами и дает согласие на брак Аничик с учителем. Все идут закусить за роскошно сервированный стол, дядюшка произносит речь о красоте души нашего народа, Аничка с будущим мужем дают клятву до самой смерти служить этому прекрасному народу, и даже старик исправник, потягивая ус, роняет слезу в бокал и говорит, садясь в экипаж, растроганный: «дети мои, благословляю вас!»
И вот, в благоговейном трепете, направился я в Хамовники, чтобы умолить графа Толстого прочесть роман и решить судьбу автора.
Я не спал ночь, не пошел в гимназию, а после обеда, часа в три, двинулся со стопой тетрадок, через замершую Москва-реку. Было в начале зимы, день сумрачный, с оттепелью, каркали по садам вороны в снегу. Присел помню, на замершей барке, смотрел на тот берег, к Хамовникам, на казармы, на красную церковь Николы-Хамовники, прихода графа Толстого. Смотрел и мечтал, в волнении, как увижу сейчас великого Толстого… – и в воображении приходили чарующие и страшные картины.
Мне ярко представилось, как Толстой узнает от «человека», что пришел гимназист-писатель, нерешительно морщится, но благородное чувство снисхождения берет в нем верх, и, несмотря на то, что он пишет сейчас роман, который затмит все прежние, велит впустить в кабинет странного молодого человека. Он, по обыкновению, в суконной блузе, подпоясанный ремешком, как на портрете, с великими лишениями купленном за целковый, хранящемся у трепетного сердца, под курточкой, для заветной надписи – «на добрую память от… Льва Толстого»! Мохнатые его брови насуплены, когда он впитывается всевидящими глазами гения в бледное исхудалое лицо неизвестного молодого человека. Конечно, он прозревает, как его обожают и как страшатся. – «Садитесь, молодой человек», – аристократически-плавным жестом показывает он на роскошное бархатное кресло у письменного стола, – «не смущайтесь, будьте, как дома!» – «Ничего-с…» – едва лепечу я, хочу добавить, что могу и так, постоять, но голос замирает, и я присаживаюсь, едва осмеливаясь коснуться кресла. В волнении рука моя выпускает тетрадки, и они рассыпаются веером у ног гения, обутых в смазанные сапоги собственного изделия. – «Ничего, не волнуйтесь», – говорит он, помогая мне собирать тетрадки, – «я подозреваю, что вы написали роман? Очень приятно. Чего же вы от меня хотите?» Я хочу ему высказать, как обожаю его, как счастлив, что вижу его и могу теперь умереть спокойно. Но волнение не дает сказать. Он понимает всё. Кладет свою гениальную руку на мою… – это она, могучая, написала гениальные романы! – и, читая во мне проникающим в душу взглядом, ласково говорит: – «Не волнуйтесь, молодой писатель. Когда-то и я тоже начинал, и все мы когда-то начинали…» На его столе груды листов, исписанных его характерным, гениальным, почерком. – «Вы хотите?..» – «Вашего великого суда…» – хриплю я, как удушенный, – «ради Бога, нельзя ли про…читать…» – я не дерзаю сказать – «роман», – «эти… это… эту… страницы, и…» – голос срывается. – «Понимаю», – быстро и даже весело говорит он и потирает руки, как наш зубодер Шведов, перед тем, как схватить щипцы, – «не будем терять золотого времени, я по опыту знаю, как вам не терпится узнать поскорей мое мнение». Гений провидит самое сокровенное. И кто знает, может быть, сейчас позвонит и скажет «человеку»: «а подать нам сюда два стакана крепкого чаю с печеньем и вареньем!» – «Крепкий, конечно, предпочитаете?» – спрашивает он предупредительно-радушно, – «мы писатели, любим крепкий, хотя я принципиально против крепких напитков. А варенье какое любите?» Я не смею сказать – черносмородиновое, и едва вздыхаю: – «ах, всё равно-с, какое-нибудь, могу и вприкуску, так-с…» – «А я, рябиновое люблю и… малиновое. Но не будем терять драгоценного времени, вы мне сейчас же прочтете сами страниц тридцать… а там посмотрим». На бархатных стенах всюду классические картины, портреты гениев и мраморные бюсты мудрецов. Я беру тетрадку № 1 и начинаю читать, давясь от страха. Он прикрывает рукой глаза. Захватывающая сцена, когда падает лошаденка… – «Чу-де-сно!..» – взволнованно говорит он, – «я потрясен, покорен… вы меня так…»
Сумерки сгущались. В казармах начинали светиться огоньками окна. Волоча ноги, я прошел мимо церкви Николы-Хамовники, мимо пивоваренного завода, откуда густо потягивало бардой. Старик-фонарщик ковылял с лесенкой, зажигал лампы в фонариках. В благоговейном трепете прошел я мимо высокого темного забора с решеточкой по верху. Воротился, прошел опять, всё не решаясь позвониться. Под развесистыми березами темнел дом. И тут каркали вороны, в снегу. Глухо брехала собака, – должно быть, старая. Дом двухэтажный, деревянный, обшитый тесом, наверху мезонин, и в нем засветилась лампа с зеленым абажуром. Я, наконец, решился и позвонил, чуть слышно. Долго не отпирали. Собака всё брехала, сиплый голос ее срывался. Во дворе хрупала лопата, – сгребали снег. Чей-то недовольный голос крикнул: «да буде баловать, махонькие, всамделе, что ли!» В забор со двора плюхнуло комом снега, и забрехала яростно собака. Я продолжал и позвонил опять. Лениво зашмурыгали шаги, и в забор глухо ляпнуло. – «Говорю, за ворот натекло!» – крикнул свирепый голос, – «возьмусь вот – узнаете у меня тогда баловать!» – и калиточное кольцо отстукнуло.
– Вам кого?.. – не сказал, а рявкнул сердитый дворник, в руке лопата.
Снеговым комом ляпнуло его в загривок, брызнуло и в меня. Он стал выковыривать из-за ворота мокрый снег, а сам глядел на меня сердито, собираясь закрыть калитку. Я растерянно показал ему тетрадки и сказал невнятно, что… «графа Толстого бы…» Дворник посмотрел на тетрадки, на мою потертую гимназическую шубу… –
– Много у нас графов… самого молодого вам?..
Я сказал, что мне надо знаменитого писателя графа Льва Толстого.
– Во-он кого вам!.. Нету их, уехали к себе в деревню… и хотел затворить калитку.
Должно быть мое лицо что-то ему сказало; он опять поглядел на синие тетрадки:
– «По ихнему делу, что ли… сочиняете-ли? Нету их, в „Ясной“ они, там для их дела поспокойней. И графиня не велит таких бумаг принимать, не беспокоить чтобы».
В этот ужасный миг кто-то, голенастый и прыщавый в гимназической фуражке и синей курточке, обшитой серым барашком, ляпнул огромным комом в загривок дворнику, и меня залепило снегом. Дворник хлопнул калиткой, чуть не прихлопнул мою руку и погнался за голенастым: «ну. Стой теперь су-кин кот… я те покажу, чортов баловень!» – слышал я сиплый голос, и топот ног. Я вытирал слезы и мокрый снег, а в глазах смеялось большеротое, некрасивое лицо щеголя-гимназиста, – может быть, «самого молодого графа»? Собака брехала яростно, рвалась и гремела цепью. В доме зажгли огонь, и сразу стемнело в переулке. У Николы-Хамовники печально благовестили к вечерне. А я продолжал стоять. Потянуло жареной рыбой с луком, по-постному. В голых березах, осенявших чудесный дом, лег желтоватый отсвет, – должно быть, из нижних окон. Глухо захлопало: затворяли ставни в невидном мне нижнем этаже.
Я побрел пустынным переулком, к Москва-реке. Зажигались фонарики. Навстречу сыро тянуло ветром, липко постегивало снежком. В конце переулка вспомнилось: «портрета-то не оставил „человеку“!..» а может быть и «человек» уехал?..
Так я и не повидал Толстого. Не повидал и после.
У старца Варнавы
17 февраля 1936 г. – по старому стилю, – исполняется 30 лет со дня кончины замечательного делателя духовного, которого знали и почитали миллионы людей в России, – «утешителя и кормильчика», иеромонаха о. Варнавы, у Троице-Сергия, или, как называли его в народе, – «батюшки-отца Варнавы».
Я не могу писать о житии его, о высоком его подвижничестве: слишком мало я знаю об этом святом старце. О нем написана обстоятельная книга безыменного составителя, изданная «Иверской Обителью при селе Выксе». Я лишь позволю себе, в память его, рассказать то немногое, чему сам был свидетелем, что слышал от близких мне людей, и что имеет отношение ко мне. В безоглядное и безутешное наше время полезно оглядываться на прошлое, в котором забыто много чудесных людей и дел.
Еще в раннем детстве не раз я слышал, как говорили у нас в семье, когда надо было решать что-нибудь важное: «к Троице-Сергию надо съездить, что батюшка Варнава скажет». Этот неведомый «батюшка Варнава» мне представлялся похожим на нашего батюшку о. Виктора, от Казанской, где меня крестили, и мне казалось, что и «батюшка Варнава» тоже всех крестит – окунает в святую воду. Почему так казалось? Потому, должно быть, что с батюшкой о. Виктором в детской душе моей переплетались слова «батюшка» и «крестит – окунает». В притворе храма Казанской Божией Матери стояла жестяная купель, и няня говорила, что в этой вот «купельне» меня крестили, – «батюшка отец Виктор окунал». И еще во мне было странное сочетание: «Варнава» и «Варнава». Не только эти слова мешались, а и события путались: мне, младенцу, казалось, что разбойник Варавва, о котором говорится в Евангелии, – а я и в церкви слыхал про него, и дома рассказывали у нас, – и есть тот самый разбойник, который пожалел Господа на Кресте, и которому Господь сказал – «ныне будешь со Мною в раю». И вот, в воображении моем спуталось – «Варнава» и «Варрава», и в имени «Варнава» чудилось мне святое, райское. В детской душе бывают странные сочетания. Вот, к слову, вспомнилось: в раннем детстве, в словах – «чаю воскресения мертвых» казалось мне, что там, – в раю? – тоже, как и у нас, празднуют воскресенье и всем умершим – и воскресшим – дают по воскресеньям… чай! И даже – с булочками! И так было это радостно! Милая детская наивность.
Словом, с «батюшкой Варнавой» во мне сочеталось светлое и святое. И – жуткое. Откуда же это жуткое? А вот откуда. Мне казалось, что «батюшка Варнава» всё знает. Бог всё знает. А «батюшка Варнава» всегда при Боге, молится за всех грешников, всех утешает и – провидит. Потому-то к нему и ходят со всякими важными делами. Одна женщина повезла к нему свою дочку, перед свадьбой узнать, можно ли выдавать замуж за такого вот человека, и его карточку показала. А батюшка Варнава поглядел на дочку и говорит: «а, Христова невеста!» И дал ей «Троицкий листочек», и на листочке была нарисована картинка, как апостол Петр тонет, а Христос ручку ему дает, и написано на листочке – 29 июня. Стали думать, что бы это могло значить. Решили, что к хорошему. Веру надо иметь, как Петр, и будет хорошо: апостол Петр поверил и Господь спас его. Не поняли сказанного батюшкой Варнавой: «а, Христова невеста!» И вот, что вышло. В самый Петров день, 29 июня, каталась та девица с женихом на пруду и Царицыне, на лодке, и с ними были гости. Стали местами меняться – лодка и опрокинулась, девица и утонула, «Христова невеста» стала. Этот случай так на меня подействовал, что я и теперь помню, будто это вчера случилось.
Вот это «жуткое», эта чудесная сила – знать, что будет, сочеталась во мне с именем – «батюшка Варнава». Даже когда я вырос и был студентом, рождалась во мне тревога, когда я думал о батюшке Варнаве: а вдруг он скажет?!.. Заглядывать в будущее страшно.
Помню, было мне лет пять-шесть. Меня еще не брали к Троице-Сергию, но старшие ездили туда каждый год. Как-то приехала матушка от Троицы. Была она у батюшки Варнавы, и он сказал ей: «а моему … имя мое назвал, – крестик, крестик…» Это показалось знаменательным: раза три повторил, словно втолковывал, «чтобы запомнила», говорила матушка: «а моему… крестик, крестик!» Другим детям – кому образок, кому просвирку, а мне – «крестик, крестик». – «А тебе вот крестик велел, да всё повторял. Тяжелая тебе жизнь будет, к Богу прибегай!» не раз говорила матушка. И мне делалось грустно и даже страшно. Сбылось ли это? Сбылось. Много крестов и крестиков выпало на долю многим. И мне выпал.
Эта история с крестиком повторилась, по новому осветилась в моей душе года через два-три, когда я ходил на богомолье к Сергию-Троице с нашим старичком – плотником Горкиным. Я описал ее в своей книге «Богомолье».
Но почему толковать этот «крестик» только как провидение страданий! Страдания – земной человеческий удел, Страдания – испытания, «одержка»: помни. Быть может, в этом «крестике» было предвидение не только испытания? Теперь я знаю, что и это, как-будто было.
Не могу не вспомнить одной знаменательной встречи с батюшкой Варнавой. Эта встреча связана с началом писательской моей работы, с первой моей книгой «На скалах Валаама».
Это вышло совсем случайно. Написать книгу? Об этом я и не помышлял. Правда, мой первый рассказ только что появился в журнале «Русское Обозрение». Сам редактор, «друг Константина Леонтьева», жал мне руку, – «детская рука какая» и ободрял: «пишите, приносите». Но о писательстве я не думал. Писатели – это совсем особенные люди. Я разглядывал себя в зеркале и видел глаза, глядевшие так пугливо. Разве писатель может родиться в Замоскворечьи, на шумном дворе, где только простой народ, где совсем не читали книг, где и книг «настоящих» не было, а только старенькое Евангелие, молитвенники, да на полках в чулане «Четьи-Минеи» прабабушки Устиньи? Напечатал выдуманный рассказ, а мне заплатили деньги. Стыдно было смотреть на Пушкина. И я скоро забыл об этом.
Тут подошло другое: я женился. Студент, юный из юных. Незнакомые спрашивали: «братеци и сестрица будете?» А если бы узнали, что я – «писатель»?! И вот, мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но – куда? Крым, Кавказ?.. Манили леса Заволжья, вспоминалось «В лесах», Печерского. Я разглядывал карту России, и взгляд мой остановился на Севере. Петербург? Веяло холодком от Петербурга. Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был, если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченева, Летурно… стопки брошюр с книжных прилавков на Моховой улице, где студенты требовали «о самых последних завоеваниях науки». Я питал ненасытную жажду «знать». И я многое узнавал, и это знание уводило меня от самого важного знания – от Источника Знания, от Церкви. И вот, в таком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло… к монастырям! Потянуло в детство. Вспомнилась Троица, как ходили пешком, бывало… с Горкиным к Троице ходили.
И вот, перед Валаамом, – к Троице, «благославиться». Благословляться, студенту-то благословляться!.. – стыдно. Но так надо. Помню, – конец июля. Светлый-светлый день. В окно вагона – перелески, тропки, выбитые лаптями богомольцев. Бывало, с Горкиным ходили, шли по зорьке, молитвы пели, дремали в полдень в жарких елках. Милый Горкин, преставился, давно. Говорил, бывало: «благословиться надобно, косатик…» Ну, вот, благословимся. Сохранилась связь с Горкиным, с далеким прошлым: как и тогда, – батюшка Варнава, жив еще. Всё еще «на пещерках», у Черниговской, всё еще утешает.
И вот, прошлое, далекое, – вернулось. Знакомый дворик, у Черниговской. Сколько лет прошло… пятнадцать лет! А он такой же. И люди те же, бедные, родные, все – мои. Келейка, с крылечком, с тем же… когда-то поднимался по ступенькам, робкий, мальчик, боялся – «всё он знает, все грехи». Теперь – другой: студент, с «сестрицей», почти безбожник, никакой. Старые рябины, в гроздьях. Толпа народа, вздохи, как и тогда, давно. Там вон стояла Домна Панферовна с Анютой, Анюта сорвала рябинку, Домна Панферовна отшлепала ее по ручкам. А тут, под елкой, мы с Горкиным. Всё та же елка, черная, густая, только повыше стала. Когда-то батюшка благословил меня: «а моему… – имя мое назвал – крестик, крестик». Дал из кармана крестик. Все шептались: «ишь, крестик ему выпал!» Теперь я знаю: выпал крестик. А тогда, в блеске, – не думалось.
Ждем долго. Говорят батюшка устал, не выйдет больше. Юные нетерпеливы: ну, что же, и без благословенья можно. И стало как-то посвободней на душе, а то пугало, «безбожника» пугало: вдруг, скажет что-нибудь такое… «испортит настроение»! Теперь не скажет, не увидим. Сейчас в Москву, на Николаевский вокзал, посмотрим Петербург, а там – на Ладогу, на Валаам… Мы хотим идти – и слышим оклик, знакомый оклик: «эй, петербургские!..» На крылечке – он, отец Варнава, давний, и всё такой же, только побелей бородка. Смотрит на нас через толпу и манит: «эй, петербургские!..» «Сестрица» спрашивает, робко: «кто из Петербурга… батюшка зовет?» Нет никого из Петербурга. А он, так весело, на нас: «идите-ка!..» Мы удивлены, подходим нерешительно. На нас глядят, дают дорогу. В Петербург мы… – будто и «петербургские». Как же он узнал?! Подходим. Бокль, Спенсер, Макс Штирнер… – всё забылось. Я как-будто прежний, маленький, ступаю робко… – «благословите, батюшка, на путь…» Думал ли я тогда. Что путь пойдет за Валаам, за всю Россию, за Россию?.. Не думал. А он? Он благословил – «на путь».
Смотрит внутрь, благословляет. Бледная рука, как та, в далеком детстве, что давала крестик. Даст и теперь?.. – «А, милые… ну, живите с Господом». Смотрит на мой китель, студенческий, на золотые пуговицы с орлами… – «служишь где?» – Нет, учусь, учусь еще. Благословляет. Ничего не скажет? Надо уходить, ждут люди. Кладет мне на голову руку, раздумчиво так говорит: «превознесешься своим талантом». Всё. Во мне проходит робкой мыслью: «каким талантом…этим, писательским?» Страшно думать.
Валаам прошел виденьем: богомольцы, люди, плеск Ладоги, гранитные кресты, скиты, молчальники и схимонахи… кельи в глухих лесах, гагара – птица на глухом озерке, схимонах Сысой с гагарой – птицей… – «все во Христе, родимый… и гагара-птица во Христе…» – олени на дорогах, как свои… в полночный час за дверью – «время пению… молитве ча-а-ас!..» – блеск белоснежный Храма, лазурь и золото под небом, над лесами, жития… – и написалась книга, путь открылся. Батюшка-Варнава благословил «на путь». Дал крестик и благословил. Крестик – и страдания, и радость. Так и верю.
Январь 1936 г.
Париж.
Солдаты
Часть I. Перед войной
I
– Ро-тный командир!.. – крикнул предупреждающе дневальный, заслышав знакомые твердые шаги.
И, словно выросший из земли, дежурный по роте молодцоватый унтер-офицер Зайка начал рапортовать его высокоблагородию, что в 3-й роте… ского полка больных нет, в нарядах столько-то… и за время его дежурства никаких происшествий не случилось.
Смотря в бойкие карие глаза взводного, ротный выслушал строго рапорт, и в мыслях его мелькнуло: «а у меня случилось». Спокойно и деловито он сказал – «здравствуй, Зайка», получил облегченно-четкое – «здравия желаю, ваше высокоблагородие!» – и пошел коридором к роте, а за ним, придерживая у бедра штык, последовал на цыпочках дежурный, тревожно высматривая, все ли в помещении в порядке.
Рота была в строю: шли утренние занятия.
– Сми-рно, р-равнение напра-во… господа офицеры!.. – скомандовал поручик Шелеметов, встречая ротного, и подошел доложить, что делают.
В живой тишине, рота смотрела сотней готовых глаз.
Не здороваясь, – ты еще заслужи рота, чтобы с тобой здоровались! – капитан Бураев прошел по фронту привычных лиц, следивших за ним дыханием, скомандовал – «первая шеренга… шаг вперед!» – прошел вдоль второй шеренги, останавливаясь и поправляя то выгнувшийся погон на гимнастерке с накрапленными вензелями шефа, то криво надетый пояс, деловито-спокойно замечая – «как же ты, Рыбкин… все не умеешь носить ремня!» – или, совсем обидно, – «а еще в тре-тьей роте!» – или, почти довольный, – «так… чуть доверни приклад!» – взял у левофлангового Семечкина винтовку, потер носовым платком и показал отделенному Ямчуку зеленоватое жирное пятно, – «кашу у тебя, братец, маслят!» – сделал франтоватому взводному Козлову, которого отличал, строгое замечание, почему у троих за ушами грязь, а у Мошкина опять глаз гноится, – «доктору показать, сегодня же!» – вышел перед ротой, окинул зорко и улыбнулся нестрогими синими глазами, за которые еще в училище прозвали его «синеоким мифом». И рота внутренне улыбнулась, вытянулась к нему и гаркнула на его – «здорово, молодцы!» – радостное и крепкое:
«Здравь… жлай… ваш… всок… бродь…!»
– Стоять вольно, оправиться! К нему подошли поручик Шелеметов и подпоручик Кулик, в летних, как и у ротного, кителях, – было начало мая, – поговорили о сегодняшней репетиции парада, о близком выходе в лагеря. Поручик с ротным были приятели, вместе их ранило под Ляояном, но в роте были официально сдержанны.
– Продолжайте, поручик. Ружейные приемы.
Шел дождь. В открытые большие окна слышался его свежий шорох по убитому крепко плацу, по распустившимся тополям под окнами. В роте гулял сквозняк, пахло весной и волей, рекой, застоявшимися плотами и свежим зеленым духом одевавшейся в травку примы. Капитан подумал – почему занимаются в казарме, а не на воле, – хотел было сделать замечание, но вспомнил, что завтра, перед выходом в лагеря, парад, помнут и измочат гимнастерки и шинели. Отвернулся к окну, на дождь, смотрел, как 16-я, капитана Зальца, шлепает храбро в лужах, а старенький капитан бегает петушком и топает, похвалил боевого ротного, а ухом ловил работу, как ляпало по ружейным лямкам и отчетливо щелкали затворы.
«Но как же быть-то?…» – спрашивал он себя.
То, что ротный смотрел в окно, и так неподвижно-долго, и то, что в его спине было особенное что-то, – не укрылось от сердца роты. Она старалась. Стройная спина ротного что-то сутулилась сегодня и неподвижностью как-бы говорила: «да как же быть-то?…» И рота отвечала дружным, с колена, залпом – так!
Этот дружный, надежный залп оторвал ротного от окна. Задумчивые синие глаза его блеснули, веселей оглянули роту, ровные гребешки фуражек, свежие молодые лица, точную линию винтовок, – и молча сказали: молодцы!
«Вот эти… не изменят!» – мелькнуло в нем.
Он пошел длинным коридором, оглядывая стены, ниши, столбы и своды: казармы были старинные. Мерно шагая по асфальту, глядел на давно знакомое, родное: на развешенные вдоль стен картинки боевых подвигов славного…ского полка, на золоченые трубы из картона в георгиевских лентах, на серебряные щиты с годами былых побед, сделанные солдатами, на скрещенные, картонные знамена, взятые на полях Европы. Литографии славных полководцев, высоких шефов – смотрели из ниш сурово. Спрашивало восторженно – «а вы как?…» – казалось всегда Бураеву, – священное для полка, костлявое серое лицо старенького Фельдмаршала, в дубовом венке, обновлявшемся каждый год в день полкового праздника. И строже, и милостивее всех взирал из высокого киота ротный старинный образ Святителя Николы.
– Лампа-дка…? – показал строго капитан сопровождавшему его Зайке.
Лампадка не горела. Разбили бутылку с маслом, а артельщик забыл купить.
– А ты, дежурный, чего смотрел? Доложишь фельдфебелю – на дежурство не в очередь.
– Слушаю, ваше высокоблагородие! – отчеканил невозмутимо Зайка, потрясенный, что оказалось не все в порядке: все-то «Бурай» усмотрит.
Отвернув одеялки на двух-трех койках и убедившись, что содержатся в чистоте, капитан прошел в ротную канцелярию-закуток и был запоздало встречен отлучавшимся по делам подпрапорщиком-фельдфебелем Ушковым, уже пожилым и раздобревшим, но еще молодцом хоть куда. С широкою бородою с проседью, Иван Федосеич напоминал капитану отца, полковника: вдумчивый, точный, строгий. Выслушав обстоятельный доклад по текущим делам, – Ушков возился с отчетностью, проверял каптенармуса с артельщиком, которые стояли тут же, вытянувшись у стенки, – Бураев просмотрел ведомости и наряды и отдал распоряжения отчетливо, как всегда. И никто не подумал бы по чеканному его голосу, что у «красавца» на сердце камень, а в сердце нож. «Красавцем» называл его про себя влюбленный в него фельдфебель.
– Смотри, Иван Федосеевич… на параде завтра…! – пальцем закончил ротный.
– Не извольте тревожиться, ваше высокоблагородие… строго на высоте положения должны оказать!
Как водится это у сверхсрочных, он привык выражаться изуставно.
– Ноги осмотреть, на случай. Гарнизонный, знаешь… хоть и не инспекторский смотр, а придет на ум…!
– Так точно. Его превосходительство любят досрочно, как по тревоге!.. Ноги у всех, в предосмотрении физического порядка тела, ваше высокоблагородие! – особенно тянулся Федосеич, выражал свои чувства ротному: он сегодня узнал от капитанского вестового Селезнева, что у господина ротного нелады с мадамой, и господин ротный всю ночь не спал, а она еще до зари схватилась – и в Москву!
Как раз принесли пробу. Капитан попробовал похлебку, кашу со шкварками. Одобрил. Покатал в пальцах мякиш, понюхал, посмотрел на тянувшегося артельщика Скворцова, сына деревенского торговца, соображая что-то. Артельщик смотрел уверенно, как всегда. Проглядел хлебную ведомость, сам приложил на счетах, справился у себя в пометках и сказал медленно: – Та-к-с…
Все стояли навытяжке, только писарь Костюшка лихо скрипел пером. Капитан все о чем-то думал – не уходил. Думал он, проверяя себя: все ли он досмотрел, в расстройстве. А Федосеич решил по-своему: «расстроился из-за бабенки, та-кой… плюнули бы, ваше высокоблагородие!»
Допросив каптенармуса, выветрена ли обмундировка, и сколько какого «срока» в цейгаузе, сделав распоряжение на доклад старшего лагерной команды о разбивке роты, Бураев закурил и дал папироску фельдфебелю, как всегда. Федосеич принял ее почтительно, двумя пальцами, большим и мизинцем, и положил на край столика. Ротный взглянул на его серьезное, мудрое лицо с ясным открытым взглядом, как у отца, и вспомнил отца-полковника и его яблочные сады, куда все собирался съездить, – и не один, – показать, как они цветут… «Съездить и посоветоваться? Да о чем же теперь советоваться!..» – спросил и ответил капитан. Передернул плечем от нетерпения, вспомнив, что завтра еще парад, а после завтра полк в лагеря уходит, и предпринять ничего нельзя. Но сейчас же и овладел собой, взглянул на часы и велел прекратить занятия.
«Подать рапорт… по экстренным обстоятельствам, на несколько дней в Москву?» – пробежало в нем искушение. Но он тут же и подавил его: в такое время роту нельзя оставить.
«Но что же сделать… убить?…» – задыхаясь, подумал он. Как раз через роту шел заведующий оружием, за которым несли наганы.
«Сразу все кончить, смыть эту грязь…»
И заманчивая, и утоляющая жгучую боль картина, как это будет, представлявшаяся ему все утро, встала опять в глазах.
– Идем, Степочка?… – встретил его поджидавший у выхода из роты Шелеметов с подпоручиком Куликом. – Вот, Куличок оросится от вечерних, приехала мамаша.
– Так точно. Разрешите, господин капитан?… – Вытянулся, краснея, подпоручик, не забывший еще училища.
– Ступайте, Куличок, Бог с вами. Перед мамашей пасую, – улыбнулся ротный. – Помните, парад завтра… ни мамаш, ни папаш!
– Так точно, господин капитан! – щелкнул весело каблучками подпоручик.
Бураев с Шелеметовым пошли в собрание, наверху.
– Совсем зеленый наш Куличок, – говорил Шелеметов, чувствуя, что у Степочки что-то «не тово», и примеряясь, как разговаривать. – Притащил абрикосовских громадную коробку, с ромом, и всю сожрали… взводных и Федосеича угощал! А тебе постеснялся предложить, здорово импонируешь! Помнишь, как я-то тебя стеснялся? А помнишь, под Ляояном… прикрыл ты меня шинелью, тут я тебя сразу и почувствовал!..
– Да, было время… – думая о своем, рассеянно отозвался ротный.
И подумал, смотря на круглое, белобрысое, «бабье» лицо поручика: «славный Шелеметка… и этот не изменит, с ним бы поговорить?» И, как часто бывало с ним, решил неожиданно – налетом:
– Зайди-ка ко мне часа в два, перед занятиями… А сейчас –
– За былы-е времена-а!.. – запел Шелеметов, когда-то мечтавший стать кавалеристом, –
Они поднимались по широкой каменной лестнице, с косыми, истертыми ступенями. Прижимаясь к стенке, попадались навстречу солдаты с котелками; обгоняли сторонкой, нарушая устав, артельщики с лотками «воробьев» – дымившихся аппетитно комков говядины, жилисто-синеватой, как раз по зубам солдатским; тащили в мешках душистые калабушки хлеба. Остро пахло солдатским варевом – лавровым листом и перцем. Попавшийся полковой адъютант поручик Зиммель, кудрявый и румяный, которого солдаты называли «Зина» за девочкино лицо, сообщил секретно, что пришел проект нового полевого устава, и командир назначил комиссию из батальонных и по ротному с батальона, включил и его, лихого командира 3-й роты, в приказе будет.
– А Августовского не включил! – шепнул весело адъютант. – Не любит старик штабных…
– Кто же от 2-го батальона тогда? – спросил Бураев.
– Чекан. От третьего Густарев, от четвертого – Зальцо.
– Правильно, – сказал Бураев, – Все тертые. Молодец старик, даже любимца Фогелева не назначил! Что же, боевых офицеров выбрал… не будет обидно Августовскому.
Это было приятно, но скользнуло поверх того, что теперь было самым важным: не рота, не экзамены в академию, к которым готовился всю зиму, и даже не «Ночной бой», удачная работа, обратившая на него внимание, военных кругов и вызвавшая к нему ряд писем, – между прочим, от известнейшего профессора академии. Единственным важным, и даже страшным, – а страшного для него до сего времени не было, – являлся теперь вопрос: действительно ли изменила ему Люси, или это ему так кажется; просто – странное совпадение событий, и ничего рокового нет?
В столовой собрания было, как всегда, шумно и накурено до-синя. Сновали солдаты в гимнастерках, подавая на столики; перекликались и шутили офицеры. На широком, историческом диване, вывезенном из Турции, – на нем, по преданию, спал Скобелев и прорвал шпорой шелковую обивку, так полоса и сохранилась, – сидели все офицеры 2-го батальона с подполковником Распоповым в середине, а штабс-капитан Оксенов, знаменитый в полку фотограф, снимал их группу, в память тридцатилетия службы в офицерских чинах полковника. Все кричали Оксенову, чтобы непременно захватил картину над диваном – «Вступление русских войск в Берлин». Рядом, в биллиардной, сощелкивались шары, и слышался трубный веселый бас батальонного Туркина – «В брюхо от дво-ех бортов, голу-бчики… Сделан!» Командир 16-й роты, сухенький капитан Зальцо, замечательный куровод и кушкинский герой, отряда генерала Комарова, участвовавший по доброй воле и в японской кампании, где был отличен георгиевским оружием, но почему-то не получил полковника, – «до третьей, видно, кампании отложили, не дай Бог!» – говаривал он шутливо, – решал со своими «молодшими» задачи из германского сборника, недавно полученного в полку. Завидев капитана Бураева, он шлепнул по столу, на котором лежала карта, и, сверкая серебряными очками, седенький и плешивый, крикнул звенящим голосом:
– Вот кто решит с налету, и единственно правильно… Буравчик! Иди, Буравчик, сюда, покажи-ка моим молодшим!..
И подставив ко рту сухенкие ладошки трубочкой, подмигивая к окну, где играл в шахматы совсем молоденький капитан 5-й роты Августовский, недавно кончивший академию и отбывавший свой ценз в полку, добавил дружелюбно:
– Вот, милый наш академик сразу решил… только очень уж мно-го-гранно и тонко… и при наличии резерва… А немец требует «с соблюдением крайней экономии»! Нет, интересно, ты погляди… немцы, как-будто, подсмотрели классический случай… помнишь, у меня случилось, у деревушки Фу-Чи-Су-Лян, когда мы со стрелками, ночью, прошли болото? И никакого резерва не было, а обошли и всыпали?… Фу-Чи-Су-Лян-то?… – отозвался рассеянно Бураев, только что приказавший буфетчику налить «большую», и лицо его сразу посветлело, когда он вспомнил. – Как не помнить!.. Ну, Шелемета… выпьем за Фу-Чи-Су-Лян, – чокнулся он с поручиком, закусил наскоро брусничкой и подошел к капитану Зальцу. – Задание? – пробежал немецкий текст и поглядел на кроки задачи. Болото и тут, и тут?… высота занята противником, четыре роты… единственная дорога в тыл… хорошо! У меня две роты, справа речка… левый фланг упирается в болото… гм… Так вот, исходное положение мое так…
Он схватил карандаш и набросал решение – «налетом».
– Единственно так, по-моему? Стремительной лобовой атакой, в полторы роты… Полуротой оттянуть внимание противника на речку. Мои бы ловко проделали!.. Только здесь несложней, чем у тебя под Су-Ляном. Там болотце с одной стороны было… – вдумчиво сказал он, всматриваясь в кроки. – Интересное положение, на темперамент. Лобовой атакой – и никаких.
– Что, не говорил я тебе, что ты гениус романус! Могу тебя поздравить, и задачку-то немец содрал у Юлия Цезаря, под этим… как его?… Не помните, капитан, где это Цезарь чуть было не сел в калошу, в болота-то его легион попал?… – крикнул старенький капитан Августовскому.
– Двадцать раз попадал и выходил сухим… – раздумчиво отозвался Августовский, вертя конем.
– Ты, голубчик-Буравчик, и сам не знаешь, что ты изобразил! Куда проще немецкого решения, ей-ей!.. Гляди, как немец распорядился… – показал он решение.
Подошли другие, и началось обсуждение. Большинством голосов признали, с командиром 2-го батальона Распоповым, считавшимся за великого знатока, что это – единственно точное решение, «чисто суворовское».
– Не доживу я, Бурав, – вздохнул Зальцо, и Бураев подумал, глядя на вздутые на висках капитана жилы, что он долго не проживет, пожалуй, – а быть тебе корпусным… в академию если попадешь, понятно. И был бы я тогда при тебе… полковничком!
– Доживешь – и будешь, – сказал Бураев, шутя, и вдруг насторожился: по устремленным глазам шедшего к нему солдата с фиолетовым узеньким конвертиком он почувствовал, что это письмо ему.
– Будешь… если фиолетовых записочек получать не будешь! – пошутил в общем смехе Зальцо.
– Кто подал, откуда? – спросил Бураев в смущении, вглядываясь в нетвердый почерк: он ждал другого.
– Не могу знать, ваше благородие! – сказал молодой солдат. – Дневальному от ворот подали. Приказал господин взводный осьмой роты, Пинчук… иди, передай в собрание… они там. Видал, девчонка босая прибегала к воротам, в руку ткнула, а сама убегла…
– Ступай.
– Душистое?… – подмигнул на конвертик Зальцо.
– И я получал, бывало… очень-то не гордись.
Бураев сунул письмо в карман, выпил еще с поручиком и напомнил – зайти часа в два к нему. Вспорхнувшее было сердце упало и остро заныло болью.
II
В нижнем коридоре у выхода попался ему сдавший дежурство Зайка и стал во фронт. Думая о своем, Бураев рассеянно козырнул и сейчас же вспомнил про ротную лампадку. «Это я в раздражении назначил», – проверяя себя, с недовольством подумал он, – «Зайка невиноват, если тянул артельщика». Он вернул исправного всегда взводного, ловкого и веселого хохла, и внимательно расспросил его, как было. Оказалось, что и артельщик невиноват: масло только что пролили, а запаса не оказалось.
– Скажешь фельдфебелю – отставить, – сказал Бураев.
– Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие! – без движения на лице, крикнул чеканно Зайка, и по этой чеканности Бураев понял, как тот доволен.
«Держи и держи себя, не распускай! что бы ни случилось – воли не выпускай!» – мысленно, как монах молитву, произнес Бураев заветное свое правило, в какой уже раз за утро. Правило это, принятое еще с училища, оправдало себя не раз. И теперь, мысленно повторив его, он почувствовал облегчение: то, что случилось с ним, показалось ему не безысходным, требующим еще разведки. Раньше парада и выхода в лагеря – роты нельзя оставить, это ясно. А сейчас, может быть, в письме?…
Он открыл находу письмо, но оно было из обычных любовных писем, которыми ему надоедали: показалось на первый взгляд. Последнее время, правда, они приходили редко: у него же была Люси! Он прочитал внимательней, вглядываясь в нетвердый почерк, и его удивили выражения: «Вы меня мучаете давно-давно!» «Я безумно хочу Вас видеть, должна видеть. Вы должны прийти, иначе меня не будет в жизни, клянусь Вам!» «Вы все узнаете». Это «все» особенно останавливало его внимание. О том – все? Ему казалось, что – да, о том: хотелось. Письмо было в несколько строчек, раскидистых, неровных, но неподдельно искренних, молящих, близких к отчаянию. Оно молило – «сегодня-же, непременно сегодня» прийти за Старое кладбище, на большак, откуда поворот на село Богослово, – «другого места я не могу придумать, боюсь скомпрометировать и себя и Вас». Час был указан довольно поздний, 8, когда темнеет. Подписано буквой – К.
Бураев перебрал всех знакомых, где были дамы, от кого можно было бы ожидать подобного, но ничего подходящего не нашел. Остановился было на молоденькой и веселой Краснокутской, жене командира 4-го батальона, но сейчас же с усмешкой и откинул: она только что родила и не выходит. Это «глупенькое» письмо – он так и назвал его – его надоедно раздражало. Было совсем не до свиданий, но что-то, бившееся в строках, начинало его тревожить: и то, что в этом, может быть, есть связь с тем, и неприятно волнующее совесть – «иначе меня не будет в жизни, клянусь Вам!»
Он ничего не решил, зная, что это придет само, «налетом».
С Большой улицы он свернул под гору налево, и открылся простор – на пойму, с черной полоской бора. Переулок был весь в садах. В самом конце его, о вишневом молодом саду, стоял беленький флигелек, найденный так счастливо, «милое гнездышко», – называла его Люси. Бураев остановился, – не хотелось туда идти. Вспомнил, что Шелеметов зайдет к нему, а сейчас уже скоро два, и надо скорей решать, и это его заставило.
Переулочек с тупичком, где укромно стояла церковка, взятая кем-то на картину, – открывалась с обрыва чудесная гладь Заречья, – показались ему другими, противными до жути, словно и здесь – бесчестье. В моросившем теперь дожде унылыми, траурными казались начинавшие расцветать сады, что-то враждебное было в них. Грязноватыми мокрыми кистями висели цветы черемух, так упоительно пахнувших недавно, теперь нестерпимо едких. Гадко смотрел гамак, съежившись под дождем. Недавно она лежала, глядела в небо…
У Бураева захватило дух: «а если… это письмо?…»
Он представил себе Люси – живую, всегдашнюю, лежавшую в гамаке в мечтах или нежно белевшую с обрыва, смотревшую в даль Заречья, – и острой болью почувствовал, что без нее нет жизни. И показалось невероятным, что все закончилось. А если это – ее игра?… Это так на нее похоже, эти изломы сердца, бегство от преснотцы, от скуки… Она же заклинала, что нет ничего такого… самый обычный флирт!.. Подстроила нарочно, помучить чтобы, новую искру выбить и посмотреть, что будет?… И когда все покончено… – это письмо с «свиданьем», – какой эффект!..
Он толкнул забухшую от дождя калитку, и на него посыпался дождь с сиреней, собиравшихся расцветать надолго. Много было сирени по заборам, много было черемухи и вишни, – из-за них-то и сняли домик. И вот подошло цветенье…
Обходя накопившуюся лужу, Бураев пригляделся: её следки! Ясно были видны на глине арочки каблучков и лодочки. С самого утра остались, когда она «убежала от кошмара», воспользовавшись его отсутствием. Зачем он ее пустил? Но он же выгнал?… Уехала с товаропассажирским, когда в десять проходит скорый!.. Сознательно убежала, ясно. Сунуть заоиску в столик… А эти глаза, скользящие!.. От страха убежала.
Бураев вспомнил про револьвер, про ужас. И вот, перед этими следками в луже, ему открылось, что эти следки – последние, и то, что его терзало, действительно случилось, и исправить никак нельзя.
– К чорту!.. – крикнул он вне себя и бешено растоптал следки, разбрызгивая грязью. – У, ты!.. – вырвалось у него грязное слово – потаскушка.
Денщик-белорус Валясик выглянул из окна и стремительно распахнул парадное. Заспанное, всегда благодушное лицо его, напоминавшее капитану мочалку в тесте, – такое оно было рыжевато-мохнато-мягкое, – смотрело с укоризной.
– Покушать запоздали, ваше высокоблагородие. А я куренка варил, все дожидал… Спросил барыню, а она ничего не говорит… а потом говорит, ничего не надо. А я сам уж, куренка сварил. Вот мы и ждали, ваше высокоблагородие!
– Кто ждал? – спросил капитан, прислушиваясь к чему-то в доме.
– А я ждал, супик какой сварил… – лопотал Валясик, бережно вешая фуражку. – Сапоги-то как отделали, дозвольте сыму, почистить.
– Почта была? – спросил капитан, не видя почты на подзеркальнике.
– Было письмецо, на кухне лежит. А я в роту хотел бежать, забеспокоился… долго вас нет чего-то.
Письмо было от старого полковника, из «Яблонева». Капитан не спешил прочесть. Он прошел в салончик, красную комнатку, заставленную стульчиками и пуфами, вазочками, букетиками, этажерочками, с веерами и какими-то птичьими хвостами на бархатных наколках, с плисовыми портьерами, с китайскими фонарями с бахромой. Пахло японскими духами и кислой какой-то шкурой, купленной ею на Сухаревке, в Москве. Оглянул с отвращением – и остановился у большого портрета на мольберте. Долго глядел, вспоминая черты живой: страстный и лживый рот, чуть приоткрытый, жаждущий, – все еще дорогой и ненавистный; матовые глаза невинности – девочки-итальянки, похожие на вишни, умевшие загораться до бесстыдства и зажигать, – и маленький лоб, детски-невинный, чистый, с пышно-густыми бровками, от которых и на портрете тени. Эти бровки! словно кусочки меха какого-то хитрого зверушки… Вспомнил: когда Люси появилась в городе и делала визиты, командирша определила томно: «ничего, мила… так, на случай!» Вспомнил и про двусмысленные слухи, приползшие с губернатором из Вятки, которые назывались «вятскими», – и все-таки все забыл!
За салончиком была спальня, с итальянским окном к Заречью. За площадкой с куртинками падал к реке обрыв, с зарослями черемухи, рябины, буйной крапивы и лопуха, с золотыми крестиками внизу – церкви Николы Мокрого. Соловьи начинали петь, и даже теперь, в дожде, щелкали сладко-сладко.
Кинув на теперь омерзительную постель, сползшее голубое одеяло, напомнившее ему о ночи, когда он метался по дорогам, Бураев достал обрывки найденного письма и опять принялся читать, упиваясь страданием: «и всю тебя Лю… которые не могу забыть… бархатные твои ко… первое наше бур… бровки, мои „медведики“, которые вызывают во мне… пахнущие гиацинтами твои… летели на вокзал, а твоя шапочка вдруг…» Только и было на обрывках, завалившихся в щель комода, но эти слова пронзали. В чем же тут сомневаться, ясно! Почерк его, наглого подлеца в пэнснэ, знаменитого «Балалайкина», защитника «всех любвей, угнетенных и безответных», как кокетливо рисовался он, волнуя сердечки женщинок. Стало совершенно ясно: в последнюю поездку в Москву в январе, «на елку», она потеряла шапочку… – «Из сетки в купэ пропала, какая-то дама со мной сидела… не она ли?» – возбужденно рассказывала Люси, такая чудесная с мороза, как розовая льдинка, в розовом своем капоре.
– «До чего я иззябла, милый… согрей меня…» Было четыре часа утра, мороз – за 20. Он сам ей отпер, заслышав морозный скрип. И они до утра болтали в качалке у постели, перед пылавшей печкой… и Люси кормила его пьяными вишнями из длинной коробки от Альберта, с Кузнецкого, которую она – «как кстати!» – выиграла у Машеньки на елке. Тогда-то и появились «мои медведики!» Она гладила его щеки своими пушистыми бровями, щекоталась его усами, он целовал ей бровки – его «мохнатки», и она вдруг сказала, закрыв глаза, изгибая в истоме губы: «лучше – „медве-ди-ки“… они дрему-учие у меня, правда?» И он повторял в восторге – «медведики…» милые мои «медве-ди-ки…» – и принимал с ее губок вишни…
«Нет, я ее убью!.. и этого… убью, убью!..» – говорил он себе, чего-то ища по комнате. – «Чувствовала, что!.. Сбежала… я бы ее убил!..» – повторял он, страдая и не находя исхода, зная, что сейчас он ее убил бы. Он сорвал браунинг со стены, памятный браунинг, отнятый в Томске у стрелявшего в него дружинника в башлыке, которого тут же и застрелил из его же браунинга, – было это во время забастовки, когда возвращались они с войны, – и сжал его крепко-крепко. Она так боялась этого браунинга!..
– Господин поручик идут, ваше высокоблагородие! – доложил Валясик.
Бураев решил «налетом», что говорить с Шелеметкой не о чем. Предлагать, как тогда правителю канцелярии, – на пистолетах? Теперь некому было предлагать. Теперь самому надо «требовать удовлетворения», и из-за такой-то!..
«Нет, я ее убью, у-бью!..» – повторял возбужденно он, вешая браунинг на стенку и стараясь понять, что же сказать поручику. Спрятал письмо под книгу и вышел, посвистывая, в столовую. Одиноко лежал на столе куренок, грозясь култышками.
– Вот и хорошо, Вася… Куренка хочешь, водки? Валясик, пива!
– Пива выпью, – сказал поручик. – А что Людмила Викторовна… как насчет пикника?…
– Придется отставить, видно… в Москву поехала, по делам, – спокойно сказал Бураев, наскоро выпивая пиво. – Так вот. Репетиция в четыре? Да, вот о чем… Смотри, брат, не подкачай завтра! Бригадный здорово соленый, в аттестации ему что-то намарали… кажется, к осени в отставку.
– С тобой-то да подкачаю?… Значит, наш Гейнике в надеждах…
– Определенно. Ничего нового?…
– Не слыхал?… гимназистка в «Мукдене» застрелилась!
– Кто такая?… Везет нам на происшествия!..
– Лизочка Королькова. Хорошенькая такая… недавно с ней танцевал, такая прелесть.
– Ко… ролькова?… – удивленно спросил Бураев, вспомнив о букве – К. – На романической подкладке, что ли?… Не помню такой…
– Ну, как не помнишь… четыре раза на _дню мимо квартиры ее проходишь! Как-то мне говорила – «почему ваш Бураев такой суровый». Очень тобой интересовалась.
– Вот как!.. – смущенно сказал Бураев, думая о письме. – Что за причина, не знаешь?
– Известная. С семинаристом в номере была… Ну, «огарки», понятно, чорт их знает. В записке обычное – «прошу никого не винить» и – «прости меня, дорогой папа». А сейчас попался отставной генерал жандармский, говорит – на политической почве! Запутали девчонку, испугалась… или отец тут что-то, – из дому выгнал? – а она!.. Обыск у отца сейчас… столоначальник казенной палаты. Но вот что подло… Семинарист-то этот убежал из номерка, после «бурной ночи»-то, а записка его, тоже с «не винить» осталась! И сволочь же пошла! Может, и застрелилась-то потому, что поняла, каков гусь.
– Чушь какая-то! – раздраженно сказал Бураев, – Если отдалась, и вдруг, – хлоп!
– Какая девчонка-то была!.. Будь деньги для реверса, ей-богу бы женился! – не то шутя, не то по серьезному сказал поручик. – Скучно одному мотаться.
– Вот тебе раз! – усмехнулся Бураев криво. – Частенько что-то стало повторяться… От ра-зо-чаро-вания?
– За два года четвертый случай, и все в номерах! Такое гнилье пошло, интеллигенция наша. Был недавно на лекции этого хлюста из Питера… цветами засыпали девчонки и мальчишки! Уж старик, плешивый весь, слюнявый… и – «Половой вопрос и социальное его разрешение!» Загвозистое все подносят. А то еще – «Бог и… половое чувство!» А полицмейстер и заклеил «половое»-то, и вышло «Бог и… чувство!» Ты-то не был, а я, брат, насилу билет достал, у народного дома вся площадь была забита! И губернатор слушал, только в закрытой ложе. – Охота была!.. – Подмывало послушать, как это он подведет! По-двел, с… с!.. Уж и городил, – никто ничего не понял. И опять цветами засыпали. И опять был «социальный строй», какое-то плотско-духовное перевоплощение… в Новом Мире. И все – мы, мы, мы… мы предтечи, дайте нам какие-то све-чи!.. И поведут. Глядел я глядел на него… Этот был совсем молодой, а морда прыщавая, гнилая, из «сексуалистов», понятно… Глядел и думал – уж как тебе хочется повести за собой Лизочек этих и устроить с ними «перевоплощение». Откуда они берутся только!.. А молодежь, такая-то рвань пошла…
– Молодежь-то бы ничего, а вот «вожди»-то ее!.. Читают-то свое гнилье сознательные, с плешью даже. А молодежь вон стреляется, очертя голову!.. Знаю эту… интеллигентщину нашу. Не выдержала девочка гадости – и…
– Ну, что же, капитан, скажешь… хотел что-то?…
– Да так… посидеть с тобой хотел, скучно что-то, – сказал Бураев, не найдя ничего другого. – Налей и мне.
– А я, брат, Карлейлем зачитываюсь, бодрит. Молодчина, не чета нашим «половым». Да, личность… личность роль играет!
– Вот так открытие! Это и до Карлейля давно известно, и в училище нам долбили. А вот наши-то господчики только о «массе» и долдонят. Послушал я их в Харбине тогда, и по всей дорожке. Мы с тобой знаем «массу», водили и в бой, и… и поведем, когда придется. А вот эти господа… они пятака своего не дадут «массе»-то! Ли-чность… И у собак даже роль играет, вон у нас на плацу кобель, пегий… какую роль играет!
– Пропадает героизм, вот что. Личностей-то уж нет… вот и пошло, про «массы». Что вон этот плешивый, без «массы»-то? Приехал, собрал стадо и деньгу зашиб, и ручки у него целовали девчонки… и любую мог бы «за собой повести». Даже и тут «личность» играет роль, только…
– … в половых вопросах, а на большее не хватит! – раздраженно сказал Бураев. – И охота тебе всякую галиматью слушать. Право, лучше Карлейля читай. Помнишь, в Харбине, как они «фейерверки» свои пускали, разжигали? Я еще понимаю боевиков… Идет, чорт, со своей бомбой и ставку делает: его ли повесят, или Он… всех ограбит и будет нас с тобой вешать! А вот эти, с воротничками, как тот плешивый, и все эти «эстеты» плакучие – такое-то шакалье… эти к боевикам потом прибегут, крошки подбирать. Я этих краснобаев ненавижу, как!.. Помнишь, осенью приезжал из Москвы проститутку Малечкину защищать, которая мужа-бухгалтера отравила? Дрянь преестественная, развратная до… ротного писаря, до пожарного, до… И на глазах детей запиралась с любовником в супружеской спальной… А бухгалтер терпел, подозревал и терзался, штопал детям чулочки… и не давал ей развода, знал, что так и до публичного дома докатится… и «героиня» его три месяца отравляла! А тот «балалайкин» страдалицу из стервы сделал! Плакали наши дамы в суде, три дня не обедали – «ах, неужели ее на каторгу?!» И, подлец, сам от своей речи плакал или луком глаза тер… Все искривил… и что же! Шестеро мужиков признали, что дрянь, а шестеро дураков, что героиня! И героиня вышла гордо, и гимназисты поднесли ей ро-зы! У!.. – хлопнул он кулаком. – Тьфу!.. Нет, в академию!.. к чорту!.. – крикнул вдруг капитан так страшно, что Валясик, пивший чай в кухне под соловьев, вскочил и вытянулся у двери:
– Чего изволите, ваше высокоблагородие?
– Что? Ступай… – сказал упавшим голосом капитан.
Он прошел, широко шагая и треща пальцами, и не в силах дольше терпеть, решил «налетом»:
– Надо тебе сказать… придется мне, как в лагеря выйдем, дня на три отлучиться, а тебе заступить. Но вот что… и ты меня не спрашивай, – уклончиво вытянул из себя Бураев, хотя должен бы знать, что поручик всегда был осторожен и тактичен, – на всякий случай я тебе оставлю письмо, которое ты вскроешь и сделаешь, как там сказано. Будь покоен, – оговорился Бураев, видя, как взглянул на него поручик, – я уверен, что вскрывать тебе не придется, но… кто знает? Бывают обстоятельства, когда… ну!.. как в бою. Уверяю тебя, ничего такого, чего ты не мог бы, против чести… дело чисто личное.
– Да я же знаю, Степа… и даю тебе слово. Ты меня извини… я не смею касаться личного, но все ли ты про… продумал? – осторожно, боясь коснуться, чего касаться не следует, спросил поручик. – Когда личное, не всегда может показаться, как есть на самом деле. Прости, это ты и без меня знаешь и сам меня этому учил, но… бывает!..
– Да, конечно, возможно… – и Бураеву на мгновенье показалось, что еще возможно, что того не произошло; но по пустоте в комнате, по этому нетронутому курчонку на длинном блюде стало вдруг совершенно ясно, что несомненно произошло и происходит сейчас в Москве.
Он вскочил, даже испугал поручика, и, схватившись за голову, пошел куда-то, повернулся к столу и выпил прямо из горлышка: так ему ярко встало, что происходит сейчас в Москве. Ехать сейчас же, и… Но, ведь, уже случилось, а надо приводить в рапорте ложь и ложь… и только месяц тому он уже отлучался, с нею…а завтра парад, и надо представить роту, это служебный долг, и не исполнить его нельзя, так же как и в бою нельзя оставаться сзади. «Держи и держи себя, не распускай… что бы ни случилось – воли не выпускай!» – мысленно приказал он себе и сейчас же вспомнил, что кто-то умоляет его придти, «иначе меня не будет в жизни, клянусь Вам!» Неужели это она, застрелившаяся гимназистка Королькова? Но ведь еще не вышло срока, помечено субботой. И там какой-то семинарист… Нет, ехать сейчас нельзя.
– Ты сделаешь. Спасибо, милый Васюк. Иди в роту, я скоро подойду.
И они крепко пожали руки.
Идти в спальню Бураеву не хотелось. Он взял брошенное на стол письмо от отца и стал невнимательно читать: что там особенного! Но особенное как раз и оказалось, и чем больше вчитывался в письмо Бураев, в крепко и крупно написанные слова отца, тем больнее, до обжигающего стыда, чувствовалось ему, до чего же он низко пал. За последние полгода отец переслал ему уже восемьсот рублей, с каждой посылкой покрехтывая все больше и оговариваясь, что «все бы ничего, да неурожай яблока подвел, подлец», что Паше не пришлось послать ни копейки, «а сам знаешь, подпоручику трудней жить, на 80-то рублей… вот если бы вы в одном городе жили… надо ему хлопотать о переводе в твой полк, так ему и написал, и ты его вытащи, а то он что-то и не почешется… уж не завел ли „штучку“?» Жалел полковник, что – «дернуло меня, купил зачем-то в прошлом году пролетку!» В последний посыл, когда дозарезу понадобилось сразу четыреста – на беличью шубку Люси! – старый полковник «наскреб всего триста пятьдесят, у подлеца Куманькова прихватил под будущее», а «Костиньке в Питер мог всего четвертной послать, а он по урокам бегает и запускает работу в Институте, а ему надо к маю проекты сдавать, и обиделся на меня, так полагаю, другой месяц ни строчки от него. А уж о кадетике и говорить нечего, только яблоков и послал. И Наташе все собираюсь, а у ней за пианино полгода не плачено… так что ты уж как-нибудь… Вот если бы пенсион подняли, да что-то Государственная Дума о нас не думает, а Александровский Комитет вот пошлет за пульку – вышлю». Это предпоследнее письмо теперь остро вспомнилось капитану и это – «за пульку» – бросило его в жар. «Боже, Боже…» – прошептал он, хватаясь за голову, – «скотина… сам бы мог старику давать, обя-зан был давать!..» Завел «штучку!» Какая подлость!..
Он поднялся, увидал себя в зеркале и отвернулся. По кинутым резко в стороны, выгнутым на концах бровям, «энергическим, от бабушки-черкешенки», как говорил полковник, и по черному с синевой хохлу – у полковника был такой же, только немножко с солью, вспомнился ему, как живой, отец, с утра до вечера на ногах, с лопатой или киркой, в широкой шляпе, под яблонями, как рядовой рабочий. «В глине копает ямы, все насаживает для нас, а у него пуля под самым сердцем… и на воды ему необходимо, а я… шубочки покупал, стульчики, фонарики пошлые… о, чорт!..» Но это письмо было яснее ясного. Заканчивал так полковник:
«Значит, уже не взыщи. Куманьков дает тысячу, но это лучше зарезаться. Скажи прямо: проиграл, растратил?… Не поверю. Ты не таков. Бураев? Не поверю, не хочу думать. Значит, не по средствам живешь. Извини, но это уж эгоизм, в ущерб всем. Посократись. Понимаю, дело молодое, и ты мне, я не забываю сего, из Маньчжурии тогда прислал тыщенку-другую, на сад пошли… Но видит Бог – на новые сапоги не собьюсь. Не обижайся, Степа».
Бураев опустил на руки голову и сидел неподвижно, пока Валясик не окликнул его тревожно:
– В роту, ваше высокоблагородие, не запоздаете… уж четвертого половина?… Так и не покусали ничего…
III
Что случилось с Бураевым в его личной жизни, – было, конечно, самым заурядным, случалось не раз на его глазах с другими и казалось тогда нисколько не ужасным, а даже, скорее, интересным.
В общем, человек нравственный, воспитанный и отцом, и суровой школой в уважении к женщине и, пожалуй, даже в благоговейно-рыцарском отношении к ней, в любовных делах он совершенно искренно признавал за нею свободу распоряжаться своими чувствами и как бы проявлял этим преклонение перед ней: прекрасная, она вправе дарить любовью. И это было в нем не из книг, не от чистой только поэзии, которую он любил, – Лермонтова особенно, – а от той оболочки жизни, от той благородной оболочки, которая была перед глазами с детства. Память о его деде, которого он не знал, полковнике-кирасире Бураеве, дравшемся, как простой армеец, на бастионах Малахова Кургана, была для него обвеяна легендой: Авксентий Бураев женился на своей «почти крепостной», дочери пленного черкеса, потеряв через то и огромнейшее отцовское наследство, и карьеру. Мало того: дважды он дрался на дуэли «за недостаточное внимание» к его супруге и был убит на третьей, защищая честь женщины, мало ему знакомой, но, по его мнению, достойной, с которой он танцевал на одном балу и которую «жестоко оскорбили непристойнейшим замечанием, что она танцует, как цыганка».
Таким же был и его отец Александр Бураев, участник Хивинского похода, доблестно бравший Карс и под ним дважды раненый, в молодости отмеченный самим генералом Черняевым и сломавший свою карьеру – прямотою. Этот женился на «полтавке», из казачьего рода Бич, выходца с Запорожской Сечи, институтке-патриотичке, одинокой и бедной девушке, рыцарски поклонился ей, «небывалой красавице, с глазами – как Черное море, синими».
Она любила цветы, и насколько помнил себя Степанка, теперь капитан Бураев, всегда он видел: много цветов – и мама. Завывала метель за окнами, в доме трещали печи, а в голубой светлой комнате – белые гиацинты и тюльпаны, выращенные отцом в теплицах – мальвы, и васильки, и ландыши. Сладко цветами пахла синеглазая мама – первая его женщина, святая. Так и осталось в нем: голубые и белые цветы, и в них, как царевна, мама. И перешло это на других, на всех, – благоговение перед нею – женщиной. Мама могла сердиться, кричать на папу, кричать несправедливо, но… «она – жен-щина!» – так всегда говорил отец. И в этом широком и нежном слове слышался аромат цветов. Так и осталось в нем, с первого детства и до школы, пришло с ним в корпус, в училище, в казарму, ушло на войну, вернулось, не поблекло. С женщиной надо – осторожно, нежно. Женщина, это – высшее, лучшее, что ни есть на свете. Женщине надо уступать, всегда, всячески охранять, лелеять… – и в этом последнем слове слышалось для него лилейное, от цветов. Мама давно ушла, в цветах и лилейном платье, и осталась живой – в душе. И живым, но каким-то забытым отражением явилась Клэ… первая, детская влюбленность.
Это было в «Зараменьи», в соседях, как милый сон. Солнечная, зеленая оранжерея, цветущие апельсинные деревья, померанцы, сладкий и пряный воздух, в котором нега, и тонкая, легонькая Клэ, воздушная, в розоватом газе, в черных, блестящих локонах на матово-смуглых щечках… острые локотки, полудетские худенькие ручки, обвившие неумело его шею, капризно кривившиеся губки, которые вот-вот заплачут, и удивительные глаза, – за них называли ее мужчины «сухим шампанским», – необычайные, менявшиеся внезапно, как топазы: то вспыхивали они игристо, золотистыми искрами, то равнодушно гасли. Она сорвала персик… и вдруг, поцеловала. Первая, детская, влюбленность, солнечная, в цветах.
И вот подошла пора, и открылось в «цветах» – другое. Надо же стать мужчиной! Так говорили многие, не отец. Так намекали женщины, так манили. Это было еще в училище, в юнкерах. Это пришло дурманом. И он – обоготворил её, первую его женщину. Это была красотка, немка. Чужая была, да языку, по крови, – совсем чужая, и что-то, напоминавшее ласку матери, было в ней. Сантиментально-нежная, она гдадила его свежие юношеские щеки, проводила ресницами по его губам, ласкала глаза ресницами и щеками, отстраняла от себя за плечи, привлекала на грудь в порыве, как когда-то, когда-то… кто?… И он ей отдал себя, не почувствовав в том дурного. Он тосковал по ней, вспоминал, как прекраснейшее, тот миг, когда, расставаясь, поцеловал ей руку, и потом приходил не раз… и мучительно ревновал, – и плакал, – когда кто-то другой был с ней. Были и другие, многие… – и во всех его привлекала ласка: не страсть, а нежность. Это стало уже обычным, как сон и отдых; но всегда оставалось новым, волновало всегда другое – что говорило взглядом, без отгадки, что ускользало в шопоте, в движеньи, что вспоминалось будто… – и тонуло. Это он видел в каждой.
Люси его покорила властно. Случилось это… Но этого, будто, не случилось: это – одно мгновенье.
Когда знакомили их в Дворянском Собрании на балу, – в прошлом году, на масленице, – Людмила Викторовна Краколь, супруга правителя канцелярии губернатора, высокая, тонкая блондинка, казавшаяся такой скромнюшкой со стороны, вскинула, как в испуге, темными, пышными бровями, и черно-вишневые глаза ее показались в тенях огромными. И только. И Бураев почувствовал: вот, она! Он стоял перед ней немой, чего никогда с ним не было, – немой и робкий. Эта робость сладко немела в нем, заливая его восторгом. Он не видел ее лица, томного в этот вечер, – ей нездоровилось, – слабой ее улыбки, но знал, как она прекрасна. Зал казался ему дворцом, бирюзовое ее платье – небом, музыка ритурнели – славой. Она не танцевала и он остался стоять над ней. Разговор их был пуст, натянут: плохой резонанс зала, ужасно много работы мужу, в общем – она довольна, немного простудилась и кашляет; да одинок, но не замечает за работой, на войне – некогда о смерти думать, но иногда боялся, танцует мало, никогда не играл, но на спектаклях вице-губернаторши бывает, очень рад и будет непременно, непременно! Прощаясь, они уже знали все. Вставая, она взглянула, из-под бровей. Он робко ответил, сверху. И громогласный полковник Туркин, проходя в биллиардную, нарочно толкнул плечом и особенным, «комариным» басом пропел-проскрипел над ухом, во-всеуслышанье:
«Что так жа-дно глядишь на доро-о-гу?…» Возвращаясь домой под утро на тройке с бубенцами, после ночных блинов на 9-й версте у Прошки, про которого сложен стих, что «у Прошки утонешь в ложке…» – Бураев был пьян, не пив. Он схватил своего Валясика, вытянул босого на снег и тыча в небо, без единой звезды на нем, крикнул восторженно:
– Да погляди, друг… какая ночь!
– Лучше чайку, ваше высокоблагородие, попейте и спать полягайте… у меня уж и самовар скипел, – дружелюбно сказал Валясик, заблудившийся «сибиряк с Полесья», оставшийся в деньщиках с войны.
Небывалым, жданным, единственно для него рожденным чудо-цветком – цветком-женщиной представлялась она Бураеву в тот вечер. Она была и звездой, живой, и голубоватой лилией-женщиной, с черно-зеркальными глазами, в которых тайна, чарующая и влекущая, до боли, – тайна, которую он раскроет, – никто другой. Ее-то он и искал, всегда. Она не его, но она должна быть его. Высшее право женщины – распоряжаться своими чувствами. Любовь – как смерть: никаких отговорок не признает, никаких соглашений-уз, и никаких контрактов. Нельзя помешать цветку…
И началось то с Бураевым, что начинается с каждым полюбившим, что описано миллионы раз и никем не разгадано – до яви, что породило и будет вечно рождать поэтов, что сладко и страшно убивает.
Началось то, что называется одержимостью любовью, когда закрываются все пути, все пропадают мысли, и только одна дорога, по которой идет она, и единственное – о ней мечтанье. Началось ослепление: встречи и недосказанные слова, встречи, встречи… взгляды, в которых все, что словами не высказать, но что обнажает душу и опаляет ее до трепета. Началось с Бураевым то, перед чем все бледнеет – безразлично: и жизнь, и смерть. Началось добывание «цветка».
После двух встреч на улице, «случайных», когда и она, и он напряженно выискивали друг друга мыслью и всегда находили без ошибок, – вел их божок любви, – привлекали друг друга внешним – кокетливою шляпкой, на которой дрожит эспри, сережками в розовых ушках, от которых лицо игривей, пушистой муфтой, которая чарует тайной, укрывая лицо до глаз, высокими башмаками серой замши, зябким движеньем плеч… свеже-выбритым бронзовым лицом, голубым шелком-шарфом, новенькими перчатками из белой замши, тонко надетою фуражкой, усами в брильянтине, чуть-чуть душистыми, стройною, ловкою походкой, отчетливыми манерами, в которых ловкость и щегольство… – после случайных встреч, когда и она, и он смущенно-счастливо восклицали – «вот, неожиданность!» – они стали встречаться в людях как можно чаще, отгадывая сердцем, где можно встретить: в салоне у вице-губернаторши Маргариты Антоновны Пружанко, где прежде редко бывал Бураев, – «уж очень тонно!» – за всенощной в соборе, на катке, уже тронутом весною, – и он, и она были страстными конькобежцами, – на лекциях наезжавших знаменитостей из Москвы, Петербурга и Одессы, на лекциях по самым животрепещущим вопросам – «Смерть в литературе», «Женщина, как социальный фактор», «Футуризм, как явление», что Бураев называл недавно «ковыряньем в пустопорожности», – так удачно оказывались они почти что рядом. Краколь был задавлен канцелярией и терпеть не мог праздного «болтайства», где не играли в карты. Он был чрезвычайно симпатичный, спокойный, толстый, с добрыми близорукими глазами, и отмахивался легко и нежно: «и поезжай, душечка-Люлю».
И она ездила.
Начиналась весна природы – весна в крови. Неспокойные мартовские ночи, шорох тающих в тишине снегов, вскрики пролетных птиц, проплывающих тенью в небе, легкие дуновенья с юга, оживающих звезд мерцанье, свежие голубые утра, в хрусте бессоных луж, новая жажда счастья, жадные, от весны, глаза, с томною негой ласки, – все слилось для них в желанье.
Долго прощаясь на прогулке, рука с рукой, они не могли расстаться. Молодая их кровь переплеснула, и Люси прибежала к нему – безумная. Такой он еще не знал – безумной, новой. Было безумство счастья, но и ей, и ему казалось, что «настоящего» еще нет, и они истекали в страсти, ища его. Ждать, разлучаться – мука! И они забывали все. Иногда она убегала на рассвете, придумывая все, что в силах, – запоздавшие репетиции спектакля, ездили на пожар в Труханово, чуть не сломала ногу и сидела одна на улице, запоздание поездов в поездках, случайно зашла к знакомым, и так незаметно засиделась… Вдруг получалась телеграмма от племянницы Машеньки – «опасно заболела», и она, встревоженная до слез, уезжала в Москву курьерским, чтобы с первой же остановки воротиться и под покровом ночи трястись на извозчике по лужам, горя от страсти. Он говорил Валясику – «а сходил бы ты, братец, в роту…» – и зачем-то совал полтинник. Валясик ухмылялся и уходил ночевать к девчонкам.
На Пасхе Краколь узнал, донесли подчиненные агенты.
Зайдя на «весенний бал» и узнав, что Людмила Викторовна уехала, протанцевав только па д'эспань, – «почувствовала себя ужасно дурно», – он поехал в Солдатскую Слободку, с двумя агентами. Агенты остались у калитки, а он позвонил некрепко, еще позвонил три раза, и добился. Открыл Бураев, с раскрытой грудью, высокий, сильный, и крикнул – «какого еще чорта?…»
– Это я… – задыхаясь, сказал Краколь, – у вас Людмила Викторовна… мне известно… это подлость!.. Извольте…
Бураев узнал симпатичного Краколя, очки, кокарду. Решил «налетом»:
– По-длость? Не нахожу. Выражайтесь осторожней, хоть и с вашими сыщиками!.. – показал он к забору, где прятались под фонарем фигуры. – Людмила Викторовна… да, здесь. И здесь останется. Это ее пра-во! Поняли?…
– Позвольте… – растерянно зашептал Краколь, – это моя жена! и она должна… Я завтра же…
– Пришлете за ней полицию – выгоню, – твердо сказал Бурсев, следя за рукой Краколя. – Пришлете кого-нибудь другого, постараюсь удовлетворить.
«И хочет, и боится», – подумал он, следя за рукой Краколя, которая ерзала в кармане.
– Я должен убедиться… это насилие!.. – шопотом говорил Краколь, отодвигаясь и ерзая в кармане, – я требую!..
– Насилия не вижу… шляпка ее на подзеркальнике… Н-нет, с-тойте!.. – схватил Бураев Краколя за руку «приемом» и сразу обезвредил: револьвер стукнул о порожек. – Знаю, что вы поляк, но это…несколько преждевременно. Не шевелитесь, переломлю!.. – крикнул Бураев в бешенстве, следя за фигурами в заборе, которые только наблюдали. – Помог не испортить вам карьеры… идите – и не возвращайтесь!
Он столкнул с порожка ошеломленного всем Краколя, взял его револьвер и с грохотом наложил запор.
– Что ты наделал?!.. – вскрикнула в ужасе Люси, кидаясь ему на шею, когда он вошел в освещенную розовой лампой комнатку.
Она была в бальном воздушном платье, едва застегнутом. С револьвером в руке, он крепко обнял ее одной рукою, поцеловал в душистую ямку разстегнутого лифа и, смеясь на отнятый револьвер, сказал:
– Завоевал мою трепетную… жену! – и крепко прижал к себе. – Довольно, больше не будет лжи… к чорту, развязалось!
И, не отпуская ее, положил револьвер на полку.
– Третий, к коллекции… японский, омский, по-ль-ский! И все – хотели. Ты… плачешь?!.. Что это значит, Люси?…
– Боже, что ты наделал!.. – повторяла она, в слезах, оправляя свою прическу. – Ты погляди, в чем я… ни белья, ни платьев… ведь все же там! Как же я теперь…все там!.. Голая, в бриллиантах!.. – показала она обнаженные руки, в бриллиантах, смеясь и плача. – Все там, все там… – повторяла она растерянно.
– Все там?… – повторил медленно Бураев. – Не знал… не предполагал, что у тебя все – там! Я не держу насильно… хочешь туда…сейчас приведу извозчика?…
И увидав раскрывшиеся ее глаза, он упал перед нею на колени и прижался.
– Не обижай меня, милый… Стефик… – шептала она, прижимаясь к нему коленями, – я не могу… так сразу… все порвано, нельзя показать глаз… Ни платья… и мое ожерелье там, и все подарки… ничего не отдаст! Ведь совсем голая я!..
Бураев пришел в себя, и решенное вдруг, «налетом», показалось теперь серьезным. В этом воздушном платье без рукавов, впорхнувшая к нему с бала, в пустую его квартирку – две комнаты с каморкой, где стучит сапожищами Валясик, Люси показалась ему – виденьем. Сейчас исчезнет! Она… будет жить здесь?… она?!.. Фу, чорт возьми!.. Казалось невозможным. И, как это бывает часто, когда в запутанном до трагизма вдруг прорывается смешное, насмешливо прозвучало в мыслях:
А она стояла растерянно, оправляя измявшиеся складки, крутя браслеты. «Голая, в бриллиантах…»
– Люси!..
– Мой… Стеф!..
Все пропало в блаженствах ночи.
Но понемногу наладилось.
В городе был скандал, но к подобным скандалам попривыкли. Дуэли, понятно, не было: Краколь дорожил карьерой, и, будто бы, было не впервые… а Бураев считался первым стрелком в дивизии. И губернатор был человек разумный. Седенький и сухой, он набросился на правителя, как ястреб:
– Зачем до скандала довели?! Мало вам «вятской истории»? Умеют люди устраиваться, почему же?… Я-то тут причем, докладываете… спрашиваете совета! Уверен, что жандармский уж настрочил. С Гейнике говорить бесполезно… столб! Отношения с гарнизоном у нас в-вот! – ткнул губернатор сухим кулачком в ладонь. – После сражения в публичном доме, когда солдатня стражника убила и гнала чуть ли не полицмейстера до собора… нам же и влетело от министра! Со штабом округа я не могу и не хочу возиться… и у полковника там друзья, в сферах, с меня довольно. Советую вам, милый Владислав Феликсович, оставить все… это ваше дело, развод там… и я посодействую переводу… здесь вам оставаться неудобно. Я сочувствую, жалею прелестную Людмилу Викторовну, но… еще Шекспир сказал: «женщину может понять только она сама!» Да и она сама-то, прибавлю я, себя понимать не хочет. Грустно, но!..
С командиром полка разговор был такой:
– А-а… а! – покачал седой стриженой головой полковник Гейнике, настояще русский, с бородой и огненными глазами раскольника с Заволжья, ученик Драгомирова и доблестный офицер, – в юбке запутался, молодец? Чего там – вспыхивать… «это многих славных путь!» Мало вам вольных баб?… – пустил Гейнике некую остротцу, подражая учителю, – кажется, обеспечены… вниманием начальства! батальон вам надо?… А-а… а! Отцу напишу, мало порол. А улыбаться нечего-с, стойте смирно, когда вас распекают, бо-е-вых капитанов, пу-таников! По-моему, все глупо, но… семейные дела, порочащего честь мундира не вижу. Демонстрировать «победу» не будешь, а там хоть на голове с ней ходи. Аминь. Отцу пока не пиши, не советую. Александра Порфирьевна спрашивала про тебя, вечерком зайди. Посоветует в семейном деле. Па-рень, не обожгись! – погрозил полковник. – Кругом, марш!
– Слушаю, г. полковник! – вытянулся Бураев, делая «кругом, марш».
Хотелось обнять «Бушуя», как его звали все: полковник напоминал отца – простецкой душой и «буйством», и даже голосом, – они были с отцом товарищи.
Постепенно наладилось, кстати и лето подходило. Сняли половину избы под лагерями, тронули «капитал», две тысячи, сбережение от войны, резерв для ожидавшейся академии, – о ней все подумывал Бураев, давно работал. Можно было продать и бриллианты, надетые на «весенний бал», но до этого доходить не надо: с ними связано слишком много. Люси так чудесно говорила: «взял меня голенькую совсем, но в бриллиантах». Он хватал ее на колени, впивался в ее глаза, что-то свое хранящие, всматривался в мохнатки-брови, бархатные-атласные, в эту «прикрышку тайны», сладко его дразнизшую, полонившую так отметку красавицы-блондинки, и, сжимая сильней, до писка, шептал-ласкался:
– Кто тебя выдумал?… Откуда, Люси… такая?! Голенький бриллиантик мой…
Млея под его ласками, она всматривалась в него туманно-томно, и в ее черных «вишнях» вспыхивали гранатцем искры. Он расстегивал осторожно ее лифчик, и она приникала скромно. Он приходил в восторг, становился перед нею на колени и говорил моляще:
– О, святая моя, Люси моя… чистая моя! Увидишь, я стану тебя достоин, ты увидишь…
Она запускала тонкие, в кольцах, пальцы в его густые черные волосы, сжимала до боли крепко, вдыхала их.
– Ты на римлянина похож, мой Стеф… как молодой патриций! И подбородок такой, упрямый… – она целовала-кусала подбородок, – и нос с горбинкой, такой гордяшка, только глаза – сапфиры! Такие бы мне глаза… покорила бы целый свет!..
– Мало тебе, что покорила меня… зачем?
– Зачем… – мечтательно спрашивала она таившееся в ней что-то, прелестно-женственное, – казалось ему всегда, – что хотелось ему открыть, что было в красотке немке, впервые познанной женщине, что таилось во всех других, что почувствовал он в цветах когда-то, в сладких ласканьях мамы. У Каролины, немки, было в косящем взгляде, чуть-чуть насмешливом; у белошвейки Любы – в блуждающей улыбке, грустной… во всем – у мамы; в странных бровях-мохнатках, в этих полосках меха, дразнящих чем-то, – его Люси.
– Зачем?… – повторяла она загадочно, и тонкая, беглая улыбка, открывавшая синеватые зубы-жемчуг, проникала в него тревогой. – Царить над всеми… все иметь, все… полная-полная свобода, куда захочешь… Завела бы автомобиль, поехала бы в Италию зимой, в трескучие морозы… ах, да разве можно все высказать!..
Это его смущало. На его жалованье можно только иметь вот это – половину избы, ситцевые капотики, батистовую рубашку с кружевцами, башмаки от «сапожника з Воршавы», Валясика-кухарку, «киношку» за полтинник, где предлагаются все соблазны, как раздражающая любовь… во сне. Но – потерпеть немного, академия даст движение, получишь полк… и Люси, чудная, в коляске, тысячи глаз на ней… проехать в Петровском Парке… чудесная квартира, пройтись по фойэ в Большом Императорском Театре, как Клэ недавно… – вспомнил он встречу с Клэ, – через десять, например, лет, возможно. Люси двадцать четыре года, совсем будет молодая командирша, царица-командирша!..
– Ах, Люси… все для тебя, все дам! – восторженно говорил Бураев. – Переждать немножко, академию кончу… клянусь тебе, положение завоюю… планов у меня много, вот увидишь. По характеру я не карьерист, но работу люблю… и безумно люблю тебя! О, для тебя, Люси… На двух языках я говорю свободно, это я сам добился. Можно получить командировку заграницу, попасть и военным представителем… Да, Люси… я еще не сказал тебе: все может измениться. Отец хлопочет получить огромное наследство… оно сейчас у казны в опеке, большие имения в Полтавской, предков по матери, запорожского рода Бич. Какие-то есть возможности, хлопочут в Петербурге, в герольдии, ищут какие-то грамоты… Мы получим тогда к нашей фамилии «приставку» – Бич, с соизволения Государя, и чуть ли не герцогство, по размерам!
Бураев мало об этом думал, но теперь стал мечтать и верить.
– И герб, конечно?
– Герб у нас есть, старинный, – башня, увенчанная короной, и над ней крест с мечами. А у Бичей, говорил отец, – синяя полоса по зеленому полю, а над ней красные челны с серебряными парусами, а выше – звезды. Это – старое наше Запорожье, Днепр. Ах, Люси… голенький бриллиантик мой!..
– Если бы… – мечтала Люси, ласкаясь. – Но какой же ты нежный, Стеф… вот никогда не думала!..
– Что ты не думала?
– Не думала никогда, что военные, так нежно… Они такие… казались всегда малоразвитыми, кого встречала… всегда с солдатней, муштровка, ругань… и все у нас так относятся, в нашем кругу… Папа был профессором, ты знаешь… я выросла в очень интеллигентном кругу, и у нас всегда как-то пренебрежительно отзывались о военных. Мама Герцену как-то доводилась, уж не помню. А Михайловский даже за ней ухаживал, но он, кажется, за многими ухаживал, такой «любяка». И вот, вдруг ты… вот никогда не думала!.. – говорила она наивно-мило. – Из гвардии встречались, но те из высшей аристократии…
Бураева кольнуло.
– А меня за кого считаешь?
– Как ты смеешь так говорить! – хлопнула она по его губам ладошкой. – Я же знаю…
– Твои «интеллигенты» слишком… узки и близоруки! – с раздражением сказал он. – Я прекрасно знаю, как смотрят на нас твои «интеллигенты»! И умнейшие из них далее, вон Короленко даже. Вылито много грязи на нас, на армию! Пусть Короленко на своих внимательней посмотрит, какие фрукты встречаются Эти «фрукты» везде встречаются, в каждом классе… С 905-го нас особенно поливают грязью, за то, что… спасли Россию от их экспериментов! Да, мы. Я был в Сибири, был потом и в Прибалтике, с Меллер-Закомельским, видал и усмирял. Вон у меня, омский «трофей» висит, и им и рука прострелена… Не хотят понять твои интеллигенты, что мы – те же русские люди, только особой складки, да, особой! Я говорю не об «отбывающих»… этих господ универсантов повидал, как они «отбывают»… и в прапорщики готовил. Воображают, что это – принудительная и глупая игра, и надо скорей «отбыть»… Забывают, что мы для страшного дня, для отдачи себя за… все! Ты сильно ошибаешься, Люси… У нас много идеалистов, романтиков… удивительные есть люди, каких не найдешь среди и твоих «интеллигентов». Молодые особенно. Да, наша жизнь груба… и тем удивительнее, что есть, и много. Все наше, военщина-то, как зовут нас презрительно, – меднолобыми нас зовут, «скалозубами», «пришибеевыми» разными… это же вне жизни! Жизнь – норма, а мы – вне нормы, около жизни где-то… около смерти мы. Но смерть мы предполагаем, как нечто… даже прекрасное. Ну, сквозь поэтическую дымку, сквозь особенную поэзию, как у Пушкина – «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю»… Мы – особенные профессионалы, внежизненные, гладиаторы рокового срока. Мы – всегда готовы, и самые благородные традиции, свято хранимые традиции – наши, военные. Теперь многим они смешны, потому что война уже не укладывается в текущие нормы жизни. Но все, что осталось в человечестве рыцарственного, – великодушие, самопожертвование, преклонение перед цветком мира – перед прекрасной женщиной… о, Люси моя, женщина… голенький бриллиантик мой!.. – перед геройством отдачи себя за родину, которая обнимает все, даже твоих «интеллигентов», эта готовность к смерти, уважение к благородному врагу… эта воля, которая – вот, вот здесь, – сжал он кулак, – когда ты идешь на смерть и говоришь себе – ты должен! – это мы. Вот почему, мы, «меднолобые» и «скалозубы», так дорожим честью. К смерти всегда готов – будь чист. На Суд, ведь, идешь. С нами всегда ножи – сразу все отмахнуть, чем связан с жизнью, самое дорогое даже. Потому-то мы и грубоваты на первый взгляд, спартанцы. И потому, может быть, часто очень наивны и непосредственны. Вот поручик Шелеметов мой, или наш милый чудак капитан Зальцо, большой философ, да много… оригиналы, и все – сами. Все какие-то сами! В обществе, у «шпаков», как у нас говорят, большинство – самые обыкновенные, все друг дружку напоминают… исключая, понятно, большие таланты… А у нас – удивительнейший подбор! Много, в душе, поэтов, мечтателей. Карьеристы – и те с «гвоздиком» в голове. Такие подбираются. А знаменитости… Толстой – наш, от нас. Державин, Лермонтов, Гаршин – солдаты, Римский-Корсаков… Пушкин – наш весь, в песнях своих, всей душой своей! Наше дело – самое страшное из искусств. Игра со смертью… только не на стишках, не в кабинете, а в чистом поле! Перекрестясь, за великое, что вне нас и – в нас! Революционеров понимают, чтут, героями считают, а мы – солдатчина, «меднолобые»!.. Мы – профессионалы самоотвержения и долга, и будущее за нас! А не за нас – никакого будущего не будет, а так, болото!..
Она смотрела, как играли его «сапфиры», в которых светилась грусть, и, нежно приблизив губы, тихо поцеловала в лоб.
– А верно тебя прозвали – «синеокий миф». Ты какой-то особенный, Стеф. В глазах у тебя и мечта, и грусть… о чем? Почему – «миф»?…
– Ну какой там… А как ты из профессорского-то круга – и за Краколя?
– Ничего странного. Ходил к нам еще студентом, любимый ученик папы. Когда папа умер, остались без средств, семья… он и подвернулся, со средствами, впереди карьера. Ему тридцать семь лет, через год – вице. Будущий губернатор…
– Плохой будет губернатор. Не жалеешь, что губернаторствовать не будешь?
– Разве это уж так высоко!..
– Ого… «не хочу быть столбовой дворянкой…»?
– …а хочу быть… пол-ко-вою командиршей! – пропела Люси с усмешкой.
– Может и кор-пу-сихой будешь! – ответил он тоже насмешливо.
Но эти зацепки не машали.
Как-то пришла открытка из Монако, от племянницы Машеньки, с пальмами и дворцом над морем. Машенька писала, что уезжает в Альпы, в сентябре будет в Биаррице, а к ноябрю в Москве, и ждет ее непременно с ее «синеоким мифом». «Вчера были с Р. – неожиданно встретились с ним в Ницце! – в рулетке, и в каких-нибудь пять минут выиграла 8 тыс. фр., посылаю тебе тысченку на булавки».
Открытка всполошила. Люси ходила по садику, где босой и распоясанный Валясик невесело поливал цветочки, и взволновано думала, какая счастлюха Машка, катается, где хочет. «А у меня один и один „пейзаж“, на этого дурака смотреть, с „твиточками“. Кто же это Р.? Ромб, банкирец… или тот знаменитый Ростковский, который ко мне „неравнодушен“, как она болтала? Интересно…»
– Пойти самовар согреть! – сказал цветочкам Валясик, – барин сейчас придут.
Бураев пришел со стрельбища, потный, пыльный, схватил кувшин с молоком и принялся жадно пить.
– Семьдесят шесть, брат, процентов попаданий, стреляли ротой! – сообщил он Валясику. – Барыня где?
– В зыбке себе качаются, за избой, ваше высокоблагородие. Подать помыться?
Бураев нашел Люси в сосенках, в гамаке: смотрела в небо. На батистовой ее блузке лежала пестренькая открытка из Монако.
– Семьдесят шесть процентов… – начал он говорить и заметил на ее ресницах слезы. – Что с тобой… плакала?
– Машка меня расстроила… А сколько это, тысяча франков?
– Можно? – взял Бураев открытку и прочитал. – Мм… тысяча франков? Четыреста без чего-то… Какие пустяки могут тебя расстраивать! Придет время, и мы прокатимся. Понимаешь, какой успех… стреляла моя рота, семьдесят семь процентов почти, попаданий! Важно для аттестации…
Она лежала, закрыв глаза.
Вернулись из лагерей в милый особнячок в саду, в тихом зеленом переулочке, у церковки, с чудеснейшим видом на Заречье. Жизнь показалась интересней. Устроили «салончик», купили трюмо по случаю, и 16 сентября отпраздновали именины с новосельем, в тесном кругу друзей. Не было дам, зато неожиданно приехал сам командир полка – на кулебяку и рюмку водки, во всем параде и с белым крестиком. Люси была тронута вниманьем, была прекрасна в голубом шелковом капоте-платье, присланном из Парижа Машенькой, и решительно всех пленила. Вечером с почты принесли корзинку, и в ней оказался роскошный букет – из Биаррица! – с визитной карточкой, на которой было начертано собственноручно: «с почтительным поклоном», A. Rostkovsky. Люси спрятала карточку, приятно смущенная таким неожиданным вниманием.
Муж не давал развода. Он перевелся, кажется, в Смоленск, и были слухи, что к Рождеству обещают ему губернию, что открылись такие связи, каких и во сне не снилось: годика через два – поверить трудно, но говорят, – и директора департамента получит! Сообщала из Петербурга двоюродная тетка, вдова сенатора, и заканчивала письмо советом: «Он тебя обожает по-прежнему, советую написать ему и решить окончательно, чтобы покончить с этим двусмысленным положением: вернуться к нему. Развода он сам начинать не хочет, придется начать тебе».
– И начнем! – сказал Бураев решительно: надоела ему неопределенность, оскорбляли условности.
Изолированность Люси от общества, колкие иногда намеки знакомых дам, брошенные с улыбочкой, двойственность его жизни, – всё это раздражало, вносило в их отношения раздоры и неприятную неустойчивость, облекало их связь порочностью. Приходилось скрывать, как грех, счастье семейной жизни: ни то, ни се. Потому-то и нервничает Люси… вполне естественно. И Бураев решил начать. Побывал у адвоката, и в консистории. Адвокат ручался, самое позднее, сделать в год, что потребует тысяч пять. Секретарь консистории, старый бобер в очках, намекнул на большие осложнения, на возможные уклонения и контраверзы со стороны Краколя, одного из каверзнейших людей на свете, – «уж мне-то да не знать, помилуйте-с!» – и высчитывал «на духовную расчистку только» тысченок за пять. Предлагался и легкий выход, тысячи в три, не больше, без всякого развода, «обвенчаем за полчаса-с», – только нельзя оставаться в городе, и возможен всегда скандал. Не говоря уже о скандале, Бураев не мог решиться оставить полк.
– Ужасно, когда нет денег! – вырвалось у Люси укором. – Какие-то пять тысяч… – и свобода!
Бураев винил себя: иметь такую жену-красавицу, обещать ей всего себя, – и какие-то там пять тысяч, которых нет!..
Как-то Люси сказала:
– Я знаю, что Машенька поможет, и никаких почти денег не потребуется. А вот. Знаменитый Ростковский приятель ее мужа. У него огромные связи в Петербурге, он разводил Истоминых. Ты, конечно, не знаешь, а дело было ужасно скандальное, даже до Государя доходили. И развел что-то в три месяца.
– Твой Ростковский хапун известный.
Люси загадочно улыбнулась.
– Он сделает это даром, для… Машеньки.
– Тьфу! – не сдержался Бураев, плюнул. – Сколько же всяких гадов, грязи!.. Вот никогда-то не думал, что…
– Если неприятно, я не настаиваю. Будем терпеть… сказала Люси особым тоном, который взрывал Бураева.
– Да, да, да!.. – крикнул, взрываясь он, – мы проклинаем тот час, когда… Я понимаю! я всё понимаю!.. Есть женщины, для которых любовь – только пикантная приправка к… К чему?…
– К золотому!.. – вырвалось у него такое, что он убежал из дома и не встречался с Люси два дня.
То, что вырвалось у него, была такая «солдатчина», такая грубость… Он горел от стыда даже перед самим собой: «что она теперь думает обо мне?!»
Но она тонко «не поняла». Она сама подошла к нему, обняла его голову, нежно поцеловала и шепнула:
– Не сердись, Стеф. Поверь, я не поняла даже, что ты сказал… Но за что ты меня обидел?…
Он упал перед нею на колени и зарыдал, чего уж она никак не ожидала от солдата.
– Я обидел тебя, Люси моя… я оскорбил тебя! Если бы знала ты, как я страдаю!..
И он бешено стал целовать ей ноги.
Об адвокате Ростковском Люси сказала уверено: она знала, что для нее он сделает.
Один только раз видала она его в Москве, до знакомства с Бураевым, у Машеньки. Он не отходил от нее весь вечер, сыпал остротами, был в ударе, и она знала, что это она зажигает его огнем. Он проводил ее на вокзал, поцеловал как-то по особенному руку, вскоре ей написал, «по совету Машеньки», о незабываемом впечатлении, какое произвела на него «тетушка», и в заключение дерзко себе позволил «питать надежду, что потрясшая его встреча повторится». Она – в эти дни встретился с ней Бураев, – не обратила никак внимания. Но недавно опять случилось, и это ее затронуло: на обороте визитной карточки при букете, стояло тонко карандашом, «секретно», – определила Люси: «увидать Вас – счастье». Эти вороватые буковки, на обороте карточки, на краю, показались Люси смешными и… робкими, и она стала об этом думать. Она иногда мечтала… И казалось вполне возможным, что знаменитый, – и интересный, – случайный ее поклонник, за которым установилось прозвище – «неотражаемый», речи которого печатались в газетах, который брал головокружительные гонорары и расшвыривал деньги не считая, устроит развод недорого и скоро. Мечталось и другое. Как-то она спросила:
– Стеф, ты мог бы перевестись в Москву?
– Зачем?!..
– Там нас никто не знает… и новый круг. И для тебя, по службе… все-таки видней!..
– Это трудно. И с полком расставаться тяжело. Ты не можешь понять, что для офицера его часть, в которую он впервые вступил. Расстаться с ротой – для меня нелегко. И потом, надо иметь и связи, и… мотивы. И для чего, собственно?…
– А для меня?…
– Если уж так необходимо… для тебя я, конечно, могу сделать, но… Не успел теперь, а в будущем сентябре поеду держать в академию, надеюсь попасть. Тогда переедем в Петербург. Зачем же из-за какого-то года…
– Да, конечно…
В октябре судили Малечкину по обвинению в отравлении мужа, бухгалтера казначейства. Этого процесса давно ждали, из-за пикантных подробностей. Писали о нем и московские газеты. Должен был защищать местный присяжный поверенный Андреев, но совсем накануне суда из московских газет узнали, что главную защиту Малечкиной взял на себя присяжный поверенный А. Н. Ростковский при участии Андреева, из местных. Первой узнала об этом Люси, от Машеньки. Машенька сообщала, что – «вдруг совершенно неожиданно объявил, что это захватывающий процесс, что здесь дело идет о женской душе, о самом интимном в жизни, что, помимо сложного психологического элемента в этом деле, у него есть „личные побуждения кого-то видеть…“ Ты, Люсик, понимаешь? Просил меня непременно дать поручение к тебе. Ну, что я с таким сумасшедшим сделаю! Он, буквально, выкрал на днях твой портрет из альбома и стал бешено целовать, при мне! Какими-то спазмами у него… Когда мы встретили его в Монако, он засыпал меня расспросами о тебе, и это каждый день. Ты увидишь, он похудел и стал еще интересней. С балериной своей разъехался… Я прямо ему сказала, что ты безумно любишь твоего вояку, он загрустил, взъерошил волосы и сказал только – „ну, что ж… но благоговеть-то мне не может помешать ничто на свете!“ Он, прямо, одержимый. Смотри, Люсик!»
Процесс тянулся два дня, и вся городская знать терпеливо высиживала в зале. Для Люси достали почетный билет, даже прислали на квартиру в пакете за печатью, и она поняла, что это, конечно, он. В сереньком скромном платье, – тоже подарок Машеньки, – она сидела в первом ряду налево, близ пюпитра защитников. Всех поразило и заинтриговало, когда появившийся в зале за пюпитром знаменитый Ростковский, блистая крахмальной грудью и отменным фраком, высокий, в пенсне, с небрежно взбитым хохлом с намекающей проседью, зорко окинул публику, вскинул красиво голову, быстро пошел к Люси и почтительно поздоровался, поцеловав ей руку. И отошел сейчас же.
Это ее очень взволновало, и она долго старалась заставить себя понять, что происходит в зале. Ростковский держался с большим достоинством, и строгий председатель как-то особенно учтиво обращался к нему: «господин защитник?…» Все, что спрашивал г. защитник, казалось Люси и нужным, и очень умным. Даже в наклоне головы и в тонкой, бледной руке защитника, игравшей золотым карандашиком, чувствовались и ум, и воля. «Неужели не победит?» – спрашивала себя Люси, разглядывая строгие лица заседателей, которым разъясняли: что Малечкина – страшное чудовище, развратная из развратных, медленно отравлявшая честнейшего и скромнейшего человека, мужа, и отца четверых детей, достойнейшего бухгалтера и примернейшего чиновника-служаку; и что, с другой стороны, несчастная женщина Малечкина – невиннейшая жертва, примерная мать, любящая и покорная жена, жаждавшая единственно одного, присущего каждой достойной женщине… внимания, понимания, при-зна-ния… со стороны мужчины; что несчастнейшая Малечкина, когда-то первая из красавиц города, не смела купить детям даже несчастной карамельки, как самая последняя из рабынь; что отравлявшийся спиртом алкоголик и губернский секретарь Малечкин бил ее сапогом по темени и по чреву, носившему его четверых детей, в результате чего она принесла убийце-мужу пятого ребенка – мертвого!
Люси ожидала после первого дня суда, что Ростковский явится к ним с визитом и с поручением, и даже приоделась, но он не появился. На другой день он опять подошел к ней здороваться и сказал озабоченно, что, если процесс закончится не слишком поздно, он позволит себе на минутку заехать – передать поручение от Марии Евгеньевны, и уедет в Москву курьерским, так как завтра в Палате ответственное дело. И Люси беспокоилась, как бы процесс не затянулся. К счастью, процесс не затянулся. Прокурор говорил недолго, напоминая факты, и заклинал присяжных «возмерить мерою» во имя тени несчастного, которую не постеснялись пятнать и здесь. Потом говорил Андреев, соответственно подбирая факты, и предоставил глубокочтимому своему собрату «вскрыть и показать ощутимо приглядевшимся ко всему глазам тончайшую ткань женской душевной жизни, так жестоко изломанной!» И Люси даже задохнулась, когда знаменитый защитник как-то грустно поднялся, опустив голову, медленно провел в воздухе карандашиком, словно хотел начертать –? – и измученным голосом, в котором услышали страдание, как бы спрашивая себя, сказал: «Да где же правда?… Гг. присяжные заседатели…»
И чем дальше он говорил, сильней становился его голос, сочней звучал по залу. И когда говорил о женщине и ее душе, и когда говорил о ее любви, и о любви к ней, о таинственнейшем цветке, который рождается, чтобы видеть солнце, но часто топчется сапогом, так и не распустившись, и тут же привел строфу из любимого современного поэта, – поглядел в сторону Люси, следившей за ним в восторге. Говорил о несбывшемся, о загубленной жизни женской, о детях, лишенных матери… – в это время в зале неожиданно прозвенел призывающий детский голосок – «ма-ма!» – все вздрогнули, председатель воскликнул – «кто мог допустить ребенка?!» – а г-жа Малечкина, в гороховом халате и беленьком платочке, истерически вскрикнула, – говорил уже грозным голосом о страшной и священной ответственности нашей перед ни в чем неповинными детьми, раздирающий крик которых – «мама!» – этот вечный, призывный крик, – вот она, самая святая правда! «Детям отдайте мать! не казните детей неправдой!..» – кончил знаменитый защитник с рыданьем в крике.
Говорили потом не раз, что это была лучшая речь Ростковского, за которую он не взял ни гроша.
Оправдательный приговор встречен был бурей апплодисментов и вскриками нервных дам. Председатель сделал предупреждение и когда объявил, что г-жа Малечкина свободна, а стража должна уйти, буря апплодисментов повторилась, и Люси, сквозь слезы увидала перед собой снежную грудь Ростковского, который сказал учтиво, что «с вашего позволения заеду передать поручение». Он поклонился низко и тут же затерялся в обступившей его толпе шумливых барынь и барышень, что-то ему жужжавших. Потом Люси увидала на подъезде, как группа гимназисток кидала в защитника цветами, а семинаристы и гимназисты на возрасте стояли с букетом роз и спрашивали курьера, через какие двери выйдет г-жа Малечкина.
Дома Люси переоделась в скромное голубое платье, которое к ней так шло, и приказала Валясику приготовить к чаю. Бураев был на дежурстве, – пожалуй это лучше, – думала Люси, волнуясь. «Почему так волнуюсь, странно», – спрашивала она, следя за собой в трюмо, – «странно, будто робею даже…» И она, действительно, робела, даже сводило пальцы. Подходила к окну и слушала. «Знает ли адрес… нас нелегко найти… – вслушивалась она сквозь дождь. – Глупое положение, волнуюсь… что он подумает…» Она подошла к трюмо, выправила мохнатки-брови и сделала томное лицо. «Бледна ужасно», – подумала она с гримаской и услыхала, как стукнула калитка.
– Кто-то к нам, Валясик… отоприте!.. – крикнула она словно не своим голосом, и увидала в трюмо блестевшие глаза и чуть розовеющие щеки.
Но вышло совсем нестрашно.
Аполлинарий Николаевич, как старый знакомый, легко и просто поцеловал руку Людмилы Викторовны, выразив тут же сожаление, что должен сейчас бежать; извинился, что, по дурацкой рассеяности, не догадался еще вчера послать гостинцы, порученные ему Марьей Евгеньевной, – «простите великодушно, за этими делами поесть забываю даже!» – отшутился на похвалу его «вдохновенной речи», – «не балуйте меня, я знаю, что был до скандала слаб!»
– Говорил… а думал о чем-то, совсем другом! – выразительно сказал он и смущенно отвел глаза.
Передал непременное желание Марьи Евгеньевны видеть милую тетушку, – «удивительно к вам идет!» – восторженно засмеялся он, – и на этих же днях, вместе со… «Степаном Андреевичем, если не ошибаюсь?» – положил в рассеяности крупную свою руку на хрупкую ручку Людмилы Викторовны, лежавшую на локотничке диванчика, и извинился; стремительно поднялся, когда Валясик, стуча сапогами, вносил в салончик поднос со стаканом чая, и, взглянув на часы, пришел в непомерный ужас, что через двадцать минут курьерский, а надо еще в два места… ловко накинул какое-то необыкновенно оригинальное пальто с капюшоном и лапками, неуклюже поданное Валясиком низом кверху, и, мотая широкой шляпой, откланялся, не поцеловав даже на прощанье ручку. Вспомнил в дверях – «простите, письмо от Марьи Евгеньевны!» – и вручил синеватый пакет с коронкой. Люси слышала, как он побежал к калитке, а Валясик вдогонку крикнул: «покорнейше благодарим, господин!»
Люси была разочарована визитом, таким стремительным и безразличным. Ей стало стыдно, что она вообразила что-то, за глупую свою робость – как девчонка! Стараясь подавить «обиду», она призналась перед собой, что Ростковский загадочен и интересен, вспоминала его глаза, грустные нотки в голосе, «думал о чем-то совсем другом»… «Личные побуждения кого-то видеть»! – писала Машенька. Приехать сюда нарочно, ночевать в грязных номерах, потерять столько времени… «но благоговеть-то, я думаю, мне не помешает ничто на свете», – целовать фотографию… – и такой удивительный визит, меньше пяти минут!..
– Чего тебе? – спросила она топтавшегося в дверях Валясика.
– Да что, барыня… – осклабился, крутя головой, денщик, – как бы чего не вышло?… Четвертной билет дал, тот барин… прошибся, может?… Как бы чего не вышло… может догнать лучше?…
Люси замахала весело:
– Ничего, он богатый и… очень добрый. Это тебе на-чай.
– Да уж больно чудно… чисто папироску дали!
В письме от Машеньки было семьсот рублей – «на беличью шубейку, твою мечту, будешь совсем как белочка!» «Р. совсем потерял голову, увидишь». Люси тут же разорвала письмо. Потерял голову! И увидала золотой мундштучек на столике. Ей стало скучно. Мундштучек она спрятала и до глубокой ночи думала об одном – о нём.
На другой день, когда Бураев пришел с дежурства, она встретила его радостно – «ура! Машура… семьсот на шубку… сколько конфект, гляди!» Конфекты были любимые – пьяные вишни, от Альберта.
– Посидел пять минут, какой-то странный, даже от чаю отказался. Валясику дал четвертной на-чай! Слышал… оправдали Малечкину!
– Помогают разврату болтуны… проститутке букет подносят! Чертовски угорел… Да… долго ты будешь жить подачками? Мне это неприятно.
– Это не подачки, а отдачки. Когда я была богата, я много ей дарила. Теперь она богачка, и…
– Содержанка.
– Такая же, как и я! Ушла от мужа и… пришла к другому.
Бураев пристально посмотрел – и вышел. А через три недели, когда навалило снегу, предстала Люси, в шубейке. Она опустилась перед ним серенькой белочкой, розовой, кроткой и пушистой, заглянула в глаза пытливо и, положив на колени белокурую милую головку, попросила: «поедем за город, в монастырь!» Он страстно схватил ее, долго носил по комнатам, целуя и лаская, и они покатили с бубенцами, пили чай в номере с лежанкой, с архимандритами на стенах и белыми полами, и беспредельно-грешной была их любовь в обители. А возвращались под звездами, в морозце. Пели звучно колокольца-бубенчики, а в широких санях, на сене, кутая его белочкой, спрашивала Люси шептаньем:
– Мой?…
– Твой, весь твой, белочка моя… а ты?…
– О, Стеф!..
Старый полковник выслал просимые на беличью шубейку, – ему писалось: «расплатиться со старыми долгами, – последние триста пятьдесят», и Люси утянула Стефа в Москву проветрится.
Позавтракали в Праге, где теперь, по словам Люси, – самые сливки общества. Но они никого не знали. Побывали у Машеньки, на Малой Спиридоновке, во дворце. Бураева все ошеломляло: широкая, как в соборе, лестница, в коврах, зеркалах и мраморе, тонно скользившие лакеи, которых он принимал за адвокатов, картинная геллерея с зимним садом, высокий концертный зал, салоны, будуары, столовая, как святилище с органом – дубовым буфетом во всю стену, обитая вся сукном читальня… Народу была масса, но Люси чувствовала себя непринужденно. Молодые поэты, с примасленными головками, выпевали свои стихи, картавя, все, как один, «истощенные разными страстями», – шепнула интимно Машенька, – все в узких брючках, в узких фрачках и галстучках. «Вот это шту-чки, новое поколение мужчин», – презрительно наблюдал Бураев, – «морфинисты, кокаинисты и, конечно… „взаимная любовь“». Ему, простаку, казалось, что они, просто, шутят, читая такие глупости, в которых не доберешься смысла, и так распевают и гнусавят – для смеху больше. Один был и лоскутной кофте, с вымазанным лицом, – словно из цирка клоун, – но Машенька шепнула, что это знаменитость, первый из футуристов, расхваленный Максимом Горьким. Он вышел на эстраду и выпевал что-то, напоминающее дырр и пырр, и Бураеву стало стыдно. Но все почему-то хлопали. Банкир Джугунчжи, похожий на выбритого кота, Машенькин покровитель, одобрительно хлопал всем, а поэты откланивались ему особенно. Бураев удивился: да что такое! понять ничего нельзя! Ну, прямо, Пушкины! Наконец, вышел в бархатной куртке, с галстухом во всю грудь, «настоящий поэт», – шепнула интимно Машенька, казавшаяся Бураеву прелестной и, кажется, доступной, – и прочитал такое, что лакеи прикрыли рты. Но Джугунчжи похлопал – и все захлопали. Бураев запомнил только –
«Ну, если это сливки интеллигенции, дело плохо!» – подумал он и вспомнил своих солдат, показавшихся ему теперь святыми.
Машенька познакомила его с «нашим Демосфеном», с присяжным поверенным Ростковским. Бураев не знал, о чем они будут говорить. Но Ростковский заговорил об армии, к которой и сам отчасти принадлежит, как прапорщик запаса, нашлись даже общие знакомые. Поговорил о командующем округа, у которого иногда бывает – играет в винт, и о военном министре, с которым была у него «возня», по семейным делам, но… «обворожительный человек!» Сыпал профессорами академии и генералами здесь и там, называя по имени и отчеству. Уважительно говорил об армии, о комиссии по обороне, о государственной думе, которая «должна же, наконец, предоставить армии достойное положение в стране, на которое она имеет право, как национальная и государственная сила».
Люси внимательно слушала их беседу, поигрывая рукою Стефа. Прибежала Машенька и утащила:
– Пожалуйста, декламировать… Нет, нет, не кочевряжься!..
Лакеи обносили ледяным шампанским, и Бураев повеселел. Люси казалась ему особенной. Сильно открытое голубое платье с короткими рукавами из серебристой дымки, с воздушным трэном, который она ловко подхватила, вбегая на эстраду, делало ее особенно желанной. Дремучие мохнатки-бровки сегодня особенно манили, обещали. Бураеву казалось, что все влюблены в нее. Джугунчжи неотступно ходил за ней и млел, потирая ручки. «Настоящий поэт», похожий на мумию цыганки, успел уже поднести стихи, которые она спрятала в корсажик. Стихи были прочтены с эстрады:
Бледные, изможденные поэты двигались за Люси сонной сплошной стеной. И вот, опьяненная успехом, Люси появилась на эстраде. Бураев знал, что она хорошо читает, но – здесь!.. Он с удовольствием пил шампанское, Машенька волновала его шопотом на ушко, касаясь щеки губами, и ему казалось, что здесь особенно тонкий мир, и выступать перед этим миром страшно. Артистка Художественного театра, в розовой кисее, сидела, как роза, в группе почтенных профессоров. Известный писатель мрачно стоял в углу, окруженный девицами, с локонами по щекам. «Суровый» театральный критик приблизился к эстраде и ожидал. А Люси ничего не страшно, глаза играют… Бураев подумал – молодчина! Адвокат помахал платочком и, склонившись к Бураеву, шепнул:
– Слыхал от Марии Евгеньевны, что у Людмилы Викторовны большой талант, и, главное, оригина-льный! А мы здесь шаблоним… надоело.
Бураев не ответил. У него сильно сдавило грудь, как бывало всегда перед атакой. Тонкое личико Люси осветилось смущенной улыбкой, и Бураеву показалось, что ее «вишни», ставшие черно-черными, ищут кого-то в зале… Его, конечно. И он мысленно перекрестил ее. И вот, Люси потянулась, словно поцеловала воздух…
– Не-передавемо!.. – прошептал Ростковский. Зал загремел от восхищения. Суровый критик поцеловал руку у Люси. Розовая артистка расцеловала «удивительную артистку». Даже футурист разодрал на себе одежды и воскликнул – «вот что может еще спасать ваше прогнившее искусство!» Джугунчжи склонился в реверансе. Ростковский, воздев руки, что-то кричал восторженно. Бураев хотел идти, но Машенька усадила его с собой и, толкая коленками, смотрела прямо в глаза своими искристо-серыми и шептала, совсем в чаду:
– Что глядите на меня, темноголубые?… Люсик это вам, вам так спела! Именно, спела… Удиви-тельные у вас глаза!.. Вы – миф!..
Бураев пожал плечами. Лакей подавал шампанское.
– На брудершафт? – лихо сказала Машенька, чокаясь с Бураевым шампанкой.
– Идет! – сказал Бураев.
– Ты, Стеф, особенный… Ты о-чень… внутренний!..
– Ты… – смущенно вытянул из себя Бураев, – Машенька, а похожа на… египтянку, только глаза… Русская…
– Бабенка?… – лихо сказала Машенька. – А ты… синеокий миф, правда!
– И никакой не миф, а просто малый, солдат. И ты мне нравишься, только не толкай коленкой…
– Глупости какие! Мы не чужие, и Люська не станет ревновать, не бойся. Завидую я Люське, какого сокола подхватила!..
Бураев засмеялся: чудесная была Машенька, простецкая. И все – простецкие, если разобрать. Даже и бледные поэты. Даже Джугунчжи, ходивший, как кот, неслышно, казался ему добрейшим.
Машенька опять толкнула. Он почувствовал возбуждение и быстро пошел к Люси.
– Не скучаете с нами, капитан? – взял его под руку Джугунчжи. – Как это поется?… – И пить будем, и гулять будем… а когда смерть придет…
– Помирать будем? – спросил-досказал Бураев. – Будет за что – помрем.
Был бесконечный ужин, с необыкновеннейшим осетром на блюде, пулярдами в пестрых перьях, индейками с распущенными хвостами, с «парижскими пирогами», с корзинами тонких фруктов, с бешенною пальбой шампанского, с коньяками, с ликерами, с кошелками соленого миндаля, фисташек, с битвой «влюбленных шариков». Неожиданно для себя Бураев оказался под яростным обстрелом, – может быть потому, что единственный был военный? В него метко стреляла Машенька, артистка, какая-то даже пожилая дама в великолепнейшем декольтэ, – «миллионами в вас паляют», – шепнул ему, приставив ладонь ко рту, Ростковский, глазами показывая даму, – «половинка вашей губернии у нее в лифчике!» – девицы в болтушках-локонах, вперемежку с поэтами, и, совсем украдкой, такая скромненькая его Люси. Даже банкир Джугунчжи стрелял и взвизгивал.
Великолепнейший лимузин, мягко шурша по снегу, отвез на заре в «Лоскутную», после прогулки в ночной кабак, где опять мелькали черные тонкие поэты с лицами мертвецов, где прекрасная Машенька схватила в гвалте руку Бураева и долго держала на коленях.
– Ко-шмар… – крутя головой, полупьяно сказал Бураев, когда очутились в номере.
– Стеф… – шептала Люси, в забвеньи.
В полдень явилась Машенька в мехах-размехах. а за ней принесли цветы, огромные две корзины. Она была игрива-возбуждена, торопила Люси поехать на Кузнецкий, – «ну, так что-нибудь купить». Когда Люси одевалась в будуаре, – наняла для них Машенька в «Лоскутной», – «и ни-ни-ни!» – Машенька так взглянула, что он потупился. Она погрозила ему перчаткой и, – этого уж никак не ждал, – взяла его под руку и потянула нежно. И, как ни в чем ни бывало, стала крутить танго.
Его не взяли – в бабьи дела мешаться! Он пошел прогуляться, позавтракал у Филиппова кулебякой с кофе, купил у Девриена нужные для подготовки книжки, поглядел на Большой театр, напомнивший ему встречу с Клэ, теперь уже княгиней… Густо повалил снег. На углу Петровки, у кондитерской Флей-Трамблэ, с ним неожиданно столкнулся товарищ по выпуску Осанко, теперь уже подполковник, из штаба округа. Поговорили о новостях. Верно, бригадного ихнего уберут, командный состав омолаживают усиленно. Почему в Москву не переводится? Устроить можно. Гейнеке добивается бригады и, кажется, получит: связищи в Петербурге, да и стоит. Тогда и совсем легко перетянуться. Когда они разговаривали, подкатил бордовый автомобиль, и вышла шикарная блондинка в широком манто из соболя, в кокетливой шапочке с эспри. Бураев с изумлением дал дорогу, не веря глазам, что это… да неужели Нида?! Мелькнувшая перед ним красавица обернулась к нему в дверях, задержалась на миг, резнула смешливым взглядом и исчезла. Она, Нида?… Не может быть. Но пушистая родинка на щеке – та самая! И серые, вострые глаза… Нида из Птичьих Двориков! Сверстница его по играм, первая детская любовь! Он что-то слышал, в Яблоневе рассказывали, что «Нидка пошла в аристократки». Но та была тоненькая, как стебелек, а эта – полная и высокая, роскошная москвичка… И так взглянула! Впрочем, многие на него глядели. Он простился с товарищем и хотел повернуть к Кузнецкому, как услышал веселый оклик:
– Степан Александрыч! Вы это?!..
Шикарная блондинка махала ему муфтой, и стало ясно, что это Нида.
– Вот неожиданно!.. Сколько лет, а все-таки узнала… молоденьким офицериком видала в последний раз! Узнали меня?…
– Нида… какая же вы стали, по родинке только и узнал, да по вашим неизменным глазкам!.. Разбогатели? замужем?…
– Любопытный какой… И замужем, и холостячка… вот как хотите! – болтала Нида, шлепая его по руке перчаткой. – А как по-вашему лучше? Забыли небось, а я про вас часто думала. Раз даже написать хотела, да… совестно что-то стало. Чего, думаю, старые дрожжи подымать… поэзию разводить! А вот под снежком и встрелись…встретились! – поправилась он с улыбкой. – Пойдемте шоколад пить с шашечками. Помните, как меня шоколадками подчевали? А вашу коробку с абрикосовой пастилой и посейчас помню, как юнкером меня отыскивали! Мне тогда дворник все выложил. Э-эх… Ну, пойдемте, берите меня под-ручку.
Они проболтали с полчаса, как добрые старые друзья. Бураева изумляло «преображение»: из деревенской девчонки, потом из московской девчонки-белошвейки, за двенадцать-тринадцать лет выправилась шикарная бабенка, дама. О нем она знала почти все: брат ей писал иногда из «Двориков». Конечно, она им помогает, живут богато. Все еще не женился? Скоро… – ну, дай Бог счастья. А она уж и заграницей побывала, скоро опять уедет.
– Чего от вас мне таиться, сами хорошо понимаете… А особо дурного чего не думайте. Чего раньше было, глупила там… сплыло. А теперь будто и по закону, пять лет в «у-зах», и растет мальчонка. Ах, прямо вы для меня… ну, как родной совсем встретился! После завтра, заезжайте, право?…
И Бураев почувствовал, что и в самом деле – Нида, словно, ему родная. Он обещал побывать у ней, только в другой приезд: завтра утром он уезжает, последний срок. Она усадила его в автомобиль и подвезла к «Лоскутной». И в этот короткий путь она все всматривалась в него и вспоминала:
– А глаза у вас все те же… у мальчика какие были! Ах, Степочка, Степочка… Нет, ради Бога, не забывайте.
И, – смутило это Бураева, – она взяла его руку, посмотрела ему в глаза и… нежданно поцеловала. Он только вскрикнул:
– Нида!.. – и стал целовать ей руки.
Решительно, этот снежный день полон был неожиданностей. Когда подкатили к гостинице, у подъезда стояли Люси и Машенька, и, в волчьей дохе, Ростковский. Бураева встретили веселым гамом, а Ростковский раскланялся с блондинкой. Бордовый автомобиль отъехал.
– Ого, капитан-то одержал победу! – сказал, раскланиваясь, Ростковский. – Одна из прелестнейших московок – и вдруг, всего за день пребывания… Что значит-то глазомер, быстрота и натиск!
– Кто это?… – теребила Машенька за рукав, Люси только внимательно смотрела, – извольте сейчас сказать!
Бураев отшутился: так, «из детских воспоминаний». Не мог объяснить лучше и Ростковский, кажется все на свете знавший: заграницей встречался, видал с Придымовым.
– С Придымовым?! – не поверила Машенька, – с тем самым?!
– С тем самым. Три года, как овдовел, а жениться что-то не собирается, есть одно – маленькое «но»!
И он раскланялся.
Машенька наградила «дяденьку» чудесным несэсэром, – всякому, ведь, офицеру нужно. Бураев пожал плечами, но не мог не принять подарка. У Люси оказалась гора обновок.
– Пожалуйста, не разбирайся в тряпках и не ворчи, – сказала Машенька. – Я столько ей должна, что…
Обедали в «Эрмитаже», возила Машенька. Были в Художественном, смотрели «Вишневый сад». Ужинали в «Праге», встретились знакомые артисты и Ростковский. Перешли в малиновый кабинет, и там оказалось уже человек двенадцать. Заглянул на полчасика Джугунчжи, выпил фужерчик содовой и уехал в Кружок играть. Бураев волновался: чорт знает, кто же платить-то будет, так – совершенно невозможно! Было у него около ста рублей, и надо на дорогу, а до двадцатого далеко. Но вышло все как-то незаметно, словно и не платил никто. Выходили из «Праги» в самом веселом настроении. Машенька потянула ехать в Петровский парк, – смотрите, луна какая! Но Бураев отговорился: Люси устала, смотрите – какая бледная. Люси не сказала ничего. Ростковский вежливо поддержал:
– Действительно. Это нам, ветрогонам, не привыкать-стать! – и вспомнил, что ему раным-рано надо быть завтра на важной экспертизе.
Когда вернулись в гостиницу, Люси сказала:
– Почему ты всегда за меня решаешь – «Люси у-стала»?…
– Почему же ты не сказала, что готова шляться хоть до утра?
– Шля-ться!.. Оставьте эти ваши солдатские словечки, я не привыкла к ним. Приехать в Москву на какие-то там два дня – и торчать в номере!
Он сказал сдержанно.
– Я не привык к содержанству. На ночное шлянье по кабакам у нас нет средств, ты это прекрасно знаешь!
– Пустяки какие… – повела Люси обнаженными плечами, раздеваясь перед трюмо. Мы здесь гости, и Машеньке доставляет удовольствие. У глупышки головка закружилась, неужели ты не замечаешь?… Почему немножко и не пошутить!..
– Может быть и еще у кого-то закружилась?…
– Мо-жет быть… – сказала Люси насмешливо, любуясь собой в трюмо. – В господина Ростковского вот влюбилась. Разве я не могу влюбиться?…
Полураздетая, возбужденная шампанским и коньяком, она перебежала к нему и села на колени. Такой он еще не видел ее, требующей его любви. Эти два дня в Москве она стала совсем особенной.
– Кто эта интересная блондинка, а?… – шептала она, кусаясь, – скажи, я не ревную… прежняя твоя, да?… Врешь, знаем мы эти «подружки детства…» Чтобы из деревни, така-я!.. И все-то в тебя влюбляются… о, синеокий мой… только мой, да?…
Уехать утром не удалось. Приехала Машенька и увезла к себе завтракать. Не было никого, но стол поражал «безумством», – даже Люси сказала. Роскошный омар, доставленный от «Эрмитажа», лежал… на плато из роз!
– Твой любимый! – захлопала в ладошки и завертела Бураева. – Я все твои вкусы знаю, все, все!..
Она была в прозрачном кружевном капоте цвета сомон, с дерзким разрезом сбоку. Когда присела к нему, капот открылся, и он увидал в смущеньи розово-смуглую коленку. Личико египтянки, с легким пушком над губкой, влекло его. Ищущие его глаза, подернутые негой, кричали ему так ясно… И то, что влекло его к женщинам, – ласкающая нежность, в аромате цветов-духов, – так и играло в ней. Это была изящная маленькая женщина, веселая, живая, простодушка. Она взяла его руку и, шлепая по ней детской своей ладошкой, шепнула нежно:
– Я буду о-чень скучать, о-чень… Можно к тебе приехать, скажи? Чего ты смеешься… думаешь, шучу? Странно тебе, что я так прямо?… тебе Люсик что-нибудь сказала, да? что она тебе сказала?…
Люси в комнате не было, ушла говорить по телефону – поторопить портниху. Бураев не успел ответить, как Машенька обняла его за шею, и потемневшие вдруг глаза сказали ему так страстно, что он потерял над собой власть и обнял ее, шепнув:
– Пиши мне на полк… когда?… в монастыре остановишься, за городом, приеду…
Вышло это «налетом». Мелкнуло – «да что я это!» – но он увидал смуглую полоску тела, призывающие его глаза… обнял ее за талию, подавшуюся к нему так бурно, и они начали танцевать танго. Вернувшись Люси захлопала:
– Стеф-то наш разошелся!..
– Степочка переводится! – заявила с чего-то Машенька. – Дал слово!
– Ничего подобного!
Бураев сконфуженно поглядел на Люси. Она что-то записывала в блокнотик.
К отходившему в десять вечера курьерскому приехали провожать Машенька и Ростковский. Когда тронулся поезд, Машенька крикнула, посылая воздушный поцелуй:
– Непременно в «ваш монастырь» приеду!
Ростковский не провожать приехал, а по делу: забыл передать для вручения несчастной Малечкиной триста рублей, собранных для нее знакомой молодежью.
– Совсем из головы вон! – конфузливо извинялся он, вынимая три радужных из туго набитого бумажника. – Не откажите, Людмила Викторовна, передать, совершенно не помню ее адреса.
Люси поблагодарила взглядом.
Поезд гремел в лесах, когда, оставив синюю лампочку, улеглись в белоснежные постели международного вагона. Бураев потребовал с себя отчета. Так его научил отец: «выстрой, что было за день, и – „по порядку номеров, расчитайтесь“!» И когда выстроил все, что было в эти два чадных дня, так и назвал Бураев, – им овладело омерзение. Пьяный он, что ли, был? Конечно, пьяный. Пьяный с утра до вечера, – и телом, и душою, – противно вспомнить. Шлянье по ресторанам и кабакам, разжигание похоти, – вот что было. Люси совершенно опьянела, отчудилась, – и скромная жизнь покажется ей теперь ужасной. Она уже и без того скучала. Ухаживали за ней настойчиво, нахально. И этот хлюст-адвокатишка, и кавказский банкир, хитрюга, и вся та мразь, подносившая ей стишки и говорившая пошлости… даже прилипшая к ней артистка. Люси потрясающе красива, а эти еще наряды, цветное шелковое белье…
Бураев пригляделся. Люси лежала, заложив голые руки за голову, откинув плюшевое одеяло, – жарко было натоплено. Он долго всматривался в нее, и ему все казалось, что тело ее поводит дрожью.
– Люси, ты не спишь?
Он видел, как она вздрогнула и быстро прикрылась одеялом.
– Так, дремлю… – сказала она устало.
– Думаешь о Москве… Покойной ночи.
– Покойной ночи, – сказала она, зевая, равнодушно.
Конечно, думает, вся – в чаду. Его обидело ее равнодушное «покойной ночи», совсем чужое. И не ответила, что думает о Москве, не стала спорить. Теперь их средства покажутся ей несчастными, а его служба – жалкой, это и раньше чувствовалось, а после хвастливой болтовни московской!.. Бураев с раздражением вспоминал, как спрашивали Ростковского: правда ли, что получит за какой-то «алтаевский процесс» чуть ли не двести тысяч. – «Ну, не совсем так… – поправил кокетливо Ростковский, – с небольшой добавкой в три процента с выигрыша». – «А велик выигрыш?» – «Да наверняка-то набежит, пожалуй, миллиончикам так… к семи». Бураев с отвращением вспоминал, как он почувствовал себя маленьким, ничтожным в глазах Люси, – так она удивленно слушала. А это швырянье деньгами без счета, шампанское, как вода! Разврат. И только подумал это – «разврат», съежился от стыда, ярко себе представив ужасную сцену с Машенькой. Это бродило в нем целый день, и он утаивал от себя, как обольстительное и гадкое. Но теперь, при «подсчете», в трезвом грохоте поезда, перед милой его Люси, которую он безответно любит, это предстало пред ним, таким безобразно голым, таким преступным, что он сжал себя за голову и застонал от боли.
– Стеф, что с тобой… проснись!.. тревожно окликнула Люси.
– А… ничего… – с глубоким вздохом ответил он. Она все еще не спала, все думала. Нет, это навождение! Указал ей на монастырь, желал ее!.. Путаться с Машенькой, – она чудесна, как женщина… – и любить, страстно любить Люси?! И женственно-мягкий облик маленькой и веселой «египтянки» с русскими, серыми глазами, льнувшей к нему так нежно, дышавшей такою лаской, вызвал в нем грусть и радость. «Держи и держи себя, не распускай… что бы ни случилось – воли не выпускай!» – мысленно, как монах молитву, прочитал про себя Бураев заветное свое правило. И сейчас же решил – написать Машеньке, объяснить ей свое душевное, что любовь его к ней – другая, что она для него… – подумал восторженно Бураев, – словно и мать, и женщина, – сердцем он это чувствует, – и случись с ним большое горе, к ней он придет за лаской… что было бы бесчестно перед Люси, которую она так любит… что в чаду это все случилось, и надо с собой бороться.
«Если бы обманула меня Люси?…» – поглядел на нее Бураев.
Одеяло было откинуто, и голубовато-мраморная нога Люси, обнаженная до бедра, выкинулась за край постели, а роскошные руки-изваянья были закинуты в истоме. Он представил на месте себя – другого, представил Люси такой… – и задохнулся.
– Люси… – нежно позвал он шопотом. Люси не шевельнулась, но Бураеву показалось, как дрогнула обнаженная нога. Он тихо опустился на колени, прильнул губами.
– Люси…
Она дышала ровно, спала. Он прикрыл ее одеялом и долго сидел и думал, сторожил ее сон – не сон.
После чада Москвы потянулись дни трезвые – работа в роте и подготовка к экзаменам. Он написал Машеньке письмо, полное неясных излияний, – рождались они неожиданно, как из влюбленности. Он называл ее самыми неясными словами, наделял достоинствами чистой из чистых женщин, умолял не строго судить его за «ту дерзость», сказанную в чаду… объяснял свой поступок «страстью, которая вспыхнула, как пожар, от ее странных чар, от ее женской ласки, особенной ласки, в которой он вспомнил что-то…в которой чувствовалась ему и мать и женщина». «Прошу вас, забудьте, не приезжайте… поймите меня, у меня Люси…» «Да, я знаю, – заканчивал он письмо, – теперь знаю, что люблю вас по особенному нежно, что вы мне дороги, что… скучаю по вас и – странно! – только о вас и думаю…»
Она прислала ему на полк коротенькое письмо – ответ:
«Милый, зачем – „вы“? Все равно, я – твоя, ты – мой. Ты будешь мой. Я не святая, и не вовсе дурная, а так… Называли меня в гимназии – „весёлка“, веселая! И не любила по настоящему. А что такое – по настоящему? ты знаешь? Кажется мне, что ты вот и есть „по настоящему“. Целую твои глаза. Я плачу…»
Его не удивляли резкие перемены настроений, которые замечал в Люси. Это и раньше было. Нет у ней никакого дела, и это ее нервит, и винить за это ее нельзя. После успеха с чтением у ней закружилась голова, все в нее влюблены, конечно… а прилипшая к ней артистка пишет такие письма, любовникам впору разве… Иди и иди на сцену, это священный долг!.. Все уже подготовлено, студия ее ждет, дело только за ней – приехать что-нибудь прочитать директору…
Это Бураева смущало. Переводиться надо? Отказать он Люси не мог.
Надо было решать, и он написал Осанке. Тот с промедлением ответил, что надо выждать, когда Гейнике назначут или бригадным, или, пока, командиром… го полка, что очень вероятно, но раньше конца маневров вряд ли. Люси нервила, размолвки их становились чаще. Первый крупный раздор случился из-за «несчастной» Малечкиной. Люси пришла от нее в слезах.
– Что за ужасные людишки!.. – рассказывала она Бураеву. – Эксплуатировать так высокие чувства человека… Бросил свои дела, душу вложил, вырвал чудовище из ямы, собрал среди молодежи деньги, а эта гадина… Застала ее в такой… такое пьянство, дети в каморке, а она канканит с какими-то «котами» в малиновых рубахах… я не знала, как выскочить! Она меня изругала самыми последними словами, когда я заикнулась, что хочу видеть ее детей. Соседи уже проводили меня из ее трущобы… Говорят, не давайте, «все на „котов“ прожрет». Придется написать адвокату, куда эти деньги… Отобрать от нее детей?… Я измучилась, довольно… – и она вышвырнула деньги.
– Нечего тут наивничать! – резко сказал Бураев.
– Ваш адвокат с «высокими чувствами»… хлюст известный, и ему наплевать на все!.. И вытащил вашу Малечкину из каторги для общественного скандала и своего дешевого честолюбьица… да! Есть болваны, которых ловят на «высоких чувствах», а болваних и подавно. Убедились? Покрасовался молодчик перед дурами с куриными мозгами, «привлек симпатии», сорвал апплодисменты, воздушные поцелуйчики… купленные газетчики расписали… а он, герой, прикрылся «вы-со-кими чувствами»!.. Деньги собрал… прибежал-запыхался на вокзал… «ах, забыл самое важное… для несчастной женщины»! Убедились?… И очень рад.
Люси презрительно-дерзко слушала.
– Я всегда считала тебя солдатом! – сказала она и вышла.
– Это верно! – крикнул он ей вдогонку. – Последний мой солдатишка в роте честней брехунов продажных, ваших!.. Честней ваших…! – вырвалось у него «словечко». К ним ступайте… как раз подмасть!..
– Ро-мантик!.. – крикнула она за дверью.
Два дня не говорили, и опять наступило примирение. И снова размолвка, посерьезней.
– Я завтра еду в Москву, – сказала Люси решительно: дело было на Рождество. – Меня принимают в студию.
– Вот как!
– Остановлюсь у Машеньки. Странно, почему ты так медлишь с переводом? Я берусь устроить… можно? Через две недели ты получишь роту в… полку!
– Вот как?! Ты почти всемогущая. Кто же так ворожить умеет?
– Не все ли равно, кто! Скажи, и…
– Не скажу. Кто это так возлюбил… меня? и за что?! Нет, ты не вертись! Теперь, я, я тебя спрашиваю!.. И ты мне должна ответить.
– Ну… Машенька хлопочет! – сказала она с усмешкой, – через своего всемогущего Джугунчжи.
Бураев пристально посмотрел в глаза.
– Неправда, Машеньку не припутывай… она прямей! Со мной не играй. Я тебя спрашиваю – кто?… какая гадина-шпак смеет совать свой нос в мое продвижение по службе?… из каких видов?!.. Нет, ты ответишь мне!.. – в бешенстве крикнул он, отталкивая Люси от двери. – Ответишь! Кого ты смела просить за меня, за жалкого солдата, прозябающего в дыре?…
– Я же тебе сказала… И потом, я не привыкла, чтобы на меня кричали! Оставь эту… дикую манеру!..
– Оставил.
Он ушел в полк и вызвал по телефону Машеньку. Они беседовали часто, особенно в дежурство.
– Я тебя понимаю, Степанчик… – пела в телефон Машенька, – ты прав, я не посмела бы хлопотать, не спросясь тебя. А кто… право, не знаю точно. Целую тебя, гордец. Ты мне не позволяешь приехать… Ну, сделай для меня, приезжай с Люсик, хоть на один денек, на елку!.. Нет денег, какая глупость… Что, нельзя? Даже от «миленькой» нельзя?… Ну, Господь с тобой.
Вернувшись после занятий, он застал Люси в спальне: она примеряла черное шелковое платье, в котором собиралась выступить «на экзамене».
– Ты солгала, как я и предполагал! – сказал Бураев железным голосом. – Кто?…
– Что – кто? Я ничего не понимаю… – сказала она, вертясь заботливо перед зеркалом, словно не было ничего серьезного; но по косившему ее глазу с милой и ненавистной бровкой, Бураев понял, что в ней тревога.
– Кто?!.. – повторил он тем же железным голосом, с ненавистью любуясь ею, тонкими стройными ногами, обтянутыми юбкой.
Она расхохоталась ему в глаза:
– Да что ты ко мне пристал!.. Правда, идет ко мне… черная бабочка какая?… – отмахнула она рукав. – Ну как же… едем?
Это его взорвало.
– Театральности эти к чорту! – крикнул он, подходя вплотную. – Я спрашиваю вас – кто?!
– Ударишь?… – повела она вызывающе головкой, и загоревшиеся презрением черно-матовые глаза ее, с этим туманцем неги, покорявшим его всегда, поразили его холодностью.
– Я знаю, кто хлопочет! Этот прохвост, этот!..
– Сло-вечко!..
– … молодящийся жеребец во фраке, мерзавец, болтун и лгун! Молчи, мы не в театре, помни! И знай… – погрозил он пальцем, сдерживая себя, чтобы не ударить по смеющемуся лицу ее, – лучше… предупреди! уйди!!.. Нового… захотела?!..
Она зажала уши, в отвращении, в ужасе.
– У-бью!.. Я не Краколь, ничтожество… убью!..
Взглянул на нее и – новую в ней увидел, и с болью упал к ногам, обнял ее колени.
– Люси… прости, Люси… я не сознаю… я весь истерзан… прости!.. Святая моя, прекрасная моя… богиня моя… чистая моя!.. Себя убью, Люси!..
– Сумасшедший… Стеф… это безумие, Стеф… – шептала она, страдая, тиская его голову. – Красавец мой, безумный… что выдумал!.. Так оскорбить… за что? Для тебя, порвала со всеми… Я же для тебя… Причем этот адвокат?… что он мне!.. Как тебе не стыдно… мне писала подруга из Петербурга, ее муж в главном штабе… и это она сама предложила мне… если тебе понадобится… могу показать письмо!..
Выход был найден – в страсти.
На другой день Нового Года, встреченного невесело, не в кругу полковых товарищей, как раньше, а дома, с Васенькой Шелеметовым и конфузливым Куличком, Бураев сам проводил Люси, терзаясь и сдерживая себя. Она обещала вернуться дня через два, – «а там, если устроится, мы решим». Что же решать, – решили! Студия, будет у Машеньки, иногда будет приезжать. И он – иногда будет приезжать.
Она вернулась через три дня, в четыре часа утра, курьерским. Какое горе, она потеряла шапочку… стащила какая-то дама по вагону! Мороз был за 20 градусов. Как розовая льдинка, в розовом своем капоре, она стремительно кинулась на шею и, прямо, задушила, когда он открыл ей дверь. Огненная она была, с мороза, и запросила вина, вина…
В студию ее приняли с восторгом, успех огромный! Работы бездна, но она так счастлива… – и она откидывалась в качалке, в неге. В любви – доходила до безумства, и что-то в ней было новое. Что-то в глазах, другое, – мечтанье в неге. И в голосе – новая певучесть, слабость. Когда он ласкал ее, гладил ее мохнатки-бровки, она стала бодаться бровками, чего он не знал еще, искривила в истоме губы и зашептала томно, закрыв глаза:
– Не надо… лучше скажи… «медве-дики»… «шелковые мои, мои мишки-медведики…» они дрему-у-чие у меня, ведь, правда?…
И он, радостный, повторял – «медве-дики… милые мои медве-дики…» – и прикусывал с ее губок вишни, пьяные вишни, от Альберта.
Два дня пробыла она, увлекая его на тройках за город. Крепко морозные были ночи, в искрах и стрелках инея. В кудряво-седых березах по большаку, в хрусте и скрипе снега, под месяцем туманным, дальним, круглым, как яблочко, мчались они в просторах, ища чего-то, рвали из ночи ласки.
– Ах, Люси!..
– Ми-лый…
– Скоро уедешь…
– Ми-лый…
Дурманило новыми духами – «10–20», «божественными»: «dixvingt». Сладкие они были, вязкие. Раньше она душилась ландышем. Привлекая его к себе, укрывая мохнатой муфтой, подарком добрячки-Машеньки, Люси шептала:
– Стеф… пожалей меня…
– Разве ты так несчастна?… – спрашивал он, страдая.
– Бабы так говорят – «пожалей»… приласкай!
Новые были у ней слова, новое что-то в тоне, новый, далекий, взгляд, словно она – не здесь. Студия так меняет?… И то, что почувствовал в ней тогда, в жарком купэ вагона, когда спала-не спала она, в чутком оцепенении, что томило его тревогой, чувствовал и теперь Бураев – в дрожи ее объятий. Не та Люси?… И – как-будто, вернулось то, что казалось почти забытым: первые дни свиданий, весенних, страстных.
Она приезжала аккуратно, каждые две недели, – дарила страстью. Заглушая тоску по ней и рождавшуюся порой тревогу, он все дни проводил в полку, а ночами сидел над книжками. Надо было платить долги. Какой-то скорняк Ловягин подал счет на пятьсот рублей – за муфту, боа и шапочку! А Люси говорила – уплатила. Пришлось написать отцу. Приносили счета из лавок, троечник приставал «с расчетцем».
Машенька умоляла: «тебе тяжело, я знаю… прими от меня, взаймы!» Он отклонил шутливо: «миленькая, не в деньгах счастье!»
Пришло неожиданно письмо, от Ниды, тронуло задушевностью. «А я все об вас мечтаюсь, дорогой Степочка, уж простите, привычно так. Скушно мне без вас стало, как встретились. Навестите вашу навеки Нидочку». И так захотелось к ней, показалась такой родной… Подумал: «была бы верная, до конца, „без грима“». Было еще в письме: «Бывает с человеком, вот затоскует-затоскует, заноет сердце! Когда приключится грусть, вспомните обо мне, Нидочка вас приветит». Он ответил ей сдержано: будет в Москве – заедет. Подумал – и приписал, что целует мягкие ее ручки, – «помнишь, играли в шлепанки?» – что очень рад, получилось письмо в тяжелую минуту.
В студии очень ладилось: «через годик и публике покажут, все от меня в восторге».
Пасху пробыли вместе. Торопилась на Фоминой: «идут репетиции, к экзаменам… В. до безумства строгий, такую горячку порет!» Но он упросил остаться: весна какая! Смотрели разлив с обрыва, как медленно отходили воды, как розовые стекла отставших луж нежно мерцали на закате.
Прошла и Фоминая. Он умолял – останься!
– Что же тогда… бросать?!.. Что за… ребячество!..
Буйно цвела черемуха. Начинали венчаться вишни. Тихие вечера томили. Тихая, грустная Люси нежно белелась на обрыве, смотрела в даль. Накануне ее отъезда Бураев опять сказал:
– Ну, хоть один денечек… скоро уходим в лагерь?…
Прошла неделя. Все уже распускалось. Лиловатые елочки сиреней осыпали вершинки. Желтые «бубенцы» пышно сияли в вазах. Телеграмма из студии: «десятого экзамен, будьте».
– Ну вот, и напоминание… так это неприятно. Проходим Чехова, через меня задержка! В. ужасно требователен… – говорила Люси взволнованно. – Завтра я непременно еду.
И она побежала отправить телеграмму. Пришел Валясик.
– Пакеты отправил, ваше высокоблагородие. Вот, энтот на почте письмецо велел барыне обязательно на руки отдать, а их нет. Извольте вам.
Бураев взглянул, и сердце его пропало. «До востребования, Л. В. К.» – твердым, красивым почерком, – мужским! «3десь» – сказало ему письмо. Он сидел у стола и барабанил, а письмо говорило: здесь!
Люси, наконец, вернулась. Снимала в передней шляпку.
– Была на почте… – сказала она устало, и Бураев в глазах увидел… – Письмо мне, кажется… передали Валясику на почте?… Дай-ка… – увидала она конверт, которым помахивал Бураев.
– Искал вас, бариня, а вас нет… – сказал из двери Валясик, – барину передал.
– Как же ты смел, дурак!.. – крикнула на него, не помня себя, Люси.
Бураев помахивал конвертом.
– Виноват, бариня, простите… – смущенно осклабился Валясик, – по мне, что барин – что бариня… – и понуро ушел на кухню.
– За что ты его назвала дураком? – сказал, сдерживая себя, Бураев. – Он честный, верный солдат и предан мне, как друг! Больше, чем… Под пулями носил мне есть, ночи возле меня сидел, когда валялся я в лазарете!.. Если я его иногда ругаю, он знает… и прощает, дружески… и я ему многое прощаю! Вот твое письмо. Разве, здесь, тайны, от меня?… «До востребования»?… Не знают адреса?…
– Значит, не знают! Отдай письмо… – возбужденно сказала она, протягивая руку.
– Но… я хотел бы знать – от кого?…
– Насилие?… – выкрикнула она, – сейчас же извольте отдать письмо!..
– От кого?… – повторил Бураев, не сводя глаз с менявшегося лица Люси.
– Отдайте сейчас письмо!.. – истерически крикнула она.
– Теперь… не дам! – чеканя слова, твердо сказал Бураев. – Да, на-си-лие… говорят в вашем обществе. Но я – грубый солдат, что делать! Я знаю, что в этом… «секретном» письме – меня касается!.. – выговорил он медленно в округлившиеся ее глаза. – Готов держать пари… – За насилие отвечу. Валясик, револьвер!.. – крикнул Бураев, бросая письмо на стол. – Не трогайте!..
– Стеф… – прошептала Люси, бледнея.
– Не волнуйтесь. Сейчас поймете.
– Какой прикажете, ваше высокоблагородие? – спросил за дверью Валясик.
– Ну… казенный, наган… не знаешь!.. – крикнул Бураев раздраженно. – Пройдите в спальню, – приказал он Люси, уткнувшейся в портьеру.
Она не шевельнулась. Он взял ее за руку, и она покорно пошла за ним. В спальне он запер окна и встал у двери. Денщик подал ему наган.
– Ступай, чего ты?… Жди там!.. – крикнул на денщика Бураев!. – Марш!
– Слушаю, ваше высокоблагородие! – и денщик ушел.
– Что вы хотите?… Ради Бога… Стеф!.. – шептала Люси, мертвея, – за что ты хочешь меня…
– Не вас. За «насилие над личностью» заплачу. Можете быть спокойны. Письмо я вскрою. И если я… если не касается моей че-сти… расплачусь. Честно, до конца. Довольно этого… – не находил он слова. – И тебя я мучил, и сам измучился… довольно!
– Не хочу! не хочу!.. – закричала Люси, хватаясь за голову. – Умоляю тебя… Стеф!..
Он разорвал конверт:
– Стеф!..
– Ты боишься?… письмо не задевает меня?… жалеешь?!.. знаешь, что я сдержу?…
Она вцепилась и не пускала руку. Он оттолкнул ее. Она уткнулась лицом в подушки. Было всего три строчки: «Зачем, так, мучаешь? Послал, четыре, телеграммы, получил, твоих, две, только! Когда, же?… Где, же, слово? забыла? Бешено, целую, жду… А.»
Он читал однотонно, рубя слова. С каждым словом голос его снижался, и последнее слово – «А» – он произнес, как вздох.
Наступило молчание. Через это молчание взрывами прорывались всхлипы. Бураев вздохнул, поглядел на кушетку, где билась Люси в подушках.
– Так… – как во сне, произнес Бураев. – Судьба. Платить не придется за… «насилие»… Слышали, что вам пишет любовник А.?… Может быть есть и В.? – с горькой усмешкой продолжал он, – и В., который «ужастно тре-бователен»?… требует вас к… экза-ме-ну?!.. Хорош «экза-мен»! И потому… можете быть за меня спокойны. Дайте сюда «четыре телеграммы».
– Стеф!.. – умоляюще вскрикнула Люси, сжимая руки, – клянусь тебе!.. это ложь, это… кто-то чернит меня, клянусь самым…
– Четы-ре телеграммы! – повторил он.
– Я ничего не помню… это мистифи…
– Последний раз – четыре телеграммы?… Валясик пойдет на почту, с моим письмом, за справкой… В городе, где все знают все, вы не постеснились получать тайно телеграммы и письма… бегали за… Четыре телеграммы!..
– Но, Стеф!.. Я их разорвала… ничего там… обыкновенное увлечение… самый невинный флирт…
– С «бешенством» поцелуев?… Последняя… порядочнее вас, а я называл вас своей женой… и потребую не как за проститутку!.. Кто этот А.?
– Клянусь, не было ничего… Стеф!..
– Не было и телеграмм, клялись!.. Кто?!..
Она, наконец, сказала. Что тут особенного, самый невинный флирт! В нашем кругу – обычно. Да, он за ней ухаживал, рассчитывая, может быть, на легкую победу, бомбардировал письмами, не раз получал отпор…
– А вы так рвались к нему – «на экзамен»!.. трепали хвосты за телеграммами, за письмами «до востребования»! Он вас «бомбардировал»… даже военные термины усвоили!.. А теперь пойдут юри-ди-ческие?!.. У, энциклопедическая…!
Ее полоснуло, как нагайкой. Она вскочила и топнула:
– Как ты смеешь, сол-дат… мужик! Где у тебя доказательства?!.. где?!.. как ты посмел так оскорбить меня, как последнюю…?! Где доказательства моей измены?!.. где?!..
Она уже не говорила: она кричала дерзко, самоуверенно. Округлившиеся от страха, мутившиеся глаза ее теперь смотрели жгучими «вишнями», налитыми игравшим соком, с искорками огней. Он чувствовал ее ложь и наглость, верткость и развращенность, – в тонком изгибе губ, в судорожном дрожаньи пальцев, в поднятых на него бровях-мохнатках, в которых – что-то, дремучее, темная тайна женщины, в маленьком, детском лбе. Этот маленький, ясный лоб, резко подчеркнутый бровями, в девственности своей казался особенно развратным, лживым. С ненавистью и болью смотрел на нее Бураев, стараясь сдержать себя: страстно ему хотелось убить, задушить ее, – и заласкать до смерти.
– Где доказательства?!..
– Молчи! – крикнул он, хватая наган и – остывая.
Боясь, что сейчас случится – чего уже нельзя исправить, он вышел в сад. Было темно, шел дождик, шуршал по листьям. Было тепло, парно березой пахло, горечью наливавшейся сирени. В невидной пойме краснел угольком костер. И таким одиночеством, такой пустотой охватило Бураева в этой унылой ночи!.. Он поглядел на окна. Розовый свет от лампы толкнул его, показался бесстыдным, грязным, – светом притонной комнатки, взятой на полчаса, – бывший его уют! Он пошел от обрыва, чтобы не видеть света. Тыкался по кустам сирени, по вязким лужам. И вот, в тишине разлился гром соловьинной трели. С мокрых кустов в овраге сыпало страстным щелканьем, сладко томило болью.
– Стеф!.. – услыхал Бураев тревожный, молящий шопот.
«Довольно, кончить… все ложь и грязь!» – сказал он себе.
И не ответил на повторенный оклик. Ничего не решив, чувствуя, что решилось, он вошел в комнаты.
– Стеф, пойми же!.. – начала умоляюще Люси, но он оборвал ее:
– С вами, все, кончено! с ва-ми!.. Берите ваши тряпки и… вон отсюда! – крикнул он, в бешенстве. – Ваши «полчаса» кончились!..
– Как вы смеете оскорблять!.. – вскрикнула она дерзко-гордо, но он заглушил ее:
– Молчать!.. Запритесь в вашей поганой спальне, чтобы я!..
У него оборвался голос. Он схватил со стола фуражку и револьвер и выбежал из дома.
В забелевшем рассвете, в моросившем опять дожде, он увидал себя на шоссе, на седьмой версте. Место было высокое. Впереди, за отлогим спуском, белел монастырь по горке, спускавшийся белыми стенами. Справа, внизу, курилась туманом пойма, река дымилась, и длинный товарный поезд пыхтел, направляясь к городу. Проводив его красный глаз, Бураев опять пошел. Дошел до монастыря, остановился перед гостиницей, где любились с Люси зимой. Подумал – зайти, уснуть? Знакомый служка раздувал на крылечке самовар, пахло дымком приятно, сосновой шишкой. В монастыре звонили, кричали грачи на кровлях.
– Заходите после обедни чайку попить! – крикнул приветливо монашек. – С тепленькими просвирками…
Бураеву захотелось чаю после бессонной ночи. Он ничего не сказал и вошел в монастырские ворота. Зачем он сюда попал? – спрашивал он себя, четко стуча по плитам. И шел к собору. Главный собор был заперт. Монах-садовник, сажавший маргаритки, указал ему низенькую церковь:
– Раннюю-то у нас в «зимней» служат.
В низенькой церкви шла ранняя обедня. Одиночные темные фигуры стояли по простенкам. Когда Бураев вошел, иеродиакон читал Евангелие. И первое, что услыхал Бураев, давно не бывавший в церкви, были слова Христа: «встань, возьми одр твой и ходи». И дальше, в самом конце, услышал: «… не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Слушал он с удивлением – и отнес к себе.
«Возьми одр твой и ходи»… «Не греши больше, чтобы не случилось чего хуже»!..
Его умилило это. Показалось, что не случайно вышло, что нежданно попал сюда. Что это, – знамение?
В «знамения» он верил, хоть и таил это от себя. Верили все в роду. Мама знала, что она умрет молодой, – было такое знамение. И дед по отцу, Авксентий Бураев, кирасир, сказал секундантам на дуэли, за «цыганку»: «друзья, прощайте! помните – панихиду с певчими!» – и подмигнул прощально. И у отца – свои знаменья. Он дважды «угадывал», что будет ранен, «но это все пустяки, а впереди еще будет много!»
«Разве уж так я грешен?» – подумал с усмешкою Бураев и быстро пошел из церкви.
«Все это дряблость воли, старые выжимки. Надо крепче держать себя и действовать!» И ему стало стыдно, что подчинился какой-то воле, зачем-то пришел сюда и ищет каких-то «знамений». Помнилось – где-то читал в романе, что такой же, как он, «несчастный» тоже вдруг очутился в церкви, и тоже случилось «знамение».
– Потерять голову, от любви?… К чорту!..
Приостановился перед гостиницей, подумал – не зайти ли: хотелось чаю. Чудилось опять «знамение»: приезжали сюда с Люси, и вот, привело теперь, словно нарочно – ткнуло!
«Что это – грех то было, и должен сознать его? Потому-то и привело?» – с усмешкой опять подумал – и не вошел. Старенький служка его окликнул:
– Что больно скоро, не помолились-то?… Чайку бы зашли попить!..
Бураев махнул рукой. И опять его поразило, когда старичок – такой-то веселый старичок! – крикнул ему вдогонку.
– Отчаянный вы народ, господа военные… а отчаиваетесь!.. Эх, под дождичек – да чайку попить!..
И так добродушно засмеялся!
Вспомнил Бураев, как этот же самый старичек ласково угощал их чаем, тогда, зимой… принес монастырского медку и все любоволся ими. Такой-то любопытный, все спрашивал: давно ли поженились, да есть ли детки, да ладно ли живете… Очень ему понравились. Такой простодушный старичок, душевный. И в голову не пришло ему, что приехали для «греха», а не семейно. Добрый старик, житейский…
И вот – «отчаиваетесь»! И странно, в этом почувствовал Бураев «знамение»: значит – нечего принимать всерьез.
Он пошел бодро, походным шагом. Под откосом шоссе, налево, его обогнал товаро-пассажирский поезд.
«Пожалуй, уедет с этим», – подумал он. – «Если не было ничего – должна подождать меня, не захочет уехать так, не объяснившись. Скорый проходит в десять, а сейчас семь… застану».
Моросил дождь, как ночью, и ехавшие в город мужики глядели из-под рогожек, как офицер в майском кителе шлепал по шоссе, по лужам в такую рань. Иные предлагали:
– Ваш благородие, подвезу! Чего на дожжу-то мокнешь!..
Но он упорно шагал, как бывало, шагал в Маньчжурии.
Люси уехала, и Бураеву стало ясно: было!
– Очень торопились, – сказал Валясик, – один всего чимадамчик взяли.
Постель была в беспорядке. В столике оставлена записка, наспех: «Измучилась, бегу от кошмара, прощай. Л.»
«Бежала под защиту… Но ведь я же ее прогнал!..»
Он старался и отыскать подтверждения, что – было и тут же и опровергнуть их.
«Если – да, зачем же ей приезжать ко мне? Написала бы, ну… прямо открылась бы, сказала… мы же не связаны… Прожила три недели?… Но бегала же ко мне от мужа?… Я сам оставил ее тогда, а то продолжала бы! А он вот не оставил…»
Нет, к чорту!
Он приказал Валясику принести дорожную корзину и бешено стал швырять в нее все – ее, что попадалось под руку: белье и платья, шубку и пустяки. Швырял и давил ногой. Швырял и думал, в ожесточении, – «вот ее… зажитое». Вытряс все ящики комода, все картонки – шляпки, цветы и перья, духи и тряпки, чулки, вуальки, какие-то коробки, корсет, перчатки… «Вот ее, за-житое!» Увидал изорванное письмо – клочочки, застрявшие в щелках ящика. У него задрожали руки… Почерк был тот же самый!
Он разложил на столике, но клочочки все разлетались, от дыханья. Мелькали разорванные слова – «бровки, мои „медведики“»… «и всю тебя, Лю…» «и пахнущие гиацинтом…» «летели мы на вокзал… твоя шапочка вдруг слетела…» «и бархатные твои кол…»
– Вот!.. – крикнул Бураев, захватывая воздух, – вот… Не мог уже говорить, перед глазами пошли круги.
– Селезнев из роты пришел, ваше благородие! – доложил Валясик.
– Дозвольте доложить, ваше высокоблагородие… – услыхал Бураев голос своего вестового Селезнева, – господин фельдфебель послал спросить…
– Сейчас!.. – крикнул Бураев, схватив клочки.
Сделав распоряжения, он приказал Валясику завязать корзину, дал адрес Машеньки и велел сейчас же сдать багажом на скорый. Умылся, переоделся и пошел в роту на утренние занятия, последние перед уходом в лагерь.
Встретился почтальон и подал ему письмо, от брата Павла. Бураев тут же и прочитал. Подпоручик писал, под большим секретом, что в его жизни наступил важный перелом, дальше он ждать не может… Одним словом, он женится, и надо достать пять тысяч для реверса, а ждать до 28 лет – целых еще два года! «Пожалуйста, подготовь папу, мне как-то совестно объявить ему». Заканчивалось восторженно: «Если бы знал, как она прекрасна! Только через нее постиг я, что такое истинная любовь, что такое для меня – женщина! Я не могу без нее… Все равно, если папа не выручит как-нибудь… – я знаю, как ему тяжело, – прийдется оставить полк и поступить куда-нибудь в канцелярию, но это для меня ужасно. Не знаю, что делать, помоги!!»
– Ду-рак! – сказал в раздражении Бураев и смял письмо. – Ах, чудак!
И вспомнил, что отец так и не ответил ему на письмо о деньгах, хоть и прислал поздравление на Пасху и ящик яблок. И стало ему жаль Пашу, которого он любил. «Но почему же не подождать… чудак! Это – „ужасно“?… Чудак».
Перед желтыми зданиями казарм он крепко собрал себя и бодро вошел в ворота, отчетливо принимая честь вытянувшегося дневального.
Вот что случилось в жизни капитана Бураева, в его «семейной» жизни, до того майского дня в дожде, когда получил он в собрании узенький фиолетовый конвертик с нетвердым почерком, с мольбой – непременно придти сегодня вечером на большак, – «иначе меня не будет в жизни, клянусь вам!»
IV
Было не до свиданий. Но заклинающие слова смущали, а случившееся в «Мукдене» самоубийство какой-то красивой гимназистки являлось, как-будто, знамением. И была еще смутная надежда, таившаяся в словах – «вы всё узнаете». Начинало казаться, – и так хотелось! – что есть какая-то связь между этим письмом и – тем.
Вызванный из тяжелых дум окликом своего Валясика – «четвертого половина… в роту, ваше высокоблагородие, не запоздаете?» – Бураев пошел в казармы на репетицию завтрашнего парада. На Большой улице его увидал кативший на паре серых жандармский полковник Розен, остановил лошадей и, звеня шпорами, перемахнул к Бураеву.
– На одну минутку, капитан… доброго здоровья. Мог бы я к вам вечерком сегодня, или мой ротмистр… справочку нам одну?
– Извините, полковник… сегодня-то и не буду дома. А в чем дело?
– Может быть, разрешите, в сквер присядем… самое большее, пять минут? Позволите?…
Полковник, красивый брюнет с усами и – Бураева всегда это удивляло – с Владимиром с мечами и бантом, за военные подвиги, был крайне предупредителен и Бураев позволил, хоть и недолюбливал жандармских. Они повернули в сквер перед присутственными местами и присели на лавочку.
– Вы, конечно, слыхали о вдове Малечкиной, капитан. Так вот… Это могу вам доверить, как офицер офицеру: на днях у нее был обыск. Собственно говоря, она не клиентка наша, а просто…, и к ней захаживают из молодежи. Оказалось, однако, и другое. В задних двух комнатках у нее иногда собиралась здешняя партийная молодежь для конспиративных совещаний… интересное совмещеньице, не правда ли?…
– Но, позвольте, полковник, какое же отношение?…
– Одну секунду… Есть показания… вы меня простите, уверен, что тут, просто, недоразумение, что Людмила Викторовна Краколь – полковник произнес в высшей степени уважительно – однажды была у Малечкиной, хотела ей передать какие-то триста рублей, якобы для детей…
– Простите, полковник… не «якобы», а именно для детей!
– Виноват. Но застала Малечкину пьяной… одну секунду!.. С другой стороны, при сегодняшнем обыске, после самоубийства этой девочки Корольковой, у одного семинариста, постоянного посетителя Малечкиной… и не только из-за «высоких целей», – подмигнул весело полковник, – найдена книжечка, где есть, между прочим, такого рода запись: «от госпожи Л. В. К. – „на просвещение“ триста целковых». Причем – «на просвещение» – с кавычками! Мне не хотелось бы посылать в Москву… Если не ошибаюсь, последнее время госпожа Краколь проживает большей частью в Москве? Может быть вы…
Бураеву было неприятно слушать, и теперь ему было безразлично. Но по тону полковника он понял, что косвенно и его припутывают к делу, и это раздражало.
– Кажется, могу вас удовлетворить, полковник… – сказал он сухо. – Триста рублей при мне были переданы госпоже Краколь адвокатом Ростковским для Малечкиной, которую он защищал здесь… для ее детей. Госпожа Краколь ее разыскала, но не могла передать. Попала в какую-то трущобу, на пьяное безобразие, и соседи помоги ей выбраться. Помнится, она Запрашивала адвоката, как ей быть с этими деньгами, и тот просил передать их на какой-то «кружок самообразования» или… «просвещения»! Здешняя учащаяся молодежь, помнится, подносила ему адрес за оправдание этой дряни, так вот… на кружок. Больше я ничего не могу сказать. Обратитесь к госпоже Краколь, в Москву.
– Жаль, что она уехала… и, кажется, сегодня только? Крайне вам благодарен, капитан, – закозырял полковник, – теперь для меня яснее…
И уже другим тоном, как добрый собеседник и общего круга человек, сказал, что случившееся в гостинице «Мукден» поднимает такую грязь…
– Политика тут перемешана с таким развратом… Что только делается! И не у нас здесь только, а повсюду, по всей России! Не о провокаторах я говорю, они были всегда. Правда, не в таком уж количестве… Нет. Я отлично знаю историю революционного движения, у нас богатейший материал… но, знаете… Достоевский в своих «Бесах» изобразил – пустяки, в смысле грязи и пошлости, и подлости, добавлю! Если бы вам показать наши материалы… нашу конспирацию… на что идут… и про наше общество-с говорю, а не только про «политиков», а-а!.. На ушко скажу вам, как офицер офицеру… десятка полтора господчиков из здешней интеллигенции… у нас работают!
– Ну, это вы, полковник…
– Факт! Из них только трое – по убеждению, когда «убедились» после 905-го и, особенно, после убийства Столыпина. И они – по идее! Прочая сволочь из-за грошей. Грязи накрутилось вокруг ихнего «храма» – я говорю о «политиках»… поверите, противно работать даже! Нас-то, я знаю, презирают в обществе, плевать. Я, – поправил полковник орден, а Бураев подумал – и зачем он его таскает, как «присягу», – по характеру боевик, и здесь работаю, как когда-то работал на фронте, а придется – и буду, – так я с омерзением смотрю и хапаю их пачками, не жалко. Словно не с преступной идеей борешься, а с каким-то политическим… лупанаром, уверяю вас! Есть и идеалисты, знаю, и, как врага, даже уважаю! Боевиков, чорт их дери, все-таки уважаю. А в общем, идея уже давно охамилась, упростилась до хищного и сладостного спорта, начала вонять! И как-будто уже не нам надо бы тут работать, а, просто, сыскной полиции, уголовной. Революционное, былое «дворянство» отходит, идет самый-то пошлый и гнусный мещанин. От господина Горького, революционер-босяк и подлец. Послушайте-ка, что было… как начнет наш отставной генераша Птицын про прошлое вспоминать…
На перекрестке они расстались. Бураев повернул на Нижнюю Садовую и только собирался выйти на Косой Тупичек, к казарменному плацу, как из углового домика, со двора, вывалилась кучка чиновников казенной палаты, а одновременно из парадного крылечка вышел знакомый Бураеву по дворянскому клубу статский советник Соболев, начальник отделения палаты, и на минутку остановил.
– Слыхали? Дочурка нашего Королькова, моего столоначальника, застрелилась!
– Да, слыхал. Что за причина?
– Причина… Удар старика хватил, помрет, должно быть. Причины никто не знает, отыскивают, и столько грязи разворотили…
Бураев взглянул на домик, с дощечкой на воротах, которую знал отлично, – каждый день проходил здесь четыре раза, – «Дом Коллежского Ассессора А. А. Королькова», и вспомнил слова поручика. Так вот кто это! Он вспомнил красивую девчушку, с карими ясными глазами, с косами, перекинутыми на грудь: она часто смотрела на него в окошко, и он всегда любовался чудесным цветом ее лица – словно из нежного фарфора. Так вот это кто, Лизочка Королькова!
Бураев искренно посочувствовал и вспомнил о фиолетовом письмеце. Неужели это она? Показалось вполне возможным. По словам Шелеметова, она, очевидно, интересовалась капитаном, спрашивала – «почему он такой суровый?» Письмо могло быть написано и вчера, а девчонка подала сегодня… Вчера он не мог придти, и она застрелилась: «иначе меня не будет в жизни»! Но… причем тут семинарист, гостиница, недопитая бутылка с коньяком, как говорили?… И подписано буквой «К»…
«А может быть хотела искать у меня защиты?» – подумал он. – «Запуталась как-то, никого нет, кто бы мог помочь… и вспомнила обо мне, часто смотрела из окошка, интересовалась…»
Вспомнился и разговор с жандармским.
– Но что особенно ужасно… – продолжал Соболев, окруженный чиновниками, которые слушали почтительно и кого-то унимали шопотом, – чудесная была девочка, крестница моя… и религиозная, и отца как любила! И старик с хорошими устоями… И вот, замешали в какую-то политическую… и грязную историю, – заговорил он шопотом и показал на спущенные в окнах занавески, – обыск сегодня был, все рыли, а старик уж хрипел, а девочка там, в гнусных номерах, где бывают только… Удар за ударом, как…
И тут-то произошло то самое, чему Бураев тогда не придал значения, а вспомнил много спустя. Произошла «пьяная историйка».
Не успел Соболев закончить, как из кучки чиновников вырвался рыжий лохматый человек, в котелке на сторону, лет под сорок, и вытянулся во фронт:
– Здравия ж-лаю, ваше высокоблагородие!.. го саперного батальона, унтер-офицер Никольский! Примите меры, господин капитан, иначе… Дайте мне важный вопрос сказать… извините, я не пьян, а… страдаю! – хлопнул он себя в грудь. – Прикажите принять меры строгости! Только мы можем упрочить… безобразие! Почему допускают, господин капитан? Молоденькая девочка, дочка Алексей Алексеича, моего начальника… почему? Должны хирурги вскрыть, по какой причине… а не обыск! Хулиганы заманили, знаю фамилии… всех этих, статистиков! И вот, при издыхании на одре, ударом! Нельзя такое безобразие… прикажите рапорт, начисто чтобы!..
Его потянули с собой чиновники, но он вырывался, продолжая кричать – «не допускайте, господин капитан!..»
– Писец наш, – извинился Соболев, – когда напьется, начинает протестовать. Дело, действительно, возмутительное. Вообще, творится Бог знает что… У молодежи нашей нет этого… чего-то определенного, какого-то основного, твердого идеала, корня!.. И, вообще, никакого плана, цели, – ни у кого. Несемся куда-то по течению, и скука, и недовольство, и брожение в мыслях…
– Да, разброд… – рассеянно говорил Бураев, – да, тяжелая история.
– Не знаем, чего хотим. У меня сын кончает гимназию, хороший мальчик и отличный ученик, но… и своего-то сына не знаю, чего он хочет, какие у него идеалы, цели… спасибо, хоть не «политик»!..
Бураев извинился – спешит в казармы.
С казарменного плаца доносило звуки отдельных труб и дробную пробу барабанов. Сеявший дождь прошел. В медленно проплывавших тучках сквозило солнце. Завиднелись желтые казармы, с колоннами. Скучные для других, они были милы Бураеву: в их старине и грузности, в четкости строгих линий чувствовался порядок, точность и собранность. Строгая внешность их хранила неведомое другим – священное. В черном чехле на древке, казавшаяся непосвященным «куклой», хранилась душа полка, связанная со всей Россией сотнями сильных лет, блеском российской силы, славой побед и одолений, тысячами живых, сотнями тысяч павших. Души их – в этом Знамени, в гордой душе полка.
Из казарм выходили роты. Слышалось – «на пле… чо!» – взблескивали штыки на солнце. Мысли пришли в порядок, отступили, и Бураев собрал себя. Все здесь было ему понятно, нужно: все сводилось к определенной цели, – освящено. Творилось из века в век. Оправдано славным прошлым, бережет настоящее, к будущему ведет бесстрастно. Бураев неколебимо знал: «Слава России – Армия». Слава и жизнь, и сила. И в этом – все. Эту простую истину принял он от отца, от школы: армия создала Россию, ее историю. В это он верил крепко.
«На пле… чо!» – услыхал Бураев звончатый голос Шелеметова, и сердце его вспорхнуло, под взблеск штыков.
– Молодцы! – подумал он вслух, любуясь родною ротой, которая шла по плацу.
«Смирно-о… рравнение напра-во!» – скомандовал лихо Шелеметов, завидя ротного.
– Молодцы!.. – крикнул Бураев весело, пропуская роту, и она четко гаркнула в тон ему:
– Ррады стараться, ваше высокоблагородие!..
Слышались по концам команды, отдавались о пустых казармах. Румяный Зиммель, полковой адъютант, ставил линейных, с флажками на винтовках, бегал, играя шпорками.
– Батальон… сми-рна-а!.. крутясь на своем «Нагибе», кричал подполковник Кожин, которого называли «Дон-Кихотом», за костлявость, усы и эспаньолку. – Слушай… на кра… ул!
Шла подготовка к репетиции парада. В разных концах по плацу приводились в порядок роты, вливались в батальоны. Вспыхивали штыки и падали, шлепали розовые руки, шаг отбивали ноги – одна нога. И казавшаяся нестройность незаметно преобразилась в строй, и по великому плацу, по всем сторонам его, выстроились колонны батальонов.
Сбоку, под тополями, сверкал оркестр. Огромный турецкий барабан порой рокотал невнятно, сияя медью. Трубы пускали зайчиков.
Командующий парадом подполковник Туркин, верхом на своем гнедом, крикнул, завидя медленно подъезжавшего Гейнике, принимавшего репетицию парада:
– Полк, сми…рно-о!.. шай!.. на кра… ул!..
Всплеснуло четко – и замерло. Музыка заиграла встречу. Туркин подъехал с рапортом. Белая кобыла Гейнике стояла смирно, словно и она принимала рапорт. Гнедой вертелся, потряхивая мордой. Приняв рапорт, командир подал оркестру знак – прекратить, выехал на середину плаца, окинул полк.
– Здорово… молодцы N…цы!
Полк, как один, ответил. Пустые казармы повторили. Стало тихо. Сопровождаемый Туркиным, штаб-трубачом и ординарцами на конях, командир медленно поехал по фронту батальонов. Теперь он здоровался отдельно:
– Здорово, братцы… первый батальон!
Так – по всем батальонам и командам. Красивая его борода по грудь, черная с проседью, развевалась по ветерку. Крепкая, статная фигура, в защитного цвета кителе, внушала доверие солдатам. Он был «простой», – называли его солдаты, – и в ружье не держал подолгу. Но бывало и «погоди-постой», когда налетал «бушуем». Сегодня он был «простой». Закончив быстро объезд полка, он приказал оправиться и попросил батальонных – «пожалуйста, господа, ко мне». Поблагодарив за исправный вид и выразив полную уверенность, что завтра не подкачают, Гейнике приказал командующему парадом провести полк по-ротно. Отъехали. Туркин подал команду:
– Полк, смирно-о!.. К церемониальному мар-шу-у!..
Полк перестроился в колонну.
– К церемониальному ма-ршу-у!.. По-ротно… на одного линейного дистанцию, первый батальон!..
Командир первого батальона подполковник Кожин, выехав перед фронт, скомандовал:
– К церемониальному маршу!.. Ба-тальон… на пле…чо!
Вскинулись и легли винтовки. Офицеры блеснули шашками, на плечо.
– По-ротно-о… На одного линейного дистанцию… первая рота, ша… гом!..
Командир первой роты капитан Ростовцев, повернувшись к фронту, скомандовал:
– Первая рота… р-равнение направо… ша-агом!..
Повернулся спиною к роте. Командующий парадом подполковник Туркин и командир первого батальона подполковник Кожин враз опустили поднятые над головою шашки, и ротный закончил резко – …марш!
Бухнул турецкий барабан, ударили литавры, и под любимый марш Гейнике – «Под Двуглавым Орлом» – крепко и широко печатая, двинулась плотно рота, бросая в гремящий воздух восторженное, ревущее – рра-а… рра-а… рра-а…
И когда вел 3-ю свою Бураев, беря «подвысь» и салютуя «к ноге» сверканьем, проходя мимо Гейнике, матовое лицо его строгими синими глазами впивалось в командира, отдавая себя – на все. Рота несла его. Сотня ее штыков сияла единой сталью, сотня голов глядела одним лицом, сотня грудей дрожала единой грудью.
– Спасибо, молодцы… тре-тья-а!..
Громом гремела рота, и все, что было его, Бураева, что терзало его страданьем, потонуло в стихийной силе, которая шла за ним. Эта сила несла его. Сердце его захолонуло, остро всего пронзило, и в синих его глазах, гордо смотревших вправо, было одно: мои!
Церемониальный марш кончился. Офицеры стояли группами. Батальонные командиры выслушивали полковника. Фельдфебели по привычке тянули взводных. Бравые взводные, в чертовски заломленных фуражках, чем-то корили отделенных, и, как бывает почти всегда, попадало левофланговому – «за штык»:
– Чего у тебя на плече, штык или…? Чисто цепом мотает, всю роту гадил!
– Я тебе, Миньчук, натру пятки… Идет ровно в сопле запутался?…
– А как нас хвалил-то, господин отделенный?…
– За тебя и хвалил… какой у вас, говорит, Миньчук… в лукошке пляшет!
А в толпе, окружавшей плац, около кучки гимназистов на возрасте, пьяный писец Никольский рвал за обшлаг худощекого молодого человека, в пенснэ и с книжкой какого-то журнала:
– Идемте в полицию, не дозволю оскорблять господ офицеров! Я вас знаю, лепартеров-статистиков! Какие вы иронические слова сейчас?… а?! «Дурацкая игра… в солдатики»?! Про… армю нашу? Я сам саперного батальона, стою на страже… внутренних врагов… идемте!
Его оттолкнули подоспевшие семинаристы, но он продолжал кричать:
– Господа офицера, берите его, с. с.!.. Чта-а… побежали, японцы? А вот заявить губернатору… смуту в народе делают!..
– Дал бы в ухо – и ладно, – сказал тоже смотревший парад штукатур, в известке. – Что мы, не знаем, что ли… Я сам ефрейтор третьего гренадерского Перновского короля Фридриха-Вильгельма четвертого полка, девятьсот второго году. У нас таких в Москве как лупили… в пятом годе!..
– Я сам саперного батальона унтер-офицер! А вот дам тревогу…
Он подбежал к барабанщику 16-й роты, который курил на барабане, и затопал:
– Бей тревогу, чего вы смотрите!..
– Уходите, господин… тут вольным не полагается, – сказал барабанщик, сплевывая.
– Я не вольный, я сам… саперного батальону!..
Послышались команды – смирно! Командир полка приказал: по Нижне-Садовой, с песнями.
– По-батальонно, сомкнутыми колоннами!.. Ро-ты, повзводно!..
– Правое плечо вперед… ша-гом… марш! Тяжелая черная колонна, в серых скатках через плечо, с лесом штыков над нею, стала грузно спускаться с плаца. С Нижне-Садовой катилась песня. Первый, кожинский, батальон пел:
Третий батальон еще отбивал шаг на месте, а снизу летела песня. Второй батальон, подполковника Распопова, пел лихо:
Издалека, чуть слышно, врывалась песня с подсвистами:
Четвертый, полковника Краснокутского, певучий самый, спускался с плаца, а третий, туркинский, отхватывал лише всех:
Первый батальон уже поднимался с другой стороны казарм, а четвертый, с выщелкиваньем и свистом, с угольниками и гиканьем, с лихим запевалой впереди, пел-гремел:
Доведя свою третью до казарм, Бураев остановил ее, окинул довольным взглядом всю нацело, от правофлангового великана Степана Кромина до левофлангового, низкорослого крепыша Семечкина Егора, живую линию ясных глаз, глядевших на него с доверием, бронзовых, крепких лиц, – и крикнул:
– Спасибо, братцы!
Получив радостное и крепкое «рады стараться», он дал Федосееичу, фельдфебелю, три рубля: «на ситники им, на завтра!» Это он всегда делал, когда был доволен ротой.
Взглянул на часы: четверть восьмого, скоро начнет смеркаться; за Старое кладбище, на большак, не близко. После бессонной ночи и беспокойного дня он почувствовал страшную усталость, а не пойти было невозможно: таинственное письмо тревожило. «Иначе меня не будет в жизни!» Он позвал своего вестового Селезнева и приказал подать на квартиру «Рябчика», сейчас же. Взял извозчика и поехал домой одеться: к вечеру сильно засвежело. Проезжая мимо домика Королькова, он ярко вспомнил милую девочку с косами, бывало глядевшую на него в окошко. Окна были завешены. Сквозь давившую его свою боль он почувствовал боль иную – острую жалость к девочке и незнакомому старику – отцу. Вдруг показалось, что как-то он связан с ними… Он даже оглянулся на тихий домик, и домик чем-то сказал ему – да, больно. Болью своею связан, – это почувствовал Бураев, – болью… И совсем глубоко, под болью, почувствовалось ему, как облегчение, что здесь – страшнее. И в его памяти острой тревогой встало, как разделяющее – или объединяющее, – две боли: «иначе меня не будет в жизни, клянусь вам!» – «вы все узнаете».
Не доезжая до тупичка в садах, Бураев встретил Валясика. Денщик подбежал к нему и подал телеграмму:
– Толко что подали, бежал к вам, ваше высокоблагородие!..
Бураев разорвал пакетик, руки его дрожали. Телеграмма была от Машеньки: «Буду завтра три часа, необходимо переговорить, М.».
V
Бураев ожидал другого. Он вдруг поверил, что случилось чудо, что эта телеграмма все изменит. Даже не-понял сразу, кто это М. Перечитал – и понял: Машенька приедет, и ничего не изменилось. Он скомкал телеграмму и бросил в лужу. Вся «грязь», чем-то уже прикрытая, опять открылась. Для чего приедет? вакансия освободилась?…
– Все-то они…! – выругался он. Извозчик обернулся и весело заскреб под шляпой. – Пошел! Нет, слезу.
Пошел по тупичку садами, так легче.
– Валясик, есть чего-нибудь, скорей! Я сейчас…
С позеленевшей поймы ползли на город дождевые облака, тянули скуку. Темные с дождя сады сквозили, унылы, пусты. Вишни отцвели, еле заметно зеленели; яблони еще не распускались. Не разбирая, Бураев шагал по лужам.
«Это для чего же она приедет? Своего добиться? тогда не вышло, а теперь вакансия освободилась? Все-то они на одну колодку…!»
С Антоньева монастыря, под горкой, лился перезвон. Перезвон напомнил: «это еще „свиданье“… надо!» В восемь, как стемнеет. Не пойти нельзя. Он помнил выражения письма, мольбу, угрозу: «Вы должны придти… иначе меня не будет в жизни, клянусь вам!» Что-то тревожило его, в «свиданьи». Казалось – призрачным? И почему-то – за старым Кладбищем. Кладбище, свиданье, – что за фантазия! В романах только…
После кошмарной ночи и волнений дня, чувствовал он себя изнеможенным, и все теперь казалось призрачным, как-будто. Свиданье… Кто-то угрожает, молит: «вы должны придти, вы все узнаете!» Сады темнели, что-то в них таилось, в пустоте. Бураев осмотрелся. Призрачные сады, как тот, обманный, со следками в луже. Сады кружились, наступали…
Такое с ним случалось после боев, в Манчьжурии. Кружились сопки, стены гаоляна наступали, – призрак?
«Если бы все было… только призрак!» – подумал он.
Боль прикрылась, а эта телеграмма опять раскрыла.
«И пускай приедет», – старался унять боль Бураев, – «эта без фасонов, напрямки: хочу – и баста!»
Он вспомнил Машеньку: ее ласкающую нежность, податливость, бойкие глаза бабенки с головкой египтянки, вольность платья, пушок над губкой, толкавшую коленку… В нем загорелось нетерпенье.
«Съездим в монастырь, чудесно! Все они такие… а, плевать!..»
Он задрожал от страсти, от желаний. Такое с ним бывало после больших волнений, – разряжалось в страсти. Он встряхнулся, глубоко вздохнул.
– Весна! Какой чудесный воздух! Эх, махнем в луга!.. Держись, Степашка… жизнь, брат, о кулаке, а не под юбкой!.. – крикнул себе Бураев. – Стреляться, что ли, как эта славная девчушка?!..
Он вернулся к себе, спокойный.
– Без вас господин приходил, ваше высокоблагородие, – доложил Валясик, – шибко добивался.
– Говори толком. Чего добивался?… – взволнованно спросил Бураев, связав с своим. – Какой он из себя?…
– Сказки барину, сказали… будет им приятно!
– Приятно?! Да ты что… пьян, что ли? Что – приятно?!..
– Не могу знать, ваше высокоблагородие! Хоть бы в одиннадцать часов зашли, а будет, говорит, приятно! Да он, ваше высокоблагородие, вроде как не в себе, не стоит на месте… за бородку все хватался, тормошился… чернявенький такой.
– Да чорт ты этакий!.. – вскричал Бураев. – Что – приятно?!..
– Не сказали. Приходить велели. Они, говорит, меня знают! Говорит, книжки у них брали…
– Так бы и сказал.
Бураев понял, что это был Глаголев, Мокий Васильевич, или «Мох», как его звали гимназисты, учитель. Почему – приятно? В нем, было, вспыхнула надежда – и погасла.
Курчонок попрежнему лежал на блюде. Не садясь, не сняв фуражки, Бураев стал глотать кусками. Выпил водки, не замечая – сколько. Свиданье это!..
– Приготовъ сюртук! – крикнул он денщику. «Дело совсем не в том, не в этих бабах… все это только так, придаток. А главно…»
Сколько раз, при неудачах, старался успокаивать себя, что это совсем не главное, а главное еще придет. И никогда не мог определить, да в чем же главное? Это помогало. Выпил еще, и стало проясняться.
Вспомнилась девочка с косами, Лиза Королькова, кареглазка, фарфоровое личико, всегда в окошке.
«За что погибла! Застрелилась… Славная девчушка. Не думал, что я ей нравлюсь… Завтра свалят в яму… Жить – вот оно, главное! Каждая минута жизни – вот главное!»
Вспомнил, как Машенька писала: «кажется мне, что ты вот и есть „по настоящему“».
– Валясик!.. – крикнул Бураев бодро. – Слушай. Эти тряпки на дверях – ткнул он в портьеры, – снять! И шкуру выкинь… отдай старьевщику! И всю эту дрянь со стен – долой! Вернусь – чисто чтобы было, как у нас раньше, когда в Солдатской жили! Понял?
– Так точно, ваше высокоблагородие! Продать прикажете?
– И зеркало это, к чорту! Там мы должны что-то мебельщику… отдашь. Стой! Он налил водки. – На, выпей за мое здоровье.
Чего-то душа искала. Не было никого, один Валясик. Такое всегда случалось, как «заскучает» барин, – знал Валясик. Было и на войне, в Манчьжурии, когда захватили батарею, и бураевские стрелки били прикладами японцев, и «башки у них лопались, как яйца». Валясик помнил, как капитан, тогда поручик, сидели на зарядном ящике и терли рукавом коленку, замазанную, словно, тестом; тер и стучал зубами, «даже страшно». Подошли кухни, и Валясик принес консервов и бутылку с чаем. Поручик отшвырнул консервы и поглядел так страшно, «словно убить хотели». И «чужие» были глаза у барина, «словно они не тут». Потом затихли. Сказали только: «не надо мяса». Выпили из японской фляжки и мне велели: «выпей за мое здоровье!» Так и теперь вот. Валясик понял, что по барыне скучают. Вежливо взял стаканчик.
– Быть здоровым, ваше высокоблагородие.
– Постой… – остановил Бураев, думая о чем-то.
Он поглядел на денщика и понял, что тот его жалеет. По глазам заметил? Может быть, вспомнил что-то? Оба видали страшное, видали гибель. Через войну связало.
В эту тяжелую минуту Бураеву мелькнуло, что этот подслеповатый и всегда заспанный, – единственный, ему здесь близкий. В нем мелькнуло это, когда Валясик сказал особенно, душевно: – «быть здоровым!» Немного запьяневший, Бураев чувствовал потребность братства.
– Как, Валясик, по-твоему… – смущенно сказал он, с усмешкой: – все, брат, не важно… это?…
Никому бы так не сказал Бураев.
Валясик думал, не зная, как ответить. Такое не раз бывало; и он, по привычке, понял, что это себя спрашивает барин. Понятно – совсем не важно.
– Не важно, а? – Бураев еще выпил. – Ну, дела эти… ну, как там у вас, ну… с бабами? – выговорил, смутясь, Бураев.
Валясик постеснялся, ухмыльнулся.
– Никак, ваше высокоблагородие! – четко ответил он. – Тут и делов нет, а… как назначено.
– То есть, как назначено? Не по-дурацки ты отвечай, а…
– Как так я не отвечаю, ваше высокоблагородие! Ежели бы женаты, а то баловство, по-нашему. Будто на закуску. Ну, сходил в баню, помылся, – все и смылось.
– Так-так… – подбодрял Бураев. – Помылся?…
– Да ей-богу, ваше высокоблагородие! Не подошла нарезка, другую гаечку подобрал – жи-вет. Как назначено… Ходи веселей, любись – не жалей!
– Не та нарезка?… – захохотал Бураев.
– Да что… понятно, не пуля в глаз! Мы с вами, ваше высокоблагородие, не то видали.
– Верно. Не пуля в глаз. Ты, брат, му-дрец, мошенник!.. Ну, пей за свое здоровье.
Вестовой привел «Рябчика».
Идя в спальню, Бураев задержался у портрета. Остро воняло шкурой, – всегда попадалась под ноги. Он отбросил ее ногой, зажег против воли спичку и посмотрел. Милое, ненавистное лицо показалось ему другим: что-то в нем было новое, чужое, – враждебное. Догоревшая спичка напомнила о себе ожогом. Он не зажег другую, споткнулся опять на шкуру и наподдал. В темноте что-то зазвенело и разбилось.
– Вон этот весь б…! – крикнул Бураев, в бешенстве. – Валясик, все к чортовой матери, сейчас же!..
В спальне было совсем темно. Он зажег розовую лампу. Розовый свет ее – сладкий, фальшивый свет «гнусной притонной комнатки, взятой на полчаса», остро ему напомнил вчерашний вечер. Он резко сорвал колпак, поглядел с отвращением к постели. Атласное голубое одеяло не свисало, все было чинно и прибрано. Увидал «Клеопатру» над постелью, голых «рабов мидийских», купленных на толчке. Это когда-то нравилось. Пахло её духами, самыми подлыми на свете… Он распахнул окошко. Сумерки уже загустели, чернело ночью. Дождик шуршал по листьям, чвокали соловьи в обрыве, пахло по банному березой, душно. Сирень начинала распускаться, веяло тонкой горечью, сладких надежд и счастья.
Бураев почувствовал усталось, лег на кушетку и забылся. Перезвон от монастыря вырвал его из сна. Он взглянул на часы, – вот, странно: две минуты всего и спал, а будто в монастыре он был? Множество маргариток видел, больших, как астры. Что-то… монах, как-будто?… Вспомнилась утренняя церковь и возглас – «знамение»: «не греши больше… случится хуже!» «Вот, навязалась глупость!» – подумал он, – «чем это я грешу?… Пошлая мистика, остатки…» И начал поспешно одеваться. «А на „свиданье“-то опоздал. Дождется».
Одеваясь перед окном, Бураев увидел зарево. «Должно быть, пожар в Олехове». Темное небо раздавалось, клубилось дымом. Дождь превратился в ливень. «Хорошее „свиданье“», – подумал он. Вспыхнуло голубым над поймой, погромыхало глухо. Зарево расплывалось ярче. Ливень внезапно кончился, рваная туча убегала, зарево подымалось выше, мерцало в лужах. «Пожар здоровый, не фабрики ли горят?…» – высунулся в окно Бураев. – «Чудесно… какая свежесть! Кстати и освежусь, проедусь».
– Приказ не приносили? – спросил он вестового. – Поручик Шелеметов в роте? подчистились?
– Так точно, их благородие только-что пришли. Выкладку проверяют, ваше высокоблагородие. Так что, у нас тревога…
– Что такое?… – спросил Бураев.
– Войсков губернатор затребовал. В Олехове, писарь говорил, фабричные бунтуют, 9-ю роту посылают, для усмирения… видал, вестовой за их благородием штабс-капитаном Артемовым погнал, срочно!
«Эх, мою бы!..» – подумал досадливо Бураев. – «Артемку посылают… трясти брюхом!»
– Должно, так и есть, ваше высокоблагородие!.. – сказал Валясик. – Пожар-то в Олехове, самое это место… Горит шибко, верстов шесть, не больше.
В отсвете дальнего пожара слабо мерцала пойма; рваные тучи светились розовым.
– Нефть не подожгли ли, больно ясно?…
– Нагайку! Можешь идти, – сказал Бураев ждавшему приказаний Селезневу.
Радостно фыркал «Рябчик». Бураев ласково потрепал, тихо подул на ноздри. Подул и «Рябчик», всегда ласкался.
Бураев сел.
– Приеду, должно быть, поздно. В случае, после десяти найдешь меня у Глаголева, учителя… запомни: Мало-Садовая, 15. Если из полка что важное. Слушай: ту постель вынесешь из спальни, поставь походную, складную.
– Так точно, хинтер! – весело подтвердил Валясик.
– И всю муру. Портрет на подставке… в печку! Понял?
– Так точно, понял. Счастливо ехать, ваше высокоблагородие! Полыхает-то… прямо, светло ехать.
Бураев оглянулся: пожалуй, что нефтяные баки. И пустил «Рябчика» галопом.
VI
Выехав на Московскую, Бураев перевел «Рябчика» на рысь. Сеял дождик, от городского сада душисто пахло тополями. Зарево и здесь светилось, сквозь деревья. На перекрестках топтались кучки горожан, шептались. У губернаторского дома стояла тройка и верховые. Все окна были освещены, как к балу. Попался на извозчике дежурный по караулам, капитан Гуща,…го полка. На гауптвахте, под каланчей, вызвали ударом в колокол – «в ружье». «Что-то зашевелились», – подумал весело Бураев, и бодро пробежало в сердце. Стражники прошли к заставе на-рысях. Бураев похвалил посадку: старые кавалеристы. Прямо по мостовой шли кучками гимназисты и свистели. Кто-то крикнул: «сеньор, куда стремитесь?» Бураев взял по переулкам, в обход Московской. Здесь было тихо и пустынно. В домиках с садами уже закрыли ставни, светились щели и сердечки. Где-то играли на рояле модное танго – «Маис». За глухим забором справляли вечеринку, орали пьяно:
Тихие улочки напоминали прошлую весну, когда таились от людей, искали встречи. Отошло. Осталось лишь воспоминание – о боли. Легко на сердце – значит, так и надо. В самые жгучие минуты страсти он чувствовал разлад с собою, с чем-то. Это что-то тревожило его вознёю, будто говорило: нет, не то. Вело, как «компас». В трудные минуты в нем взывало, он кого-то звал, кто мог направить, указать – как нужно. Смутный ли образ мамы? Он не знал.
Кто-то его окликнул:
– Кто при звездах и при луне… так поздно едет на коне? Вот как кстати!..
Он признал учителя Глаголева: изредка заходил к нему, брал книжки для подготовки в академию. Маленький Глаголев махал зонтом:
– На два слова!
– Здравствуйте, Мокий Васильевич, – сказал Бураев, подъезжая. – Очень спешу, простите… Что скажете хорошего?… Вы у меня были?
– Был-с. И еще был бы-с, если бы не встретил. – Он огляделся и понизил голос, зашептал: – Хоть к десяти… хоть к одиннадцати, ко мне?… О-чень-с нужно-с… уверен, будет вам приятно!.. а?
– Слышал и про «приятное», мой Валясик что-то…
– Да уж… Должен сейчас подъехать, из Москвы-с… самый интересный человек, даже, можно сказать, единственный в своем роде… помните, говорил вам… Гулдобин-с? об «основах жизни»-с? Положительно необходимо, чтобы прослушали и… Общественное безразличие-с растет! Так вот. Мы должны… осмотреться и научиться, делать дело! Будет несколько человек, верных… с дорог и торжищ, ибо «много званных, мало же избранных», да-с. И без всякой… – он суетливо осмотрелся, – политики-с! И события обсудим.
– Какие события?
– А Королькова застрелилась! Накрыли пятерых-с. И не одни «огарки», уловлены-с… Двоих из моих ученичков накрыли-с, всюду обыски-с… увидите на уголке, на Ключевую. Прохожу сейчас – у Горенкова обыск, земского секретаря… попали в гнездышко!.. Не думайте, у меня обыска быть не может, можете быть покойны-с… будет только приятное. Умница такой, независимейший ум… Гулдобин-с!..
– Да я нисколько и не думаю, и не боюсь!..
– Конечно-с, вам чего же опасаться! Только я к тому, могли чего подумать, что у моих ученичков-то… и военные, вообще, избегают… Не политика, а чисто философские беседы, нащупывание… духовной почвы для общественного пробуждения воли к познанию нас, нас, нас-с!.. тыкал себя Глаголев пальцем. – И вот что знаменательно… Вы и Гулдобин совпадаете! Как? А вот: помните, мы с вами о «российской общественности» рассуждали, для сочинения – «Что есть общество»? – в связи с «Горе от ума»?… Это вам для вашего экзамена… А я теперь вижу, что это нам нужно для нашего экзамена, который нам предстоит-с! И вы тогда очень верно обмолвились, я тогда даже в книжечку занес ваши воистину «священные слова»!.. Не помните?…
– Не помню что-то… там поговорим, – сказал Бураев, чтобы отвязаться. – Очень спешу, простите…
– Хоть и в одинадцать, для вас никогда не поздно. А я о-чень помню. Чему назреть, оно само рождается… Так ждем!.. – замахал зонтиком Глаголев, побежал.
«Какой-то полоумный», – подумал, продолжая путь, Бураев. – О каком-то «властвующем Христе», кажется, недавно говорил на улице… Что такое, о чем «обмолвился»?… Что надо властно заставить «общество» выполнять «основы государства, как всякую повинность?…»
Уличку загородил полок и два извозчика. Впереди еще стояла пара. Городовой и двое в вольном держались у забора. Бураев приостановился, что-то вспомнив. Да, обыск!.. Окошки домика светились, там ходили. Он хотел проехать, но тут парадное открылось, кто-то выпрыгнул и резко крикнул:
– Как вы смеете, пихаться?!.. Прошу вас обращаться вежливей, я еще не арестант вам!.. И протестую против насилия над личностью! На-халы!..
Вышли два жандарма, с фонарем и ворохами папок. Кто-то в вольном нес ящик – видимо, тяжелый.
– В чем де-ло, что т-такое… кто «на-халы»?… – послышался ленивый голос, очень четкий.
Вышел жандармский ротмистр Удальцов, высокий, головой всех выше; за ним судейский, низенький и быстрый, за ними – трое, понятые, – смотрел Бураев. Сзади опять жандармы с ворохом бумаг и книжек.
– Я протестую!.. – крикнул истеричный голос, с кашлем. – Ваши жандармы меня бьют… толкнули… у меня бок болит!.. Это же прямое издевательство над…
– Успокой-тесь, господин Горенков, – сказал, закуривая, ротмистр. Бураев его знал: тяжелое лицо, похожее на маску, рыжие, густые брови, как будто накладные. – Ваш протест мы запротоколим… там, будьте уверены. Кто их толкнул, Пахомов? – крикнул, уже сурово, ротмистр.
– Да я, ваше высокоблагородие, сам споткнулся на порожке… их и задел маленько, а не толкал! – ответил голос. – Никак нет!
– Ложь, я протестую! – крикнул с извозчика Горенков, – двое меня ткнули кулаками, в бок и в спину… нахалы ваши!
– Да как же я их мог толкнуть, ваше высокоблагородие… выемку мы несли, с Гуськовым! Как же это можно… кулаками?…
– Не знаю… но чем-то меня толкнули, острым! Углом папки!.. Я заявляю категорически!
– Зна-чит, не кулаками? Кто же… лжет? – невозмутимо отозвался ротмистр. – Папка, полагаю, не кулак.
Он сел в пролетку. Судейский что-то ему шептал, нагнувшись.
– Вахрамеев, останешься в квартире. Огонь оставить. Прикройте ставни!
– Ваше высокоблагородие, за ворот они меня схватили… Гуськов видал! – плаксиво доложил жандарм с пролетки. – Мы с ними осторожно, а они…
Бураев видел, как арестованный схватил жандарма. Не мог сдержаться:
– Солдат прав, ротмистр. Я видел.
– Здравия желаю, капитан. Благодарю вас.
Ротмистр и Бураев откозыряли.
– Видите, дела какие! – пожал плечами ротмистр.
– Взяли с «икрой», ершится, и еще, видите ли, про-те-стует. Окоротите ему руки… да слегка! – сказал он резко. – Там, – показал ротмистр на квартиру, – принимал позы благородства, Чайльд-Гарольд! А потемней где, да кто попроще – за ворот.
– Прошу не издеваться!.. – крикнул истерично Горенков. – Я вам не объект насмешек, а субъект и личность!..
– Подозрительная личность. Трогай!
– В морду плюется, ваше высокоблагородие!.. – закричал жандарм.
– Палачи!.. нахалы!.. ложь!.. – закричал Горенков, – у меня кашель… душит… я плюнул!..
– Прямо мне в глаз плюнул, Гуськов видал… в самый глаз угодил харькотиной, вашевскородие… тьфу!.. С ими вежливо, а они как с собакой!..
– А еще социал-демо-крат! – сказал жандармский.
– В «на-род» плюетесь!..
– Поймите, у меня туберкулез… я кровохаркаю, а не!..
– А водку пьете, при туберкулезе вашем? – усмехнулся ротмистр. – Шрифт и две бутылки водки, укромно, рядом! Кровохарканье, а полупьяны? Доктор констатирует сейчас… туберкулез. Трогай. Кстати, капитан… Когда я завтра мог бы к вам… только, конечно, не в полк, если позволите?
– Ко мне?… – Бураев вспомнил беседу с Розеном. – Да утром, не позднее девяти… или после трех. Завтра у нас парад.
– В таком случае, разрешите утром?…
Они расстались. Бураева неприятно удивило: опять жандармский?… Какие-то все петли, – что за чорт! Часы показывали – без четверти девять. На «свиданье» он опоздал. Да и не верилось в «свиданье» – призрак. Выехав к шоссе, он пустил «Рябчика» вольнее. Зарево горело ясно, стало шире. Тучи над головой светились. За семинарией, перед заставой, Бураев обогнал пролетку с кучером-солдатом. Ехал к себе домой сам батальонный, подполковник Кожин – «Дон-Кихот», староста полковой церкви, – должно быть ото всенощной. Опять задержка: любит подполковник побалакать.
– Куда это, Степанчик, на дождь-то глядя… не к нам ли? – остановил солдата Кожин. – Или в Олехово? Там сегодня жарко, ишь как раздирает! А, прогуляться… Что же это нас-то позабыл, носа не кажешь?
– Так все как-то, господин подполковник…
– О-чень понимаю, братец. Слыхал, понятно. А часто вспоминали: пропал Буравчик. И все-таки напрасно, стесняться-то. Какое кому дело! И Антонина, и все соскучились. Антонина моя… – моргнул подполковник, – поняла мою идею!..
– Какую? – не разобрал Бураев.
– Усадьбу отвоевать у банка. Старается. Начала давать уроки музыки, трудится вовсю. Все-таки цель жизни! О-чень будет рада. Теперь-то уж чего же, стесняться-то… никаких условностей, в сущности, для нас и не было, но… я понимал, конечно. Эх, молодежь… закрутит голову!.. Давай слово: назад поедешь – завернешь. В гости еще? Плюнь. Так-то, братик. И поговорим, – батальонный кивнул к солдату, – про разные истории. Покажу тебе цыплят, плимуты… у Зальцы против моих ни к чорту. От графа Шереметева! Приказываю: мимо не проезжать! Угощу вишневкой. Пошел. Вон и палаццо… не забыл?
– Что вы, господин подполковник! И сам соскучился, ей-богу.
– Некогда скучать-то было, знаю вашу братью.
Бураев пропустил пролетку, поехал шагом. У заставы пролетка завернула к полю, и до Бураев донесся гулкий удар из сада, такой знакомый. Он любил бывать в усадьбе: так по родному! Подумал: какая стала Антонина?… Вот и случай: поехал на «свиданье». Вот – свиданье.
Все говорили: ну какой военный, «Дон-Кихот», быть бы ему помещиком. И верно. Батальонный арендовал чудесную усадьбу, с фруктовым садом десятины на три, с старым дворянским домом, принадлежавшую когда-то знаменитым в губернии дворянам Пронским, а ныне – банку. Дом был очень ветхий – «старое гнездо», видал французов. Кожин его поправил, и стало сносно. Были у него породистые куры, которых он посылал на выставки; были молочные коровы, «от Верещагина», он ставил молоко больницам; были, особого откорма, будто на солдатском хлебе, «кожинские свиньи», – всех, сколько ни доставь, все забирала московская колбасная Белова, – только дай.
– Говорят, с садами плачут. Вра-нье! Делай все первый сорт, – бывало, объяснял Бураеву подполковник, – и в кармане деньги. Рота у тебя первый сорт, и сам ты первый сорт? Спи спокойно – и корпусной не страшен. И в хозяйстве то же. Сад освежил, сволоту выкурил, – яблочко стало чистое. Еду к самому Эйнему – желаете? Эйнемский мармелад известный! Немцы, тут уж не изловчишься. Удивились: солидный офицер и… яблоки! Дал им на образец пудиков с десяток, сварили. Телеграмма: три тысячи пудов! В-вот-с.
Антонина всегда молчала когда подполковник восторгался. Она вставала и тихо уходила.
– Нет денег? Правда. Значит, бу-дут. Через пять лет, одного меду тысячи на три буду… Арендую у семинарии пол-сад, дело намазу. Его преосвященству маслице мое по вкусу. Артоса мне прислал, три фунта! Недавно осиял визитом. Лестно им: штаб-офицер и… их помазки, староста церковный… все-таки благодать имею! Ну, сливок посылаю для пломбиров… простокваши. Буду с садом! Поелику, говорит, вы такой хозяин, значит, и командир благоразумный!..
Бураев бывал не из любви к хозяйству.
Это началось тому лет семь. Он вернулся с Дальнего Востока. В его отсутствие в полк прибыл новый батальонный, перешел в провинцию – «из-за хозяйства». Бураев ему представился в первый же день приезда и получил нежданно приглашение: «ко мне обедать!» Он явился. Странно: никого не приглашал к себе подполковник. Денщик сказал, что барин играют с барышней в саду, с ними и барыня, и там и кушать будут. Бураев пошел искать по саду. Сад огромный. Барыню он представлял подстать подполковнику: костлявой, длинной, лет за сорок; батальонному – за пятьдесят, пожалуй. Интересовался: барышня какая? И увидал ее… Она стояла с крокетным молотком, на солнце. Он остановился. Это было в мае, в разлив цветенья. Среди цветущих яблонь, она представилась ему «виденьем», – «перламутровым виденьем». Вся – в озарении цветущих яблонь. Такой он вспоминал ее всегда. Он совершенно растерялся, снял фуражку. Она кивнула. Он спросил, в восторге: – «Простите… ваш папа здесь, в саду?…» Словом, он страшно растерялся. Как она смеялась! Смех ее был прелестный, свежий, необыкновенный. Он только помнил, как качался молоточек, как все сияло. Она сказала – голос был грудной и сочный: «Подполковник сейчас придет. Он с нашей девочкой червей снимает. А пока… вот мама!» – сказала она очаровательно. Бураев готов был провалиться. Что-то бормотал – «простите… толко что приехал…» Она очаровательно простила, усадила в кресло, – он чуть не повалился с креслом. Она сказала: – «Да, мама… вот этой баловницы, нашей детки-Нетки…» – нежно притянула к себе девчушку лет восьми. Подошел подполковник. Смеялись, и Бураев совсем освоился. Этот «комплимент» не забывался. За шахматами, когда зевал Бураев, батальонный напоминал: «капитан, известно… комплиментщик!»
Тогда ей было двадцать семь лет, он точно помнил. Был ли влюблен в нее? Больше: он благоговел и любовался. В ней было что-то, напоминало чем-то маму. В ней сливались – и светлый образ мамы, и женщина. От мамы – ласковая нежность, грусть… Любуясь в тайне, он чувствовал порой тревогу. Поймав себя на мысли, как она стройна, какие у ней плечи, шея, – он укорял себя в кощунстве. Один, он вызывал ее мечтами. И она явлалась – стройная, высокая шатэнка, «античная», с прекрасными косами вукруг головки. Всегда спокойна, холодна, строга. Он называл ее – Юнона. Тонкое лицо – фарфор. Глаза – неуловимо-грустны, «девственны», стыдливы, с легкой синью. Милые глаза. Что-то свое хранили. Юная – Юнона. В ее дыханьи, в ясном взгляде, в ее движеньях, в голосе, во всем – чувствовалось очарование расцвета, женственная прелесть, не сознающая, что к ней влекутся.
Раз случилось, – года два тому, – он приоткрылся.
Он зашел случайно. Антонина была одна, играла на рояле. Было в марте. Солнце лежало на паркете, касалось ее платья. Он остановился за портьерой, слушал. Не смел нарушить. Ему передалось страданье, страстное томленье. Он видел новое лицо, – такого никогда не видел. Она склонила голову на ноты. Он вошел.
– Вы… – сказала она в испуге, еле слышно.
Он смутился.
– Простите… я не посмел мешать!..
Она смотрела утомленной.
– Как вы играли!.. – заговорил он страстно. – Какое счастье… столько я пережил!..
Взгляд его сказал. Ее ресницы вздрогнули и опустились. Она молчала и брала аккорды.
– Это «Смерть Изольды». Вам нравится?…
– О!.. – только и мог сказать Бураев.
– Хотите чаю?
Больше они не говорили.
Это его томило долго. Потом – Люси. Закрылось.
За последний год он не бывал ни разу. И батальонный не приглашал. Понятно: «мальчик с историей», как говорила полковая командирша. Теперь все кончилось. Бураев решил заехать.
VII
За заставой фонари кончились. Он скакал по грязи, при тусклом свете слободских окошек. Пахло гарью. Зарево тускнело. Старое кладбище тянулось с версту, по буграм и ямам. Белая стена мерцала лентой, местами розовела от пожара. Грачи тревожно гомозились в липах и березах. На зареве чернели гнезда. Бураев вглядывался по дороге, – никого. «Если не дождалась – вернется? Встречу». Он поехал тише. Никого. Дождь прекратился, поднимался ветер, с поля. Пахнуло полевым раздольем, желтыми цветами курослепа, новой травкой. Радостно зафыркал «Рябчик». Пошел большак, в березах. Березы мотали космами, летели брызги. Бураев отпустил, пришпорил. Березы замелькали, захлестали. Вот и поворот на Богослово. Он осмотрелся. Никого. Зарево совсем погасло. На проселке отблескивали в лужах звезды. Он проскакал проселком – никого. Вернулся. Постоял, послушал. Посвистал протяжно. Объехал перекресток – никого. Березы шелестели. Гудели ровно телеграфные столбы. Ветром донесло чугунные удары – девять.
«Так и вышло», – с досадой подумал он. И не спешил. Посмеялся кто-то? «Или – она…та Лиза Королькова, девочка с косами, которой уже нет на свете?… Жду мертвую. На распутьи, в ветре, в пустоте?…» И стало неуютно. «Насмешка, как все у меня в жизни?…» Вспомнилась Клэ, первая его влюбленность, – вышла замуж. Потом Люси, – обман. Милая девочка с косами – призрак. Ветер, пустота. И темень. Грязная дорога… От города загромыхали колокольцы, застучало. Он пригляделся: парой в тарантасе, почта. Проехала.
– Эй!.. – крикнул Бураев в пустоту и темень.
Подождал. Сыпали дождем березы. Что за чорт?… Насмешка. Потрепал «Рябчика»:
– Верный друг, коняга… не везет, брат?…
«Рябчик» застриг ушами, фыркнул.
– Головой трясеш. Да, брат, незадачи. Ну, к подполковнику заедем, увидим светлую Юнону… каких не будет. Ну, айда!..
Он пришпорил. Навстречу набегали огоньки, застава.
– Куда вы?… стойте… капитан Бураев!.. – крикнул кто-то.
Он столкнулся с кем-то, взвил «Рябчика».
– Чуть не сшибли… ах вы, Буравок!..
– Простите, капитан… так, разогнался… – признал Бураев ротного 9-й роты, штабс-капитана Артемова. – На усмирение?
Из полевого переулка, слева, выходила рота в полном походном снаряжении, скребя шагами. Вздутые мешки серели сбоку, штыки мерцали ровными рядами.
– Сми-рнааа, р-равнение напра-ва!.. – закричал Артемов. – Шире, шире шаг! Левое плечо вперед… прямо, ма-арш!.. Подпоручик Константинов, ведите роту… нагоню! Чаще перебежки… пользуйтесь ночным маневром!..
Рота вышла. Ехала лазаретная линейка, кухни.
– Воюем с пролетарами, голубчик… – сказал, закуривая, штабс-капитан, рыжебородый, грузный, по-походному, в ремнях, с биноклем и наганом. – Третья неделя забастовка, сегодня вскрылось… захватили директора, грозятся учинить расправу. Говорят, у них там агитаторы укрыты, с бомбами… чорт их побери! Пойдем в атаку на эту сволочь… – плюнул штабс-капитан.
– Там и прокурор, и вице-губернатор, и стражников нагнали… оцепили, а не выдают! Только сошлись дерябнуть к Туркину, в преферансик пошвыряться… бац, к командиру… Ну, уж задам им перцу!..
– Роту без нужды не горячите, – сказал Бураев.
– Неважно на солдат влияет. Для сих маневров надо бы особый корпус, внутренней охраны.
– Кой чорт, неважно! Рота у меня – вот! – он сжал кулак. – Так-то распатроним… А эти… уж живыми не уйдут. У… цев троих из нестроевой под суд, ихние прокламации нашли… ни за что погибнут!
– Не горячите. Тут не революция, а глупость. Сволочь захватите.
– Там разберемся. А солдаты рады… по три гривенника на рыло, да и угостят, понятно. Вот вы говорите… стой, чорт!.. говорите, не надо горячиться. Да чорта мне стрелять в болванов… курицы не могу зарезать. Понятно, долг исполню. Ни в воздух, ни холостыми теперь нельзя, после былого «опыта». Стрелять, коли что, придется. А вы бы полюбовались на моего Константинова-вояку, вот пошел народец… малиновое! Губы посинели, как утоплый… трясется, хнычет… «как я могу стрелять в народ!» Чуть не истерика, да еще при фельдфебеле, при взводных! Ну, что прикажете мне делать, подать рапорт!..
– Чорт знает! – сказал Бураев возмущенно. – Это сейчас же разнесется солдатней… считайтесь с этим. Придется, хоть и больно. Офицерский суд решит. Разводить заразу… Ну, прапорщик запаса, особенно эти универсанты, протестанты… не в счет. А то вдруг кадровый!..
– Так бы сейчас дерябнул!.. – крякнул штабс-капитан, вбирая пузо. – Послать бы казачков, живо бы плетями… Не на японцев… нас-то чего тут беспокоить?…
– Бывает, нельзя без боя. 905-й помните? Почему ему не повториться, при таких порядках! – и он подумал, что вытворяют в Петербурге: «Гришка Распутин, разные Иллиодоры, бестолочь и „тайны“. В армии – мы, командиры рот, на манер отмычки, „козлища“, чорт знает…» Подумал – и смутился. – Для внутренних историй нужны части боевой внутренней охраны, особой дисциплины, а не регулярные войска. Нужна реформа. Стражниками тут не обойдешься…
– Ну, догонять пошел.
Они простились.
«Выбрал командир Артюшу. Ни шагу без фельдфебеля. И трусит», – подумал Бураев раздраженно. – «Пошли надежного. Чекана или Густарева. Бригадный шляпа, за себя дрожит. Как бы Москву не потревожить. Там ведь все с примеркой, за чужой шеей!.. – выругался он. – А случись серьезное? с такими трясопузами да сопляками…»
За разговором они доехали до семинарии. Пришлось вернуться, к Кожину заехать. У семинарского забора, на углу, стояла кучка семинаристов. Донеслось:
– Покажут им олеховцы! Вон тоже, сволочь едет… охранники!..
Бураев вспыхнул. Подумал – мальчишки, не придавать значения? Он уже проехал. Нет, нельзя: взрослые болваны, хулиганье. Он бросил «Рябчика» на кучку и дал нагайкой. Кучка побежала. Он нагнал и вытянул еще. Один споткнулся. Бураев вытянул еще, по заду.
– Будешь помнить «сволочь»! Уважай армию, скотина!.. Встать! – крикнул он семинаристу. – Фамилия?…
Из-за угла кричали:
– На безоружного попался… царский плевок, опричник! Бей его, ребята!..
Бураев погрозил нагайкой. Лежавший плакал.
– Подыму, не притворяйся… встать, скотина!
Семинарист поднялся. Он был верзила, не ниже капитана.
– Фамилия?! Вы, мерзавцы, не дети, а, великовозрастные болваны, и будете наказаны!.. Подойти ко мне!.. – крикнул он притихшим.
– Мы готовы извиниться… сказал из кучки кто-то.
– Извиняться перед всяким…! – крикнул бас и свистнул.
– Подойди, если ты не трус! – крикнул Бураев кучке. – А ты, не двигаться, – взял он за шиворот семинариста. – К ректору идем! Фамилия?!..
– Мирославский, – плаксиво заявил семинарист. – Это не я, можете спросить.
– Всех найдем! – сказал Бураев. – Двигайся.
– Найдешь, у своей… вошь! – крикнул из кучки бас, и побежали с песней:
– Позвольте, господин офицер?… – услыхал Бураев раздраженный голос. – На каком основании вы издеваетесь над мальчиком?… Вы его ударили! Он вас ударил плеткой? Не бойтесь, смело говорите… я не допущу… – обратился неизвестный к семинаристу. – Вы его били? На каком основании?…
– Что такое? – сдержанно спросил Бураев господина с остренькой бородкой и в пенснэ. – Кто вы тут такой? вы слышали?… вы за хулиганов?…
– Я член земской управы… Канунников. Вот, моя карточка. Я не могу позволить, чтобы при мне учиняли гнусное насилие над учеником… публично!..
– А я капитан Бураев. Вас интересует, что произошло? Удовлетворю ваше любопытство. Эти оболтусы, в кучке, посмели оскорбить армию… понимаете, а-рмию! – крикнул Бураев, тряся нагайкой. – Нет, ты посто-ой… – подтянул он за ворот семинариста, который пробовал рвануться, – мы с тобой сейчас к ректору направимся… Вы довольны? – обратился он к господину в белом картузе.
– Но позвольте, нельзя же…
– Нет, уж теперь… вы позвольте! – поднял Бураев голос. – Когда оскорбляют армию Императора и России… и господин член управы вмешивается и берет сторону мерзавцев и хулиганов… что это значит?!
– Но я не слыхал, позвольте!..
– А не слыхали – молчите! Сперва узнайте. Когда говорит офицер – говорит офицер! С вас довольно? Если не довольны и если вы достойны… – к вашим услугам! Капитан Бураев.
– Не испугаете… я завтра же еду к губернатору! – запальчиво заявил член управы. – И не позволю самоуправства…
– Можете успокоиться. Я не скрываюсь, сейчас же заявлю ректору, а завтра подам рапорт обо всем. Вы слышали, что эти хулиганы кричали на всю улицу – «царский плевок» и «охранник»? Вы слыхали, если не глухой. Если видели, как отпорол нагайкой хулиганов, вы слышали! Или вы солидарны, а?… Я вас знаю: когда оскорбляют армию и Государя, вы не слышите. Когда порят нагайкой дрянь… вы заступаетесь, кричите о насилии и самоуправстве! Меня не тронете вашими истертыми словечками, знаю я вас!.. За себя я сумею всегда ответить… и отвечу! С вами разговор кончен. А тебя, хулиган, я дотащу до ректора.
И не обращая внимания на какие-то путанные слова заступника, Бураев, не выпуская ворота семинариста, спрыгнул с коня и направился к освещенному двумя фонарями подъезду семинарии. Вызвав звонком швейцара, он приказал ему подержать коня и, все еще держа за ворот примолкшего семинариста, сказал попавшемуся навстречу ламповщику, чтобы провел его к господину ректору. Скоро явился, скатившись с лестницы, худой и высокий инспектор семинарии, в виц-мундире, с оловянными пуговицами. Бураев объяснил вкратце и потребовал самого ректора. Инспектор стал уверять, что он имеет достаточно полномочий, что в такой поздний час… приемные часы кончились… господин ректор занят учеными трудами в своей библиотеке…
– Дело настолько серьезно, что я прошу вас побеспокоить господина ректора, иначе я не уйду! – твердо сказал Бураев.
Его попросили к ректору, в кабинет. Он повел за собой семинариста.
Благообразный архимандрит, в темном подряснике, сидел в кресле, в груде бумаг и книг. Он вдумчиво выслушал Бураева, покачал неодобрительно головой, потом покачал уже с одобрением, когда дело дошло до порки, и объявил:
– Не могу во всем усмотреть иного чего, кроме, во-первых, бесстыдного и прискорбного поведения негодных, участь которых будет решена завтра же… и, во-вторых, справедливого и государственного внушения негодным. И ото всего сердца благодарю вас, капитан… ибо во всем этом бесчинстве больше значимости, чем кажется. Наша семинария борется с этим смердящим духом разложения нравов и попирания законов. Эти гады завтра же будут извержены. Только прошу вас… не доводите до официального пути, во избежание пересудов в обществе нашем, между нами, скудоумном и пустоумном… дабы не вышло соблазна горшего и…
– Простите, господин ректор, но я обязан подать командиру рапорт… – сказал Бураев.
– Лишняя суета… зачем?
– Таков закон, господин ректор.
– Ну, в таком случае, творите по закону.
Качая в возбуждении нагайкой, Бураев вышел. Швейцар, передавая «Рябчика», сказал почтительно:
– Прямо, ваше благородие, никакого сладу с ими, и начальство наше… – он понизил голос, – ни-куда, никакой дисциплины… воспитатели водку с ими хлещут, а то чего и хуже. Ну, какие же из них попы-то выйдут!.. Тридцать два года здесь служу… год от году хуже. – Он получил пятиалтынный и поклонился. – Одна, можно сказать, похабщина… только и слышишь, что мать да мать!..
– Верно, старик! – сказал Бураев. – Солдат?
– Так точно, ваше благородие… Иван Баранов, старший унтер-офицер, 72 пехотного Тульского полка, в чистой с 89 году! Наш полк с самим Суворовым в Итальянском походе был… барабан у нас пробило ядром… потому у нас теперь особый барабанный бой при марше, и турецкий барабан числится по штату военного времени, ваше благородие!.. – радостно и гордо сообщил Бураеву старик-швейцар.
– Вот ты какой… молодчик! – весело сказал Бураев, только сейчас заметив у солдата Георгия. – Был в боях?
– Так точно, в осьмнадцати боях, ваше благородие! Первое…
– Заходи, брат, как-нибудь… с лагерей вернемся, ко мне чайку попить, к капитану Бураеву, в полку узнаешь. Вот тогда расскажешь, буду ждать.
– Покорнейше благодарю, ваше благородие. Упомню, обязательно зайду.
Он подал стремя и еще молодецки топнул.
– Ну, прощай, Баранов.
– Счастливо ехать, ваше благородие!
Бураев был растроган этой неожиданной встречей. Не мог он равнодушно проходить мимо героев, особенно мимо солдат-героев. «Как знаменательно-то вышло», – думал он, – только что были хулиганы, молодежь… ни чести, ни отваги, и тут же рядом, старый человек, прямой и верный! И сколько их таких, невидных. Ими и жива Россия, на всех путях… Суворов в сердце, не забыл и тут… «барабан у нас пробило»! Когда же было, в битве при Требим… солдат, а знает. А спроси этих… «мать да мать!» Все еще связан с «нашим»: «у нас особый барабанный бой», «наш полк с самим Суворовым!» Почему прежние – такие, а теперь?… И во многом так. Родиной гордились, своим. Откуда этот халуек общественный, протестант – спортсмэн? Не разобравшись, вопиет: «насилие, публично издеваетесь над мальчиком!» – хотя прекрасно знает, что хулиган. Губернатором грозится, а тот же губернатор у него – «бурбон», «нагайщик», «столыпинец»? Потому что офицер вмешался! Знать не знает, что тот же «офицер» всегда обязан!.. Присягой, честью. Старая повадка, рабья. И всегда тычут – привиллегии! Сколько исписали… Чуть что, ведь на коленках будет ерзать, чтобы не дали в морду. В 905 было, попритихли. Этот старик не раб. Крест на шее, и крестом отмечен, верный русский человек. Общество дает опору негодяям, не чтит закона, не понимает власти и не умеет властвовать. Гордый студень! А тоже – «не позволю». И еще лезут государством управлять. С огнем играют, пораженцы!
VIII
«К батальонному заехать обещал», – вспомнил Бураев встречу и повернул к заставе. Кожинский забор тянулся по концу Московской, ворота выходили к полю. Бураев свернул направо, полевым простором. Старые тополя шуршали в ветре, пахли горьковато-клейко. У каменных ворот, под плесень, с отбитыми шарами, он позвонился. Знакомо раздалось по саду, в глубине, – бом… бом… Залаяли овчарки. Было видно в щели, как из людской выходит кто-то с фонарем и светит к лужам. Кричит овчаркам – цыц, лихие! Как в деревне. Это денщик Василий, садовод, как и у отца, Василий тоже. Бураев вспомнил про отца, и стало грустно. Надо написать. «Сейчас увижу Антонину, милую Юнону… интересно, какая она стала. Больше году не был, и не встречались».
Подумал: «так бы и не собрался, если бы не „свидание“». И еще подумал: «вот женщина… скоро таких не будет». И увидал – «виденье». Да, Юнона.
– Кто там?… – сторожко спросил Василий.
Бураев въехал в открытые ворота, в тихий, широкий двор, напомнивший ему родное – «Яблонево» отца, где вырос. Так же выходили с фонарем к воротам, те же тополя, светящиеся окна дома, в высоких елях. Повеяло уютом, родным, исконным, теплым. А в доме, в белом платье – мама… милая Юнона, напоминающая чем-то маму. Он позвонился на парадном и подумал, как хорошо, что он заехал, привела случайность, что-то, тот «компас», который как-то направляет.
Вот, надломилось в жизни, не к кому пойти, и вот – направил. Милая Юнона, как-то встретит?…
В нем заиграла радость и поднялось смущенье, когда послышались шаги за дверью. Отворил сам Кожин, в гимнастерке, костлявый, длинный, с тонкими усами в стрелку, в эспаньолке, как Дон-Кихот. В зале играли на рояле, как тогда. Сердце его забилось радостно-тревожно. Его встречают?…
Он вошел, смущенный. Особенно смутил полковниук, крикнул:
– Вот он, блудный сын! вернулся!.. Антонина, встречай заблудшего!.. Силой притащили, а?… Под дождем прогулки совершает… все освежается. А старые друзья забыты!
– Нет, полковник, не забыты, – в смущении сказал Бураев, – а как-то все не выходило…
Музыка замолкла. Бураев узнал знакомые шаги по залу: шла Юнона.
– Наконец-то… – появилась Антонина Александровна в дверях. – Что с вами было, милый капитан… почему так пропадали? И так внезапно… Кажется, больше года?…
Бураев поцеловал смущенно руку. Подумал: что это, насмешка?
– Как-то, Антонина Александровна, жизнь захлеснула… – сказал он искренно. – Страшно жалею… Так все как-то…
– Бывает, – пошутил полковник. – Нечего жалеть о прошлом. Так-то, братец.
Антонина была все та же, молода, свежа, светла, спокойна, как будто пополнела, стала еще прелестней.
«Новое в ней», – следил за нею с восхищением Бураев, – «нежная усталость, томность», – и сладко, и тревожно билось сердце. Полковник скрылся: что-то с инкубатором неладно.
Выйдя в залу, Антонина вдруг остановилась.
– Почему забыли? – спросила она прямо. – Много пережили?…
Этого он не ждал и растерялся. Вспомнил почему-то, как она – давно! – склонилась к нотам, как он слушал. «Совсем другая», – пробежало в мысли. Она смотрела на него с улыбкой, как – всегда?
Он ответил:
– Много вы знаете. Я ценю ваше доброе ко мне…
– Правда? – она как-будто, удивилась. – Вы не изменились. Ну, что-нибудь скажите…
«Нет, она другая… свободней стала», – решил Бураев, любуясь, как она села на качалку. – «Как прелестна!..»
– Что же говорить, вы знаете. Конечно, я не мог себе позволить у вас бывать…
– Вот как! Почему?
«Нет, она совсем другая».
– Вы курите?! – не удержался он воскликнуть.
– Что вас удивило? – спросила она спокойно. – Так, привыкла… Ну, говорите. Не могли бывать… Ну, что еще?
– Вам все понятно.
– Почему мне… все понятно? – сказала она вверх, следя за дымом.
– Потому что вы… другая! – сказал он смело.
– Я не понимаю, что это значит… другая? Какой вы странный…
– Перед вами я не могу таиться, как перед… святой! – сказал он неожиданно и тут же и подумал – «зачем я это?»
– Вот как! – она чуть усмехнулась и качнулась. Светло-сиреневое ее платье помело паркет. – О, какой вы льстец… кто вас учил?
– Я не льстец, – сказал Бураев, – вы это знаете.
– Комплиментщик, знаю! – звучно засмеялась Антонина, новым смехом. – Помните, в саду?…
Бураев грустно усмехнулся.
– Помню. Что же… вы все такая, как тогда! – сказал он прямо, в очаровании «виденья». – Видите… потому-то я не мог бывать у вас, тогда. И сегодня я не посмел бы, если бы не… полковник.
– Знаю, знаю… Ну, говорите.
– Я был обязан перестать бывать… может быть еще раньше, до «истории».
– Почему – раньше?
Бураев не ответил.
– А теперь… нисколько не обязаны… перестать бывать?
Он любовался, как она качалась, откинувшись на спинку кресла. Это оживленье, смех, играющие руки, каштановые косы, завернутые пышно, – все было новым, таинственно-прелестным новым. Он, в очаровании, ответил:
– Боюсь, что да… обязан.
Она взглянула на него издалека. Взгляд этот что-то и сказал, и нет.
– Снимите «обязательство» с себя, не стоит… – сказала она шуткой. – Впрочем, послезавтра уйдете в лагери. Но… я вам разрешаю изредка бывать и летом. Андрей Максимович приезжает каждую субботу, для садов и для хозяйства. Значит, – сказала она обычным тоном, – с вашей «историей» покончено? Вы не обижайтесь. Все знают…
– Обижаться, на вас! – восторженно сказал Бураев. – Теперь, – он усмехнулся, я уже «мальчик без истории». Как я счастлив, что могу бывать… вы для меня, как… милосердие! Уверяю вас. Если бы вы знали, как я одинок. И… всегда был одинок, – прибавил он с тоскою.
– Очень рада. Что же вы не спросите про Нету? Она теперь бо-льшая.
– Я не забыл. Не встречал давно. Большая, да…
– Ушла на панихиду по Лизе Корольковой. Вы знаете? Самоубийство…
– Знаю. Ужасно. Я ее помню… фарфоровое личико, мимо проходил в казармы, часто видал в окошке. Обыски идут у нас…
– Кажется, что-то грязное. Начальница гимназии хотела запретить, чтобы устраивали панихиду, но все восстали. Вот, Неточка пошла. Кстати, который час? Без четверти десять… Надо послать пролетку. Вы с этой Корольковой не были знакомы?…
– Никогда… Почему вы меня спросили?
– Просто так. А вы… почему так спрашиваете?
Бураев не успел ответить: вернулся батальонный, нес цыплят в лукошке.
– Надо Семена послать за Нетой, к Лисанским. Там она будет ждать.
– Куда послать? – не понял Кожин. – То есть, как за Нетой?…
– Как за Нетой! – сказала Антонина раздраженно, чему Бураев удивился. – Нета же ушла на панихиду и будет ждать! Надо послать к Лисанским…
– Вот тебе раз! – сказал полковник, потирая темя. – Давно пое-хал! Как же это ты так… волнуешься. Поужинал и поехал. Вот, полубуйся, капитан, какие у меня штуки… вот эти пли-муты! Знаешь, милая… не попробовать ли, под музыку? Эффектно будет, чорт возми!..
– Как, что… под музыку? – спросила, в испуге, Антонина.
– Что-что… Выпущу, а ты сыграешь. Посмотреть влияние… слышат или нет? Где-то я читал, что рыб на музыку манят… все и выплывают! Вот, приучить-то!.. Капитан, не смейтесь: знаете мою слабость. Скоро тридцать пять лет, все с солдатиками играл, а вот пора и отдохнуть, с цы-плят-ками-с…
Антонина вышла. Кожин любовно вынимал цыплят, пускал на коврик.
– Вот, батальон-то настоящий! Смейтесь, а – жизнь. Лучше, братец, чем все трофеи мира. Что ж, я и не скрываюсь. Скоро выхожу в отставку. Богат, а скоро буду и миллионером, да-с. Эта усадьба только между прочим. Куплю, так… десятин тысченки три, ну, понятно, пенсия. Конец войне! Скоро все армии насмарку. Тюк-тюк-тюк… – тыкал он в пол перед цыплятами. – Армии разоряют государства! да-с!.. Но… служишь – и не философствуй.
Бураев, из такта, промолчал: часто чудил полковник! Кожин унес цыпляток. Вернулась Антонина.
– Да, – это самоубийство очень взволновало город, – сказал Бураев.
– А вас?
– Но это так естественно. И меня, конечно.
– Нета говорила, – скользнула взглядом Антонина, – что в дневнике несчастной что-то есть о вас?… Вы ничего не слышали?…
– Странно. Я ее совсем не знал…
Он вспомнил о письмеце, о «К.».
– И не знали, – спросила Антонина медленно, – что вы ей очень нравились?…
– Первый раз слышу! – искренно сказал Бураев. – Теперь я стал какой-то притчей…
– Ну, простите… – взяв его руку, сказала Антонина, – я вас встревожила?…
Это ее движение и мягкость, как она сказала, его растрогали. Он не посмел сказать ей, как он счастлив, что снова ее видит. Но его взгляд сказал ей это.
– Встревожили?… чем?!.. – удивился он. – День у меня сегодня беспокойный был… а так, какие у меня тревоги!
– Да, вид у вас усталый.
Антонина отошла к окну, открыла. В окно смотрела белая сирень, в дожде.
– Хотите?… – сломила она веточку. – У нас тут солнце… уже распустилась.
Он поблагодарил и нежно поцеловал, – приник к сирени.
– Помните, – сказал он нежно, – когда-то вы меня гадать учили?
– На сирени? – бросила она небрежно.
– Нет. Это было давно, но я все помню… фуксии! – сказал Бураев, стараясь уловить ее глаза.
– Фу-ксии?… когда?… Не помню. Разве на фуксиях гадают? В первый раз слышу. Почему у вас сегодня тревожный день?…
Она пошла к роялю, но играть не села. Открыла, задумалась… закрыла.
– Я теперь даю уроки, уже больше года.
– Да, я слышал, что вы довольны. Полковник говорил… нашли цель жизни.
– Цель? – усмехнулась Антонина. – Вот как, смеяться научились!.. Я шучу, конечно. Теперь уж не такая домоседка стала… Бегаю с утра до вечера.
– Странно, ни разу вас не встретил! – сказал Бураев. – Впрочем, у меня одна дорожка – дом, казармы…
– Да? А я вас иногда встречала… Вы, кажется, в каком-то тупичке живете… неподалеку Антоньев монастырь?
– Да! – радостно сказал Бураев. – Вы знаете?… Но почему же я никогда…
– Случайно вышло… как-то я ехала и видела, вышли из тупичка, пошли в казармы. Какой же у нас с вами скучный разговор!
– Что-то ты, капитан, начал мне говорить, что-то у тебя произошло сейчас… про какой-то рапорт?… – сказал вошедший батальонный.
Бураев рассказал, что вышло.
– И превосходно, что отпорол. Вот кого бы отодрать-то… подлеца Скворца да мецената нашего Катылку! В Сибирь!.. – закричал полковник, словно на плацу. – Эти тебя продерут в «Голосе», в отделе «подтирушки», или у них «Постирушки»? Ну, да ты им головы отвертишь, я тебя, капиташа, зна-ю!..
Антонина передернула плечами и ушла. Бураев с удивлением подумал – «что такое с полковником сегодня? и Антонина как-то странно?…»
– Надо Антонину благодарить. Заметили, нарочно вышла. Что говорить, святая женщина, молюсь на нее, как на икону. Стала она давать уроки музыки… вы уж, понятно, ходить к нам перестали… стали «мальчиком с историей», как мать-командирша пропечатала. «Один Бог без греха, а мы лю-ди гре-ешные!» – неожиданно запел подполковник. А Антонина как раз тут и решила давать уроки музыки. Так сказать, наполнить зияющую пустоту. Однако, три четвертных выигрывает! – подмигнул Кожин, – скоро выкупим у банка лятифундию, с ее подмогой. Урок был у подлеца Катылина, собственника поганца «Голоса»… И приехал этот адвокатишка Скворец, редактор. Ну, за чаем кру-пный разговор… как раз у тебя, капиташа, «вынос» твой случился…
– Какой вынос? – спросил Бураев, которому стало неприятно слушать.
– Не вынос, а «вылет» правителя Краколя. Вышиб ты его? Это уж факт исторический. Вот они тут и закипели, общественники наши, ангелы-то хранители! Вот когда распотрошим-то… и губернию, и армию! Понимаешь, что говорили?… Падение нравов!.. А у этого Катылина в Москве содержанка, в монастыре послушница, и уважаемая супруга, кровь с молоком!.. Вот и прикуем к позорному столбу, на радость общественности и либералов-кадюков. Антонина, понятно, от чистоты души, им и говорит: неудобно в частную жизнь мешаться… публичного преступления нет! здесь дело вза-имное… ушла жена от мужа – и, между нами, известного прохвоста! – и муж мог требовать удовлетворения, и вообще!.. Зачем будить нездоровое любопытство, надо подымать читателей… Они ей – «мы на страже общества, и пригвоздим!» А она… Вы ее всю не знаете… ох, с темпераментом!.. – разошелся Кожин, – а перед офице-ром… – ткнул себя в грудь Кожин, – благоговеет, казачка чистокровная, атаманова дочка… на пистолетах может! а, бывало, джигитовала… засу-шит!.. Вы не глядите, что – «тихий глаз»… и консерваторию кончила на виртуозку!..
– Господа, пить чай! – позвала Антонина Александровна устало.
– Сейчас, анекдот Буравку доскажу… Она им, братец, ультиматум: ни слова в ваших «подтиронах»! Завтра намараете, – смысл-то! – а к вечеру Бураев вас обоих прро-бу-рравит!.. – сделал полковник пистолет из пальца и присел, прищурясь. – Как воробьев! – «Я – какова полковница? – этот характер очень знаю!» Ну, те и… дай бумажки! Она-то, правда, тут же, как говорится, «спокойно удалилась» – она уме-ет! – и урок к чертям, а «подтирон»-то порции не получил. Этого, заметьте, ни-кто не знает. Аминь! – полковник погрозил к столовой. – Слово взяла с меня – ни-ни! Но тебе-то… не могу же не сказать! Я тебя, чорт те знает, «люблю любовью странно-иностранной». Глядишь – ну, прямо, офицер-девица, из монастыря вот только… А можешь и в ад сейчас же. Мо-жешь! Хмуришься? На батальонного не полагается сердиться! – погрозился Кожин. – Идем к хозяйке и виду… ни-ни-ни!
«Сегодня он какой-то чумовой», – подумал опять Бураев. Но это было мимолетно. Антонина, милая Юнона, сияла в мыслях. Новая, – такой он никогда ее не видел. «Тихий глаз», – верно сказал полковник. «Вы ее всю не знаете! ох, с темпераментом… казацкой крови…» «Но как же это объяснить?» – спрашивал себя Бураев. – «Возмутилась, бросила урок, когда узнала, что я?…» Было непонятно, даже неприятно почему-то.
Вошли в столовую. Она стояла у буфета и смотрела к двери. Он встретил ее взгляд и прочитал: да, я такая! Конечно, она слышала.
– Вам, как всегда, покрепче?
– Пожалуйста. Особенно сегодня.
– Почему «особенно сегодня»?
– Очень, Антонина Александровна, устал. И еще необходимо в одно место. Уже одиннадцатый… а очень нужно.
– Очень? Деловой вы стали.
Она взглянула из-за самовара. Так она раньше не смотрела. Решительно, она другая. Тревожней стала? Он не мог решить. Свободней?…
– Не деловой, а… очень нужно! – повторил Бураев, а сам подумал: «вот заладил!»
Антонина задумчиво мешала в чашке. Полковник шумно дул на блюдце. Разговор пресекся.
– Выкупим у банка, решено! – сказал полковник. – Займусь червями, по системе… этого… ну, как его… такая звучная фамилия… – крутил он в пальцах, – ну, еще корпусной-то был?… Антониночка, не помнишь?…
– Не помню, – сказала Антонина в чашку.
– Ну, чорт с ним. Буду воспитывать на скорцонере, коконы получаются тончайшей консистенции и…
Антонина опять взглянула, и снова их взгляды встретились. Сердце Бураева остановилось. Взгляд был мгновенный, – и тоска, и радость.
– Партийку сыграем? – нежданно предложил полковник, обрывая хозяйственные планы.
Бураев колебался. Остаться? Антонина, склонившись, медленно переливала с ложечки. О, милая! – сказал он взглядом. Сердце было полно таким безмерным, что он не мог остаться. Скорей на воздух, скакать, все вспомнить, привести в порядок. Он задыхался от волненья, зная, что сейчас случится, должно случиться. Он взглянул опять. Она переливала с ложечки. Он видел милую ее головку, завернутые косы.
– Сегодня не могу, полковник. Если разрешите, завтра?… Дал слово быть. Приехал из Москвы профессор, надо быть, неловко… – путался в словах Бураев. – Доклад какой-то… важный… об «основах жизни».
– Ну, Бог с вами, до-кладчики. Ну, завтра. Перед лагерями отпразднуем. Покажу, какие я реформы провожу…
– Уходите… – сказала Антонина утомленно, бросая ложечку. – Что так скоро?
Как всегда, она была спокойна, замкнута. Глаза сияли ровным светом. Провожая, она сказала:
– Яблони зацветают…
Бураев вспомнил «перламутр» и «маму» – первое знакомство.
– Да, я помню ваш перламутр…
– Что за перламутр? – спросил полковник.
– Яблони когда у вас цветут… все, как перламутр. – восторженно сказал Бураев. – Помню, когда я в первый раз увидел… – он остановился, – как перламутр, так я живо помню…
– И «маму»? – усмехнулась Антонина.
Засмеялись все. Громче всех полковник.
– Конечно!.. – сказал Бураев, – сколько мне за «маму» попадало, как не помнить! Да, чудесно теперь будет. А в лагерях одни березки да осинки. У вас укрытей. А в нашем тупичке открыто к пойме… чуть только начинает розоветь.
– Ну, значит, завтра… кстати сады посмотрим, – напомнил Кожин.
«Машенька приедет завтра», – вспомнил досадливо Бураев.
– Завтра… постараюсь, господин полковник.
– Визи-тер! Сидит, как на иголках, на часы все… Уж по правде, свиданье, что ли?…
– Никак нет. Полное одиночество. Как на походе, можете взглянуть. А сплю, как полагается, на гитаре… – он вспомнил, что приказал Валясику. – Голо, как в келье. Портрет, в веночке, да иконка.
– А чей портрет-то? – подмигнул полковник.
– Мамин, господин полковник.
– Отцы пустынники… и жены непорочны! – вздохнул полковник. – Так вот поглядишь… изящный капитан, пачками влюбляются… ну-ну! Ну, а когда порол нагайкой, а… зверем? Знаю твой слабый темперамент, слыхали, как на войне-то! Кажется, тоже, казацкой крови… что-то ты говорил?
– Есть немножко. По маме, запорожской. Только мама кроткая была. Да и я, господин полковник, не из зверей, – не уходил Бураев, мялся. – Горяч я, правда. А солдата ни разу не коснулся, в этом чист.
– Этим не гордись. Бывает – стоит. Да уж либералы, что говорить!
Стояли под лестницей, в большой передней, слабо освещенной. Антонина – у косяка, задумалась о чем-то.
– Где же Нета? – вскрикнул неожиданно полковник. – Нельзя так поздно!
– Как ты испугал… Сам же сказал – Семен поехал.
– Верно, Семен поехал.
Прощаясь, Антонина задержала руку. Бураев уловил в глазах и боль, и радость.
IX
– Любит?… – спросил он небо.
Крапал дождик, фонари мигали в ветре. Сердце горело болью и восторгом. Как же могло случиться?! «Или это страсть, привычка к женщине?… Или это счастье, и я – люблю?…» – спрашивал себя Бураев. – «То, главное… пришло?… Так, внезапно? Нет, было, с первого же дня, тогда…»
Он оглянулся на усадьбу. Те же тополя шумели в ветре – и не те же. О, чудесный дождь! Как пахнет тополями и сиренью, белой, той сиренью!
«Нежная моя!..» – сказал он страстно тополям и ночи.
«Рябчик» шел в тугих поводьях, гарцовал. Бураев охватил его за шею.
– Ми-лый!..
«Рябчик» закинулся, понесся. Еле сдержал его Бураев, дал шпоры и пустил в галоп. Город уже спал. Летели фонари навстречу, тумбы, ветер, темные дома, в лампадках, пустые перекрестки, трактир с машиной, с окнами в огнях, гармонья, церковь с фонарем над входом, гауптвахта, площадь, черный сад, удар с собора, городовой на тумбе, лай собак, раздолье… «Рябчик» застриг ушами, отфыркался и перешел на шаг. Пахло тополями, майской ночью. От бешеного гона стало жарко. Бураев снял фуражку и дышал всей грудью. Как чудесно жить! И все чудесно: и дождь, и старые заборы, и тихие лампадки в окнах, и сторож с колотушкой где-то. Все пело, открывало тайну – любит! Во всем, в молчаньи самой ночи, было – любит! Он припоминал слова, молчанье, взгляды… – любит! Замкнутость и ровность, холодность даже, которые он знал давно-давно, – все стало ясно. Любила, любит! Покорность, сила воли, – так всё ясно.
Он переживал, старался вспомнить. Ну, конечно, ясно. Мучается, любит, втайне. То же и в нем хранилось, теперь он понял. Зрело столько лет – пробилось. Да, любит, и всегда любил. Боялся себе сознаться – всегда любил. Этот взгляд прощальный, слабое пожатье пальцев… Любит! Теперь-то что же?
Бураев отмахнулся: не стоит думать.
Отыскивал в забытом. Было, много было. Мартовское солнце на полу, когда она играла, склонилась к нотам. Взгляд испуга… А фуксии! Забыла.
Тому три года. Только-что пришли из лагерей. Весь сад был в яблоках. Полковник ходил с покупщиком и торговался.
– Хотите, – сказала Антонина, – покажу оранжерею? Лагери вам на пользу, вы стали бронзовый.
Он хотел сказать: «а вы, Юнона, стали еще прелестней!» Не посмел. Они прошли в оранжерею. Было зеленовато-светло, как в воде. Прямо, светило через стекла солнце, зеленовато. На Антонине было – о, как помнил! – светло-голубое, тонкое, совсем сквозное. На солнце были видны все линии ее фигуры, – как в воде. Она шла томно, отводила ветки олеандров, чуть, через плечо, смотрела. Он любовался изумительною шеей, с таким изгибом, – какие видел на портретах, в Эрмитаже. Каштановые косы, замотанные на ее головке, золотились, в озареньи.
Она остановилась, в блеске:
– Посмотрите, вот фуксии.
Фуксии в тот год цвели роскошно. Деревца стояли сплошь в розово-фиолетовых, с серебряными нитями, сережках. Он любовался ею.
– Вы молчите… не нравятся?
Она смотрела плутовато. Он сказал:
– С детства я люблю белые цветы. И голубые… как ваше платье.
Она сказала, окидывая взглядом платье:
– Колокольчики? Нет, они темнее. Незабудки…
– Да, и незабудки… как у вас бывают иногда глаза.
– У меня темней. Это от освещения. Фуксии вам не нравятся… А так?…
Она сняла двояшки, приложила и чуть встряхнула.
– А так? Правда, чудесные сережки? Ко мне идет?…
Он молча любовался ею.
– Молчите… Опять не нравится?
Чуть отступил, смотрел. Она держала.
– Чудесно! К вам все идет… вы порозовели, а всегда бледны. Это от «сережек».
– Какой вы… наблюдательный!
Она задумалась. Вдруг ее глаза раскрылись, усмехнулись.
– А знаете, на них гадают.
– Погадайте мне… или себе?
– Мне не о чем гадать, – сказала она нервно, что его очень удивило. – Прошли гаданья, ожиданья…
– Смотря о чем…
– О чем гадают… о любви, конечно! – небрежно повела она головкой и пропела: – Утихла страсть… прошла лю-бо-овь!.. И ра-достъ сладкого свида-нья…
И вдруг оборвала, закрылась. Он сказал:
– Бывает – не проходит.
Она насмешливо взглянула.
– Вы знаете?
И затрясла «сережки». Он сказал:
– Пока… не знаю. Предполагаю…
– Узнаете – скажите. Сколько вам лет?
– Тридцать второй. А вам?…
– Это прилично? Ну, хорошо… мне скоро тридцать. Опыт, пожалуй, одинаков? Или вы… опытней? Навряд… – сказала она мягче. – Хотите, научу гадать? Может, вдруг, случится…
– Очень может… – согласился он, любуясь.
– Если захотите… приворожить любимого… что я говорю!.. лю-би-му-ю… найдите парочку-двояшку, вот как эта, – сняла она «сережки», – и…
Она умолкла и начала болтать «сережки».
– И что?…
– Что же надо?… – задумалась она, – ах, да. Надо взять… Забыла, что-то надо сделать с «сережками». Что же надо?… Нет, не помню. Очень давно гадала.
– Ну, как жаль… – сказал он, любуясь откровенней.
Она сняла двояшку и разняла. Шла – думала о чем-то, грустно.
– Пойдемте, здесь очень душно.
– Так и не вспомните?
– Что? – спросила она рассеяно.
– Хотели научить гадать…
– Но если я забыла!.. Какой вы странный… забыла. Вот, я и музыку почти забыла. Как я играла раньше!..
И пошла скорее. Его смутило. Он подумал: разве он что-нибудь позволил? Шел за ней, смущенный.
– Ах, погодите, – сказала она быстро и обернулась, – я вспомнила! Надо разнять цветочки, вот так… – и она разняла двояшку, – и один цветочек положить себе на грудь, вот так… – опустила она за платье, скромно, – а дружку надо… Что же с дружкой?… – Она задумалась. – Не помню. Что-то надо с дружкой… Нет, забыла.
Вернувшись, он нашел цветочек-дружку у себя в пальто, увядший. «Вот что надо сделать!» – вскрикнул он, не веря. Боялся верить. Может быть, случайность? В пальто… в оранжерее в кителе… случайность? Не случайность. И верил, и не верил. Долго не приходил, смущался. Наконец, пришел – и не посмел. Ни взгляда, ни намека. Все та же: замкнута, спокойна, как всегда. Он сохранил цветочек – дружку.
Вот – приворожила, крепко.
«Что же теперь?» – спросил себя Бураев. – «На муку? так это – „главное?“»
Право женщины – дарить любовью, которое он признавал за ней, здесь отступало перед честью. Это он видел ясно. Обмана быть не может. Любовь – на муку?…
«Да как же это… как могло так, сразу?» – спросил себя Бураев. – «Только вчера я мучился, чуть ли не… А теперь люблю?! Новая любовь… а то, что было? Где же верно?…»
Он посмотрел на небо. Сеял дождик. Мокрые деревья никли. В пустых еще садах ходило ветром. Вот и тупичек, привез сам «Рябчик».
«А она как смотрит? И она не сможет.»
Он вызвал в памяти ее лицо – ее закрытость, сдержанность, холодность, нежность, грусть… Вспомнил тайну, которую хранили ее глаза, вдруг прорывавшуюся блеском.
«Не сможет».
Все путалось. Не стоит думать.
В дом не хотелось. Он разбудил Валясика и приказал взять лошадь.
– Сильно разогрелся, поводи. К двенадцати вернусь. Да… все, что я приказал, ты сделал… там, в квартире?
– Так точно, ваше высокоблагородие, теперь все чисто.
Дождь превратился в ливень. Несмотря на сильную усталость, Бураев пошел к Глаголеву: тянуло на люди.
X
Нижне-Садовая, или, по-старому, Глухая, в редких фонарях, спала. У старой церкви Спаса-на-Канавке, под горой, стучала сонно колотушка. Дом учителя был двух-этажный, за гвоздяным забором. Пришлось звониться. Выбежал хозяин с папироской, забормотал несвязно, зажигая спички в ветре:
– Вы? Как я рад, глазам не верю… А у нас скандал такой!..
– Скандал?… – оторопел Бураев.
– Да не беспокойтесь… в переносном смысле, скандал-то… а так-то тихо. Что и делать не знаю, все народ солидный… Проходите вот по дощечкам, я посвечу… чортовы спички делают!.. С горки натекает, знаете… Как я рад… главное, народ-то ранний все, укладливый, а тут скандал…
– В чем дело, какой же, собственно, скандал? – спрашивал Бураев, в луже. – Да у вас озера!..
– Глина… натекает. И батюшка покойный все мучился… Сюда, посуше… – торопил Глаголев. – Крушение произошло, как, знаете, нарочно. Ездил встречать на станцию… Выбрались? вот, свечу… Тьфу, вот они розовые-то спички!.. Милый капитан, сю-да! – кричал Глаголев, шлепая по луже. – Крушение! В Томках вагоны оторвались, поезд задержан на полтора часа! Неизвестно только, не оторвался ли Гулдобин? Если в передних, так… Если не оторвался, непременно будет… завтра ему рано надо в Нижний, сколько пересадок…
«Очумел он, что ли?» – раздумывал Бураев, – «уж идти ли?…»
– Ради Бога, уж не уходите!.. – молил Глаголев, словно угадавши мысли. – Все-таки гостей хоть несколько подбодрит. Собственно, не гостей, а… почтеннейшие люди раскачались, сдвинулись во-имя, так сказать, национального… и Кущерин, библиофил наш, по старинным книгам, у него завод крахмальный, и староста соборный Буторов, лесопромышленник… кряжи все, сколько усилий стоило да еще под воскресенье!.. – сообщал Глаголев, ведя Бураева по переходцам.
– Вот и попал к вам, за «приятным»… угощайте! – шутил Бураев, возбужденный.
– Сюда, на галерейку. Вы только у меня в низке были, в книгохранилище… прошу. Нашего мудреца увидите, Илью Акинфыча. Огородник…
– Огородников? Не слыхал такого.
– Оогородник, Валунов. Во все Заречье огороды. С Ключевским переписывался! Помните – «Мрежи рыбак растилал по брегу студенного моря»? Вот такого сорта.
– Да у вас чудесно! Как вышивки… Воображаю, днем!..
На тусклом свете уличного фонаря вся галерея мерцала переливами мельчайших разноцветных стекол.
– Это мой батюшка покойный, по образцам-с. Это вот «новгородское шитье», а там Поморье, и дальше все. Днем залюбуешься, что там европейские розетки! Только начинаем приступать к раскопкам. Сейчас его увидите… Адриан Васильич Кискин, мещанский староста, основатель нашего музея… чего набрал! Это уж наша, коренная интеллигенция, не петербургская. Мало о ней известно-с. Таких-то нам и надо. А это все гравюры, портреты славных. Батюшка так и называл: сыны России. Из лаптя вышел, а вот…
В ворота застучали, донесся оклик:
– Эй, доложи там… лошадь за Адриян Василичем!..
– За Кискиным, – сказал Глаголев, – такая незадача.
Бураев вошел в прихожую. Против двери висела старая гравюра – «Москва XVI века». По стене стояли кованые сундуки. Висели деревянные резные блюда. На полках красовались солоницы, бураки, ковши. По карнизам тянулись вышивки-подзоры.
– А эти… – увидал Бураев лапти, – тоже редкость?
– Память это. Батюшка берег. Так, кажется, у Пяста было. Вот и он, берег. Отсюда вышел. Плотогоном был. А через полвека стал почетным человеком, в городских головах сидел… Прошу покорно. Вот, позвольте познакомить, Степан Александрович Бураев, капитан! – крикнул Глаголев в залу.
– А как же-с, имели удовольствие… – отозвался кто-то.
Бураев узнал колониальщика Рубкова, в золотых очках, с лицом профессора: покупал, бывало, с Люси конфеты. Народу было много. Опять звонили: прислали за Кущериным.
– Дольше не могу, уж извините… – поднялся важный, в сюртуке, старик Кущерин, – в пять встаем. Другой раз уж лошадь присылают. Надо бы как пораньше, что ли-с…
– Крушение! Не смею уж задерживать… – повторял растерянно Глаголев.
Стали подниматься и другие: козлобородый Кискин, Рубков, седой, румяный, староста соборный Буторов. Буторов сказал:
– И рады умных людей послушать, да, видно, горе уж такое наше… всегда с припозданьицем. Скоро и петушкам кричать. Да и к ранней завтра.
А Бураев слышал: «эх, вы… господа интеллигенты, не сваришь с вами каши! такого пустяка не можете!»
Проводив гостей, Глаголев уныло сообщил собранию:
– Мальчишка с вокзала прибежал. Говорит, Гулдобин остался в Томках, по телефону дано знать на станцию. Теперь он прямо проедет в Нижний, завтра у него там собрание, а когда условимся, я предуведомлю. А пока ознакомьтесь, господа, с его брошюрой – «Истинный путь России». Ну, чайку попьем… Наденька, что же ты гостей-то оставляешь? – крикнул Глаголев в комнаты.
Бураев приглядывался с интересом. Длинный, низкий зал напоминал ему старинные палаты, с залавками, с горками и поставцами, с оконцами в глубоких нишах, с печкой в изразцах-узорах, с резным карнизом. Перед старинным Спасом теплилась лампада. Висели виды Москвы и Киева, монастырей, соборов, старых городищ. За столом, накрытым шитой скатертью, сидело человек двенадцать. Наденька, единственная дочь Глаголева, была хозяйкой, чинно разливала чай. «Милая какая», – полюбовался на нее Бураев, – «сарафан наденет – совсем боярышня». Очень ему понравилось, когда она спросила, не подымая глаз:
– Вам как позволите, всладкую… или будете пить вприкуску?
«Вот, целина-то-матушка… словно из XVII века вышла!» – подумал он. – «А глазки, как-будто, строгие».
Он любовался свежестью ее лица, румянцем, гладко причесанной головкой, черной косою в ленте. И думал: «как она несовременна! редко таких смиренниц встретишь».
Он закурил. Наденька вскинула ресницы, чуть взглянула.
– Пепельница там, – сказала она тихо, поведя глазами к двери, – чаю я могу подать туда?…
– Простите, может быть за столом у вас не курят… – спросил Бураев. – Разрешите?
– Как угодно, – сказала она так же тихо.
Он смешался. Ждал обыкновенного – «пожалуйста, курите», а тут – «как угодно». И не стал курить. Она спокойно продолжала разливать. Подсел лесничий Высокосов, знакомый по охоте.
– В чем, собственно, тут дело… цель собрания? – спросил Бураев.
– Россию ищем, – подмигнул лесничий. – Перейдем подальше, а то тут… для некурящих. Наденька не любит, еще, пожалуй, забранится. Правда, Надюк? Я ведь ее такую помню, на руках носил. А, правда?
– Правда, – сказала Наденька.
– Что же «правда», – спросил Бураев, – что Андрей Михайлыч на руках вас нашивал, это неудивительно, конечно… и я бы, пожалуй, мог… или «правда», что вы, пожалуй, забранитесь?
– Последнее, – сказала Наденька, не улыбнувшись. – Это только сегодня исключение, а то я никогда не позволяю.
«Вот так смиренница!» – подумал весело Бураев.
– О, вы строгая.
– При чем тут – строгая? Воздух должен быть чистый в комнатах.
Сказала скромно, не взглянула. Это ему понравилось. В профиль она была еще милее: совсем как монастырка.
– Ну, мы отойдем подальше, чтобы не смущать, – сказал Бураев, ожидая, что она посмотрит. Но она не повела ресничкой. Они уселись на залавке.
– Так вот как… ищите Россию. В чем же дело?
– Чудаковат немножко Мокей Васильич. Видите стиль-то, – показал лесничий, – с папаши. Старик был, правда, самобытный. И крутой. Внучка в него характером, цельная натура, само-бытка. Сразу ее не разглядите. Вышла из гимназии, хочет учиться дома… – не по ней! Я ее – Надежда-Правительница величаю. Это вот собрание устроить папаша чуть ли не на коленях у ней выпрашивал. Говорит – глупости! Да и верно. Видели, что получилось?
– Однако… – сказал Бураев, смотря на Наденьку. – Сколько ей, шестнадцать?
– Восемнадцать. Если бы не она, Мокей Васильич все бы давно растряс с разными планами своими. То жена-покойница держала, а теперь вот «мать-игуменья». Деньги все у ней, а то бы все на книжечки…
– Ну, а это собрание? Ведь серьезные все люди были. Если знают Глаголева…
Лесничий отмахнулся.
– Наши кряжики-то то-же, сам с усам. По-литики. А вот. Мокей наш давно готовит труд «Русские основы», томов, говорил, на пять. Отыскал в Москве союзника, одного молодого историко-философа, самого этого Гулдобина… говорят, будущее светило, громаднейшей энергии. И вот они решили создавать новую интеллигенцию. Старая обанкротилась, выветрилась национально, назначение свое «выбить национальную искру» выполнила, – в отставку! Вы знаете идею Столыпинской реформы?…
Бураева все это мало интересовало. Но он был взвинчен, радостен, – куда ни шло!
– Немножко знаю, по газетам. Ставка на сильных, кажется…
– Вот, это самое: на крепких мужиков!.. Выдел на хутора, развитие собственничества… Ну, так тут ставка на национально сильного интеллигента. Где его найти? В недрах! Кстати, после 905-го, начался пересмотр идеологий в интеллигенции. Вот они и кладут «основу». Гулдобин ездит по городам, делает, так сказать, пробные посевы. Народную интеллигенцию, в самом коренном смысле, с перекрестков и торжищ, собирают, «самобыть», не мелкотравчатую только, а, главное, кряжистую, для основы-то… с национальными заветами, но не с троицей только «самодержавие, православие, народность», как у славянофилов, а с широкими поправками на современность. Основа – черпать из народных недр. Проекты очень грандиозные… Могущественная печать – посильнее «Слова»… с Сытиным уж Гулдобин пробовал, пока не вышло, огромное «национальное издательство»… много всего. А когда кружочки образуются, двинут в дело… тогда уж вдвинутся в политику.
– Да, тут политика в основе!
– Пока нет. Мокей хоть и блаженный, а упря-мый. И нашего «ястребка», губернатора, заполонил, уроки дает его балбесу. Тот – полное содействие. Очевидно, метит в Столыпины. Вот они оба и готовят обширную записку в министерство. Стал Мокей кряжей-то собирать, а они уж пронюхали… и заявились. А то бы разве стронулись! И уплелись, благо крушение случилось, Гулдобин оторвался. Сегодня как раз интимная беседа предполагалась, с «крепкими».
– И мы с вами, выходит, в крепкие попали?
– Ну, какой я крепкий. Меня-то Мокей знает, наши отцы еще дружили. Не возражаю, хуже-то все равно не будет. Интеллигенция в разброде, не мешает и нового сочку подбавить, только они заносятся… «Миссию» опять давай! А вас он, видимо, облюбовал чутьем, считает нужным…Мокей не глуп. Видите, народ! Повыбрал годных, с нервом. Копнуть у нас – всего найдется. У меня лесники есть… и воры, и святые, и анархисты, и Минины. Материал найдется на всяку стройку. А у вас в роте?…
– Есть удивительные молодцы. У меня в учебной команде были… ох, какие! – сказал Бураев.
– Город наш я знаю больше сорока лет, рос с мальчишками… Есть и пропали, а есть – и много! – таких, что и американцев за пояс заткнут. Россию надо знать. Здесь вот, все с отметиной. Отъехавшие… все в своем роде знаменитости, сами в люди вышли, народ серьезный, могут и дело делать, и обмозговать, и жертвовать, коль их зацепит за живое. Надо зацепить уметь. Мокею не зацепить. Ну, а Гулдобин, если по душе придется, может и зацепить. Если психолог, как Мокей поет, да умница, да с огоньком… может наклевать. Да вот, попик молодой, чернявенький, все руками сучит? Это отец Никандр, с Гончарной, так и зовут «мужицкий батя»… За ним и депо, и фабрики. Ведет! К Богу ведет и к родине. Все его прихожане, поговорите… – патриоты! Ни один агитатор теперь и носа не сует. За пять лет увел и в недра православия, и к России! Вдовец – аскет. Ничего не имеет, все отдает. Пробовал архиерей его за «протесты» изымать… – помните, тысячная депутация пришла к собору, требовать архиерея? И подали петицию. А вот того лобастого старика видите… на апостола Петра похож, нос, как у Сократа? Это огородник Валунов… фи-гура! Из такого теста Ломоносовы выходят. Василий Родионыч, папаша-то Мокея, выписал его из своих мест, под Жиздрой. Был подпаском. И вот, от лаптя – чуть ли не миллионер. И, уверяю вас, ровно никого не грабил. Не смотрите, что он в чуйке. Это он чудит, и из гонора. Чуйка его эта стоит дороже сюртука со смокингом, «аглицкого королевского суконца-с». У него в Смоленской свыше двух тысяч десятин какого строяка, сам меня возил проверить, ладно ли ведется дело. Говорит – «все у меня с огурчика!» Зимами «про историю» читает, летом с зари работает, «по огородцу-с». В Думу выборщиком прошел самостоятельно, вне партий. На депутата предлагали баллотироваться – не захотел: «в следующий раз подвигнусь, говорит… вот как прочитаю про финансы!» И читает, уверяю вас. С Каблуковым переписывался, сам к нему ездил за указанием. Ключевский езжал к нему, рыбу ловили вместе. Переписывался с ним… Это вот сила, может Мокея подпереть и за волосы попридержать. Видите, как ему Надежда чай-то подала, ласковая какая! Молится, прямо, на него, на крестного. Он и Мокея выручил, как тот после жены, тому три года, чуть было в трубу не вылетел, с закладной увяз. Старик-то тоже особый был, знал Мокея… двести тысяч положил на эту самую «свою Надежду», до совершеннолетия ни грошика не трогать, в Государственном Банке, в золотой ренте положил, «а ты, говорит, учительствуй, Мокешка, с тебя хватит… а дочка без хлеба не оставит!» Мокей все бы на книжечки ухлопал.
– Богатая невеста!
– Присватайтесь… А вон тот, в пиджачке, синяя фантазия, рябой? Это мастер из депо, Пахомов… тоже особенный. Из «савлов», бывший социалист. Теперь – поговорите с ним… это уж, сам как-то доискался, – «русская основа». Друзья с о. Никандром, не разольешь. Крутят что-то свое, «ведут». И этот может подпереть. А рядом с батей – мещанин Сергеев, лошадник. Этот был «союзник», самый ярый. В 905-м что вытворял!.. Теперь в «национальный социализм» какой-то метит, не разберешь.
К ним подсел Глаголев. Блестя очками и тряся кусточками бородки, – за кусточки прозвали его гимназисты – «Мох Васильич», – он начал объяснять «идею».
– Я уж просветил Степана Александровича, – сказал лесничий. – Говорит, это хорошо – искать Россию… только вот не знает, куда она девалась!
– Нет, серьезно… одобряете?
– Что вам мое-то одобрение… ищите! – посмеялся и Бураев. – Наше дело другое… мы, военные, не общественные люди.
– Думаете, что здесь политика? Ровно никакой политики! Наша задача новую интеллигенцию создать, национальную… чисто просветительные цели-с. Определить себя… к России! Что когда-то было достоянием русских исключительных умов… Хомякова, Аксакова, Самарина, Достоевского, Леонтьева… – вон все они!.. – показал Глаголев на портреты, – и что теперь почти забыто, сделать это народным достоянием-с… представить в уточненной форме, близкой и понятной массам. Это уже будет не славянофильством… тут звучит некая как бы насмешка… а «русской основой», символом веры как бы… Но не навязывать, как плод интеллигентской мысли, а вывести на всенародную проверку, поднять повыше, – вот, пожалуйте, смотрите и решайте! А то ведь все под спудом. Молодое поколение даже и не подозревает, чем владеет. Многое сознательно скрывалось, уверяю вас! Скажите по совести, ну, знаете вы сами эти сокровища национальной нашей мысли?
– Очень мало знаю… пожалуй, и совсем не знаю, – сказал Бураев.
– Видите?… Наша задача, между прочим, не только это «вскрытие»… а и обновление, и пополнение. Надо раздразнить национальный нерв и дать ему питание. Наш национальный нерв дремлет… или возбужден искусственно, как-бы сивухой отравлен, да-с! Вот вам… – шопотом заговорил Глаголев, – хотя бы эти «союзы русского народа», «гражданины», «богдановичи»… много всего там, в Питере!.. Через это чистые национальные порывы забрасываются грязью и извращаются. Носитель национальных идеалов клеймится «передовой» интеллигенцией как черносотенец, а этого клейма боятся. Наша задача – научить смело мыслить, по-русски мыслить и по-русски чувствовать и не бояться исповедовать святое, наше. С этим вы согласны?
– Превосходно. Я всегда так думал и, когда надо, действовал, – сказал Бураев.
– Надо, чтобы идея охватила массы, чтобы все были как бы в круговой поруке, как бы в приказе у России… чтобы все были, как верные ее солдаты!
Слово «солдаты» приятно тронуло Бураева. Так всегда он думал: все – для России, все – верные ее солдаты.
– Наша цель в том, – продолжал с горячьностью Глаголев, – чтобы найти национальные основы, наши цели… иначе мы не нация, которая живет и развивается, а пыль, случайность, которая… может и пропасть в случайном!.. Случай – для слепых. Пора быть зрячими. А мы? Соберите десяток любых интеллигентов и спросите… какая цель России? Никто не скажет или каждый по-своему ответит… Полный разброд, как на распутьи… топчемся! Нет национальной, вещей цели. Мозг страны – в разброде. – Чего же спрашивать с народа!..
– Позвольте… – вмешался батюшка, – дополнить. Цели не желают видеть, а она ясна, как солнце. Была и есть, только о ней забыли. По наблюдению, которое имею, самые честные и культурнейшие люди… был я недавно в Петербурге и слушал беседу в религиозно-философском обществе… лучшие люди растерялись и в большой тревоге… честнейшие и чуткие… но хоть и ощупью, а ищут. Найдут ли? Далеко ищут, а оно близко, но… не в Петербурге! По-бо-жьи! – вот что. Вот она, цель России, вещая… И она – в народе. Божье зернышко упало на Россию с неба! У меня в приходе почти пять тысяч… и даже самый последний, самый блудник и грешник, знает… что? А вот что: надо жить по-божьи! Вот «основа». Положите во главу угла. Устроить нашу жизнь по-божьи – раз, и прочие народы научить сему – два. У других народов вы не услышите «по-божьи». В богатейших и славнейших странах… что? Там другое! Не по-божьи, а… «как мне приятно» и «как мне полезно»! Мне!.. А как это приятное и полезное заполучить? А… «как возможно легче и практичней»! Правда, когда еще сказал Шеллинг, что христианство есть откровение Божества в истории! Божество-то открывалось, и не раз, и будет открываться… в истории, а его не могут и не желают видеть. Теперь сугубо не желают. Слишком теперь по-Протагоровски: человек есть мера всех вещей! И меряет. Помните Манфреда – «и кто всех больше знает, тем горше должен плакать, убедившись, что древо знания – не древо жизни»! Хоть и тоже давний, а господин Штирнер пронизал-таки всю жизнь, и теперь уже и у нас, в массы даже проходит принцип – «каждый свой собственный бог, и все против друг друга, и все со всех сторон против Бога»! А душа народа нашего свое несет. Она за, за государством видит… цель-то! У нашего народа государство в душе-то никогда и не было настоящей целью, а только средством к высочайшей цели, к Богу! Потому и негосударственен, он вождей высоких ищет… И дайте ему – вы-со-ких! Идите из его – «по-божьи»! А политикой его не взять, если политика во-имя только государства. Его пути на… запределье! Или к Богу, или уж, если поведут в другое запределье… так к дьяволу! Надо выбирать… Наши интеллигенты хотят его пострич, притишить, пиджачок ему приобрести, в «культуру» его ввести, чтобы он тоже – «как мне приятно» и «как мне полезно»… А он ломаться долго будет. Может и обломают, только, ведь радости тут мало. Ему… зернышко Христово пало с неба… вот и надо, как я понимаю «основы» ваши, набирать духовных воинов, в нем самом… можно и из интеллигенции найти, просеять… и вот на этой-то закваске и ставить тесто. Добрый будет хлеб!.. Это-то и значит, как я разумею… искать Россию!..
«Ну, кажется, с меня довольно», – решил Бураев и хотел подняться. Но тут вмешался огородник. Это был высокий, очень сильный человек, с пышными седыми волосами, крепкоскулый, похожий на апостола Петра. В синей, щеголевато сшитой чуйке, он чувствовал себя свободно: ходил размашисто и подбоченясь, пристукивая каблучками. Бураев на него залюбовался: «вот такие бывали атаманы».
– Крестница вот моя, Надюша… – кивнул он к Наденьке, которая сидела за столом и мыла чашки, – сейчас мне говорит: «Кресенький, что як ты не скажешь?» Хозяйку надо слушать, особливо разумную хозяйку… Чашечки перемывает, а ничего не забывает! И вот я сказжу. Правильно, батя. Хоть мне и давно пора, в четыре подымаюсь, но скажу словцо. Будем из истории. Покуда в народе дух живет, он живет. Как дух его пропал – долой со счета. Зернышко Христово в нас есть, да плохо прорастает. Мало, чтобы только по-божьи. Моя старуха живет по-божьи, а и ей этого мало. Ей обязательно подавай – царство небесное! Она вон в вечную жизнь нацеливается! И дорожку туда ведет. Другое. Вон у меня ребята даже поют: «Наша Матушка-Расея всему свету голова!» А мы будто тому не верим, а? А кака махина-то! Будто и без причины? Без причины и чирей не садится. Для чего удостоены такого поля? По такому полю и дорога не малая, а прямо тебе большак на самый что ни есть край света! А где поводыри? Идем слепыми, где поводыри? Римская Империя тоже была махина, но свое сделала. Это глупые люди писали раньше – па-де-ние Римской Империи! Не падение, а победа! Из такой нивы вырос такой колос, наш Поводырь-Христос! И сказал: Империя Моя во весь свет! И оборотился ко всем народам. И было много званных, мало же избранных. И пришел в конце концов к самым распоследним, к лесным-полевым-водяным, от моря до моря сущим… потому что не пошли на Его зов душевно прочие, а занялись своими делами. А вот к нам, бездельникам, все стучится. Ибо есть куда: велики мы, и широки, и глубоки. Но мы все не отворяем. Вот, последнее место осталось Ему на земле. Или отзовемся, и сами в Царствие внидем, и других приведем, или… велит вострубить Архангелу, и Суд начнется. И пойдет новая история, из отсева и остатков. Вот во что надо ударять России. Но только сие не с Питера пойдет, и не от суетных интеллигентов, а от смиренных и верных установленному от века гласу – «во Имя Мое»! Россия-то нужна, но надо, чтобы и дух в ней был, чтобы знала, зачем она. А то – так размотается без пути, как прочие. Ну, поехал, и будьте здоровы.
Прощаясь он подошел к Бураеву.
– Извините, господин офицер, спрошу вас… вы будете не капитан Бураев,…го полка, по 3-ей роте? Полк-то я вижу…
– Да, я Бураев. Что вам угодно?
– Позвольте-с пожать вам руку. У меня внук у вас в роте, Конон Козлов.
– Да. Исправный унтер-офицер, хороший взводный. Что вам угодно?
– Да ничего-с, господин капитан! – весело сказал старик, блеснув зубами. – О-чень вас хвалил…
Бураев засмеялся.
– Очень рад.
– И мне вы очень пондравились… осанка-то у вас такая!
Старик повел плечами и размахнулся – хлопнул по руке Бураева, сдавил клещами. Оба взглянули друг на друга и засмеялись.
– Если что, жучьте его что ни есть строжей, ваше благородие!
– Не за что пока, – сказал, смеясь, Бураев, – а придется, за этим не постоим. А позвольте, – пошутил Бураев, – как же это он здесь в полку остался? Здешних больше в Варшавский округ направляют…
– О, какой вы то-нкий, ваше благородие… – весело мигнул старик. – Верно, что было бы не по закону… дескать исхлопотал, мошенник! Только я-то Балунов, а он Козлов, внук от дочки… а она в Харькове, своя торговля скобяная. Оттоле и прислали, как угадали, мне на счастье, а вам на выучку. А что, ваше благородие… хорошие у нас солдаты?
– Хорошие, – ответил в тон ему Бураев.
– Так что, если нас когда били или будут бить… солдат не виноват, ваше благородие?
– Ну, конечно.
– Так-то, ваше благородие, и народ не виноват, я полагаю, что разные там непорядки?
– Ну, конечно! – все так же весело сказал Бураев.
– Всегда так думал-с. Теперь вы Балунова Илью знаете. И вот-с, как Нижне-Садовую минули, за речкой дом на горке… Милости прошу ко мне, ежели не побрезгуете, попить чайку с медком. Очень вы мне пондравились!
Даже отступил и пригляделся. Бураев засмеялся.
– Очень приятно. Вы мне тоже.
И опять пожали руки.
«Вот чудак, прилип!» – подумал весело Бураев и пошел к Наденьке проститься:
– Не очень сердитесь?
– На что? – окинула она глазами.
– Да очень накурили!
Она чуть усмехнулась:
– Памятливый вы. Нет, на вас тем более.
– Почему же ко мне такая снисходительность?
– А… крестному понравились… – и она по-детски засмеялась.
– Вот почему… Он для вас большой авторитет?
– Очень. Он никогда не ошибется в человеке. Значит, вы хороший.
– А как вы сами думаете?
– Так же, – сказала она серьезно.
– Ох, не сглазьте! У вас глаза не черные?
– Нет. У меня серые глаза, – взглянула она доверчиво.
– Правда, у вас… смелые глаза.
И засмеялись оба.
Дождь кончился. Сияли звезды. Бураев шел счастливый, смотрел на звезды. Свежий воздух был напоен сиренью. Бураев слышал только этот запах, белый. Видел окно и Антонину с веткой. Сирень уже завяла. Он поцеловал ее и спрятал. Любит!.. – говорил он звездам. Звезды говорили – любит.
Сонный Валясик доложил, что все исполнил. Бураев не узнал квартиры. В пустынной спальне стоял бывалый гинтер. Застонал, когда Бураев повалился. Заснул он сразу.
…Крапал дождик, сумерки сгущались. В открытое окно светлело небо. Кто-то поглядел оттуда. И пропал. Слышались шаги у дома. Осторожно постучали в спальню. – «Кто там?» – спросил Бураев, зная, что это женщина. Он был голый и поспешил закрыться. Увидал, что это старая его шинель, с войны. Дверь стала тихо отворяться. Женщина вошла неслышно. – «Что вам нужно?» – спросил Бураев. Женщина молчала, шла к нему, неслышно. Он понял, что это Лиза Королькова, только другая, совсем старуха. Молча посмотрела и села рядом, очень близко. Стало ужасно неприятно, страшно. Он чувствовал ее коленку, льнущую к нему. И понял, что она хочет лечь с ним рядом. И они легли…
Он проснулся от ужаса и отвращения. Как наяву, – он слышал вздохи, поцелуи. Он вскочил. Пахло сырой землей, болотом. В окне серел рассвет. До боли колотилось сердце. Ужас и отвращение не проходили. Долго он сидел на гинтере, смотрел, как рассветало… Засыпая, слышал нежный, монастырский перезвон.
Разбудил Валясик:
– Ваше высокоблагородие… их благородие ротмистр Удальцов приехали!
– Что такое?… Попроси… сейчас. Ах, новый день!
Как по тревоге, начал одеваться.
Ив. Шмелев.
(Продолжение следует).
Добавления к роману
Проводы
Солнце только что поднялось над садом, когда приезд сыновей встряхнул полковника. Он ждал их к ночи, и вот – прощаться. В походной форме, новенькие ремни, бинокли…
– Да-да… на три часа, только?… – несвязно говорил он, щурясь, – догоните полк?… Валяйте, валяйте… так-с… Да, Европа… придется повозиться… Я еще к вам подъеду!..
– Тебя еще не хватало!.. – сказал капитан. – Покурим лучше.
И когда полковник брал вертлявую папироску, у обоих подрагивали руки.
– Ну… пока самовар, в сады пройдемте. Он обнял капитана и потянул с терасы.
– Идем, Пашуха… – захватил он и младшего. – Яблонька-то твоя «Поручиково – любимое»… помнишь?… – и у него пересекло голос.
Молча обнял его поручик. Насвистывал через зубы марш, поглядывал по верхушкам сада.
– Почему это – «не хватало»? – нарушил молчание полковник. – Я еще молодцом! Когда Суворову было…
– Чего – Суворову… «Пульки» свои сыграл, с одной и сейчас гуляешь… сады свои насадил, вот и посыпай песочком!
И высокий, плечистый капитан – в отца, черноусый только, – прихватил старика за плечи и покачал. Поручик шел и насвистывал.
– Да ты обо мне что же?… – вскричал полковник, и не успел капитан опомниться, как полковник свалил его.
– Под Карсом, в редуте так… то-же капитана, «песочком»!..
Навалился на них поручик. И солнце играло с ними, на новых ремнях и голенищах, на розоватом полковничьем затылке…
Побывка была до поезда. Когда заложили тарантас, и слышалось от сарая ржанье, полковник опять повел сыновей в сады.
Было жарко до духоты. Давно прогуляли поезд. На припеках трещали кузнечики, кололо глаза от блеска. От пыльных елок закраины томило смолистым жаром.
– Антошка-то разделывает! – показывал полковник. – А вот – «Поручиково-то – любимое»… помнишь, Паша?.
Не узнал яблоньку поручик. Шутя посадил, а вот… какая! Сажал – загадывал: когда будет поручиком – станет она, как эти. Он стал поручиком…
Они прикусывали деревянные еще яблоки и пускали через верхушки, в блеске. Зеленая кислота вызывала в них вольность детства. Они шутили, но в глазах их была забота: другое – ждало за садом.
Поручик, белокурый, и тонкий станом, – в покойную мать-казачку, – сказал, мечтая:
– А знаешь, папа… а я ведь в отпуск хотел к Успенью, на твои яблочки! Сюрприз бы тебе привез…
– Сюрприз?! – оживленно спросил полковник, – по-детски вышло, – и отвернулся, щурясь. – Невесту, что ли?…
– Сюрприз. Эх, па-пка!..
Капитан подшиб кузнечика фуражкой, поймал за ножки и крикнул – «смирна-а!» Кузнечик вытянулся и замер. Они смотрели.
– Ну… – остановился полковник у старой яблони, словно сюда и вел. – Сады сажал – о вас думал. Но это не то… Теперь…один у нас сад… Россия! – сказал он поникшим голосом, и яблони затянуло паутинкой. – Ну, понятно. В поход… и надо, вообще… У тебя, как, Степа… есть кто-нибудь? Вашего я не знаю…
– Серьезного ничего… – сказал капитан в усы.
– Если что, пусть ко мне адресуется. Понятно, если ребенок. Помер?!.. Эх, вы… Надо было… след по себе оставить! А ты, Паша?…
– Ну, что ты, папа, с глупостями! – смущенно сказал поручик.
– Мальчик, не глупости! – потянул его за ремни полковник. – Самая жизнь и есть. Но… теперь отрублено. Там – другое. Невеста у тебя, в Калуге? не связан? На войну идешь – подберись, завязки чтобы не путали. Мы – солдаты!
Сильней, чем раньше, почувствовал полковник кровную связь с ними, с мальчиками-солдатами, которые не оставляют ему следа.
– Нет, папа… – тихо сказал поручик, – не связан. Мечтали только…
Они вернулись плечо к плечу. У крыльца поджидал Аким в тарантасе, покуривал.
– Шесть сорок, товаро-пассажирский… – сказал полковник. – Всегда запаздывает. Успеете…
– Поспе-ем, не на свадьбу… – отозвался с ленцой Аким.
– Неводком бы теперь, Аким! – заглянул под рукав поручик. – Нет, не поспеть!..
– Лещей бы захватили! – сказал Аким. – Денек бы хоть погуляли?
– Догонять эшелон надо…
– Так точно, нельзя! – по-солдатски сказал Аким: был он ефрейтор, в годах, и сам ожидал «срока».
Оставалось самое трудное, они знали. Знал и полковник – и все оттягивал. Затем и приезжали. И вот подошло оно.
– Пройдемте… – сказал полковник.
Он привел их со света в спальню, с неоткрытыми ставнями, с неприбранною постелью. Теплилась синяя лампадка.
Они тихо вошли, в томленьи, подчиняясь всему покорно: время всему приходит. Полковник, строгий, перекрестил молча и надел каждому образок Николая Чудотворца.
– Тебе, Степан… дедовский, Севастопольский… – тихо сказал полковник, благословляя капитана. – Тебе, Павел, мой… Кавказский. Да сохранит вас… А этот – мне… – показал он на темный, в серебреце, на затертом малиновом шнурочке, – давний наш, Бородинский, прадедов. Помните… вы – солдаты!..
Они знали темные образки, священную их историю. Смущенно поцеловали их и стали спешно вправлять за шею.
– А это, дети… – показал на Казанскую полковник, – покойная мать вас благословляет. Будьте… крепки!
Они перекрестились и поцеловались молча. Он ткнулся к жестким воротникам, тер и колол щетиной и с нежностью мял за плечи.
– Ну… все.
Вышли опять на солнце. Полковник обнял обоих, объединяя собой, радуясь молодости и силе и пригнанной ловко походной форме.
– Матери нет… поглядела бы хоть, какие стали! Нет, лучше не… Помни, ребятки: солдата береги, назад не смотри, зря голову не подставляй!.. Ну, ладно.
Уже садиться, – поручик вынул из внутреннего кармашка и показал полковнику:
– Вот… хороша?!
– Хороша… – сказал полковник, не разглядев.
Он проводил их за край садов. Шагал, держась за крыло тарантаса, толкуя о мелочах, наказывая Акиму забрать отрубей у Куманькова… На речке помахали фуражками: не хотел в вагон провожать полковник.
Возвращаясь садами, остановился у шалаша и сел. Услыхал поезд, свисток от полустанка… – Опаздывает… без четверти семь…
Пустыми показались ему сады. Вспомнил кузнечика… Пошел к дому. Стоял на терасе, зяблика слушал, думал.
Садилось солнце – огромным кровавым шаром.
Метельный день
Через неделю взяли на войну садовника Михайлу, правую руку полковника. А там забрали и кучера Акима, бывшего вестового.
Полковник каждого проводил честь честью, до конца сада, и расцеловался. Подарил на дорогу по пятерке. Наказывал:
– Пиши, в какую назначат часть, как и что… Может еще и встретимся.
И тот и другой сказали в одно слово:
– С вами бы, ваше высокоблагородие, довелось!..
Стоял сентябрь. Яблоки были сняты и проданы. Сады редели. Дни выдавались сухие, солнечные. Остался полковник с мальчишкой да со старой Василисой. Сам кормил поросят и кур. Попиливал сушь в садах, складывал на зиму подпорки, – сады прибирал с мальчишкой. К вечеру выходил на бугор – на запад. Там багрово садилось солнце. Там шумела война. К ночи долго читал газеты, радовался, ругался. Ночью ждал телеграмм…
Телеграммы пришли, – и ночью. В конце октября, в заморозки, узнал полковник, что оба сына в госпитале, ранены под Луцком и Равва-Русской, но поправляются, «будь покоен». Оба – с боевыми отличиями – Станислав и Анна с мечами. Тому и другому полковник послал по телеграмме:
«Поздравляю, благословляю.»
Выслал по сто рублей – «на яблоки» – и по ящику пастилы. Поехал в Рожново, отслужил молебен. И казалось ему, что сегодня праздник. Объехал знакомых по усадьбам, делился радостью.
Ходил на рябчиков, по можжухе, ставил на речке вентеря на налимов. Радовался, что галки появились на усадьбе, – ранняя зима будет. Показывал Василисе карточки Степы и Паши, с фронта, в кругу солдат. Стучал пальцем и говорил:
– Там уж, понимаешь, как семья… солдатская! Ро-сси-ю защищают… Там уже не служба, а… как обедня!
Вздыхала Василиса. У ней тоже забрали, Гаврюшку-внука, да только и слуху нет.
– Однова всего отписал… под этим вот, под германцем, будто… при пушках ходит. А то и слухов нету…
– Это пустяки, при пушках! – говорил полковник. – При пушках убыль невелика. А вот в пехоте нашей… мои вот где!.. На ней – все. Пехота – святое дело. Без пехоты ни шагу: на самые пушки идти должна!
– У-у-у… на пу-шки?!.. – вздыхала Василиса.
По первому снегу, в ноябре, пришло из-под Варшавы измазанное письмо от кучера Акима. Писал Аким, что ранен в ночную вылазку, как проволоку ходил резать, – и заработал Егория. Послал ему полковник десятку на поправку. А на Николу получил телеграммы от сыновей с фронта: «Хорошо все, здоров.»
Не сиделось дома, горело сердце. По веселому снегу покатил полковник в село на саночках – размотаться. Даже к Куманькову в лавку зашел, – свежей икрой Куманьков хвалился, «донского выпуска», пригласил с порожка:
– Ва-ше Превосходительство! Икорка – прямо… недосягаемо!
– Да что икорка… – поговорить приятно.
До темной ночи мотался по дорогам, по усадьбам, – покою не находил. Хотелось ему метели: солнце со снегу глаза кололо – кровавое солнце на закате. По газетам видел: большие идут бои.
С рассветом пришла метель, на Стефана Преподобного, девятого числа, – день Ангела Капитана. Ездил полковник на полустанок, отправил телеграмму. Насилу домой добрался…
Засыпало-замело сады невиданною метелью, – столбами сыпало, вытряхивало кули небесные. Выше ворот сугроб намело с вихром. Стоял полковник, в широкое окно смотрел как потонула зеленая водовозка, – одни оглобли торчат, с вершок, – свету Божьего не видать! Смотрел и думал: «там у них тоже, небось, метели…»
Пошел в темную спальню и затворился. А когда вышел, смотрит – пирог на столе стоит: упомнила старая Василиса Преподобного Стефана! Поглядел на пирог полковник, да и задумался, – и пирога не тронул. И уж затемнело, засинело в окнах, а все стегает. До ночи все тосковал, метался, прикладывался к окнам. Сыпало еще пуще.
А на утро – мороз, прочистило, ярко-ярко. И по новой, по сахарной, дорожке приехал начальник полустанка на розвальнях, привез от Степана телеграмму – «благополучно, будь покоен». Крякнул полковник, потер лицо, встряхнулся-отмахнулся:
– Прямо ты меня… спрыснул! Метель эта, понимаешь… пуля у меня живет под сердцем… Выпьем.
Выпили с гостем «на черствого именинника», закусили пирогом вчерашним, как из печки, – морозила его Василиса и прогрела, – с куманьковской икрой, – ничего икорка! – потолковали о метели, сыграли в гусарский винт. Наградил полковник начальника полустанка пачкой новых пластинок грамофонных:
– И оставить можешь. Только «Трубят голубые гусары» и «На смотру» верни обязательно! Иглы у тебя плохи, царапают.
В январе пришло, наконец, письмо и от садовника Михайлы: был ранен под Перемышлем, остался в строю и снова ранен – в живот «накось», ничего, выпишут скоро на поправку. И ему послал полковник десятку.
Пришла на Сретенье телеграмма от Павла: «поздравь Владимиром!» Заплакал, как прочитал, полковник. Опять места не находил. Вынул из рамочки на стене свой портрет, вставил в рамочку телеграмму, повесил. И сказать некому, а что Василиса понимает! Сказал себе, о Павле думая:
– А какой был тихой!
Взглянул на портрет покойной жены, сказал портрету:
– Ка-кой твой-то!..
К весне стал задумываться полковник. Стали снега сходить, стали деревья плакать, крыши капель погнали. Стали ворчать ручьи и днем, и ночью. Заиграли по зорям галки. По-весеннему мягко запахло дымом и навозом. Воробьи заточили-завозились на потеплевших тесовых крышах, по тополям, в ледяных проточинах принялись на солнышке купаться-подчищаться. И вот – зашипели грачи за окнами, а там и скворцы примчали на скворешни, – и пошла, и пошла весна.
Стало трепать сады теплым, с дождями, ветром, пушило соломенную окутку молодняка, – в сады манило. Ходил полковник в высоких сапогах, смотрел просыпающихся и спящих, – любимые свои яблоньки – разматывал окутку.
Теплые пролили дожди, пригрело, – и стало надувать почки.
В мае стали сады цвести.
В мае неожиданно приехал старший, тоже теперь полковник, с орденами, – и без ступни.
Ахнул старый полковник, глазам не верил:
– Да ты ж писал?!.. Да как же… я-то не знал?!..
– А зачем тебе знать, полковник? Это еще когда!.. под Горлицей потерялось… в самый день Ангела, полковник!
– В день… Ангела?!.. А как же… телеграфировал?…
– Ну… это тебе бригадный, из уважения, ну… по моей просьбе, полковник. Ну… жив остался!.. Все уже откатилось…
И вспомнил полковник метельный день, снеговые столбы и вихри, и свое метанье…
Зеркальце
Вот уж скоро и год, как проводил сыновей на войну, и сколько всего случилось за это время, но полковнику особенно почему-то помнилось, как остался тогда один. Забыл и ночные телеграммы из Львова и из-под Прасныша – ранениях Павла и Степана и об отличиях, ожегшие страхом, радостью; забылось и «сумасшествие», как выбежал ночью в бурю и кричал черным, пустым садам и в стегавшее ливнем небо – «молодцы мои… молодцы!» – и плакал и утирался ливнем; и Степины костыли забылись. А «проводы» почему-то закрепились. В бессонные ночи думалось, и во сне приходило – повторялось, и до того живо виделось, что не скажешь, где – сон, где – явь. Стыдился себя полковник – «как старая баба, право!..» – и вспоминал – томился. Сколько прошел походов, видал смертей… и в Туркестане, со Скобелевым, и Карс штурмовал, – с пулькой турецкой ходит, – это не вспоминается. А тихий июльский вечер, с огненным солнцем в яблонях, когда затаенно слушал, как громыхает поезд, выходит из головы, из сердца, – ошибка Павлика? «Пустяк, понятно…» – разбирался в себе полковник, – «естественно, волновался мальчик… вполне естественно…» Но этот «пустяк» не стерся.
Выйдет в сады полковник, порадуется – полны, урожай, прямо… не запомнишь! И потянет под Пашину яблоньку, «поручиково – любимое», – на цинковый ярлычек взглянуть, с острой пометкой ножичком в день прощанья: 29. VI. 1914. Глядит и думает… Надо бы «VII» пометить, июль-месяц, а он ошибся, и вышло 29 июня, самый день Ангела, Петров-день. Вполне естественно, что тут думать! А думалось.
Глядит полковник на ярлычек, – сияли царапины на цинке, теперь померкли, – и все-то сосет на сердце. И пойдет разворачиваться, болью…
Благословлял в полутемной спальне – приехали под утро, так и остались ставни, – надевал походные образки. А они смущенно-торопливо, словно им было стыдно, заправляли крутившиеся шнурки за ворот. Вышли на яркую терасу, жмурясь, – кололо солнцем. Он обнял их, накрепко потянул к себе, объединяя собой обоих, и сказал, зажимая боль, бодро сказал, отчетливо, радуясь молодости и силе их, и ловко пригнанной, уже походной форме: «так вот… ребятки… солдата береги, назад не гляди, зря голову не подставляй». И тут подумал – ныне уже решенное: «будет и мне там дело». Ходили в садах, возились, чтобы унять разлуку. Проводил за сады, до речки, – на полустанок не захотел, где люди, – шагал у тарантаса. Расцеловались, помотали фуражками. Помнилось Пашино лицо… нежное, как у девушки, незагоравшее никогда, – «мамочкино лицо», «свежее молочко в румянце», – влажно блеснувший взгляд, и ободряющий оклик из взметнувшейся клубом пыли: «па-па… ты не скуча-ай!..» Это вот – «не скучай»… Пыль, ничего не видно, и крик за пылью… – так и застряло в сердце.
Возвращаясь тогда садами, полковник сел у шалашика, курил и думал. Не думал, а мысли путались. Смотрел к закату, в огненный отблеск неба, в огненные просветы сада. Высвистывал зяблик в яблоньке, словно жалел с полковником – как же пусто! С полустанка свисток ответил – пу-у-сто!.. И пошел удаляющийся рокот. «Уехали…» – со вздохом сказал полковник и покрестил затихающую даль. Пустыми, нежилыми смотрели теперь сады.
Он пошел напрямик домой, и вот – стрельнуло ему в глаза огненно-вечеревшим солнцем, с красной травы стрельнуло. Он нагнулся и увидал карманное зеркальце с гребенкой на алом шелке. Вспомнил, как здесь возились, боролись с ним, – стараясь закрыть прощанье. Смотрел на зеркальце… – кто обронил из них? Вышито было по шелку золотцем «взглянешь – вспомнишь»; а в уголку, чуть видно, золотцем тоже – «Мила». Людмила?… Помнилось – на груди у Паши выглядывала алая полоска… невеста в Калуге, кажется… писал недавно – «после маневров яблоки есть приеду… о-чень важное расскажу!» Ну, понятно. Покачал головой над зеркальцем, ласково попенял – «вечный-то растере-ха!..» – и увидал бурое, хмурое лицо в сине-седой щетине, скучные, влажные глаза, глядевшие на него расстроено. Стало тусклеть, мутиться… полковник с досадой отвернулся и спрятал зеркальце. Шел не видя, в огненно-сероватых брызгах сухих кузнечиков. Вспомнил, – в глазах осталось, – без четверти 7 указывала стрелка, когда поезд пошел от полустанка: смотрел туда, на запад. Решил отослать Паше, только вот установится отправка. И каждый день вынимал зеркальце и глядел.
Время пришло, бережно уложил, отправил. Жалко, как-будто, стало… да зачем ему зеркальце – напоминанье: сердце его – вот зеркальце!
Павлик после ему писал: «а я-то горевал!.. заветное, ведь, оно.» Радовался полковник, что не разбили тогда, в возне, уцелело под сапогами, – хорошая примета. Полковник в приметы верил.
В июне видел полковник сон.
Сидит у шалашика в саду и кого-то нетерпеливо ждет. Сад вечерний, в огнистых пятнах, косое солнце. Глядит на свои часы: черная стрелка показывает четко – без четверти 7. Поезд вот-вот заслышится. И уже слышит, как набегает рокот. И вдруг – за спиною шорох… сушью шуршит в шалашике. А поезд уже докатился, визгнул, дает свисток, но – важное что-то, за спиною!.. Оглядывается полковник, а из темной дыры шалашика крутится черная змея, в серо-зеленом крапе… прыгнула на него и прокусила сердце. Вскрикнул от ужаса полковник – и проснулся. Кололо сердце. Душная была ночь, в ставнях синело молнией. Долго не мог опомниться, в холодном поту лежал, в удушьи. Как наяву все было! Нашарил спички – нет ли проклятой тут, заглянул даже под кровать. С неделю не свой ходил, даже и спать боялся. Шорохов стал пугаться, змеи проклятой. А не было змей в округе.
Под Петров-день пришла телеграмма из Смоленска: ранен Павел, в госпитале, зовет. Полковник понял: если зовет – плохо. И с ночным выехал в Смоленск.
Строго вошел он в госпиталь. Ярко было на воле, жарко; а в старом госпитале с истертыми камнями – прохладно, сумрачно. В белом, отжившем кителе чортовой кожи, с белым, забытым, крестиком за забытый Карс, твердо шагал полковник, забыв про сердце, искал офицерскую палату – 3. Долго плутал: показывали ему небрежно – туда, направо. Таилась где-то эта тяжелая палата – 3. Гулко шагал по коридорам, тяжело отбивая в мыслях влипшее крепко слово – «тяжелая палата», не понимая смысла, но чувствуя. Увядал – «3» – на стеклах, увидал грязные носилки, на которых под простыней лежало… – понял. Думал остановить… увидал твердое восковое ухо, черный вихор волос… – нет, другой.
Огромная палата, уставленная строем коек, вздыхала, стонала, бредила. Несли тазы, сестры держали шприцы, метались лица. В страшном закутке, – в ширмах – в сердце полковника толкнуло – темнел священник, скорбно склонившись ухом, светя крестом. Полковник шел по рядам, выпытывая лица, не находя. Теплый и липкий воздух, налитый сладковатой прелью и лекарством, мешал полковнику, путал мысли. Спрашивала сестра – «у вас разрешение?…» Он не понял, шел за своим, не видя, не слушая, не отвечая, окидывая взглядом головы. Они метались, молили мучительно глазами, зубами, ртами. Кто-то кричал – ура-а-а!.. Кто-то остановил полковника, махнувши градусником в глаза.
– Поручик Бураев Павел… – кому-то сказал полковник, кто его спрашивал.
– Мм… а, в четвертом, кажется, ряду… в углу, – кто-то сказал нетвердо, выкинув туда градусник.
Но он уже узнал ее, белокурую голову, единственную из всех – темных, седых и светлых.
Маленькой, точно детской, и такой одинокой, жалобной – показалась она полковнику. Он задохнулся от жалости и боли, не совладал с волнением. Она была вдавлена в подушку там, глубоко, в углу. Он шел подтянувшись, твердо, страшась зацепить за койки, за желтую чью-то ногу… – дошел, и искал глаза.
– …Морфий… – шепнула сестра сзади.
Он опустился на табурет, кем-то ему подставленный, и глядел, задавив дыханье, боясь дышать.
Павлик – показалось полковнику – сладко и крепко спал. Смякшие, в блеклом налете, губы выпячивались знакомо, детски, как будто тянулись поцелуем; но что-то в них было новое?… что-то в них было… – горькое удивление?… боль?… Что-то таилось в них, в тоненькой, к краю, складке, в пленочке уголка, где муха. Полковник спугнул муху движеньем пальца, но она села на щеку, и он не решался больше. Незагоравшее никогда лицо, стало маленьким, было теперь лимонного цвета с отблеском, словно натерто воском. Полковник с болью подумал – желчь?!.. Видел подавшиеся виски, с влипшими волосками, темные брови, кинутые враскось, родные… завалившиеся под лоб глаза, обведенные черной тенью, плотно прижатые ресницы, в капельках… Понял, что пот это на лице – не отблеск. «Морфий» – осталось в уме полковника странным страшным звуком, вне жизненным. Он повторял про себя, силясь понять его, – мо… рфий… мор… фий?… – с ужасом увидал, что задвигают его ширмами, от других, как там, – и понял, что умирает Павлик.
Он поглядел на сестру, взявшую руку Павлика, словно спросил – зачем? Она повела глазами, меряя Павлика, и шепнула полковнику, как бы в ответ на взгляд: «в живот, осколком». Он в страхе взглянул туда, в закрытое одеялом что-то и взглядом спросил ее – «что же?…» Она взглядом ему сказала. Он согнулся на табурете – и так сидел. Через койку – видно было в неплотную створку ширм – накрыли желтой простыней спавшего крепко капитана, спавшего – показалось полковнику, и потом понесли куда-то. А Павлик все крепко спал.
Полковник видел все ту же, знакомую полоску – рубчик у подбородка, – в детстве рассек подковой его жеребчик, – теперь почему-то темную. Эта полоска детства пронзила ему сердце, и он, всматриваясь в сестру, сказал: «а как же… жизнь?» Но она не ответила. Он согнулся совсем на табурете, спрашивал руку Павлика, серое одеяло, на котором сидели мухи: «а как же… жизнь?» Недавно было… когда жеребчик?… Да как же… жизнь?!..
Полковник не мог осмыслить. Недавно все было ясно: родина, долг, присяга, честь, доблесть, надо, жизнь требует, жизнь велит. Жизнь… Ну, а жизнь-то как же, его-то жизнь, эта вот, на подушке, с рубчиком?… Там, в садах, при прощаньи, в солнце, в пригнанной ловко форме, казалось ему всё ясным. Куда-то теперь расплылось, осталось там, за дрожащими ширмами. Было же только детство, вот этот рубчик… а где же – всё?…
Показалось полковнику, что Павлик сейчас проснется.
Тело чуть повело, голова провалилась глубже, рука поползла по одеялу, ощупывая с дрожью: множество мелких капель, похожих на сероватый бисер, выступило на лбу, сливалось, слилось – и крупная капля слезой покатилась к глазу и замерла. Полковник услышал стон, грудь поднялась под одеялом, что-то заклокотало там… «Агония»… – сказала тихо сестра, щупая руку, словно ловя в ней что-то. Полковник слышал, понять не мог. Но понял сердцем. Он наклонился ближе, ловя дыханье.
– Па… ша?… – позвал он вздохом, – Павлик…
Уходил Павлик, но шопот отца учуял: повел губами, губами потянулся, – показалось полковнику. И сестре тоже показалось. Полковник взял угасающую руку и пожал тихо-тихо. Шопотом, из нутра, позвал:
– Пашута… Па-ша…
Этим шопотом из нутра, голосом общей крови, вызвал полковник сына из темного провала: чуть открылись немеющие глаза из ям, и эти глаза, родные, узнал полковник. И они узнали. Серцем это понял полковник. И неясно, едва касаясь, пожал холодеющую руку. И его руке отозвался Павлик – чуть слышно отозвался. Сердцем это узнал полковник.
Когда всё кончилось, он перекрестил усопшего и поцеловал его в лоб благоговейно. Кто-то шептал ему: «успокойтесь… милый, успокойтесь…»
Полковник перекрестился и твердо ответил: «я спокоен».
Он был спокоен. Не было уже никаких вопросов, – «а как же – жизнь?» Жизнь заключилась смертью.
Он похоронил сына в монастыре, поставил крест, дал денег и наказал монахиням убирать цветами. Распоряжался обдуманно и точно. Не плакал даже наедине, в доме отставного генерала, дальнего родственника, у которого остановился. Когда ехал с кладбища, вдруг вспомнил, что Павлик умер в день ангела своего, Петра и Павла, – осветилось и потеплело в сердце. В нем осветилось…
И только глубокой ночью, разбирая оставшиеся вещи, увидев зеркальце на алом шелке, полковник дрогнул и зарыдал. Прыгало в руке зеркальце, и прыгало в нем трясущееся лицо полковника. Никто не видел. «Твердо, твердо», – приказал сам себе полковник, и зеркальце перестало прыгать. И увидел струившееся сквозь слезы золотцем – «взглянешь – вспомнишь». На мерцающей мути зеркальца не себя увидал полковник, а сына, в жизни. Увидал все, что помнилось, а помнилось ему все, что было. Все увидал, услышал: от первого лепета из колыбели, до последнего оклика за пылью – «папа… ты не скуча-ай!..» – последнего, слова от живого. И вспомнил – и ошибку, и черную стрелку, наяву и во сне казавшую все одно, – без четверги 7, – так и скончался Павлик, – и сон, прокусивший сердце. Все осветилось в нем, все показалось не случайным, все показалось связанным: какие-то нити протянулись сюда – оттуда. Ушел, не умер, не кончился. Есть между ними Кто-то, Кто указует сердцу, объемлет все, вяжет живых и мертвых, Собою сливает их, вяжет не здешним, – тем. И укрепился духом:
«В Лоне Его мы свидимся».
Он привел в порядок оставшиеся вещи, запаковал и отослал в «Яблонево», домой. Оставил себе только зеркальце, у сердца спрятал. Оставил письма невесты и карточку, где они были сняты, и выехал в Калугу – решил передать лично. Знал – тяжело это будет, но не мог поступить иначе: так бы распорядился Паша, если бы мог распорядиться.
В день отъезда ему показали сообщение штаба, где он прочитал строчки о сводной роте, славной ее атаке, о выводе из опасного положения Н-ой дивизии, взято девять пулеметов, четыреста пленных. Этой «сводной», – сказали ему – командовал его сын, Бураев Павел, принял ее в бою, был дважды ранен – в плечо и живот, осколком, приказал солдатам нести себя в атаку, не оставил строя до конца боя. Полковник перекрестился. Думал: «Жизнь… за других… для других. В Лоне Его мы свидимся».
Душный день
В Калугу он приехал глубокой ночью, – чуть светало.
На станции, в душном зале, где жарко жужжали мухи, он одиноко курил, пил теплую воду из графина и прохаживался до утра. Выходил на подъезд, смотрел на пустую площадь, на березы, уже сыпавшие журчливым щебетом просыпавшихся чижей, на зеленовато-розовое небо. Спящий трактир напротив, голубеющий на заре, дышал черными пятнами раскрытых окон, с непогашенной в глубине лампой. Полковник широко глотал воздух, но душная ночь пахла сухою пылью и остывавшим камнем. Вдоль желтого палисадника валялись человеческие тела, белея на рассвете онучами и мешками… В тоске, прислушивался полковник, не дребезжит ли извозчик…
Но куда же ехать?… Рано приехать – неудобно, она еще спит, пожалуй… Тревожить неудобно. Он ее почти знал – по письмам, она была ему нечужая; но беспокоить так рано, чтобы… Конечно, неудобно.
Он обошел дозором и осмотрел весь вокзал, до водонапорной башни, – на вокзале часто бывал Паша, отсюда и на войну вышел, – перечитал все приказы и объявления, и, наконец, дождался: загромыхало у подъезда. Полковник вышел, – но это баба привезла на дрожинах решета с ягодами, – малиной пахло. Потом затрубил рожок, и продвинулся задом черный сипящий паровоз, со сцепщиком на отлете. Потом подошел шумный эшелон, с уже пробудившимися гармоньями и балалайками, с лошадьми. Вокзал проснулся. Молодое офицерство – все больше прапорщики, в новых ремнях и крагах, – щеголевато-отчетливо отдавало честь сумрачному полковнику, с крепом на рукаве тыловой шинели, требовало чаю, «покрепче, и с лимоном!» – и наскоро ело вчерашние пирожки, разрывая их надвое, лихо расставив ноги. Полковник искал между ними похожего на Пашу… и не нашел. Проводил грустной лаской шумливый поезд и, наконец, дождался: задребезжал извозчик. Но было только – четверть седьмого.
Он нанял извозчика и приказал ехать… – к казармам! Увидал тихую, в утреннем пару, реку, каменные склады на берегу, должно быть давние, облезлые и пустые. Запомнил ржавую вывеску на одном – «торговля оптом». Встретил роту, неряшливую, без офицеров, без команды «смирно», – и велел извозчику скорее ехать.
«Непорядки и безобразие! Таких готовят!?»
Давило его подымающейся жарой и кислым воздухом, как в буфете.
«Кадровые ложатся, а тут!..»
Взглянул любовно на грязные и облезлые казармы, откуда сыпало жестким треском и щелканьем винтовочных затворов, позадержал извозчика…
«Вяло, вяло… – не то!» – подумал полковник, морщась, не слыша ритма, – «души не слышно…»
Ударило его острым, знакомым, духом солдатской кухни, карболином с отхожих мест, и ему захотелось войти в казармы. Но вспомнил, что того полка уж нет, прочитал вывеску – белым по синему – «Н…й запасный батальон», услыхал тонкоголосый выкрик: «с ко-ле-на!» – передернул плечами: «они командовать не умеют?!» – и заторопил ехать: скорей, скорей… – Каширская, Затонский переулок!..
Поехали через весь город, через базар, где было еще душней и жарче и остро воняло селедками и прокислым пивом, – дышать нечем стало полковнику, – но в доме № 8 все окна были еще закрыты, даже розовые герани, казалось, спали. Дом был зашит тесом, покрашен охрой, – унылый, мертвый. Лавчонка на уголке, с двумя золочеными совками на рыжей вывеске, запомнились эти совки полковнику! – еще и не была открыта. Хватая пропавший воздух, полковник тревожно оглянул окна в тюлевых занавесках, – вспомнился ему тюль на Паше и розовые левкои – взглянул на часы – без пяти семь! – рано, неудобно.
– На… вокзал!
Перед базаром висело облако золотистой пыли, и в нем рога воловьего гурта.
– Тоже… на войну гонят!.. – показал извозчик.
– Чистая прорва… каждый базар гоним…
– А нужно кормить войска?!.. – сердито крикнул полковник.
– Понятно… нужно. Да ведь…
– Назад! Каширская, Затонский переулок!.. На углу большой улицы, у раскрытых ворот, топтались четверо в черных казакинах, опоясанные белым коленкором. Сияла у крыльца бело-глазетовая гробовая крышка.
– Капитан Акимов у нас помер… – сказал извозчик. – Отдыхать с войны приехал, три дня отдыхал, пошел на реку купаться… солнцем его убило… такой-то здоровяк был!..
Полковник выслушал с интересом.
– Удар?! – даже весело сказал он. – И на войне уцелел, а тут… Судьба! И вся наша жизнь – судьба!.. Так, как ты думаешь… за дорогое умереть лучше или… костью подавиться? За Россию!! за честь родины!.. А ты про быков!.. А немцы, думаешь, не умирают? глупей они нас с тобой? а французы?! Есть, брат, что-то, за что приходится умирать! И умира-ют!..
И от волнения задохнулся.
Он приехал все еще рано: лавчонка с совками была закрыта. Позвонил у единственного крыльца, – здесь, должно быть?… Забрунчала по стенке проволока. Дверь открыла босая заспанная девочка, в лоскутном одеяле хохлом, увидала и взвизгнула:
– Айй… молоко, думала!..
И метнулась по лестнице, подхватывая одеяло.
Полковник поколебался, – здесь ли?… – и, осторожно шагая мимо стеклянных банок на ступеньках, стал подниматься за девчонкой. И здесь пахло селедками, застойным духом нагретых солнцем еловых досок и жестяным накалом. Обливаясь потом от жавшего шею воротника и от давно забытой крутой шинели, с тяжелым крепом на рукаве, полковник грузно вошел в узенькую переднюю, где дышать было совсем нечем, передохнул и намекающе покашлял. Из-за двери выставилась растрепанная девчонкина голова и спросила испугано:
– А вам кого-же?…
– А… барышню… – неуверенно сказал полковник, обмахиваясь платком. – Люсю?…
Он не знал фамилии, не знал полного даже имени: из писем к Паше он знал лишь адрес да подпись – Люся. Людмила?…
– Погодьте… – сказала неуверенно и девчонка.
Он вошел в зальце, с холстинной дорожкой по крашеному полу, с фикусами в углах и геранями за тюлем, у звеневших мухами стекол, с настенными лампами в розовых тюльпанах, с открытым пианино, на котором стояла тарелка черной смородины. На овальном столе, в филейной скатерти, с альбомом голубого плюша и зеленым карасем-пепельницей, валялась шелуха китайских орешков и газетка с присохшими к ней ветками малины. Стопа зачитанной «Нивы» лежала в углу на стуле, под настенной лампой висел портрет круглоголового лысого интенданта с бородавкой под глазом, а с высокого столика зевало раструбом золотисто-пестрое жерло грамофона.
«Не здесь?… – твердо подумал полковник, морщась. – На курсах она была… учительница гимназии…»
Он вспомнил девчонку в одеяле и подумал, что тут, должно быть, квартира лавочника, что внизу, с совками.
«Сейчас узнаю фамилию, лавочники все знают…»
Но взглянул на интенданта с бородавкой, – и ему стало неприятно, до обиды.
«Что же… вполне возможно! – подумал он. – Паша мог познакомиться с ней в офицерском собрании, через отца, интенданта… городишка мелкий…»
Но сейчас же и подавил в себе неприязненное чувство, представив, как в этой комнатке сидел Паша, в это мутное зеркало смотрелся…
«Что ж… семья небогатая, выходят в люди…»
И ему стало вдруг ясно, как ей будет обидно, больно, что не известили о погребении, и она не могла проститься. У него заныло под сердцем, где была пулька, словно он и его обидел.
«Спросит, почему не сообщили… Ведь это и для нее – последнее… и Смоленск так близко! Как же я так забыл?!»
Он присел у стола и барабанил пальцами. В комнатах пробило печально половину… восьмого! – заглянул на руку полковник и стал прислушиваться к звукам: звякало, плескалась вода, переговаривались вполголоса…
«Это она… – умывается, торопится… и ничего не знает… а сейчас!..»
Он вспомнил, как ему подали в «Яблонове» телеграмму из Смоленска.
Ему перехватило дыхание, – и все в комнате потускнело. Усилием воли он согнал мутную сетку с глаз.
«Впрочем должны догадаться, кто…»
Протяжно, густо и неприятно откашливался мужчина…
«А это тот, с бородавкой, интендант…» – подумал неприязненно полковник.
Он больше не мог сидеть, – томил его сладковатый застойный воздух неряшливой квартиры, чужой ему и неприятно-случайной в его жизни, для чего-то в нее вплетающейся, – а он любил порядок и чистоту! – и стал брезгливо прохаживаться по зальцу, напрасно отыскивая графин с водой и тревожно соображая, как сейчас скажет. Но не мог собрать мысли. Он выкурил уже четыре папиросы, одну за другой прикуривая и стряхивая на стол пепел. Он стискивал пальцы, чтобы унять охватившую его тревогу, ходил быстрее, но непонятная тревога наростала… Подошел к пианино… Тарелка, казавшаяся с черной смородиной, густо чернела мухами, облепившими розовые пенки от варенья.
«Нет, не здесь!..» – подумал полковник, морщась, и с облегчением, словно разрешил важное, – и вдруг в нем дрогнуло…
Слева, у стенки, на пианино, он увидал своего Пашу, в хрустальной рамке, такой же портрет, – его с нею, – какой он привез с письмами… Он протянул к нему руки и затрясся… Но овладел собой и быстро пошел к столу.
Здесь!..
И комната показалась ему другой: скромной, грустной.
Он услыхал шаги и остался стоя.
Вошла она.
Полковник видел высокую девушку… кажется, – белую кофточку, восковое лицо и, будто, испуг в глазах… Он только глаза и видел, пытающие тревожно. Уже потом, в вагоне, он их припомнил: синие были глаза, горячие.
Полковник церемонно поклонился, назвал себя и был тверд, суховат и краток. Она сторожко остановилась, опираясь на стол концами пальцев и нервно слушала. Пальцы ее дрожали, – видел это полковник, – и им сказал твердо и кратко – всё.
– Вот… всё. Закончил он деловым тоном рапорта.
– Всё?… – тихо повторила она, во сне, и отняла пальцы.
Он видел, как они поднялись, трепетные и тонкие, тронули белый воротничек, пуговку на груди… потом прикрыли глаза. Он видел, как побелело ее лицо, и задрожала прикушенная губка… Но она резко смахнула с лица, – и тут полковник его увидел, – чистое, девичье, такое жизненное на карточке и такое каменное – теперь.
Он не сказал ни слова в утешенье. Он видел ясно, что ей не нужно. Да и не было таких слов.
Он вынул письма, обвязанные шнурочком, и фотографию.
– Вот… всё.
Она взяла письма и все стояла, безмолвная, как во сне. Полковник ждал.
– Благодарю вас… – сказала она с усилием. – Он…что… сказал?…
– С фронта он без сознания… – сказал полковник и вспомнил важное: – Я не знал ничего, и вас не уведомил про… – зашевелил он пальцами, ища слово, – о погребении. Потом уж нашел письма…
Он вдруг замолчал и наклонился к столу: увидал что-то на газете с веточками малины. Вгляделся и несколько раз тяжело ткнул пальцем.
– Во вчерашней… сообщение Штаба… самый тот сводный полк… только накануне принял, в острый момент и… выручил дивизию! – твердо сказал полковник и сжал у сердца.
Она нерешительно взяла газету, смахнула веточки…
– Тот… самый?!.. – выговорила она беззвучно, прижимая к груди газету и молящими глазами спрашивая полковника.
Полковник ждал. И вдруг, схватила она его руку, быстро взглянула ему в глаза, которые он старался спрятать, словно хотела найти в них что-то ей очень нужное, – и несколько раз, в страстном порыве, поцеловала руку. Он вздрогнул от неожиданности, и осторожно, растерянный и смущенный, потянул от нее руку. В нем вспыхнуло острой болью и поднялось все. Но он и тут совладал с собой. По задрожавшим глазам и губам ее он видел, что последние у ней силы и надо сейчас уйти.
Он взял карточку со стола, ту, что привез с собой.
– Дайте мне… это!.. – умоляюще сказал он.
Она кивнула с усилием, пошла к пианино, взяла и подала ему – в рамке.
Он сунул в карман и быстро вышел. В передней – показалось ему – высунулось встревоженное лицо старика в халате. Когда спускался полковник с лестницы, боясь задеть за банки с яйцами и блюдо красного киселя на ступеньках, – это осталось в памяти, – он услыхал вскрик за дверью. Он выбежал из парадного, вскочил в пролетку и крикнул, торопя в спину:
– Скорей… на вокзал!..
С пролетки он оглянул окна, герани, совки на вывеске… Утро начинало палить жарой. Жгло от домов, с песков, с вывесок, душило от раскрытых окон, от мутной дали. Парило с речной глади, кололо-слепило солнцем. Невыразимой тоской тянуло от незнакомого городка.
Но еще до часу пришлось сидеть в жарком пустом буфете, не зная, куда деваться, где найти воздуху. Полковник пил содовую воду, пил из желтых графинов, из зеленой кадки на перроне. Человек подал счет. Полковник спросил рассеяно:
– За папиросы?…
– Чего изволили требовать… и еще двум солдатам обед велели да мальчишкам давеча по яйцу приказали выдать…
Вскрик все стоял в голове, а отъехали уже далеко от Калуги. Полковник глядел в откосы, на березы. Отвернул ворот, открыл сорочку, хватал губами ускользавший воздух.
«Так и не узнал имени…» – растерянно вспоминал он, силясь представить ее лицо. – «А как же фамилия-то ее?… Ну, все равно теперь…А могло бы… и – не сталось…»
И острой болью схватило сердце.
Что могло статься – растаяло, как уплывавший в березах пар.
Гроза
Похоронив сына, старый полковник воротился к своим садам.
На сады червь напал, затягивали сады липкой паутиной, пахло зеленым тленом. Томил полковника этот могильный запах, надо с червем бороться, а не поднимались руки. Молодой полковник днями сидел в качалке, курил и глядел на небо. И вдруг – срывался и ковырял вразвалку на костылях, опустив голову, словно искал на земле чего-то – подсохший, почерневший. Приглядывался к нему полковник, ходил растерянный, – не знал, куда деть себя. И лето мучило сушью и духотой, – воздуху не хватало.
А тут еще прикатил из Рожновки Куманьков, трактирщик, – в такое-то время и с пустяками. Увидал полковник мучной пиджак да словно охрой натертую бороду – заморщился:
– Несет чорта! Опять, должно быть, насчет садов, «по случаю семейного расстройства», рыщет…
Отжимая затылок и стряхивая с пальцев, Куманьков вскочил на терасу, – и крепко запахло луком.
– Ваше превосходительство, дозволите-с? Взопрел, ваше превосходительство… извините-с… руку-то уж не смею-с, смок-с…
И только присел на указанную плетенку, приметил в конце терасы молодого полковника в качалке. Вскочил – и заколебался: не потревожишь ли? Подбежал радостно, и в обе руки, как благословение, принял и придержал руку.
– Степан Александрыч?!.. Герои!.. Такими еще помню… и уж полковники!.. От Господа зачтется… недосягаемо-с!..
– Да уж зачло-с… – поерзал полковник костылями, и лицо его стало жестким. – За вами теперь, к зачету. Совсем еще молодчина, воевать-то!
– Шшу-тить изволите… молодчина! – оглянул себя Куманьков. – Сорок три годика и семь месяцев, за все пределы вышел-с! На печи с бабой воевать разве-с, да и то… хе-хе-хе… и это баловство кончил-с, по случаю всеобщего сострадания! Грыжа-с внутренняя… и у сына грыжа, во все это место, от напружения… сызмальства испорчены, работой-с…
– В две недели всякую грыжу вылечим! А взял бы я вас, господин Куманьков, в ординарцы, за расторопность! Троих у меня убило. Призовут – пишите, возьму.
– Ку-да теперь вам-с, Степан Александрыч… без ножки-с, при инструментиках-то! Слава Богу, навоевались-с… А то бы мы с удовольствием. Только, конечно, теперь уже недосягаемо!..
– В чем дело? – спросил строго старый полковник. – Сады?
– До садов ли! Вступитесь, ваше превосходительство… последний корень!.. В лазареты муку ставлю, счета вот, можете поглядеть… по своей цене-с… Запасному батальону посылаем пуд макаронов, полпуда махорки, семечков-с… в дар-с! Извольте накладные обсмотреть…
– Ничего не понимаю!..
– Дозвольте сказать, ваше превосходительство… на проводы гироев по волости… ситного пять пудов, окромя проводов с музыкой… чаем поил-с, собственноручно… Трех лошадок под антилерию забрали… упор для хозяйства, – но!.. Очень патриатизм у всех ужасный… и три племянника в огне неустанно, но!..
– Чего тебе от меня?…
– Леньку берут-с!.. Ваше превосходиптельство! единственно последний корень… грыжа по всему брюху… Ванюшку чего считать, шишнадцати годков. В этом самом месте, самая сурьезная… белый билет в двенадцатом годе, в ноябре месяце, за всеми подписями, – и отменено! К чему тогда закон?! И ведь в строй, ваше превосходительство… в самый бой-с!!..
– Ха-ха-ха… – раскатился молодой полковник. – В самый бой? Быть может!.. ха-ха-ха…
Куманьков покосился – чему смеется?!
– Да ведь… убьют-с! Ваше превосходительство!..
– Чего тебе от меня нужно? – крикнул полковник.
– Закону, ваше превосходительство, всегда по зако-ну… ваше одно слово, очень почерк-с… из грыжи-с… и в писари при управлении бы… четыре пуда макаронов… извольте посмотреть…
– К кому ты пришел?!..
– На жалость вашу рассчитываю… у самих горе… сынка потеряли… гироя…
Полковник смотрел брезгливо… Куманьков растеряно смахивал с носа капли и вытирал палец о коленку.
– Ко мне…с такими!.. Ступай!.. – бешено закричал полковник и вскочил с кресла.
– Ваше превосходительство… Да ведь… грыжа-с, законная!..
– Господин Куманьков, – спокойно сказал молодой полковник, – могу оказать протекцию! Ко мне – вестовым! Вот скоро еду… помните.
Полковник пристально посмотрел на сына.
– А «Серого» твоего таки не забрали? – спросил он, чтобы переменить разговор.
– А за что его забирать, раз он заводской производитель?! Нельзя ничего до корня, закон!
– До корней доходит.
Куманьков встряхнулся.
– Тогда… все ниспровергнуто?! дером дери и… вчистую чтобы, до пепла?! – хлопнул он о коленку и твердо надел картуз. – Кишки выматывать, значит?!..
– Сту-пай… – едва вымолвил полковник, задыхаясь.
Куманьков выкатился с терасы не понимая, с чего это рассердился полковник, перебежал рысцой к дрожкам, щелкнул возжами и, насутулясь, пустил жеребца под изволок. Полковник рванул у ворота и оторвал до борта.
– Степан… ты это серьезно… уезжаешь?…
– Дай-ка папироску, папа… Опять сердце?…
– Сердце… – хрипло сказал полковник, потирая сердце.
Вечером собралась гроза, первая в это лето. В сумерках, до дождя, когда с запада на усадьбу двигался черный живой заслон, с растрепанной бородой огнистой, выпала из заслона, белого блеска ломаная стрела и ударила – видели с терасы – в одинокую сосну, к речке, не раз побивавшуюся грозой. И ослепительно грохнуло и с земли, и с неба.
– Свят, свят, свят… – перекрестился полковник.
– Двена-дцати-дюймовый!.. – сказал молодой. – А лихо врезало!
Верхушка сосны пылала живой свечой. И с края заслона, в лесу, выпало голубой стрелой, и покатило сухим подтреском.
– Па-чки-и!.. – выкрикнул молодой полковник.
На сад упало из «бороды», – над садом была она, в стеклянную дверь терасы трескучим дребезгом, – и полил, и полил ливень. Стало совсем темно.
– Ффуу… хорошо… – вздохнул широко полковник. – Червя посмоет… Вот это – дождь!.. Дышать можно…
За шумом ливня не было слышно слов.
И то ли от грозы было, разрешившейся жданным ливнем, или накопившееся за дни прорвало Господним громом, или что поднялось, и дошло до края: полковник слабо сказал – а… а… – и глухие рыдания смешались с шумом ночного ливня.
Молодой полковник рванул костыли, вывернулся с качалки и быстро заковылял к отцу.
– Па-па!..
У него пересекся голос.
Гроза ушла, а ливень лил с перерывами до утра. Утром шел тихий и спокойный дождик, – обмывался молодой месяц.
Княгиня
На Казанскую, 8 июля, – девятый день по Павлу, – оба полковника поехали к обедне. Старый полковник надел китель, – сам, помаргивая, нашил креп, – и привесил колодку с орденами и белый крестик на золоте – «за Карс» и за последнюю пулю, что и доныне жила под сердцем и ныла к непогоде. И хоть был день сухой и жаркий, а понывала пулька. Белоснежный китель и ордена, и подчерненные чуть усы и брови – подмолодили его и подтянули, и молодой полковник залюбовался даже: совсем еще молодцом папан! Правда: молодцом был еще полковник. Ястребиное пробегало в его глазах, выпуклых чуть, по-птичьи, и в строгих бровях с заломом. На Александра II похож был он – высоким хохлом и взглядом, в холодке синеватой стали.
Повез их Алешка в новой пролетке, купленной перед самой войною. Раз всего ездил на ней полковник в «Зараменье», по почетному вызову княгини – подписаться под завещанием. Но в каретнике бывал часто, поглядывал, как дремала горбатая пролетка под парусиной, – только отлакированные спицы да вздернутые оглобли видно, – и ему казалось, что пролетка все ждет кого-то. И теперь, садясь на мягко качнувшуюся под ним, подумал: «К чему же теперь пролетка!..» Поглядел на сына с костылями… – «а вот и пригодилась…»
– С Богом!.. – сказал полковник, отмахивая мысли, и увидал впереди скамейку.
«Теперь не нужна скамейка…»
Когда покупал в Москве, выбирал со скамеечкой пошире, – были у него виды на скамейку. Выбирал с пуговками и «щечками», на тугом волосе. Мечтал, как поедут в Троицын День к обедне, годиков через пять ли, шесть… красавицы-невестки, с цветами, под кружевными зонтиками… беленькие воздушные девчушки-голоручки, голоногие мальчугашки в матросочках… молодцы-сыновья верхами, а сам он в шарабане… И вот – «по Павлу девятый день…»
Поглядел на Степу, на желтые костыли, – мертвые чьи-то ноги, – на сильный, бронзовый его профиль, широкие плечи в кофейном френче, на белый у него крестик «за германскую батарею», за пробитую грудь, оторванную ступню… – «ничего не поделаешь, война!»
Вертелась в хлебах дорога, пылила облачками. Рожь уже подсыхала и белела, повыше – зажинали. Пахло ржаными межами, хлебенным васильковым духом, нагревшейся пролеткой, новой Алешкиной рубахой. Овода налетали пульками.
– А приятная у тебя, папан, пролетка… – сказал молодой полковник.
– Вот и катайся. К княгине съезди, возобновишь знакомство. Старуха о тебе спрашивала. И молодая, кажется, еще тут. Муж, действительно убит, не в плену.
– Да, в феврале официально было. Погиб у Мазурских озер, в разведке, там и похоронили.
– Старуха спрашивала про тебя, расскажешь. Кто-то из ее при штабе вашей армии?… Трое у ней убито?…
– Двое кавалергардов, внук-гусар, и… муж Клэ, у Ренненкампфа был, погиб в разведке… – Четверо. Так Клэ здесь? Видал ее?
– Видел еще в начале мая… ездил по завещанию.
– Очень убита?… Что-то у них неладно было, с князем? Кем-то увлекся ротмистр?…
– Да, разъезжались, с год… Перед самой войной опять сошлись. Хочет отдохнуть, а потом в Царское думает, к Государыне в лазарет. Съездил бы. Почему – неловко? Какие-то детские глупости, забыли давно.
– Чуть-чуть не обвенчались… – усмехнулся мечтательно полковник. – Помнишь, прискакала она на рыжем, стояла в яблоньках, хлыстиком все играла? Ты тогда помешал нам…
– Обвенча-лись… Что ей, пятнадцать было?…
– Около. Мне – восемнадцать. Сколько же… шестнадцать лет прошло. А совсем недавно… Решили скакать в Калугу, имение у них там… а по дороге обвенчаться, серьезно! Помнишь, пятьдесят рублей у тебя просил. Была у меня десятка и часики, у ней – кораллы и тоненькая браслетка…
– Здорово. Ну, кто бы вас стал венчать… младенцев!..
– Об этом совсем не думали, как это там выйдет. Сказала – уедем, кто-нибудь обвенчает!..
– Здорово. Я тогда пажа этого, братца ее… Петушился, помню: «раз юнкер не может дать мне немедленного удовлетворения за оскорбление чести моей сестры, я вызываю вас, господин полковник!» Послал я его к чорту: «как мой Степанка поправится, с удовольствием проткнет вас, как картинку!» А ты-то тоже хорош… стреляться, да еще из турецкого пистолета!..
– Ничего я тогда не помнил. И два только раза и поцеловались с Клэ… На балу у них, после мазурки, в парке… вдруг обнял ее и поцеловал!.. и убежал!.. Потом она подослала мальчишку… как Татьяна у Пушкина… назначила свиданье в оранжерее. Сорвала персик… – ч-удесный персик!.. и шепнула: «вы смелый?… увезите меня, и мы…» – и вдруг, поцеловала!.. И тут мы решили обвенчаться… – усмехнулся мечтательно полковник, выстукивая костыльком. – Удивительно пылкая была головка…
– Так и не встречались после?
– В Большом театре как-то… перед войной. Узнала меня… не кивнула даже. С мужем ее познакомился на маневрах. Улыбнулся, помню, спросил: «вы, кажется, соседи с „Зараменьем“?» Должно быть, она ему все сказала. Прекрасный был офицер.
Проехали Птичьи Дворики, утонувшую в ветлах деревушку. Молодой полковник вспомнил красотку Ниду, в которую был влюблен когда-то, бойкую, востроглазую… и маленькие ее ножки, – все любовался ими!.. Красивый народ был в этой деревушке. Красавцы были и отец Ниды, и брат – гвардеец: «Зараменской» крови, были из Птичьих Двориков. Вспомнив Ниду, – где-то она теперь! – полковник почувствовал возбуждение. Хорошо бы в Москву, проветриться! А старый о Павле думал: «Здесь бы похоронить, а не в Смоленске… но там родовое наше…»
Проехали Птичьи Дворики, выбрались на бугор. Стало видно белую колокольню «Рамени». Вправо, на высоте, развертывалось «Зараменье», княжеское имение: белели колонны в парке, сверкали оранжереи, те самые, где когда-то манили персики. Молодой полковник вспомнил, как милый сон, легкую, тоненькую Клэ, воздушную в розовом газе, в черневших локонах на матово-смуглых щечках… острые локотки, полудетские худенькие ручки, обвивавшие неумело его шею… нетерпеливо-капризно кривившуюся губку… Вспомнил ее глаза, удивительные глаза, за которые называли ее мужчины «сухим шампанским», – необычайные, менявшиеся внезапно, как топазы: то вспыхивали игристо, золотистыми искрами, то равнодушно гасли. Какая она теперь?…
Вспомнил фойэ театра… В темно-зеленом бархатном платье, с великолепным трэном, по которому брызнуло серебром, далекая от всех на все свысока взиравшая, стройная, томная, величаво-холодная, в серебристой повязке из изумрудов, с дивными обнаженными руками, – выступала она княгиней. Он изумился, замер. Встретился с ней глазами. Не видя, прошла она. Он, кажется, поклонился, почтительно?… Парные часовые у царской ложи отдали ему честь, выбросив от себя винтовки… и он почтительно поклонился ей?… И радостно подумал: это ей честь! Она не ответила, прошла. Его кольнуло в сердце. Она же его узнала!.. Он видел это – по золотистому блеску глаз, что-то ему сказало!.. Он же из-за нее стрелялся… – и не ответила на поклон! Он остался один в фойэ, с неподвижными гренадерами в парадных шапках, с бархатными диванчиками, в золотистом блеске хрустальных люстр, где сияли её глаза, с высокими зеркалами стен. Видел себя совсюду, – стройного капитана, в шарфе, с отогнутой перчаткой… всматривался в себя… Находили его красивым. Его глазами – восхищались. Его еще юнкером прозвали «синеокий миф». Сколько женщин писали ему признанья… – а она даже не взглянула!.. Он бродил по фойэ, мучаясь и волнуясь, ждал. В антракте она не появилась. Он прошел к ложам бенуара, дал капельдинеру пятерку. «Их сиятельство княгиня Куратова… литера А… после третьего акта изволили отбыть».
Полковник посмотрел на далекие белые колонны. Четыре года, после того, она в Швейцарии провела. Он был уже офицером, она – невестой. Встретил ее в «Зараменье», в золотистый сентябрский вечер. Она скакала по большаку, в березах, с красивым офицером. Слышал счастливый смех. Потом – она вышла замуж. Больше он не видал ее, до театральной встречи. И вот, судьба: калека, на костылях… она – свободна, и оба – здесь!.. Насмешка.
Повстречалась на перекрестке пустая княгинина коляска, тройкой серых. Почтенный старичек-кучер раскланялся:
– Ва-ше превосходительство!.. здоровьице ваше как? Здравствуйте, Степан Александрыч… – узнал он молодого полковника. – Поправились, слава Богу. Да какие же вы красавцы стали!..
Полковник остановил Алешку и справился, в церкви ли старая княгиня.
– А как же-с, праздник у нас. За княгинюшкой ворочаюсь, еще неготовы были с бабушкой ехать…
Молодой полковник нервно оправил крестик.
– А как война-то у нас, Степан Александрыч? Ну, дай Бог. Эх, Гурку бы нам теперь со Скобелевым… Го-оре, ей Богу… молодцы такие – и на костылях!
Кучер был из солдат, – почетный, княжеский. Устроил его сюда полковник, как приехал сады садить.
На выгоне стояла карусель, палатки с ярморочным товарцем, телеги косников и серпников, лари с картинками… Пахло оладьями и пирогами с луком. Сияли гармоники, яркие платки и ситцы, опояски и кушаки: под кумачевым подзором висели сапоги и полсапожки, с лаковыми подметками, словно повыше где-то сидели невидимые мужики и бабы, свесив ноги. Народу было жидко, – мальчишки больше, свиставшие в глиняные свистульки, в оловяные петушки. Подростки, – в синих рубахах с желтыми опоясками, пробовали гармоньи, в кучках. За оградой церкви сбились телеги с распряженными лошадками, с ворохами лесной травы. В ограде сидели молодухи, завернув юбки и раскинув ноги в ушастых полсапожках, в цветных шерстяных чулках, давали младенцам грудь, – поджидали, когда причащать кликнут. Девки щелкали семячки. Над кучкой степенных мужиков покачивался солдат, с залепленным черной заплаткой глазом. Когда полковники вылезали, он лихо крикнул:
– Смирнаааа… рравнение направаааа!..
– Молодец, Скворец! – сказал старый полковник, признав солдата из Птичьих Двориков. – Рано только ты больно, обедня еще идет.
– Так точно, ра-на… ваше превосходительство, а то бы ни в одном глазе! – ломался солдат перед народом. – Степан Александрыч! как же нам теперь с вами жениться-то? Девок сила, а… не хотят кривого, а то хоромого… Давай, говорят, прямого!..
Мужики и молодухи хохотали. Одна, чернобровенькая, румяная, в васильковом платье, помнившая молодого полковника, как трясли вместе яблоки, пожеманилась шеей и плечами:
– За хорошеньким да афицериком любая побежит!
Полковника задержал старик Копытыч, набивался в караульщики по садам. Молодой распрашивал солдата. Они были погодки, играли вместе. Солдат-гвардеец напоминал тонкими чертами Ниду, – и быстрые карие глаза те же!
– А что сестренка?
– Э, теперь Степанидку и не узнаете, то в белошвейках была, а нонче в хору поет, ахтер голос у ней признал! Семь комнатов квартира, на Садовой, за Сухаревкой, в семнадцатом номере, на пятом этажу… машина подымает! И цветы, и портреты ее по всей квартире. Две тыщи мне обещается, кожами вот хочу заняться. Фабрикант один кожаный в женихи набивается. В ванной у нее купался и всякие вина-ликеры пил. По-мню, как вы за ней гоняли… я ей раз, вот, ей-Богу, косы за вас надрал!.. Вот рада-то вам будет, что земляки… – болтал и болтал Скворец. – Проведайте, обязательно. Ей теперь наплевать, без страху… и какавой угостит! Спрашивала об вас… Для такого героя она… Сам ей письмо пошлю, как в газетах про вас известно… Поезжайте, не сумлевайтесь!..
Полковник вспомнил красавицу-блондинку, встречу в Москве, письмецо ее – «а будет грустно – приезжайте, Степочка… размыкаем.» Так и не повидались после. Подумал: «поехать в Москву, проветриться!..»
– Солдаток к нам сторожить приехал, чтобы не бастовали… – смеялись мужики солдату.
– Чего мне солдаток… свою фабрику завожу!
Вертелся лавочник Куманьков, расталкивал:
– Пускайте!.. его превосходительство с раненым гироем! Вот народ недостижимый какой… Пу-скай-те!.. Ленька? Ленька мой, ваше превосходительство, слава Богу… покелева с палками гоняют-учуть… возлагаю на Господа да на ваше слово… при себе запишите, как поедете воевать… как зеницу ока, недосягаемо! Под крылосик, ваше превосходительство, к окошечку-с… очень духоты напущено, кислоты-с… Там и их сиятельство-с изволит молиться за нас грешных… для параду к им-с…
Воняя луком и миндальным мылом, Куманьков расталкивал стариков и баб. Красные волосы его взмокли и растрепались, но он старался. Бабы жалели молодого на костылях и шептались: «Воители-то наши… молоденький какой, а хрестов-то навоевал!..» Старухи шамкали: «Сюды, родимый… к стеночке-то пристань, ловчее тебе будет, с палочками-то…» Шептали – слышал старый полковник – и про убитого его Пашу. Кругом вздыхали. У каждого было свое, болевшее. Он почувствовал, как жжет у него в глазах. Смаргивая слезу, он оглядывал небогатый храм, родную ему толпу, с которой его связала общая скорбь и горе. Давно связало, – через Бурая-пращура, помилованного Петром стрельца… раньше! Белый крестик, выбоина в бедре, шрам на шее, ноющая под сердцем пулька, могила сына в Смоленске… – все через эту связь, ради чего-то, к чему движется общая с этим жизнь его. Дано – и не раздумывай, принимай.
Он всегда просто думал. И эти чувствуют также просто: надо и принимай.
Они прошли к клиросу налево.
У открытого окна в решетке, за которыми видны чугунные плиты Зараменских, стояла прямая, высокая старуха, с изжелта-восковым лицом, в черном шелковом платье и в кружевной наколке. Молодой полковник узнал ее: все та же, как и тогда, когда кадетиком подходил к руке, а она без улыбки говорила, трепя по щечке: «Глаза-то… аквамаринчики!»
Священник поминал в алтаре болярина, – воина Михаила… – «о нем это…» – подумал молодой полковник о ротмистре, её муже, – болярина, воина Константина, Игоря… Старуха опустилась на колени. «Это о ее внуках молятся… – подумал полковник, – новопреставленного болярина, воина Павла…» Старый полковник тяжело опустился на колени. «О Паше…» – подумал молодой полковник и начал рассеянно креститься. «…за Веру, Царя и Отечество на брани живот свой положивших…» Потом – рабов Божиих, воинов, воинов, воинов… Церковь томительно вздыхала.
Перед «Иже Херувимы» в толпе зашевелились. Пробежал озабоченный Куманьков, шипел:
– Ее сиятельство!.. Ослобоните проход, недосягаемо! За платьице-то лапищами не щупайте… ду-ры!..
Пятясь и пригибаясь, он выбрался к простору, пошел накорточках и похлопал рукой по коврику:
– Соизвольте сюды, ваше сиятельство… на мя-кенькое ступаните-с… – вышептывал он, словно подманивал.
Старуха повела наколкой. Он поклонился ее спине.
Шла княгиня в черном, в серебристо-прозрачной шали, свесившейся углом с левой ее руки в перчатке, в белой широкой шляпе, с черным страусовым пером. Замкнутая спокойная, строго-изящная, «неотразимая», – с первого взгляда понял растерявшийся вдруг полковник. Ударило ему остро в ноги, до жгучей боли – в отрезанную ступню. Он увидел незабываемое лицо, в изумительно тонких линиях, – непроницаемое лицо, матово-белое, как тончайший, сквозной фарфор. Увидал милую родинку на шее, бывшую и тогда…всегда… изумительного изгиба шею – прелестный, волнующий сердце стебель живого неведомого цветка, возносивший чудесную головку… локоны, чуть приметные, чуть прикрывающие ушки… жемчужные сережки, трепетные у шеи, покойный, холодный профиль… розовый, нежный рот, который он целовал когда-то, уже не детский, в тонком, неизъяснимо-томном изгибе грусти, недоумения, вопроса… Он любовался в очаровании стройной ее фигурой, угадывая плечи, локти, изгибы кисти, – ласкал глазами, не сознавая – где он?… Острым, тревожным взглядом уловил он под шляпой поразившие его когда-то, еще в детстве – удержанный памятью удивительный разрез ее глаз, – нежащий, томный и угрожающий, от которого шло лучами. Уловил все очарование ее движений, устало-томных, сдержанно-скромных, полных укрытой ласки, скрытого в ней… чего-то, что называется… женственным… – что встречается редко-редко, что ведет за собой неотразимо.
Он уже ничего не слышал, прислонился к стене, взирал. Она потянула утомленно серебристую сквозную шаль, опустила ее с плеча, и шаль заструилась к талии. Он увидал теперь всю прелестную ее шею, сияющую над чернотой корсажа. Справа, из купола, влился луч, искрой зажег жемчужину, розовым тронул ушко, скользнул на шею, по серебристой шали, – осиял всю ее, траурно-жемчужную, – выбрал одну из всех.
Он взирал на нее, благоговея, смутный.
«Клэ… необычайная… прелестная… Клэ!..» – радостный и подавленный, мысленно шептал он. – «Ты была где-то… Клэ…»
И вдруг – уронил костыль. Его оглушило громом. На одной ноге, другая, в пустом сапоге, туго набитом тряпками – едва прикасаясь к полу, полковник быстро нагнулся за костылем, в смятеньи. Едва уловимый миг – княгиня повела шеей. И в этот, едва уловимый, миг поймал полковник блеснувший, золотисто-игривый взгляд, блеск «сухого шампанского» – топаза, который он помнил сердцем, – незабываемый. Этот миг-взгляд сладко поранил сердце, самую глубину его… – вызвал восторг и боль.
«Княгиня!..» – отозвалось в нем с силой. Он почувствовал, как он связан, и как несчастен, и как безумно счастлив… как никогда еще не был счастлив… что счастья он и не знал еще, что получил в этом взгляде что-то, безмерное, что теперь он безмерно сильный, и жизнь еще будет, будет… и он принимает все, какие бы ни были страданья!
«Клэ… чудная Клэ… Княгиня!..» – говорил он взглядом ее сережкам, склоненной ее головке, бледной ее щеке.
Его охватило страхом. Хотелось уйти – не смел. Стыдился себя, такого, с этими палками, на пустой ноге. Увидал белый крестик, вспомнил, что у него удивительные глаза, «как ночное небо», – так ему говорили женщины, – что она тоже женщина, целовала его когда-то, и он называл ее просто – Клэ… что она свободна, теперь война, люди – пустая пыль, что нет теперь ничего, чего бы нельзя было, что нужно же так случиться…
Не понимая, что ему говорит полковник, – а полковник шептал о панихиде, – он смотрел в восхищении, как чудесно играет ее шея, как склоняется милая ее головка.
После креста, полковник представил старой княгине сына.
– Слыхала, что герой… теперь и вижу… – покивала она на крестик. – Отвоевались, мой друг?…
– Пока… ступня отвоевалась, ваше сиятельство!.. – почтительно-официально скаазл молодой полковник; чувствуя, как смутился, как грубовато вышло.
– Ступня… вот хорошо сказал! – кивнула приветливо старуха. – Заезжайте… Расскажите мне, как у вас там…
Он поклонился молча. Перед молодой княгиней он весь склонился. Она покивала, молча. Но он уловил – скользнувшую золотую искру?… Нет, показалось это…
Она пошла, перетягивая устало шаль, – замкнутая в себе, холодная. Не слыша, что говорил полковник, он быстро пошел с толпою, путаясь костылями в юбках. На паперти он остановился. Куманьков вертелся у коляски, лакей отгонял его. Она смотрела над провожавшей ее толпой молодых баб и девушек… – и молодой полковник – может быть показалось это?… – поймал её взгляд, скользнувший. Серая тройка катила к выгону.
По дороге домой, старый полковник спросил, когда же он думает к княгине?
– Не знаю… в Москву мне надо…
Таким – ему не хотелось ехать, а «ступню» обещали через неделю только. Вспомнился адрес Ниды: за Сухаревкой, Садовая 17.
«А она…даже не подала руки…» – подумал он грустно.
– Протез поставлю, а то… с этими палками… связанность, и…
– Понятно, посвободней… – сказал полковник. – А, какова стала Клэ!..
– Да, интересна… – отозвался рассеянно полковник, глядевший в небо.
День был необычайно яркий: блестели хлеба на солнце, сияли дали. В спелых волнах хлебов, в подымавшейся облачками пыли, в налетавших пульками оводах, в заблестевшей воде меж ветел, в опутанных далью мыслях… – золотисто сверкали искры.
– А хорошо, папан!.. – сказал неожиданно полковник. – Удивительный день сегодня!..
– Да, припекает… Пожалуй, грозу нагонит.
«Милая… чудная… Клэ!» – вызывал полковник желанный образ, прикрыв глаза. Укачивала его пролетка…
Той же ночью выехал он в Москву, написав рапорты – о назначении на комиссию, о признании годным к строю, о назначении в боевую часть.
Высунувшись в окно вагона, в гулкую мглу лесов, он восторженно повторял: «княгиня… княгиня… Клэ…» На заворотах летели искры. Колеса выстукивали четко: княгиня… княгиня… Клэ!.. Он повторял за ними, глядел в темноту и думал:
«Зачем я ее увидел!.. Теперь… как же?… Или – не возвращаться больше?… Княгиня… княгиня… Клэ…»
Отбросил костыль и сел.
«Заеду, прощусь… только… без этого – посмотрел он на ненавистный костыль. – Зачем я ее увидел?!..»
Высунулся опять, на искры. Следил, – и слушал, как гремело в ночном лесу.
Сентябрь 1927 г.
Ланды.
Иностранец
Во второй половине сентября сезон на Серебряном Берегу закончился.
В Биаррице еще шумели ночные кабаки и прочие заведения, где развлекали себя отдыхавшие от кипучих дел богатые иностранцы, – американцы англичане, шведы, аргентинцы… – разбухшие от войны и швырявшие деньгами без счета. В предутренний, неурочный час платили еще сотни франков за бутылку шампанского, просаживали в баккара миллионы за одну ночь и бросали боярышне-певице за грустно-лихую песню сотняжку франков «натшай». Еще докучивали штандартные Чарли-Фрэди, наследники чикагских свинобойцев, сапожных, хлебных и всяких американских королей, носившие на тяжелых лицах громкий отцовский титул – «сэльв-мэд-мэн», «сам-себя-сделавший», тянули неслыханные смеси разной опойной дряни, задирали коневьи ноги, орали певцам-казакам – «ан-кор… паматьюшка-паволга!..» – и порой пьяно плакали над чем-то, растревоженные невнятной песней людей в «шэркэска». Но и здесь чадная буря утихала, – начинался подсчет доходов.
А в лесном городке у океана, в те годы еще негромком, с атласным пляжем, где воздух – сосна и море, – сезонное оживление заглохло. Убрали с пляжа веселые палатки, прибрежные отели позакрылись, и баскские молодцы-беньеры посиживали в кафэ за своим бэлотом, резались у фронтона в мяч и вспоминали – врали забавные случаи сезона. Пустой океан подремывал, похлестывал в пенные берега. Над мыльно-зеленоватыми валами тянули свои цепочки черные нелюдимые бакланы. Одиноко на берегу чернела выброшенная сентябрским штормом безвестная шхуна «Mi Unica» – с пробитой грудью, крепко затянутая песком.
Последним закрылся розовый отель «Сосенки», Луи Пти Жако, по прозванию «Корнишон», – за пупырчатый лоб и низкорослость, – виноторговца-трактирщика из Бордо. Отель стоял на ударном месте, с вольным видом на океан, работал первый сезон и прославился «пляжем» на плоской крыше, – нововведение, которым хозяин особенно гордился и называл его – «верхний пляж», – для слабых и ленивых. Гордился и названием отеля – «Пти Пэн». Перед отелем росли три чахлые сосенки, пригнутые зимними ветрами, и получалась забавная игра слов «Пти Жако – Пти Пэн». Закрытие задержалось из-за того, что зажилась большая английская семья, очень почтенная, обещавшая и на будущий год вернуться и привезти другую английскую семью. Дела торопили его в Бордо, но из уважения к таким клиентам Пти Жако решил отложить закрытие. Семья, наконец, уехала. Пти Жако отпускал последнюю прислугу и собирался с женой в Бордо, как случилось одно событие.
Был свежий, яркий осенний день. Океан снежно пенился у песков, плескал серебром на дюны. Воздух был напоен смолою и крепкой геречью дюнных трав, заглушавшей дыханье океана. Перед последним завтраком в «Сосенках» Пти Жако поднялся на «верхний пляж» прощально полюбоваться видом и покурить в лонг-шезе, со счетной книгой, где круглое сальдо ласкало глаз, – как позывающе захрипел мощный кляксон машины. Пти Жако поднялся и поглядел. Перед отелем стоял шикарный, сильный паккар, первоклассного биаррицского отеля, – в таких ездят лишь самые первоклассные клиенты. В машине сидел господин основательного вида, с внушительно-каменным лицом, с крепкой осанкой иностранца, – американца, почувствовал Пти Жако по каким-то особым признакам. Появившийся на позыв портье, уже снявший свою ливрею и похожий теперь на голодранца, – Пти Жако неприятно поморщился и привычно подумал – «глиста несчастная!» – потянулся к фуражке, которой не было, и почтительно объяснил, что отель закрылся до будущего года и принять, к сожалению, не может. Но иностранец, не слушая, уверенно вышел из машины и на каком-то ужасном языке выбросил два-три слова, что-то похожее на – «сами лючи… видель… океан». Пти Жако хотел-было крикнуть с крыши, что, к сожалению… и так далее, но удержался, мгновенно сообразив, что с крыши неприлично, особенно перед таким клиентом. Он только смотрел недоуменно, как иностранец, развалисто разминая ноги, пристукивая тяжелой тростью, пошел к отелю. Портье забежал почтительно и распахнул дверь настежь.
Пти Жако сейчас же скатился вниз и поспел встретить иностранца на первой ступеньке лестницы. Он уже приготовился особенно элегантно объявить, что его отель, к величайшему сожалению… – но каменное лицо повелевало: «сейчас же, самое лучшее». Пти Жако совершенно растерялся и вдруг позабыл слова. «Никогда в жизни со мной ничего подобного не случалось!» – рассказывал он после. Он побежал вперед и открыл лучший из салонов, в бельэтаже, стремительно распахнул все ставни и предложил всей фигурой глубокое кожаное кресло. Иностранец невнятно хрипнул, повел белобрысыми бровями и дернул челюстью; и тяжело погрузился в кресло, вытянув-раскорячив ноги в прочно сработанных штиблетах, в крутых шерстяных чулках, – крепко-спортсмэнской марки. Все на нем было веско, свободно, прочно. Крепкие ноги – отдыхали, руки засунуты в карманы, открыта у ворота рубашка, по-летнему, привольно. Но лицо оставалось неподвижным, непроницаемым. Оно все же что-то говорило, и Пти Жако по-своему перевел эту непроницаемость и важность: «мне нравится – и баста». Это ему польстило, мелькнуло что-то, задорное… – но тут же с досадой вспомнил, что отель закрывается, и ему нужно сейчас в Бордо. И принялся почтительно объяснять, изыскивая слова, что он очень польщен вниманием, понимает толк в людях, и беседовать на-юру в вестибюле… точнее сказать – в холле, не так удобно… – «но, видите ли, такая ужасная досада… как раз сегодня, и…» Иностранец повел бровями, вскинул их по-совиному, достал голубой платок и звучно-слезливо высморкался. Потом вытянул кожаный кисет и трубку и принялся заряжать неспешно. Пти Жако шустро подставил столик для куренья.
– Очень сожалею, мистер… – продолжал он предупредительно и далее виновато, – пожалуйста, курите, отдохните и… вообще… но, к величайшему огорчению…
– Сода-виски… – выпустил иностранец через трубку и повернулся удобнее в кресле – на океан.
Пляжа не видно было. И ничего, кроме пустого океана, не было: будто на пакетботе, из салона.
Пти Жако знал этот пуан-дэ-вю лучшего своего салона и очень гордился им, но Бордо его беспокоило. Он поклонился светловолосой, с проседью, крепко посаженной голове иностранно-го чудака и поспешил узнать от знакомого ему шофера, почему этот иностранец облюбовал его «Сосенки», и в чем, вообще, тут дело. На лестнице ему попалась уже отпущенная Розет, веселая, с розами во все щеки, спешившая к жениху в Тулузу, и он попросил веселую стрекозу подать поскорее иностранцу в «морской салон» – на мельхиоровом подносе! – сода-виски, как подавалось англичанам, с анисом и мятными лепешками. В холле он увидал оживленную кучку лиц.
Шофер биаррицского отеля, большеротый болтун Жюстин, сиял белоснежным балахоном и широченным диском своей фуражки, размахивал руками в оранжевых отворотах отельной марки, – рассказывал что-то, видно, сенсационное. Перед ним стояла мадам Пти Жако, сложив, точно на молитву, руки и закатив восторженные глаза, и по этому одному Пти Жако сразу определил, что тут нечто необычайное. Тут же стоял обмызганный портье, «эта глиста несчастная», смотревший Жюстину в рот с таким напряженным видом, словно вот-вот из этого лягушачьяго ротищи выскочит страшно-важное, и как бы не упустить его. Торчал тут же и лопоухий Жеромка – поваренок, задрав голову в колпаке и разинув рот. Жюстин-плут – «нос, как у фараона!» – видимо, был в ударе после хорошего аперитива: закидывал головой, пырял пальцем, растягивал лягушачьи губы и щурился от щекотной неги, как ящерица на солнышке. Его жуликоватые глаза были налиты смехом и чем-то еще, таинственным. Пти Жако сразу разбил очарование:
– В чем тут дело, Жюстин… почему ты его завез ко мне? ты же отлично знал, что отель закрывается, и по-ихнему понимаешь… почему ты не объяснил, и что это за тип, и… вообще, в чем дело?.. – закидал вопросами чем-то встревоженный Пти Жако.
– Ты послушай, что говорит! – восторженно повела глазами мадам Пти Жако и привычно поправила на муже галстук. – Совершенно необычный тип… какой-то полоумный!.. Знаешь, сколько ставят ему за километр… ну, как ты думаешь? По се-эм франков!! За прошлый месяц ему настукали… как ты думаешь…?!
– Ничего я не думаю, чорт возьми! – с чего-то расстроился Пти Жако.
– Больше шестидесяти тысяч! и это только по мелочам… пo-думать!..
– Что-о?.. – привскочил даже Пти Жако, и галстук его подпрыгнул, – шестьдесят тысяч за… километр! за… Но, ведь, это же, наконец, грабеж! это же… это чорт знает что… Врет старый плут, фантазии… Нет, серьезно, любезный друг…?
– На что серьезней… самый американский стиль! – хвастливо сказал Жюстин.
– И заплатил? наличными?..
– По-ихнему, чеками, понятно. И не вздохнул. Да ему плевать на это, шестдесят тыщ! Он три тыщи семьсот за аппартаменты в день платит… эти деньги у них карманные, мелочишка.
– Нет, Луи, ты послушай, ты послушай, какая тут… Этот ловкач, разумеется, никогда бы к нам не завез такого жирного каплуна, – понизила голос мадам Пти Жако, игриво грозя Жюстину пальцем, – если бы не захотел сам каплун!..
– Са-ам?!.. он, захотел, сам, ко мне?!.. – выпучил глаза Пти Жако и потер заблестевший лоб. – Ничего я не понимаю… как, почему… что за история… – тер он пупырчато-сизый лоб, стараясь что-то сообразить. И вдруг засиял в улыбках. – Вот что, дорогой Жюстин, старина… как раз на проводы, сейчас с нами позавтракаешь, устрицы обновим, пока тот покуривает… и сода-виски… Но это, знаешь… вот это так – удар-чик! Да он, что же это… с «начинкой»?.. – понизил голос и поглядел на лестницу Пти Жако. – Ты вострый, плут-старина… у тебя глаз-то наполеоновский, как по-твоему, с «паучком»?
– А чорт его разберет. «Паучок», понятно, имеется… да это что! А вот, есть у него… – пощелкал Жюстин языком и пальцами и подмигнул игриво, показывая этим, что у него есть, что порассказать, – такое закрутил!..
Прибежала запыхавшаяся Розет, корчась от разбиравшего ее хохота, и прыснула в ладони.
– Что? что такое?.. – устремились к ней Пти Жако.
– Он уж располагается… и чемоданы велит, и самое лучшее порто, и свежее яйцо, сахару… сам будет коколь-моколь!.. – покатывалась она, перегибаясь от хохота. – Что же ему сказать? Я немножко могу по-ихнему, англичанки меня учили… сказала, что закрываемся, а он только рукой махнул, стал свистеть.
– А, деревня!.. Постой, ничего не понимаю… Жюстин! – взялся за голову Пти Жако, стараясь что-то сообразить, – сказал ты ему, что отель закрывается, и?..
– Как же не говорить, сто ему раз твердил, туполобому. Мне же приятней иметь его при себе, проценты с отеля выгоняю и прочее гоню, понятно. Поговорите-ка с ним сами, мосье Луи, тогда узнаете. Надо знать, в чем тут самая загвоздка. Такое дело, что… Ловкачка одна, девчонка, а, может, и не девчонка, а целая мадам, русская певичка из «Крэмлэн д-Ор», назначила ему здесь рандеву. Ну, теперь понимаете?
– Ни-чего не понимаю… здесь? у меня… в «Пти Пэн»?!.. – Пти Жако обвел окружающих глазами, и в этом взгляде было и изумление, и гордость.
– Уж раз говорит Жюстин – верьте. И он теперь окончательно одурел. Вам рассказать все стильно – опять не поверите. Мы с ним три дня крутились, все Пиринеи обкатали, по всем курортам и санаториям, где только не были. Да ту разыскивали…
– Не понимаю, ни-чего не понимаю…
– Какая-то галлюцинация! – воскликнула мадам Пти Жако, в восторге.
– Чорт их поймет, этих иностранцев… путаники! – самодовольно сказал Жюстин. – Пряталась, что ль, она от него, или думает разыграть получше, только залетела в самую высоту, на льды!..
– На льды-ы?!.. – восхитилась мадам Пти Жако, а сам Пти Жако сказал:
– Романы бы тебе писать в газетах. Прошу тебя, говори серьезно, а это прибереги для Бордо, там у меня послушаем.
– Факт! – вскинул Жюстин плечом, приподнял широченную фуражку-диск и галантно раскланялся.
– Именно, на льды. Прикатываем, наконец, к чорту на-кулички, в этот, как его… комфортабельный самый санаторий, холодом вот где лечат, чахоточных?.. Да, прозывается «Эдельвейс». Это повыше будет того, как его… пик-то вот этот где… там виражи такие, с моим паккаром не развернет, другой кто… только мое искусство! самого маршала Жоффра возил не раз, очень доволен оставался, любил рискнуть. А этот и не глядит на пейзаж, только знает свое – «плю-вит»! Так чесали… эх, думаю, разобьем машину, американская голова про-щай! Прикатываем под облака… он сейчас бумажками шевельнул в бюро – все телефоны зазвонили… – стой, есть! Тут-то мы и накрыли птичку. И вдруг…
– Постой, ничего не соображу… Значит, так… – соображал что-то Пти Жако, – все планомерно надо. Розет, порто ему… на верхней полке которое, во втором ряду справа, еще англичанам подавали. Погоди… яйцо у мадам Сабо, с гнезда чтобы. Вещи … только и всего? – оглянул он два мерных чемодана, свиной кожи, с бронзовыми оковками.
– Это что с собой только прихватили, для охоты за той, а все в отеле у нас… третий месяц у нас стоит, а к вам на побывку только.
– Ну, накрыли птичку… ну, и что же? – горела от нетерпения мадам Пти Жако.
– Да погоди ты, с «птичкой»! – закипел Пти Жако. – Теперь как же?.. Мы же закрываемся, чорт возьми! Надо это все объяснить.
– Закрывайтесь – не закрывайтесь, а его уж теперь, шалишь, не выставишь. Он ваши «Пти Пэн» в книжечку вписал, только ему та сказала… и мне отъезжать велел.
– Да та-то откуда знает мои «Пти Пэн»? Впрочем, меня все знают. Говоришь – русская? Кто же у нас… русская … Матиль? не помнишь?
Мадам Пти Жако не помнила. Если она не помнила, это значит, что никакой «русской» не было.
– Да их и не признаешь, русских, – сказал Жюстин. – Та и за англичанку, и за американку вполне сойдет, так чисто говорит-играет – не отличить. Они по-всякому могут говорить, сколько я прошибался, а уж виды, кажется, видал. Русские женщины, могу сказать… такого стиля, – на всякие фасоны: и княгини, и графини, и принцессы, и… чорт их, откуда берутся только! А уж про стиль и говорить нечего, – модерн!
– А постой… – перебила мадам Пти Жако Жюстина, – одна, впрочем, помнится мне, была?.. Да, да, я теперь ясно вспоминаю… была, с шофером из Сэн-Жан-дэ-Люс. Он в замасленном балахоне, а она элегантная такая… сели прямо под перголя и просят завтрак. Натурально, все обратили внимание, такая пара! У нас англичане, почтенное семейство, так были аффрапированы… и молодые девушки у них… а тут, со своим шофером! Тут я сразу и поняла, что это русская, все они чуточку «дэтракэ», с этикой не считаются и приличий не понимают. Влез он, балахон в масле, сели, та его за руку все брала и в глаза ему так глядела… ну, совершенно неприлично в нашей обстановке, и английский тон, и… Так вот и вижу их. И, помню, чтобы от них избавиться, предложила им под наши сосны, где больше воздуху, там им и подавали. Если это та… да, она о-чень элегантна.
– Ничего себе, вид имеет, стиль, линия… и осанка такая, цену знает. Может, и из принцесс. Сто-ой, стой-стой… я помню того шофера… Говорите, из Сэн-Жан-дэ-Люс? Нет, тот, кажется, байонский. И та с ним катывала, внимание обратил. Полковник, будто, а совсем еще молодой, лет тридцать, черные усики…
– Верно, черные усики… синие, кажется глаза. Я еще подумала – красивый молодой человек, а как неряшливо одевается.
– Синие ли глаза – не знаю, а парень ничего, в стиль. Ну, теперь все понятно.
– Ни-чего не понимаю… о чем разговор? – все о чем-то раздумывал Пти Жако. – Ну, идем завтракать, дружище…
Завтракали в бюро: и семейная комната хозяев к отъезду была закрыта. Но стол был парадно сервирован: последний в сезоне завтрак. Жеромка отменно постарался, – хозяин нанял его в Бордо. Жюстин даже потер руками – фу-ты, какая роскошь! Кардиналом пылал омар, салат изумрудно маслился, целое блюдо устриц, холодная пулярда, осенние персики – каталонские, виноград-малага, и самая настоящая малага, и вэн-дэ-сабль, и гато с фруктами. Над чем потрудиться – есть.
– Так ты, старина, говоришь…
– Говорю, знать все надо. Порассказать вам – сразу понятно станет. К тому-то она и укатила! к своему шоферу, будто он в санатории. А этот прицепился. Ну она этого и крутит, между прочим… взбалмошные они, я знаю. А может и насмех, сказала про рандэву у вас, чтобы не наседал, скандал может получиться, шофер-то узнает если. Он уж очень напористый, американец-то. Его-то завертела в Биаррице, а шофер ее требует к себе, заболел, в санатории, ревнует… ну, она туда сюда виль-виль, а этот напролом, на льдах достанет… Ну, скандала перепугалась… вот вам и рандэву. А может и для пополнения бюджета, и этого хочет попридержать. Есть чего подержать. За ваше здоровье, мадам Пти Жако…
Пти Жако все соображал, растирая на лбу пупырки. Мадам Пти Жако сказала:
– Теперь ясно: двойная игра! Но это не наше дело, каждый отвечает перед своей совестью… – она была твердая католичка. – Как же, Луи, теперь?
– Совершенно выяснено одно: он будет е е здесь ждать. Та-ак…
Он позвонил портье.
– Чемоданы внести, и… помоги мистеру… что надо. Постой… Как по-твоему, отложим отъезд до завтра?.. – взглянул он нерешительно на жену и увидал по ее глазам, что это-то именно и нужно. – А ты… – поморщился он на обдерганного портье, тут же решив, что к новому сезону возьмет человека посолиднее, а не «глисту», – сейчас же надень камзол, руки вымой… волосы у тебя какие!.. Отель работает.
После солидного аперитива, повторенного, и повторенного еще раз, после отборных аркашонских устриц – «премьер», сентябрских, – из личного запаса, взятого для Бордо, покрытых белым вином, крепко сухим и в точную меру терпким, так называемым – «песочным», местным, – этим славится городок, – Жюстин окончательно развязал язык.
Не стоит и говорить о какой-то его любезности, о внимании к почтеннейшему мосье Луи, славному Пти Жако. Все только и говорят о нем и о первейшем его отеле с «пляжем», – и в Аркашоне, и в Леоне, и в Сустоне… даже в Биаррице и в Байоне… и, если хотите знать, по всем даже Нижним Пиринеям. Где только не крутились они с этим американским типом! За три дня настукали больше тысячи двухсот… Каких там франков… точнейших километров, по клейменному счетчику! Да, за девять тыщ перевалило, мосье Луи знает таблицу умножения.
– Вот это так – уда-рчик!.. – чокался Пти Жако, и носатый Жюстин-мошенник казался ему теперь самым приятным человеком.
Мадам Пти Жако уже успела переодеться, сменив дорожный костюм на голубой муслиновый капот, который, правда, слишком пышнил ее, но и молодил, придавая глазам цвет моря. Она слыхала, что американцы любят солидное, а голубые глаза особенно. Серый костюм Луи казался ей легкомысленным, и она успела ему шепнуть, что приличнее бы визитку и синий галстук. Жюстин, например, умеет одеться джентльмэном. Жюстин, действительно, был великолепен, во всем спортсмэнском, серовато-зелено-клетчатом, в мягкой фланелевой рубашке, с игривым галстучком.
Никакого недоразумения и быть не может. Он собственными ушами слышал, как та девчонка… – а, может, и мадам! – крикнула второпях – «ну, хорошо… измучена я… ну… розовый отель в X… „Пти Пэн“… дня через три-четыре!» Действительно, довертелась, лавируя между двух огней. Бледная, лица нет, и губы забыла навести, здорово как прищучил. Тот сейчас в книжечку – чик, готово. Факт! Как ей не знать, все знает. Эти прожженые русские че-го не знают! По всему свету рыщут, как бродные цыгане. Татарский народ, – монголы и казаки. И здесь скакали? Это они умеют. И поют здорово, только без аккуратности. Начнут, словно кюрэ на панихиде, а под конец так пустят, будто их черти лупят.
Жюстин заливался соловьем, но мосье Пти Жако интересней было узнать про иностранца.
Чистейший американец, нельзя чище: и жвачку свою жует, и челюсть, как полагается, ослиная, и поверх головы плюет. А внутри… чорт его разберет, с секретом. Будто лесами занимается, а приехал из Индии!
– Из И-ндии?! – изумилась мадам Пти Жако, – но почему из Индии?..
По справкам дирекции отеля. На чемоданах налеплено… места живого не осталось: и Коломбо, и Сингапур, и Индия, и Мельбурн, и Александрия, – и все самые первоклассные отели.
– И вдруг… к нам, в «Пти Пэн»! странно…
– Ничего странного! – вскинул плечами мосье Пти Жако. – Будут и из Новой Зеландии приезжать… стра-нно! До сих пор не написано в Париж… Изволь написать кузине Эмми, чтобы организовала в Декоративной Школе мой конкурс на нашу марку, как я установил: премия триста франков, моя идея – золото и лазурь… впрочем, не золото, а серебро, – «Кот д-Аржан»! И чтобы непременно «ударчик» был… ну, они там придумают. Эти пестрые ярлыки, всяких этих «Паласов» и «Кристаллей»… Стой, старина… иде-я! Дюна, сосна, и… эдакий «американец», с трубкой, рожа зубастая, и дым из трубки, как облака, и в облаках – мой «Пти Пэн»! А, ведь, недурно, а? Лесами занимается, говоришь?
Лесами. Все американские леса у него в кармане, лесной король. А ничего точно неизвестно. Занял аппартаменты, где останавливаются только магараджи да шах персидский, да король Сиамский, да… Прописано – «из Торонто», только. Мистер Эйб Паркер, президент Лесной Компании. Разные «лесные компании» бывают. В прошлом году тоже прописали «президента», а он настоял на пятнадцать тысяч и испарился, а в чемоданах одни кирпичи в газетах. Дирекция навела секретные справки в главном американском банке – «чего он стоит». Ответили за чеки – «без ограничений»!
– Без ограниче-ний?!.. – понизил Пти Жако голос и осмотрелся по сторонам. – Но, если на… миллион?..
– Без ограничений. За два месяца ни разу не заметили его с женщиной. Лет так под пятьдесят, но крепок и свеж, как первая редиска. Пьет как лошадь, и ни в одном глазу. И не играет. Но есть некая загвоздка: ищет!
– И-щет?.. что же он ищет?.. – спросила взволнованно мадам Пти Жако. Жюстин только пожал плечами.
– Натурально, предмет… по мерке.
– Боже, как это… но это ужасно романтично!
– Это что, романтично… дра-матично, скажите лучше! – болтал Жюстин, чувствуя, что в ударе. – У меня глаз наметан. Тут… может быть, драма назревает. А что вы думаете? Нюх! Весной был здесь г. директор Комеди Франсэз, я подавал машину. Ну, разговорились по душам, аперитивы, завтраки с ним в горах… и говорит: «эх, мосье Жюстин, вам бы к нам, какого бы Сганареля мы дали публике!» Говорю – мог бы и Тартюфа дать. Но… мечта всей жизни… Эрнани или… как его Рюи-Блаза! Трагический нюх во мне. И этот иностранец… пахнет. Были в Тарбе, что-то он там разыскивал. Заходил в мэрию, искал все какое-то семейство… Ошэ, или – Кошэ?.. Говорят, лет сто, как род пресекся. Показали место, где был дом, как раз у церкви. С планами ходили, комиссией. А там бистро. Три дня с ним пробыли. Все ходил, один. Тут-то я и приметил, как он прикидывает… же-нщин! Всех переглядел. На базаре тоже… Зашел к фотографу, – Тарб, сразу все и узнали. Затребовал альбом, архивный, переглядел. Выбрал одну, чуть ли не с дагерротипа, старинную. Торговка, рыбничиха с базара. Купил. Стали искать торговку, а она лет сорок, как померла. Чудила.
– Да тут, прямо… «Три мушкетера»!.. – мечтательно вздохнула мадам Пти Жако.
– «Три мушкетера» пустяки. Если из литературы, так… где это про белую козу? Хуже, чем «Тайны эшафота». Ищет. Может, по всему свету ищет, чего не потерял. У них особые фантазии, у американцев этих. Все городки объездили, и по горам, и в ландах. Все добивался по истории: где тут англичане в старину стояли. Ну, все секретари-архивники справки ему давали. Как какая справка, чик – и чек. В Сэн-Вэнсэн попали, на ярмарку скота, со всей округи наезжают. Все бродил, прицеливался к бабам…
– Может, он с «трещинкой»? – заметил Пти Жако, – как его «чердачек»-то?
– Есть, понятно. Ездили по ассамблеям. В сентябре тут повсюду ассамблеи, парни невест выцеливают. Все прознал, – ту-да. Общие там обеды, как в старину, все за один стол садятся. И он присядет, выцеливает, тоже. Угощал, понятно. Думаю – что такое? бабник?.. Примечаю. Раз горничная и накрыла, у нас в отеле. Как-то он промазал, не убрал. Входит убирать, цоп!.. – а-льбом! Женщина, сейчас это открыла… – цветник! И все мадамы и девчонки. И все – на один фасон. Говорит, – светлые шатенки. А глаза – яркие, в сияньи. Крра-сса-вицы-ы!.. Думаю себе: стой, Жюстин, к докладу! У меня приятель, помощник комиссара нравов. Разговорились. Он и говорит: а не главный ли он агент… по «этому товару»? Говорю – чеки без ограничений. Это, говорит, ничего не значит, у гангстеров тоже без ограничений. А если… для какого важного гарема, для магараджей… в Индии-то он мотался?..
– Я так и думала! тут, несомненно, что-то ужасно криминальное… – начала, было, мадам Пти Жако в волнении, но перебил Пти Жако:
– Говоришь… три тысячи семьсот в день? в Биаррице платит?.. А сколько комнат? Две спальни… так. Салон, маленький салон … так.
Пти Жако что-то соображал с блокнотом. На его лице горели пятна. Взгляд устремлен куда-то, в пустую точку. Вошла Розет.
– Что о н, как? – спросила мадам Пти Жако.
– Курит и глядит на море. Ставлю сода-виски… как он че-люстями на меня!.. и головой вот так… так напугал!..
– А, знаю, это у него тик такой… – сказал Жюстин. – Бывало, за спиной как скрипнет, зубами так… Сначала и я боялся – ну-ка, на него накатит, да чем-нибудь в затылок! Раз, на ассамблее, тоже… так и шарахнулись девчонки.
– Ты слышишь? – сказала мадам Пти Жако тревожно, – а если что случится… ты подумай!
– Ну, что, что, что?.. – крикнул Пти Жако. – что случится?..
– Мало ли… Ну, а вдруг он… опять «Джек-Потрошитель»? В Англии, когда-то… Американцы – те же англичане!
– А-а… причем тут американцы? А у нас Ландрю!.. Начиталась дурацких фельетонов, пора бы уж!.. Просто, у него… двойная жизнь. Нас это не касается. Платит – и все в порядке. Один кюрэ был двойной, прокурор даже был двойной, а знаменитый один ученый фальшивые бумажки делал. В Биаррице не боятся.
– Ну, а вдруг он… сожжет отель?
– Премию получим. Вкатим иск… «без ограничений»!
– Знаешь, Луи… лучше бы он сейчас уехал?..
– Ты его за-ставь уехать! Впустили, так уж…
– Стал на якорь крепко, теперь уж… Вы дальше слушайте… – торжествовал Жюстин, довольный, что захватил рассказом. – Выцеливал, примеривал, и… напоролся!
– Звонит… не слышишь? – крикнула мадам Пти Жако Розете. – И жутко, и… Шум, кажется?..
– Все тебе ка-жется!.. – сказал с раздражением Пти Жако. – Я не настаиваю. Завтра объяснимся… Не могу же я его вышвырнуть! Я предупредил, завтра уедет, если уж так… – досказал Пти Жако плечами, налил вина и жадно выпил. – Пей, Жюстин…
– Не-эт, теперь он не уедет, не-эт… – растянул от удовольствия рот Жюстин и облизнулся, – крепко засел, не выдрать, забуксовал.
– Как же он… напоролся? – допытывалась мадам Пти Жако.
Розет вернулась:
– Требует завтрак. Ничего, ласковый.
– Ла-сковый? – удивилась мадам Пти Жако и просияла. – Что же он… как ласковый?
Розет усмехнулась хитро.
– Да подошел ко мне, и в глаза мне так… и спросил, ласково: «ты откуда, миленькая какая?» Я понимаю, все-таки, у англичанок наловчилась. Сказала и м – из Тарб. Так и шатнулся, и ртом так, а ничего, нестрашно. Сколько мне лет, спросил. Скучно так посмотрел… и вот, двадцать пять франков, ни за что!
– Ого! – выбросил Пти Жако, как выстрелил. – Вот те и на дорожку. Да, завтрак?.. Салат, пулярда… и все, все, все, что… Скажи Жеромке – мюж под белым соусом, да попарадней! Постой. Сбегает к Дюкло, лангусту… у него есть… Скажешь – отель закрыт, а завтра, что угодно. Если пожелает, американцы любят поострей, можно к обеду буйабес, ну… наше, спесиалитэ-дэ-ля-мэзон – жиго по-баскски… вино?.. Это я сам уж с ним. Гастона отпустили, ловко умел потрафить англичанам. Он еще в городе… позвать, как думаешь? – взглянул он на жену.
– Если на два-три дня – пожалуй.
– Шанс, мсье Луи! – подмигнул Жюстин. – Здорово устриц любит.
– Устриц, Розет, у-стриц! – закричал Пти Жако Розете, которая уже была на лестнице. Сам побежал за ней. – Из моего запаса, и вэн-дэ-сабль! Да пошустрей ты с ним, не будь деревней, не бойся, глупая, тут и на приданое зацепишь…
– Да уж не вам чета… только наобещали, а…
– Приезжай в Бордо – получишь.
– Ждите… – подразнилась языком Розет и полетела ветром.
Пти Жако вернулся и возбужденно выпил.
– Жюстин, за твое здоровье. Ну, так – напоролся?..
– Забуксовал. Только с той вряд ли у него что выйдет. Да что… как-то у них все шиворот-навыворот, у этих русских. Уж насмотрелся. Знаете – называется ам-сляв? Мерка совсем другая. «Кремлэн-д'Ор» знаете, модный кабачишка… мсье Жан Петрофф? Лакеями все только капитаны, лейтенанты. Погребом ведает полковник или генерал. Портье – «шэр-кэс», тоже полковник будто… на протезе, а лихо прыгает. Встречает – как на смотру. Жиго подносят на кинжалах. Стиль! А жен-щины!.. Выйдет ихний хор – ослепнешь. Это но-мер. Или певица, соло, в этакой… как это у них?.. не шляпка, а… кокон. Икона, стиль… иде-я. Иде-я, дорогой Луи. Стоит – как изваяние, как… ассирийская богиня. Ни пальчиком, а… все косточки у ней играют. Это – стиль! Или – танцуют… э!.. Чорт возьми, сам два раза по пять франков выкладывал. А ихние еще казаки… мертвого подымут! И все, ведь, нищие, клошары, мсье Луи… «ни пото, ни мэзон», так и поют: «тю мурра… – этиль-ньора-па-дэ-домаж». Знаю, у меня там приятели. Веселые, черти, а у каждого нож в груди! Это, мсье Луи, сти-иль, и-дея! Зубы стиснул, а жарит во все горло. И все ночи американцами набито. Англичане, шведы… На что голландцы, крепки на денежки, – и те размякнут, как хлебный суп.
Пти Жако причмокнул.
– Попали в жилу. Гребут?
– Ого-о!.. – Жюстин защурился, как от солнца. – Клондайк! Жан Петрофф, говорят, раньше министром был… понятно, в чердачке не пусто, мог аранжировать. «Крэмлэн»… это надо ви-деть! На скале, прямо в море, будто пакетбот «Атлантик»: палуба, носовая часть, бухширинг… экзотика. Стиль, и-дея!..
– Это же моя идея! – крикнул Пти Жако. – У меня в «морском салоне», где тот, полная иллюзия. Мои «Пти Пэн» плывут!..
– И с первоклассным пассажиром, мсье Луи. Такой – один стоит всех голландцев-шведов… Ка-кого карпа я вам завез-то, будете Жюстина помнить.
– Американцами набито?
– Плюнуть негде. А почему? Казаки. Все косые, скуластые, мон-голы. Кинжалы, шашки… ти-гры! Американки обмирают, всякие мечты, то-се… Ну, что ихние ковбои… грива на штанах да шляпа с зонтик. А у тех – ноги на шарнирах, на штанах кровь, огонь… ну, и готова, испеклась, сейчас и жемчуга теряет. А пе-сни … о-о-о! Свист, гик … и вдруг, заплачут… пьяные, американ-цы. Чарли один, мальчишка… приятели рассказывали, – его там «каучуком» звали… неделю так и не вылезал оттуда, с сотню тысяч пропил-прокидал, так казаками очаровался. Отец ему из Анжелоса каблограммы, а он их рвет. И дурака такого… жале-ют! такого-то болвана!.. Пьян всегда, так и ночует на диванах… сотнями швыряет… шанс, лови момент! А те, шибко если пьян, назад ему, сами в карман суют! Вера, говорят, у них такая, религиозная… и-дея: от пьяного ни… ни сантима!
– Зна-ю эту идею, – присвистнул Пти Жако, – это философия, у нашего Руссо… называется – идеализм. В коммунальной еще учили. То – в книжках. А другое – наоборот, это – реализм. Вот и промазали войну, теперь пошли по ресторанам, хлеб отбивать от…
– …реали-стов, мсье Луи!
– Нет, от специа-листов! Ну, жизнь научит.
– Нет, этих не научит, мсье Луи. Уж я-то знаю, пропащие… – махнул Жюстин фужером и расплескал.
– Виноват, мадам, на скатерть… Не научит. Жан Петрофф, человек приличный… мерседес завел, сорокасильный… для себя! Клиентам – ни-ни-ни… чудак. Какой-то санаторий хочет ставить, для офицеров, чтобы всем бесплатно! Про-горит.
– К делу, дорогой Жюстин, – торопила мадам Пти Жако, – вы про иностранца, про т у…
– Виноват. Да, забуксовал. Нацеливался, примерял, и – напоролся. И немудрено. Если бы, дорогой Луи, вы увидели… про-щай! Я понимаю толк в женщинах… Извините, мадам Пти Жако… античная Венера, перед той – глыба, и больше ничего. Стиль, идея! Манеры, линии… – показывал Жюстин, крутя руками, – глаза-а… Но-о… – Жюстин прищурился и помотал лукаво пальцем, – Верден, и – точка. Идеализм, симан-армэ, броня. Вздыхай и… – точка.
Пти Жако высчитывал в блокноте. Мадам Пти Жако сказала, щурясь:
– О, Жюстин, однако… и вы того? а, кажется, такой резонный.
– Ma-дам!! – вскинул Жюстин плечом и поклонился. Откинулся, вытянул в нитку губы, защурился, и на костлявом его лице изобразился ужас, – шутливый ужас. – Нос все дело портит… – потянул он себя за кончик носа. – Директор «Комеди Франсэз»… рассказывал я вам, мсье Луи, говорит мне: друг Жюстин, нос у вас, как у фараона Ту-ту-ту-камона… но успех в театре обеспечен. Да, но … увы, не по карману. Жюстин-бедняк может только вздохнуть и облизнуться. Жюстин-бедняга…
– … у кого в банке… – подмигнул Пти Жако, высчитывая карандашом в блокноте.
– Но-но-но-но-о!.. не слишком, мой Луи, не слишком… – покачал пальцем насторожившийся Жюстин, и его нос пропал в фуражке.
Пти Жако знал цену болтовне: надо было процеживать сквозь сито. Он это сделал, но и остатка было много – что-то сенсационное варилось. Иностранец был налицо, в «морском салоне». Будет и завтра, и послезавтра, и… «без ограничений». Англичане платили за апартаменты хорошо, но все же маловато, – триста франков в день. Отель закрыт, и все закрыто: надо поискать «Пти Пэн». Надо их открывать, надо нанять прислугу, удержать Розет, – она привыкла к иностранцам, умеет с ними, – надо вернуть Гастона, – не повар, золото! – взять плонжера, держать отель в порядке, настилать ковры, взять «англичанку» – кого-нибудь, мальчишек… наконец, держать машину. Да, вот как с машиной?.. Весь план нарушен, надо в Бордо, дать отдых сыну, надо все прикинуть: все – для каприза иностранца! Надо, наконец, и риск прикинуть. Кто его знает… а не заплатит? «Без ограничений»… – а вдруг?.. У них возможно, кракнет биржа, вот и «без ограничений»! Или, вдруг, скандал… муж накроет, или еще любовник, револьвер, убийство… или еще похуже? Надо все прикинуть. Надо и масштаб прикинуть, амери-канский… Проживет дня три-четыре – стоит ли из-за пустяка ломаться. Надо все прикинуть.
И Пти Жако прикинул. Он колебался, набавлял, сбавлял, прикидывал, амортизировал и – все прикинул.
Позвонил Розет. В волненьи, протянул жене бумажку:
– Вот, калькуляция… Да, еще шоффаж прикинуть, может потребовать, на случай. Только-только в меру, покрыть издержки. Надо и… эту… психологику учесть, моральную затрату. Иначе – игра не стоит свеч. И, в сущности, чем мы рискуем? Не примет, – пожалуйста, в Бордо поедем… кто его просил?..
Пти Жако следил за выражением лица жены. Ее лицо покрылось пятнами кармина. Она читала: «Апартаменты, № 1 …… „морской салон“… – шесть тысяч пятьсот франков в день. Пансион по соглашению. Администрация приморского отеля „Пти Пэн“ – Луи Этьенн Пти Жако». И хитрый росчерк.
Мадам Пти Жако выпила вина и поперхнулась. Жюстин рассказывал.
– Ну … как?..
– По-моему, ты слишком… – мадам Пти Жако закашлялась.
– Слишком?.. – почесал у глаза Пти Жако.
Жюстин болтал про драку в кабаке «Крэмлэн».
– … скромен … – она все кашляла.
– Ну… для первого знакомства. Если все прикинуть… А, Розет, вот… снеси ему. Я жду ответа… так и скажешь. Напомни, что отель закрыт, но … если пожелает… ступай. В руки не суй, а на подносе!
Жюстин увлекся «дракой»:
– … тот, голландец, выпучил глаза… а тот, смокинг долой… и – бо-ксом!..
– Тот, иностранец?.. наш?.. – слушала-следила мадам Пти Жако и кашляла. Глаза горели, щеки рдели.
– Натурально! к барьеру, чорт возьми!.. Пти Жако потягивал винцо и думал.
– Говорят, бы-ыл номер! Все ведь американцы, чуть что – и боксом, стиль!
Жюстин рассказывал по слухам.
Иностранец зачастил в «Крэмлэн». Побил какого-то голландца. Конечно, пьяный. Иностранцу очень понравилась певичка… Снэ-шко… та, которую «накрыли», у ледников. Проводил в «Крэмлэн» все ночи, подносил цветы. Мрачный всегда и полупьяный. Как певичка выйдет – так и нацелится, весь перекосится даже, – прямо, страшный. Ну, втрюхался.
– Но… полный джентльмэн! Ни-ни… как платоническое чувство. Все так и говорили: обожа-ет! Пьет и – обожает, только. И – цветы. А у ней, будто, муж… и офицер! Тоже и у них стро-го на этот счет… чуть что – зарежет. У всех кинжалы… сами понимаете, народ восточный… женщины в гаремах. Но у нас, в Европе, этого нельзя, культура, все свободны. Стиль! Что между ними было – неизвестно. Вот, подносят е й белые цветы, все знают – от американца. Голландец, тоже целился. И крикни… а может и не громко, и скажи – «интересно, а за сколько можно ее иметь?» Тот и услыхал. Поднялся, и голландца – в это вот место, кулачищем. Слон, ведь… Долой визитку и – к боксу! Та, – в обморок, истерика… тут все казаки, натурально, за кинжалы, народ горячий… так и рвутся в бой! Но, как чудо… т а, с эстрады: «благодарю вас, мой рыцарь… мистер Паркер, успокойтесь! прро-шу вас, умоляю!.. казаки, по местам! я недоступна оскорблениям!» Сразу все смолкло, и… на «баляляйки» заиграли. Говорили приятели… мистер Паркер был до слез расстроган… такой, заплакал! Вот это – сти-иль!
– Вы это выдумали, Жюстин… это из какой-то фильмы, – сказала мадам Пти Жако, – слишком уж… романтично, и очень глупо.
– Ma-дам! – с укором сказал Жюстин, – я там не был, но… говорили.
Розет вернулась:
– Требует патрона…
– Как ты ему сказала? – спросил Пти Жако не без волненья.
– Да как… как вы велели. Если не хотите, – уезжайте, отель закрыт.
– Деревня! – ляпнул Пти Жако по столу ладонью, – «если не хоти-те!..» Ну, дальше?
– Перекосился, зубы показал и говорит – «патрон»!
Пти Жако плюнул, выпил «песочного» и объявил решительно:
– Надо кончать. А чем я, в сущности, рискую! В окопах и не то видали. Идем, Жюстин, будешь за переводчика. У тебя всякие слова… можешь поговорить, как Цезарь. Ну, вперед!
Пти Жако почувствовал отвагу, поправил галстук и потер лоб в пупырках. Но Жюстин мялся что-то. Все-таки… как-то не совсем удобно, могут быть неприятности с его отелем: скажут, работает дублетом, на два фронта. Выходит не совсем красиво. Пти Жако просил: никто не скажет, тип, очевидно, не останется, все кончим сразу…
– …и отвезешь прямо в Биарриц.
– Ну, идем! – решился, наконец, Жюстин, – не то видали!
На лестнице он справился, не слишком ли «хватили», хотя с ним в этом отношении ни разу не было зацепок.
– Нормально… – сказал Пти Жако уклончиво, – если за километр семь франков… нормально!
Иностранец смотрел на океан и пускал клубы дыма. Услыхав шаги, он обернулся, поморщился и помотал бумажкой.
– Ага… – хрипнула прыгнувшая трубка.
Пти Жако изысканно склонился. Жюстин застрял у самой двери.
– Мистер желает?.. – начал подходчиво Пти Жако.
Иностранец шагнул к столу, швырнул бумажку и стукнул по ней трубкой:
– Это… как называется? – сказал он скучно.
Пти Жако повернул голову к Жюстину.
– Калькуляция, мистер. Тут все прикинуто. Если отель только для одного мистера… Па… Панкера, то … калькуляция дает такое… – ткнул он в бумажку пальцем и повернул голову к Жюльену. – Если это вас не устраивает, мистер Па… Панкер, вы свободны располагать. Важные дела требуют меня в Бордо, я каждый день теряю большие тысячи, и…
– … и даже не понимают по-английски!
– Будут понимать, мистер Пан-кер! Все предусмотрено. Будут и ковры, и стол, самый изысканный… две спальни, две ванны, все, что необходимо… все принадлежности, полное удобство и… полное уединение! Мистер останется доволен.
Пти Жако заметил, что у иностранца глаза не зеленоватые, как у кота, – так почему-то показалось, – а синеватые, и мягкие. И лицо не каменное вовсе, а даже выразительно-приятное.
– Вы бьете все рекорды… – сказал с усмешкой иностранец, – шесть тысяч пятьсот – в день, без пансиона… Вы далеко пойдете.
Пти Жако повернул голову, но увидал зеленовато-клетчатую спину. Взглянул растерянно на иностранца, встретил спокойный взгляд и услыхал знакомое – «э-э… сода-виски».
Это – «сода-виски» иностранец бросил пренебрежительно, и Пти Жако это почувствовал определенно. И поднял, чувствуя дополнительно – победу. Но надо было убедиться, действительно ли победа это, а Жюстин улизнул, как заяц. Пти Жако начал, было, почтительно – «достоуважаемый мистер Панкер…», – но иностранец повернулся к нему спиной. Эта внушительная спина показалась ему пустой, но он почувствовал что-то в ней, – усталость, скуку?.. Иностранец подошел к окну, оперся о косяк, смотрел. Пти Жако помялся, боясь потревожить. Но надо же, наконец, узнать определенно: «сода-виски» есть сода-виски, только. Он взял со стола бумажку.
– Очень извиняюсь, мистер… Па-нкер? – он помотал бумажкой и постарался лицом и жестами пояснить, чего не мог высказать словами.
Иностранец не оглянулся, только скучно махнул два раза – да, да… Пти Жако молча поклонился и отступил неслышно, на-цыпочках. В раздумьи, спускался с лестницы, мысленно видел спину и скучный взгляд, и было как-то не по себе, как бывает от странных снов. На тревожный вопрос жены он сказал без особого подъема:
– Остается. И сода-виски. Жюстин?..
Жюстин неожиданно уехал.
В комнате небогатого отеля Ирина Хатунцева – Таня Снежко, по ресторану, – солистка русского хора Боярского, писала письмо мужу. Его портрет, в веночке из васильков, давно увядших, стоял перед ней на камушке. Камушек этот – даже не камушек, а комок затвердевшей глины – был для нее священным – символом родины. Она схватила его в последнюю минуту на станции «Таганаш», перед Джанкоем, при отступлении, когда обстреливали последний поезд, и она втаскивала в вагон залитого кровью добровольца, ловившего померкшими губами и просившего жутким хрипом – «дышать… дайте…» Раненый отошел на ее руках, залив ее платье кровью. А она все держала его руку на этом комочке глины и спрашивала гремевший поезд: «а Виктор?.. где-же Виктор?..» Теперь Виктор был с ней, недалеко, в санатории, и давний портрет его, в выцветшей форме добровольца, на этом кусочке родины, залитом русской кровью, вызывал ласковые слезы. Она писала:
…сентября 192… Биарриц.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…ему я верю, это хороший диагност и большое сердце. Он сам много выстрадал и не может лгать. Если С. говорит, что ты скоро поправишься, то так и будет. Твой пессимизм – это просто нервы, ужасное твое шоферство их совершенно размотало. 22-го, годовщина нашей свадьбы, – подумай, уже пять лет! – я непременно вырвусь к тебе. Помнишь, какой это был светлый день, и какая ужасная тревога. Симферополь, пустая церковь, наши калеки-шафера, и в тот же вечер – фронт, разлука… Ночи в лазаретах, вечная тревога, слухи эти, угасающие глаза, одинаковые у всех, такие чистые, юные, святые! Каждую минуту ждала я страшного, но Господь сохранил тебя, и мы теперь неразлучно вместе. Сердце у тебя хорошее, а это, милый, перемести-лась пуля, это рентг. сним. ясно дает, нажала на какой-то сосуд, отсюда и кровоизлияние. Такой случай был у одного фр. офицера, я знаю точно. Надо бросить шоферство, сядем на ферму и будем у себя. Нечего и думать о Париже, Бог с ним. Четыре тыс. отложено, и я за посл. месяц напела почти три, сезон горячий, недавно один голландец пожертвовал 300 фр., нашла в букете… шикуют иногда. Побольше бы… И я сделалась жаднюхой, но это чтобы ты был покоен. Петь и м, в таком угаре… папа бы что сказал! Петь о нашем, это мы только можем чувствовать. А для них никакой разницы: и т а м, и мы – одно и то же – «Решен». В этой ужасной атмосфере у меня кружится голова, и вспомнишь вдруг тот запах кровавых тряпок, ран…, а они ничего не знают, что такое страдать, терять… только – ан-кор, ан-кор!.. Это льстит мне, но только вспомнишь… И тут же наши, все потеряли, все отдали… и вот, увеселяют. Бывают минуты, мне схватывает горло, не могу петь, и тогда вызываю твое лицо, глаза, и только тебе пою, ты для меня все родное. Милый, единственный… зачем я тебе пишу все это? Но, знаешь, все-таки я не совсем права, даже и в нашей яме есть светлые точки, хоть и редко. Один молод. америк. Чарли ужасно привязался к нашим казакам и зовет к себе на кауч. плантации, только петь! Что-то и в нем разбудили наши песни, м. б. открывают узкой его душе какое-то раздолье, какую-то вольную свободу, кот. они забыли. Это уж атавизм, а у нас живое. Мы для них какие-то странные, чужие, и будто близкие. Это придает мне силы. Редко это, но и одним праведником спасется град. И еще швед один, старик, кот. жил в России. Играли балалайки, и наш запевала Тиша – помнишь, пулеметчик, курский, который у мучника служил? – начал коронное свое «Ходит ветер у ворот», и когда балалайки пустили «ветер», бешеные эти переборы и «молодую красотку», неуловимую и для ветра, что только со шведом сделалось! Вскочил, замахал, затопал и стал кричать, по-русски, – «русски ветер, шведски ветер, коледни, горячи, мой!..» Если бы все так чувствовали, все бы по-другому было. Ах, милый… нет, мир еще не совсем опустел, это от нервов у тебя такое горькое. Как хорошо сказал о. Касьян… помнишь, был у нас старичок-монах из Почаева, заходил в августе?
Сколько я написала, уже пять страничек, а не сказала самого главного. Совсем я писательница стала, а ты не смейся на мои ошибки, я все перезабыла, где надо ять, совсем я обезграмотилась. А в институте первой всегда была по-русски, стихи даже на акт готовила.
Опять сбилась… да, про о. Касьяна. Это был как раз тот день, катал ты меня по всему Кот-д'Аржан, кутили мы с тобой. Как ты сумасшедствовал, и как я была счастлива, ты со мной, мой. Я только что обновила чудесное платье, самую последнюю модель, шик такой! Как сон волшебный. Ты знаешь, я вовсе не такая «пустопляска», но тогда… И ты, ведь, тогда безумствовал, как мальчик. Я в папу, какой уж был серьезный, а любил одеться, всегда был элегантный. Это от него.
Ты все это знаешь, но как приятно вспоминать, так у нас мало светлого. Почему-то я была на пляже, довольно рано. И вот, какая-то милая американочка-чудачка узнала меня на пляже, кинулась ко мне… – Ах, я знаю, вы Танья… Снэ-шко! ах, не могу забыть, как вы вчера «играли»!.. вы так волшебно пели про какой-то «звон»… Это она про это… про «Вечерний звон». У нас в программах дан перевод всех песен, довольно глупый, но все равно, что-то они улавливают все-таки. – «Ах, вы душка, я вас отметила, особенная вы, какая нежная, будто из лучшего фарфора»… Так, буквально, – «из лучшего фарфора»! – «Я, прямо, брежу… влюблена в вас!..» Стала обнимать и целовать, чуть не задушила, потащила с собой в роскошную машину… Что она мне болтала только… все у ней перепутано, но очень-очень милая. И герои мы, русские, и большевики нас непременно должны впустить в Россию, и она сама напишет непременно президенту, скажет мужу, муж у ней сенатор и скоро будет президентом… а у брата сколько-то газет, и она его заставит все написать, чтобы все знали, какие у нас песни, и мы непременно должны «со всеми вашими казаками» приехать к ней в Бостон, у ней приемы, и вся Америка узнает. И вдруг привезла меня в сюкюрсаль парижского большого дома, от-кутюр, к Па-ту!.. Как сон чудесный. – «Нет, нет, я так хочу… это мне радость, что-нибудь для вас, самый пустячок, на память…» И приказала – «все модели»! Уж и досталось манекеншам. Долго выбирала, требовала все – «нет, нет… воздушней, мадам шатэнка… что-нибудь светлей!» Наконец, манекенша сумела «показать», русская наша оказалась, с тонким вкусом, юная совсем, княжна, прелестное дитя. Остановились на розоватом, бальном, «весеннем», – вышито зеленью, и чуть – фиалки! И чтобы я тут же и надела. Выбросила пять т. фр.! Я оцепенела, прямо. Потом купили шляпу, этот «ореол», как ты сказал, огромную, до плеч… безумие! Шляпка… полторы тысячи! Дюжину шелк, чулок, три пары туфель… и Ира стала Золушка-принцесса. Полюбова-лась мной, просила ей писать, и укатила, чуть не опоздала на трэнбле. И ты увидал меня, такую, у казино на пляже, проезжал случайно. Ах, милый, не забуду, какое было у тебя лицо, когда ты крикнул – Ри-на! И смутился, уж я ли это. Как ты на меня смотрел… уж не забуду. Как я тебя люблю, какая нежная у тебя душа… Ты мне сказал, как рыцарь, – «мадам?..» И мы помчали. Где только не побывали мы тогда! В Осгоре устрицами угощал, в «Палэ дез-Юитр»… завтракали после в розовом отеле, где «сосны-великаны». Нет, это на другой день мы были, все кутили. Ты был в ударе, стал декламировать из Пушкина – «Вновь я посетил… Три сосны стоят, одна пооддаль, а другие…» Нет… да, «две другие друг к другу близко… они все те же». Опять напутала, кажется, ну, все равно. Хотелось плакать, все всколыхнулось… Розовый отель на берегу, «Пти Пэн»… и ро-зовое платье. А ты, в рабочем балахоне, в масле… так чудесно было. Буду до конца дней помнить эти «Пти Пэн»… Как мы помолодели, как ты чудесно щурился, все хотел вспомнить, вызвать дачу в Павловске, что-то тебе похожее казалось. Воздух был жаркий, пряный, смолисто-горький, пить хотелось. И ты велел дать… шампанского! Помнишь, как та хозяйка, смешная усатая старуха, нас «сверлила»! Мы были сумасшедшие, влюбленные. Всегда влюбленные… ведь, правда, да? Это все радость сделала, мы обновились… подумай, такой пустяк! Ели чудесное жиго, омара, салат из «петушков»… и та старуха все сверлила своими щелками, «коринки в масле»! Не забуду. И выжила нас из перголя под «сосны». Вежливо, правда… – «ах, мсье-мадам… тут извините, занято…» Но это раньше, еще до завтрака. Помнишь, как англичанки щелкали зубищами на мое платье? Правда, оно немножко их… «эпатэ». Как они по-гусиному на нас смотрели! Такая «элегантная», и вдруг… со своим шофером, тэт-а-тэт! Так голо, так вульгарно нагло! А как они позеленели, вдруг мы заговорили по-английски! а «шофер» стал декламировать из … Шелли! И как тот старый англичанин, чопорный такой, совсем как лорд у бедняков из Диккенса, вдруг захлопал и сказал по-русски: «да это наши, русские!» И оказалось, ниакой не лорд, а милый, благодушный старикан, бывший беговой наездник, знаменитый в Москве когда-то Кинтон. Папиных лошадей тренировал. Все-таки искорка осталась.
Как я занеслась… Да, про о. Касьяна. Как он сказал на твои слова, что мир опустел, как это верно: «Господни зернышки не затоптать, ими и свет стоит…» Как верно…
Вчера не дописала, не могла, так меня всколыхнуло все. Теперь про скучное.
Твое взволнованное письмо меня расстроило. К. тебе все налгал. Не понимаю, или уж слишком понимаю, зачем он лжет. Чтобы раздражать тебя, чтобы досадить и мне? Он мне надоел своими «вздохами». Какое он право имеет мешаться в нашу жизнь? Я ему запретила бывать без тебя. Это или болезнь, он как-то неуравновешен последнее время, я замечаю… или сплошная гадость. Мелкий человек, а на войне, говорят, был героем. Уж не знаю, как это совмещается. Разыгрывает Яго… вот уж не к лицу-то. Лживый доносчик… гадость, гадость. Как ты мог поверить только, Ви?.. Нет, я знаю, ты не мог поверить, что я скрываю что-то, это все нервы, одиночество, тоска. Ты рвешься, я знаю. А я-то, если бы ты знал… ночи не сплю, как там, на фронте. Успокойся, милый, все ложь. И про «похоронные венки», и про «одуревшего иностранца». Ничего подобного, конечно. Никаких «похоронных венков» мне не подносили. Что это у тебя, откуда это «предчувствие»? В выдумках видеть что-то. Выкинь, прошу тебя, эти дикие мысли из головы, ты – светлый. Это все нервы. И «носорог» тут не причем, а, напротив, проявил себя по-американски «джентльмэном». Ты спрашиваешь про ту «историю»… Вот как все было. Мне больно, как ты волнуешься. Как только смеют тебя расстраивать, зная, что тебе необходим покой… такая низость.
Ты про иностранца немножко знаешь. Его прозвали «носорогом» у нас в «Кремлэн». Это полк. Ломков прозвал так, лихой «встречатель». Когда иностранец в первый раз приехал, шикарнейший паккар, наш портье лихо подбежал на своем протэзе, отмахнул дверцу, – был немножко «с грунтом», – «словечки» эти! – а тот, большой, да и полк. тоже не маленький, случайно головой его в грудь, «как носорог» … отсюда и пошло. Чуть не сбил с ног. Очень извинялся, когда узнал, страшно был удивлен, кто такой портье, – лейб-гвардии полковник, с Георгием! Это наш граф сказал ему, – не понимаю, зачем так афишировать. Но наш «метр-д'отель», хоть и дипломат, как он себя считает, любит иногда шикнуть А сам не любит, когда говорят – «бывший дипломат». И так доволен, что для шику придумали ему черкеску. – Даже приятно, что его зовут – «гора в черкеске». Но казаки наши изобрели свое – «дипломат в черкеске», соль-то! Так вот… иностранец не мог понять, почему такой герой, – портье? Объяснили: просить не может, а отнимать у инвалидов последние гроши не хочет, – вот и портье. Очень удивился. Если бы знал, как герои ночуют под мостами, как их… о, Господи! Ничего не знают. Если бы я была писателем, я так бы написала, что все бы со стыда сгорели. Не понимаю, почему не пишут о нашем – все, все? О самом мелком даже. Ведь и в этом мелком… ско-лько! Страдания не увлекают? Жил бы Достоевский или Толстой!.. Они могли бы заставить содрогнуться весь мир, ты прав. В «чю-вствицах» своих копаться!.. Ну, записалась. Да, но они, все эти, и от Достоевского не содрогнутся, все «несгораемые», как кирпичи. Впрочем, я не совсем права, есть искорки… нет, слава Богу, еще не все окаменели. А если бы все знали!..
Этот иностранец, – он американец, «лесной король», – говорят, миллиардер. Какой-то странный. Что в нем?.. Но что-то есть, сейчас увидишь.
Стал у нас бывать чуть ли не каждый вечер, до рассвета, всегда один. Выберет столик в самой глубине, закажет сода-виски и сидит, сидит. Наш дипломат пробовал его раскусывать, но он неразговорчив. У нас его прозвали еще «сычом»: сыч приехал! Никогда ничего не требует по карте, даже и шампанского, ни разу. Думали, скупердяй, бывает это и у миллиардеров. Но наш Жан Петрофф дознался. Оказывается, за аппартаменты в первейшем из отелей, в… Отель… знаешь, сколько платит в сутки? Две тысячи! Только подумать… в день, две тысячи! Наши шоферы говорили, что ему ставят чуть ли не по шесть франков за километр. За месяц он накатал по пустякам больше тридцати тысяч! Безумие. Ну, наш Жан Петрофф ждал «россыпей», хотя какие ему россыпи, все равно не разбогатеет, сам над собой смеется – «ворона бородатая!» И велел «заняться» иностранцем. Ждали, что появится «она», а «она» все не появляется. К. опять лжет: совсем не «хам», увидишь. Между прочим, поразило его, что граф-дипломат так англичанит, очень удивился: «как, вы не англичанин?!» Увидал на черкеске, «ленточку». Это еще более смутило: «легион»?! Нет, в них не вмещается. Но как же… разве нельзя более подобающую должность? Не понимают, что такое русский эмигрант. Наш дипломат говорит на семи языках, и – в черкеске, «метр-д'отелем». Граф ему сумел ответить: «мы без предрассудков, как вы, американцы». Тот ему чуть руку не сломал, пожал так. Графу-то, «горе»-то.
Ему у нас пришлось по вкусу, особенно «кокошницы». Как им выступать, всегда поближе пересядет. И вот, мои «песни» пришлись ему по вкусу, говорят – «пленили». Мне, разумеется, приятно. Ему лет пятьдесят, лицо тяжеловатое, но глаза мягкие, что-то наивное в них даже. Лицо довольно моложаво, свежее, совсем как папино, загар-румянец. Страшно напоминает папу. Папины манеры даже. Так меня это взволновало – увидала его лицо, особенно глаза. Папу ты только по портрету знаешь. Как увидала… – ну, папа… живой папа! Так все поднялось… Папа, папа… Папу по всей России знали, все уважали, называли новатором. Немного таких было. Даже шахтеры-бунтовщики любили, поднесли кирку серебряную в юбилей, так он был тронут этим. А сколько сделал для России! Заводы, шахты, жел. дороги, школы, образцовые хозяйства, а миллионером так и не стал, не думал о богатстве. И успевал писать в англ. и америк. журналах, специальных. И его убили!.. Отдал всего себя, все дела оставил, целую войну на фронте, организовывал военные заводы, лазареты, пункты… был исключительный организатор. И меня зажег, свою любимицу, последышка. Что я была… кисейка, институтка, «хрупка». Звал меня – «хрупочка моя». Как мы с ним жили в эшелонах, как он гордился, что с ним его «оруженосец». Все мы оруженосцы были, и только одна «хрупка» уцелела. А как он принимал утраты… какая нравственная сила… Подумай, все трое… братики мои… Глупая, пишу такое. Милый… мои утраты! У всех утраты, все сравнялись. А твои-то… Милый, вижу твои глаза, синие мои, целую, дышу на них.
Тот американец папу напомнил мне. Папе теперь было бы… шестьдесят один год, только… ровно на тридцать три года старше меня… «ровно тридцать лет и три года», – все говорил, бывало. И тот американец такой же с виду нелюдимый, закрытый, совсем как папа. А поглядишь в глаза… – это я про папу, вспоминаю, – все и видно, ясная душа какая! Папа очень любил мой голос и настоял, чтобы я непременно училась пению. Вот и пригодилось… Я брала уроки у милого Д. го, знаменитый когда-то тенор. Он всегда говорил: «итальянок из вас не выйдет, вы какая-то… вне формы». Правда, я – «вне формы». Мы с ним разучивали русские только партии. Татьяну пела ничего, Ярославну лучше, но когда он начал со мной мученье над Февронией из «Китежа», на третьем уроке поцеловал меня и сказал – «вот, это уж твое». Все оборвалось…
Зачем я вспоминаю это, пишу тебе? Там, перед этими, мне трудно петь, и больно петь ту «песню», о России. Надо ее чуть слышно, совсем одной, чтобы никто не слушал. А требуют. И тем что-то передается, чувствовала не раз… передается что-то. Слов не понимают, – в программах дается только общий смысл, – а слышат, знаю. Я пела о метели, о степной пурге, о ветрах… – «Замело тебя снегом, Россия, запуржило седою пургой…» Когда я начинаю вторую строфу – «Ни пути, ни следов по равнинам… по равнинам безбрежных снегов не добраться к родимым святыням, не услышать родных голосов…» – у меня захватывает дыханье. Я пела. Он сидел близко, поставив локти, и его глаза смотрели напряженно на меня. И вот, когда почувст-вовала, что меня душат слезы, уж нечем петь, его напряженное лицо вдруг передернулось. Я не могла закончить, ушла. Потом я плакала… Пришлось вернуться и начать снова. Когда я раскланивалась на крики и апплодисменты, увидала иностранца. Он стоял слева от эстрады, у стены, засунув руки в карманы своей спортсмэнской куртки и смотрел дико как-то, исподлобья. На другой вечер… Да, надо еще про «венки».
Мне часто делали подношения, цветы, ты знаешь. Иногда граф передавал мне деньги, пятьдесят, сто франков, но это редкость. Тот голландец, я говорила, сделал исключительный презент, триста фр. Последние дни перед «историей» я стала вдруг получать чудесные белые цветы, орхидеи, гардении. Гардении, мне говорили, здесь крайне редки, их выводят в оранжереях в Англии, – это, говорят, цветок английских лордов, уж не знаю. Как их доставали, уж не знаю. Пахнут они… похоже на магнолию, но тоньше. Только быстро вянут. Граф мне передавал от имени американца. То-есть, я его спросила, и он сказал. Как-то я получила большой венок… не получила, а влез на эстраду какой-то неуклюжий, с лиловыми щеками, – после оказалось, аргентинец, – и бросил к моим ногам. Так дико вышло… оказывается, он был пьян и, говорили, спьяну попал вместо цветочного магазина в… помп-фюнебр! Больше он не являлся. Из этой глупости сделали «похоронные венки».
Так вот, на следующий вечер… только что я вернулась от тебя, очень запоздала, вышла петь в первом часу ночи. Американца не было. Когда я кончила, граф поднес мне огромное плято, белые орхидеи, гардении и в середине голубой веночек, незабудки, – от американца, сказал он мне. Мне было как-то не по себе, тоска. Долго я не могла заснуть, думала о тебе, глядела на эти незабудки и плакала. Вспомнился бедный папа. Казалось странным: от американца, и – такое… сантиментальное. Такое давно оставлено, забыто. Утром я увидала, что плято серебряное, с чернью. Ты увидишь, это произведение искусства. И в середине, где незабудки, врезано красиво, тончайшим золотом, два слова, по-английски – «Light in Darknes», – «Свет во тьме». Это меня странно удивило. Что это значит? что за символика? Вспомнила, что это слова из первой главы Евангелия от Iоанна, которое читается на Пасху: «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Какой смысл этих золотых слов? Мое пение – свет… а все – тьма? Для меня совершенно ясно, что тут не «излияния чувств», не я сама, а что-то пробудило в нем пение… не знаю. Во всяком случае, не ординарное, не пошлое. Прошло три дня, американец не являлся. И вот, произошла «история». Передаю все так, как слышала от графа, все происходило на его глазах.
Наконец, иностранец появился. Сидел он довольно близко от эстрады и пил не сода-виски, а почему-то – бранди. Был, по словечку графа, «а-пен-деми-суль», а по словам казаков – «хлопал». Вот себя и поймала, ты прав, стали и у меня «словечки». «Окраска», липнет. В зале было шумнее обычного, все полно. Выход мой благополучно кончился. И тут все и случилось.
Ещё когда я пела, кто-то мешал бурчаньем. Это меня нервило. И вот, только я ушла, пожилой голландец, мож. б. тот самый, расщедрился-то на 300 фр., сказал… «не совсем салонно», как выразился дипломат. Он был недалеко от иностранца и слышал. Разумеется, я не стала его расспрашивать. Сказала еще, что «сыч вылез из своего дупла и бурно реагировал». Но Саша Белокурова поспешила все мне «объяснить». Я знаю, ты ее не любишь за ее циничность и вульгарность, – эту, как ты зовешь, «мясную лавку». Я не терплю ее «словечек». В общем, она, вот именно, вульгарна, «гола» – «мадам сан-жен», по дипломату. Но тут она была искренна, даже расплакалась. Обняла меня, стала целовать: «пусть бы так про меня… но ты-то, ты… за что!» Не выношу этого ее «ты», но тут она была искренна. По ее словам… пишу тебе все, как ты хотел, – пьяный голландец пробурчал негромко, будто сам с собой, – «интересно, сколько эта стоит?» К. тебе сознательно преувеличил, чтобы раздражить. Слов – «за сколько можно иметь» – не было сказано, хотя… смысл тот же. Ты хотел, чтобы я все сказала, вот «все». Голландец уверял, что это относилось «к другой особе», которая меня сменила. После меня выход Саши Белокуровой… м. б. потому и плакала она, не знаю. Мне ее жаль, жизнь ее, как она говорит сама, «случайная». Подобное у нас бывало. Ну, бывают пьяные, ну… «иностранное веселье». Тот, американец, принял бурно. Поднялся, повалил стол, мрачно придвинулся к голландцу и без слов ткнул кулаком под челюсть. Голландец покачнулся, схватил бутылку, граф почему-то растерялся. Американец снял смокинг, – в тот вечер он был в смокинге, – и крикнул – «бокс»! Говорят, был страшен. Казаки говорили: «так распалился, аж дым валил!» Крикнул голландцу что-то вроде «мразь», – должно б. – «muck». Наш дипломат встал между ними и каким-то «мо» все это ликвидировал. Голландец извинился, предлагал американцу «дружбу», но тот бросил ему – «you can go to the devol!» – «к чертям!» – надел свой смокинг и уехал. Эти вечера не появлялся. Вот и «все».
Я не стала бы тебе писать об этом, если бы не твое письмо. Сердце рвется к тебе, но я обязана выступать все вечера, поездка берет весь день, автомобилем страшно дорого, больше 200 франков! – надо беречь деньги, чтобы скорей освободиться от нашей каторги. Оба раза, как была у тебя, возвращалась в 12 ч. ночи, разбитая. Умоляю, побереги себя, не прерывай лечения, это безумие. 22 непременно вырвусь. Помни, без тебя не жизнь, если бы ты знал, как трудно, как пусто, милый…
Столько написала, и не заметила, а целое послание. Уже семь часов утра, а я и не ложилась, и спать не хочется. Часто теперь бываю в церкви, легче. Какие у нас новости?.. Тетя из Парижа пишет, делает теперь куклы для иностранок, в моде «кормилицы» и «казаки». Беднягу поручика Рожкова положили в госпиталь, защемление грыжи, от ящиков на ж. д., чуть не умер. Старенький наш генерал устроился, наконец: плонжером, тяжело ему. Обещают более легкую работу, наклеивать афиши. Да, вот еще… из «психологии».
Против нашего отельчика, в особняке, где кедр, поселилась одна пожилая мисс, очень бонтонная, и любит русских. Ты помнишь на нашей улице, «голубков»: старичок, быв. чл. гос. сов., с бачками… ты еще говорил, что похож на дряхлеющего барса, и его милая старушка. Они всегда гуляли вместе. Еще у ней лорнет, и она все через лорнет, на все, даже на своего старичка. Чистенькие всегда такие, дружные, все вместе, как голубки. Оказывается, они уже голодали, только теперь узналось. Старушка недавно заболела и слегла, ноги у ней распухли. И вот та мисс решила им помочь. Но как это так сделать, чтобы не задеть их самолюбия? А она знала, кто этот старичек, ну… вроде, пожалуй лорда. И вот придумала… прямо, анекдот. У соседней консьержки есть собака, огромный пес. Милая мисс приметила, что этот пес все у окошка, и морда скучная. Вызвала консьержку и спросила строго, водят ли собаку погулять. Та ей сказала, что у ней нет времени гулять с собакой, а выпускать одну опасно, бросается. Мисс это огорчило. А она страшная собачница, у ней особая девица для ее рика и рака. Тогда она купила дорогой ошейник и хороший ремень и велела своей девице прогуливать консьержкина пса вместе с рико-раком, но пес чуть их не разорвал. Тогда она решила… предложила его высокопревосходительству прогуливать собаку два часа в день за десять фр. Старичок принял это стоически, м. б. внутренне оценил «жест» мисс, – ну, если такая «психология»! Очевидно, уже дошло. И вот, он регулярно прогуливает собаку и зарабатывает ежедневно 10 фр. для «голубки» на лекарства. Но если бы ты видел, как он их зарабатывает! Пес его возит на ремне, и бедняга, буквально, ездит! Соседи зубоскалят! «наш генерал изволил выехать!» Наши, понятно, не смеются. Впрочем, эта мисс очень отзывчивая, недавно дала сто фр. на детский праздник. Я, как увижу, думаю, какие чувства у старичка к этой мисс и к ее протежэ? Со псом он ласков, присядет на скамейку, пес трется об его острые коленки, а старичок щекочет ему за ухом. Если встречает мисс, торопливо стягивает перчатку, – он всегда в перчатках, – снимает шляпу и раскланива-ется любезно. Мисс ласково кивает. Наш доктор, когда узнал, загорячился по обыкновению, вставил в глаз свой монокль, как Чемберлэн, – это он всегда, когда взволнован, – и сказал самое крепкое свое словечко – «свинья!», и тут же облегчился «философией»: «впрочем, это еще идиллия в нашей эмигрантской жизни».
Что ещё… Да, твой вестовой Карпенко женится, поздравь его. На угловой торговке примёрами, помнишь «стог»-то? А он жердь-жердью. Ей под пятьдесят, но с капитальцем. Я его стыдила, а он смеется: «пока, до России, хоть фру-хтами отъемся». Тоже «идиллия». Опять видела этот кошмарный сон, будто мы с тобой в Харькове, бродим по темным улицам, ни души, с нами карт-д'идантитэ, и вот, сейчас нас арестуют… Вчера была память мамы, служила панихиду.
Ах, дорогой, если бы ты знал, как … У меня покупают то платье, дают полторы тыс… продать, пожалуй? …и целую крепко-крепко. 22 – непременно!
Твоя Рина.
Все, что писала Ирина мужу, была правда; но она не могла всего написать ему: надо было его беречь.
Ему претила «кабацкая» ее служба ночной певицы – «на потеху этой международной пыли», выражался он в раздражении, – но она успокаивала его: ведь это только пока, на какой-нибудь год-другой… и это ее никак не унижает, а лишь поможет скорей освободиться от подневольной жизни; они непременно отложат тысяч пятнадцать-двадцать, заарендуют ферму, займутся куроводством и будут сами себе хозяева. Полковник Одинецкий продавал в Константинополе пирожки и бедствовал, а теперь выгоняет в теплицах землянику, завел тысячу белых кур и собирается далее купить машину. Он, как всегда, отдавался ее успокоениям. Да и невозможно было не покоряться ее глазам, в которых сияла голубая душа ее – ясность и чистота. Но за два года удалось отложить только четыре тысячи. Ирине были необходимы туалеты, кроме ее «боярышни», и он хотел видеть ее всегда изящной, особенной. Она и была для него особенной: он называл ее – «отыскавшаяся Мисюсь». И в самом деле, первая встреча их произошла случайно, как в чеховском рассказе, только совершенно в иных условиях.
Летом девятнадцатого года их полубатарея случайно задержалась на каких-нибудь четверть часа, на разъезде «Песчаное», под Купянском, и удалось наскоро выкупаться в пруду, возле какого-то имения. Спешили на Волчанск, на Белгород… Купаясь, штабс-капитан Хатунцев привычно прикинул местность – и увидал белый господский дом, стоявший в конце аллеи высоких елей, и это что-то ему напомнило, – свет какой-то?.. Много господских домов перевидал он в походах, но этот приятный пруд, эта уютная аллея и белый дом показались ему «совсем родными». Вот бы, пожить недельку и отдохнуть душой! Полковник Кологоров, сам купавшийся с упоением, как буйвол, тут же и начал торопить, только что влезли в воду, – «нечего, господа, манежиться!» Когда бежали к разъезду, вправляя в штаны рубахи, Хатунцева оглушил мелодичный, спешащий голос, в котором чувствовался восторг и неясность, – «родные… выпейте молока!.» И он увидал… Мисюсь. У столбового въезда в имение, у крепких ворот – «со львами», совсем как там! – стояла тонкая девушка, – ему показалось, девочка, – в светлой прозрачной блузке, и держала две черные крынки с молоком. Тут же стояла босая хохлушка-девка с пшеничным хлебом на ручнике. Все трое отдали честь «чудесной» и прокричали восторженное ура. Он припал к крынке и насладился вдосталь и волшебным, «небесным», молоком, и незабудковыми глазами, нежно следившими, как он пил. В этих незабываемых глазах сияли восторженные слезы. Все горячо благодарили и целовали руки, торопились. Славная девушка сказала, взволнованно и нежно, глотая слезы, – «какие вы все… хорошие!..» – что-то еще хотела и не могла. Он задержался на минутку. – «Ах, какая вы славная… Мисюсь!..» – вырвалось у него, в восторге. Она удивленно и радостно взглянула, а он, не помня себя от счастья, от хлынувших вдруг воспоминаний чего-то неизъяснимо светлого, стал говорить ей спутанно и страстно, – полковник кричал – «не увлекаться!» – что она самая-самая Мисюсь, пропавшая там, когда-то, – и вот, явившаяся в огне войны. Она с изумлением смотрела. Он показывал ей на белокаменные столбы со львами, на аллею, на белый господский дом… – «с мезонином… вы помните?.. – все, как… тогда, у Чехова!»
– Маленькая Мисюсь нашлась… Сколько мы повторяли, с грустью, – «Мисюсь, где ты?» – и вот, маленькая Мисюсь нашлась… – радостно говорил он ей, каменным львам, аллее, держа ее тоненькую руку, теплую, в молоке, а она растерянно смотрела сияющими от слез глазами.
– Вы на Харьков?..
– Нет, на Волчанск, на Белгород…
– Ах, скорей бы!.. – вырвалось у нее мучительно, – папа и мама там…
– В Белгороде?.. как адрес, фамилия?..
– Нет, они в Харькове, случайно…
– Харьков возьмут сегодня!.. И вы… – торопился он, целуя ее руку, – не тревожтесь, все будет хорошо… Прощайте, славная, милая Мисюсь… как тут у вас чудесно!.. прощайте!.. Если бы только – до свиданья!..
И они встретились в Севастополе, год спустя. Она уже была – сестра, перенесшая много испытаний, всех потерявшая, и все такая же славная, Мисюсь. Случилось чудо, одно из многих, тогда случавшихся. Мисюсь не могла исчезнуть.
«Я знал», – говорил он потом не раз, – «что встреча повторится. Она не могла не повториться! Если бы ты пропала, совсем, навсегда пропала… тогда бы и жизнь пропала».
Бывший студент, филолог, он не имел сноровки заправского шофера. Почитывал на стоянках Шелли, Анри дэ Ренье и Чехова, и упускал клиентов. Чехова он боготворил, считал его самым тонким из всех писателей, хоть бы и мировых, самым проникновенным, вечным, и готовил о нем задуманную давно работу – «Вечный свет Чехова». Шоферством тяготился, ночной работы не выносил, не завозил гуляк в заведения и гнушался комиссионных – за доставку. Годы войны, борьбы обострили в нем привитое воспитанием чувство чести и личности. Он не выносил грубости, избегал комиссариатов, и выбирать carte d'identite было для него мучением. Его коробило, когда хамоватые клиенты швыряли ему «ты» или пренебрежительное «моншэр». Между своими слыл он за чудака-идеалиста, который почему-то отказывается от пур-буаров. Правда, никак он не мог привыкнуть к пур-буарам. Когда удивленные клиенты отмахивались от возвращавшегося им франка, а некоторые оскорблялись даже, он пожимал плечами с брезгливым видом. Был еще такой случай.
Какая-то рассеянная американка забыла в его машине сумочку с драгоценностями, около миллиона франков, как она ему объявила. Случилось это в Байоне. Целый день мотался он по Байоне, разыскивая ее, – в комиссариат ехать не хотелось, – нашел уже к вечеру в Андай и вручил сумочку. Произошел интересный разговор.
– А, благодарю. Надеюсь, все в порядке?
– Не знаю, поглядите.
Она порылась, небрежно-бегло.
– Главное, жемчуг здесь… прочее – пустяки. Сколько же вы хотите?
– Уплатите по счетчику…
Она не дала сказать.
– Я не понимаю… какой счетчик? Я спрашиваю, за это сколько? – мотнула она жемчугом, сказав по-английски, про себя, – «все хитрости!»
Он ответил ей по-английски, резко, как швыряла ему она:
– А теперь я вас не понимаю, при чем тут «хитрости»? Вы забыли ваши пустяки в моем такси, я целый день вас проискал, чтобы вручить вам ваши пустяки… по счетчику выходит около трехсот, с обратным до Байоны… кажется ясно.
– Хорошо, – сказала она, кусая губы, – тысячи с вас довольно? – и протянула тысячефранковую бумажку.
– Я сказал вам совершенно ясно: триста франков.
– Отлично! – воскликнула она запальчиво. – это вам за работу. А за вашу… ну, любезность?
– Это не определяется бумажкой.
– Чем же это определяется? – сказала она, прищурясь, всматриваясь в него.
Он пожал плечами:
– Тактом?.. Но раз уж так хотите… определить, извольте: сдачу с вашего билета отошлите по адресу, я вам оставлю… на русских инвалидов.
– Так вы не француз, не англичанин… вы русский! А, тогда понятно.
– Очень рад, что вы поняли: вот мы и сосчитались.
– Вы, конечно, офицер? Что-то я слышала, русские офицеры теперь шоферы? Куда же вы так спешите, может быть коктейля выпьем? Вот как, не пьете… Знаете, у вас очень интересное лицо, что-то от Рамон Наварро… Но в дансингах-то вы бываете, надеюсь?
Она была глупа, вульгарна. Он сухо поклонился и ушел.
Оказалось, американка отослала «русским инвалидам» семьсот франков. Он подосадовал: жаль, что не потребовал тысячи две-три – на инвалидов: дала бы, хотя бы из упрямства. И сделал вывод: все-таки, вычитать умеет.
Эти «чудачества» Ирина особенно в нем любила и сознавала с болью, как тяжело ему, что она выступает «в кабаке».
После случайного оседа на «Кот-д-Аржан», – приехали в По к знакомым, побывали у океана, и им понравилось, – у них родилась девочка Женюрка, не прожила и года и в три дня померла от менингита. Это их потрясло ужасно, и они страшились иметь детей. Весной Ирина списалась с меценатом, собиравшимся основать в Париже русскую оперу, – дело было отложено на осень, – Виктору улыбался случай, через англичанина-клиента, поступить в парижский английский банк, – планы с их фермерством померкли, – и они ждали осени, как случилось нежданное.
Еще в Галиции Виктор был ранен в грудь, и пуля осталась в легком. Рваная рана – на излете – не заживала долго, врачи не решались извлечь пулю, но организм все же справился, пуля как-то «обволоклась», Виктор вернулся в армию и потом проделал тернистый путь русского добровольца вплоть до Галлиполи. Двоюродная тетушка Ирины, сохранившая некоторые средства, выписала их в Париж, соблазнив Виктора Сорбонной, – он уже собирался в Прагу, где выходила стипендия, – но в первые же дни их появления в Париже крахнул солидный банкирский дом, где тетушка держала свои деньги по совету родственника-князя, тоже все потерявшего, и они очутились в трудном положении. Виктор пока оставил планы о Сорбонне, выдержал испытание и стал шофером, но скоро заболел тяжелым гриппом. Ирина ждала ребенка. Стало трудно. К счастью, – так думалось, – устроившиеся друзья пригласили их отдохнуть на ферме, в Нижних Пиринеях, возле По. И они основались в Биаррице.
В половине августа, – день был необыкновенно жаркий, – знакомые шоферы привезли Виктора в отельчик, почти без чувств и залитого кровью. Знакомый по Парижу русский доктор, отдыхавший на океане, – Виктор знал его по войне и в добровольчестве, – определил кровоизлияние в левом легком, где была пуля, и принял меры, одобренные и французом-консультантом, позванным перепуганной Ириной. На диагнозе врачи столкнулись. По мнению француза, было… – он назвал это длинным латинским термином, разумея легочный процесс, вдруг обострившийся. Русский не согласился с этим, вставил в круглый свой глаз монокль – признак глубокого раздумья – и заявил, что это… «или „проснулась“ пулька, что бывает… или, от давнего ушиба пулькой, в итоге многих предвходящих, образовалась склеротическая анэвризма». Отсюда – и кровохарканье. Снимок рентгена обнаружил анэвризму бронхиальной артерии, и оба врача сошлись: явного «процесса» нет, но необходимо серьезное лечение. Больной быстро поправился, но кровохарьканье и «вялость сердца», как выразился осторожно русский доктор, так потрясли Ирину, что она умолила мужа бросить ужасное шоферство и чуть не силой увезла его в санаторий в Высоких Пиренеях, где горы делают чудеса. Русский поморщился, когда Ирина сказала о горном санатории, но француз одобрил. Русский настаивал: не выше 300 метров! Француз называл Ароза, Давос, где такие успешно лечатся на высоте в 1500 и даже 1800 метров, – как же не знать такого! Русский твердил упрямо: «пониже, не забывайте – анэвризма, сердце…» Где-нибудь возле По, но только бежать от океана. Споры сбили Ирину с толку. Особенно подействовало, когда француз сказал, прищурясь, – в отсутствии коллеги, разумеется, – «а, коллега во-енный доктор…» – и она послушалась совета одной француженки, брат которой, раненый тоже в грудь, с таким же кровохарканьем, поправился быстро в Пиренеях, в санатории «Эдельвейс». Там брали безумно дорого, смотря по комнате – от двухсот пятидесяти до тысячи франков в день, не считая «лабораторной части», но для русского комбатанта-офицера, у которого «такая нежная жена», – Ирина побывала в санаторие и переговорила с самим директором, – чрезвычайно внимательный директор сделал исключительную скидку: сто франков, в комнате на двоих, плюс «пониженные лабораторные издержки». Конечно, и это было не по средствам, но Ирину это не пугало: месяца на два хватит, а там – увидим. Мужу она сказала, что берут очень дешево, тридцать пять франков в день, только просят держать в секрете. Русский доктор поморщился и махнул рукой: силой не втащишь в рай. Он был превосходный диагност, но еще и философ, и очень религиозный человек: «все в руце Божией». Потому и не стал настаивать.
Виктору он сказал:
– Помните твердо, Виктор Сергеевич, что «по вере и дается!» Это вывод и людей большого духовного опыта. Помимо видимого лечения, важно еще другое, невидимое, внутреннее… не уговаривающая система некоего Куэ… эта система – дешевые процентики с чужого капитала… кому и помогает… а нужно внутреннее познание, приятие всем сердцем непреложности и спасительности для нас тех путей, которыми Господь ведет нас. Когда это приятие всем сердцем, тогда обретете то спокойствие, которое удивительно помогает видимому лечению, до чудес. Все это выражается в одном замечательном стихе, который повторяйте чаще: «Господь мя пасет – и никто же мя лишит».
Виктор пожал благочестивцу руку: он видал, как философ-доктор выносил раненых под огнем. Французский доктор этого не слышал. Да если бы и слышал, пожал бы плечами, только.
Санаторий был небольшой, но исключительно комфортабельный, – для иностранцев больше, – и оборудован по последнему слову гигиены. Пациентов два раза в день растирали каким-то магическим экстрактом из пиренейских трав, – называлось это «питанием кожи витаминами», – и поили густыми сливками с прибавлением капель сока горной сосны и еще чего-то. Об этом волшебном средстве печаталось в газетах и проспектах, и портрет открывшего это средство доктора – он же директор санатория – изображался самым наглядным образом. Слева – лежал на носилках молодой человек-скелет, а доктор, плотный, глубокомысленный, в больших роговых очках, подносил безнадежному больному ложку волшебного экстракта с таким видом решимости, точно вот-вот услышишь: «а вот вы сейчас увидите». И правда: справа – бывший скелет, теперь жизнерадостный «альпиец», с горным мешком и альпенштоком, взбирался на неприступный пик, повернув радостную рожу к целителю, стоящему далеко внизу, на крыльце санатория, с торжествующе-поднятым пузырьком экстракта.
Пациенты весь день проводили на веранде, открытой на юг – к Испании, в особенных креслах на шарнирах, купались в солнце и наслаждались волшебной панорамой вершин, ледников и далей. Кормили превосходно, витаминно. Ежедневно в меню входило особенное блюдо – полусырое мясо горной козы, с приправой из горьких трав.
Ирина была растрогана, когда толстяк-директор, похожий на добряка-банкира, – он же и главный доктор, – почтительно ее заверил, что считает высокой честью для санатория отдать симпатичному русскому герою все силы и средства учреждения. Взволнованная свиданьем с мужем и этим «раем у облаков», – облаков, впрочем, не было, – она совала бумажки направо и налево, всем, кто ни попадался ей на глаза, – сестрам и фельдшерам, массажистам и горничным, уборщицам и мальчишкам, поварятам, привратнику, даже санаторному шоферу, приподнявшему перед ней фуражку, – чтобы только заботились о Викторе. И когда уезжала – плакала. Если бы можно было, она осталась бы с ним до полного излечения. Но теперь нужно было работать и работать, вызывать бурные восторги и подношения.
Сидя в купэ вагона, она вдруг вспомнила, как кто-то из лежавших на веранде в плэде сказал по-английски, как бы в мечтах: «прелестное виденье!» Такое слыхала она не раз, и это ее не восхищало. Но теперь это ее растрогало, и сказавший это – не помнила, молодой ли, кто он, – стал ей душевно близок. И вспомнила еще девушку-испанку, такую же черноглазую, как Кармэн, – кажется Микаэла? – принесшую Виктору виноград. Она так хорошо смотрела, совсем влюбленно, на русского молодца-красавца и так мило картавила – «о, ман-сиера капитэна!» – и все краснела, – хотелось расцеловать ее. Виктор ее выделял из всех там, называл – «чистое существо, красавка». Да и все такие чудесные и добрые.
Два раза за этот месяц она навестила мужа. Виктор чувствовал себя хорошо, прибавил около двух кило, совсем от загара почернел, только стал очень раздражительный. Увидав ее, он побледнел от волнения и задохнулся, – это было второе посещение. И решительно заявил, что довольно дурачиться. Она взмолилась ему глазами, и он увидал в них страх. Он взглядом ответил ей, что готов покориться ее воле, как покорялся всегда, – она поняла без слов, – но надо же быть разумными. Вся эта бутафория и не по средствам, и совсем ему не нужна, и невыносимо сознание, что она от него страдает, одна работает, а он належивает бока, как кот. Она опять умоляюще взглянула. Кругом лежали, ошарашивали Ирину взглядами. Она была в черном шелке, тонкая, гибко-легкая, как дымок. Светло-каштановые ее кудри играли на нежной шее из-под широкой соломки с лентой. Надо было многое сказать ей, и они спустились в уютный «салончик у каскада». В огромное круглое окно можно было там любоваться водопадом, катившимся с ледников по глыбам.
– Боже, как здесь чудесно!..
Да, чудесно… для богачей-бездельников, передохнуть недельку, пофлиртовать с милыми сестричками, – все они здесь ручные, – но для него отвратительно, невыносимо. Ну, зачем же плакать?.. Он предпочел бы огненные ночи под Мелитополем, вечное – «что-то завтра?» – лишь бы не расставаться с ней. Она прильнула к нему и умоляла, без слов, глазами… – ну, немножечко потерпеть?! ну, для своей Мисюсь!.. Он снимал ее слезы поцелуем, он сдавался… «Сказать?..» – билось в ней сокровенное, радостное, сладкая и мучительная «тайна», еще не решенная в ней самой. «Сказать?..» Нет, тогда и минуты не останется без нее.
Пенился водопад по глыбам, – бежало время.
Здесь можно было бы отдохнуть чудесно, если бы не… Из персонала, лучшее – это Микаэла, милая девочка-простушка, – «в ней что-то наше, степное-полевое, и чистое». Великолепно кормят, воздух – само здоровье, но душевная атмосфера нестерпима. Послушать только, чем они все живут!.. Спорт, возведенный в культ, биржа, бридж с утра до ночи, и флирт. Что читают! Здесь свое синема, и надо видеть только, чего им нужно. И эти прокисшие сливки континента и островов… с упоением, с похотливым зудом, что-то жуют об «опыте», о «всеобщем взрыве», с легкой руки «Моску», – будет чертовски интересно! Что они знают о России!.. – будто с луны свалились. Славный «генерал Кхарков» – для этих даже недосягаемо. Где, у кого учились? И э-ти… будто бы оценили Чехова! э-ти, английские молодцы, тут их порядочно, не знающие ни строчки Шелли, еще болтают о «кризисе искусства!» Сравнивают чистейшего с… Оскар Уальдом! Нет, нервы тут не причем, надо пожить с такими, тогда… Чуждые по всему, чужие. Но ужасней всего жить в одной комнате с кретином. Наша солдатская казарма – святое место! Вот она, «скидочка», чорт бы ее побрал! С ним поместили тулузского парня-лавочника, который его изводит грязными анекдотами, походя жрет чеснок, говорит сестрам гнусности, и воздух в комнате!..
– Нет, ради Бога, возьми меня… я же совсем здоров.
– Но если это ну-жно… ми-лый!..
Он видел, как ее мучает, взял ее тоненькую руку, лапку, и помотал.
– Ну, хорошо, не надо, моя Мисюсь… ну, отмахнем все это… – сказал он заветным тоном, каким говорил всегда, прогоняя ее тревоги.
Он целовал ей «лапки», пальчик за пальчиком. Все будет хорошо, он совершенно здоров, стеснения в груди кончились, и можно опять за руль, а там, в Париже… Ну, останется еще неделю, завтра тулузец уезжает. В библиотечке только авантюрные романы, и какая она умница, привезла Тютчева и Эдгарда По… вот именно, английского. Перечитал вчера, который уже раз, «Скучную историю», – какая же свобода, простота и мудрость. Какое счастье, что ты русский, что у тебя – такие!..
– Рина, я не могу высказать тебе … – говорил он восторженно, целуя ее руки, – до чего остро я здесь почувствовал… не с теми, а вот здесь, перед этим гремучим водопадом, перед этой бегучей сменой… как мы исключительно богаты, богаче всех…
– Как ты волнуешься сегодня, у тебя нет жара? – попробовала она губами у висков, – сколько сегодня было?..
– Да нет, нормально. Правда, я как с шампанского… и плохо сплю, но это я от счастья, что ты со мной… Так много передумал за эти дни… какие выводы! Да мой Карпенко духовно глубже, богаче э-тих! Помнишь, как метко выразил он все наше? кто подсказал ему? Когда говорили о России, о Европе?.. Не читал он ни Достоевского, ни Данилевского… истории не знает, ни культуры, а… Я тогда записал этот «солдатский афоризм»… «Наша дорога длинная, ваше благородие… по ней и дыханье у нас, до-лгое… значит, так уж допущение, чтобы хватило, ваше благородие!» Ну, подумай, кто здесь так скажет! Вложено, есть. Что только можно с такими сделать! Эх, дотянуть бы… Пересмотрел я свои «Записки», вспомнил своих соратников, милых моих наводчиков, фейерверкеров, номерных… ка-кие были! Перерыл в памяти… – до слез! А однобатарейцы, офицеры… какие души были, характеры! Теперь, в пустыне, все искалечены… и – живы! Нищие, наюру, иные опустились… а как зацепит душу, закваска бродит, требует ответов, мучает неразрешимым, вечным… нет, не погаснем! не гаснем, нет… Осмеивали Чехова, и знаем все же, что Чехов прав! «Неба в алмазах» ждем и жаждем, и дождемся… миссия такая наша. Богачи!..
Она любовалась, какой он оживленный и красивый, душой красивый, чудесный, светлый.
Испаночка подала им ягурт и виноград. Не сказала певуче, как прошлый раз, – «ман-сиера капитэна», и глаза у ней были красные. Что с ней?
– Завтра уезжает, бедная. Получила письмо, утонул брат, и еще двое из семьи… Пришла ко мне с письмом… прямо, трагедия. Все песенки мне пела, раньше, и пришла… ну, как ребенок, – «что мне делать… ман-сиера капитэна?»… Тетка ей написала и приложила последнее письмо брата к молодой жене, она беременной осталась… там и приписка Микаэле. Я перевел со словариком и записал, этот «человеческий документ», дам тебе, на досуге прочтешь дорогой. Очень интересное письмо… можно бы написать рассказ. Чехов бы написал! и Мопассан… по-разному бы только вышло.
Он рассказал ей, что случилось. Брат Микаэлы женился, совсем недавно, по любви. Отец жены дал им в приданное единое свое богатство, шхуну, и сказал: «кормите меня с племянни-ком». У невестки был юноша-племянник, от брата, убитого жандармами, контрабандиста. Шхуна называлась «Ми Уника», – «Единственная моя». Действительно, была единственной у старика. Подошло и зятю, – «единственная», тоже. Все трое вышли в море, повезли руду, и – сгинули. У Аркашона выбросило труп старика; шхуну, с пробитым боком, выкинуло у Осгора. И всё…
– Вечное человеческое, страдание. Да, «единственная моя»… мы это знаем, все…
Ирина плакала.
– Ну, вот… расстроил… ну, милая…
Сидели долго, связанные болью и любовью. Водопад бешено валился сменой.
Уезжая, Ирина говорила с доктором. Анализы были благоприятны, сердце приходит в норму, просвечивание необходимо повторить надо следить за «телом» и принять меры своевременно… надо установить, кончились ли «вибрации». Если они будут продолжаться, если «тело» имеет наклонность к перемещению, – доктор разумел пульку, – то придется прибегнуть к… – Ирина испугалась и не расслышала. О возвращении вниз нечего пока и думать, но месяца через три-четыре будет видно, но главное – ни-каких волнений.
Ирина помертвела, почувствовав в словах «и думать нечего», сказанных даже грозно, предостерегающе-жуткий смысл.
– Но что же делать, до-ктор? – спросила она с мольбой.
– Прежде всего не плакать… – ответил галантно доктор, любуясь ею, – и положиться на учреждение, которое прилагает все…
В бюро ей подали счет «за лабораторную часть», на живописном бланке с магическим экстрактом, на девятьсот франков с чем-то. Ирина растерялась, такой суммы с ней не было, но ей очень предупредительно сказали, что это и не к спеху.
Директор сам проводил до холла с розовыми колонками и живописным панно – с горной козой над пропастью, почтительно простился, придерживая ее руку, и опять заверил, что приятные результаты не замедлят. И вдруг восторженно отозвался о ее милых песенках. Ну, да… он слышал ее на днях в русском оригинальном кабарэ – «Крэмлэн д-Ор» и был участником потрясающего ее успеха.
– Все обожают вас, называют единодушно – «птижоли росиньоль дю Нор»… сколько у вас поклонников, и каких! – сказал он сладко, открыто любуясь ею, шаря по ней глазами, – это она заметила, – и склонился изысканно и низко, до огненной красноты в лице. – Отныне стало больше еще одним.
Это ей не понравилось, – такое страшное, с пустяками! – но она постаралась улыбнуться налившейся его лысине и сказала молящим взглядом:
– Доктор… умоляю вас, позаботьтесь о моем муже!
Он снова ее заверил, что будет применено все решительно, чем только располагает медицына, у них теперь самый совершенный метод пневмо… – Ирина не поняла, в расстройстве, – и отныне он будет ежедневно сам сообщать ей по телефону.
На подъезде она увидела Микаэлу, с платком у глаз, о чем-то просившую шофера, вспомнила, что она завтра уезжает, что она «самое лучшее, что здесь есть», нежно ее утешила и сунула двадцать франков – «за ее чуткую заботу о ман-сиере капитэне». Микаэла взглянула на нее по-детски, бархатно-черными глазами, в блеске горючих слез, и прошептала всхлипами – «мадам… мадам…».
– Ну, милая… ну, Господь поможет… – сказала ей Ирина, сливая ее боль со своей.
«Боже мой, сколько горя… – думала она, остро чувствуя свою боль, спотыкаясь на гравии площадки, – ах, на автокар не опоздать бы». Обернулась, не видно ли веранды. Виктор махал платком. Она грустно послала поцелуй и покивала грустно, торопилась: автокар призывал гудком к отъезду. Из главного салона, где теперь пили сливки, грамофон наигрывал под танцы истомно-пряно – «Не счесть алмазов в каменных пещерах» …Её перепугало это – «будет применено все решительно, чем только располагает медицына», и она опять плакала дорогой.
В Баньер дэ Бигорн она пересела в поезд. Как легко было ехать туда, и как томительно возвращаться в одинокую комнатку отеля. Тарб, пересадка в По, Ортер… потом этот еще… Пейреорад, Байона, Биарриц… как длинно! И все же, ехать легче, чем там, одной. Она достала свежий платок из сумочки, увидала знакомый, милый почерк. Да, то письмо, испаночка…
Она читала:
«Здравствуй, моя толстуха-женка… ну, как ты там? Шли хорошо, твой старик молодцом, выпили с ним здесь джину. И Педрошка здорово по парусам. И все у нас горит. Взяли на Бордо каната и 5 тонн сушеных фруктов, калифорнийских, полны. Из Бордо будет тебе гостинец, уж сыщу, „лионский“. Чортов карбит бесит старика, он привык к маслу, огни опознавательные намедни сгасли, не карбит, а чертово г….. Чуть нас купец не срезал, входимши в порт. Старик здорово накостылял мне: выдумал карбит, нет вернее масла! Жульнический карбит, приеду, покажу подлецу Мигуэльке, чего он мне отсыпал. Небось скучаешь. Ну, погоди, я тебя развеселю»… Дальше стояла песенка:
Ирина задохнулась: билось сердце. Вот уже две недели мучило ее сокровенное, – радостное и страшное, – тайна, еще неясная ей самой. Господи, неужели – это? Ни на минуту не забывалось в ней. Сколько усилий стоило не сказать. И теперь ей казалось страшным, что она так и не сказала. Ему – не сказала. Но как же это могло?.. Это тогда, в августе, встретил ее на берегу, в чудесном, розовом, «весеннем»… и не узнал. Розовый отель на берегу, «Пти Пэн»… кутили…
Читала дальше:
«Ми Уника» наша, будто живая чайка, прыгает на волне – ух-ты, так сигает, как ты, помнишь, как я за тобой гонялся, маис-то помнишь? Как не помнить тебе, заполучила здорово, теперь с нагрузкой, такая же брюхатая, как шхунка, за фрахт здорово получим. Старик твой хоть и здорово сосет джин, а мы с ним, как за святым Петром, море знает, как ты свои горшки-плошки. Карбит только не задался, да купим новый. Завтра на Бордо, там заберем галантери, парусины, чего найдем… старик знает, чего знает, так обернем, что карабинеры-черти …… а тебе добуду таких духов, из самого Парижа! Говорят, такие есть духи, что монахи на стенку лезут… надушишься, до самого Мадрида донесет… будет дело! И Микаэлке купим, туфли парижские, пятки оттопает, ногу бы только не сломала, каблучки во-какие! В Бордо проканителимся дней десять, как раз и пибаль прихватим, начнет ловиться, ночи-то потемней пойдут. До пибали в Мадриде много охотников, лучше закуски нет. Прожарим в масле, спрессуем, крепкая же замазка будет. Кило 30–40 заберем.
В Мадриде можно спустить по 20 пезет, а то и по 30, а по берегу скупим по 10, ну по 12, денежки верные, вот они! Говорят, лучше русской кавьяр, кто ел. Попробуем… Ты и не нюхивала пибали, а это ребятенки-угорьки, чисто иголочки, насквозь видно, будто стеклянные, старик все знает, дошлый. Ну, а пока целую тебя взасос и во весь мах. Завтра идем на Бордо, только бумаги выправим, отштемпелюемся. Лупил твоего старика, зачем ты мне такую Мануэльку подсунул, с первого разу на мель села, а он мне – «ты ее посадил, не умеешь лавировать, надо бы верхний парусок закрепить, а ты….» Ну, другой раз суме-ем… на якоре покачаешься…
Этот «человеческий документ» растрогал Ирину нежностью, которая в нем светилась. И сжалось сердце, как вспомнила, что уж и нет никого из них. Томительно-тревожно, в равномерном выстукиваньи колес звучало –
…Бу-дет-бу-дет-бу-дет-будет… Боже мой, что же будет?.. Ей представлялось страшное. Пылким воображением она надумала всяких ужасов. Белый балахон Виктора, залитый алой кровью, оставался в ее глазах. Она вспомнила «Таганаш», и теперь Виктор ее хрипел, озираясь померкшими глазами: «дышать… дайте…» Так это было страшно, что она не могла сдержаться, охнула и закрыла лицо платком. Сидевшая рядом с ней пожилая монахиня, в синей юбке и с белокрыльем на голове, участливо спросила:
– У мадам горе?
Ирина схватила ее руку и, приникнув к ее плечу, вздрагивала в немом рыданьи, – нервы совсем разбились. Монахиня сидела неподвижно, молча, не тревожа расспросами. Рабочий, в плисовых штанах, вымазанных известкой, скручивал сигаретку, раздумывал, оглядывая элегантный наряд Ирины, шелковое плечо ее, на котором переливались-дрожали складочки.
– Ничего… придет и хорошая погода… – сказал он к окну раздумчиво, будто с самим собой.
Ирина пришла в себя, помахала в лицо платочком, осмотрелась.
– Извините, матушка… – сказала она монахине, смущенно, – я так расстроена…
– Господь с вами. Хотите капель успокоительных, есть со мной?
Ирина поблагодарила, отказалась. Рабочий сказал – это ничего. Ирина смущенно улыбнулась, и тот улыбнулся ей. Ей стало легче, и она поведала им доверчиво, какое у ней горе.
– Это, мадам не горе, – сказал рабочий, оглядывая лакированные ее туфли и шелковые чулки, телесные. – Если бы помер, тогда горе. Да и молодая вы, недурны собой, и денежки, может, есть… другого себе найдете. Горе… это другое дело, поправить когда нельзя. У меня вот отец, сошел с ума… и все сбережения в печке сжег! семьдесят тысяч в билетах было!.. Вот это горе, уж поправить никак нельзя… и номера не записаны, я справлялся, к нотариусу ходил, а он говорит, конечно… ничего поделать нельзя! Главное, если бы номера были записаны, на актовой бумаге… а то никак нельзя. Вот это го-ре.
Плюнул на сигаретку и задавил. Ирина стала смотреть в окошко. Монахиня молчала.
Сходя на пересадке, Ирина подала ей десятифранковую бумажку, на общину, – помолиться о болящем Викторе. Монахиня ласково кивнула и погладила по плечу. И стало совсем легко, тяжесть с души упала: сняла ее молчаливой лаской неведомая монахиня.
Ирина не написала мужу о самом важном. Она боялась, что и то, что пришлось написать ему, может его встревожить. Тайн у ней не было от него, но теперь, когда нужен полный ему покой, сообщать о встрече с иностранцем, о волнующем разговоре с ним, – решительно было невозможно.
Кончив письмо, она долго сидела и думала о «странном» человеке. Ей было его жалко, и было тревожно на душе. Но что же дальше… что она может сделать, и чем помочь? Она не знала.
После «истории» в «Крэмлэн д-Ор», – это было на пятый день, – Ирину позвали к телефону: просили «артистку Снэшко», звонили из первоклассного отеля. Горничная сказала название отеля подобострастным тоном: в этом отеле останавливались короли и принцы, магараджи и самые важные особы, даже не все министры. Никогда из этого отеля не звонили, – никто не помнил. Когда встревоженная Ирина сошла к телефонной будке, поджидавшая ее хозяйка мадам Герэн, по прозванию «О-ля-ля», – всегда она сокрушалась о чем-нибудь, – таинственно зашептала, закинув рыжие брови под самые кудряшки, от чего ее кислое лицо стало еще кислей, – «мада-ам Катьюнтзефф… вас вызывают из… из….. – отеля!..» – с таким оглушенным видом, точно это звонил сам господин президент республики, или, по меньшей мере, министр финансов. Ирину она считала дамой высшего общества и была искренно опечалена, не найдя в ее карт д-идантитэ ни «прэнсэсс», ни «контэсс», ни даже «дэ». Но рассказывала соседям, что убитый большевиками отец мадам Катьюнтзефф занимал очень высокий пост в России, имел «золотые земли» и все «мины», и когда уйдут «эти большевики», мадам Катъюнтзефф будет самой богатой во всем свете. Она сама отворила Ирине дверцу будки и, таинственно пошептав, – «вас, мадам, никто не потревожит», закрыла осторожно и отошла на цыпочках.
Ирина была взволнована: ей вдруг представилось, что с Виктором случилось что-то ужасное, и ее вызывает директор санатория.
– Алло… – упавшим голосом сказала она в трубку, как в черную страшную дыру, и услыхала, как тукается сердце.
В трубке тревожно зашуршало, задышало.
– Алло?.. – нервно окликнула Ирина, глотая воздух, – у аппарата Снежко… кто меня спрашивает… это откуда, из санатория?.. господин директор?..
И вспомнила, что это из важного отеля, и сейчас же себя поправила, пугаясь, что директор мог сам приехать и позвонить.
– О, Боже мой… алло-о!.. я слушаю…
– Гм… – тяжело задышало в трубке, – вы… говорите по-английски?
Говорил глуховатый голос, одышливый, с ужасным произношением, – у директора был жирный и мягкий голос, кокетливый. У ней отлегло от сердца, и сразу озарило, что это – тот.
– Да, говорю, – сказала Ирина по-английски, – кто говорит… что вам угодно?
– Э… говорит Эйб Паркер, из Торонто… – в трубке опять заскрежетало, – Алло! вы слушаете?
– Да… я не понимаю, что… откуда – из Торонто?..
В волнении ей представилось, что говорят из какого-то Торонто, – что-то далекое.
– Говорит Эйб Паркер из отеля в Биаррице… – ответил голос мягче, слышалась в нем улыбка, – а Торонто… это мой город, откуда я. Прошу прощения… позвонил обеспокоить вас… но я сейчас объяснюсь. Видите… я хотел бы… вернее, мне очень важно… просить вас, где-нибудь с вами встретиться…
Ирина хотела повесить трубку: подобное не раз бывало. Она сказала раздраженно-резко:
– Вы ошиблись. Я не встречаюсь с незнакомыми людьми, прошу оставить меня в…
Голос возбужденно перебил:
– Это совсем не то!.. уверяю вас, это… вы поймете, когда я объясню. Я отлично понимаю и прошу извинить, но… это так трудно все объяснить по телефону. Одну минутку… прошу вас… я сейчас, как это?.. я сознаю неловкость, и мне теперь так стыдно, что так сразу, но… я чувствую, вы меня извините, когда я… Мои намерения совершенно другого рода, совершенно другого!..
Голос был искренний и – показалось Ирине – грустный. Она сказала:
– Я совсем вас не знаю… и так странно… о чем нам говорить? Я решительно отклоняю, это совершенно…
– Позвольте мне сказать. К вам я отношусь с глубоким уважением… и так и думал, что вы так мне и скажете, что… прошу встретиться! Не был вам представлен, и… Но вы меня поймете и извините. Только разрешите говорить с вами откровенно… я привык откровенно, и всегда… Дело вот какое… Правда, дело это личное… к вам никакого отношения, хотя есть одно… Уделите только две минутки, и я постараюсь вам ясно… хотя это трудно ясно в две минутки… но вы поймете… Бывает…
«Должно быть, пьяный, – подумала Ирина, слушая путаную речь, прерывавшуюся вздохами и хрипом, – повешу трубку?..»
– …бывают такие состояния… душевные переживания, когда отходят эти… условности… и когда все уже не имеет значения. И вот, такое у меня… Я… сколько вас слушаю, как вы поете, и чувствую, что…
«Нет, сейчас повешу… невозможно… пьяный»…
– …вы не можете не понять… чувства… когда у человека… Это не объяснение в чувствах, а я про душевное состояние, вне вас. Хотя, конечно, не вне вас, но… Я не из тех, каких здесь много, и ничего не добиваюсь. Я прямо: вам я посылал цветы, как посылал бы дочери… от искреннего сердца, поверьте мне! И еще… но тут самое важное, о-чень важное… для меня.
«Что за чушь! – подумала Ирина, раздражаясь, – несомненно, пьяный»…
Она сказала резко:
– Извините, я прекращаю этот странный разговор…
– Ни в каком случае!.. прошу вас!.. – воскликнул, прерываясь, голос, – вы ошиблись! уверяю вас, что вы ошиблись, подумали, что я… Я потому так, что знаю вас, и потому…
«Надо было давно повесить»… – подумала Ирина, и все же не повесила:
– Как вы можете меня знать?
– Это трудно объяснить, но я вас знаю. Я умею разбираться в людях, и понимаю, что вы не певица из кабарэ, и… но это теперь трудно, и…
– Для посещающих наше кабарэ, я только «певица из кабарэ», и прекращаю этот странный разговор!.. – оборвала Ирина, задетая этим – «певица из кабарэ».
– Я вас оскорбил? но чем же, чем?!.. – воскликнул голос, и она почувствовала в нем горечь.
– Нет, вы меня нисколько не оскорбили. За цветы благодарю… и верю, что это из чистых побуждений, как и… та дикая история. Кажется, я не ошибаюсь, это вы тот иностранец… который «боксом»?.. – спросила она насмешливо-певуче, и тут же рассердилась: «зачем я это!..»
В трубке заскрежетало, задышало.
– Да, это я. Но почему вы говорите – «дикая история»? разве вас это оскорбило? Правда, я реагировал поспешно, но… я не мог!.. Бывают обстоятельства, когда…
– Я понимаю, что вы не хотели оскорбить меня… и я… – она подыскивала слово, – и меня, правду сказать это даже тронуло, этот ваш «жест»…
– Видите, вам передалось мое… – перебил голос, – мое… нет, не чувство, а… мое… состояние. Иногда такой «жест» необходим. Я не выношу, когда в моем присутствии, и… И, главное, почему так вышло? Одну минутку… Смотрел я тогда на вас, и вот, подумал, ясно себе представил: а вдруг бы это?.. Ну, да … я вдруг подумал: «а что, Эйби… если бы это была твоя Мэри… девочка твоя!..» – в трубке закопошилось, захрустело, – «как бы ты поступил?» Ах, сударыня… надо знать. Вы слушаете?
– Да слушаю… вы говорите – «надо знать». Говорите, говорите… – отозвалась Ирина.
– Да, надо знать все. Но сейчас трудно вам объяснить в двух словах. Это очень сложная… сфера чувств. Передалось мне… чем-то, звуком вашего голоса, вашим… чувством… что вы можете все понять! Ну, как объяснить, например, что человек… простите, я должен говорить невольно о себе… человек всем обладающий… в материальном смысле…
«К чему он это?..»
– …в массе дел, в кипении этом… деловом, когда ни минуты не остается для себя… и вдруг, все бросил и оказался… в пустоте? Я чувствую, как странно вам слушать в телефон такое, и от человека, совсем вам неизвестного. Действительно, со стороны, это очень странно, и вы могли бы принять меня за не совсем нормального или, даже, за… пьяного или дурака. Простите, что я так грубо… Правда, я, пожалуй, что и не совсем уравновешен. И сейчас мне ясно, как неосторожно, нетактично я поступаю, что вдруг решился и позвонил вам, не имея на это никакого права. Но был момент, когда мне это совсем не казалось странным и нетактичным… И это, может быть, так и есть, так и нужно было… тогда мне это казалось самым важным, безвыходно-необходимым. Я не наскучил вам? Благодарю. Но почему я решился позвонить вам? Мое письмо вы оставили бы, пожалуй, без ответа… наверное бы оставили, насколько я вас знаю. И в письме не скажешь… Случается такое в жизни, что никак не передать в письме… в письме могло бы показаться, ну, бредом! Тут как раз такое, как бред… такое… совпадение!
– Простите, – перебила Ирина нервно, – я не расслышала… вы сказали, мне показалось, «совпадение»?..
– Да, совпадение. Но тут нельзя… это, как в письме… об этом надо лично. Надеюсь, вы мне поверите, что это не пустой предлог, не выдумка. Тут я не могу даже коснуться этого… по телефону… – голос упал до глухоты и стал невнятен. – А пока я должен… Позволите? Благодарю вас, я так и знал. Видите… я вас слушал, много слушал, проверял себя… У меня и сейчас звучит в душе мотив, тот напев… как вы поете, про снега. В программе напечатан перевод. Я понимаю, это не то, конечно… но я все понял. Мне снега хорошо знакомы по Канаде. Все снега, снега, и… как это выразить?..
Ирине показалось, что в трубке сухо щелкнуло, будто говоривший прищелкнул пальцами. Она шатнулась, чуть не выронила трубку, забилось сердце: этот щелк, за этими словами – «как это… выразить?..» – и этот голос, с напряжением, исканьем слова, напомнил ей отца, его гримасу, глаз с прищуром, запах его духов и белые, сухие пальцы … – «ну, как это… Ирок?..» – бывало скажет, забудет слово.
– … как это?.. – опять прищелкнуло. – Да… и не перейти эти снега, не пройти через них… к родному! Так я понял, верно? Ну, вот, я понял. И не услышать больше, никогда не услышать… родного голоса… ни-когда! Ваш голос … я так запомнил!.. было легко запомнить… милый голос!.. Вы простите, это не вольность, не лесть, не… комплимент… вы все поймете, когда я… все!.. Что же вы теперь мне скажете? Не сейчас, я понимаю, я готов долго ждать, я не смею и не могу вас… это в вашей воле. Когда вы захотите мне ответить, можете меня вызвать, я дам номер…
– Погодите… – оборвала Ирина нервно, ища решения.
Она почувствовала в этом необычном разговоре что-то… не больное, не пошлое, – что-то, идущее из сердца, к сердцу. Эти слова – «твоя Мэри, девочка твоя», – сказанные так горько-нежно, остались в ее сердце.
– Вы слушаете?.. Я вам отвечу… сейчас…
В ней не определилось, чего-то не хватало.
– Ах, да, кстати… – сказала она не прежним холодным тоном, чуть свысока, а своим голосом, домашним, точно говоривший был ей знаком, – вы послали мне белые цветы недавно, орхидеи… и в них… – почему-то она не захотела сказать – «веночек», – незабудки, и вырезано на плато «Свет во тьме». Мне сказали, что это вы. Меня это заинтересовало, – так это нешаблонно. И удивило, – что это значит? Что вы хотели этим…
– Выразить? Это объяснить и просто, и… непросто. Просто, это – от вас мне свет. Но это, я подчеркиваю это, не комплимент, не… это очень сложно. Когда вы узнаете все, тогда вы все поймете, почему я так… Мне так легко с вами говорить. Вообще я не умею много говорить, и отвык я говорить теперь. Я вырос в лесах, мало общителен, такой характер. А с вами разговорил-ся, и мне легко. Простите, все о себе я… и сам себя ловлю на мысли: ну, какое дело до тебя, до твоего? Я чувствую, что вы сами отличнно поняли, что вы – свет, и – светите. Не принимайте это за лесть, слишком мне не до этого, поверьте. Но так я чувствую. Я весь свет объехал, все бросил… а света так и не увидел. И вот, где уж никак не ожидал, и – свет. В этом и главное, почему мне необходимо объясниться с вами… Простите, – не объясниться, а высказаться…
– Но вы же все объяснили, и я себе не представляю, почему вы ищете встречи со мной? Говорю вам совершенно откровенно, это для меня стеснительно, и… непонятно. Ну, прекрасно, я очень рада… песня наша дошла до сердца иностранца, что-то в нем всколыхнула… Потому и песни, чтобы до сердца доходило. Вот мы и объяснились. А дальше… очевидно, личное. Согласитесь, что я не в праве… Еще я вам должна сказать, что мои отношения с внешним ограничиваются моей семьей… помимо, конечно, выступлений в кабарэ, – и только.
– Да, я знаю. Я знаю, и уже сказал вам, что я вас знаю. Но я прошу вас сделать исключение, и снизойти… Если бы вы все знали, вы снизошли бы. Вы чутко угадали, что – личное. И я знал, что так вы и поймете… и в то же время я сознавал, что моя навязчивая просьба покажется вам странной, неделикатной, даже двусмысленной. Ну, назовите меня «странным», только скажите откровенно, считаете ли вы меня… как это… – в трубке опять пощелкало, – ну, «веселым иностранцем», что ли, каких здесь много, или почтите меня доверием, чего, конечно, я не заслужил?
– Во всяком случае, вас я не считаю «веселым иностранцем», – ответила Ирина, – но «странным» – да.
– Благодарю за откровенность. Но что же остается? Значит, есть что-то, что заставляет меня так… «странно» поступать. Бывает, когда привычное, нормальное, отступает перед чувством… перед чувством вообще, не в личном смысле, и уступает «странному». Это как раз мой случай. Если вы мне поверите, держу пари – вы скажете: так же поступила бы и я. Я прошу у вас какой-нибудь час, в сомнительное положение вас не поставлю… если верите, назначьте час и место, где вам угодно. Я понимаю, не здесь, конечно, где вас все знают. Откажите… что делать, покорюсь.
Голос поник, и в трубке тяжело вздохнуло.
У будки ждали, видела в стекло Ирина. «О-ля-ля» вскидывала бровями, разевала рот, – упрашивала потерпеть. Прерывали не раз со станции. Это Ирину волновало. Голос окликнул:
– Алло!.. вы у аппарата?
– Да, сейчас…
Надо было решить сейчас же. В крайние минуты Ирина находила выход, – не рассуждением, а сердцем. Она зажмурилась и вопросила, глубоко в себе: ну, как же?..
– Хорошо. Завтра, в четыре часа, в Байоне… аркада, у театра. Если не задержит что-нибудь важное, встретите меня в конце аркады, к проезду… где машины.
– Благодарю.
Ирина положила трубку. Кто-то из ожидавших ворчнул – «нельзя так долго висеть на аппарате», – не из русских. «О-ля-ля» шепнула льстиво:
– Двадцать три минуты говорили… интересный ангажемент, мадам Катьюнтзефф?
– Нет, мадам Герэн, не ангажемент… – ответила Ирина, даря улыбкой.
Пошла и услыхала льстивый оклик:
– Ваш платочек, мадам Катьюнтзефф…
«О-ля-ля» протягивала ей платочек, который Ирина обронила.
– Что-нибудь очень интересное, мадам Катьюнтзефф?
– О-чень, мадам Герэн.
– Я всегда рада, когда моим жильцам везет. Столько вы испытали грустного, мадам Катьюнтзефф… о-ля-ля! На два словечка, мадам Катьюнтзефф… Это уж против правил, но я так вас уважаю и…
И под секретом сообщила, что справлялись о мосье и мадам Катьюнтзефф. От комиссариата часто наводят об эмигрантах справки, боятся, не большевики ли. Но на этот раз агент был частный, – возможно, что и от нотариуса, или от адвоката… это бывает, в случае, например, наследства. Мадам не ждет наследства? Ну, так обо всем справлялся… как живут, сколько платят за апартаменты, каких лет, давно ли, даже – какой характер у мадам… ну, обо всем решительно.
– Я его наводила, осторожно… от кого, мосье? может быть открывается наследство? Сказала, что у мадам в России остались несметные богатства, золотые земли, шахты, заводы… первые были богачи… мне мадам Белокурофф много рассказала про вас, мадам, у ней тоже были золотые земли, вся Сибирь! Но они все плуты такие, не скажут прямо. Только и сказал: это большой секрет… возможно, что и наследство. Разумеется, я дала о вас с мосье самые лучшие аттестации… сказала, что мадам великая артистка, а характер… ну, прямо, ангельский характер! Не правда ли, мадам Катьюнтзефф? А мосье Катьюнтзефф – русский комбаттан, очень тяжело был ранен, в самую грудь, и сейчас в санатории, в Пиренеях. Жаль, я не знала, какой это санаторий, вы мне не говорили… Самые аристократы, и самого. высшего воспитания… не правда ли, мадам Катьюнтзефф? Но теперь… о-ля-ля!.. большевики все у них ограбили, и положение их… нелегкое, мосье шофером, а мадам поет с эстрады… и наследство бы им очень пригодилось… не правда ли, мадам Катьюнтзефф? Если бы вам выпало наследство… о, как бы я была за вас счастлива, мадам Катьюнтзефф!
Не сказала только, что за справки получила необычно много – двадцать франков!
Ирина поблагодарила добрую мадам Герэн. Эти справки ее встревожили. Кто же это мог справляться… «частный»? какое кому дело до?.. Да уж не он ли? – подумала она об иностранце, и вспомнила, как он не раз подчеркивал, что ее знает… так твердо: «я вас знаю». Но что ему за дело? Этого не доставало, точно из авантюрного романа, сы-щик… совсем по-американски.
Это и встревожило ее, и оскорбило.
Угол комнаты, где висела папина иконка св. кн. Александра Невского, – Ирина с ней не расставалась, – и портрет отца, в венчике из терновника, – давний мамин, с маленькой Ириной на руках, «домашний», висел над ее постелью, в крепе, – был заставлен усыхавшими цветами. Над сомье Виктора смотрел казацки-остро скуластый генерал Корнилов и, умно-близоруко – Чехов. Висели еще памятки боев: побитый цейс, темляк и покоробленная полевая сумка – целлулоза в коже, с «трехверсткой». Ниже, под гирляндой увядших орхидей, мутно-серебряно глазело круглое плято американца, неприятно напоминая «историю».
Возвратясь к себе, Ирина увидала этот глаз, за ней следивший. Ее кольнуло: как-то сплеталось это с согласием, которое она дала американцу. Эта «штука», как говорили знающие, стоила по крайней мере тысяч десять, судя по фирме – Рю де ла Пэ! – «в трудную минуту, – говорили, – можно и загнать, тыщонки за две». Ирина сняла плято и спрятала. Кололи мысли: неужели это… и «сказочные» миллионы могли тут значить?.. Но это как-то связывало волю, неуловимо подавляло. Она раздумалась: а если бы не этот, а другой, обыкновенный… согласилась? Не знала. Вспомнилось – «Свет во тьме»… и сказанное искренно, с волнением, – «а что, Эйби… если бы это была Мэри… девочка твоя?..» Нет, это тут не причем: если бы и обыкновенный, всякий, – все равно… свободней только. Папа, бывало, говорил, чтобы «душа жила». Мучило еще, другое – тайна. Тайн у ней не было от мужа, а теперь… И в этом она невиновата, и – Виктор чуткий. А вдруг… уловка? Бывало разное. Часто ей посылали письма, или нащупывали взглядом: как?.. Письма она рвала, не сообщая Виктору. Бывали явные нахалы, – эти отступали перед взглядом. Бывали пробы через посредников. Был случай… «сделки». Некий «эндюстриэль», даже фамилию проставил, – нотариуса только нехватало! – писал: «в вас я встретил как раз то самое, что надо: созвучный sex-appeal. Мои условия: кокетливая вилла в Канн, все на ходу, Peugeot 40 Cv. последняя модель, 20 т. фр. в месяц, гарантия minimum 6 мес., возможно и продление, по соглашению. Если подходит, благоволите сообщить немедленно». Решительная подпись и точный адрес.
В дверь постучали:
– Можно?..
Не дожидаясь, можно ли, стремительно вошла – только на одну минутку! – Саша Белокурова и сразу затомила болтовней, духами, «египетской».
– Муженёк как?.. Ну, слава Богу. Вот счастливица, все-то тебя любят, а я… Можешь себе представить, дурак-то, из ле-Буки, Акинфов, прожженный казачишка… предложение вдруг сделал! – «Ступайте за меня замуж, Ляксандра Ивановна, буду вас го-лубить, а вы мне песни играть». Вот до чего, милая моя, спустились. Вот уж прожженый-то… и в Ле-Буке ганьит на заводе тыщи полторы, и у нас балалайчит лихо, и домишко сам себе слепил! А намедни, ужинаю с русским американцем, глаз у него косой… он и голландец будто… да какой он шут, американец, просто жулик, надрал золотого лыка за войну, – вдруг мне и говорит: «вы так похожи на Венеру Миловскую»…
– Милосскую.
– Я и говорю – Милонскую, а как же? «Главное, – говорит, – вы натуральная, а не какая-то ли-ния!» И вдруг, можешь себе представить… – «езжайте со мной в Россию-матушку, там и „закснем“!» Плеснула ему в рожу, утерся только. Уж извините, не продаю себя. Ух, тощища… Маме вчера послала через Земгор, братишку-Мишутку в красную забрали… уж ноги у мамы опухают, на сердце жалуется, должно быть так и не увижу… только и осталось, мамулечка…
Она утерла слезы рукавом, по-бабьи.
– Да не могу не плакать… реву и реву все дни. Думают, веселая я… а я… будто никакая, случайная. И никто не любит, смеются… «семипудовая гусыня»!.. Наши казачишки-подлецы, я знаю. А чем я виновата, что так дует? И тоска грызет, а все толстею. Только и радости, что к тебе прибежишь, душу отведешь. И тебе со мной, знаю, скушно… минутку посижу только, дым я в окошко, ничего. Привыкла к этим – пьяным, англичаны выучили, легче как-то. Вот ты… счастливая какая, а куксишься. И муж хороший какой, как любит, да и все… И что за секрет в тебе! Денек не повидаю, так и рвусь… милочка-красавка. Смотрю вот… и нет в тебе, словно, правильной красоты, класиченской… а самая красота, для сердца! Глазки персидские, с разрезом… «дипломат» все так говорит, дурак-то наш в черкеске, ну – бирюза живая! А бровки… – вот я чему завидую, твоим бровкам!.. разлетные совсем, как крылышки, будто летишь, как взглянешь… все личико сияет… ах, красавка!
– Будет, уж захвалили, Александра Ивановна, – сказала Ирина утомленно, – а как у вас с Парижем?
– Да что с Парижем… а все-таки думаю поехать. Ресторан громкий, всегда полно, а тут вся шушера скоро начнет смываться, и с моря скушно… а там у меня «сердешный», на Рено, поручик мой голубчик. Пишет все, под две уж тыщи ганьит! Возьму да и закреплюсь навеки. Кончено с моей карьерой, уж тридцать годочков скоро. Бывало, первой хористкой была в Большом… А в Сибири, Юдифь я пела… в семнадцатом, в Иркутске!.. Уж вот выигрышная-то партия!.. Рост у меня, фигура статная, ручищи натерли краской, тут золотые бляхи… за волосы ухватишь олофернову башку… – вспрыгнула она на сомье и оглушила: – «Во-от голова Олофе-эрна-а! в-вот он, могущий воитель!..»
Ирина улыбнулась. Голос у Саши Белокуровой был очень сильный, фигура «героини», нос только подгулял – курносил, глаза – огромные, пустые, чуть с глупинкой, но добрые. Кто она, откуда, как «запела»… – не знали точно. И сама не знала: «так как-то… тенор услыхал, на огороде, под Девичьим». Рассказывали, что сама Фелия Литвин пророчила ей славу, и подарила портрет с сердечной надписью. Коронным ее было – «В селе Новом Ванька жил, Ванька Таньку полюбил». Нравилась иностранцам – «настоящей славянской красотой», и они охотно приглашали ее поужинать. Но была очень строга к себе, и единственная ее любовь – «поручик», которого никто не видел. Часто ходила в церковь, молилась на коленях, со слезами. Могла отдать последнюю копейку, кто ни попроси. Ее любили.
– Разок бы хоть сказала – «ты, Санечка»… Мама, бывало, приголубит, только… – «бедные са-ночки мои… и куда-то они пока-тят»… – все так, бывало. Вон куда докатили «са-ночки»!.. А я, если уж полюблю кого, никак не могу уж вы-кать. Я ведь необразованная, знаю свой ранг, а образованных страсть люблю. Поручик мой голубчик, вот какой образованный, как с Рено своего придет, все в книжку, Бога отыскивает. Давно меня зовет – приезжайте, Александра Ивановна, наполните мою жизнь духовным содержанием… Вот и ты тоже говоришь – почему не еду? Да боюсь, ску-шно будет. Я веселых люблю, а он будто в монахи собирается. А чего Бога отыскивать? разве Он в книжках, Бог-то! Пойди в церковь, затаись в уголочке, вот и Бог, сразу почувствуешь. Как я ребеночка хочу… пятерых бы, кажется, сродила, стала бы обшивать-обмывать, питать… а муж бы радовался… чай бы пила – сидела, на даче бы с парусиной, и цветочков бы насажали, жасминцу-бы… и огород непременно завела бы, папаша огороды в Москве снимал, спаржа была какая, прятались даже в ней… Акинфов вон говорит – «все заведем, Ляксандра Ивановна, и спаржа будет, и тераску пристрою вам, будете чай кушать с мармеладцем, и арбузы какие будут… Первая балалайка наша! Казаки – они прожженные, все умеют. Да… что слышала сейчас, Геранька твоя меня поймала, заолялякала… – из «… – Отеля» тебе звонили? на телефоне чуть ли не полчаса висела… это не «носорог» звонил, а? Ну, ни одной душе не скажу, как умру… по глазкам вижу, что «носорог»… ну, вот ей-Богу, не скажу… Да, нет, ты мне все-таки сказки, я тебе присоветую, они прилипчивые, а ты отгрызаться не умеешь…
Ирина старалась улыбнуться.
– Вот и не угадали… Это мне директор санатория звонил, где муж.
– Неправда, по глазкам вижу… как же он из «… – Отеля»? там миллионеры только…
– Ну, я не знаю… может быть вызвали к больному, это известный доктор. Ну, и… очень обстоятельно сообщил, что… опять делали рентгенизацию… все хорошо, но советует подержать еще, для окончательного… На-днях поеду туда, тогда решим…
– А я-то подумала, что этот.
Постучала горничная: просили к телефону, из санатория. Ирина побледнела, заметалась. Доктор звонил обычно часов в восемь, с мужем говорила она утром.
– Родная моя, лица на тебе нет… – обняла ее Саша Белокурова, – увидишь, все будет хорошо, дай, перекрещу…
Вышли вместе. Саша Белокурова сказала, что подождет:
– Нет, нет, я не могу тебя оставить, такую… ты и меня разволновала. Ну, ступай, Господь с тобой, все будет хорошо.
Звонил директор санатория. Ирина переполошилась:
– Что с мужем?.. Ради Бога…
…Ну зачем же так… надумывать всяких ужасов! Позвонил раньше обычного? Просто так случилось… а, какие нервы! Все прекрасно. Определенно выяснилось, что «тело» инкапсюлировалось, и с этой стороны всякие опасения отпали. И вообще, нет показаний ожидать осложнений, если строго держаться предписаний. Сейчас, по телефону, он не может во всех подробностях… масса работы, все дергают, а он хотел бы лично переговорить обо всем детально, и главное – относительно дальнейшего лечения мосье Ка… Какая же трудная фамилия! Двадцать второго она будет… превосходно… но… –
– Завтра я как раз в Биаррице, у моих больных, милая мадам Ка… Простите, никак не могу выговорить! Без фамилии… прекрасно. И рассчитываю вас повидать и дать вам обстоятельный отчет… наш консультационный акт о положении вашего супруга. Ну вот, опять вы нервничаете… а, какая вы нехорошая!.. Уверяю же вас, ровно ничего серьезного. Успокойтесь, и дайте мне объяснить вам… О, какой же… пылкий темперамент! вы, как… мимоза, «ноли ме тангере»! Надо, дорогая, и вас лечить… Уверяю вас наш вывод исключительно благоприятный…
– Да?!.. – воскликнула Ирина, – как я рада, милый доктор… Боже мой, как я вам горячо признательна!.. Я не нахожу слов, чем я могла бы выразить мою безмерную признательность…
– Ну, вот… что вы, милочка!.. это же наш долг… Для меня высшая награда – когда я вижу, что мои пациенты воскресают. Мне будет… поверьте, это не слова… если вы совершенно успокоитесь. И вы успокоитесь, узнав мой вывод, документально подкрепленный. Значит, так. Завтра я в Биаррице, у моих пациентов, задержусь, останусь завтракать, и был бы о-чень счастлив… около так часу… меня бы это очень облегчило, если бы вы соблаговолили со мной позавтракать… «У Рыбака»! Знаете, уютный старинный ресторан, угол рю…? Там превосходно кормят… и я сумел бы вам изложить… И так, буду вас поджидать…
Ирина не знала, что ответить. Завтра?.. Завтра в Байоне, в четыре!.. Неприятно отозвалось в ней – «уютный ресторан», и странно развязный тон директора. Не думая, она сказала:
– Завтра, к сожалению, я не могу…
– Да?.. так-таки и не можете?.. – чувствовался в тоне холодок, – как жаль, однако… Но, не будем сожалеть, я покоряюсь и переношу на послезавтра… идет?
Тон директора опять переменился, стал развязным. Ирина чувствовала, что директор ищет встречи. Вспомнила его глаза с маслинкой, как он ее ошаривал, его рукопожатия, «с оттяжкой», его слащавость, пошловагость его манер… Но как же уклониться, не обидев? Подумала о «скидке», о затруднениях…
– Итак, условимся… – говорил уже приятельски директор, будто близкий, – послезавтра, около так часу, я буду поджидать вас, дорогая, «У Рыбака»… Разумеется, вы знаете этот «приют», где все бывают… старинный баскский оберж когда-то… всегда я в глубине там, мэтр д-отель вас проведет ко мне. Ваше вино какое?.. Я люблю заранее, чтобы аранжировать все ком-иль-фо… ну-с, дорогая?..
Тон становился все развязнее. Ирина возмущалась, но мысль о муже… –
– Право, господин директор, я затрудняюсь… мне, право, не до завтраков…
– А, бросьте все ваши опасения, ми-лая… мадам! Поверьте же специалисту, что…
«Будет „поджидать“… „проведет ко мне“… нет, что за наглость!..»
– Извините, но я никак не могу…
– Но почему же?.. почему же, дорогая?.. – настаивал директор.
«Дурак, и наглый», – думала Ирина. Эти – «дорогая», «милочка» – и как он смеет!.. – были ей оскорбительны, противны. Она сказала резко:
– Нет, я не могу… Ну, просто, потому, что… одна я не бываю в ресторанах!
– Но вы же не будете одна!
– Я буду в санаторие, и мы переговорим… так мне удобней.
– Вот как… так вы мне доверяете… – голос остыл, замялся. – Ну, что делать… до свиданья… – в тоне почувствовалось раздражение. – Надеюсь, я вас ничем не… затруднил, мадам?
– Нисколько. До свиданья, господин директор.
Ирина вышла из кабинки раздраженной, бледной. Тревожилась о муже. Саша Белокурова спросила:
– Ну, как, ничего страшного? Что ты такая… гневная?
– Слава Богу, все благополучно. Только этот нахал…
Встревоженная, возбужденная, Ирина не могла таиться.
– И молодец, отшлепала. Так им и надо, петушишкам. Сколько уж я-то перевидала, им только дайся, сударикам-мусьюнкам. Мне бы с ним за тебя позавтракать, я бы ему устроила опрокидончик! В Париже со мной что вышло, в «Трезвоне», ты послушай. Компания сидела. Ну, пригласили меня к столику, нормально. Вот один, ихний ди-путат, персонистый такой, красная ленточка, как полагается, с онером. Натурально, начал нацеливаться, вижу. Слышу, коленку гладит, будто ему кошка. И немолодой, слюнявый, распустил губищи. Ногу отставила, думаю – что дальше будет? Не унимается. Разогрелся с шанпанского. А я шанпанского не обожаю, как чумовая делаюсь с него, глушит. Ногу закинула, отворотилась… за руку меня! Голая рука, как шелк… приятно показалось… он меня, повыше локтя, обеими граблями, и пожимает, будто ему мячик. А, думаю себе, ты меня за руку, а я тебя… За ногу его, под коленку пальцем, как дерну… да и закинула, он и кувырк со стулом. Хохот пошел, никто не понял, чего он так, тармашкой. Поднялся, распетушился, налился кровью, брыжжет… в амбицию! Я тогда плохо рассуждала по-французски, только алор да сава-бьянь, выразиться не могу нормально. Ну, скандал, наши подбежали… я и сказала офицеру одному знакомому: переведите господину дипутату: «вы ди-путат, а я артистка! и тут приличный ресторан, а не какое заведение… и вы можете меня и за ногу, и за руку, а почему я не могу вас за ногу? У вас и либертэ, и игалитэ!» Как ему перевели, пошел – утерся. Как уважали после! Выйду петь – кричат: «бис браво, опрокино-он!» Надоело, перешла в «Избушку». А там меня наша «ворона бородатая» в «Крэмлэн» сманила. Повидала, как нас голубят. Пою им, а сама думаю – «а, шушера-людишки!» – куль-тура, уж известно. Господи, только и молюсь – «дай, Господи, нашу Россиюшку увидеть!» Вытянем родная, ничего…
Ирина поцеловала ее нежно, как близкую-родную, и пошептала: «бедные са-ночки…» Саша Белокурова вся просияла:
– Вот и приласкала дуру… прила…
Обняла крепко-крепко, и не могла – заплакала.
Придя к себе, Ирина навоображала ужасов: как теперь будут обходитьсся с Ви, как бы не стало ему хуже… Упрекала себя, что отказалась, – обиделся директор, ясно. Ну что ж такого, позавтракать! Здесь это так обыкновенно, любезность за любезность, можно держать в границах, пококетничать… Нет, это невозможно. Если бы только узнал Виктор… – нет, поступила так, как надо. А теперь, что же может быть? Ровно ничего. Взяла бумажку и подсчитала, сколько по счету санатория. Если еще дней десять, то… За месяц содержания – три тыс. плюс «лабораторных» – девятьсот, еще за новое просвечивание, анализы… – около пяти тысяч. Наличность: четыре тысячи на книжке, около двух у ней… то платье, если полторы тысячи… плято, в лом только, если наспех, франков триста… нормальный ее заработок полторы тысячи, сезон кончается… в Париж и не с чем. Ви необходимо отдохнуть… Так как же?.. Не стала думать. Ви лучше, ничего серьезного… а там – увидим.
Holdenstein
Март 1938
Рассказы
Родное
…быстро, смешно менялось, – словно во сне менялось. Двенадцать лет, – и столько чудесных превращений! Русский студент, политический, эмигрант-беглец, проклявший свое родное, – это он с болью помнил: как грозил кулаком в пространство, всему, всему, в тот бесприютный вечер, когда очутился за границей, за той границей, куда ехал теперь с восторгом, с пылавшим сердцем. Потом – бельгийский уже студент, чуть не принявший подданства, – удержали мольбы отца, – ученые работы, профессура, такая ранняя, с шумом в ученом мире… политическая амнистия, право «обнять Россию», – так и сказал тогда! – поездка во Францию, женитьба, миллионы тестя-шелковника, ожидавшиеся на днях к получке… бурный разрыв с Ивонной, опьянившею на полсотню дней, испарившееся из сердца с грязью, отказ от профессуры со скандалом, бешеная неделя с девушкой из кафе, в Остенде… спешный вызов к умирающему отцу – в Завольжье…
Словно во сне менялось. Скоро – свое, родное! Только бы увидать отца. Восторг погасал в тревоге, в щемящей боли. Ко-чин вспомнил присыл иконы-благословения, вспомнил слова отца – узенькую записочку, сунутую отцом под ризу: «Спас приведет тебя», – три слова, только. И вот приводит. Все разлетелось дымом – в какой-то месяц. И вот ведет…
Кочин вошел в вагон и ему стало легче.
Скоро разбегутся родные поля, с перелесками, церковками, телегами на проселках; пойдут твои станции, с звонкими колоколами, с бестолковою суетней, с лениво-небрежным выкриком – «третий давай!» – с очумелой бабой, тычущейся с мешком и клянущей какого-то Михайлу – «шутьи его возьми, чисто как провалился!..» – с плотниками – галдежью упрашивающими начальника погодить, не пускать машину, – «с билетами наш, который, Ондрей Высокое… чайку заварить побёг, за кипяточком…» – с мужиками в тулупах, чего-то ждущими с кнутьями, навалившись локтями и спинами на палисадник, с жандармом-памятником, с неспешною сутолокой и говорком.
Вспоминались забытые картинки – зимы и лета. Под снегами еще поля, только весна подходит. Вспоминались звуки, и голоса, и запахи. Стосковался Кочин по говорку, будто двенадцать лет заграничной жизни только о том и думал, только того и ждал, когда, наконец, услышит.
Германия, сигарами запахло. Соседи-немцы говорили о науке, сыпались имена – чужие. Назывались немцы, немцы и немцы, бельгиец, японец, итальянец, – имена славные. И ни единого, – Кочина это взволновало, – ни единого русского. В области ему близкой, – в физиологии растений и агрономии, – о чем толковали немцы, были славные имена, родные. Он позволил себе вмешаться:
– А как в этой области русская наука? Последнее время, помнится, она очень успешно развивалась… Если не ошибаюсь, вегетативная теория Т., его знаменитый опыт с сосудами…?
Немцы переглянулись – и задушили сигарами, с апломбом:
– Но это же несерьезно! Теория Т. обратила, правда, внимание… первое время завоевала сторонников в Англии, но наш знаменитый Д. опрокинул ее основы!
– Но позвольте, – заметил Кочин, закуривая трубку, – ваш, действительно славный, Д. получил ответ на последнем конгрессе в Лейпциге от француза К., страстного приверженца теории Т.!.. – и конгресс раскололся, помните?!..
– Да, казалось. Но последний ответ за Д., и уже готов, скоро узнаете. К. блестящий ученый, но слишком парадоксален. Его гипотеза «вегетативной наследственности»… У вас, во Франции, наука имеет устойчивую почву, чего о русской науке сказать нельзя… Слишком все скороспело и…
Это задело Кочина. Его принимали за француза! Он, с запалом, отчего он давно отделался, выкинул им десяток русских имен, славных на многих поприщах. Немцы опять переглянулись, задымили.
– Вы… русский?! – услыхал Кочин возглас и почувствовал в нем покровительство, и – что-то легкое. Это его опять задело.
– Да, я русский! – сказал он гордо, запальчиво. – Я знаю европейскую науку, в частности и немецкую, и отдаю вам должное, господа. Но я знаю… – и он загорелся молодо, горячо, – и русскую науку! К сожалению, мало она известна европейцам во всей шири и полноте… запаздывает она – сюда. Да и вообще мало Европа знает подлинную Россию.
Очень мало, а часто и превратно. Будем надеяться, что скоро и узнает… заставим узнать себя!..
Вышло не совсем вежливо. Выдержка заграничной жизни слетела вдруг. Немцы не пожелали спорить. Впрочем, один сказал, будто подвел итог:
– После вашей революции в 905 году «отдушина» стала шире, о России мы знаем больше. Россия начинает приобщаться к миру, и это благотворно подействует и на науку. Только вот слишком тратите вы на вооружение!.. За восемь лет вы сильно шагнули в этом.
– Да… – сказал Кочин, не без усмешки, – Россия и в этом отстать не хочет… от доброго соседства.
Все добродушно посмеялись – и кончили острый разговор.
Странное совершалось с Кочиным: даже дурное, что знал в родном, начинало ему казаться оправданным и законным. А когда услыхал первое русское – «носильщика не требуется, барин?» – ему хотелось крикнуть бородатому мужику: «Нет, голубчик… мне еще в самую глубину ехать, туда, за Волгу!» Хотелось обнять за широкие плечи в черном полушубке и сказать что-то еще, такое чудесно-важное, радостное, как жизнь! Сказать, что двенадцать лет, с девятьсот второго, он не видал России, не говорил, как надо, не слышал речи… что вот наконец-то здесь! А когда увидал вагон – «Варшава – Москва», – в нем задрожало сладко. А там и пошло вбирать, взмывать и раскачивать невиданное давным-давно: хлопанье рюмочек у буфетной стойки, перебранки на станциях лезущих мужиков с кондуктором, пиликающая гармошка где-то, тусклые огоньки жилья, радостно-пьяный возглас ввалившегося во 2-й класс овчинного мужика с пилами, – «никак, мать честная, не туды!?» – и насмешливый крик проводника – «прешь-то куда, деревня!..»
Даже воздух совсем уже был другой – знакомо-давний: дыханье талых снегов, потеплевших ометов, дров, бурых дорог, навозных, пролитого где-то дегтя, вздувшихся хмурых, студеных рек. Русские петухи орали на пригревах; русские добрые лошадки мотали головами в торбах; гомозились грачи в березах, поцокивали с лаской галочки. «Никак, журавли летят?» – слышал через окошко Кочин «Обязательно журавли… ка-ак, мать их… весело-то кричат-то!»… Кочин смотрел на свежие скаты сосновых бревен, и в душе отзывалось – наше! – на череду вагонов, мотавшихся по просторам единой в мире великой целины русской, несших на запад пряно-мучнистый дух продвигавшегося неспешно хлеба, – наше! И чувствовал радостно-покорно, как расплескавшаяся повсюду, не хотящая формы сила охватывает его любовно, тянет в себя и топит. Он посмотрел на небо и признал Большую Медведицу, радостно так признал, словно и она родная, словно и ее не видал лет десять. В неурочное время зашел в буфет, – было к полуночи, – выпил две рюмки водки и закусил икоркой и балычком. Купец по виду весело подмигнул ему, будто давно знакомый, и предложил – «по третьей?»… и они выпили, с кряканьем. «К дочери в Вязьму еду, – радостно сообщил купец, – первого родила… выходит, и дедом стал!» Кочин его поздравил, но четвертую выпить отказался. Купец выпил четвертую, – «ну, за ваше здоровьице, подкачну!» – и, закусывая грибком, тут же и сообщил, что ему «и сорока пяти нет, а дедом сделала, молодец Анютка!» От буфета пошли знакомыми, поговорили часок в купе, подышать вышли на площадку. Купец советовал леском попризаняться, но хорошо и мучкой. «Эх, за Волгой у вас… да чтобы делов всяких не накрутить?!.. В России нашей, правду сказать, только дуракам быть бедными! – говорил купец, – папаша мой крестьянствовал… я, бывалыча, в ночное с лошадками скакал, а теперь четыре лесопилки, склады свои в Смоленске, в Можайске, в Вязьме… в Москву навастриваю. Деньги у нас, можно сказать, на земле валяются, только умей поднять!»
Кочин курил и думал: как же определю себя в этом безбрежном море? Забрал острого воздуха и сказал себе: «нет, здесь – не там, здесь не уложишь в планчики… здесь – закружится голова от планов, здесь – непокоряющийся простор мечты»…
Кочин в Москве не задержался. Он застал на вокзале телеграмму, отправленную теткой из-под Уфы: «вчера соборовали, полной памяти, сегодня гораздо лучше, кушал аппетитом уху, спрашивал тебя, ждет». И отлегло от сердца. До поезда он поехал обедать к «Тестову», отведал растегайчиков, ботвиньи и осетрины с хреном, выпил ледяной водки, дивясь на себя, – «что это я распился!» «Тестов» ему понравился, – он еще никогда в нем не был, – понравился простотой и чистотой, чинностью встречи и подачи, покойным, московским, тоном, без суетливости, образом с тихою лампадой, воздухом русской кухни, родною речью, как музыкой.
– Доброго здоровьица, Василий Николаич, с приездом… давненько не бывали у нас… – с наслаждением слушал он, как выговаривал мягко, чинно, седенький, благообразный половой, с подстриженной бородкой, во всем белом, с малиновым узеньким пояском и ласково-мягким голоском, встречавший с поклоном широкого барина в высоком хохле и баках, – словно бы и помолодели!..
– Здравствуй, Иван Максимыч… – лениво-барственно ответствовал господин, валясь на диванчик тушей и заерзы-вая рукой в хохле, – как делишки – потаскиваешь штанишки?.. Морозной пыльцой все серебришься…
– Все помаленьку серебримся, Василий Николаич… а вы вон золотитесь. Во всех ведомостях пропечатано, в Саратов ездить изволили, Куркиных-мукомолов оправляли… прямо из аду выхватили!
– Да, оправдал мошенников. Вот говеть буду, грехи замаливать. Ну, чем послужишь, Иван Максимыч?..
– Чем прикажете. К закусочке можно икорки свежей, троечной?., с нарочным с Дону вчера доставлена, при нем и вытряхнули… живые сливки-с. Лососинкой могу потрафить. Прикажете графинчик?
– Угу, дай потненький. Да что-то мне, братец, соляночки захотелось, на сковородке, по-моему… Семги, скажи, погуще, и груздиков там…
– Понимаю-с. Стелькин вашу охотку знает, ему скажу. А к закусочке не прикажете копчушечку вашу, с подогревом, на можжевёлке? Самая нонче отборная «матка» будет-с?.
– Валяй. Андрей Семеныч как, завтракал?
– Уже откушали. В угловом сидят за ведеркой, с дамой.
– Да бургундерии дашь, той, прежней выписки. С прежней своей?
– С незнакомой нонче-с, пофасонистей прежней будут. Холостые, что же-с!
– Попом бы тебя – всем бы отпускал!
– Чужая душа – потемки, Василий Николаич, а по деньгам и грех. Там разберут-с. А бургундерии как прикажете… к отбивной-с, или рябчики есть первейшие-с?..
«Вот он, российский воздух… бургундерия… – слушая, думал Кочин, и ему захотелось и солянки, и бургундерии, и подогретой копчушечки. – Неспешка, и простота, и… черт его знает что!»
Растрогал и извозчик – знакомым, давним:
– Ба-рин, а со мной-то давеча обещались… на сером-то…
– На Рязанский, да поживей!
– Духом помчу. Двугривенничек прибавьте…
…– Вол-га?.. – чувствуя в слове ласку, спросил Кочин кого-то, стоявшего на площадке в сумерках, показывая в мутную, беловатую ровень дали.
– Она, матушка… – ответил ласковый говорок. – За-шумливает, никак. Ай вы не здешний? Не бывали в наших местах…
– Са-мый здешний, самарский! – отозвался дрогнувшим говорком и Кочин. – Как не знать!.. Сколько годов не видал!.. – выговорил он мягко и почувствовал ласку слова: сказал – «годов».
– Стало быть, земляки мы с вами. По вашему разговору слышу. Она, матушка, она… тянется-просыпается, на работку подымается!..
Пахнуло таким родным, что от радости дух занялся. И Кочин подумал вслух:
– А вот француз так никогда не скажет! Нет такой тихой шири…
– И никак и не может быть-с… – отозвался ласковый говорок. – Потому – Волга называется. А я… так вот гляжу на вас давеча и думаю: с лица – словно и наш, а по разговору-то… вы с барышней-то будто по-французски говорить изволили?..
Кочин признал старика в лисьей шубе, соседа по вагону, и, подхваченный ширью, крикнул:
– Са-мый что ни на есть русский! с Заволжья русский!..
– Так, так… очень хорошо-с. Все мы тут настоящие, древней кости, правильные… – ласково посмеялся собеседник. – Давно не бывали здесь, сказали-с? По службе на стороне жить изволили?
– На чужой стороне жил, в Бельгии да во Франции… с девятьсот второго, две-над-цать лет. Бельгийцев и французов в политехникуме учил… аэтого – не изжил!..
И крепко ударил в грудь.
– Никак и не может быть-с иначе. Россия… она тягу свою имеет, вроде как пламень! Воздуху у нас много.
Кочин подумал: многому надо было сломаться в жизни, чтобы почувствовать эту тягу – пламень.
– А дозвольте узнать фамилию-с… с каких местов?
– Кочин, Иван Александрович, с…
– Кочин?!.. Да не сынок ли вы будете Александра-то Парменыча? Конские у него заводы в…?
– Вы отца знаете?! – радостно вскрикнул Кочин.
– Да как же не знать-то… Господи!.. Да ведь Александра-то Парменыч дочку мою крестил, Аленушку. Господи, да я-то ведь вас как знаю… студентом, бывало, как отмахивали-то на Борчике!.. Антропа Столбина-то ужли не помните?!.. У папеньки покупал лошадок… старые друзья-приятели с ним!
– Так вы Антроп… Антроп Кондратьич?! – воскликнул Кочин, – с девочкой приезжали к нам!.. Беленькая такая… с отцом спорили всегда о статьях… знаменитый конятник!?.. Из-за кобылки у нас еще ссора вышла…
– Из-за его Ягодки знаменитой… Помните-с! Да Господи… как я вам рад-то, родной вы прямо! – воскликнул, чуть не в слезах, старик и полез целоваться с Кочиным. – Милостивый Господь!.. Стали большой ученый, слыхал, как же-с… Папашенька-то, слышали, прихворнул… с полгода я в ваших краях-то не был, а дела делаем. Да заезжайте ко мне, старику… на Московской, собственный дом, с балконом, а сад на Волгу… большущий у меня сад, в пять десятин… Столбина всякий мальчишка знает… Да как я рад-то, – прямо душа почуяла своего. Сижу, слушаю разговор, приглядываюсь… – ну, что-то знакомое! в лице у вас такое, как у папашеньки, когда помоложе был… Ах, Господи!.. Надолго к нам-то изволите?..
– Надолго? Навсегда, Антроп Кондратьевич… навсегда!
– Вот это хорошо-с! вот это славно-с!..
В самый зачин весны, когда все поплыло, забурлило и зажурчало, дотащился Кочин до уездного городка. До усадьбы оставалось еще верст сорок.
Как и раньше, когда гимназистом приезжал на Пасху, решил он переночевать и, напившись в трактире чаю, вышел на торговую площадь.
Было все то же – сутолока и грязь, снеговая мура, навоз, с бурой водой колдобины, шлепающие ноги… – и сыпучий, немолчный гам мелочного торга. Но как все это переливалось в его душе! Что за крылья!? Откуда песни в душе, и хочется сладко плакать, и идти, и идти бездумно, по вешней воде в просторы…
Лихие петушиные голоса, кобыльи зовы, грызь жеребцов и ржанье горячей крови, воробьиная гомозня в пригревах… – все куда-то зовет, поталкивает и щекочет, и пробивает в душевной глыби. А воздух! Нигде неповторимый, – густой и топкий, и тонкий-тонкий, неуловимо!..
Главы собора, раздавшиеся синью, смеялись – звали золочеными звездами и крестами в сквозных цепях, легких, из золотого воздуха. Зевали лари на растопленной солнцем грязи, по-детски казали сказочные цвета розанов, пасхально-пышных, – желтых, лиловых, алых, – пушисто-шумных, когда заиграете ветром. Цепочки розочек-мелкоты шептали свое – купи! Образочки угодничков сияли цветной фольгою, смеялись на теплом солнце: «а вот и мы… все те же, старенькие, ласковые… здравствуй, родной… вернулся!..» Молодостью сияли колпачки пасочниц, из липки. Короба-брюхи пестрого токарья с лесов, вечной забавы детской, – свистульки, кубарики, бирюльки, – кричали яркими голосками – помнишь?!.. А вот и они, любимые, – семейки колокольцов валдайских, колокольцов дорожных, зудливо-звонко позванивающих по Руси, –
И он купил один, ему совсем ненужный.
Этот колоколец напомнил родное бездорожье, ночлеги, неурочные стоянки и уносящее дух – уххх-ты-ы…ать! – когда лошади вдруг подхватят и помчат-понесут куда-то, – под гору ли, в овраг ли, в омут ли, на луга… – кто там знает!..
Во всем было близкое и свое, приживившееся так к сердцу, что никакими силами оторвать не можно… а оторвал если, – только с кровью.
Бородатые лица мужиков, под мохнатыми шапками, были неизменно те же, тесанные на веки вечные. Ясны были бойкие бабьи глаза, светлые со светлого неба русского, как бывает светла вода на лесных прогалах. И вечно-весенни – девичьи, в тревожной весенней дымке, – пытливые, пугливо-ищущие судьбы. Вспомнились странные глаза «девушки из кафе», в Остенде, звавшие за собой… – не те! Вспомнились обманувшие глаза Ивонны, жены-не жены, оставленной далеко, в Лионе… – не те, не те! Вспомнились… ручьистые глаза Тани, серо-розовые от пряников, что покупал он в сладких рядах, – из Вязьмы, Торжка и Тулы: самые те глаза! Рассыпаны эти пряники и глаза – по всей России…
Глядели глаза – играли: на развешанное по шестам цветастое лоскутье, на глазастые платки-пятна, на кованые в жесть укладки-приданое, на подбитые полосатым тиком точеные люльки пестрые – качалки будущего наплода, качающие ветер…
Вороха рухляди, ряды белых кадушек, полных сверканьем нового творога, сметаны, сочного масла русского, в золотистой крупке: выломы сот янтарных, клейко текущих солнцем, с лесов приволжских… – все кричало ему из детства: здравствуй! Окоренки с россыпями яиц пасхальных – луковых, красных, синих, – светло кричали ему: Воскресе!
Безмятежно баюкающая, как колыбельная песенка, детская радость-счастье – плескалась и пела в нем. И теперь казалось ему неважным, как устраивать жизнь свою. Это казалось важным на чужбине, где прямые дороги, заборчики и канавки… А здесь, в бездорожной хляби, – было совсем неважно: вольешься – и вот, не страшно! Устала его душа от многолетнего начеку, а здесь – все разливно-мягко, все льется-льется в неведомые глазу формы, все ищет места, как этот плывучий снег, вливающийся неслышно в землю.
Он купил много ненужного: и цветов, и платков, и меду; и длинных-длинных пирогов-лодок волжских, с запеченными в них кусищами рыбы-сомовины, жирно-сладкой, – вкусных в бродяжном детстве; и радостной, еще мерзлой клюквы, укрытой под соломкой, – гремучего красного гороху; и каленых орехов жигулевских, и… – вот они самые! – розовых пряников на меду, что покупал, бывало, у ручьисто-глазастой Тани…
Он терся с родной толпой, вбирая дыханье овчины, крашенины, коровьего масла, дегтя… – запахи духоты и воли, земли и снега, грязи и солнца русского, в гуле толпы весенней. Трепетно-сладко слушал давно неслыханную певучую речь родную, крепко и кругло бьющую, сыплющую зубоскальством, смехом, по которой тосковал не чуя, которая нужна, как ласка, как родное сердце, что где-то тут и для него бьется…
Он вернулся на постоялку, где приятно-знакомо пахло постными щами со снетками, где разверченный молодец лихо накрыл ему стол салфеткой, с запекшимися на ней рыбьими костями и солянкой, и с треском поставил грязноглазую перечницу-акульку. Но даже и эта грязь показалась' ему, требовательному в отелях Брюсселя и Парижа, совсем законной: на всем стояло клеймо – твое!
Ранней зарей, – еще не перелопались и не затекли лужи, под постный колоколок к заутрене, с хрустом выехали из городка на розвальнях, на паре лохматых лошадок, в веревочной упряжке, с круглолицым парнем, высвистывавшим скворчиное. И потянуло-поволокло его, мотая и колыхая, роняя в ямины, выдирая на взлобья, – понесло по родным просторам, под песни жаворонков, под журчливую воркотню потоков, под скворчиную дробь и свист. Верба золотисто пушилась по речушкам, смеялись пуховками-вербешками на покрасневших ножках.
– А что, здорово разлилась Ворюга? – спросил он парня.
– Шумит словно… – бездумно ответил парень, насвистывая скворчиное. – Надо быть, разлилась. Пожалуй, и мост снясла!..
– Тогда… как же?
– Ды-ть… надо быть, проедем, в поле, што ль, ночевать будем! Должны проехать… иначе как жа!..
Бездумно говорил парень и свистал беспечно.
И Кочину, аккуратно точному там, здесь казалось совсем простым – каким-то неведомым для него путем перебраться в санях через разлившуюся на версты Ворюгу. И он повторил бездумно:
– Должны проехать… Иначе – как же?..
– Обязательно должны проехать. Как так, не проехать!.. И встречный мужик, нежданно выплывший в санях-лодке из-за пригорка, отозвался на оклик:
– Сня-сла… как жа! На энтот… На Кривой Хутор лучше! Слышишь, ты!.. На Шереметку, гляди, трафься… а то зали-ват шибко!
– Да у Шереметки, ну-ка, плотину, поди, прорвало?!..
– Прорвало! Слышь, ты!.. На Шереметку лучше не подавайся!.. Слы-шь!? Бери прямо на… Старую Сторожку, а там… правей заводской трубы! Прямо лу-пи…
– Слышь!., чуток левей, смотри… левей трубы то забирай лучше… на Барашково прямо выправишься!.. Там, надо быть, суконщики уже паром пустили!.. Прямо стегай и стегай на трубу!..
– Вот ты его и пойми, далмата! – сказал парень, выглядывая по дали. – Вот что… – Лучше я тебя на Костино поверну… а там достигнем чего-нибудь. Я уже теперь все знаю. Лес тут у нас свалили, ну… дороги-то все и путаем. А то прямо бы на лес, и без хлопот!..
А, пускай… Можно и на Костино, и на Барашково, и на трубу можно, – не уйдут со своего места. Может, и паром наладят. И в поле ночевать можно…
И опять заплескала и закачала, втягивала в себя, парила вешним дыханьем даль – манила.
Глядел на нее Кочин – синело-голубело; глядел на солнечные вербешки, на долгие лужи-стекла, – и чуялось в разливающемся весеннем дне, в плесках и шорохах, что где-то здесь бьется и для него никогда не стихающее родное сердце.
1920–1930 гг.
Журавли
То, что случилось с Алей, – что она решила, как надо действовать, – случилось не вдруг.
Первое время за границей она чувствовала себя сравнительно спокойно: новые впечатления, уверенность, что так долго не может продолжаться, и весь мир, наконец, поймет; надежда, что на ее розыски в газетах придет письмо, и папа окажется в Америке, а Миша и Лялик где-нибудь на Кавказе, и вдруг явятся к ней в Париж. Подобные случаи бывали. Но годы проходили, а чуда не случилось.
Аля служила машинисткой, ходила по вечерам в Сорбонну, много читала о России, слушала на собраниях, как из года в год политики убежденно развивали, что такое произошло, и почему это произошло, и как к этому надо относиться: принимать ли революцию – или не принимать, бороться с большевиками – или не бороться, а подождать, когда сами они изменятся, или Россия сама их сбросит. Алю удручало, что серьезные как будто люди высмеивают друг друга, кипят и спорят, а решить ничего не могут. Она возмущалась и горела, теряла веру в деятелей, но наружно была спокойна. А жизнь шла и шла. Обзаводились семьями, устраивались на землю, примирялись с мыслью, что ничего не поделаешь, жить надо. Умирали. Кое-кто уехали в Россию, и, кажется, погибли. Иные поженились на иностранках, иные переменили подданство. Тот нанялся в легионеры, тот уехал в Бразилию. Единственно близкий человек, товарищ отца, полковник Тиньков с сыном – капитаном, скопив на заводе несколько тысяч франков, сняли ферму под Пиренеями. Это было большим ударом: обрывалась последняя нить, связывавшая Алю с прошлым. Полковник Тиньков, «дядичка», веривший непреклонно, как и она, что «все это скоро кончится», как будто махнул рукой: больше уже ждать нечего и надо устраиваться прочно. Аля спрашивала себя, не потому ли так ее подавляет это, что Митя Тиньков, который за ней ухаживал, и она ему отказала, увез с собой всякую надежду, что жизнь ее может измениться? Нет, – отвечала она себе, – вовсе не потому: а потому, что они, люди, безусловно, сильные, верившие, что «скоро кончится», укрепляли ее надежды, а теперь перестали верить.
Аля прекрасно могла устроиться. Где бы она ни появлялась, она видела исключительное к себе внимание. Стройная, синеглазая шатенка, с томно-глубоким взглядом, загоравшимся вдруг игрой, лаской и тайной силой, в которой мужчины видят что-то, их покорившее, сильная двадцатишестилетняя девушка, с чудесными волосами, которые она ни за что не хотела резать, она вызывала восхищение. Французы говорили о ней – princesse! Ее приглашали в синема на роли и обещали славу, в первоклассные модные дома – «картинкой», соблазняли выступить в кабаре, «где только одни американцы». Она выгнала от себя посредницу, предложившую ей миллионера. В конторе, где она служила, влюбился в нее француз хозяин, стал набавлять ей жалованья, писал любовные письма, в которых клялся, что «все положит к ее ногам». Помня обет, данный еще в Галлиполи, – «пока не узнаю все», – она разумела отца, брата и Лялика, – «не позволю себе и думать о личном счастье!» – она одолела колебания. Выйти замуж и жить в довольстве, когда «поход продолжается», было бы с ее стороны изменой! Так она думала – так и вела себя. Из конторы она ушла и поступила чтицей в католическую семью, к почтенной даме, которая называла ее – «дитя мое» и платила ей триста франков на всем готовом.
Строгая к себе, она не прощала и другим. Ее называли непримиримой и весталкой. Иные ее боялись: она была слишком прямой, последнее время даже резкой. На одном собрании она не выдержала и крикнула: «А ваши бомбы?!.. Или – ваша задача выполнена?..» Докладчик ответил с пафосом: «Я почтительно склоняюсь перед вашим „святым горением“, но… ведь патента на бомбы не выдается!.. „Вожди“ и „кадры“, пишут в иных газетах, еще имеются?..» Она не спала всю ночь. Смеют еще смеяться!..
Она перечитала, что только могла найти, о революционном терроре былых времен, и ее поразила исступленность, какой-то религиозный пафос: «наш святой подвиг», «наш священный долг», «высокое счастье отдать себя», «во имя величайшей из святынь надо уметь перешагнуть даже через трупы близких, переступить порог»… – эти фразы ей прожигали душу. Вычитанное из Михайловского – «Гронь-яра» – к народовольцам: «борцы этого периода поднимали нашу жизнь чуть не до уровня первых христиан», или «террор в 70-х годах не переделали, а не доделали», – поражали ее кощунством. Тогда – молились, почему же теперь – спокойствие! Миллионы умученных из их же «святыни», из народа… все святое осквернено, самое даже имя народа стерто, и… «эво-лю-ция»!?… Фальшь какая!..
Аля спрашивала себя: «А ты могла бы? Вон Дора Бриллиант требовала: „дайте мне бомбу, я хочу быть метальщиком, я не могу принять меньшей ответственности… я хочу переступить порог!“ А ты?.. Те, когда была действительно эволюция, верили только в террор. Теперь, когда только террор, убеждают поверить в „эволюцию“… Фальшь какая!..»
Она прочитала Ленотра о Шарлотте Корде, прочитала историю Юдифи, «Эсфирь»…
«А ты… не сможешь?!..» – спрашивала она себя.
Перечитала «Порог» Тургенева, – стихотворение в прозе, восторженно принятое когда-то русской интеллигенцией.
«Святая»!.. Переступила порог. Тогда – «святая»! А теперь? Почему так – теперь!..
«А ты, русская… не можешь?..»
Аля не отвечала себе, не знала.
Она была подлинно русская, из старой семьи военных. Ее пращур, стрелец-бунтарь, помилован был Петром за дерзость.
«С петлей на шее, встретился он с Царем глазами! – не раз страстно рассказывал ей отец. – Спросил Царь: «Бунтовал супротив Меня?» – «Бунтовал, Государь!» – сказал и не опустил глаз. Так и впились друг в друга. «Виселицы боишься?» – спросил опять Царь и показал плетью на перекладины, где качались. «Не боюсь, Государь! – сказал стрелец. – Хаживал я за смертью. За Тебя боюсь!» – «А почто за Меня боишься?» – усмехнулся жестоко Царь. «Нас сказнишь, кого под Тобой оставишь, тиших? С тиших какой же Тебе прибыток! вон Ты какой шумной! Шумные Тебе нужней!» Влип в него Царь глазами, а тот не сдает, как сокол на солнце смотрит! «Добро, – сказал Царь, – правдой Мне служить будешь?» – «Такому буду». – «Добро, – сказал опять Царь, – живи, шумной! служи меньшой старшому, а пуще Его – Матери служи, России!» И собственной рукой царской снял с шеи его удавку. Пушкарного строя урядника повелел писать в царскую свою охрану, Ивана Сокол-Стрельцова! И сложил Иван Сокол за Государя и Россию голову в славный Полтавский бой, – «у Царева боку, у правой Его руки, шведская пуля сразила в сердце!»
Картинка Сурикова висела у них в Лохове. Помнила ее с детства Аля, любила искать «Сокола». Показывал ей отец: «Все – Сокола, все – наши!»
Два события укрепили Алю.
Зимой неожиданно приехал Митя, привез золотой мимозы. Был он какой-то новый. «Жесткое что-то в нем, – определила Аля, – помолодел, загорел, сбрил усы… похож на английского спортсмена… но что-то в нем, странное что-то, жесткое?..» Он посидел недолго. Сказал, морщась: «Нет, довольно. Кролики, клевер… все это чепуха. Вот что, Аля… только никому не говорите. Прощайте, еду туда… папа знает. – И поглядел на нее прощально-нежно. – Не думайте, что я это… от разочарования, вы понимаете… что я хочу сказать. Личное… конечно, сейчас не время. Надо продолжать».
Аля почувствовала, как у ней упало сердце. Она озарила его глазами, взяла его руку и поцеловала молча. Он до того растерялся, что не успел отнять руку.
– Дайте я перекрещу вас, Митя… – сказала она сквозь слезы.
Он глядел на нее с печалью и восторгом. Нежно поцеловал ей руку, пошел к окну, посвистал тихо-тихо…
– Сегодня еду. Иногда вспомните?.. – сдержанно сказал он.
– Да, да… – сказала она, не соображая, – непременно… Расстались они свято и нерешительно.
Когда он ушел, Аля прислонилась к оконному косяку и все читала на той стороне сквозь слезы: «vins cafe liquers… vins cafe liquers…»
Когда мимозы засохли, она поставила их к иконе. Стала за него молиться.
В апреле, когда продавали на улицах фиалки, пришло от него условленное письмо: «помаленьку торгую, барышей нет». Значило это, что все благополучно, о них узнать ничего не мог.
Второе событие потрясло ее.
В октябре прочитала она в газетах, что «приговорен к расстрелу за связь с врагами советов земский доктор, бывший дворянин Семен Николаевич Кротков, 65 лет. Приговор приведен в исполнение».
Аля сначала не поняла, не верила Потом поняла и помертвела. Вот почему уже полгода не писал он ей. Только он еще оставался в Лохове, наводил справки о пропавших. Если кто из них жив еще и где-то еще скрывается, мог бы дать знать о себе верному человеку, доктору. И вот его убили!..
Вспомнила Аля мартовскую метель, когда постучались к ним два солдата и напугали… и так обрадовали! Бедные мальчики, с ввалившимися, измученными глазами, заросшие, постаревшие, в солдатских изодранных шинелях, в разбитых сапогах, обмерзшие и больные. Они пробирались к югу. Остался в ее сердце шепот замерзших губ, чуть слышные слова брата: «зашли проститься…» – и его лихорадочные глаза, и какие-то виноватые, печальные глаза Лялика. Вспомнился жуткий месяц, когда день начинался страхом, кончался страхом, когда они трое, на темном хуторе, прислушивались к лесному гулу, и браунинги лежали тут же. Жуткие ночи бреда, когда она терялась, не зная – что же?.. – а они лежали, беспомощные оба, – Миша в возвратном тифе, а у Лялика загнивала рана.
Вспомнила Аля, как пробиралась лесом, в снегу оврагов, путалась в темноте, забыв о волках, которые бродили по округе, вела удивительного человека, святого человека, мученика, Семена Николаевича. Два раза в неделю, под страхом смерти, брел за ней старик доктор, подбадривал. Светлое вспомнила Аля – в страшном.
Миша оправился, рана у Лялика закрылась.
– Через недельку можно и отлетать! – сказал на прощанье доктор, обнял и поцеловал обоих. – Летите, братики… за Россию!
И заплакал.
Роняя слезы в невидный снег, в последний раз вела Аля доктора из леса. В оврагах кой-где уже сочилось, мокло.
– А-ты, сапоги плохие… – вздохнул доктор, – ботиков не надел!
– Ноги промочили… бедный… – пожалела Аля, нашла в темноте его руку и поцеловала страстно.
– А плакать-то зачем? Слезки горячие какие… соленые! – причмокнул шутливо доктор и приостановился передохнуть. – А-ты, моя хорошая! А знаешь, придет время, и кто из нас выживет… обернется на наше прошлое и вспомнит светлое! Так только и познаются люди. Промочил ноги… тычемся с тобой в темноте… но за всю мою практику, за двадцать восемь лет работы по уездам, я не вспомню такого в душе… такого света! Словно кто-то меня прощает… Да, хорошая моя, Алечка… Я, позитивист, сорок лет в церкви не был, – и вот чувствую свет в этой ужасной тьме! Чувствую, какая может быть, какая есть тьма! Теперь только чувствую. И с болью вижу, за что родная наша, славная, бедная наша… и ни в чем не повинная наша молодежь… так отдает себя!., так страдает!.. Вот, затравленные, измученные, израненные, в лесу, больные… и вот, идут! За наши ведь преступления!., за правду, которую мы так подло проглядели, проболтали… Может быть, для меня это, эти путанки в лесу с тобой… легче мне от них стало!., как покаяние мне… может быть, и прощение?.. Да нет, прощения быть не может…
Помнила Аля, как доктор уткнулся в елку и всхлипывал.
– А-ты, что за подлые нервы стали! Ну, пойдем, моя хорошая…
И вот убили его.
И еще Аля вспомнила – мечтательные глаза Лялика и светлое, стыдливое его чувство к ней, вылившееся так робко-нежно, когда они сидели в вечернем лесу, в капели, на избяном порожке. На льдистом, уже синевшем снегу поляны лежали оранжевые и лиловые полосы заката, и привыкшие к ним снегирики прыгали у их ног. Миша колол дрова и приговаривал в звонком, морозном треске… – «хороша береза, лоховская! эх, последняя доколю!»
Лялик сказал, вздыхая:
– Завтра уходим…
И поднял карие ласковые глаза, горячие, в влажном блеске, к зеленоватому холодеющему небу, к голым березовым верхушкам, где еще багровело светом.
– Может быть, и не встретимся больше с вами, Аля?..
– Нет, мы должны встретиться, Лялик! – сказала горячо Аля, качая его руку.
– Должны? Вы думаете… – смущенно-радостно сказал Лялик. – Да, хорошо бы было. Помните, писали Мише на фронт… – «скажи твоему Лялику, мне его лицо очень нравится, он славный…»? И потом… – «если он хочет, я буду ему за крестную»! Вы помните?..
– Да, помню, – сказала Аля.
– Вот и пришло вам быть крестной, перевязывали меня, кормили. Знаете… будьте моей сестрой, названой!? Я был бы очень счастлив!..
И Аля – это ей показалось нужным и очень важным, – сказала тихо:
– Да. Я буду вашей сестрой, названой.
И опять взяла его руку и покачала нежно.
– Теперь я о-чень, очень счастлив! – радостно прошептал Лялик. – Весело я теперь пойду! У меня никого ведь, отчим один в Орле. А университета теперь, пожалуй, и не увидишь… Два года оставалось!
– Вы на каком были?
– Я избрал астрономию…
И поглядел на небо. Но звезды еще не выходили.
В десять часов Аля пришла к сосне на повороте, у края леса. Лоховский Аким – солдат, друг детства, уже поджидал с санями. Под широкой, приземистой сосной едва чернелось.
– Сейчас и кавалеры подойдут, было шумок слыхать! – бодро сказал Аким. – Эх, барышня… женатый я стал, а то бы и сам ушел от этого безобразия!.. Маленького вот отымать грозятся, равень у всех чтобы. Вот тебе и на!.. Ну, это погоди… даром, что ли, служил в солдатах, раны испытал?..
Подошли, с мешками. Попрощались… И вот донесло далекий звенящий шум, словно сыпалось где за лесом сухими палками.
– Журавли!?.. – сторожко сказал Аким. – Как раз на проводы.
Стало слышно курлыканье, вскрики тревоги и восторга, зовущие за собой сполохом. От этого крика в небе, от шума несущей силы у Али заныло сердце острой тоской по чему-то, тревогой и восторгом. На густой синеве, на звездах, зыбилась и звучала чуемая лишь в криках стая. Ушла, затихло.
– Вали с Богом! – сказал Аким. – С журавлями, это хорошо.
Хрупнули по снежку полозья, оклик из темноты – «маму поцелуй»! – и все. Осталось в глазах мерцанье, кряжистая черная сосна, воздушные, в инее, березы на поляне, мерцающие дымно, при свете звезд.
Весть о расстреле скрепила уже готовое. Но как все будет? Путей у Али не было никаких. Да ведь только начало надо… остальное все – в ней самой?
Решая и не решая, бросив свои дела, Аля выехала на ферму, в Шато де Бургонь, где-то под Пиренеями.
Але приснился сон.
Будто она у себя в Лохове, сидит одна в опустевшей зале и горько плачет: пьяные, наглые солдаты и мужики потащили сейчас куда-то ее рояль. В зале очень светло и холодно, в раскрытые окна дует, и виден голый, засыпанный снегом сад. Там орут и трещат кустами, – как будто ищут Мишу и Лялика. А они приехали с фронта, пьют чай в столовой и совсем ничего не знают. Надо сейчас же предупредить их, а она не может ни двинуться, ни крикнуть. Вдруг входит отвратительный человек, долговязый лоховскии учитель Лукин, похожий на удава. Аля в безумном ужасе, но спастись от него нельзя. Он мягко подпрыгивает в валенках, разматывает на шее свой грязный шарф, присаживается к ней так тесно, что прижимает ее плечом, разваливает ужасные свои ноги в валенках, сдавливает ей пальцы костлявой и липкой лапой и, обдавая табачной гнилью, говорит глухо, чахоточным, пустым голосом: «Что, Александра Вадимовна?.. Вы меня всегда презирали и называли не иначе, как „какой-то учителишка, Пу-кин!“?.. А вот теперь я здесь самый первый… товарищ Пушкин!.. И вот реквизнул у вас рояль… и все могу отобрать, до нитки, а вас выгоню на мороз! Вот захочу сейчас – и арестую Мишу и вашего жениха Лялика!.. От вас зависит… станьте моей любовницей!..» Тянет к себе и хочет ее обнять. Аля вырывается от него и бежит к дверям, чтобы позвать на помощь, но учитель страшно топочет валенками и сейчас выстрелит… Она закрывается от него, топчется у дверей и кричит в ужасе…
Проснувшись, Аля слышала, как кричала, и никак не могла понять, – что это?.. Какие-то беловатые полоски. Сердце стучало, до удушья. Гукнул как будто автомобиль, где-то говорили по-французски… – и ее охватила радость, что это сон, и с ней ничего не будет. Беловатые полоски – это ставни, разговаривает горничная в коридоре, убирает… она – в отеле, в тихом городке, у океана, вчера приехала из Парижа и сегодня поедет в Шато де Бургонь, пятнадцать километров от городка, на ферму «Пуркуа-Па?», к милому «дядичке», последнему, кто у ней остался… все ему объяснить, все, все… – и пусть он ее благословит!
«Господи, какой ужас… – думала про сон Аля. – Но до чего все ярко, кустики даже под окном, и милые трещинки на полу… и даже полоска на стене, где стоял рояль, и снег!..»
Все стало перед ней так живо, и так стало больно и жаль всего, что она закрылась одеялом и зарыдала.
В коридоре гремели чашками, пора вставать. Автобус уходил в 9. Струились беловатые полоски в ставнях, – от солнца за обнажавшимися платанами, от ветра.
«Но как же это я… если даже во сне так страшно? – подумала о своем Аля. – Но это во сне всегда, когда воля теряется. Господи, дай мне сил!»
И она стала одеваться.
В церкви, за мэрией, звонили по-деревенски, часто, – совсем как в Лохове.
Так она и подумала вчера, когда ее подвезли к отелю, и сразу здесь ей понравилось. В тупичке темнела старыми мшистыми стенами церковь, с георгинами и какими-то золотистыми цветами в садике. Старушки в черном шли вперевалочку к вечерне. Спали под платанами собаки, в мэрии кто-то играл на флейте, грустно. Автобус шел только завтра, и это было приятно Але: она никогда не видала океана. Оставив в отеле чемоданчик, она пробежалась по городку, уснувшему с окончанием сезона. Все на нее смотрели, как в уезде. Играли ребятишки в обруч, кубарики гоняли, старухи вязали на крылечках, ходили куры, почитывали старички газеты, – и славно звонили в церкви.
День был тихий и облачный, душный даже, хоть и октябрь, как бывает в этих местах, у океана. За городком начинался лес, – пески да сосны, как в Лохове. Сумрачный человек, с топориком на палке, указал ей дорогу к океану – лесом, прямо на mer souvage. Аля увидала сосны, залитые смолой, в плывущих ранах. Это были другие сосны, не розоватые, как у нас, в золотисто-воздушных пленках, а угрюмые сосны ланде, терзаемые вечно скобелями. Но воздух был тот же, крепкий. И та же глушь. И звонкие петухи за лесом. Поросшие сосняком холмы были совсем как в Лохове, если идти на хутор, – только берез не видно.
Але вспомнилось, как стояла она в снегу, в овраге, и Семен Николаевич, бедный… как он плакал!.. И никого, никого теперь!..
Накатывало гулом. Океан?..
Она увидала у дорожки – рыжик! Такой же, розоватый, оранжевая бахромка снизу, и тот же запах! Она поцеловала рыжик и спрятала в сумочку – милый привет России.
Песчаные, голые холмы. За ними – океан, бездумный, смутный от облаков.
Он вдруг открылся из-за бугра, огромный, – всей своей пустотой открылся, – и она почувствовала себя затерянной. Тяжелый, сонный, плескался он глухо по берегам.
Тяжел океан для одинокого. Его безбрежность, бездумное его качанье – давят душу незащищенную. Не умолкая, мерно шумит, шумит, – одно и одно, всегда.
Долго она смотрела. И вот беспределье и пустота – сжали ее тоской. Она поглядела к небу. Серая пелена давила.
«Такая тоска… Господи!.. – шептала она, теряясь. – Вечная, слепая сила… Господи, есть же Ты?!..»
Замерцало в глазах и закружилось. Она быстро пошла от океана, слыша за собой шум, бездумный, темный.
Вечер она просидела в номере, смотрела на желтые платаны, как опадали листья. Зажглись фонарики, у мэрии затрубили в трубы: какой-то праздник. Крепко играли марсельезу. Потом очень скучно танцевали, пускали фейерверк. В треске огней и труб чудились Але писки каких-то птичек. И она увидала птичек: они метались над площадью, прыгали по ветвям платанов, тыкались сослепу в балкончик, испуганные треском. Их было множество – всяких, мелких. Влетела одна в окошко, куда-то ткнулась. Аля зажгла огонь. На спинке кресла птичка держалась коготками, прижалась грудкой. Аля признала коноплянку-зеленушку. Нежно сняла, пригрела.
– Милая конопляночка, откуда?…
Не мигая, смотрела черными бусинками птичка. Задремала. Аля посадила ее под шляпку.
Огни погасли, кончился день у океана.
Проснувшись после кошмара, Аля остро почувствовала безмерность своей утраты, – почувствовала затерянность, как было вчера у океана. Вспомнила, что там Митя, что сегодня увидит «дядичку»…
«Нет, надо быть сильной, надо верить!.. – внушала она себе. – Не слепая сила… нет, есть Господь… и все в лоне Господа! живое, вечное, а не пустота… Дух Божий над бездною!.. Надо идти к Правде, искать Его!..»
Вспомнила про ночную гостью, вынула осторожно, поцеловала и пустила. Утро было чудесное. Щебетом, писком, свистом неслось с платанов. Откуда столько! Горничная ей сказала, что в эту пору всегда их много, – летят через это место, на Пиренеи, к югу.
– У нас миллионами их ловят! Едят, вкусные. Бедная конопляночка!..
В девять часов Аля выехала из тихого городка на Шато де Бургонь, лесной дорогой, совсем спокойная.
От Шато де Бургонь до «Пуркуа-Па?» – как называлась ферма, – два километра Аля прошла пешком. В перелесьях сидели фермочки: домики, винограднички, коврики клевера, гривки засохшего маиса, ниточки золотистого патата, кучки розовых тыкв по дворикам. Дымились в садиках костерки бурьяна. Тащили в ящиках навоз ослики. Хрюкали по закуткам свинки. Старички пилили дровишки на зиму. Все было пригнано, прибрано, поджато. И всюду перелетали птички. «Неужели и дядичка такой же? – думала грустно Аля, приглядываясь к копавшим в огородах. – Полковник-артиллерист, специалист по баллистике, создавший свою теорию дальнобойной пушки! И ферма – „Пуркуа-Па?!.“»
Але сейчас же указали:
– Русский полковник?… Bon-homme, замечательный совщик! Вон белый домик с синими ставнями!..
Крыша широким скатом, шпалеры золотистого патата, клевер, торчки маиса и розовые тыквы. И Митя, ходил за курами!. Семь лет боев… три года на заводе, куры, патат и кролики… шкурки – кошатникам! Там – пришлые, негодяи, убивают, тлят и поганят все, сжирают, швыряют иностранцам… а здесь – достойнейшие, свои, герои, специалисты… разводят патат и кроликов, и это – счастье! Митя, с третьего курса кораблестроения… и сколько таких раскидано, и погибло, и погибает..!
В шляпе факельщика, в затертом френче, штаны в сапоги, стоял полковник в садике, шевелил вилами в костре. Аля узнала его по росту и сапогам: к ботинкам не мог привыкнуть! Тут же капитан Сумин, однорукий, копал, изоочась, картошку. Аля окликнула. Полковник уронил вилы, лицо его застыло. Она поняла и крикнула:
– Все благополучно! Я по своему делу, не успела предупредить!..
– Алик… Алик… – взволнованно говорил полковник, идя навстречу, по привычке одергиваясь и подтянувшись. – Ах, молодец… еще похорошела!.. По делу… не замуж, а?.. Господи, как я рад тебе, Алечка… – говорил он растерянно. – Погоди, руки грязные. Митя не писал?.. Нет, правда?.. Слава Богу. От июля было… Да ты бы телефонировала вчера, на машине бы за тобой, у мосье Рабо за бензин бы только, по доброму соседству! Не устала? Умыться если… Да брось, капитан, черт с ней, с картошкой! Ангел с неба!.. Казаку белого литр, за мной запишет! Латифундию поглядишь?… шесть гектаров… ну, черт с ними! Кур хочешь… кроликов?.. Ну, и черт с ними. Двести литров вина нажали, столько же покупать… Еще что?.. Патата для скота, скотов – старый осел и тройка лихих свиней… Сапожничаем с казаком, часы чиню, планы черчу, мэр – приятель, анализы делаю, доктор присылает… на аренду бы наскребать. Ну, как?..
«Дядичка» мало изменился, подсох, почернел, и руки жесткие. Морщин прибавилось, похож на горца…
– Питаемся… а вообще – пытаемся! Неинтересно, к черту… Идем.
– Разгону нам нету, барышня… – сказал знакомый Але казак, ростом с полковника, только моложе и пошире. – Промеж забору, для разговору. Японцу тут ползать!..
– Не уходить! – мотнул полковник на казака. – Гоню, ступай на Буко, под Байоной, артель там, к тысяче бы выгнал… прилип с Лемноса!
– Я говорю, что… Наберите на камиончик хочь, а мы с господином капитаном управимся…
– Играй обед!
Для торжества полковник надел пикейную тужурку и затопил громадный камин сосновыми дровами, «чтобы пальба была!» Капитан надел пиджак с приколотым рукавом и поставил букет золотистого патата, за неимением хризантем. Подавал казак-повар: потофэ картошка со шкварками, яичница на сале. Пили за «слетевшего ангела».
– Вино с «Пуркуа-Па?», или – «вен-па-пердю»! А как мы его давили!
– Винцо соответственное, только наше урюпинское куда! Вы-морозки!.. Графский винодел антиресовался: «скажите, как вы достигаете 22 градуса?»
– Спирту, мол, подливаю…
– Не-эт… А секрет. И не сказал!
– И мне не скажет!
– Вам я по дружбе скажу, как воротимся. Эх, сад-виноград… не побей тебя гра-ад..!
Аля увидала маленькую икону Спаса, на русской ленте.
К ленте приколоты ордена – белый Георгий, солдатский, еще… Ей сжало сердце. «Живут, сыты…» – думала она, – и хотелось плакать. Всех их ей было жалко: казака, которому нет разгону, дядичку, и однорукого молодого капитана, такого тихого, – у него начинался туберкулез. У него убили мать и двух братьев. Он был студентом-филологом, а теперь собирался уйти на Валаам или на Афеон, – но куда же пойдешь без денег и без руки! После обеда полковник сказал:
– Отпуск до ужина. Казак отправляется в поход, к мадам «Филе», чинить ей раму, дело соответственное. Сума будет смотреть на небо, не пойдет ли дождь, а мы будем щекотать душу. Кофе выпили, ликеры… выпьем потом!.. Сигары – кто желает – в Гаванне…
Аля видела, что у дядички «пели нервы»: он ходил, тихонько насвистывая, как Митя.
Она его хорошо знала.
Полковники, – и отец ее был полковник-артиллерист, – были друзьями еще со школы, в Петербурге жили одной семьей, и именьица их находились в одной округе. Но у Али с Митей почему-то были всегда раздоры. Они очень во многом не сходились. Им казалось, что другой заносчив и считает себя авторитетом. Во время войны, когда Аля была на санитарных курсах, Митя прислал с фронта карточку, где снялся с «сестрой», какой-то княжной Забелло, спасшей будто его от смерти. Княжна была очень некрасива. Когда Митя приехал, Аля смеялась, как он «попался», что таких князей нет, наговорила дерзостей, бросила курсы и поступила в консерваторию. Только через три года встретились они в Новороссийске. Митя помог ей похоронить мать, умершую от тифа, и почти насильно эвакуировал ее в Крым: она хотела остаться, чтобы пробраться в Сибирь, где находился ее отец. В Крыму она просилась в полевой лазарет, но ее назначили в Севастополь, и она узнала, что это сделал ей «назло» Митя. «Княжна» же оказалась в полевом госпитале в Джанкое. Встретились они снова в Галлиполи, где их помирил дядичка. Но и здесь они часто вздорили.
Когда капитан и казак ушли, Аля сказала:
– Дядичка, я хочу поговорить с вами.
Полковник бросил свистеть.
– Слушаю, Алечка, поговорим… – сказал он мягко, понимая, что она уже решила что-то: он знал ее.
Она начала спокойно. Лично она потеряла все. Может быть, есть надежда, что папа окажется в Сибири. После гибели Колчака он мог пробраться в Америку, но и в Америке, и в Китае наведены все справки. Значит, или погиб, или находится в Сибири, – на Алтае, в тайге, – дать знать о себе не может. Если бы его арестовали, было бы известно: он слишком видный. Перхурова, например, судили! А папа был и на кремлевском фронте, и в Ярославле, и на Волге. Последние сведения о нем – из Омска, где его видели. Может быть, еще жив…
– Вполне возможно… – сказал полковник и помешал в камине.
Он знал определенно, что Сокола расстреляли в Омске.
Миша и его друг Лялик… Лялик не был ее женихом, это Митины выдумки. Одинокий, он был так счастлив, когда она позволила ему называть ее «названой сестрой»! Что-то ей говорит, что они должны быть живы! Какой-то внутренний голос…
Полковник сказал – «возможно, внутренний голос… это вполне возможно», – и помешал в камине.
Неправда, что оба они погибли 5 марта, при отходе через Кубань. Они участвовали в этих страшных арьергардных боях, когда полковник Туркул с «дроздами» пробился с музыкой через красную конницу. В этих боях оба они были ранены, но не так серьезно, и их потом видели в районе станицы Крымской. Это ей подтвердили некоторые, там бывшие. У одного казака был внук, который примкнул к дроздовцам, и он спрятал обоих у деда в банде. Они могли потом затеряться, переменили фамилии, а написать не могут. Доктор Кротков сообщал ей, что бывали такие случаи, собирался сам съездить в Крымскую, но его убили…
– Бывали такие случаи, вполне возможно… – сказал полковник и постучал щипцами.
Он сам участвовал в боях 5 марта и знал точно, что Миша и Лялик погибли 4 марта, от красной конницы. Но Митя взял с него слово не говорить.
Он нежно взглянул на Алю. Ее лицо поразило его гореньем веры. Он склонился и начал помешивать в камине.
– Что же ты думаешь… – сказал он в пепел.
– Дело не в моем личном. Я не могу так дальше… Вы знаете, как я всегда смотрела. Митя пошел туда…
Полковник насторожился над щипцами.
– Он сделал правильно… и я горжусь, что он сделал так!.. – сказала она страстно и посмотрела на закопченные балки под потолком.
Полковник видел, как блеснули ее глаза, и у него остро заныло сердце.
– Митя всегда говорит, как я… что мы – в походе! Да, мы – в походе!..
И она высказала все, что в ней накопилось и накипело.
Сидеть и ждать, – этого она не понимает. Она презирает тех, которые говорят об «эволюции». Можно прождать десять и еще десять лет! Для чего мы пришли сюда? Медленно исходить тоскою, бессильно смотреть, как там продолжают убивать, расстреливать, расточать!? Ждать, когда позовет «народ»… масса, которую пихают куда хотят! Россия – это мы, все те, кто действительно ее чувствует и выражает, кто за нее боролся! Где борьба?! Сохранять «кадры»… Еще десять лет, – и во что превратятся «кадры»? Это гипноз. Да, борьба! Почему отход оправдывает бездействие? Разве что изменилось? Там, когда мы бились, мы знали, что каждую секунду рискуем жизнью, и шли на это. Почему же теперь… покой? Приказывать здесь нельзя, но Добровольчество продолжается, и не надо гасить и сдерживать! К чему же тогда – вожди?! Ясно, что тогда те жертвы, миллионы замученных и павших – не оправданы. Имя в истории? История… Есть, кому нужно, чтобы все незаметно переварилось… Повымрут, забудется… довольно крови! Пусть это говорят тем! Мы проливали кровь в боях, те – в подвалах! И продолжают. К нам вопиют мученики. Это странный самогипноз, что борьба кончена. Она должна продолжаться, до конца! Нет территории, оружия, все и всё против нас, но у нас остается воля, – наша воля и воля мертвых! За нас онемевшая Россия! Мы будем бороться там!.. Как когда-то боролись террористы, исполнившие свою задачу. Теперь – примолкли они, взирают! За нас – Правда, Христова Правда! Ложь говорят про «меч», хотят для себя и Христа использовать, одни – фальшиво, другие ради словесного торжества, безлюбцы! Грех – борьба с Дьяволом?! Архангел с мечом на Сатану – грех?!.. Он поразит Антихриста, – так сказало Святое Слово! Мы – слуги Господа! Меч и огонь на Дьявола – Божье дело! и благословенна рука, которая поразит его!..
– Правда, все правда!.. – сказал горячо полковник. – Но та борьба, открытая, полевая, строем… совсем иное! А тут, один… И прежние террористы чувствовали себя в стране… разве можно сравнить систему нашу с системой дьявола?! Непреодолимые трудности, на это толкать… страшно! Надо не толкать, а самим, кто сможет, идти. Так и делается, и вожди тут не виноваты, Аля.
– Я решила идти… и я пойду! – сказала она и перекрестилась. – Вы мне за папу, скажите же… Если бы папа был…
Но что тут скажешь?.. Полковник смотрел в мерцающую золу. Но что тут скажешь!?
– Бедная ты моя… Алечка… я понимаю все, бедная ты моя!.. – сказал он шепотом, стараясь проглотить ком. И вспомнилась почему-то Але залетевшая ночью коноплянка.
Ей стало жаль и себя, и этого храброго солдата, смотревшего так растерянно.
– Дядичка… – сказала она с болью. – Вы отпустили Митю… и меня благословите. Может быть, я там папу встречу…
Полковник видел, что он бессилен. Сказать, что она никого не встретит, навалить на бедную ее головку еще тяжесть? Этим не удержать, а хуже… отнять покой. Она все равно решила. Отцовское в ней, буйная кровь ихнего стрельца Ивана.
– Я обдумала все, – продолжала Аля. – Это не подвиг, это – искупление прошлого. Я только русская девушка, и вот, надо нам искупать… – и, говоря это, вспомнила ночь в овраге и что говорил доктор, – искупать прошлое. Когда-то и русские девушки уходили для разрушения… Разрушено, надо очищать от скверны! И я готова.
– Понимаю, родная… – сказал полковник, – что все это за наши грехи, за преступления, за ошибки… Но подумай!.. Извини меня… Но, может быть, тебя… мне иногда казалось..? – замялся он.
– Вы хотите сказать, что… – вспыхнула Аля, – другие еще мотивы?… что чувство могло меня..? Личного тут нет. Вам я скажу. Да, я люблю Митю, давно любила… Теперь я боготворю его! Вы знаете. Но я пойду – и не увижу его, не позволю себе его увидеть! Я ему отказала, вы тоже это знаете… но я не толкала его, он такой сам. Я чувствовала, что нам нельзя завязывать личной жизни, закрыть всенашим счастьем. Он светлый, он рыцарь… только такой он и дорог мне! Он пошел. Я не могу не пойти.
– Я понимаю, – сказал полковник. – Но… подумай, Аля!.. Ты не учитываешь, что ожидает тебя! Ты же ведь… исключительная, сама ты себя не знаешь… а т а м надо уметь затериваться! Ты же из тысяч выделишься, с таким лицом!.. Что тебя ожидает?!..
– Я готова на все. Бог поможет. Буду делать, как мне укажут. За папу… благословите меня и дайте пути… вы знаете!..
Она подошла к нему. Он поднялся, продолжая смотреть в камин.
– Пути… – повторил он, стараясь собрать мысли. – Ах, Аля… трудно мне… тяжело мне.
Она обняла его, прижалась к его груди. Сдерживая себя, он поцеловал ее и благоговейно перекрестил.
Больше они не говорили.
К ужину сошлись все. Капитан принес белых хризантем. Казак достелил на стол палаточное полотнище и наложил из карманов миску зеленых яблок.
– Называются «кавыль», собственного сада… мадам Филей.
– Собственный сад завел! – сказал полковник, налегавший на «па-пердю». – Скоро свадьба?
– Ка-нешно, я свободный, и они женщина способная, вдова, тридцать два годочка всего… – раздумчиво говорил казак, налегавший тоже на «па-пердю», – однакочь, к нашему не подходит. Ка-нешно… ей не управиться. Жениться не учиться, а как собираться… жалко будет оставить. С собой забирать… у ней стройка хорошая, всякий завод, две коровы под ярмо… А мне здесь не оставаться. А так, ка-нешно… мадам приличная, ничего.
– Казаки – народ теплый, одна нога в седле, другая в селе!
– А хорошо у нас, как на Пасху!.. – радовался казак на стол. – Цветы, парад. Порадовали вы нас, Александра Вадимовна, душа отходит. А то сидим и глядим. Когда Митрий Александрыч еще был, ну, еще попоем. А то свистит-свистит, сядет у камина и плюет в огонь. Всех чертей, бывало, оплюет. В Париже-то, как они, на таксях?..
– Да, ничего…
– Там веселей. И бистры, и всякие залы-танцы… Капитан сидел тихий и вспыхивал, когда заговаривала с ним Аля.
Полковник попросил капитана сходить пораньше к мосье Рабо, попросить машину к семи часам.
– Завтра уж и отъезжаете! – удивился казак. – Что ж мало погостились?..
– Надо, Петр Афанасьич. И так четыре дня прогуляю.
– Да, писали мне… какая-то графыня конфетки вертит! Мы еще соответственно… а на заводе… беги по свистку, не дай Бог.
Ели макароны с сыром и кролика. Пылал камин, трещал, как из пулемета. Полковник принес еще два литра…
– Журавли!?… – сторожко спросил казак.
Пошли смотреть. Была косая луна, на юг. В зеленоватой дали дымно стояли горы. Нарастал тревожно звучавший шум, словно часто и путанно били по деревянным стрункам. Стало слышно курлыканье, вскрики тревоги и восторга, манившие за собой сполохом.
– Вон, катят!.. – крикнул казак на небо.
В голубоватом свете, от края к краю, чернелась зыбкая полоса, с заломом. Вот уж над головой, спереди – три дозорных. Звучало ясно – курлы… курлы!..
– Колесом дорога! – крикнул вослед казак. Изламываясь, зыблясь, стая прошла на месяц, выломив край углом, – чуемая теперь лишь в криках. Долго стояли, слушали.
От этих тревожных вскриков, от дымной косой луны, казалось, тянулись нити к зимней лесной поляне, такой далекой! Словно залило светом, – и вспомнила-увидала Аля кряжистую черную сосну, ясную, до дуги, лошадку, санки, снежок, мерцавшие в инее березы… вспомнила-услыхала запах сенца, мерзлой сосны и снега… увидала мешки, папахи, горбатые шинели, лица… Глубиной сердца почувствовала она протянувшиеся отсюда нити в глухую ночь. Смотрела в небо, и луна расплывалась в брызги колючих стрелок.
– Вторые это, – сказал казак. – Вчера по заре прошли, пониже. А эти высоко-о забрали, к ненастью. И горы видны, верная здешняя примета. Для клевера на что лучше!..
Вечерок досидели у камина. Казак поиграл на балалайке. Потом полковник писал письмо. Долго писал, все рвал.
В семь часов полковник подал автомобиль. Сел за руль, Алю посадил рядом. Сзади – капитан с хризантемами. Садясь, Аля увидала у крыльца мимозу и попросила ветку. На мимозе уже выбило мелкий цвет бледно-зеленоватой крупкой.
– А вот в январе зазолотится! – сказал казак. – Вот тогда приезжайте к нам. Не забывайте, счастливо ехать!
Ехали быстро, лесом.
И вот уже океан шумит… и вот уже городок, с задремавшими дачками, старая церковь из тупичка, немая… – и дождь пошел. Пустая, у леса, станция. Сейчас отойдет поезд, лесной, малюсенький. Долговязый, рукастый, похожий на учителя Пукина, но брюнет, сипло кричит – аннн-тююр! Простились. С белыми хризантемами, Аля высунулась в окошко. Поезд гремуче дрогнул. И Аля услыхала, как крикнул не своим голосом полковник, взмахнув рукой:
– Святая!.. – и ухватил себя за голову.
Капитан все махал единственной рукою, с хризантемкой, – дала ему из букета Аля.
И она долго махала им, отходившим за поворот.
Декабрь, 1927 г
Севр