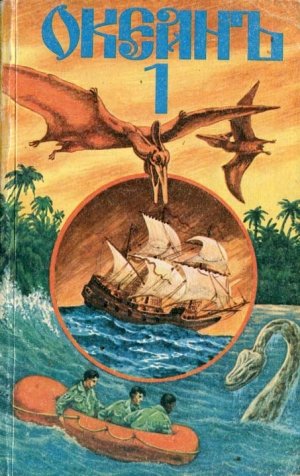
Трижды рявкнул в темноту портовый буксир, предупреждая, что дает задний ход, и тотчас взбурлила за его кормой ледяная каша; резко натянувшись, брызнул водой взъерошенный пеньковый трос, и массивная облезлая туша парохода «Полежаев» нехотя отделилась от причала. Была ветреная ноябрьская ночь 1945 года, дымы из судовых труб едкими струями стелились над бухтой Золотого Рога. Матросы жались к орудийному барбету на корме, постукивая сапогами о стальную палубу. Второй штурман приставил ко рту «матюгальник» и крикнул в сторону мостика:
— За кормой чисто!
— Даю ход, — откликнулся спокойный голос капитана, и корма мелко задрожала от заработавшего винта. По еле заметному в ночи черному склону берега медленно поплыли раскаленные угольки городских огней. Пароход, направляемый тягой каната, грузно разворачивался в тесном пространстве.
— Аминов, останься для отдачи буксира. Остальным — греться, — приказал штурман. Парни заспешили к средней надстройке. Матрос первого класса Николай Аминов протянул штурману хрустящую оберткой пачку сигарет «Вингз».
— Закурите, Леонид Сергеич, остатки американской роскоши. Задолбались мы с этой солью, — по-стариковски проворчал он, чиркая спичкой. — Кому она, проклятая, только нужна в таких количествах?
— Колыме нужна. — Штурман приблизил лицо с зажатой в губах длинной сигаретой к пламени, надежно упрятанному в просторных ладонях матроса. — Тебе, я вижу, не очень-то хочется в рейс? Поди, и невесту завел уже во Владике?
— Не-е, Леонид Сергеич, это дело я оставил на потом. Какие мои годы?
— Ты прав, Коля, восемнадцать лет — не возраст. А все ж, поди-ка, одолевают по ночам сны? Признайся? Сам был таким, как ты. Точно? — Пыхнув ароматным дымом, штурман засмеялся. — Гляди, какой ты выпер на казенных харчах.
— Ладно вам, Сергеич, — покраснел в темноте Николай. Был он на голову выше штурмана, заляпанный красками ватник едва сходился на широкой груди, рукава не закрывали толстые, обветренные запястья.
На пароход Коля Аминов пришел летом сорок второго, легким, как перышко, пятнадцатилетним юнгой с направлением отдела кадров и на дне самодельного фанерного чемоданчика спрятанным маминым письмом, где она сообщала, что отец его, Асхат Аминов, водитель танка «Т-34», геройски погиб в боях под Лугой. Слезно просила мама беречься в далекой океанской стороне, зря поперек других не соваться, а, главное, скорее вернуться в родные места, где ждут его две младшеньких сестренки Ляйсан и Зульфия. Письмо Коля, бывало, без свидетелей, доставал из рундука, разговаривал с мамой. После еще приходили от нее треугольные конвертики с дописками под страницей детскими почерками Ляйсан и Зульфии, приносили письма пачечками после каждого рейса, и была вся семья при Николае, в двухместной каюте «Полежаева».
В тот первый свой морской год Коля Аминов всего только и достиг, что мало-мальски освоился, окреп на матросском пайке, стал отличать кницы от кнехтов и люверсы от пиллерсов, и тому уже был рад, что стал своим на палубе; зато после, когда навкалывался в боцманской команде, обучился надежно стоять на руле и лебедках, в считанные секунды взлетать на свое штатное место по боевым тревогам, когда увидел собственными глазами, как в пламени взрыва переламывается пароход и кувыркаются до неба вырванные из гнезд стальные бимсы и как один за другим исчезают с поверхности океана выбросившиеся за борт моряки, как сходятся на брюхе вражеского торпедоносца трассы эрликонных очередей и, вспыхнув, врезается он крылом в усеянное обломками море, когда прошли эти долгие военные годы, превратился юнга в саженного гвардейца из тех, с кем считаются капитаны и кто позволяет себе почти наравных потолковать с командирами.
— Мне эти невесты — хоть бы их и не было, — сказал Николай так решительно, что штурман хмыкнул, однако, промолчал.
А вообще-то, честно сказать, прав был Сергеич: ночи не проходило, чтобы не возвращалась Колина мысль к нежному предмету. Да о чем же еще грезить восемнадцатилетнему человеку, если большую часть жизни проводит он на качающейся палубе и на берегу чувствует себя кратковременным гостем? Возвращается пароход из рейса, смотрит Коля на приближающийся берег и каждая девчонка там, на берегу, кажется ему принцессой. Черта ли в том, что она по скудному военному времени одета в мамин платок и ватник, в какие-нибудь стеганые чуни с калошами? Лицо-то нежное, глаза — лукавые, с обещанием и тайной, так бы и обнял ее, дурочку, и унес подальше сказать что-нибудь такое, о чем мечталось в морях. Так бы и полетел к ним за ворота порта!
Но приходит вечер, выгребают парни в город — и никак не решается пристать Коля со своей маетой к девчонкам. Вот они — вышагивают по тротуарам, но не пришвартуешься же к первой встречной, не выпалишь ей сходу, как требуется ему душевная подружка. А ребята тем временем, глядишь, уже сообразили пару пузырей, нашлась и хата, и потянулся он за ними… Полстакана — за приход, еще столько — за хозяев, за тех, кто в море, — и понеслась душа в рай. И рядом — все те же обветренные, раскрасневшиеся будки, надоевшие в долгом рейсе… И уже проскочил вечер, и расторопная хозяйка прибирает впрок принесенную моряками щедрую закусь. А утром, с гудящей головой, залив горящий желудок кружкой крепкого чая, — вира на лебедки или майна в трюм.
Еще одно такое увольнение и еще — мелькнут где-то рядом привлекательные девичьи мордашки, и ни одна из девчонок не догадается, что не выпивка грезится по ночам моряку, совсем не за ней выбирается он на берег… А дальше — снова в море, как сейчас, и лучше не думать о невестах, отшутиться: какие наши годы?!
— Что, Леонид Сергеич, не светят нам больше загранрейсы? — постарался сменить Николай пластинку? — Толпа говорит, сейчас — на Колыму, после — на Камчатку, как видно, в Штаты больше не светит?
— Война закончилась, Коля, орудия и эрликоны, как видишь, мы сдали на склад, лендлиз нам перекрыли. Мистеры теперь требуют золота, а золото на Колыме. А Колыму треба кормить. Народу там — тьма-тьмущая, да и мы еще этим рейсом доставим из Находки тысячи полторы.
— Зэков?
— Другие туда почему-то не рвутся, — штурман прервался, вовремя заметив, как провис у клюза буксирный канат, ткнул его ногой. — Стоп токинг[1], Коля, сейчас они сбросят, будем выбирать.
— Отдать буксир! — скомандовал с мостика все тот же спокойный голос.
В Находке ошвартовались у деревянного причала на мысе Астафьева. Величественный, круглый, как блюдце, залив Америка сиял синевой, отражая заснеженные пирамиды сопок Брат и Сестра. У пустынных берегов остро топорщились прибитые южным ветром льдины. В порту гудели «студебеккеры», подвозившие к пароходу доски и брус. На борт «Полежаева» поднялось под конвоем несколько плотницких бригад, в раскрытые трюма стали подавать лебедками связки леса, в твиндеках застучали топоры: плотники прямо на кучах соли устанавливали нары для пассажиров на Колыму.
Николай Аминов вышел на вахту в двенадцать дня с напарником Константином Жуковым, мрачноватым и немолодым уже матросом, плававшим еще с далеких довоенных лет и потому по привычке считавшим всех моряков набора военных лет салагами, которым много еще надобно съесть морской соли, прежде чем они поймут истинный смысл моряцкой жизни.
Второй штурман Леонид Сергеевич стоял на крыле мостика, когда Жуков и Николай поднялись принимать вахту. От носа до кормы в твиндеках копошились зэки. У четвертого трюма дымила полевая кухня, возле нее хлопотал повар в нелепом бабьем платке, залатанном полушубке и подшитых студебеккеровской резиной валенках. Десяток охранников с автоматами рассредоточились по судну: трое у трапа, по одному на кормовом орудийном барбете и у брашпиля, еще по одному — у каждого трюма.
— Хлопцы, наша задача одна, следить за порядком, чтобы пассажиры чего не отхохмили по незнанию или со страха, — проговорил Леонид Сергеевич. Было штурману еще до сорока. Но постоянная горьковатая усмешка делала его лицо старше, и глаза его смотрели холодно. Поговаривали, что не все было ладно у Леонида Сергеевича в семье. Подробностей, правда, никто не знал, да и не допытывался: что делать, такая морская судьбина — или ждут тебя дома, или нет, третьего не дано, хоть будь ты матрос, хоть капитан.
— Николай, кухню видишь? Поди подскажи им, как ее взять на растяжки, чтоб не ускакала при качке. А ты, Константин Макарыч, ступай погляди, как они складывают дрова, чтоб не устроили нам сельскую поленницу, да и мешки с провизией пусть занесут в трюмы. Дед Нептун беспорядков не любит.
— Когда их пригонят, Сергеич? — спросил Николай.
— Отход завтра, в восемнадцать, так что рано с утра должны начать посадку. Дел еще много. Вперед, мужики.
Повар, сгорбившись, тюкал топором по березовой чурке, под заплатами полушубка ходили клинышки лопаток.
— Эй, малый, не мучай инструмент, дай-ка его сюда, — сказал Николай, хлопнув по сгорбленной спине так, что повар присел, охнул и обернулся. Никола опешил, увидев перед собой женское лицо.
— Не хами, моряк, — сказала женщина. — Если помогать пришел, так на, подруби, — и она протянула ему топор.
Слова застряли у Николая в горле: если и существовала в мире настоящая женская красота, то она стояла перед ним. Всю жизнь он мечтал о такой. Ну, пусть не всю, а сколько помнит себя. Именно вот такие губы, нос и брови видел он, стоя за рулем на собачьей вахте. Темень в рубке, лишь впереди чернеет силуэт стоящего у окна Леонида Сергеича, покачивается перед глазами картушка компаса. Легонько, двумя пальцами гоняет Коля туда-сюда колесо штурвала, а в голове — мысли о Ней. Как он встретит Ее. Во Владивостоке, в Находке, в Совгавани. Подойдет этаким фреем, протянет руку: «Слушай, извини, не умею особо с вами толковать, давай без хитростей. Ну? Нравишься ты мне, сил нет…»
И после вахты долго еще лежит на своей верхней койке, слушает, как поскрипывают от качки переборки, сопит внизу давно уже уснувший Макарыч, как за иллюминатором шипят волны и подвывает ветер. Все так знакомо и привычно, как жизнь собственного тела, и Она привычно, как на вахту, является перед ним в ореоле таинственности и неотразимости. Одета Она каждый раз по-разному, а бывает (что уж скрывать) и совсем без одежды. Но мог ли он думать, что встретит Ее такой вот — в грязном платке, рваном полушубке и громадных, не по ноге бахилах, подшитых грубой резиной и с загнутыми носами.
— Растерялся, милок? Или по-русски не понимаешь? Так я повторю по-немецки, — и она произнесла несколько фраз на языке, звучание которого за войну стало для Николая ненавистным. Он взял у нее топор.
— Из немцев, что ли? Что ж вы, немцы, к труду-то не приучены? Инструмент даже как следует насадить неспособны? — Он постукал топорищем о палубу, выбрал чурку потолще и, пристроив ее вместо колоды, принялся колоть на ней дрова. Пришлось еще раз наладить хлябающий топор, забить надежный клин, после этого дело пошло. Хлоп-хлоп-хлоп — полешки разлетались по палубе с легким, освобожденным стуком. Женщина подбросила дров в печку, пошевелила загнутой железякой, потом принялась подбирать и складывать у кухни колотые поленья, время от времени с улыбкой поглядывая на хмурившегося Николая. Он расколол последнюю чурку и подал топор хозяйке.
— Хреновый у вас, фройлен, инструмент.
— Дурачок, какая я тебе фройлен? — Засмеялась она. — Переводчицей работала, за что и определена сюда. А так я обыкновенная русачка, не видишь? На, гляди, — и она откинула с лица платок. — Зовут-то тебя как?
— Николай, — сказал он, мучительно и счастливо краснея. Она теперь и в самом деле стала как русская девчонка откуда-нибудь с Новгородчины или Вологды: льняные волнистые волосы, белый лоб, серые глаза и точеный носик… Ох, черт, она сияла как солнце.
— А я — Лиза Потапова, никакая не фройлен. Ты затем и пришел, чтобы дров подколоть? Смотри, а то пес уже на тебя глаз косит, — она кивнула в сторону молодого охранника с румяным самоуверенным лицом. Привалясь плечом к стойке, тот лузгал в горсть семечки, остро поглядывая в сторону кухни. Охраннику было и на ветру тепло: зеленые байковые рукавицы на меху он заткнул за отворот дубленого полушубка, шапку сдвинул на затылок, выпустив витой чуб. Уловив обращенное на него внимание, он подал голос:
— Лисанька, народ ждет. Когда начнем питать?
— Точно в срок, гражданин наблюдатель, — огрызнулась она, не удостоив охранника поворотом головы. — Спасибо, Коленька. — Серые глаза потеплели. — Заходи еще, когда будет по пути.
— А вас они не могут отпустить к нам в столовую? — спросил он. — Например, выпить чаю?
— Нет, миленький, таким нас не балуют, — засмеялась она. — Не положено.
— Мне тут еще кое-что надо делать, — сказал Николай.
Заготовленные для крепления кухни тросы и скобы валялись неподалеку. Николай отобрал несколько стропов и, гремя ими по железу палубы, приволок их к кухне. Здесь он завел концы с гашами через ось повозки и закрепил их к палубным рымам, после чего обтянул втугую талрепами. Работая, он перебрасывался словами с Лизой, хлопотавшей у котла.
Ей и лет-то оказалось всего девятнадцать, почти такая же, как он. Встретила войну в Витебске. Отец из крестьян, в семнадцатом вступил в партию, пошел учиться в рабфак, закончил пединститут, немецкое отделение. Дело свое любил и от учеников требовал если уж и не любви к языку, то во всяком случае старанья, в этом спуска не давал и собственной дочери, с ней даже дома разговаривал по-немецки. Вот и выучил на беду. Как началась война, отец ушел добровольцем на фронт.
— Помню, третьего июля было, Сталин речь говорил по радио: «Братья и сестры», и прочее такое, — рассказывала Лиза. — Папа прибежал уже в форме, обнял нас с мамой и Лесей, прощайте девочки, наверное, не увидимся. А здоровущий был, как медведь, в деда пошел. Того Потапом в деревне прозвали, от него и детей — Потаповыми… А ты мне — «фройлен», дурила… — Николай то и дело взглядывал на нее, изумленно отмечая, что зэковские лохмотья вовсе не гасят сияния ее красоты.
— Остались мы одни с мамой, она худенькая такая была, я в нее пошла. Еще сестренка у меня, я говорила, Леся…
— Леся? — запоздало удивился Николай. — А у меня сестренка — Лейсан. Почти Леся! И еще одна есть Зульфия.
— Пусть твоим, Коля, не будет того, что нам досталось… Немцы пришли, стали всех регистрировать. Кого — на работу, а кого и сразу за город — в балку. Меня в госпиталь погнали, горшки да судна носить. А лет-то мне было всего пятнадцать, силенок никаких. Но куда деться — вкалывала, зато питалась и домой еще приносила Леське и маме. С ранеными, с немчурой, нахваталась практики разговора, да я и так уже неплохо ихний язык знала. Начальство заметило, вызвали, говорят, пойдешь переводчиком. Вот и вся моя, дорогой матрос, вина.
— Да-а… не повезло вам. — Николай взглянул на часы. — Уже тринадцать. Извини, Лиза, мне на вахту.
— Ой, и мне пора! — Она схватила закопченную железяку, ударила по куску рельса, привешенному к передку кухни. — О-бед! Разбойнички, супостаты, подходи питаться!
— Минуточку, моряк, можно на два слова? — Остановил Николая охранник. Они были ростом вровень — матрос и конвойный. На губах охранника скользнула усмешка.
— Я тебя что хотел предупредить, ты с этой немецкой овчаркой того… поменьше. Понял?
«Овчарка… Сам-то ты пес…» — неприязненно подумал Николай, но спросил осторожно:
— А что я ей сказал?
— Это не важно, а общаться не положено. Я тебя предупредил. Так что гляди, без обиды. — И конвоир отошел, поправляя автомат на груди.
Из твиндеков поднимались заключенные, пристраивались в очередь, гремя котелками и мисками. Лиза взобралась на приступок кухни и черпала варево из парящего котла, покрикивая: «Получай, разбойнички, со дна пожиже, добавки не будет!» Льняные волнистые волосы трепал ветерок, щеки девушки разрумянились. Николай отвел от нее глаза. «Овчарка? Да никогда не поверю! Сам-то ты легавый…» — вновь подумал он, поднимаясь на мостик.
К вечеру небо затянулось, ветер потеплел и повернул к югу против часовой стрелки — верный признак ухудшения погоды. И точно. Едва Николай сменился с вахты, как повалил мокрый снег. Во всех пяти твиндеках зэки установили нары и теперь, скользя по талому снегу и чертыхаясь, сооружали из досок на палубе гальюны-туалеты — по одному против каждого трюма, укрепляя их клиньями и распорками.
Палуба «Полежаева» ограждалась не фальшбортами как на большинстве торговых судов, а здесь их заменяли цепные релинги, натянутые на невысокие стойки. Конструкция эта удобна тем, что во время шторма захлестывающая палубу волна без всякой задержки выливается вновь за борт; но зато и выходить из помещений в штормовую погоду опасно: смоет за борт.
О том, что ожидает «временные удобства» — дощатые гальюны — при первом же шторме, предупредил капитан судна Берестов начальника конвоя Роберта Ивановича Майского, сухощавого человека лет под пятьдесят, похожего в своих массивных роговых очках с толстыми стеклами на завзятого книжного червя, по недоразумению одетого в форму энкаведе. Майский невозмутимо кивал, слушая капитана.
— Как я вас понял, в случае шторма полторы тысячи единиц спецэтапа останутся без сортиров?
Капитан поморщился.
— Именно так. — Берестов, моряк еще старой, дореволюционной закваски, свободно владевший несколькими иностранными языками и увлеченный китайской поэзией, вообще-то вполне терпимо относился к определенным словечкам, слыша их от людей необразованных, грубых, диких, но физически страдал, когда их употребляли те, кому, кажется, следовало бы ценить чистоту русского слова.
— Боюсь, что и кухни рискуют быть смытыми за борт. Говорю это вам в виде неофициального «морского протеста». То есть мы, команда, предпримем все возможные меры. Остальное придется списать на форсмажорные обстоятельства, океан. Вы все сделали, Роман Романович? — капитан повернулся к стоящему у порога боцману, сутуловатому человеку с красным лицом, белой, густой шевелюрой и яркими василькового цвета глазами.
— Так точно, — произнес Роман Романович сиплым с мороза голосом.
— На своего боцмана я надеюсь, — сказал капитан, — и все же…
— Ну что ж, все понятно, значит, и кухни снесет вместе с сортирами… — с видимым удовольствием повторил не понравившееся капитану слово Майский.
Не терпел начальник этапа чистоплюев, полагавших, что все на свете можно решить, опираясь на некие выработанные веками правила. «Нет, дружок, мерси. И белые капитанские перчатки ты прибереги для вечера вальсов, а мне предоставь сортиры. Сунуть бы тебя на сутки-другие в камеру с мальчиками, осужденными по 136 или 141 за убийство и изнасилование, ты бы у меня завопил: «Стрелять, стрелять их!» А я с такими день и ночь колупаюсь, мне поручено страну очищать, чтоб такие, как ты, после раскланивались и помахивали вежливо ручкой».
— Ну что ж, если смоет удобства — обойдутся без них, не велики господа. — Он поправил массивные очки. — Наша задача — погрузить этап здесь и по счету высадить на причале в Нагаево. Сумеем мы при этом организовать двухразовое питание и одноразовое посещение сортира — вопрос не главный.
— А я считал, что вы и мы обязаны обеспечить людям элементарные человеческие условия…
— И ошиблись! — почти весело возразил Майский. — Речь идет не о «людях», как вы подчеркиваете, капитан, а об опасных преступниках. Страна воевала, а они отсиживались в плену, воровали, работали на немцев. Это им вы хотите обеспечить жизненные условия? — Точки в линзах дрожа остановились. — У меня они расстреляли всех родных в Черновцах. До единого человека! А теперь я им буду чаи разносить?! А вот! — и Майский согнул руку, сделал неприличный жест. Капитан вновь сдержался.
— Наверное, не все они поголовно были карателями? — усомнился он. — И в плен далеко не все попали добровольно?
— Допускаю, но не я их судил, не мне их и оправдывать. Моя задача — доставить их по счету живых или списанных, то есть мертвых. У вас, капитан, тоже есть приказ, давайте каждый делать свое дело.
— Сожалею, что довелось участвовать в таком предприятии, — сказал капитан, демонстративно закладывая руки за спину.
— В таком случае позвольте и мне предъявить некоторые претензии. Я не разрешаю вашей команде яшкаться с заключенными. — Майский, так и сказал: «яшкаться», а не «якшаться», заставив капитана снова поморщиться.
— Боцман, в чем дело? — спросил он.
— Это Николай Аминов. Он крепил кухню, по ходу дела разговаривал с поварихой. Она женщина, даже девушка.
— Немецкая овчарка, — уточнил Майский. — Прошу, товарищ капитан, не посылать более матросов на работы, которые обязаны выполнять зэки.
— Хорошо, — трудно выговорил капитан. — Вам понятно, боцман? — спросил он.
— Есть! — Повернувшись по-военному, боцман вышел из каюты.
— Роберт Иванович, вам выделена отдельная каюта. Вахтенный матрос проводит. Честь имею. — Капитан не опустил рук из-за спины.
Николай Аминов сменился с вахты в четыре утра и не видел, как началась посадка. Ворочаясь на своей узкой койке со штормовым бортиком, он думал о Лизе. И только о ней, странным образом отделяя девушку от окружения, в котором она существовала, забывая о невероятных, невыносимых даже для крепких мужчин лишениях, которые она уже перенесла и обречена переносить впредь. «Пройдет, словно солнцем осветит… — беззвучно шептал он. — Словно солнцем осветит… Вот уж точно, словно солнце! И волосы у нее, как лучи солнца, и глаза тоже лучатся. Преступница? Неправда, мне-то зачем бы она врала? Просто ей не повезло. Надо же было ей, оставшись жить при оккупантах, чем-то питаться? Родись она здесь, в Приморье — и ходила бы теперь в институт, и когда-нибудь я встретил бы ее на улице студенткой. Да разве посмотрит такая, если все у нее в порядке, на меня, матроса с семью классами? А здесь сказала: миленький. Конечно, просто так проговорила, без особого смысла, но смотрел-то хорошо, даже ласково…»
Только что на ночной вахте обходил он заснеженную палубу, зэки уже раскрепили «скворечники» у бортов, Лизин агрегат одиноко притулился у четвертого трюма, круглые крышки котлов, покрытые снегом, светились, как лунные диски. Вернулся на мостик, второй штурман усмехнулся и покачал головой.
— Кружит тебя, Николай батькович, ох, кружит! И не зря… Видел я ее, хороша русалка. Не иначе, брат, ты влюбился.
— В кого? — растерялся Николай.
— Известное дело, не в мордоворота с автоматом, — хмыкнул стоявший на руле Жуков. — Только зря ты это, Никола. Растравишь и себе, и ей душу, а вам в нее плюнут.
— Да-a, без перспектив твоя девушка, Николай батькович, — сказал штурман. — А вообще я вам скажу, ребята, красивая баба, — завсегда чужая. Это уж поверьте старику.
Ворочайся, Никола, теперь в думах… Зэки. Немало их перевидел Николай, но до сей поры как-то не останавливал на них особого внимания. Серой, однородной массой шагали они в сопровождении автоматчиков и грозно молчавших псов, семенящих по обе стороны колонны. Вливались их бесконечные колонны в раскрытые по утрам ворота порта, разгружали заключенные американскую муку и консервы, ящики с метровой длины пластами соленого и копченого сала, танки и паровозы, тюки с подарками от американских матерей и запчасти для «студебеккеров» и «доджей». Всякие там были, в этих колоннах, но кто за что сидел, Николай обычно не интересовался. Посадили — значит, было за что. Спроси их — так вообще невинные ягнята: один колосков набрал в колхозном поле, другой что-то сболтнул про Сталина, у третьего нашли Священное писание. Видать, что-то они недоговаривали, недаром же их даже в штрафбат на фронт не брали. Враги народа — и баста, что там рассусоливать? «А вот твоя Лиза — она что же, такая вся чистенькая?» — проклюнулся вдруг противный голосок. «Ей я верю!» — заглушил он сомнение. «Ей веришь — а остальным — нет?» — «Так ее же видно! Куда ей было девать сестренку? В партизаны идти? Ну, пусть в чем-то и виновата, но не на Колыму же ее, на верную гибель! Вместе с фашистами и врагами народа…» — «А откуда тебе известно, что все там фашисты и враги народа? — хихикнул голосок. — Может, и среди них немало таких, как твоя красавица?» — «Не знаю про других, а она — не враг, я уверен!»
Он слышал урчанье прибывших в порт машин, окрики конвойных, мерный скрип сходен и шарканье сотен ног по палубе судна. Но Николай отключался — слишком устал за день. «Миленький»… — услышал он и почувствовал себя счастливым.
Палуба больше не принадлежала команде. Для прохода на нос и корму оставили левый борт, а правый отдали под нужды ГУЛАГа. Каждый квадратный метр заняли чуждые морскому кораблю устройства и сооружения: перед лебедками дымили походные кухни, у трюмов высились штабеля дров, мешки и ящики с провизией, борт оседлали громоздкие скворечни — гальюны. Палубу загромоздили как заезжий двор. Более же всего противны были морскому духу невольники, загнанные в твиндеки, и сопровождавшая их охрана. Толпа заключенных принесла с собой густой дух давно не мытого тела, гнилой одежды и явственное ощущение какой-то вселенской незащищенности человеческого существования. Когда по команде конвоиров из твиндеков к кухням начали шустро выбираться бачковые разносчики и повара «разводящими» черпаками стали разливать им баланду и жидкую кашу, а каптерщики по счету выдавали мерзлые буханки давно испеченного хлеба, Николай Аминов ощутил, как нестерпимая тоска сжала ему сердце. Значит, вот к чему приговорена Лиза? Он уже перекинулся с нею несколькими фразами, за что вновь был отруган конвоиром. Наругавшись, тот оглянулся и негромко предложил:
— Ты чем девку зазря маять и самому страдать, так лучше подойди ко мне как человек, может, и договоримся.
— Насчет чего?
— Насчет картошки дров поджарить, тюха баржевая! — сплюнул конвоир на палубу. — Тебе че, объяснять надо как маленькому? Подойди, сторгуемся, обогреешь свою зазнобу.
— Слушай, давай сразу и договоримся, я все отдам… — заторопился Николай и полез в карман. Охранник остановил его.
— После подойдешь, когда в море будем, — и снова сплюнул. — Там ей убегать некуда.
В рейс вышли ровно в восемнадцать часов. Над заливом Америка сгустились сумерки, мигал на прощание розовый глазок маяка Поворотного. Норд-ост легонько прошелся над палубой, крутнулся между лебедок и надстроек, унося в ночь душные ароматы спецэтапа. Охранники укрылись в тамбучинах-входах, время от времени вызывая зэков. По их команде из пароходного чрева на холод выбиралось десять-двенадцать темных фигур, неуверенно расставляя скользящие ноги, тянулись к скворечникам. Хлопали двери — заходили по двое, появлялись снова и, дождавшись остальных, ковыляли ко входу в твиндек. Проходило полчаса и снова окрик: «На оправку выходи!» — и смутные тени двигались по неосвещенной палубе. В пятом часу утра подняли поваров, задымились походные кухни. Николай Аминов, сменившись после «собаки», дождался, когда выйдет из твиндека Лиза, и шагнул было ей навстречу, но откуда-то из темноты раздался незнакомый голос.
— Назад! Ходить только по левому борту!
— Доброе утро, Лиза, — окликнул девушку Николай.
Она приподняла руку.
— Ступай отдыхай, Коля, наше доброе далеко осталось.
— Разговаривать не положено! — снова окрикнул охранник.
«Чтоб ты сдох, пес», — думал Николай, идя в каюту. Жуков уже принял душ после вахты, выпил в столовой чаю, приготовленного кок-пекарем Верочкой для вахты, и теперь лежал, растянувшись на своей койке под включенным ночником.
— Че не спишь, Макарыч? — спросил Николай устало.
— О тебе забочусь, малыш. — Жуков преувеличенно громко вздохнул. — Что ж ты так теперь и будешь возле нее кругаля давать? Сказано тебе — ноль впереди. Не тревожь девку и сам не майся.
— Все знаю, Константин Макарыч. — Николай сбросил сапоги и робу, сполоснул над раковиной лицо, ступни, после чего легко взлетел на заскрипевшую под ним верхнюю койку, ввинтился под заправленные простыню и одеяло. — Знаю, Макарыч, и не пойму, отчего люди стали зверями друг к другу. И слов других не знают, кроме команд: «Стой!», «Назад!» Я бы эту гниду в белом полушубке за шиворот — и за борт, пусть там сивучам кричит: «Стой!»
— Вишь, и ты такой воспитался, что сразу за борт — и хрен с ним. А другими недоволен, — заговорил внизу Жуков. — Не в них, друг, дело и не в нас. Система такая. Конвойного сверху настропалили, как хозяин травит пса, чтоб сделать его позлей. Вот он теперь и свирепствует. Придет время — и ты кого-нибудь за горло схватишь, воспитаешься, значит. Так оно и идет. А чтобы такая система не сорвалась, то устроены подпорки — ты, к примеру, вот сейчас наденешь сапоги и пойдешь стукнешь на меня, а я про тебя тоже кому надо: «стук-стук!» И вперед, на Колыму или даже подальше.
— Кончай, Макарыч! Мы кто, моряки или дешевки, чтобы стучать друг на друга?
— Не веришь? Почему я о тебе, корешок, и страдаю. И сон ко мне не идет. Хороший, думаю, хлопчик, а загремит ни за грош… Учти, так у нас устроено, что на любой коробке есть свои сексоты. И на палубе, и в машине, и среди комсостава. Спросишь — кто сексот? Да такой же, как ты, мариман, отличный мужик, но подписался сотрудничать. Он бы и рад не донести, да знает, что за ним тоже следят, капнут в случае чего. Тот, кому он докладывает, тоже мужик, наверное, нормальный, видит, что не надо, не стоило бы так делать, а не может иначе, потому как в ухо ему еще сексот дышит. И так до самого, кореш, верха. Учти… — Наступила долгая пауза. Жуков беспокойно заворочался внизу, потом, вскочив с койки, заглянул на лежащего Николая. — Заснул? Нет? Тогда почему молчишь?
— Тяжело все это, Макарыч. Не хочется верить.
— А-а! — Жуков снова исчез внизу. — Ну, гляди. Если что, я откажусь. Свидетелей нет, не докажешь.
Николая подбросило.
— Ты че?! Ты че, с роликов съехал?! — Перегнулся он через бортик. Жуков выключил свет в изголовье и, повернувшись лицом к переборке, изо всей силы всхрапывал, будто спал уже давно и крепко.
— Кажется, нам везет с погодой, товарищ капитан. — Майский стоял на крыле мостика, подняв воротник белого полушубка, в шапке, надвинутой на самые очки. Капитан Берестов в кожаной с каракулем шапке и хромовой канадке поднял к глазам бинокль, всматриваясь в тусклый клинышек берега, возникший слева на горизонте. Солнце опускалось за кормой в сиреневый шершавый океан, десяток ослепительно белых чаек, лениво взмахивая крыльями, висели над мачтами, глядя сверху на железную коробку парохода и копошащихся на ее палубе людей.
— До Лаперуза дошли благополучно, Роберт Иванович, но барометр падает.
— У меня даже фитили в твиндеках не укачались, наоборот, выспались и отдохнули за сутки.
— Фитили? — Берестов опустил бинокль.
— Да. Доходяги. Единиц триста наберется в этом этапе. — Майский повернул к капитану спокойное интеллигентное лицо. — В основном это те, кто по пятьдесят восьмой пункты восемь и десять осужден — предатели, болтуны, сотрудники германских контор. Короче, паршивые интеллигенты. Там они привыкли к кофе с бутербродами и здесь вначале нос воротили от баланды, а когда перестали разбираться, что вкусно, что нет, — уже дошли. Принялись жрать сырые очистки, к помойкам прибились и, естественно, сошли на нет. Да вон они, красавчики, хромают в сортир, в обнимку, полюбуйтесь, — Майский маленькой смуглой рукой показал вниз. По палубе к скворечне брели, поддерживая друг друга, двое: один с багровым, опухшим лицом еле переставляя отекшие ноги, его поддерживал седобородый сухой старичок в пенсне, оседлавшем горбатый нос.
— Известные люди, я их запомнил, — проговорил Майский. — Опухший — это так называемый ученый: селекционер. Думаете, он вывел продуктивный скот или особо стойкие зерновые, чтобы помочь изголодавшемуся за время войны народу? Нет! Зато он сам никогда в жизни не знал, что такое лечь спать без сытного ужина. Отчего теперь и разваливается на ходу. А поддерживает его известный в свое время врач…
— Где, кстати, врач вашего этапа, Роберт Иванович? — прервал его капитан. Майский улыбнулся ему как человеку, упрямо не желающему его понимать.
— Где же ему быть? В твиндеках, следит за здоровьем контингента и оказывает посильную помощь.
— Он тоже из приговоренных?
— Естественно. Но живет в пятом твиндеке вместе с охраной, так что врач на посту, товарищ капитан. Но что может сделать медицина, если человек регулярно набивал утробу объедками или, простите, калом?
— Команда могла бы поделиться с контингентом, как вы их называете, качественной пищей, — не отводя глаз от стариков, сказал Берестов.
— Ай, бросьте сказать, говаривали в Одессе, — отмахнулся Майский. — Все они получили наказание по заслугам и пусть искупают свою вину. Оставим благотворительность для честных людей.
Ночью миновали пролив Лаперуза. Слева мерцал маячок на мысе Анива, справа, у темных скал Хоккайдо, скользили светлячки рыбацких шхун. Едва вывернули из-за мыса, как норд-ост шибанул по левой скуле, загудел в антеннах. Судно ударилось о волну, раз и другой, носовую палубу обдало веером ледяных брызг. В тесноте рулевой рубки Леонид Сергеевич сунул Николаю вертушку анемометра.
— Давай наверх, замерь ветер. Фонарь-то есть? — крикнул он уже вдогонку.
— У меня! — откликнулся Николай, карабкаясь по скобтрапу. Ветер бил в лицо. Николай выпрямился, вцепившись одной рукой в поручни, а в другой держа над головой прибор с бешено закрутившимися лопаточками — полушариями. Внизу на раскачавшейся палубе метались смутные тени. Кто-то глухо крикнул. Нос судна вскарабкался на гору, рухнул в пропасть, приняв на себя пенный гребень встречной волны, и она прокатилась по палубе метровым потоком, смывая все на своем пути. Грохнул выстрел. Николай, скатившись со скобтрапа, вбежал в рулевую.
— Тридцать пять метров в секунду, Леонид Сергеевич! Там стреляют…
— О’кей, одиннадцать баллов, товарищ капитан, — сказал второй помощник в телефонную трубку. — Кто стрелял? Выясним. Очевидно, на палубе — полундра. Есть! Включаю. Николай, включи прожектор! — крикнул он. Жуков гонял колесо штурвала, еле удерживая судно на курсе.
— Товарищ второй, скомандуйте в машину, чтобы оборотов прибавили. Руля не слушает, — попросил он Леонида Сергеевича. Тот закрутил рукоятку телефона, заговорил с вахтенным механиком.
Длинный расходящийся сноп света ударил в стену тумана, высветил мокрый салинг фок-мачты и, скользнув вниз, обнажил картину опустошения. Волна разом снесла все «скворечни» будто их никогда и не было на палубе. Лишь несколько досок висели, но и они вот-вот должны были заплясать на волнах Охотского моря.
В рубку вошел капитан, попросил пригласить начальника спецэтапа. Майский явился через несколько минут, на ходу протирая забрызганные водой очки.
— Выхожу на носовую палубу — и тут как ударит! — то ли восхищался, то ли возмущался он сиплым голосом. — Еле успел за угол. А этот дурак Мякинин увидел у борта человека, кричит: стой! Вместо того чтобы зацепить его, пока не смыло. Привычка, конечно…
— А кто стрелял, Роберт Иванович? — спросил капитан.
— Я же рассказываю: Мякинин у меня есть, тупица из тупиц, впрочем, в самый раз для службы. Он увидел — брыкается человек у борта, первая мысль — побег! Ну, и выстрелил, а волна подхватила сердешного. Здесь-то какие новости? — спросил он, проходя вслед за капитаном в штурманскую рубку и усаживаясь на диванчике.
— Никаких, если не считать стрельбы влет и того, что все гальюны и кухни — кроме одной — ушли. Об этом я и помечу в вахтенном журнале.
— Ну, что же, товарищ капитан, все случилось, как вы и предупреждали. У меня к вам нет никаких абсолютно претензий. Далеко ли еще ехать до Магадана?
— Идти, Роберт Иванович, идти. — Капитан согнул над картой витую шею настольной штурманской лампы. — Взгляните — вот Сахалин, мы — у мыса Анива, а здесь, вверху — Нагаево. Мне кажется, вам нехорошо? Укачались? — внимательно вгляделся он в сморщенное лицо Майского.
— Суток трое-четверо? — пропустил мимо ушей вопрос Майский. — Выдержим, товарищ капитан, пусть у вас об этом голова не болит.
После утренней проверки выяснилось, что ночью во время оправки волной смыло за борт двух зэков. Кроме того, в твиндеках есть умершие. Об этом доложил начальнику конвоя фельдшер Касумов, молодой кавказец с выпуклыми меланхоличными глазами, появившийся на мостике после взятия пробы из единственного оставшегося не смытым котла Лизы Потаповой. Майский только что выпил кружку густого чая с лимоном в кают-компании. Он пытался победить морскую болезнь, но лекарство не помогало, и он был мрачен, еле сдерживая тошноту.
— Вот полюбуйтесь, товарищ капитан, — протянул он руку, указывая на Касумова. — Жил-был красивый молодой медик, заслуженный фронтовик, любимец прекрасных дам. Целехоньким и с наградами вернулся. И что же ему не хватало? Зачем он попал в этап? Затем, что националист, не понимает политики партии, критикует ее решения.
— Я полностью согласен с политикой партии, гражданин начальник, — сказал Касумов.
— Вот так и надо. Именно это и повторяй все десять или сколько тебе отпустили? Восемь? Все восемь лет, не то попадешь на общие работы и не увидишь величественного Эльбруса, мой друг. Итак, сколько фитилей там внизу дало дуба?
— Двое. Одна женщина.
— Хм… Капитан, их надо похоронить, не везти же в Магадан. Как это у вас полагается? «К ногам привязали ему колосник…»
— Вы хотите поручить похороны команде? — прищурился Берестов.
— Хотя бы на первый раз, ибо я не уверен, что он будет последним. Нас надо научить, ведь похороны — не просто церемониал…
— Да, не просто, — сказал Берестов. — Добро, я дам команду боцману, чтобы выделил брезент и грузы… Учитесь…
Хоронить досталось вахте Аминова. Вместе с Романом Романовичем и двумя матросами из рабочей боцманской команды он спустился в четвертый твиндек, перегороженный так, чтобы в одной половине разместились женщины.
Большая часть их укачалась и не поднималась с нар, валяясь на каких-то тряпках. Твиндек запрессован душным зловоньем давно не мытых тел, мочи и блевотины. Покойная, сухонькая, как птичка, старушка с запавшим ртом, была совсем легкая и какая-то жидкая, незастывшая в своем вечном сне. Парни осторожно перенесли ее на брезент. Николай взялся за два конца в ногах умершей. Юбка задралась, обнажив серые, тонкие ноги. «Господи, что ж ты такое могла наделать, бабуся? Кому навредить?» — подумал Николай.
— Мальчики, скажите наверху, что нам негде оправляться! — закричала какая-то женщина.
— Молчи, что они могут? — вмешалась другая. — Ступай в угол на соль и с… сколько угодно.
В углу жалобно стонали, кого-то выворачивало от качки.
На корме положили два кокона — большой и поменьше, перетянутые шкертами. Из кочегарки принесли и прикрепили к ногам старушки корпус списанной донки, а к мужику — два колосника. Касумов наклонился, отвернул углы брезента, переглянувшись с мертвыми, кивнул: можно. Роман Романович снял шапку — ветер рванул седые пряди. Обнажили головы матросы. Охранник в намокшем от брызг полушубке, махнул зеленой рукавицей: разрешил. Наблюдавший с мостика Леонид Сергеевич потянул рычаг тифона, и над всхолмленным морем разнеслось два протяжных, как стон, гудка. Парни, качнув коконы, отправили их за борт. Крутнувшись в кильватерной струе, свертки исчезли с поверхности моря.
Николай заторопился на мостик, по дороге окликнув Лизу Потапову. Она только голову наклонила, держа руками толстый паровой шланг, засунутый одним концом в котел. Рядом хлопотали оставшиеся без кухонь повара. Котел для убыстрения варки пищи теперь не подогревался печкой. Его заливали водой, засыпали крупу и муку и, сунув в середину паровой шланг, открывали вентиль. Через несколько минут вода бурлила, а спустя короткое время Лиза сыпала соль и кричала охраннику: «Зови!»
Кашу-размазню разносили по твиндекам, в котел заливали новую порцию воды.
Николай, сменив на руле Жукова, не ответил ни ему, ни Леониду Сергеевичу на вопросы, как там в трюмах и как прошли похороны. Его тошнило, как от морской болезни. В глазах еще стояли дряблые ноги старой женщины и комковатая бурая слизь на палубе твиндека.
После ужина Николай набрался решимости и направился к охраннику, наблюдавшему, как Лиза с двумя помощниками готовит очередную порцию размазни. Ни мороз, ни качка Гошку явно не брали. Кое-кто из матросов поговаривал, что конвоир Гошка, стоявший сейчас возле кухни, не без успеха приударяет за кок-пекарем Верочкой, оттого и чувствует себя в отличной форме. Он встретил Николая усмешливым, все понимающим взглядом. Николай молчком протянул ему нераспечатанную пачку сигарет «Вингз». В последнем рейсе, в Портленде, он брал эти сигареты у шипчандлера по три цента за пачку, во Владивостоке на Семеновской толкучке цена им была пять рублей за сигарету. Правда, Коля никогда сигаретами не торговал, потому они у него и сохранились.
— Че-то шибко ты расщедрился, — ухмыльнулся охранник, отправляя пачку в карман, после чего неторопливо закурил махры из кисета. — Че надо-то? — спросил он, подмигивая в сторону кухни. — Понимаю, понимаю, так что можем на часок договориться, че нам ссориться из-за бабы.
— Слушай, Гошка, — сказал Николай, сердясь на себя за дрожащий голос. — Слышь, Гошка, мне не на час, пойми, я не хочу ничего такого, честно, пусть она только отдохнет, обогреется, чаю попьет по-человечески, понимаешь? Ну, как ты у Верки, — добавил он и заметил, как дрогнули потерявшие вдруг уверенность глаза охранника.
— Какая Верка? — посерьезнел он. — Ты че это? Ты брось эти намеки, ну, попросила кастрюлю снять с компотом, помог, при чем тут глупости?!
— Гошка, и я тоже говорю, при чем глупости, — осмелел Николай. — Я ж разве что кому говорю? Ты молчок — и я молчок.
— Понятно, — сказал Гошка. — Один час — одна пачка.
— У меня их всего-то две осталось, Гоша, честно.
— Ну, деловой пацан! — хохотнул Гошка. — Ладно, тащи сюда обе. После еще чего американского принесешь, договоримся. — Он снова оглянулся. — Гляди, парень, если Майский пронюхает — на ней будет побег. Я так и скажу: сквозанула. Понял? Подходи, когда стемнеет.
Приблизились сумерки. Николай нерешительно тронул лежавшего с книгой на нижней койке Жукова.
— Слышь, Макарыч, у меня одна просьба к тебе… Не знаю, как и спросить.
Верку, что ли, позвал? — засмеялся Жуков, поворачивая голову. — Она не откажет, девка добрая.
— Кончай, не надо! — помрачнел Николай. «Подлый мы народ мужики, если всех догадок хватает только на одно, — горько подумал он. — И попробуй докажи хотя бы и корешу, не охраннику, что совсем другое у тебя на сердце…» — Не, Макарыч, я эту девушку хотел пригласить, ну, повариху зэковскую. Не для чего плохого, пусть только обогреется, простирнется. Сам знаешь, какие у них там дела…
Жуков присвистнул, сел на своей койке.
— С ума сошел, чудило! Забыл, что я тебе толковал? А если я и есть тот самый сексот и обязан доложить об этом? Ты же загремишь, волосан, не меньше чем на червонец! — Николай стоял перед ним с таким беспомощным видом, что Жуков досадливо крякнул. — А, чтоб тебя, прохватило пипкострадателя! Не я, так жизнь тебя научит. Валяй, грей ее, люби, жалей, но смотри, чтоб после и тебя так жалели! — Он хлопнул Николая по спине. — Эх-х, где мои восемнадцать лет? Может, и стоит иногда свихнуться! Знаешь, если кто и стукнет, не раскаивайся, отдай ей все, девка стоящая. А живем мы, брат, один раз на свете! Гляди, чтоб ровно в ноль-ноль был на мосту. Я к Роману Романовичу пойду, потравим баланду.
Гошка вызвал Лизу из твиндека, она вышла, на ходу застегивая драный полушубок, увидела ждущего Николая, оглянулась недоуменно на Гошку. Тот пожал плечами.
— Что, майн либер, уже и охрана тебе помогает? — спросила она Николая. Не сразу поверила в то, что он пробормотал, снова обернулась к Гошке, тот хмыкнул.
— Ступайте до нуля. Но учти, парень, в ноль перекличка, минута опоздания — считаю побег.
Коля пустил Лизу впереди себя. Голенища подшитых резиной от покрышек «студебеккера» валенок хлябали на ее икрах, полушубок болтался как на вешалке. Ему повезло — в коридоре правого борта никто из команды не встретился. Николай толкнул перед Лизой дверь своей каюты, включил свет.
— Проходите, фройлен.
Она остановилась посреди узкой каютки. Две койки одна над другой, спаренные железные рундуки, умывальник у дверей, под иллюминатором — диванчик метра полтора в длину, рядом — столик, над ним — зеркало и полочка с десятком книг.
— Снимай шубу, я ее в рундук повешу, — протянул он руку. Лиза испуганно отстранилась.
— Не надо на вешалку, Коля, вот сюда ее! — И сбросила полушубок на палубу у диванчика, оставшись в темном платье и обтрепанной кофточке.
— Ну? — улыбаясь, взяла его за горячую руку, заглянула в глаза. — Что молчишь, Коля? Не нравлюсь в бальном наряде? Мне можно сесть на диван? — Она села, сбросила валенки и сунула в них портянки, оставшись в залатанных шерстяных носках. Закинула ногу на ногу, тряхнула волосами, глядя на него из-под опущенных ресниц.
— Ты ведь на бал пригласил свою принцессу, правда, майн либер? О чем поговорим? Или моряки привыкли без разговоров?
— Лиза, — проговорил он тихо. — Скажи, Лиза, ведь, правда, ты ни в чем не виновата? Ты не предавала Родину?
Она вся напряглась, скрестила руки на груди. Широко раскрытые серые глаза обдали Николая холодом.
— А пошел ты, знаешь куда? На допрос меня вызвал? Ладно, вижу, не за этим, — смягчилась она и, привстав, погладила его руку, — Коля, прошу тебя, ни слова об этом, иначе сквозану, как говорят наши девки.
— Прости… И пожалуйста, посиди, — сказал он, присаживаясь рядом с ней. Несмело положил руку на ее спину. Она качнулась, прижалась к нему плечом. Пальцы Николая нечаянно дотянулись до мягкой девичьей груди — и это прикосновение потрясло его, он задрожал так, что клацнули зубы. Опустил руку, вскочил с диванчика, замер, не поворачиваясь к Лизе лицом. Она хохотнула сзади.
— Ой, ой, какой ты горячий, так и сгореть недолго, майн либер. Сколько минут он отпустил тебе? Я имею в виду — нам?
Он повернулся к ней пылающим лицом. Лиза, улыбаясь, указала на место рядом с собой.
— Вот здесь сиди и разговаривай. И положи руку, где была. Так сколько? До какого часа?
— С ноля мне на вахту, ты знаешь, — проговорил он хрипло, вновь ощутив жадными пальцами мягкое. Она, засмеявшись, повернулась к нему, взъерошила волосы у него на голове.
— Совсем растерялся, майн либер? А мне казалось, моряки, они ого-го! Значит, живем до ноля, так это же целый год, вечность! — Она взяла его безвольные, трепещущие руки. — Знаешь, Коля, я тоже установлю себе нолевой час. Когда захочу, тогда и скажу: все, майн либер, мне пора, с меня хватит. Они-то со мной не очень церемонились: цап-царап — и червонец. За дело, без дела — ступай, Лизка, оттяни десятку. Мама умрет, Леська моя вырастет без меня, а кому я сама буду нужна после Колымы? Шаг вправо, шаг влево — стреляю! Нет уж, геноссе, лучше я сама скомандую, когда будет надо. — Она отпустила его руки, поникла. Острое чувство жалости стеснило ему сердце.
— Лиза, есть будешь? Я здесь принес кое-что. — Она не отвечала, и он поставил на столик миску с еще теплым тушеным картофелем и мясом, полбулки нарезанного пшеничного хлеба.
В школе юнг на станции Океанской они с пацанами, бывало, мечтали о наряде на камбуз. Там после работы шеф-повар разрешал есть сколько влезет. Схарчить пацану булку черного хлеба с огромной железной миской супа ничего не стоило. Иные объедались так, что потом страдали животом, но все равно мечтали о следующем наряде, как о празднике.
— Кушай, — придвинул он к ней чашку. — А потом, если хочешь, сведу тебя в душ… Извини, я подумал, ведь у вас нечасто такая возможность… — Он вдруг увидел, как на глазах Лизы навернулись слезы, и поспешно добавил. — Только не обижайся, я судил по себе.
— Господи, ребенок мой, а я думала, зачем он торгуется с этим псом? Чего он от меня хочет? — Обхватив его голову руками, она стала целовать его в щеки, губы, нос. — Конечно, обижусь, дурачок ты мой! Три недели мы тряслись по великой транссибирской магистрали, двое суток — на пересылках, теперь втиснулись в стальные гробы, и ты спрашиваешь, хочу ли я в душ! Господи, скорее веди меня туда! — Она вскочила с дивана. Коля протянул ей полотенце, кусок туалетного американского мыла. Она понюхала мыло, бережно положила его на стол. — Нет, пожалуйста, мне стирального, побольше… И еще… — она провела обеими руками по своему платью. Понимаешь… я не собиралась мыться, нет сменки… Ты не дашь временно что-нибудь?
Он проводил ее в душ, положил на решетчатую скамейку свое трикотажное белье, клетчатую рубашку и джинсовый комбинезон, выданный боцманом в качестве робы и еще не надеванный. Лиза, торопясь, начала раздеваться при нем и вдруг смутилась, прикрыла руками грудь, словно была уже обнаженной.
— Да, конечно, конечно… — понял он. Ты никому не открывай. Пароль: «Час ноль», — засмеялся он и закрыл дверь. Лиза щелкнула накидным крючком.
На кормовой палубе гулял сырой ветер, в темном небе раскачивался взад-вперед крестообразный ствол грот-мачты. Николай все еще вздрагивал, вспоминая, как едва не опозорился в каюте. Заметила она или не заметила? Скорей всего, догадалась. Но, кажется, не обиделась! В конце концов, мужчина я или нет? Хотя, если разобраться, какой там мужчина, никогда не обнимал женщин. Скоро снова будем вдвоем с ней… Вот обсмеет, если узнает, что я еще ни разу ни с кем не был. Неужели сегодня произойдет Это? Сердце стучало, колотилось о ребра, щеки горели. Он с наслаждением подставил их ледяному ветру. Потом шагнул в коридор, захлопнув за собой тяжелые стальные двери. В каюте перед зеркалом внимательно оглядел свое лицо, потрогал выступающие скулы. Усы только-только затенили губу, он раза два сбривал их, чтобы поторопить их с ростом, но безуспешно. Потрогает, спросит: «Еще даже не бреешься?»
Она постучалась и вошла — раскрасневшаяся, в подтянутом почти до шеи комбинезоне, голова обмотана полотенцем, на ногах — его деревянные колодки. Взглянула вопросительно и робко.
— Какая-то женщина встретилась мне в коридоре. Это ужасно, да?
— Это Верка, наша кок-пекарь. Ничего. — Успокоил он ее, думая, однако, что теперь придется всячески заискивать перед Веркой, чтобы не трепанулась кому.
— Господи, какое счастье быть просто чистой и в чистом белье, ты не можешь себе представить, майн либер, — приблизившись к нему, она спокойно, как мать, поцеловала его в щеку. — Как подумаю, что снова надевать все это, — кивнула она на валявшийся в ногах полушубок. — Слушай, Коля, женщине неприлично доверять такое мужчинам, но никуда от этого не денешься, это надо высушить. — Она протянула ему ком выстиранного белья, тут было и платье, и кофточка, и все остальное. — У тебя есть где просушить?
— Молодец, что постирала, — подбодрил он ее, принимая белье. — Знаешь, что я придумал? Я пойду и развешу его где пожарче. И полушубок унесу куда надо, а все, что на тебе, пусть останется у тебя. Ты возьмешь? — И, не ожидая ответа, вышел с бельем и полушубком в коридор. Открыв дверь на палубу, он шагнул в ветреную тьму и с удовольствием швырнул полушубок за борт. Потом развесил ее платье, кофточку и белье над решетками котельного отделения. Далеко внизу полыхал огонь в топках котлов, мелькали мокрые спины кочегаров, забрасывающих лопатами уголь. От раскаленных котлов бил горячий поток, шевеля развешенные тельняшки, трусы, робы.
Николай вернулся. Лиза, сидя на диване, расчесывала пальцами подсыхающие льняные локоны. На столике блестела пустая фаянсовая чашка. Лиза умиротворенно улыбалась.
— Как видишь, после меня можно не мыть посуду.
— А еще чай, ты не забыла? — Он достал из рундука кофейник и отправился на камбуз.
Кок-пекарь Верочка Арсланова, маленькая брюнетка, приехавшая в Приморье перед концом войны откуда-то из байкальских мест (как говорили злопыхатели, со спецзаданием выйти замуж), месила в квашне тесто. Она с интересом оглядела Николая горячими, с монгольской раскосинкой глазами.
— Чаю брызни, Верунчик, — протянул Николай ей свою посуду.
Верочка подставила кофейник под кран титана, покачала головой.
— Глядите, какие мы стали заботливые к женскому полу! А то ходили «не тронь меня, я весь отшень честный!».
Что было, то было. Не раз и не два кидала Верочка призывные взгляды на саженного роста матроса, однажды даже прямо пригласила забежать в каюту на стопку чаю, но увы…
— Верочка, ты мне всегда нравилась, — сказал он заискивающе, — и сейчас ты очень нравишься, а эта девушка — она просто попросилась в душ, и ей разрешили…
— Интересно знать, кто ей «просто» разрешил? — ехидно спросила Верочка.
— Обязательно хочется узнать? — встретил ее прищуренный взгляд Николай.
— Один молодой мужик с автоматом, который сейчас, кстати, на вахте, и чьего имени тебе не стоило бы нигде упоминать, Верунчик.
— Что-что? Какое такое имя? — взбурлила Верочка, впрочем, не слишком громко и больше ни о чем не спрашивала.
В каюте Лиза встретила его вопросом, куда он отнес ее замечательную доху. Николай объяснил куда и тут же достал из рундука свой новый черный полушубок. Выдал его боцман Николаю еще летом, но полушубок оказался маловат, обещал Роман Романович заменить, да все как-то так и не удосужился. Лиза нырнула в мех, наряд был великоват, но привел ее в восторг.
— Господи! За что же это мне?
— Напьемся чаю, а потом разберемся, — он улыбался, дрожа всем телом.
— Только больше никуда не уходи! — сказала она, когда они выпили по кружке чаю. — Если уйдешь еще раз, лягу спать, и не разбудишь! — Она как-то по-особому засмеялась, ему стало совсем жарко. — А где твоя койка? — спросила она вполне невинным голоском. — Вот эта? — И она стала разбирать койку Константина Макаровича. Это приближалось с неумолимостью судьбы, и Николай не знал, хочет он или боится того, что должно случиться. Лавина сорвалась и набирала силу. Он отвернулся по ее просьбе. Лиза вытянулась под одеялом, закинула за голову белые руки. Наткнулась на плафон в изголовье, щелкнула выключателем.
— Ой, как удобно! — И тихо добавила: — Дверь-то…
Обмирая от волнения, он повернул ключ в двери. Хоть бы ничего там наверху не случилось, взмолился он, хоть бы Макарыч не вернулся за чем-нибудь и не постучал в дверь… Неужели все Это произойдет сейчас?
— Можно я к тебе? — спросил он севшим голосом, и зубы его предательски клацнули.
— Скорее, скорее, а то усну, — тихонько засмеялась она. — Свет-то потушишь?
Он забрался к ней под одеяло, еще какие-то мгновения пытаясь не задевать ее слишком грубо, но она вдруг разом прижалась к нему горячим обнаженным телом, и он сжал ее, не сдерживая силы, но она не противилась, напротив, ее движения и слова поощряли и принимали его силу.
— Ох, майн либер, какой ты горячий… хороший… — приговаривала она. — И какой ты еще молодой, господи… Тебе хорошо?
— Прикажи — я умру сейчас же… — прошептал он, не открывая глаз.
— Живи, живи, мой мальчик, живи и останься таким добрым до самого смертного часа.
Он осторожно поднял к глазам руку — был десятый час.
— Еще долго мы будем вместе, — блаженно сказал он и привлек Лизу к себе.
— Улыбнись, — приказала она тихим шепотом. Он раздвинул губы. Она провела пальцем по его зубам. — Ты зверь, — сказала она. — Молодой, клыкастый, но совсем не злой. Почему ты совсем не злой, а? Ой! Злой! — тихо вскрикнула она. Он обнял ее уверенно, властно, и она затихла, прижимаясь головой к его груди.
— Одиннадцать, — прошептала она, поднеся к глазам его тяжелую руку с часами. — Проклятое время! Оно летит, падает в пропасть, когда ты счастлив, и ковыляет, ползет, когда тебе плохо!
— Ничего не поделаешь, — вздохнул он.
— Ну уж нет! Теперь я не позволю, чтобы оно властвовало надо мной вместе с Робертом Ивановичем и всей его кодлой. — Лиза обняла его, зашептала: — Папа учил меня, что существует всего одна ценность, которая стоит дороже жизни, — это свобода. Свобода, а значит, и честь. Потом — жизнь. Дайте мне свободу или дайте смерть, — сказал один великий американец.
— Не слышал, но здорово…
— Смерть, а не Колыма, не голод, вши, команды, команды, команды!
— Успокойся, глупышка! — испугался он ее тона. — Ты невиновна, я знаю. Война кончилась, скоро обязательно будет амнистия. Сталин простит всех… Ведь Победа! Вот увидишь — еще полгода — и ты будешь на свободе. И мы встретимся, будем вместе всю жизнь.
— Дурачок… — прошептала она, глядя в его лицо. — Какой дурачок. Хочешь узнать о Сталине — поговори с теми, кто сейчас в ваших трюмах… Они-то знают цену ему.
— Небось фашисты! — поугрюмев, возразил он.
— Ладно, не надо, — проговорила она протрезвевшим голосом. — Давай-ка, майн либер, выпьем чаю еще — и тебе пора собираться на вахту. — Он попытался обнять ее, но Лиза решительно высвободилась. — Нет, нет, пожалуйста, мне ведь тоже пора.
Он принес ей высохшую теплую одежду, она переоделась, вновь заставив его отвернуться.
— Спасибо… Проводи меня. — Она сунула под полу своего нового, просторного полушубка завернутый в его тельняшку хлеб и перешагнула высокий комингс каюты.
— Мы еще увидимся, Лиза, — говорил он, прижимая к себе ее. — Вот увидишь, я с ним договорюсь. Это сейчас, а через несколько месяцев будет амнистия, поверь мне. Сталин не такой, вот увидишь… — Он довел ее до тамбучины. Гошка вышел из-под навеса, коротко кивнул ей на вход.
— Вниз! А ты, матрос, — на левый борт, — приказал он таким тоном, словно впервые в жизни видел Николая.
Капитан Берестов брился в ванной, когда в дверь каюты постучался и вошел боцман, впустив с палубы клубы холодного утреннего тумана. Смяв шапку, боцман прибил ладонью к макушке вздыбленные седые пряди.
— Извините, Анатолий Аркадьевич, еще и семи нет…
Раздетый до пояса Берестов остановился перед ним, держа в руках бритвенный станок. Одну щеку и подбородок у него покрывала мыльная пена.
— Без вводных, боцман, — сказал он тем подчеркнуто спокойным тоном, каким всегда говорил в напряженных и критических ситуациях, одна из которых, суля по всему, и привела к нему в столь неурочный час начальника палубной команды, подчиненного в обычное время старшему помощнику. — Вы докладывайте, а я буду слушать и приводить себя в порядок.
— Там они опять собрались на корме хоронить… Вчера вечером троих сбросили, теперь еще принесли троих… Каждого надо обмотать брезентом, я им раз дал, второй, но больше его у меня нет, а они говорят, боцман, готовь еще.
— Сколько же у них покойников? — спросил капитан.
— Я ж докладываю: вечером троих проводили, теперь — еще три. Обещают, дескать, есть еще на подходе. Боцман, шутят, не скупись на саваны.
— Это кто же конкретно шутит? Майский? — Капитан надел китель и, сев в свое кресло перед рабочим столом, кивнул боцману на диван у двери. — Присаживайтесь, Роман Романович, и спокойно, по порядку.
— Фельдшер Касумов у них за главного похоронщика, но и Майский при деле — шныряет, вынюхивает, как говорят, руками водит, несмотря, что весь зеленый, укачался.
— И в кают-компанию не пожаловал, хотя буфетчица приглашала, — отметил капитан. — Значит, погибает народ, Роман Романович?
— Жутко смотреть, Анатолий Аркадьевич. Конечно, преступники, а все же люди. Жалко их. Что им там дают — баланду раз в сутки да хлеб плесневелый.
— Так… — Капитан рассматривал свои ногти. Взглянул коротко на выжидательно напрягшегося боцмана. — А мы тоже хороши, Роман Романович. Не то чтобы людям помочь — брезента стало жалко для их последнего шага. Может, и гудки не давать, чтоб пар не тратить, а?
— Так я что, Анатолий Аркадьевич, я всегда пожалуйста, — помрачнел боцман. — Если б свое, а то оно ж не мое, сами с меня спросите. Что списано — я отдал, за остальное в Сан-Франциско валюту платили, вы знаете…
Капитан слушал, рассеянно поглядывая в темный иллюминатор, покрытый снаружи каплями брызг.
— Давайте так, Роман Романович. Люки трюмов у вас надежно задраены, остальной брезент, что есть — отдать до последнего сантиметра, если потребуется. Договорились?
— Есть выдать, — поднялся со своего места боцман. Лицо его от прихлынувшей крови приобрело кирпичный оттенок, отчего ярче стали выделяться на нем васильковые глаза.
— И вот еще что: передайте артельщику, пусть выдаст сахар для дополнительного питания зэкам. Сколько у них суточная норма?
— По-моему, пятнадцать грамм на брата.
— Выдать по пятьдесят грамм на сутки. И столько же муки и растительного жира, сколько там положено, исходя из нормы.
— Я-то передам, Анатолий Аркадьевич, — боцман покомкал в руках шапку. — Лишь бы мимо рта не получилось, товарищ капитан. У них там свои законы. Не охрана присвоит, так блатняки, сами знаете, аристократия, под себя гребут, отчего народ и мрет.
Капитан вскочил, зашагал по каюте. Остановился перед боцманом.
— Как всегда вы правы, Роман Романович. Значит, будем кипятить чай в нашем титане. Нагрузка дополнительная Верочке, подумайте, как ей помочь. И галушки тоже варить в наших котлах, выдавать в готовом виде, авось не обопьется «аристократия». А брезент выдавать по первому требованию.
В предрассветной темноте за борт упали и закружились в кильватерной струе три брезентовых кокона. Трижды всхлипнул судовой тифон. Роберт Иванович Майский, засунув руки в карманы, наблюдал за работой похоронной команды — четырьмя заключенными и Касумовым.
— Что они у вас не идут на дно?
— Груза слабоваты, товарищ начальник. Простите, гражданин начальник, какой же вы товарищ, — поправился один из зэков. — Кочегары говорят: мы на такое счастье, чтоб хоронить на конвейере, не рассчитывали, у нас, говорят, не фабрика смерти. — Зэк закашлялся, прижимая ко рту грязный шарф.
— Кто такой, статья? — повернулся к нему Майский.
— Тюрин, Михаил, пятьдесят восемь — десять, восемь лет, — проговорил сквозь кашель зэк. — Учитывая объективные обстоятельства, гражданин прокурор выдал мне явно лишнего, загнусь значительно раньше.
— Болтлив ты Тюрин, оттого и сел на баланду, — сурово сказал Майский.
— Так точно, гражданин начальник, — зэк поднял прищуренные ненавидящие глаза. — Столько схлопотал — и за что? За этот бы срок я мог хоть одно доброе дело для людей сделать.
— И какое же, интересуюсь? — подвинулся к нему Майский. Глаза их встретились.
— Испугался, гражданин начальник? Совершенно правильно догадался, — показал зубы заключенный. — За этот бы срок на воле пришил кого из ваших. Хотя бы одного такого, как ты, с земли счистил и то благо. Да поздно хватился — сил не осталось. Только и всего, что хоронить добрых людей.
— Гражданин начальник, у него скоротечная чахотка, — поспешно вмешался фельдшер, уловив настроение Майского. — Воздуха ему не хватает в твиндеке. Ну я и сказал: хочешь подышать — выходи хоронить.
— Ну, дыши пока дышится, — проговорил Майский, с заметным облегчением отступив от группы следящих за ним в упор людей. Мгновением раньше он готов был выхватить пистолет и сделать то, что, в принципе, ему было дозволено. Но он сдержался и был благодарен за это фельдшеру. Зачем осложнять положение из-за паршивого болтуна, которому, по всей видимости, итак пришел срок уйти из жизни?
Заключенные цепочкой втянулись в тамбучину, а Майский, морщась от приступа одолевающей его тошноты, торопливо прошагал в корму и, опершись одной рукой о флагшток, опростался над бурлящей внизу волной. Вытерся носовым платком, осмотрелся — не заметил ли кто? Охранник топтался в предутренних сумерках у трюма спиной к начальнику. Присмотревшись, Майский окликнул его.
— Эй, Сидоренко, поди сюда! — Охранник подбежал, вытянулся под сверлящим взглядом Майского. — Как дежурство, никаких происшествий?
— Навроде никаких, только, разве что… — охранник наклонился и понизил голос. — Гошка мудрит, к кому-то из судовых лазит да Лизку Потапову к матросам пускал, она в новом полушубке. Заработала! — поднял он палец.
— Та-ак, молодец. К матросам, говоришь, пускал? За бдительность хвалю, этого я так не оставлю. А фитиля слышал?
— Так точно, товарищ начальник этапа! — пристукнул сапогами автоматчик. — Да вы не обращайте внимания: собака лает — не кусает.
— Лишнее лает, — сказал Майский. — И вообще — опасен. Передай по смене, чтоб смотрели особо.
— Штоб не сбежал? — гыгыкнул охранник. — Понятно, товарищ начальник, у нас глаз — алмаз!
Единым махом очистив верхнюю палубу судна от временных и чуждых морю строений и предметов, шторм еще двое суток полоскал ее, выдраив до мокрого, сияющего блеска, после чего удовлетворенно затих. Успокоенно распласталось море, принимая на грудь старую букашку-судно с грузом соли в трюмах и стиснутыми в твиндеках невольниками. Исполняя приказ капитана, артельщик выдал для камбуза чай, сахар, муку и приправы. В титане с пяти утра бурлил кипяток, в кастрюлях и котле плескались кипящие галушки. Приставленный для помощи Верочке Константин Жуков легко снимал с плиты десятиведерный бак с кипящим варевом и походя щипал плотный бочок кок-пекаря.
— Девушка, разрешите выдавать?
— Позволяю, Константин Макарыч! — отвечала весело Верочка, помешивая в котле затируху. Жуков зычно командовал толпившимся у порога разносчикам.
— Первый твиндек, налетай! — и большим черпаком быстро опорожнял бак, тут же заливал новую порцию воды и приходил на помощь начальнице. Верочка, и в обычных-то рейсах загруженная работой, теперь, словно автомат, месила тесто, раскатывала и рубила все новые тысячи галушек, не проявляя при этом каких-либо признаков усталости, причем успевала переброситься шуткой с повеселевшим при ней могучим помощником.
Поистине добрая невеста прикатила в Приморье из сибирских краев, повезет тому, кто вовремя подойдет к ней, как говорится, с серьезными намерениями. Но может, ох, может и так случиться, что подрастратит горячая сибирячка по доброте и легкости характера свои великие женские силы, не заведет семью, не обретет семьи и дома на берегу. И хорошо еще, если будет у нее где-то воспитываться нечаянно нажитый сынок. А то и вовсе одинокой сойдет она в свой прощальный час с парохода.
Освободившись от раздачи, присоединялся к Верочке и Жуков. Вместе они быстро заготавливали новую гору галушек, высыпали ее в подоспевший кипяток, и все начиналось сначала. У порога не уменьшалась толпа погромыхивающих пустыми кастрюлями разносчиков из второго, потом третьего и четвертого твиндеков. Пока шла наверху раздача, внизу, в закупоренных стальных отсеках, в грязи и духоте шла дележка принесенной пищи. Обжигаясь, торопились насытиться те, кто мог подойти раз и другой за добавкой. Потом разносили тем, кто не вставал: «Ешьте, братцы, моряки выручили, всем хватит!» Пищу готовили с утра и до вечера, и непрерывным было хождение по верхней палубе. И не только из-за еды. Ввиду отсутствия смытых штормом туалетов, заключенных более не выводили на оправку. Парашники то и дело выносили на палубу заполненные емкости и опорожняли их за борт. Стаи чаек, пристроившиеся за кормой судна в ожидании помоев с камбуза, возмущенно шарахались от расплывающегося за бортом грязного пятна.
Николай Аминов, выйдя перед обедом на ботдек, помахал работавшей внизу Лизе.
— Привет работникам пищеблока!
Она выпрямилась, заправляя выбившиеся из-под платка белокурые пряди.
— Привет морякам! — произнесла она это каким-то погасшим и недобрым голосом и тут же отвернулась, помешивая деревянной скалкой в котле. «Что-то случилось», — понял он. Гошка прохаживался взад-вперед по кормовой палубе, и на мрачном, против обыкновения, лице его было написано отвращение ко всему окружающему. А причина подавленного настроения и у охранника, и у заключенной имела один источник: рано утром сначала с Гошкой, а после с Лизой разговаривал начальник этапа и предупредил их, что, если слухи об их поведении подтвердятся, он даже представить себе не может всей тяжести последствий. Гошка и Лиза вполне четко представляли эти последствия, и радоваться штилю на море, чайкам в небе и вообще жизни у них не было никаких оснований. Лиза же была еще в полном отчаянии от беспокойства за Николая. Майский ее так прямо и предупредил:
— И хахалю твоему тоже срок обломится. Статью подберем, чтоб другим неповадно было. Ишь ты, любви ему дешевой захотелось…
«Хоть бы еще разок обернулась», — подумал Николай, не имеющий никакого представления о том, что происходит в душе Лизы. Он не отрывал взгляда от девушки. Новый черный полушубок она подпоясала тесьмой, рукава завернула и выглядела совсем как вольная. «Ничего, родная, в этом полушубке ты перезимуешь на проклятой Колыме, а весной будет амнистия и все образуется, — думал он. — Только оглянись, обернись, красивая, умная, любимая», — заклинал он ее. И чудо свершилось: она будто услышала его заклинания, обернулась, поглядела на него долгим тоскливо-печальным взглядом, а потом вдруг грустно улыбнулась и подняла соединенные вместе большой и указательный пальцы. Он понял: «Час ноль». Сулил этот знак не встречу, не счастье, а беду, и Николай обомлел, пораженный тяжелым предчувствием.
В двух десятках метров от кухни из тамбучины показались парашники. Все те же седобородый заключенный в пенсне и его опухший товарищ волокли по железу к борту пятиведерную загаженную емкость. Она ткнулась о клепаный стык, и из нее плеснуло на палубу. Старики испуганно остановились. Гошка прикрикнул:
— Чего стали, интэ-лли-хэнция, вываливай, после вылижете!
Вышел на палубу Роберт Иванович Майский, бледный от все еще донимавшей его морской болезни. Бесстрастно наблюдал он, как старики с усилием перевернули посудину за борт. Потом седобородый взял метлу и кое-как поширкал по палубе, оставив сырые полосы на крашенном суриком железе. Убрав метлу на место, старик обратился к глядевшему на него начальнику этапа.
— Гражданин начальник, разрешите обратиться с жалобой? — Лицо его было туго обтянуто сухой кожей, глаза под стеклами пенсне провалились, сухие черные губы не закрывали выступавших зубов с обнажившимися корнями. Голос старика еле шелестел, Майскому пришлось шагнуть ближе, чтобы расслышать его.
— Разрешаю, — сказал он и обернулся к подошедшему Касумову. — Вы тоже берите на заметку, чтобы мне не повторять.
— Гражданин начальник, там внизу совершенно нечем дышать… Понимаете, не все пользуются этим приспособлением, — старик показал на парашу. — Ходят прямо на палубу или на соль. И там уже не все живы, их надо хоронить.
— Врач был у вас утром, ничего не сказал. В чем дело? — спросил Майский Касумова.
— Я докладывал, гражданин начальник, вы сказали, учтете.
— Да, помню. Ну, мы учли, насколько здесь в море, возможно. Прибавили норму, утром был выдан сладкий, без меры, чай, сейчас, как видите, раздают галушки, спасибо морякам, но больше, Иосиф Григорьевич, — видите, я помню ваше имя, — больше я ничего не могу для вас сделать.
— Гражданин начальник, там задыхаются в полном смысле, — сказал старик. — Нельзя ли открыть люки?
— Капитан уже говорил мне об этом, я считаю, это нецелесообразным, — отрезал Майский. — Преступники должны быть заперты. Это закон.
— Но мы же умрем, как вы не поймете?! — воскликнул старик, протянув к Майскому иссохшую ладонь, словно просил подаяния.
— Все мы рано или поздно умрем. Каждому — свое, как говорили ваши недавние друзья, Иосиф Григорьевич.
— Я никогда не был фашистом! — крикнул старик. — Слышите, гражданин начальник?! Я только врач! Был в плену, работал в госпитале у них, но я только врач! — Он еще шумел, доказывал, но Роберт Иванович уже отвернулся и направился к ботдеку, на ходу заговорив о чем-то с Касумовым.
— Эй, ты, собака! — вдруг крикнул ему вслед старик внезапно окрепшим голосом. — Подавись же ты, пес, нашими костями и кровью! И будь проклят вовеки веков сам ты и весь твой род! — Круто повернувшись, он побежал к борту, перешагнул через цепь ограждения и прыгнул в воду.
— Я с тобой, Иосиф! — глухо крикнул второй фитиль и шагнул следом за стариком.
Лицо Роберта Ивановича не изменилось.
— Касумов, — сказал он. — Подбери людей и пройдись по трюмам. Всех покойников — наверх — и в воду, без всяких церемоний. Как эти двое.
— Слушаю, — сказал фельдшер.
— Так будет лучше, без церемоний. Вся эта сволочь их не заслужила. — Майский шагнул к трапу на ботдек.
Николай увидел, как при последних словах Майского вдруг перекосилось, стало некрасивым лицо Лизы. Она резко наклонилась, схватила топор, которым только что колола чурки, и бросилась вслед за начальником этапа, на ходу закричав не своим, бешеным, голосом:
— Сам ты сволочь, людоед проклятый! На, получи!
Майский только успел оглянуться на ее голос — и топор опустился ему на голову. Начальник этапа покачнулся, словно от безмерного изумления вытаращил глаза и, хватаясь за порчну трапа, стал оседать на подкосившихся ногах. А Лиза, продолжая что-то кричать, подняла и снова опустила топор. И тут прогремела автоматная очередь. Подскочивший с опозданием Гошка резанул пулями по новому черному полушубку. Лиза забилась в ногах у Майского. Шапка и очки свалились с головы начальника этапа. Кашляя и шевеля красными толстыми губами, он шарил перед собой руками, словно пытался за что-то ухватиться.
Еще не осознав непоправимости случившегося, Николай сбежал по трапу и, ухватив Лизу за худые даже под шубой плечи, кричал:
— Девочка, девочка моя, Лиза, встань…
— Назад! — крикнул ему Гошка. — Назад! Ты еще скажешь мне спасибо, тюха, — добавил он, глядя в бессмысленно застывшие глаза Николая.
На ботдеке появились выбежавший из каюты капитан и вахтенный помощник Леонид Сергеевич. С левого борта, загребая рукавицами, как веслами байдарки, спешил боцман. Николай опустил Лизу и выпрямился, с ненавистью глядя на охранника.
— Что ты наделал, гад?! — Он шагнул к Гошке, выставив перед собой окрашенные кровью руки.
— Стой, застрелю! — Гошка отступил назад, подняв автомат на уровень груди Николая.
— Не стрелять! Аминов, остановись! — закричал, впервые сорвавшись, капитан. Но Николай уже бросился на охранника, свалил его, ухватился обеими руками за толстую, мускулистую шею. Автомат покатился по палубе к борту. Подскочившие боцман и Леонид Сергеевич оторвали Николая от Гошки, потащили его в коридор, держа за руки. Гошка встал, растирая руками испачканное в крови горло, подобрал свой автомат и огляделся. Из коридора с сумкой медикаментов пулей вылетел Касумов. Он склонился над Майским, все еще ловившим в воздухе невидимую опору. Фельдшер быстро и умело, как умеют это делать только фронтовые медики, обмотал вмиг намокающими бинтами голову начальника. Кивком подозвал Гошку, вдвоем они усадили Майского спиной к трапу.
— Как она? — спросил подошедший к ним капитан.
Фельдшер поднял на него черные глаза.
— Живой будет, гражданин начальник.
— А девушка, девушка как? Я про нее спрашиваю.
Касумов перевернул Лизу, рука ее стукнулась о палубу, серые глаза смотрели в небо. Фельдшер стянул с головы шапку, обнажили головы все, кто был на ботдеке и палубе, кроме Гошки, все еще державшего автомат наизготовку.
Из коридора с красными глазами вышел Николай. Снял шапку, опустился на колени возле Лизы.
— Аминов, на руль, — строго сказал Леонид Сергеевич и пошел вслед за матросом на мостик, на ходу натягивая шапку.
Лизу завернули в кусок нового брезента, отрезанного Романом Романовичем. Трижды простонал тифон, провожая девушку в глубины Охотского моря.
Похоронщики качнули и сбросили за борт еще несколько трупов. И для них простонал тифон, вопреки воле начальника, желавшего хоронить без церемоний. А сам начальник в этот момент лежал в госпитальной каюте, и Касумов кормил его с ложечки.
Прошли еще сутки — и борта «Полежаева» заскрежетали о льды. Пароход приближался к цели назначения. Унылые, безлесые холмы, покрытые снегом, уходили от бухты в глубь ледяного материка. Пароход ошвартовался у деревянного причала с тремя кранами, матросы открыли трюма — оттуда в поднебесье ударили столбы густого зловония. Подогнали крытые брезентом «студебеккеры», к борту подкатили трапы, и грязные, источающие гнилостный запах человеческие ручьи потекли из трюмов на причал. Роберта Ивановича Майского приняла подкатившая к парадному трапу санитарная машина.
На борт поднялась группа представителей Дальлага, осмотрела вскрытые трюма, поморщилась, обнаружив на грузе соли полуметровый слой того, что не попало в параши. Сухопарый усатый полковник в сером коверкотовом кителе и мягких белых бурках объявил благодарность капитану за своевременную доставку ценного груза.
Капитан принял представителей Дальлага, как полагается по морскому обычаю, крепким чаем. За беседой напомнил:
— На корме судна сложены под брезентом покойники. Вы их видели? У меня есть список.
— Напрасно вы их оставили, — сказал полковник. — Теперь надо просить специальную машину, куда-то их везти, долбить вечную мерзлоту. Есть же обычай, морской… Не вы первый с этим грузом, капитаны мне рассказывали…
— Пока мы были на чистой воде, мы соблюдали обычай, но не выбрасывать же их на лед.
— Дело сделано, еще раз благодарим, товарищ капитан, и разрешите откланяться, — улыбаясь в усы, полковник надевал длинную шинель. За ним стали одеваться и остальные.
— Да, а что же с солью? — обеспокоенно спросил капитан. — Вы же видели, что там делается. Как бы заразу не завезти…
— Ничего страшного, — полковник застегнул верхний крючок шинели. — Верхний слой счистим, остальное за милую душу пойдет на трассу. Бациллы в соли не размножаются. Мы же с вами грамотные люди, капитан.