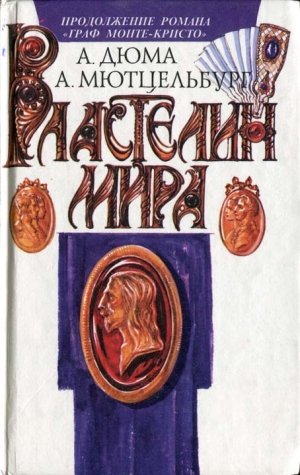
НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ
Адольф Мютцельбург родился во Франкфурте-на-Одере в 1831 году. С детских лет он был уверен, что станет писателем. Ученье давалось ему легко. Он много и жадно читал, пробовал свои силы в сочинительстве. Еще в тринадцатилетнем возрасте он послал в одну из газет два своих рассказа и был крайне удивлен, когда ему вернули написанное. Познакомившись с творчеством Александра Дюма, Адольф сделался его страстным почитателем. Вскоре он переехал в Берлин, решив посвятить себя литературной деятельности. Из-под его пера один за другим начинают выходить популярные исторические романы. Особое место в его творчестве занимают продолжения «Графа Монте-Кристо» — особо полюбившегося ему романа его литературного кумира.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. ДОН ЛОТАРИО И ЛОРД ХОУП
— Еще один прыжок, мой славный Сокол, и мы на той стороне! А там лети себе по равнине, как стрела индейца. Ну, смелее!
Произнося эти слова, молодой всадник ободряюще похлопывал правой рукой по холке своей лошади, поскольку в левой держал поводья.
Это был, впрочем, рискованный шаг, и Сокол, казалось, не осмеливается преодолеть зияющую у него под ногами расщелину в скалах. Он приготовился было к прыжку, но потом, испугавшись, вновь заупрямился.
— Что это с тобой? Давно не пробовал шпор? — сердито воскликнул молодой человек, не задумываясь о том, что неудачный прыжок лошади стоил бы ему жизни, ибо расщелина достигала в глубину более тридцати футов. — Сейчас я тебе напомню!
С этими словами он вонзил длинные испанские шпоры в брюхо лошади, которая от боли встала на дыбы, резко прянула в сторону, словно намереваясь сбросить всадника, но потом одним мощным прыжком перенесла его через казавшееся непреодолимым препятствие.
Очутившись на противоположной стороне расщелины, Сокол остановился, дрожа всем телом и пугливо всхрапывая, он будто сознавал, что избежал большой опасности. А всадник звонко расхохотался.
— Не говорил ли я тебе, глупое животное? — воскликнул он, словно лошадь могла его понять. — Кратчайший путь — самый лучший, пусть даже он лежит через сотню таких расщелин!
Отважный всадник, произносивший эти слова, был статным молодым человеком немногим более двадцати лет от роду, истинным испанцем с головы до пят, таких же чистых кровей, как и его конь. Из-под соломенной шляпы выбивались вьющиеся каштановые волосы, над орлиным носом сверкали темные глаза, а усы были закручены столь тщательно, словно дон Лотарио ехал на лошади по Пуэрта-дель-Соль — самой аристократической улице Мадрида, — а не преодолевал скалы Верхней Калифорнии, которая в описываемое нами время — в начале сороковых годов XIX века — еще принадлежала Мексиканской республике.
— Вперед, — крикнул дон Лотарио, — но не так быстро, иначе мы, чего доброго, еще свернем себе шею!
Лошади и всаднику предстояло спуститься в долину, преодолевая выступы скал и хаотичные нагромождения камней. Ни малейшего намека на тропу не было, и любой менее отчаянный человек натерпелся бы смертельного страху, решившись на подобное предприятие даже пешком. Лишь человек такой безрассудной храбрости, как дон Лотарио, мог доверить свою жизнь лошади: не заботясь о том, куда Сокол ставит копыта, наш герой смотрел в долину. Дон Лотарио как раз собирался замурлыкать какую-то песенку, но тут лошадь снова остановилась.
— Каррамба, Сокол! — вскричал он. — Если ты так пуглив, нам то и дело придется ссориться. Что с тобой? Почему ты ловишь ноздрями ветер? Ах, вот оно что! На этот раз ты прав.
С этими словами он бросил поводья, и руки его метнулись к кобурам, притороченным по обе стороны седла. Через мгновение в каждой оказалось по двуствольному пистолету.
Предосторожность была, похоже, не напрасной. Перед нашим всадником как из-под земли, словно горные духи, выросли пять темных фигур. Это были индейцы, уроженцы здешних мест. Двое из них были вооружены копьями и луками, двое — только ножами, а у пятого за плечами виднелось старое охотничье ружье.
— Ни шагу дальше! — крикнул дон Лотарио, когда этот последний приблизился. — Что вам нужно? Ни шагу дальше, говорю вам! Иначе четырех из вас уложу из пистолетов, а последнему хватит и моего ножа!
Однако прежде, чем он успел привести свою угрозу в исполнение, краснокожие вновь исчезли, то ли испугавшись, то ли вообще не собираясь нападать на бледнолицего. Еще некоторое время дон Лотарио оставался на прежнем месте: ему хотелось удостовериться, что индейцы в самом деле удалились. Вскоре он вновь заметил их поодаль на гребне скалы — они спешили в противоположном направлении.
— На этот раз я сэкономил порох! — невозмутимо заметил испанец, убирая пистолеты в кобуру. — Может быть, краснокожие охотились за лордом; в таком случае я смогу предостеречь его, и в знак благодарности он будет более откровенен со мной. Вперед, Сокол, теперь ты достаточно отдохнул! Через десять минут мы должны быть на горе Желаний.
Лошадь, осторожно выбирая, куда поставить копыта, продолжила спуск по скалам и через несколько минут благополучно добралась до поросшей зеленой травою долины. Испанец потрепал лошадь по холке, щелкнул языком, и она помчалась, в полной мере оправдывая свою кличку, причем почти так же бесшумно, как летит по воздуху сокол, ибо мягкий зеленый покров скрадывал топот копыт.
Не прошло и десяти минут после встречи дона Лотарио с индейцами, как он уже миновал мост, недавно перекинутый через небольшую речку с кристально чистой водой, и остановился у подножия горы, которую местные жители называли горой Желаний.
Он посмотрел вверх и покачал головой. Почему? Непосвященному было бы нелегко узнать причину. Но тот, кто знал, что всего полгода назад на этой горе не было ничего, кроме нескольких жалких пихт, кривых кедров и кустарника, и обнаружил теперь деревянные, а кое-где даже каменные постройки, венчавшие ее вершину, — тот не удержался бы и тоже покачал головой. Эти постройки поднялись как по волшебству. Вершина горы стала совершенно неузнаваемой. Одни каменные глыбы были взорваны, другие соединены друг с другом кирпичной кладкой, так что вершину горы окружал теперь прочный каменный пояс — стена, образующая внушительную линию укреплений, амбразуры которой свидетельствовали о том, что она предназначена именно для обороны.
От подножия горы вверх змеилась широкая дорога, сооруженная по всем правилам строительного искусства. И все это лорд Хоуп сделал с горсткой людей, так что дон Лотарио имел все основания покачать головой.
Он пустил лошадь рысью по удобной дороге. Очутившись наверху, он и там обнаружил перемены: простую решетку, преграждавшую вход, сменили прочные каменные ворота с мощными дубовыми створками.
— Кто идет? — услышал дон Лотарио голос караульного, донесшийся через маленькое окошко в воротах.
— Дон Лотарио, — ответил молодой человек. — Доложите милорду. Он принимает?
Ответа не последовало, однако спустя несколько минут дон Лотарио уже въезжал в открытые ворота цитадели.
Крепкий малый в матросском костюме принял у него лошадь, и испанец направился к каменному зданию, фасад которого выделялся строгой красотой. Перед тем как войти, он еще раз в восхищении остановился, бросив взгляд на свободное пространство между домами. Там были сложены бочки, балки, хозяйственная и мелкая домашняя утварь, стояли ящики и сундуки, тачки и повозки, громоздились уложенные рядами тюки. Над всем этим был растянут брезентовый навес для защиты от непогоды. Кругом озабоченно сновали мужчины в легких костюмах, напоминающих матросские. Между ними, на большом ящике, стоял коренастый крепыш с решительным лицом, отдававший короткие команды и временами поглядывавший на окно большого каменного дома. Вероятно, хотел удостовериться, что действует как надо.
В главном здании дона Лотарио ожидали новые сюрпризы. Полы были устланы коврами, в нишах красовались алебастровые вазы, у стен стояли мраморные статуи, лестничные марши были украшены цветочными гирляндами, в дверях блестели великолепные замки.
— Кажется, дону Лотарио угодно, чтобы его встречали на лестнице! — услышал он сверху звучный голос. — Простите, я не знаю обычаев вашей страны.
Испанец непроизвольно снял шляпу и отвесил глубокий поклон. Он стоял перед хозяином дома, создателем этого дворца, настоящим волшебником.
Лорд Хоуп был выше среднего роста, широкоплечий, с могучей грудной клеткой. У него были черные волосы, небольшая бородка, тонкое, очень бледное лицо, на котором выделялись темные глаза. Никто не заподозрил бы в нем англичанина. Однако это был настоящий аристократ. Глядя на его непринужденную позу, на ту легкость, с какой он приветствовал гостя, на его мимолетную любезную улыбку, надменный и своенравный испанец снова поймал себя на мысли, что перед ним необыкновенный человек, достойный восхищения.
— Милорд, мне кажется, я грежу! — сказал он в замешательстве. — Эта роскошь, это великолепие! А всего две недели назад я ничего подобного не видел. Возможно ли такое?
С той же едва уловимой улыбкой, придававшей его бледному лицу своеобразное, с трудом поддающееся разгадке выражение, лорд вместо ответа спросил:
— Разве вы собираетесь оставаться в коридоре, дон Лотарио?
Испанец, смутившись, поднялся по небольшой лестнице и вошел в распахнутую дверь. Это была всего лишь передняя, но юноше она показалась вполне достойной того, чтобы поместить в ней члена королевской фамилии. Потом он прошел в следующую дверь. Повсюду его встречала та же изысканная роскошь: прекрасные ковры, великолепные обои, картины на стенах, изящная мебель. При этом его не покидало ощущение уюта, удобства, гармонии — на молодого испанца увиденное произвело неизгладимое впечатление. Он пробормотал несколько восхищенных слов и, опустившись в кресло, продолжал осматриваться широко открытыми глазами. Между тем лорд подошел к окну и сделал рукой какой-то знак — должно быть, отдал управляющему очередное распоряжение. Когда он вновь обернулся к гостю, тот воскликнул:
— Скажите же мне, ради Бога, как вам удалось доставить сюда все это? Наверное, из Нью-Йорка, ведь даже в Новом Орлеане не найти таких сокровищ?
— Друг мой, — небрежно ответил лорд, — мне не по душе американский вкус. Эти вещи попали сюда из разных мест. Ковры — из Парижа, мебель — оттуда же, обои — из Лондона, как и этот камин: зимой, я думаю, он может понадобиться. Что касается картин и статуй, часть из них принадлежала мне и раньше.
— Из Лондона! Из Парижа! — Испанец покачал головой. — Но ведь всего этого на одном корабле за один рейс, должно быть, не доставишь! Как вам удалось разрешить такую задачу? И привести все в порядок за каких-нибудь две недели! Невероятно!
Лорд тем временем подал своему управляющему очередной знак.
— Вы хотите сказать, что здесь не обойтись без корабля? Вы правы! — ответил он. — Вон там стоит мой пароход.
Испанец подошел к окну, выходящему на запад, откуда открывалась взору широкая панорама местности. Виднелись вершины простирающихся до самого моря скал, то тут, то там между скалами можно было разглядеть и синеву далекого моря. На расстоянии приблизительно в тысячу шагов от подножия горы Желаний скалы прорезал узкий, по ширине едва ли превышающий реку, залив, напоминающий шхеры у побережья Норвегии. В этом заливе стояла на якоре легкая парусная яхта, которая своими прекрасными очертаниями еще раньше привела дона Лотарио в восторг. Теперь рядом с ней покачивался на волнах небольшой пароход.
— Это пароход? — воскликнул испанец. — И он принадлежит вам?
— Разумеется, — ответил лорд с обычной невозмутимостью. — Что же в этом удивительного? Разве в Нью-Йорке нет людей, владеющих пятью, шестью такими пароходами, а бывает — и бо́льшим их числом?
— Конечно, конечно, — выдавил испанец, все еще не придя в себя от удивления. — Но это коммерсанты, которые извлекают из своих судов прибыль. Тот, кто может построить нечто подобное для собственного удовольствия, должен быть богатым, очень богатым человеком.
— Возможно, — вскользь заметил лорд Хоуп. — Я и в самом деле не знаю, во сколько обошелся этот пароход.
— Я приехал, милорд, — продолжал испанец, — просить вас посетить и мою гасиенду. Но я робею. Что может вам предложить мое скромное жилище?
— Не говорите так, не исключено, что я узнаю там кое-что новое для себя, — спокойно ответил лорд. — Правда, пока я еще слишком занят, чтобы принять ваше приглашение. Однако, прошу вас, — добавил он, указывая на столик с изысканной легкой закуской и прохладительными напитками, который только что бесшумно внес негр-слуга. — Вы все еще рассматриваете пароход? — с улыбкой поинтересовался лорд у своего гостя.
— Еще бы! Но цвета на его флаге — это не английские цвета, — удивился дон Лотарио. — Белый, красный, зеленый… это…
— …цвета итальянского флага, которые я предпочитаю английским и к тому же могу носить с полным правом, поскольку имею владения в Италии и являюсь гражданином Тосканы, — закончил начатую им фразу лорд. — Впрочем, совершенно не имеет значения, какие цвета на твоем флаге, главное — чтобы они были настоящими.
— А вы не боитесь ставить эти прекрасные суда на якорь так далеко от своей резиденции?
— А чего же мне бояться?
— О, вы еще не знаете эту страну! — воскликнул испанец, явно обрадованный, что сможет наконец дать своему хозяину добрый совет. — Мы живем здесь при почти полном отсутствии законов. Слабая рука мексиканского правительства не в силах дотянуться до этих мест.
— Прекрасно, именно это обстоятельство меня и привлекает, — сказал лорд с улыбкой.
— Как ни приятно такое положение, в некоторых случаях оно может обернуться неприятностями, — продолжал дон Лотарио. — Мои соотечественники, а тем более североамериканцы немедленно попытались бы похитить у вас эти великолепные суда, и я боюсь, что вы, проснувшись однажды утром, обнаружите пустую якорную стоянку. Ведь она довольно далеко от горы Желаний. Похитители могут выйти в море раньше, чем вы обнаружите пропажу.
— Не исключено! Впрочем, и на этот случай приняты необходимые меры, — усмехнулся лорд Хоуп.
— Наверное, вы держите на пароходе многочисленную команду? — предположил испанец.
— Отнюдь нет. На судне всего шесть человек. Этого вполне достаточно. А если кто-то действительно осмелится посягнуть на мою собственность, я знаю еще одно средство, чтобы обеспечить ее безопасность. Вы что-нибудь слышали об электрическом телеграфе?
— Кажется, слышал, — ответил испанец, несколько смутившись. — Если не ошибаюсь, это новое изобретение[1].
— Совершенно новое, — подтвердил лорд. — Я провел здесь первый опыт, который закончился к моему полному удовлетворению. Как только на судне появляется посторонний человек, я тотчас узнаю об этом. Вдобавок это изобретение позволяет мне взорвать пароход, если возникнет угроза, что он попадет в чужие руки.
— Вы и в самом деле предусмотрели все, — растерянно заметил молодой человек. — Однако, милорд, позвольте обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Остерегайтесь индейцев — мне кажется, в самое ближайшее время они попытаются напасть на вас.
— С тех пор как мне представился случай оказать одному из вождей краснокожих важную услугу, я уверен, что могу не опасаться местных индейцев, — невозмутимо сказал лорд.
— На вашем месте я бы не слишком полагался на это, — воскликнул дон Лотарио. — Краснокожие — хитрые и коварные бестии.
— Благодарю вас, дон Лотарио, — ответил лорд с такой холодностью, что юный испанец от досады закусил губу.
— А вы не пьете этого вина? — помолчав, спросил он у хозяина.
— Нет, херес мне не по вкусу, впрочем, я вообще почти не употребляю вина, — заметил лорд. — Однако пусть вас это не смущает. Я полагаю, вино неплохое. Мой управляющий знает в нем толк, да и должен разбираться в винах, поскольку пьет больше меня. Как вы находите это вино?
— Превосходное, — ответил испанец, который, казалось, повеселел оттого, что разговор перешел на другую тему. Он облегченно вздохнул, и щеки его окрасил легкий румянец. — Так я могу надеяться, милорд, что в ближайшее время вы нанесете мне ответный визит?
— Помнится, мы уже говорили об этом, — заметил лорд.
— Да, правда! — спохватился дон Лотарио, несколько обескураженный своим новым промахом. — Кстати, милорд, простите меня за бестактность, но, когда я осматриваю эту комнату, мне представляется почти невероятным, чтобы только мужская рука была способна обставить ее с таким вкусом.
— Вы полагаете, что для этого необходима помощь женщины? — равнодушно осведомился лорд Хоуп.
— Да, мне так кажется. А между тем я еще ни одной…
— Разве мой управляющий не может быть женат, — с улыбкой прервал лорд, прежде чем молодой человек успел закончить фразу. — Не угодно ли вам осмотреть и остальные комнаты?
— С величайшим удовольствием, — согласился дон Лотарио, вынужденный волей-неволей оставить затронутую тему.
Лорд Хоуп провел гостя через анфиладу комнат. Испанца вновь и вновь поражало великолепие обстановки, тонкий вкус, с каким были подобраны отдельные предметы. Наконец они остановились перед металлической винтовой лестницей.
— Не хотите взглянуть на мою домашнюю обсерваторию? — спросил лорд. — Она еще не вполне приведена в порядок — инструменты подняли туда только вчера.
— С удовольствием! Мне еще не приходилось видеть ни одной обсерватории! — восхищенно ответил испанец.
Лорд Хоуп поднялся по лестнице первым. Четырехугольное сооружение с широкими окнами в мавританском стиле венчало каменную постройку и было отведено под обсерваторию. Прекрасные блестящие инструменты, составлявшие оборудование обсерватории, вызвали у испанца, разбиравшегося в астрономии немногим лучше, чем в китайской конституции, возглас удивления. Однако он был любознателен, а поскольку самому лорду, видимо, доставляло удовольствие объяснять юноше назначение астрономических приборов (по крайней мере судя по его готовности удовлетворить любопытство дона Лотарио), ближайшие полчаса были посвящены интенсивному обучению.
— Довольно! — воскликнул наконец дон Лотарио. — У меня голова идет кругом. Боже мой, оказывается, я полный невежда. А вы, человек, который во много раз богаче меня, знаете все это!
— Так, по-вашему, богатство в известной степени исключает образованность? — спросил лорд.
— Вовсе нет, — ответил дон Лотарио. — Но, к сожалению, нам обычно внушают, что состоятельным людям нет нужды много учиться.
— Такие мысли могут внушать вам только глупцы! — вскричал лорд. — Кстати, где вы учились?
— Я? Вначале с домашним учителем, потом два года в Мехико и полгода в Новом Орлеане. Вот и все!
— Вам следовало бы отправиться на несколько лет в Лондон и в Париж, — заметил лорд.
— Да, не мешало бы, — со вздохом ответил дон Лотарио. — Но теперь уже слишком поздно.
— Слишком поздно? Сколько же вам лет? — спросил лорд Хоуп.
— Двадцать один год.
— И это, вы считаете, слишком поздно? — воскликнул лорд. — Дорогой друг, в ваши годы я был много невежественнее вас, но понимал, что впереди вся жизнь, и учился.
Это было резкое наставление, и испанец помрачнел, опустив глаза. Однако он сознавал правоту лорда, а от такого человека не стыдно было и выслушать небольшую нотацию.
— Вы даете мне добрый совет, милорд! Но, к сожалению, я уже не смогу воспользоваться им, — вздохнул он.
— Отчего же? Разве вы прикованы к своей гасиенде? Или без вас не смогут обойтись?
— Дело не в этом, я влюблен и вскоре женюсь! — покраснев от смущения, сознался дон Лотарио.
Смущение ли молодого испанца или румянец, окрасивший его лицо, послужили тому причиной — неизвестно, но только взгляд обычно холодного и равнодушного лорда вдруг потеплел, сделался более участливым.
— Вам всего двадцать один год, и вы уже решились вступить в брак? Здесь, правда, женятся рано.
— Решился, милорд. Вы позволите мне задать вам один вопрос? — неуверенно произнес дон Лотарио.
— Говорите же! — сказал лорд, на этот раз мягче и сердечнее.
— Милорд, я испытываю к вам столь большое доверие, я так глубоко убежден, что вы знаете жизнь, что хотел бы посоветоваться о своей женитьбе именно с вами, узнать именно ваше мнение. Дело не совсем обычное, и я все еще в нерешительности. Я знаю, что еще очень молод, а с тех пор, как увидел вас, почувствовал себя мальчишкой настолько же глупым, насколько умным считал себя раньше. Могу я поговорить об этом с вами, милорд?
— Разумеется, мой друг. Но не сейчас. Поразмыслите еще раз сами, а потом, когда я наведаюсь на вашу гасиенду, мы это обсудим. Скажу вам только одно. Когда мне было двадцать один год, я тоже собирался жениться. В то время мои желания не исполнились, и это сделало меня бесконечно несчастным. И тем не менее, если бы священник благословил тогда меня и мою возлюбленную, я бы не стал тем, кто я есть.
— И вы удовлетворены, что ваша женитьба тогда расстроилась? — почти с испугом спросил дон Лотарио.
— Не знаю, — коротко ответил лорд, и внезапная перемена в его лице свидетельствовала о том, что он предпочел бы не говорить на эту тему. — Вы еще не обратили внимания на прекрасный вид, который открывается отсюда.
— Верно, вид замечательный! — согласился молодой испанец, выглянув в широкое окно. — И ваши люди прекрасно поработали. Душа радуется, глядя на все это! Вон там отчетливо видны поля. Вероятно, рис? А это — хлеба! Что я вижу? У вас даже возделывается виноград! Прекрасная мысль. Не сомневаюсь, года через два вся долина будет цветущим садом. Вы успели уже столько, сколько другому и за десять лет не сделать. Но что это?
— Вы имеете в виду большое сооружение внизу? — спросил, улыбаясь, лорд. — Попробуйте-ка догадаться!
— Не собираетесь ли вы заложить рудник?
— Я предполагал, что вы подумаете именно об этом, — ответил лорд. — Но вы ошибаетесь.
— В таком случае это можно было бы принять за колодец; но воды у нас в избытке. На той стороне есть река, здесь недалеко протекает ручей с чистейшей водой.
— А что бы вы сказали, если бы мне захотелось иметь горячую воду?
— О, это совсем другое дело! — воскликнул испанец, не скрывая удивления. — Вы полагаете, что обнаружили горячий источник?
— Надеюсь, — ответил лорд. — Хотя, возможно, я и ошибаюсь: скважина уже довольно глубока, а мои ожидания все еще не оправдались. Впрочем, некоторые признаки позволяют думать, что будет найден горячий источник, каких в этой местности открыто уже немало.
— А для чего вам нужен такой источник? — заинтересовался дон Лотарио.
— О, лично мне он ни к чему, — ответил лорд. — Если поиски увенчаются успехом, это станет благом для страждущего человечества. Я отдам его больным безвозмездно.
— Браво! — вскричал дон Лотарио. — Но откуда вы берете древесину для возведения лесов? На сорок миль в округе не отыщется и пяти бревен, чтобы напилить такие толстые балки. Это опять-таки одно из ваших чудес, причем чудо не из последних.
— Пожалуй, вы правы, — улыбнулся лорд. — Недостаток древесины — неприятная особенность здешних мест. Но я легко выхожу из затруднительного положения, ведь у меня есть пароход. Как только он прибыл сюда, я послал его вверх по реке Орегон до американской пристани, где для меня уже были приготовлены два плота. Пароходу оставалось только отбуксировать плоты вниз по течению и вдоль побережья.
— Вы — настоящий чародей или состоите в сговоре с добрыми духами!
— Может быть, может быть… Только мои добрые духи — смекалка, сила и труд. Но об этом мы поговорим подробнее тоже в другой раз. Надеюсь, вы окажете мне честь пообедать со мной?
— О, благодарю! — обрадовался испанец. — В котором часу вы, однако, обедаете?
— Когда вам будет угодно, — любезно сказал лорд Хоуп. — Вам предстоит далекий путь, не так ли?
— Целых два часа, если ехать через горы, — ответил Лотарио. — Однако на такую поездку я могу отважиться только днем. Ночью мне требуется на это почти четыре часа, и это, можете мне поверить, довольно скучное времяпрепровождение. А нельзя ли мне прежде взглянуть разок на скважину или на пароход?
— Разумеется, — кивнул лорд, уже намереваясь спуститься по лестнице. Испанец последовал его примеру.
Во дворе продолжалась напряженная работа. Лорд Хоуп направился к небольшим воротам, пробитым в оборонительной стене недалеко от большого каменного дома. Чтобы добраться до них, требовалось пройти вдоль этого дома.
Дон Лотарио по временам посматривал на дом, выдержанный в духе строгой красоты и отличавшийся особой соразмерностью линий. Внезапно его взгляд задержался на одном из окон, и от неожиданности он застыл на месте.
Лорд, шедший впереди, обернулся и тоже взглянул на это окно.
— Кто это? — с содроганием спросил дон Лотарио. — Разве это человеческое лицо?
У него были все основания усомниться. В лице, которое он увидел за решеткой окна, не было почти ничего человеческого. Оно отличалось мертвенной бледностью с землистым оттенком; глаза ввалились, волосы были взъерошены. Но самым ужасным было застывшее, словно у трупа, выражение лица несчастного.
— Это умалишенный, — пояснил лорд, не в силах сдержать охватившую его дрожь.
— Умалишенный! — повторил потрясенный испанец. Его поразило, что даже такой хладнокровный человек, как лорд, не сумел скрыть волнение. — Боже мой, — не мог успокоиться дон Лотарио, — не из числа ли он ваших близких? Уж не ваш ли это отец?
— Нет, — ответил лорд, все еще не вполне владея собой. — Но кто знает, может быть, это убийца моего отца!
— Убийца! — в ужасе вскричал испанец. — И вы держите убийцу отца в своем доме?
Лорд Хоуп промолчал, отвел взгляд от злополучного окна и, опустив голову, медленно пошел вперед. Когда он распахнул ворота, дон Лотарио заметил тропинку, которая, извиваясь среди скал, спускалась к заливу.
Спустя полтора часа наши герои возвращались той же дорогой, и дон Лотарио вновь нерешительно поднял глаза на таинственное окно, но напрасно. Ужасное лицо исчезло. Последовал ли владелец дома его примеру, он не заметил — тот говорил о посторонних вещах.
Обед уже ожидал их. Стол был накрыт всего на две персоны. Никогда прежде молодому испанцу не приходилось сидеть за столь богато сервированным столом. Он даже не знал названий большинства подаваемых блюд. Лорд ел очень мало и добавлял в воду, которую велел себе принести, всего несколько капель вина. Дон Лотарио, напротив, обедал с большим аппетитом, тем более что разговор шел теперь о таких вещах, где он и сам мог вставить словечко. Лорд попросил его рассказать, например, о различных сторонах жизни в Калифорнии. Разгоряченный изысканными винами и переполненный впечатлениями, которые произвел на него необыкновенный человек, юноша поднялся наконец из-за стола и стал прощаться.
— Не откладывайте надолго свой визит, милорд, прошу вас! Теперь вам известно, что речь идет об очень важных для меня сердечных делах.
С этими словами он протянул лорду руку, которую тот наспех пожал, и вскочил в седло.
— Двадцать один год! — прошептал лорд, когда молодой испанец резво поскакал, направляясь к подножию горы. — И я в его годы был таким же простодушным, веселым и довольным. И мне казалось, я стою на пороге счастья!
Он задумчиво смотрел в голубую даль, потом вернулся к работникам, отдал на ходу несколько распоряжений и велел управляющему через несколько минут быть готовым к прогулке верхом. Затем скрылся в доме и вскоре появился вновь в соломенной шляпе и с тростью в руке. Рукоять трости представляла собой подобие стального молотка.
Слуга уже держал под уздцы лошадь лорда, чистокровного арабского скакуна. Едва ворота открылись, лорд пришпорил коня, и управляющему стоило изрядных трудов не отстать от своего хозяина. Лошадь лорда летела галопом к подножию горы, а всадник держался в седле с таким завидным хладнокровием, будто скакал в манеже; затем он направил коня к ручью и поехал вдоль берега.
Потом лорд повернул назад на гору Желаний, неотступно сопровождаемый управляющим, и направился к воздвигнутым лесам, которые, как он объяснил испанцу, предназначены для обнаружения горячего источника.
Леса представляли собой массивный помост из толстых досок, служивший опорой для бурильной машины, которая в это время, как, впрочем, и всегда, находилась в действии. Около машины хлопотали четверо рабочих. Пробуренная и обшитая внутри досками шахта была уже довольно глубокой.
Один из работников, по-видимому старший, приветствовал лорда с некоторым смущением.
— Ну, — спросил лорд, подъезжая к нему вплотную, — все еще ничего не нашли?
— Нет, милорд. И, наверное, уже не найдем, — услышал он малоутешительный ответ.
— Должно быть, я допустил ошибку, — заметил лорд, покачивая головой. — Насколько же вы углубились в землю?
— По моим расчетам, на сто восемьдесят три фута, — ответил рабочий.
— Так глубоко? Тогда и впрямь мало надежды, — продолжал лорд с сомнением. — Начнем заново в другом месте. Здесь непременно должны быть горячие источники. Кстати, можно ли использовать эту шахту для какой-нибудь надобности?
— Не знаю, — подумав, пожал плечами его собеседник. — Может быть, как резервуар для воды в сухое время года?
— Хорошо, пусть шахта остается, — распорядился лорд. — На сегодня достаточно. Возвращайтесь в форт.
Рабочие не заставили просить себя дважды, натянули куртки и отправились вверх по склону горы.
— Нужно еще раз исследовать грунт, — сказал лорд, обращаясь как бы к самому себе и нимало не беспокоясь об управляющем. — Возьми поводья, Хэки. Я спущусь вниз.
Он соскочил с лошади и, не выпуская из рук трость, ловко спустился в шахту. Там он пробыл примерно четверть часа, полностью скрывшись от глаз управляющего. Когда он поднялся на поверхность, на его лице играл легкий румянец — вероятно, от физического напряжения.
Вскоре оба всадника уже поднимались к вершине горы. Наверху, оказавшись перед воротами, лорд еще раз бросил взгляд на долину, которую начали окутывать синие сумеречные тени.
— Хм, что это? — спросил он, устремив взгляд вдаль. — Ты тоже заметил эту вереницу людей, Хэки?
— Да, господин граф.
— Разве ты забыл, что здесь меня следует называть не «господин граф», а «милорд»? — прервал его лорд в таком резком тоне, что управляющий в замешательстве опустил глаза. — Ну так что, ты видишь эту вереницу?
— Да, милорд, человек триста, никак не меньше. Только это не индейцы.
— Мне тоже так показалось, — согласился лорд. — Необходима осторожность, господин управляющий. Белые здесь похуже индейцев, так что распорядитесь удвоить на ночь караулы!
Ворота были уже открыты, и лорд поспешил прямо к своему дому. Нигде не задерживаясь, он направился в обсерваторию и уже через несколько мгновений рассматривал незваных гостей в подзорную трубу.
Как и предполагал управляющий, их оказалось около трехсот человек. В трубу лорд разглядел их вполне отчетливо, и то, что он обнаружил, привлекло самое пристальное его внимание. Кроме мужчин он насчитал и немало женщин. Вся эта масса людей двигалась, вытянувшись длинной цепочкой. Одни шли пешком, другие ехали верхом, третьи сидели и лежали, разместившись в больших повозках, запряженных лошадьми, а то и волами. Мужчины все как один были вооружены, причем, как показалось лорду, вооружены очень неплохо. Люди уже миновали мост и направились прямо к горе. Лорд видел, как они останавливались, как снимали с повозок палатки, видел, как хлопотали неизвестные переселенцы, устраиваясь на ночлег. Повозки они поставили вокруг палаток, чтобы защитить лагерь на случай ночного нападения. Один за другим в лагере вспыхивали костры, из реки начали таскать к ним воду. Все это происходило примерно в тысяче шагов от подножия горы Желаний.
— Милорд! — донесся снизу чей-то голос. — Трое неизвестных хотят поговорить с вами.
— Я видел, как они поднимались! — сказал лорд. — Проводите их в прихожую и зажгите лампы.
Он сложил подзорную трубу, не спеша спустился вниз, прошел в свою комнату и оставался там некоторое время, как и подобает важной персоне, которая намеренно заставляет ждать себя людей, жаждущих аудиенции. По крайней мере именно так подумал бы каждый, кто не знал (а не знал этого никто), что лорд тем временем через потайное отверстие рассмотрел троих незнакомцев и подслушал их негромкий разговор.
Все трое разительно отличались друг от друга. Первый был немолодой мужчина, почти старик, невысокого роста, седой, с небольшой бородкой тоже тронутой сединой. Морщины на его лице свидетельствовали скорее о приверженности к умственным занятиям, чем об изнурительном труде под открытым небом. У него были проницательные, не без лукавства глаза, тонкие губы, впалые щеки. Одет он был в длинный потрепанный сюртук, на голове красовалась низкая квакерская шляпа.
Второй незнакомец выглядел настоящим геркулесом, Косая сажень в плечах. Лицо его выражало добродушие и упрямство. Он был в короткой блузе и кожаных штанах, заправленных в высокие сапоги; довершала его наряд измятая соломенная шляпа. За поясом торчал нож. Он напоминал необузданного покорителя американских прерий.
Третий совершенно не походил на двух первых. Ростом он не уступал второму, но отличался изяществом и хорошим сложением. Его одежда, теперь неряшливая, износившаяся от ветра и непогоды, когда-то, вероятно, считалась изысканной — по крайней мере для переселенцев. На нем была соломенная шляпа с черной лентой, просторный ворот рубашки обхватывал шейный платок, завязанный свободным узлом; он был облачен в сюртук, брюки и жилет модного покроя из плотной серой ткани. За поясом также торчал нож. Покрытое легким загаром лицо с правильными чертами отличалось благородством линий, длинные темно-каштановые волосы почти касались плеч. Лорда особенно привлекли прекрасные темные глаза молодого человека, спокойная, хотя и несколько небрежная, поза. В разговор своих товарищей он не вмешивался.
При появлении лорда, спускавшегося по лестнице в прихожую, все трое, с притворным спокойствием ожидавшие хозяина дома, слегка вздрогнули.
Великан отвесил неловкий поклон, старик снял шляпу, и только молодой человек, более других сохранявший самообладание, в знак приветствия машинально дотронулся до своей шляпы.
— Вы интересовались моей персоной, господа, — сказал лорд по-английски, остановившись на некотором расстоянии от незнакомцев. — Моя фамилия Хоуп. Что вам угодно?
— Выходит, вас нужно называть «лорд Хоуп», — заметил самый старший из трех, окидывая лорда хитрым взглядом. — Кто из нас будет говорить? — обратился он затем к своим товарищам. — Давай ты, Хиллоу!
— Это дело не по мне, я не в ладах со словами, черт побери! — ответил великан.
— Говори лучше ты, Уипки! — бросил молодой человек самому старшему. — Тебе и карты в руки!
— Верно, но только не здесь, а среди братьев, — ответил Уипки, растянув в улыбке тонкие губы и вновь искоса взглянув на владельца дома. — С таким благородным господином объясняться лучше всего тебе, Вольфрам!
— Что ж, я согласен, — равнодушно ответил молодой человек. — Итак, милорд, от имени своих братьев я сообщаю вам о принятом нами решении: мы просим снабдить нас продовольствием.
— Что это за братья, позвольте узнать? — обронил лорд.
— Мы — святые последнего дня, — ответил Вольфрам. — Обычно нас называют мормонами.
— Ах вот оно что, я слышал о них, — сказал лорд и посмотрел на юношу с таким равнодушием, как будто все еще не знал, о чем идет речь.
— Вы готовы исполнить нашу просьбу? — спросил молодой мормон, решивший в свою очередь не терять хладнокровия, несмотря на подчеркнутую сдержанность, сквозившую в словах лорда. — Нам хватило бы нескольких мер риса или пшеницы, нескольких бочонков вина или пива. Сколько вы за это потребуете?
— Сколько я за это потребую? — повторил лорд пренебрежительно. — Мой дом — не гостиница!
— Но мы — переселенцы, — угрюмо заметил мормон. — Мы сбились с пути, а направляемся в Юту, к Большому Соленому озеру.
— Итак, вы нуждаетесь в помощи, вам недостает самых необходимых продуктов? — спросил лорд.
— Не совсем так, — мрачно уточнил мормон. — Нам нужно пополнить свои запасы, и вы должны нам в этом помочь. Не будете же вы требовать от нас чего-то помимо платы?
— Может быть, — совершенно невозмутимо ответил лорд. — Я ничего не продаю. Мои запасы нужны мне самому.
— Хорошо! — сказал Вольфрам, намереваясь, видимо, прекратить разговор. — Уипки, Хиллоу, вы все слышали?
Оба его приятеля, внимательно следившие за всем происходящим: здоровенный Хиллоу — несколько озадаченно, а маленький Уипки — с видимым беспокойством, — смотрели теперь на молодого человека во все глаза и, казалось, не знали, что и сказать.
— В лагере, помнится, толковали и о том, чтобы достать немного хорошего вина для больных, — пробормотал Хиллоу.
— Да, верно, — сказал Вольфрам, небрежно повернувшись к лорду. — Среди наших людей несколько больных, в том числе и женщин. Собственные запасы у нас уже вышли. Не уступите ли вы нам дюжину бутылок?
— Уступлю ли я? — повторил лорд. Внешне он сохранял спокойствие, но вспыхнувший в глазах огонь выдавал его настроение. — Сударь, я уже сказал вам, что не занимаюсь мелочной торговлей. Кстати, позвольте дать вам совет: разговаривая со мной, смените тон, если не хотите, чтобы вас вышвырнули из этого дома.
Молодой человек побагровел — казалось, он прилагает огромные усилия, чтобы не потерять самообладания. Его товарищи напряженно ожидали исхода этого словесного поединка.
— Нас триста человек, милорд, примерно половина — мужчины, владеющие оружием, — насмешливо заметил Вольфрам. — Что нам мешает изгнать вас с этой столь живописно расположенной горы и самим занять ваше место или по крайней мере отобрать у вас то, в чем мы испытываем нужду?
— Что вам мешает? — повторил лорд, подойдя поближе к молодому человеку. — Во-первых, вам мешает чувство долга, если оно вам знакомо. Во-вторых, вам мешает то печальное обстоятельство, что я предусмотрел возможность подобных нападений. Вы и ваши сто пятьдесят мужчин рискуете сложить головы под этими стенами. Разговор окончен, молодой человек. Уходите, если не желаете, чтобы по вашей вине я заставил страдать и ваших товарищей и запретил им расположиться в моих владениях.
— Запрещать-то вы можете, но что за этим последует — увидим! — со смехом ответил Вольфрам.
— Джон! Джек! — крикнул лорд, отвернувшись от наглеца.
В то же мгновение рядом с лордом оказались двое дюжих молодцов, выросших как из-под земли.
— Вышвырните этого человека за ворота! — приказал лорд, указывая на Вольфрама.
В следующий же момент, прежде чем молодой мормон успел приготовиться к обороне, он был схвачен и выдворен из прихожей. До присутствующих донеслись только его запоздалые проклятья.
Хиллоу и Уипки были до такой степени ошеломлены случившимся, что не осмелились прийти на помощь приятелю. Да это ничего бы и не дало. Только Хиллоу машинально потянулся к ножу, торчавшему за поясом. Видимо, он решил, что теперь наступила его очередь.
— Господа! — сказал лорд почти учтиво. — Вы видели, как я поступаю в своем доме с наглецами. Если вам угодно продолжать разговор в том же духе, вас постигнет такая же участь. Но если будете благоразумны, я готов вас выслушать.
— Милорд, — начал теперь вкрадчивый Уипки, — не наказывайте нас и наших братьев из-за этого молодого человека. Мы действительно в трудном положении и нуждаемся в продовольствии больше, чем захотел признаться Вольфрам. Уже три месяца мы испытываем все тяготы странствия по лесам и горам. В стычках с индейцами мы лишились многого из нашего снаряжения, в том числе и компаса. Поэтому мы сбились с правильного пути, и нам предстоит добираться еще три недели. Если вы будете настолько любезны, что поделитесь с нами частью своих запасов — неважно, на каких условиях, — вы окажете нашей общине огромную услугу. Мы достаточно сильны, милорд, и быть в числе наших друзей — отнюдь не бесполезно.
— Прекрасно! — сказал лорд, не придавая, похоже, никакого значения этим заверениям. — Вы получите все, что просите. Скажите, не вы ли предводитель мормонов?
— Нет, милорд. Наш предводитель, Фортери, болен, не может передвигаться. Он лежит в нашем лагере. А я всего лишь секретарь, мое имя — Уипки, доктор Уипки.
Произнося эти слова, он слегка поклонился. Лорд не счел нужным ответить ему тем же, только добавил:
— Продовольствие будет доставлено в лагерь почти одновременно с вашим возвращением. Прощайте, господа!
Когда мормоны миновали ворота цитадели, в наступившей темноте они увидели сидевшего на камне и поджидавшего их Вольфрама. При их появлении он поднялся и медленно зашагал впереди, упрямо задрав подбородок.
— Договорились? — обернулся он к своим спутникам.
— Конечно.
— Я так и думал! — язвительно заметил Вольфрам. — Ну, Хиллоу, я тебе припомню, как бросать меня в беде!
— Скажешь тоже! — обиделся верзила. — А что я, по-твоему, мог сделать, когда все произошло так быстро!
Они молча спускались с горы, ориентируясь на пылающие в лагере костры. Едва они добрались до места, как стоящий в карауле сообщил о появлении трех посторонних, которые доставили большую повозку со съестными припасами. Это были посланцы лорда. Они привезли несколько больших мешков с мукой, хлебом, запас вина и свежие фрукты. Сгрузив продовольствие, они исчезли так же быстро, как и появились.
Спустя полчаса к выставленному на ночь посту приблизился незнакомец в темной широкополой шляпе и длинном плаще.
— Проводите меня к вашему предводителю, — потребовал прибывший.
— Он болен.
— Мне это известно, но тем не менее я должен с ним побеседовать. Я — лорд Хоуп.
— Тот самый, что прислал нам продукты?
— Тот самый.
— В таком случае проходите, милорд. Палатку, где поместили нашего предводителя, вы узнаете по флагу, который на ней укреплен.
Лорд Хоуп беспрепятственно добрался до указанной палатки. Едва он хотел войти, как оттуда вынырнул Уипки и преградил ему путь.
— Это вы, милорд? — воскликнул старик. — Чему мы обязаны?
— Я хочу побеседовать с вашим предводителем.
— Что ж, это весьма его обрадует, он нашел ваше вино превосходным.
Уипки вошел первым. Лорд последовал за ним. Палатка оказалась оборудованной довольно неплохо, если принять во внимание обстоятельства. На походной кровати лежал человек средних лет с бледным лицом и беспокойными, живыми глазами. Перед ним стояла бутылка вина — одна из присланных лордом. В некотором удалении от больного, за импровизированным столом, занимались шитьем женщины, не блиставшие красотой. Старшей было на вид лет сорок, младшей — лет двадцать пять.
Уипки представил лорда, и Фортери, предводитель общины мормонов, казалось, был приятно удивлен. Если доктор Уипки надеялся, что беседа гостя с хозяином палатки (которой он с нетерпением ожидал) состоится в его присутствии, ему пришлось разочароваться. Фортери недвусмысленно дал ему понять, что намерен остаться с лордом наедине. Женщинам тоже пришлось выйти.
Лорд Хоуп пробыл у предводителя общины около часа. О чем они говорили, никто тогда не знал. Впрочем, одна из женщин проболталась Уипки, что хотя ничего и не поняла из этого разговора, но видела, как лорд вручил Фортери пачку каких-то бумаг, напоминающих билеты. Это была истинная правда. Лорд передал главе общины сто тысяч долларов банкнотами и получил с него расписку. Правда, никто из членов общины об этом не узнал. Фортери сказал только, что попросил лорда ссудить лично ему тысячу долларов.
Когда лорд покидал палатку, он опять столкнулся с Уипки, который вертелся у входа, пытаясь по выражению лица выходившего гостя догадаться, о чем шла речь. Но тщетно! Этот человек слишком хорошо владел своими чувствами.
Уипки вызвался сопровождать лорда на обратном пути, и они отправились вдвоем.
— Если вам небезразлична судьба предводителя общины — а он, похоже, дельный человек, — не давайте ему во время похода много пить, — сказал лорд попутчику. — Вода только повредит ему. Заставляйте его время от времени принимать хинин.
— Вы, я вижу, еще и врач, — ответил Уипки, внимательно прислушиваясь к рекомендациям лорда. — А я всего лишь доктор теологии.
— Думаю, что знаю не меньше иного врача, — бросил лорд. — Так что запомните: немного воды и временами хинин. Что касается ревеня, больному он противопоказан.
— А до сих пор он его принимал, — сказал Уипки, стараясь ничего не упустить из советов лорда.
— С этого дня о ревене нужно забыть, иначе через месяц Фортери не будет в живых!
При этом лорд мельком взглянул на Уипки, который, видимо, с головой ушел в какие-то свои мысли. Читал ли он в душе этого человека? Вероятно. В противном случае не давал бы своих советов. Чтобы спасти больного, ему нужно было давать много воды и большие дозы ревеня. Казалось, лорд предвидел, что Уипки в избытке станет давать заболевшему именно то, от чего он его предостерегал.
Тем временем собеседники приблизились к большому костру, вокруг которого расположились несколько мужчин и женщин.
— Лорд Хоуп, если не ошибаюсь! — воскликнул один из сидевших, поднимаясь навстречу лорду.
— Вы не ошиблись, — ответил тот. Он сразу узнал Вольфрама, но не утратил своего обычного хладнокровия.
— Милорд, — сказал молодой человек, понизив голос, — вы нанесли мне смертельную обиду. Такое оскорбление искупают кровью. Мы будем драться этой ночью или завтра на рассвете.
— Драться мы не будем, — отрезал лорд.
— Как? Выходит, вы просто трус и полагаетесь только на своих слуг?
— Дорогой друг, — сказал лорд, побледнев как смерть, — если вы попытаетесь испробовать мою силу и ловкость, то наверняка не уйдете отсюда живым. Но я не собираюсь убивать вас. Я отклоняю ваш вызов. Вы сами виноваты. Вы оскорбили меня в моем собственном доме, и я велел вышвырнуть вас. Только и всего!
Произнося эту тираду, он обводил глазами лица мормонов, собравшихся вокруг костра, пока его взгляд не задержался на лице женщины, так плотно закутанной в свое одеяние, что видны были одни только ее глаза, — так обычно поступают турчанки. Но глаза эти были прекрасны, и хотя читать по глазам нелегко, лорду почудились затаенная печаль и обида.
Он быстро повернулся и спокойно зашагал дальше, оставив побелевшего от гнева Вольфрама на прежнем месте. Можно было подумать, что лорд видит происходящее у него за спиной, что он способен точно рассчитать время, которое потребуется молодому мормону, чтобы сделать то, что он, по предположению лорда, не мог не сделать; как бы то ни было, пройдя всего несколько шагов, лорд внезапно отскочил в сторону. Он не ошибся — в тот же момент раздался выстрел. Пуля, просвистев между лордом и доктором Уипки, угодила, к счастью, в шест, поддерживающий палатку. Если бы лорд чуть замешкался, этот выстрел мог оказаться для него роковым.
Обернувшись, он увидел, что какая-то женщина пытается удержать Вольфрама от необдуманных поступков, и узнал ту, которая привлекла его внимание у костра. Несмотря на все ее усилия, Вольфраму удалось вырваться из ее рук. Не помня себя от ярости, он отшвырнул в сторону пистолет и, выхватив из-за пояса нож, одним прыжком, словно тигр, настиг лорда.
Тот хладнокровно ждал. Как только разъяренный мормон оказался рядом, лорд ловко увернулся от занесенного ножа и молниеносно ударил нападавшего в левый висок. Удар был настолько силен, что Вольфрам рухнул наземь как подкошенный, не издав ни звука. Уипки вместе с остальными мормонами бросился к потерявшему сознание собрату. Лишь закутанная до глаз женщина не поспешила последовать их примеру, оставшись на прежнем месте.
Когда мормоны вспомнили наконец о лорде, он уже исчез.
II. ЭДМОН ДАНТЕС, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
Спустя два часа лорд уже находился в комнате, которую оборудовал своими руками. Кроме него, сюда еще никто не входил. С первого взгляда становилось ясно, что перед вами химическая лаборатория, отвечающая самым взыскательным требованиям. Плавильная печь, тигли, реторты, колбы, склянки, лампы, сотни металлических банок с веществами всех цветов и оттенков — ничего не было упущено предусмотрительным хозяином.
В одном из тиглей, стоящих на сильном огне, бурлило желтоватое вещество, на поверхности которого время от времени образовывался неприятного цвета шлак; лорд удалял его и сливал в отдельный сосуд. На поду лежали куски такого же вещества, частично покрытые землей; там, где земли не было, они блестели, как благородный металл.
Лорд снял наконец тигель с огня и вылил его содержимое в продолговатую форму. Затем положил в тигель новый кусок вещества и поставил на огонь.
Когда масса в форме застыла, он открыл форму и осмотрел слиток.
— Ошибки быть не может, — сказал он вполголоса. — Это золото, настоящее золото!
— И в самом деле чистое золото, Эдмон? — услышал он мягкий, мелодичный голос, и чья-то нежная рука опустилась на его плечо.
— Ты, Гайде? — Лорд обернулся, не выказывая, впрочем, ни малейшего удивления.
— Ты не сердишься, что я прошла следом за тобой? Когда мы перебирались в этот дом, ты сказал, что передо мной открыты все двери и я могу говорить с тобой в любое время.
— Да, Гайде, я говорил так, — ответил лорд, сопровождая свои слова такой мягкой улыбкой, на которую, казалось, этот человек просто неспособен. — Говорил и повторяю сейчас.
— Когда ты, Эдмон, за целый день ни разу не заглянул ко мне…
— Ты права, — виновато сознался лорд. — Я действительно не был у тебя.
— …я подумала: «Ты должна знать, чем он занят. И вот я здесь.
— Благодарю тебя, — проникновенно сказал лорд и поцеловал у нее руку. — Я непременно пришел бы к тебе. Больше всего времени отнял у меня сегодня молодой испанец. Теперь послушай, Гайде, что я тебе скажу. Видишь это золото?
— Вижу, мой возлюбленный, мой повелитель, — ответила она с улыбкой. — Ты занялся алхимией?
— Это золото я не приготовил, даже не отыскал — я просто извлек его из-под земли. И это только начало…[2]
— Выходит, скважина, которую ты велел пробурить, привела тебя к золотоносной жиле?
— Скважина — всего лишь для отвода глаз. Позволь, я расскажу тебе. Помнишь тот день, когда мы, добираясь сюда из Нового Орлеана, наткнулись среди скалистой пустыни на человека, скорее похожего на живой скелет? Солнце немилосердно жгло, раскаляя известковые скалы, нигде ни травинки, ни капли воды, ни кустика, чтобы укрыться от нестерпимого зноя. Я опасался за тебя — даже моя холодная кровь готова была закипеть в этом пекле. И вдруг из-за одного камня до нас донесся стон. Я соскочил с повозки, подошел ближе и увидел несчастного, которого можно было принять за мертвеца. Глубоко запавшие глаза лихорадочно блестели, кожа высохла, как у мумии, и через нее отчетливо проступали кости.
«Ах, сударь, — пробормотал он, силясь приподняться, — вас послало само небо. Дайте хоть глоток воды!»
«Воды? — переспросил я. — В этой пустыне? Да известно ли вам, что вода здесь дороже золота?»
«Я знаю, — ответил он, глядя на меня такими глазами, что невозможно описать. — За каждый глоток воды я расплачусь ведром золотого песка!»
Я дал ему кружку воды с вином. Он ухватился за нее как утопающий за соломинку и с жадностью выпил. Затем я велел отнести его на повозку и дал одно из моих снадобий, надеясь спасти несчастного. Но спустя полчаса он позвал меня.
«Я умираю, — в отчаянии произнес он, — я знаю, что это конец. Вы единственный, кто проявил ко мне сострадание, и я вознагражу вас щедрее иного короля. Я сказочно богат, богаче владык Индии».
Легкая дрожь пробежала по моему телу. Мне показалось что в нем говорит безумие. И я снова вспомнил того человека, аббата Фариа, о котором я тебе уже рассказывал, Гайде, вспомнил творца моего счастья.
— Я помню, — ответила Гайде и кивнула в знак того, что внимательно слушает рассказ лорда.
— Его тоже считали сумасшедшим. Бедный Фариа! — со вздохом продолжал лорд. — Короче, я сдержал улыбку, но не верить ему тоже не мог. Только спросил его, как случилось, что он, несмотря на свое богатство, вынужден в одиночестве погибать в пустыне. Он вздохнул.
«Пути Господни неисповедимы, сударь! — сказал он мне на это. — Я родом из Германии, моя фамилия Бюхтинг. Я имел жену и детей, службу и кусок хлеба. Но по дьявольскому наущенью я воспылал безумной страстью к жене своего брата и убил его. Потом бежал в Америку. Несколько лет провел на восточном побережье, но не мог спокойно смотреть на чужое счастье. Меня влекло уединение, одиночество. Я перебрался в Калифорнию и жил там на побережье, зарабатывая на хлеб трудом. Однажды, копая землю, чтобы спрятать немного денег, я обнаружил нечто, что сделало бы меня властелином мира, если бы мне было суждено остаться в живых. Я нашел золото, самородное золото. Я принялся копать дальше и повсюду находил чистое золото. Тогда меня вновь охватило безумное желание жить. Я был богат, как Крез, богаче владык мира. Муки совести померкли перед блеском золота. Я мог вернуться к жене, к детям, я мог всех сделать счастливыми. Но при мысли, что кто-то откроет мою тайну, меня охватил ужас. Я вознамерился добраться до Нового Орлеана, продать там несколько слитков золота, которые захватил с собой, запастись всем необходимым, купить тот участок земли и тихо-мирно извлекать свои сокровища. Я немедля собрался в путь. До этой пустыни я добрался вполне благополучно. Мне и в голову не пришло, что пробираться через нее придется в такое время года, когда там нет ни воды, ни людей. Примкнуть к Другим путникам я не решился, зная за собой привычку разговаривать во сне и опасаясь раскрыть свою тайну. Дней пять назад я почувствовал сильный голод и жажду, которые буквально сводили меня с ума. Но я продолжал тащиться Дальше. Добравшись до камня, где вы нашли меня сегодня утром, я уже не в силах был подняться. Силы мои иссякли. Я знаю, что должен умереть, умереть от жажды, умереть самым богатым человеком на земле. Но это Божья кара, я знаю!
Постойте! — воскликнул он затем. — Моя тайна не должна уйти в могилу вместе со мной. Вы — мой спаситель, по крайней мере пытались им стать. Вас привело ко мне само Провидение. Отправляйтесь в Калифорнию, там есть гора, которую называют горой Желаний, ибо каждый, кто с вершины этой горы окидывает взглядом расстилающуюся у ее подножия долину, испытывает страстное желание владеть этой долиной. Отсчитайте от подножия горы со стороны ее восточного склона сто шагов на север. Там вы обнаружите четыре камня, как бы случайно образующие прямоугольник. Начинайте копать между ними, и вы найдете золота больше, чем в сокровищнице любого из королей. Обещайте мне только одно: навести справки о моей жене и детях. Если они еще живы, велите послать им часть найденного золота. У меня с собой все бумаги, из которых вы узнаете, откуда я и все прочее, что требуется для исполнения моей последней воли».
Слова его стало трудно разобрать, мысли у него путались, и он начал бредить, снова и снова упоминая о своих сокровищах. Спустя четверть часа он умер. Ты помнишь, Гайде, мы велели похоронить его там же, в пустыне. Простой камень лежит на месте его последнего упокоения.
Я добрался до Калифорнии, нашел гору Желаний и отыскал четыре камня. Ночью я принялся копать в указанном месте и действительно обнаружил золото. Я убедился, что покойник был прав: если бы Провидение судило ему владение этими сокровищами, он был бы самым богатым человеком; на земле. Но мне тоже приходилось опасаться проницательности своих людей, и, чтобы не выдать себя, я велел заложить известную тебе шахту. Во внутренней деревянной обшивке я ночью тайком проделал отверстие, через которое и добрался до подземных сокровищ. Они находятся близко от поверхности земли — на глубине человеческого роста. Тогда я еще не проверял добытый металл, хотя с первого же взгляда принял его за золото. Лишь сегодня я захватил несколько кусков породы и провел исследование. Теперь вижу, что это золото, чистое золото, и, думаю, я стал вдвое, а возможно, и втрое богаче прежнего.
— Но ведь тебя и раньше считали одним из самых состоятельных людей на свете! — заметила Гайде.
— Да, и по праву, — сказал лорд. — Я уже написал одному из своих знакомых в Германии, чтобы разузнать о семье покойного. В ближайшее время должен прийти ответ. Если верить бумагам, ему было приблизительно пятьдесят лет, и его дети, сын и дочь, теперь, должно быть, взрослые. Как только я их найду, я намерен дать им столько золота, сколько способен унести обычный человек, но давать его постепенно, иначе такое богатство может сделать их несчастными.
— А тебя самого, Эдмон, охватило волнение, когда ты убедился, что нашел чистое золото?
— Да, я и сейчас еще взволнован!
Он взял Гайде за руку и заглянул ей в глаза. Лицо его стало серьезным, почти торжественным. Гайде смотрела на него вопросительно. Она, дочь Али-паши из Янины, которую Эдмон когда-то спас, изящная, гибкая, в белом одеянии, с цветами в темных волосах, с античными чертами лица, выдававшими греческое происхождение, — чертами, которые придавали ее лицу выражение кротости, — и он, бледный, сосредоточенный, с высоким лбом, с лицом, в котором отчетливо проглядывал сильный, решительный характер, — оба они олицетворяли замечательный союз мужчины и женщины, являя собой символ самого прекрасного и святого в жизни: он — воплощение силы, энергии и, рассудительности, она — воплощение мягкости, преданности и любви.
— Да, Гайде, — повторил он, — я взволнован, и не боюсь тебе в этом признаться. Ты знаешь мою жизнь, знаешь, что я вытерпел, за какие преступления я должен был отомстить. Мне, слабому, темному и пропащему, судьба дала средства и указала пути, как выбраться из мрака каземата, из тьмы моего невежества. Карающая Немезида свела меня с тем аббатом Фариа, который создал из бедного, неразумного и наивного Эдмона Дантеса могущественного графа Монте-Кристо. Кем я впоследствии стал и что я совершил — всем этим я в большей или меньшей степени обязан ему. И все-таки в то время меня преследовала одна только мысль: сокровища, которые оставил мне умерший в каземате аббат, призваны стать лишь орудием мести за меня самого, за голодную смерть моего отца. Ты знаешь, что стало с Фернаном, который выдал меня, ибо домогался моей возлюбленной, который оклеветал меня и предал твоего несчастного отца. Он добровольно принял смерть, когда жена и сын отвернулись от него, оставив его один на один со своим позором. Тебе известно, как я отплатил Данглару, подсказавшему Фернану дьявольски хитрый план, заключавшийся в том, чтобы представить меня сторонником бонапартистов. Он сейчас нищенствует в Риме, а ведь был одним из самых крупных банкиров Парижа. Жена отреклась от него, дочь бежала, едва не сделавшись женой каторжника, отбывавшего наказание на галерах. А тот Вильфор, что собирался навек упрятать меня в подземельях замка Иф, чтобы я никогда не смог сообщить, что его отец — приверженец Наполеона… Ты знаешь, он сошел с ума и теперь содержится в нашем доме. Его жена и сын мертвы. Избежала смерти только Валентина, его дочь, хотя он об этом не знает. Все мои враги, некогда вознесшиеся к вершинам богатства и славы, ныне повержены в прах. Я стал орудием в руках судьбы. Я торжествовал. Может быть, я зашел чересчур далеко, может быть. Но я постараюсь восстановить попранную мной справедливость, я уверен в своих силах.
Все это я сделал, Гайде, ибо поклялся отомстить за то зло, которое мне причинили. Для моей личной мести моих богатств оказалось вполне достаточно. Но за те десять лет после моего освобождения из подземелья, что я провел в свете, за время моего пребывания в Париже, этом центре так называемого цивилизованного мира, среди людей, считающих себя умнейшими и достойнейшими, я убедился, что помимо несправедливости, допущенной в отношении меня, господствует несправедливость в отношении тысяч людей, которые так же несчастны, как несчастен был и я. Я не в силах отомстить за всех, не в моей власти изменить существующий в мире порядок — я всего лишь человек, не Бог! Но я в долгу перед человечеством, и временами мне не дает покоя мысль, что забывать о несчастье других перед лицом собственного несчастья, употреблять свои богатства лишь для достижения своих собственных целей было недостойно меня. Что-то нужно менять в этом мире, Гайде! Влить свежую кровь в эти ссохшиеся вены, вдохнуть новую жизнь в эту чахлую плоть! Когда я покидал Европу, я уже сознавал это, и на сердце у меня был камень, ибо я полагал, что мои силы слишком слабы и мне не добиться того, что туманно рисовалось тогда в моем воображении. Не просто случай свел меня в то время с умирающим от жажды — это был перст Божий, это была воля Провидения, постигшего мои неясные мысли! Теперь я верю, что совершу то, что прежде представлялось мне слишком трудным, то, для чего недоставало раньше моих сил. Как я это выполню, что именно мне нужно сделать, чтобы искупить перед человечеством вину, которую несут перед ним сильные Мира сего — все вместе и каждый в отдельности, — я пока не знаю. Но со временем мои неясные мысли обретут форму. В облике графа Монте-Кристо я отомстил за все то зло, что причинили мне и моему отцу; в обличье лорда Хоупа я намерен оправдать свое новое имя, вернуть миру надежду, утешить и исцелить страждущих, ободрить упавших духом, помочь слабым. Человечество жаждет справедливости. Я попытаюсь вновь воздвигнуть алтарь земной справедливости, повергнутый алчностью, слабостями, корыстолюбием людей! Да будет Бог милостив ко мне, да поддержит меня в моих начинаниях! — Его голос окреп, в нем зазвучали патетические нотки. Гайде смотрела на него почти с трепетом.
— Поэтому ты и выбрал себе имя «надежда»? — спросила она едва слышно. — Поэтому ты и называешь себя «лорд Хоуп»?
— Отчасти да! — ответил он. — На этой земле существует лишь одна власть — власть денег. Любовь, добродетель, справедливость — все забыто, всем правят деньги. С помощью собственных богатств я попытаюсь свергнуть власть золотого тельца. Сила против силы. Яд против яда. Подобно тому как я спас Валентину от ее мачехи-отравительницы, дав ей другой яд, который повлек за собой ее мнимую смерть, точно так же я собираюсь с помощью своих сокровищ избавить мир от идола, поправшего добродетель, честь, счастье. Да, золото — это бальзам, это целительное снадобье, но не для нашего развращенного общества. Я волью его в те жилы, которые еще не утратили свежести и чистоты. Удастся ли мне это — знает только Всевышний, который избрал меня орудием своей мести и позволил мне познать, что в этом мире существует и воздаяние!
Лорд умолк. Пока он говорил, Гайде, бледная, трепещущая, опустилась перед ним на колени.
Неожиданно с потолка донесся негромкий тонкий, звенящий звук.
— Встань, Гайде, — сказал лорд Хоуп, поднимая и привлекал к себе прелестную женщину. — Али хочет со мной говорить. Он стучит в мою дверь. Оставим пока мечты о будущем и вернемся к настоящему. Видишь, в каждой комнате находится маленький колокольчик, при помощи пружины он прикреплен к моей двери. Поэтому, где бы я ни находился, я всегда слышу, если стучит Али.
— Ты велик даже в малом! — сказала Гайде с мягкой улыбкой и осушила выступившие слезы. — Ах, Эдмон, ты сделал меня счастливейшей из женщин. А что я для тебя?!
— Ты — это все! — воскликнул лорд. — А теперь пойдем!
И он увлек ее за собой. Но сделал это не так бурно и порывисто, как поступил бы влюбленный юноша, а как зрелый мужчина, сознающий, что владеет величайшей драгоценностью на свете.
III. НЕВЕСТА МОРМОНА
— Тебе нужно поговорить со мной, Али? — спросил лорд, вернувшись в свою спальню.
Повторный стук подтвердил его предположение. Али не мог отвечать иначе, поскольку был нем.
Лорд распахнул дверь. Али знаками спросил, может ли господин принять управляющего.
Эдмон ответил согласием. По-видимому, произошло нечто необычное, ибо подобные визиты управляющего случались нечасто; здесь, в Калифорнии, такое наблюдалось впервые.
В дверях появился управляющий, прежде именовавшийся синьором Бертуччо, а ныне — мастером Хэки.
— Милорд, — начал он, — стук в ворота оповестил охрану, что снаружи кто-то есть. Оказалось, это женщина. Она утверждает, что пришла из лагеря мормонов, и непременно хочет поговорить с вами.
— Проведите ее сюда, — распорядился лорд.
На пороге возникла женская фигурка. Она была с головы до ног закутана в свое одеяние, однако лорд с первого взгляда узнал ее. Именно эта женщина привлекла его внимание у костра, именно она пыталась помешать Вольфраму выстрелить в него.
Увидев лорда, она откинула вуаль, закрывавшую ее лицо, и порывисто бросилась к его ногам.
— Милорд! — воскликнула она по-английски. — Как бы вы ни распорядились моей судьбой, пока я жива, я отсюда не уйду. Вы должны дать мне приют, иначе я покончу с собой!
Внешне лорд хранил полное спокойствие, хотя подобное вступление не могло не поразить его. Он молчал, пристально всматриваясь в ночную гостью. Черты ее прекрасного лица несли печать горя и скорби, необычных для ее возраста. На мраморно-бледном лице выделялись лучистые голубые глаза. Прелесть ее облика довершали вьющиеся золотистые волосы. Сейчас глаза незнакомки были влажны от слез, губы болезненно вздрагивали, а руки с мольбой простерты к нему.
Что прочел лорд на ее лице, в ее глазах, определить было невозможно. Однако он сказал:
— Вы не покинете мой дом, если он способен защитить вас. Встаньте, миледи!
Лорд пододвинул ей кресло. Она заметила его только теперь и оперлась на него рукой, словно была очень слаба. Затем опустилась на сиденье.
— Ваше желание будет исполнено, однако звучит оно довольно странно. Надеюсь, вы не откажетесь все объяснить?
Просительница опустила глаза, и они опять наполнились слезами.
— О, милорд, вы станете презирать меня, если я признаюсь, что судьба связала меня с тем несчастным, который поднял на вас руку!
— Вовсе нет, я видел, как вы пытались помешать ему. Однако я слышу, что по-английски вы говорите с французским акцентом. Говорите по-французски! Наверняка это родной для вас язык!
— Вы это почувствовали? Да, я француженка, внебрачная дочь французского генерала. Когда он познакомился с моей матерью, он, как мне рассказывали, уже был женат на Достойной женщине. Моя мать, насколько я знаю, была дочерью немецкого офицера, который во время войны поступил на французскую службу. Сама я матери никогда не видела. Очевидно, она была бедна и нужда толкнула ее на эту связь, которая никак не могла закончиться браком. Этой связи я и обязана своим появлением на свет. Мать, вероятно, умерла вскоре после моего рождения. Может быть, мой отец в самом деле любил ее, а может быть — меня; как бы там ни было, он велел дать мне хорошее воспитание, как если бы я была его законной дочерью. Я выросла в монастыре под Парижем, среди дочерей знатнейших семейств Франции. Там я жила до семнадцати лет. За неделю до моего отъезда из монастыря мне показалось, что настоятельница посматривает на меня с жалостью. Впрочем, я не придала этому значения. Лишь прощаясь со мной, она произнесла слова, которые прозвучали довольно странно: «Да благословит вас Бог, мадемуазель! Ваш жизненный путь будет нелегким». Однако и на этот раз я не обратила на ее напутствие особого внимания. Но сразу же по прибытии в Париж узнала, что дела мои неожиданно изменились в худшую сторону. Более того, они стали просто ужасными. Еще две недели назад отец писал мне, что я должна остановиться в гостинице, он встретит меня сам или кому-нибудь поручит встретить, а затем позаботится обо мне. Я поселилась именно в той гостинице, которая была мне указана. Ее хозяйка поглядела на мое платье с удивлением. «Мадемуазель, — сказала она, — вам весело, вы смеетесь? На вас светлое платье?» «А почему бы и нет, сударыня?» — спросила я озадаченно. Она с недоумением уставилась на меня. Потом, видимо, решила, что такое создание, как я, не может любить своего отца, как любит законная дочь, и поэтому сказала мне всю правду: «Ваш отец неделю назад покончил с собой. Палата пэров признала его бесчестным, так как, говорят, он некогда предал пашу Янины»[3]. На мгновение я словно окаменела, потом лишилась чувств. Но что с вами, милорд?
И в самом деле, лорд стал бледнее обычного. Он невольно поднял глаза к небу. «Ты справедлив, Господи!» — говорил этот взгляд.
— Я знал вашего отца, — сказал он, — это был генерал де Морсер. Но продолжайте, прошу вас!
— Теперь нетрудно угадать историю моих страданий, — всхлипнула француженка. — Я была уничтожена, сражена. Я осталась одна в целом свете, без всякой поддержки. Я отдала хозяйке гостиницы все деньги и драгоценности, какие имела, и получила разрешение три месяца жить у нее. Затем попыталась разыскать своего брата, сына генерала де Морсера; я надеялась, он проникнется состраданием ко мне, придет на помощь. Но когда я навела более подробные справки, я горько разочаровалась. Жена и сын генерала приняли героическое решение не брать ничего из доставшегося им наследства. Они все продали и деньги раздали бедным. Потом госпожа де Морсер с сыном Альбером перебрались в Марсель, а с ними исчезла и моя последняя надежда.
Впрочем, нет, что я говорю, — не последняя! Уже в это время я познакомилась с человеком, с которым и вы встречались, милорд, человеком, который едва не застрелил вас, — я говорю о Вольфраме. Он жил со мной в одной гостинице, мы встретились за столом. Как он мне сказал, он немец и приехал в Париж изучать новейшие достижения и изобретения в области техники. Большого пристрастия к занятиям я за ним не замечала. Про таких говорят: легкомысленный субъект, но вы видели, в нем есть что-то привлекательное, несмотря на его резкость. Это «что-то» вскоре целиком покорило меня — ведь я никогда не встречала прежде молодых людей. Спустя месяц Вольфрам признался мне в любви, я ответила, что тоже неравнодушна к нему.
Между тем минуло три месяца. Как-то в порыве откровенности я поделилась с Вольфрамом своими опасениями о будущем. Он внимательно выслушал меня, потом спросил, умею ли я молчать. Я сказала, что умею. Тогда он признался, что не может вернуться в Германию, но не может и оставаться далее в Париже: повсюду он наделал долгов. У него нет денег даже на то, чтобы расплатиться с нашей хозяйкой. Ему, добавил он, не остается другого выхода, как уехать в Америку, и он будет счастлив, если я соглашусь отправиться с ним.
Я немного испугалась, но быстро овладела собой. Любовь побуждала меня видеть все в розовом свете. Он упрашивал меня, умолял, говорил, что в ближайшие дни вынужден будет бежать, и мысль о том, что я больше никогда его не увижу, показалась мне невыносимой. Я поклялась уехать вместе с ним в Америку. Ведь весь мир был мне враждебен. Париж был для меня ничем не лучше Америки. Только об одном я просила Вольфрама: пока в Америке нас не соединят узы брака, он должен обращаться со мной как с сестрой. Он согласился.
Мы бежали. В Гавре сели на пароход, который отплывал в Нью-Йорк. Вольфрам сдержал свое слово и обходился со мной как с сестрой. Не нравилось мне только, что на пароходе он много пил, играл в карты и болтал всякий вздор. Вскоре я постигла самую суть его характера. По натуре он добр, может быть, даже благороден, талантлив, образован; говорят, он весьма способный архитектор. Но, видимо, ему чего-то недостает — удовлетворенности, чистой совести. Что-то угнетает его, не давая искренне радоваться жизни. То ли это какая-то вина, то ли мысль о том, что он неудачник. Не знаю. Но иногда он делается ужасно мрачным и невыносимым. В такие минуты я боюсь его, у меня зарождаются сомнения, могу ли я обрести счастье с этим человеком.
Мы прибыли в Нью-Йорк. Там случай свел Вольфрама с доктором Уипки. Он был апостолом, посланцем мормонов. Казалось, он был счастлив, что встретил такого человека, как Вольфрам. Уипки сулил ему золотые горы, обещал постоянную доходную работу, если Вольфрам перейдет к мормонам. Что было известно Вольфраму о мормонах? Думаю, немного. Если что-то он о них и знал, то от меня скрывал. Мне эта секта была знакома только по названию. Уипки дал нам денег на дорогу. Мы отправились в Нову, тогдашнюю столицу мормонов.
Быстрый отъезд из Нью-Йорка, поспешность, которую проявил Вольфрам, стремясь добраться до Нову, помешали нам осуществить свое намерение — повенчаться еще в Нью-Йорке. Теперь я благодарна Всевышнему. Клянусь вам, милорд, все это время Вольфрам видел во мне только сестру, и я, хотя и не знала нравов света, сумела сохранить свою честь. Не думайте обо мне дурно, милорд, уверяю вас, мне не стыдно посмотреть в глаза любому!
Она простерла руку, как бы давая клятву, и с волнением взглянула на лорда.
— Я верю вам, — спокойно и твердо сказал тот. — Продолжайте ваш рассказ. Я уже предвижу конец.
— Моя судьба решилась, когда мы прибыли в город Нову в штате Иллинойс, — упавшим голосом продолжала француженка. — Мы застали колонию мормонов накануне распада. Из-за своей нетерпимости святые последнего дня успели перессориться с остальными жителями этого быстро растущего города. Дело дошло до открытой борьбы, в которой погиб Джозеф Смит, создатель и глава секты, а сам город был разрушен. Преемником Смита стал Бригем Янг. Он объездил всю страну вдоль и поперек в поисках нового пристанища для общины. По его совету было решено перебираться на Дальний Запад, в Юту, на Большое Соленое озеро. Несколько отрядов уже отправились туда. Мы должны были последовать за ними. Уипки организовал новый отряд, и нам с Вольфрамом предстояло к нему присоединиться.
Что за жизнь у этих мормонов! Мне не в чем их упрекнуть, я восхищаюсь их усердием, старательностью, их приверженностью этой странной вере; признаю, среди них немало сильных натур, толковых людей, но все, что я узнала об их семейной жизни, внушает мне только отвращение. У них царит многоженство, которое ввел Джозеф Смит будто бы под влиянием повеления свыше.
В это время Вольфрам просил меня стать его женой, пока отряд еще не отправился в путь. С дрожью ждала я этого предложения. Я спросила его, как же нам венчаться, ведь мормоны не признают католических священников и церковного освящения брака. Он посмотрел на меня с удивлением. «Мы скрепим наш брак по обычаям мормонов. Разве тебе этого мало?» «Нет! — ответила я ему, залившись слезами. — Единственное, что я принесла с собой из Старого Света, — это моя вера. Я никогда не позволю отнять ее у меня. И ты надеешься, Вольфрам, что я покорюсь обычаям этих людей? Не думаешь ли ты, что я когда-нибудь смирюсь, зная, что у моего мужа есть кто-то еще кроме меня. Нет, Вольфрам, я не стану твоей женой, если наш брак не благословит католический священник и ты не поклянешься, что, пока я жива, не будешь любить никого, кроме меня!»
«Но ты требуешь невозможного, Амелия! — засмеялся он в ответ. — Даже если бы я и обещал — а я охотно бы это сделал, — что проку? Мы среди мормонов и должны следовать принятым у них обычаям. Ведь меня могут заставить взять еще одну жену».
«Но мормонам принадлежишь ты, а не я! — сказала я тогда. — Я никогда не присоединюсь к ним!»
«И ты отказываешься выйти за меня замуж, если на то не будет благословения католического священника? — угрюмо спросил он. — Никогда бы не поверил, что ты так мало любишь меня и так цепляешься за всякие предрассудки».
«Предрассудки? — заметила я с горечью. — Будем откровенны друг с другом, Вольфрам. Да, я полюбила тебя, но никогда не стану твоей женой, разве что перед алтарем католической церкви. Слышишь — никогда!»
Он пожал плечами и удалился, даже не оглянувшись. Я осталась охваченная страхом, близкая к отчаянию. Надежду в меня вселяло только то, что Вольфраму наскучит такая жизнь и он сам отстанет от мормонов. Но, увы!
Мы покинули Иллинойс вместе с отрядом. По дороге от одной женщины, с которой мы подружились — ибо нас сблизили одни и те же заботы, — мне стало известно, что вскоре решится моя судьба. Как только мы доберемся до Большого Соленого озера, сказала моя подруга, меня ждет суровое испытание: решено вершить суд над «невестой мормона» — так меня прозвали — и отдать мою руку Вольфраму. Я с ужасом ждала этого дня. Я знала, что не переживу его.
Наконец сегодня, когда я увидела этот форт, услышала о ваших благодеяниях, когда мне представился случай оценить ваше поведение по отношению к Вольфраму, которого я отныне всей душой презираю, — сегодня у меня возникла мысль бежать, доверить свою судьбу вам. Какой-то внутренний голос подсказал мне, что вы найдете способ спасти меня от этого позора!
— Вы останетесь в этом доме, мадемуазель! Я не боюсь ваших мормонов! Но прежде вы должны узнать, кто я.
— О, я знаю это! — воскликнула француженка. — Вы — самый великодушный и благородный человек!
— Может быть, вы заблуждаетесь. — Лорд так помрачнел, что едва не напугал Амелию. — Выслушайте теперь меня. Почти тридцать лет назад — впрочем, время не играет здесь особой роли — в Марселе жил совсем молодой, полный надежд человек, который наслаждался жизнью. Он был счастлив. Владелец судна, на котором он плавал — этот юноша был моряком, — ценил его способности и собирался назначить капитаном. Кроме того, молодой моряк намеревался жениться на прекрасной девушке, которая страстно любила его. Нашлись, однако, люди, которые позавидовали его счастью. Среди них оказался некий Данглар, судовой бухгалтер. Он сам добивался должности капитана, обещанной молодому человеку. Ненавидел молодого моряка и некий Фернан, кузен его невесты. Он сам был влюблен в кузину и не желал уступать ее юноше. Завистники заключили между собой союз. Данглар написал донос, где представил молодого человека агентом бонапартистской партии, а Фернан передал донос властям. Молодой моряк был арестован в тот момент, когда со своей невестой, по имени Мерседес, собирался отправиться к алтарю. К несчастью, у него действительно оказалось при себе письмо, адресованное стороннику Наполеона в Париже, некоему Нуартье. Он не знал ни его содержания, ни того, кому оно предназначалось. Принимая на себя обязанность вручить письмо адресату, он всего лишь выполнял обещание, которое дал своему умирающему капитану. Королевский прокурор Марселя, господин де Вильфор, на словах сторонник Бурбонов, тоже, казалось, был склонен поверить молодому человеку. Однако Нуартье, давний и ярый приверженец Наполеона, был его отцом. Попади письмо в деловые бумаги, карьера молодого честолюбивого юриста была бы кончена. Поэтому он разорвал письмо и, чтобы уничтожить всякую память о его существовании и скрыть, что его отец продолжает тайную деятельность в пользу Бонапарта, отослал молодого моряка в замок Иф вблизи Марселя и отдал приказ заточить его в подземелье навечно. И действительно, несчастный провел там четырнадцать лет. Он испытал все муки отчаяния и поклялся отомстить своим врагам. Наконец ему удалось бежать. Став по воле случая владельцем несметных сокровищ, он вновь появился в свете. Он нашел своих врагов достигшими вершин благополучия и признания. Данглар стал богатым банкиром, Фернан женился на Мерседес, бывшей невесте молодого моряка. Он успел дослужиться до генерала и сколотил немалое состояние, выдав туркам пашу Янины. А молодой моряк появился под именем графа Монте-Кристо, и ему удалось отомстить своим недругам. Данглар теперь просит подаяние в Риме, господин де Вильфор сошел с ума, Фернан покончил с собой после того, как жена, Мерседес, и сын, Альбер, оставили его. Тот моряк, мадемуазель, — ваш покорный слуга, а Фернан — генерал де Морсер, ваш отец!
Амелия, с напряженным вниманием выслушавшая рассказ лорда, невольно вскрикнула и закрыла лицо руками. Наступила томительная пауза. Лорд тоже был взволнован — он принялся расхаживать взад и вперед по комнате.
— Милорд! — воскликнула француженка. Выражение ее лица трудно было описать: здесь была и боль, и готовность к самопожертвованию. — Милорд, я не вправе быть судьей тем ужасным событиям, о которых вы рассказали. Я верю, мой отец был виновен. Должно быть, он имел черствое сердце, иначе не оставил бы мою мать. Но я его дочь, милорд! Я готова посвятить вам всю свою жизнь! Позвольте мне искупить хотя бы часть той огромной вины, что лежит на моем отце! Вверяю вам свою судьбу, милорд, и если вы считаете, что я могу что-то сделать, чтобы вычеркнуть из вашего сердца память о вине моего отца, — скажите мне, умоляю вас!
— Вы готовы искупить его вину?
— Да, милорд.
— Даже если это будет нелегко?
— Даже тогда, милорд.
— Ну что же, — сказал лорд, глядя ей прямо в глаза, — в таком случае возвращайтесь к мормонам!
— О Боже! — воскликнула, побледнев, Амелия. — Это… это единственное, чего я не…
— Это слишком тяжело, я так и думал, — спокойно сказал лорд.
Мгновение Амелия смотрела на него с недоумением. В том, как были произнесены эти слова, слышалась какая-то отчужденность, какая-то холодность.
— Я готова! — решительно сказала она, вставая. — Я иду, милорд, это не будет для меня непосильным бременем.
— А вы не хотите узнать, почему я потребовал от вас такой жертвы? — спросил лорд.
— Нет, милорд, — ответила она. — О причинах я не спрашиваю, я дала слово — и я иду, даже если это будет стоить мне жизни!
— Еще одно, мадемуазель! — остановил ее лорд. — Я должен сказать вам кое-что.
Он взял ее руку и некоторое время серьезно смотрел в ее глаза.
— Амелия, у меня есть очень веские причины к тому, чтобы толкнуть вас на подобный шаг. Сейчас я не могу их открыть, да и вряд ли вы меня поймете. Но не считайте меня каким-то тираном! Нет, то, о чем сейчас идет речь, не наказание, а дружеская услуга. Возвращайтесь к мормонам, Амелия, но не такой, какой явились ко мне — с отчаянием и тоской на сердце, — а другой, полной мужества и надежды. Я буду незримо оберегать и защищать вас повсюду. Ни Вольфрам, ни кто-либо другой не причинят вам вреда, не смогут ни к чему вас принудить. Что бы ни случилось, какой бы близкой ни казалась опасность, положитесь на меня! Уже завтра один человек вручит вам мое письмо. Этот человек — друг. Вообще, не теряйте надежды и не падайте духом! Дочь Морсера не должна расплачиваться за то, что сделал отец. Да благословит вас Бог, Амелия! И если вам придется трудно, помните, что страдаете за своего отца! Никогда не забывайте: все, что вы делаете для меня, вы сделали и для него!
— Вот еще что, милорд. Я никогда не соглашусь на брак с Вольфрамом, по крайней мере на тех условиях, какие ставят мормоны.
— Не бойтесь! — улыбнулся лорд. — До крайностей дело не дойдет!
Он сам проводил Амелию до ворот форта. Стояла тихая прекрасная ночь, как почти все летние ночи в этих краях. Лорд задумчиво глядел вслед удаляющейся женской фигурке, которая постепенно таяла в темноте.
«Эх, Фернан, Фернан, — думал он, глубоко потрясенный, — будь в тебе хоть малая частица благородства, каким обладает эта девушка, ты не сделал бы нас обоих несчастными!
На следующее утро лагерь исчез — отряд направился дальше, на север.
IV. НА ГАСИЕНДЕ
Спустя примерно неделю лорд приехал с ответным визитом к дону Лотарио, преисполненному гордости оттого, что принимает у себя этого удивительного человека. Воздав должное гостеприимству хозяина, лорд Хоуп попросил молодого испанца познакомить его со своей невестой, что как раз и отвечало тайному желанию дона Лотарио. Вскочив на; коней, оба направились на гасиенду дона Рамиреса, с дочерью которого, донной Росальбой, и был помолвлен наш герой. По дороге он обратился к лорду:
— Я знаю, милорд, вы далеко превосходите меня в знании жизни. Мне известна также ваша проницательность, ваше умение разгадывать скрытые мотивы людских поступков. Поэтому прошу у вас совета в одном серьезном деле. Я еще очень молод и плохо разбираюсь в людях.
— Так говорите же, — подбодрил его лорд. — Уверяю вас, я желаю вам только добра.
— Благодарю вас, милорд. Видите ли, во-первых, моя невеста донна Росальба старше меня, во-вторых, я плохо знаю женщин. И то, и другое беспокоит меня.
— Что касается первого, тут нет большой беды, — спокойно заметил лорд. — Нередко мужчины обретают семейное счастье именно с женщинами, которые старше их. Если же вы хотите знать мое мнение о втором, я считаю, что это — ваша собственная вина: вам бы следовало увидеть мир и глубже изучить человеческое общество.
— Пожалуй, вы правы! — согласился испанец. — Но дон Рамирес, мой дальний родственник, считает этот брак необходимым и само собой разумеющимся. Да мне никогда и в голову не приходило, что моей женой может быть не донна Росальба.
— В таком случае это дело можно считать вполне решенным, — заметил лорд. — Да и к чему вам знать мое мнение? Если оно разойдется с вашим, вы только рассердитесь на меня.
— О нет, нет! — воскликнул молодой человек. — Вы должны откровенно поделиться своими впечатлениями.
— А если они будут не в пользу донны Росальбы? — спросил лорд.
— Тогда… тогда я повременю со своим решением, — не вполне уверенно ответил дон Лотарио.
Лорд еле заметно улыбнулся. Как плохо знает юноша свое сердце! Ему уже ясно, что донна Росальба — ангел во плоти, идеал женщины, а он все еще хочет услышать чье-то мнение!
Между тем дон Лотарио пустил свою лошадь галопом. Лорд тоже пришпорил своего арабского скакуна. Через несколько минут они оказались у ворот гасиенды дона Рамиреса.
Это была небольшая, но ухоженная усадьба. Земли вокруг нее были очень хороши, а по большей части и превосходно обработаны.
Молодой испанец, сгорая от нетерпения, подъехал прямо к входным дверям, откуда показалась седая голова старого испанца с хитрой физиономией.
— А, это ты, Лотарио! — воскликнул старик. — Ты, я вижу, не один. Росальба будет очень удивлена.
— Пусть удивится! — весело засмеялся молодой человек, слезая с лошади.
Слуга-мулат принял лошадь лорда, и гости в сопровождении дона Рамиреса прошли в просторную полупустую гостиную.
— Дон Рамирес — лорд Хоуп. Тот самый волшебник, Дядя, о котором я тебе рассказывал! — представил дон Лотарио.
Оба заверили друг друга, что рады знакомству: лорд — довольно холодно, со своей обычной бесстрастностью, старый испанец — сгорая от любопытства.
— А где же донна Росальба? — поинтересовался нетерпеливый влюбленный.
— Вероятно, заметила гостей и решила немного принарядиться, — пояснил дон Рамирес.
Ожидание длилось добрых четверть часа. Все это время дон Лотарио был как на иголках, а лорд с хозяином гасиенды беседовали о том, как живется в Мексике.
Наконец появилась та, которую столь страстно ожидали. Лорд встретил ее поклоном, слишком низким, чтобы считать его искренним, дон Лотарио поцеловал у нее руку. Лорду же оказалось вполне достаточно того, что он увидел.
Донне Росальбе было никак не меньше тридцати лет. Небольшого роста, стройная, как почти все испанки, она когда-то была, вероятно, очень недурна, но время расцвета ее красоты миновало. И лишь глаза ее — темные, страстные — все еще были прекрасны. Однако взгляд был колючий, пронизывающий.
«Бедный Лотарио! — подумал лорд. — Перед Росальбой ты словно голубь перед змеей!»
Молодой испанец был воплощением нежности. Лишь иногда его глаза с немым вопросом робко искали взгляд лорда, который сразу же завязал с донной Росальбой оживленную беседу по-испански.
Разговор вертелся вокруг повседневных дел. Испанка не сводила глаз с гостя. Вскоре она ловко перевела беседу на ту тему, которая ее особенно интересовала, — о самом лорде.
— Мы с вами соседи, — сказала донна Росальба, — вы живете к нам ближе всех, по крайней мере из европейцев. Мы наслышаны о вас: Лотарио рассказывал нам удивительные вещи о вашем богатстве и вашем уме.
— Он преувеличил — молодости это свойственно, — уклончиво заметил лорд.
— О нет, нет! — возразила донна Росальба. — А можно хоть одним глазком взглянуть на все эти диковины?
— Когда вам будет угодно, — ответил лорд. — Но должен вас предупредить: то, что вы увидите, — это только фрагменты не завершенной пока работы.
— И вы не женаты, милорд?
В самом ее вопросе, в том взгляде, какой она бросила на лорда, было нечто такое, что привлекло его внимание и побудило сделать жест, истолкованный ею как отрицательный ответ.
— И не намерены жениться? — продолжала донна Росальба.
— Лишь при условии, что буду счастлив так же, как дон Лотарио, — ответил лорд.
Испанка непроизвольно перевела взгляд с лорда на дона Лотарио, а потом опять на лорда. Конечно, молодой испанец был очень привлекателен в расцвете своих сил и красоты, но и лорд, пожалуй, мог поспорить с ним в этом. Кого интересует не только внешность, тому, безусловно, не могли не импонировать его уверенный взгляд, его выразительное бледное лицо. Во всем его облике было нечто притягательное. Он превосходил всех, хотя был немного выше среднего роста. Казалось, он рожден властвовать, подчинять своей воле, покорять.
— В таком случае я желаю счастья нашим дамам! — с сожалением вздохнула донна Росальба. — Среди них найдется немало таких, которые во многом превосходят меня.
— Сомневаюсь, — возразил лорд, не заметив, видимо, что донна Росальба, прежде чем опустить глаза, наградила его красноречивым взглядом, говорившим больше, нежели тысяча слов.
— Если милорд извинит меня и ненадолго составит компанию моей дочери, я хотел бы сказать несколько слов с глазу на глаз будущему зятю, — обратился к лорду дон Рамирес. — Согласитесь, милорд, накануне свадьбы необходимо уточнить некоторые детали.
— Разумеется, — улыбнулся лорд, — и если дон Лотарио не станет ревновать…
— Помилуйте, милорд, к вам? — воскликнул молодой испанец, в восторге от этой шутки. — Разве я не говорил, что считаю вас лучшим своим другом?!
И в восхищении от лорда, которого никогда не видел столь любезным, он вместе с доном Рамиресом вышел из гостиной.
— Лотарио немного опрометчив, — заметила донна Росальба, получившая теперь возможность сосредоточить весь огонь своих глаз на лорде.
— Меня радует его преданность. Итак, скоро вы станете его женой? Желаю вам счастья — дон Лотарио превосходный человек.
— Несомненно, я люблю его всем сердцем, — сказала донна Росальба. — Мы ведь ровесники, росли вместе. У него такая чистая, невинная душа. Настоящее золото! Я счастлива! Но даже не будь он таким, каков он есть, — что остается нам, бедным детям пустыни, милорд? Выбор наш невелик. Нас выдают замуж за соседа, за родственника — это решают родители. Не так уж много достойных иностранцев приезжает в Калифорнию, чтобы затруднить нам выбор и дать возможность сравнивать. Одно только смущает меня в Лотарио.
— В самом деле? — спросил лорд. Умение владеть собой позволило ему без особого труда скрыть отвращение, которое он испытывал к этим прозрачным намекам. — Я считаю дона Лотарио образцом во всех отношениях, — заметил он.
— Так оно и есть, — согласилась донна Росальба. — Но я боюсь, милорд, он слишком молод для меня. Вас это удивляет? Вы улыбаетесь? Нет, я не шучу, я всегда отдавала предпочтение более зрелым мужчинам. Они знают жизнь, лишь они умеют по достоинству оценить женщину, поскольку имели возможность сравнивать.
— Это верно, — сказал лорд. — Но ведь и дон Лотарио станет старше.
— Однако я тоже не вечно буду так молода! — воскликнула донна Росальба. — Клянусь Богом, выходить замуж за столь молодого человека — большой риск! Постоянно будешь спрашивать себя: каким станет его характер? Останется ли он таким же, как сейчас? Мне по душе более зрелые мужчины, твердые, сложившиеся характеры!
— Вы правы, — признал лорд. — Ну что же, будете его ангелом-хранителем, не так ли?
— Если он согласится взять меня в этом качестве — с большим удовольствием! Впрочем, не говорите ему об этом.
— О, как можно! — воскликнул лорд, приложив руку к сердцу. — Тем более что я признаю вашу правоту. А дон Лотарио не настолько дружен со мной, чтобы я, когда речь идет о такой даме, как вы…
Он не закончил фразы, хотя бы потому, что дон Рамирес с доном Лотарио снова вошли в гостиную.
Визит обещал быть непродолжительным, поскольку это было лишь первое знакомство. После кофе гости начали прощаться с хозяевами, условившись о скорой встрече. Кому был предназначен долгий взгляд, которым донна Росальба провожала обоих всадников: лорду или будущему супругу?
На обратном пути дон Лотарио искоса бросал беспокойные взгляды на молчаливого лорда.
— Ну, что же вы медлите? — спросил тот с улыбкой. — Вам не терпится узнать мои впечатления о донне Росальбе?
— Не терпится, — признался, покраснев, дон Лотарио. — Но только без прикрас!
— Извольте, я считаю, что донну Росальбу можно назвать единственной в своем роде, — ответил лорд.
— В самом деле? — вскричал молодой испанец, не улавливая двоякого смысла этих слов. — Вы действительно так думаете, милорд?
— Какие тут могут быть шутки! Я поражен, я увидел больше, чем ожидал.
— Вы делаете меня счастливейшим из смертных, милорд!
— О, это, чего доброго, вызовет ревность донны Росальбы, — возразил лорд. — А теперь прощайте, сеньор!
— Как, вы уже намерены расстаться со мной! Не хотите вернуться ко мне на гасиенду?
— Нет, мой друг. Солнце уже садится, а дома меня еще ждут дела. Я поскачу прямо через поле, а затем пересеку горный хребет. До свидания. Когда вы появитесь снова?
— Как только смогу, милорд, как только вы позволите! — воскликнул дон Лотарио. — Тысяча благодарностей!
— Ну полно, полно! — ответил лорд. Слегка поклонившись испанцу, он пришпорил своего коня.
Лорд не поехал тем путем, что лежал через горы, а поскакал глубоким ущельем, буквально стиснутым скалами. Эту дорогу обнаружил один из его людей. Она оказалась надежнее, короче и удобнее и пролегала по руслу пересыхающей летом горной реки.
Лорд ехал не менее двух часов, затем, недалеко от долины, которая была теперь его собственностью, придержал коня и издал продолжительный резкий свист. Он дважды повторил его, оглядываясь по сторонам, и лишь теперь увидел медно-красную физиономию индейца, внезапно вынырнувшую невдалеке.
— Подойди сюда, чего ты медлишь! — крикнул лорд по-испански; большинство индейских племен Калифорнии понимало этот язык и могло на нем, хоть и не без труда, объясниться.
Индеец медленно приближался, словно под воздействием магического взгляда гремучей змеи. Казалось, он делает это против своей воли, не имея сил противиться.
— Где предводитель красных людей? — спросил лорд. — Он далеко отсюда?
— Он там, в хижине одного из своих воинов, совсем близко, — ответил индеец.
— Быстро отправляйся к нему и передай, что с ним хочет говорить белый человек с горы Желаний! — приказал лорд.
Индеец мгновенно исчез, словно радуясь возможности скрыться с глаз лорда.
Тот невозмутимо сидел в седле. Вскоре из-за скалы показался другой индеец, выделявшийся среди своих братьев по крови более высоким ростом и крепким сложением.
— Подойди ближе, Летящая Стрела! — подозвал его лорд, и тот с глубоким поклоном приблизился. — Я спас твою любимую жену от пантеры, едва не разорвавшей ее. Потом, когда ваше племя страдало от голода, я прислал вам еды. Ты обещал, что я всегда могу рассчитывать на тебя и твоих воинов. Ты сдержишь свое слово?
— Приказывайте, сеньор! Что мы должны сделать? — напрямик спросил вождь.
— Завтра в полночь, когда звезда, что восходит там, будет у меня над головой, ты соберешь своих братьев, сколько сможешь найти. Затем вы отправитесь на юг, на гасиенду дона Лотарио — ты ее знаешь.
Вождь молча сделал утвердительный знак и весь обратился в слух.
— Ты нападешь на гасиенду так неожиданно, — продолжал лорд, — чтобы никто не успел оказать сопротивление. Если оно все-таки будет, вы и пальцем никого не тронете. Слышишь? За каждого бледнолицего, кто погибнет, я уничтожу сотню красных людей. Но горе тебе, если дон Лотарио будет убит или хотя бы ранен! На нем не должно быть ни царапины. Иначе я сотру с лица земли весь ваш род. Позаботься только о том, чтобы он был связан. Что до всего остального — делайте что хотите! Можете разграбить гасиенду, унести с собой деньги, запасы зерна, угнать скот. Опустошите пашни, заберите всю утварь, сожгите дом. Пусть на следующее утро на месте гасиенды будут только кучи мусора и пепла! Ты меня понял?
— Да, сеньор, — ответил индеец, в глазах которого вспыхнула зловещая радость.
— Но ты будешь молчать, молчать как мертвец, — с угрозой произнес лорд. — Если разболтаешь об этом — берегись!
— Красные люди никогда не говорят с бледнолицыми, — заметил вождь. — Но бледнолицые узнают, что мы сделали, станут нас преследовать и убивать.
— Они не сделают этого. Как только вы исполните все, что я приказал, вы отправитесь на север, в страну бледнолицых, которая простирается от одного моря до другого, и останетесь там до тех пор, пока обо всем случившемся здесь не забудут. Денег и припасов вам хватит на несколько лет.
— Хорошо, — пробормотал индеец. — Сеньор будет доволен нами.
Лорд дал шпоры своему коню.
— Сегодня вторник, — прошептал он, приближаясь к воротам своей крепости. — В пятницу дон Лотарио будет у меня.
Так и случилось. В пятницу, около полудня, вверх по дороге, которая вела к вершине горы Желаний, во весь опор мчался всадник. Его лошадь — не Сокол, а другая — была в пене, сам всадник — без шляпы. Мертвенная бледность покрывала его лицо, а прекрасные темные волосы трепетали на ветру. Он без устали погонял свою вконец измученную лошадь, пользуясь за отсутствием шпор собственной ладонью.
Как догадался читатель, это был дон Лотарио. Ворота форта распахнулись в ответ на его истошный вопль, и уже через минуту он, усталый до изнеможения и дрожащий, опустился в кресло, поспешно придвинутое лордом.
— Это ужасно, милорд! — воскликнул он срывающимся голосом. — Ужасно! Я нищий, я пропал!
— Что это значит, дон Лотарио? — невозмутимо спросил лорд, пристально вглядываясь в лицо испанца. — Что случилось? Вы нищий — трудно поверить…
— Я должен отомстить, милорд, отомстить этим краснокожим, этим негодяям, этим собакам! И дону Рамиресу и донне Росальбе! Проклятье на их головы! Нет, я не выдержу, я сойду с ума! Будь они все прокляты!
— Но как все это понимать, дон Лотарио? Расскажите толком! — Лорд положил руку на плечо молодого человека.
Казалось, это прикосновение несколько успокоило дона Лотарио. Дыхание его стало ровнее, он вытер пот со лба и попытался собраться с мыслями.
— Так слушайте, милорд! — сказал он наконец. — Позавчера ночью, когда я сладко спал (мне снилось, что я у донны Росальбы), меня вдруг разбудило зарево пожара и страшный шум. Целая толпа краснокожих дьяволов ворвалась в мою спальню, в одно мгновение меня схватили, связали и куда-то потащили. Я вопил как сумасшедший, звал на помощь, просил своих людей отомстить за меня. Все было напрасно. Меня продолжали куда-то тащить, потом бросили наземь и оставили лежать. О, милорд, вы не можете себе представить, что творилось у меня в душе! Прямо перед собой я видел нашу гасиенду, видел родовое гнездо, где надеялся быть счастливым: из окон вырывались языки пламени, повсюду бесчинствовали краснокожие, все разрушали, грабили, громили, растаскивали — а я беспомощно лежал на земле, не в силах шевельнуться. Крики ярости, вырывавшиеся из моей груди, тонули в грохоте рушившихся стен, в треске пламени, в ликующих возгласах грабителей! Все, все разорили эти негодяи, милорд! Они собирались не просто ограбить меня, нет — они хотели уничтожить мою собственность, сделать меня нищим! Они не оставили камня на камне, не пощадили даже плуги, мотыги, лопаты — что не унесли, то бросили в огонь; скот, который не смогли увести с собой, прирезали; запасы, какие были не в состоянии унести, побросали в реку или предали огню. Невозможно представить себе это зрелище! И все это я вынужден был видеть, лежа со связанными ногами, а когда наступил рассвет, моя прекрасная гасиенда лежала в развалинах, я был нищим, жалким, несчастным, у меня не осталось ничего, кроме собственной жизни и этих лохмотьев!
— Ужасно! — сочувственно заметил лорд. — А ваши люди погибли, не так ли?
— Нет, никто не пострадал — это совершенно непостижимо! — воскликнул дон Лотарио. — Похоже, негодяи стремились только разорить меня. О, зачем они сохранили мне жизнь, я охотно отдал бы ее, только бы не видеть этого позора. Нет, никто не был даже ранен, если не считать одного парня, который попытался защищаться. Это настоящий разбой! Мои люди разыскали меня и освободили от пут. К тому времени индейцы уже успели скрыться. Да мы бы и не смогли преследовать их: они захватили с собой всех моих лошадей, всех волов. Я был на грани безумия. Только мысль о донне Росальбе еще поддерживала меня, только о ней я еще думал… о-о-о! — Он схватился руками за сердце и застонал от обиды. — Дон Рамирес уже знал о моем несчастье — должно быть, видел зарево, — продолжал дон Лотарио. — Я бросился к нему на грудь, я все рассказал ему, я плакал, как ребенок, потому что думал о Росальбе, о том, что мечта о нашем счастье рушится. Мне хотелось ее видеть, только она одна могла утешить и поддержать меня. Наконец она появилась. О, лучше бы мне никогда не видеть ее! Она не выглядела ни испуганной, ни бледной — она была холодной и невозмутимой.
«Я с сожалением узнала, что за одну ночь вы стали бедняком, дон Лотарио», — сказала она.
Ее слова поразили меня в самое сердце — они были такими безжалостными. Она сказала мне «вы», хотя мы всегда говорили друг другу «ты»!
«Ошибаешься, Росальба! — воскликнул я. — Пока у меня есть ты, я не беден! Я еще самый богатый человек на земле!»
«Будь благоразумен, — сказал дон Рамирес и встал между мной и своей дочерью, потому что я поспешил к ней, — будь благоразумен, Лотарио. Расставим все по своим местам. Теперь тебе и думать нечего о женитьбе, это так. В сравнении с тобой я теперь богат, как Крез. Сам видишь, прежнего Лотарио больше не существует. Пусть моя дочь поступает, как ей угодно, но мой долг — долг отца — напомнить ей, что тот, кому она собирается отдать свою Руку. — всего лишь бедный идальго».
«Более того, — вставила донна Росальба, — теперь дону Лотарио самому нужно искать богатую невесту».
Голова у меня пошла кругом. Лоб пылал. Я ничего не мог понять. Я был близок к беспамятству.
«Выходит, донна Росальба возвращает мне свое слово?» — пробормотал я, запинаясь.
«Разумеется; и для вашего же блага, дон Лотарио, — сказала Росальба. — В Мехико вам не составит труда найти состоятельную невесту, ибо не везде еще известно о вашем несчастье. Ну а мне — мне нечего бояться. Мое будущее обеспечено. В жены бедному идальго я не гожусь — для этого я слишком избалованна. Но здесь поблизости есть люди, слава Богу, тоже не слепые. Скажу только, что ваш друг лорд, например, сказал мне немало…»
Она запнулась — вспыхнувшая во мне злость, вероятно, испугала ее. Она вскрикнула и исчезла. И это женская честь, милорд? Неужели все люди таковы?
Слезы текли по щекам молодого испанца. Он тяжело и судорожно всхлипывал.
— Я предвидел это, — спокойно, но участливо заметил лорд. — Когда я говорил вам, дон Лотарио, что донна Росальба единственная в своем роде, я хотел сказать, что на свете для нее существует только голый расчет. Именно расчет заставил ее стать вашей невестой, именно расчет руководил ею, когда она говорила мне такие вещи, которые я не стал бы слушать, если бы не стремился постичь ее сущность, именно расчет побудил ее теперь отказать вам. Расстаться с такой женщиной — благо для вас, дон Лотарио. Она сделала бы вас несчастным!
— О Боже, Боже, как тяжело, удар оказался слишком жесток! — стонал испанец.
— Время исцелит вас! — утешал его лорд. — Однако продолжайте, мой друг.
— Что еще рассказывать? — воскликнул дон Лотарио. — Я вернулся на свою разоренную гасиенду, бродил по пепелищу, плакал, проклинал жизнь, все и вся. О, милорд, сегодня я просто не могу понять, как тогда не сошел с ума. Наступил вечер, я бросился на землю, у меня не было даже крыши над головой. Мои люди остались на гасиенде дона Рамиреса, а я не хотел, не мог оставаться там даже одну ночь. Я лежал без сна на влажной от росы земле и ждал рассвета. Наконец настало утро. Я поплелся к дону Рамиресу. Я все еще надеялся, все еще считал, что меня не решатся прогнать, как одряхлевшую, ставшую бесполезной собаку. Но я ошибся. Он принял меня холодно и равнодушно сказал, что Росальба немного нездорова, но просила пожелать мне счастья; он посоветовал мне отправиться в Мехико и продать там свои земли. Впрочем, дон Рамирес сказал, что и сам не прочь купить их за тридцать тысяч долларов.
Теперь я знал достаточно, милорд. Но я не подал виду и остался спокоен. Я только попросил его дать мне на время лошадь, и он великодушно подарил мне одну, самую старую и плохую. Я подумал тогда о вас, милорд. Мы знакомы не так давно, однако мне показалось, что нужно спешить именно к вам. Ведь, помнится, вы признались, что желаете мне только добра.
— Я и сегодня повторю это, Лотарио, — сказал лорд, снова кладя руку на его плечо. — Вы и сами не так давно сожалели о том, что вам пришлось жить в этой глуши, что вы не научились ничему путному. Теперь весь мир к вашим услугам, дон Лотарио!
— Да, но раньше я был самостоятельным, богатым человеком, а что я теперь? — вздохнул испанец.
— Будьте моим учеником, моим сыном! — воскликнул лорд.
— О, милорд, — молодой человек глубоко вздохнул, — это, пожалуй, единственное, что могло бы меня утешить!
— Так вы согласны? Замечательно! Забудем все! Не думайте больше о своей жизни на гасиенде, где такому молодому человеку, как вы, суждено зачахнуть, не думайте больше о донне Росальбе, которая сделала бы вас несчастным. Обратите свой взор в будущее. Вы сказали, что теперь бедны. Сколько же стоило прежде ваше имение, дон Лотарио, но только откровенно?
— Четыреста пятьдесят тысяч долларов, если по-честному, — ответил испанец.
— Прекрасно, даю вам за него четыреста тысяч долларов. Вы довольны?
— Если бы я не знал, милорд, что вы самый хладнокровный человек на свете, я бы подумал, что вы бредите или решили разыграть меня! — почти с испугом воскликнул дон Лотарио. — Помилуйте, за гасиенду, которая более не стоит пятидесяти тысяч, — нет, никогда!
— Но речь идет только о стоимости участка земли, — возразил лорд с полнейшей невозмутимостью. — Я обнаружил на нем следы древних рудников.
— В самом деле? — с сомнением спросил испанец. — Нет, нет, вы намеренно не говорите мне правды. Ваше великодушие глубоко меня трогает. Я всегда буду вам благодарен, но воспользоваться им не смогу.
— Черт побери! — воскликнул лорд. — При чем тут великодушие? Угодно вам сделать мне одолжение — продать вашу собственность за четыреста тысяч долларов — или нет?
— Бог мой, если дело обстоит так, я, пожалуй, соглашусь, — смущенно пробормотал дон Лотарио.
— Вот и договорились. Я незамедлительно выдам вам долговое обязательство, ибо предполагаю, что вы не захотите получить всю сумму наличными. Впрочем, если вам угодно… может быть, двадцать тысяч долларов наличными? Их будет достаточно для ваших нужд, пока вам не представится удобный случай вложить свое состояние. Вот вам на первое время двадцать тысяч долларов.
— Мне кажется, я грежу, — пролепетал дон Лотарио, машинально принимая двадцать тысячедолларовых банкнотов, которые вручил ему лорд. — Неужели это не сон! Я все еще богат!
Тем временем лорд набросал несколько строк на большом листе бумаги.
— Вот, дон Лотарио, — пояснил он, — это чек на триста восемьдесят тысяч долларов. Банкирский дом братьев Ротшильд в Лондоне, Париже и Вене ручается за сумму долга, которую я указываю здесь на свое имя.
Мгновение дон Лотарио невидящим взором смотрел на подпись, потом скатал бумагу и сунул ее в карман. Между тем лорд сел рядом с ним.
— Ну, вот и договорились! — сказал он с улыбкой. — Тогда предлагаю вам отправиться путешествовать. Вы должны познакомиться с жизнью, узнать людей. Вы еще слишком молоды, чтобы понапрасну тратить время. Вам надо увидеть другие страны, познакомиться с иными нравами и обычаями, набраться опыта, приготовить себя к чему-нибудь дельному.
— Да, да, это и мое желание, — согласился с ним дон Лотарио. — А куда я должен ехать: в Нью-Йорк, в Париж?
— Нет, в Берлин, — ответил лорд.
— В Берлин? — спросил молодой испанец, сделав круглые глаза. — Черт побери, этот город мне известен разве что по названию. Кажется, это столица…
— …Пруссии! — закончил за него лорд. — Туда я и хотел бы вас послать. Вначале вы поедете в Нью-Йорк и пробудете там полтора месяца, затем в Париж, где останетесь на три месяца, потом в Лондон, где сможете прожить столько же, после чего отправитесь в Берлин. В Париже и Лондоне вы познакомитесь с миром политики, а в Берлине вам предстоит изучать науки. Спокойнее всего заниматься этим именно в Берлине. Когда я был в Индии, в Калькутте, я познакомился с молодым немецким ученым, которому оказал одну услугу. Из газет я узнал, что он уже вышел в профессора, надеюсь, он еще жив. В Берлине он будет вашим наставником.
— Я сделаю все, что вы прикажете!
— Кроме того, в Берлине у меня будет для вас еще одно поручение, — сказал лорд. — Возьмите эти бумаги. В них содержатся сведения, которые вам необходимо знать. Речь идет о некоем семействе, по фамилии Бюхтинг, разыщите его. Глава семьи давно уехал в Америку, оставив в Берлине жену и двоих детей — сына и дочь. Правда, в Берлине у меня есть свой агент, но я не хотел бы обременять его этим поручением. Если семейство бедствует, вам следует время от времени посылать ему некоторые суммы. Во всяком случае, известите меня, в каком положении находятся эти люди. Это ваше особое задание, остальное вы все знаете. Вот вам еще одна бумага. В ней я перечислил те принципы, какими рекомендовал бы вам руководствоваться в жизни. Не забывайте ежедневно заглядывать в эту бумагу.
Дон Лотарио взял поданную лордом бумагу словно святыню и положил вместе с долговым обязательством.
— Теперь еще одно! Если вы будете экономны и бережливы, двадцати тысяч долларов вам должно хватить на год-полтора. Если не уложитесь в эту сумму, вам достаточно обратиться с этим чеком к любому крупному банкиру.
— Но, милорд, у вас ведь еще нет никакого документа, которым я бы подтвердил, что мое владение принадлежит теперь вам! — воскликнул дон Лотарио.
— При случае вы составите для меня такой документ, — успокоил его лорд.
— Хорошо, — пробормотал испанец, невольно покачав головой. — А когда я должен ехать?
— Немедленно, сегодня же!
— Немедленно? — испуганно вскричал юноша. — Но позвольте, милорд…
— Разве вас что-то еще здесь удерживает? Вам будет полезно отвлечься и рассеяться. Можете взять из моего гардероба все, что окажется вам впору и придется по вкусу. Мой пароход уже стоит под парами. Через час он направится в Нью-Йорк забрать оттуда кое-что, в чем я испытываю нужду. По пути зайдет в перуанский порт Кальяо, там вы сможете сделать необходимые покупки. Не забудьте немного подучиться морскому делу у штурмана. В жизни все может пригодиться. Если мне потребуется отправить вам письма, вы найдете их в банкирском доме братьев Ротшильд, а в Берлине — у моего агента, который представится вам, как только вы туда прибудете. Итак, все в порядке?
— Все, милорд! — ответил дон Лотарио.
Спустя час он уже находился на пароходе, который покидал морской залив. Дону Лотарио все еще казалось, что он грезит.
V. АЛЬБЕР ЭРРЕРА
— Прощайте, лейтенант Эррера! До скорой встречи!
— До свидания, дружище! Не робей!
— Смерть кабилам! Да здравствует Франция!
Такие возгласы выделялись из общего гомона, напутствуя того, кому предстоял нелегкий путь. Именно к нему тянулись руки с наполненными вином бокалами. Вино искрилось, солнце смеялось, глаза провожавших блестели.
Кому же предназначались эти напутственные слова? Не одному ли из тех самых кабилов? В это нетрудно было поверить, ибо тот, к кому тянулись все руки, был молодой человек в белом бурнусе с откинутым капюшоном. Под бурнусом виднелся пояс, из-за которого торчал кривой ятаган. В руке юноша держал длинноствольное бедуинское ружье. У него было смуглое лицо, темные волосы, такого же цвета борода и усы, серьезные задумчивые глаза. Однако, несмотря на его наряд, приветственные крики друзей недвусмысленно свидетельствовали о том, что перед нами — сын Франции.
Молодой человек сердечно благодарил провожавших. Иногда на его губах появлялась улыбка, но глаза оставались серьезными. Временами он озабоченно посматривал на палатку командира. Палатка ярко блестела в лучах солнца, а над ней был укреплен национальный флаг Франции, бессильно повисший в царящем безветрии. Невдалеке от палатки взбивал копытом желтый песок великолепный конь, взнузданный и украшенный по обычаям кабилов.
Вскоре толпа провожавших раскололась надвое: друзья лейтенанта потеснились и образовали проход, отдавая честь старшему по званию офицеру, который направлялся к ним от командирской палатки. Он был высокого роста, статный, крепко сложенный; усы и борода клином придавали ему по-настоящему бравый вид. Это был полковник Пелисье[4], тогдашний командир батальона расквартированной в Мостаганеме французской дивизии.
— Итак, вы готовы, мой юный друг? — спросил он юношу. — Черт возьми! Ваше счастье, что мы не встретили вас в часе езды отсюда, между скал. Мы определенно приняли бы вас за кабила и расстреляли. Тем лучше. Вы введете в заблуждение самого проницательного человека. Вы что же, лейтенант Эррера, и в самом деле настолько хорошо усвоили язык кабилов, что не вызовете у них подозрений?
— Я полагаю, господин полковник! — ответил Альбер. — Пока я имел честь сражаться под знаменами моего отечества против сынов пустыни, я изучил язык наших врагов и, надеюсь, знаю его в совершенстве.
— Вы ведь три месяца были однажды в плену, не так ли? Там у вас и правда была возможность познакомиться с нравами и языком этих безбожников. Значит, вы надеетесь на успех операции?
— Я должен надеяться, и я надеюсь, господин полковник.
— В таком случае никаких препятствий для вашего отъезда нет, — заметил Пелисье. — С Богом, лейтенант Эррера! Если вы благополучно вернетесь, родина не забудет ваших заслуг!
— Благодарю вас, господин полковник! Но у меня есть одна просьба. Могу я сказать вам несколько слов наедине?
— С удовольствием выполню вашу просьбу, лейтенант! — ответил полковник и направился назад в свою палатку. Молодой человек последовал за ним.
— Господин полковник, — сказал юноша, когда они остались одни, — мне нужен человек, которому я могу доверить последнюю просьбу. А кого мне следует просить об этом одолжении в первую очередь, как не моего командира? Я сознаю, что пускаюсь в предприятие, из которого могу вернуться живым лишь при самом благоприятном стечении обстоятельств. Я не испытываю страха, господин полковник, — я рад оказанному мне доверию, я горжусь этим знаком признания. Я хотел только просить вас, если не вернусь с задания, переслать это письмо моей матери, Мерседес Эррере, в Марсель. Адрес указан на конверте.
И еще одно. Я доверяю вам свою тайну, господин полковник. Дело в том, что Эррера не моя фамилия — это девичья фамилия моей матери. Я — сын человека, небезызвестного и для вас, — человека, память о котором я не в силах избавить от бремени лежащего на нем бесчестья. Но в свое время он занимал в обществе весьма достойное положение, и мой долг — вернуть фамилии покойного, ибо она по праву является и моей фамилией, былую славу. Если я благополучно вернусь, господин полковник, полагаюсь на то, что вы сохраните мою тайну, ибо я еще весьма далек от мысли вновь брать фамилию отца. Если же я погибну за родину, скажите тому, кто спросит о моем имени, что эту услугу отечеству оказал сын несчастного генерала де Морсера.
— Как? — с удивлением воскликнул Пелисье. — Вы — Альбер де Морсер, сын генерала? Если не ошибаюсь, вы прибыли к нам вместо кого-то другого и начинали службу в самом низком звании?
— На все это есть свои причины, — печально, но с достоинством ответил Альбер. — Немало людей упрекало мою мать и меня за то, как мы поступили. Но мы не могли иначе, не хотели сохранить наследство, над которым тяготело предательство и еще одна, более ранняя вина, неизвестная большинству тех, кто нас осуждал. Моя мать распродала все, а деньги раздала беднякам. Сам же я решил, что если когда-нибудь и добьюсь чего-то в жизни, то буду обязан этим только самому себе. Даже фамилия моего отца не должна ни помогать, ни мешать моим собственным усилиям. Поэтому я и взял девичью фамилию матери. Судьба оказалась ко мне благосклоннее, чем я ожидал. Я лейтенант французской армии, мои товарищи любят меня, мои командиры не раз выказывали мне свое расположение.
— Хорошо! — сказал полковник Пелисье. — Пусть будет так. Если вы погибнете, чего я не допускаю, родина узнает, кто пролил за нее кровь. Если вы возвратитесь… тогда…
— …тогда, господин полковник, — быстро прервал командира Альбер, — тогда, повторяю еще раз, я не кто иной, как лейтенант Эррера. И для вас, и для всех остальных. Прощайте, господин полковник! Благодарю вас!
— Прощайте, лейтенант Эррера! — сказал Пелисье, протягивая ему руку. — Мне будет приятнее вновь увидеть нашего старого друга, нежели известить мир о гибели Альбера де Морсера!
Молодой человек с признательностью взглянул на полковника и вышел из палатки.
Лошадь нетерпеливо била копытом песок, товарищи еще теснее окружили Альбера. Снова зазвучали добрые напутствия, со всех сторон слышались пожелания успеха. Альбер Эррера был уже в седле. Белоснежный бурнус окутывал его подобно облаку.
— Прощайте, друзья! — закричал он. — Дайте дорогу! Прощайте! Смерть кабилам! Да здравствует франция!
— Да здравствует Франция! — загремело отовсюду.
Лошадь поднялась на дыбы, потом рванулась вперед. Альбер на прощание взмахнул рукой. Еще раз огласили окрестности приветственные клики. Бурнус всадника затрепетал на скаку, потом Альбера окутало облако песка, и через несколько минут он уже исчез за низким кустарником, который покрывал равнину и тянулся до самых предгорий Атласских гор, синеющих вдали.
Спустя час лошадь сменила галоп на размеренную рысь, и Альбер оказался один среди бескрайней равнины, один с ятаганом, пистолетами, верным конем и сердцем, полным мужества и веры, один под темно-синим небом, горячим солнцем, окруженный низкорослыми кустами, над которыми тут и там возвышались вершины скал — предвестники синеющего на юге горного массива.
Ему было поручено обнаружить убежища, в которых укрывались кабилы, уходя от преследования французов после неудачной атаки. На открытых пространствах французы всегда брали над ними верх. Но чего стоили эти победы, если разбитый неприятель успевал на своих лошадях оторваться от преследования и укрывался в горах, откуда мог в любой момент вновь нанести неожиданный удар? Сколько сражений проиграли кабилы, сколько героизма проявили французы, предводительствуемые такими командирами, как Вале, Бюжо, Кавеньяк, Шангарнье, Бедо и Ламорисьер! И тем не менее враг был снова готов к борьбе, почти так же силен. Отряды кабилов вновь и вновь блокировали пути передвижения французов, громили их обозы и уничтожали небольшие формирования французской армии. Французы ожесточились сверх всякой меры. В провинции Оран находился сейчас, как утверждали, сам неутомимый эмир Абд аль-Кадир, там же пребывал его союзник Бу Маза. Ходили слухи, что готовится совместное нападение на французов. Лень ото дня возрастала дерзость кабилов, все дальше их отряды углублялись во французские тылы, и тем не менее застигнуть значительное число кабильских воинов, сосредоточенных в одном месте, было невозможно. Предгорья Атласа с их ущельями, пещерами, недоступными вершинами всегда предоставляли уходящим от преследователей сынам пустыни надежное укрытие. Горы служили им сборными пунктами, естественными укреплениями и складами, и проникновение туда было бесполезным и безрассудным делом до тех пор, пока с полной определенностью не будет известно, где следует искать кабилов. Неподготовленный поход в эти горы мог обернуться для французских войск огромными бессмысленными потерями.
Именно поэтому Альбер Эррера и держал теперь путь в горы. Ему было поручено разузнать, куда скрываются отступающие отряды кабилов, ему предстояло, рискуя жизнью, действовать в одиночку среди тысяч хитрых, кровожадных врагов. Задание представлялось настолько опасным, что пойти на это мог лишь человек безрассудной храбрости. Но когда речь зашла о подобном разведчике, Альбер вызвался добровольно, и полковник Пелисье, отчаянный и неразборчивый в выборе средств, принял предложение молодого способного офицера.
Неожиданно путь Альберу преградила небольшая река.
Молодой человек решил немного передохнуть, напоить лошадь и подыскать подходящее место для переправы. Но это оказалось не так легко, как он предполагал. Берега были очень высоки и круты. Возможно, где-то и существовал удобный брод, но Альберу никак не удавалось его обнаружить. Проискав напрасно четверть часа, он надумал поехать вверх по течению в надежде встретить место, где берег пониже и более пологий.
В этот момент он заметил на противоположном берегу всадника. Судя по одежде, это не был кабил: с первого взгляда лейтенант определил, что перед ним алжирский еврей. Иудей тоже ехал вдоль берега, вероятно, как и Альбер, в поисках удобной переправы. Француза он еще не заметил, и Альбер мог без помех за ним понаблюдать.
Он был среднего роста, тощий, с тронутой сединой черной бородой; согнувшись, он сидел на невзрачном муле, время от времени боязливо посматривая на юг, на горы, словно подозревал, что там находятся враги. Это бросилось в глаза лейтенанту. Он был слишком хорошо знаком с обстановкой в Алжире и знал, что почти все евреи — на стороне французов и нередко соглашаются на роль соглядатаев и осведомителей.
Может быть, и этот еврей — шпион, пытающийся отыскать французов.
Похоже, трудная миссия, которую взял на себя Альбер, должна была начаться с минуты на минуту. Он был одет кабилом и хотел, чтобы его принимали за сына пустыни, следовательно, еврей не должен доверять ему. Между тем Альберу не терпелось узнать, где находится ближайший лагерь кабилов и на какое племя он наткнется. Это облегчило бы ему задачу.
Тем временем еврей отыскал брод и въехал в реку. Альбер уже принял решение повстречаться с ним. Во-первых, ему хотелось выведать у еврея как можно больше, во-вторых, он стремился подвергнуться проверке и убедиться, действительно ли первый встречный примет его в этом наряде за кабила.
Он резво поскакал вдоль берега. Еврей находился уже посередине реки, когда заметил Альбера, и лейтенант отчетливо увидел, как испугался бедный иудей и придержал своего мула. Избежать встречи было уже невозможно.
— Дай мне дорогу! — повелительно закричал Альбер. — Мне нужно на ту сторону!
Еврей принялся понукать своего мула, потом слез с него и с трудом вытащил заупрямившееся животное на берег, где находился Альбер.
— Откуда ты взялся? — спросил молодой француз, смерив его испытующим взглядом и приняв горделивую осанку, которая характерна для коренных жителей этих мест, мусульман, при общении с евреями. — Ты направляешься из лагеря правоверных?
— Я еду с гор, это верно, но не оттуда, откуда ты думаешь.
— Может быть, тебе известно, где Бу Маза? — продолжал Альбер. — Отвечай, мне нужно к нему.
Казалось, еврей колеблется. Ведь он находился на территории, разделявшей две враждующие стороны. Задавать вопросы, касающиеся такой известной личности, как Бу Маза, следовало с осторожностью.
— Я слышал о нем, — ответил наконец еврей. — Он со своими людьми двигался через горы.
— Куда ты направляешься, нечестивец? — воскликнул Альбер. — Я знаю, что ты задумал! Ты хочешь выдать франкам убежища в горах, где скрываются правоверные! Покажи свой фирман!
Еврей, подавленный, похоже, огромным горем, медленно извлек из кармана бумагу, испещренную арабскими письменами. Она была составлена заместителем Абд аль-Кадира. Едва пробежав первые строки, лейтенант стал внимательнее, так как имя владельца фирмана было ему знакомо. Документ был выдан Эли Баруху Манасу, торговцу из Орана, и разрешал ему отправиться в горы на поиски своей дочери. Еще со времени пребывания в Оране Альбер знал, что Эли Барух Манас — один из богатейших купцов города. Его единственная дочь славилась красотой. Таким образом, перед молодым офицером оказалась не совсем обычная личность. Альберу приходилось слышать и о том, что этот еврей — друг французов. Большинство офицеров связывали с ним денежные дела.
— Эли Барух Манас? — спросил Альбер, нахмурив лоб. — Я знаю, ты друг франков.
— Но еще больше — друг правоверных, — несмело заметил еврей. — Хотя Бог не покарал бы меня, если бы я водил дружбу с франками, ведь правоверные причинили мне немало горя.
— Что ты хочешь этим сказать, гяур? — прикрикнул на него Альбер. — Что значат твои предательские слова?
— Как Бог свят, я не предатель! — вскричал еврей. — Я бедный, несчастный отец, у которого, вопреки закону и справедливости, похитили родное дитя! Моя несчастная, моя любимая дочь, моя Юдифь! Она была прекрасна, как дочери Сиона, и мудра, как царица Савская! Я пропащий человек!
Слезы брызнули у него из глаз. Это был неподдельный крик души.
— Расскажи, как это случилось. Я хочу знать! — сказал лейтенант. — Что с твоей дочерью?
— Ее украли, похитили! — воскликнул иудей. — О, моя бедная Юдифь! Разве не была она самой прекрасной девушкой на свете?! Разве сами господа французские офицеры не простаивали сутками под окнами моего дома, чтобы хоть разок поймать взгляд ее черных глаз?! Но она была гордой, чистой девушкой, не отвечала на их призывные взоры. «Отец, — часто говорила она мне, — не приводи мне женихов ни нашей, ни чужой нам крови, я хочу сама отыскать того, кто мне понравится!» Господи, она была моим единственным ребенком! Я не смел обрекать ее на страх и на муки. И чего я только не делал для нее! Все, что способен сделать для своей дочери какой-нибудь барон или даже принц. Разве она не говорила по-французски и по-английски, разве не играла на фортепьяно и не пела как соловей? Если бы я захотел вывезти мою Юдифь в свет, она затмила бы всех французских дам и могла бы выйти замуж за генерала — ведь у меня, кроме того, водятся деньги! Но она не хотела этого, она стремилась к уединению, и я делал все для нее, ведь она была моим единственным ребенком. Однако злой дух внес смятение в ее душу: она попросила меня отправить ее к тетке, Ребекке, жене моего брата, в Маскару на месяц. Тетка написала, что больна и хотела бы повидаться с Юдифью. Я просил Юдифь подождать еще две недели, пока я сам не смогу сопровождать ее, потому что у меня были неотложные дела в Алжире. «Отец, — сказала она в ответ на мои просьбы, — зачем тебе утруждать себя? На дорогах все спокойно, а Маскара недалеко. Я отправлюсь одна!» И она отправилась…
Еврей не смог продолжать свой печальный рассказ — судорожные рыдания прервали его слова. Альберу стоило немалого труда по-прежнему играть свою роль. Судьба несчастного отца вызвала у него сочувствие. Но он мысленно взвешивал, как отнесся бы к этому повествованию мусульманин-кабил.
— Когда я вернулся из Алжира, — продолжал, немного успокоившись, Манас, — навстречу мне с криками и плачем бросились служанки; я думал, что умру от ужаса, когда они сказали, что моя дочь попала в руки разбойников! Мне казалось, этого я не вынесу! Они рассказали, что благополучно добрались почти до самой Маскары, как вдруг из-за кустов появились несколько всадников. В то же мгновение они напали на маленький караван, разграбили его, застрелили двух слуг, а когда служанки хватились Юдифи, ее уже с ними не было: один из разбойников посадил ее на лошадь позади себя и умчался.
— И ты поверил, что это были правоверные? — спросил Альбер.
— Поверил ли я, да я знаю это наверное! — воскликнул еврей. — Я бегал, расспрашивал, не ведал ни минуты покоя, пока не узнал, что Юдифь увез один из тех правоверных, что скрываются в горах. Я помчался в лагерь и упросил выдать мне фирман, добрался до этих людей, упал на колени, плакал и умолял вернуть мне дочь. Но никто не говорил мне, где она, они пинали меня, били и кричали, что мне поделом, потому что я проклятый еврей и якшаюсь с франками.
В отчаянии он вцепился себе в бороду, и слезы потоком хлынули у него из глаз.
— И ты собираешься теперь отправиться к франкам? — мрачно спросил Альбер. — Ты решил выдать им, где находятся правоверные, и просить их помочь тебе вернуть дочь, не так ли, гяур?
— Не знаю, что я сделаю! — не помня себя от горя, закричал еврей. — Но я раструблю на весь свет об этой несправедливости и этом злодеянии, а кто вернет мне мою Юдифь, тому я буду служить как собака, будь то франк, правоверный или еврей!
— Слушай меня, гяур, — сказал Альбер, — мне нужно переправиться на тот берег, к правоверным. Если я найду того, кто украл твою дочь, я обвиню его в том, что он нарушил законы. Правоверному не пристало ронять свое достоинство и якшаться с дочерью неверного пса. Абд аль-Кадир и Бу Маза тоже не одобрят этого, если узнают.
Еврей печально покачал головой. Слова Альбера показались ему слабым утешением, и он непроизвольно обратил взор на север, будто ожидал от французов более действенной помощи. Альбер задумался.
— Вы уже сообщили об этом происшествии французскому командованию? — неожиданно спросил он на своем родном языке.
Услышав французскую речь, еврей вздрогнул и с испугом взглянул на молодого человека.
— Не успели? Ну что же, — сказал Альбер, — отправляйтесь к полковнику Пелисье и оставайтесь у него неделю-другую. Ждите дальнейшего развития событий. Если вашу дочь можно спасти, она будет спасена. А теперь отвечайте мне без обиняков, где вы встретили кабилов: может быть, мне удастся сократить путь.
— Силы небесные! — воскликнул, не веря своим ушам и глазам, еврей. — Господин — француз?
— Кто я, вам теперь безразлично, — коротко заметил Альбер. — Итак, где кабилы?
— Вам известно, где находятся горы Дахры? — спросил Манас.
— Приблизительно, — ответил Альбер. — Так, значит, они там? Хорошо, я еду туда. А теперь, мой друг, не поднимайте шума. Прямиком езжайте в лагерь и оставайтесь там. Никому, кроме полковника Пелисье, не говорите, что встретили меня. И вот еще что! Вы приняли меня за кабила, не так ли? И даже теперь поверили бы в это?
— Клянусь Богом, да! — воскликнул Манас. — Я подумал было, что мне встретился один из этих псов.
— А теперь прощайте! — бросил Альбер и, оставив еврея в полном недоумении, стал переправляться вброд.
VI. КАБИЛЫ
К заходу солнца Альбер уже был в лагере кабилов. Караульные задержали его и отвели к шейху, с которым он имел довольно продолжительную беседу. Теперь он стоял, опершись на своего коня, в той горделивой и вместе с тем небрежной позе, какую имеют обыкновение принимать арабы, и исподволь внимательно изучал лагерь своих врагов.
Лагерь располагался в горной долине на юге провинции Оран, в той изобилующей ущельями местности, которая носит название Дахры.
От шатра шейха слух об Альбере, видимо, распространился теперь по всему лагерю. Его обитатели собирались кучками и перешептывались. Все взоры были устремлены на молодого человека. Кабилы толпились вокруг него и разглядывали скорее с восхищением, нежели с робостью.
Должно быть, шейх отнесся к словам Альбера с бо́льшим доверием, чем тот мог предположить. Начало его предприятия казалось удачным.
— Тебя послал Ахмед, бей Константины, защитник правоверных? — спросил, почтительно приблизившись к Альберу, старик араб.
Вместо ответа лейтенант молча кивнул.
— Он не погиб, как болтали завистники? — продолжал старый араб.
— Он жив, — ответил Альбер, — он жив и, клянусь бородой пророка, докажет франкам, что у него еще достаточно сил.
— И он послал тебя известить нас о своем скором прибытии? — не отставал старик.
— Он послал меня узнать, нуждаются ли в нем правоверные, — с достоинством ответил Альбер.
— К несчастью, да, — вздохнул араб. — Дела у нас не стали лучше, напротив — идут все хуже. Франки продолжают наступать. Не может ли Ахмед-бей послать нам в помощь своих людей?
— Он готов прислать две тысячи всадников, сыновей Страны Финиковых Пальм, — ответил лейтенант.
— Тогда добро пожаловать к нам! — радостно воскликнул араб. — Будь и ты нашим гостем!
Стоявшие кругом кабилы одобрительно зашумели. Альбер вдруг сделался важной персоной.
Нетрудно догадаться, какой план разработал молодой офицер, чтобы обеспечить успех задуманной операции. Он явился под видом посланца того самого Ахмед-бея, который храбро защищал от французов Константину, а затем, по слухам, отступил на юг, в Билед-уль-Джерид, Страну Финиковых Пальм, граничащую с пустыней Сахарой. Его считали давно умершим, возможно, его и в самом деле уже не было в живых. Тем желаннее была бы теснимым французами кабилам весть о том, что храбрый воин ислама еще жив, что он решил вновь включиться в борьбу и послать на помощь правоверным свежие силы. Если Альберу повезет и он достойно сыграет роль эмиссара Ахмед-бея (а казалось, так оно и есть), то самая трудная часть его предприятия позади и он может надеяться, что пробудет у кабилов до тех пор, пока не обнаружит их тайные убежища.
Альбер, выдававший себя за посланца Ахмед-бея, получил в свое распоряжение трех слуг, которым было поручено заботиться о нем и его лошади. Ему отвели отдельную палатку. Вечером следующего дня ждали приезда Бу Мазы. Альбер должен был встретиться с ним, а затем вернуться к Ахмеду и сообщить бею, что его с нетерпением ждут.
Довольный тем, как идут его дела, молодой офицер растянулся на львиной шкуре, служившей ему постелью, и предался мечтам. Ночь была тихой. Кругом не слышалось ни звука, если не считать раздававшегося по временам конского ржания да крика караульного, отмеряющего каждый час. Эту привычку кабилы строго соблюдали даже в военном лагере. Как изменился Альбер за последние годы, с тех пор как его настигли тяжелые удары судьбы! Мысленно он возвратился в Париж. Кем он был там? Одним из тысяч тех, кто смотрит на собственную жизнь почти как на обузу и пытается всеми силами скрасить ее однообразие. И как разительно изменилась его собственная жизнь теперь, с тех самых пор, как он начал бороться за то, чтобы занять в ней достойное место! Как много вещей, о которых он прежде не задумывался, которые, возможно, даже презирал, теперь приобрели в его глазах привлекательность и ценность!
Он поймал себя на мысли, что его неотступно преследует фантастический образ несчастной дочери Манаса. Он представлял себе ужас и замешательство бедной девушки, видел, как она сопротивляется дерзкому арабу. Затем он подумал, что ему, может быть, посчастливится спасти ее, и не без доли тщеславия вообразил себе всеобщее внимание, которое привлек бы этот его поступок, ведь Юдифь, кажется, очень хороша собой, он припомнил, что немало слышал о ней в Оране. Он воображал себе ее блестящие черные глаза, слышал ее вздохи — и незаметно уснул.
Когда на следующее утро он проснулся и высунул голову из своей низкой палатки, то не без удивления обнаружил, что его положение явно изменилось. У его палатки сидели на корточках, держа в руках длинноствольные ружья, трое кабилов, остальные стояли, разбившись на группки, и перешептывались друг с другом. Похоже, лагерь охватило какое-то беспокойство. Альбер подумал о приближении французов, но когда снова попытался высунуть голову, три его стража одновременно вскинули ружья и прицелились в него, так что Альберу пришлось быстро ретироваться. Теперь у француза не было сомнений, что это не почетный караул.
Через некоторое время он рискнул снова выглянуть из палатки. На этот раз кабилы не подняли ружей, и Альбер с величайшим достоинством и хладнокровием покинул свое временное жилище. Он направился к шатру шейха. Как видно, что-то случилось. Кабилы уступали ему дорогу, бросая на него недоверчивые, испытующие взгляды, шушукались и отдельными группами по нескольку человек провожали его до шатра шейха.
Едва Альбер вознамерился узнать, можно ли ему видеть шейха, как тот вышел из шатра.
— Ты обманул нас, нечестивый пес! — сказал он, повысив голос. — Аллах покарает тебя!
— Кого ты имеешь в виду? — спокойно поинтересовался Альбер, оглядываясь вокруг, словно за его спиной находился некто, кому были адресованы эти гневные слова. — Кого должна настигнуть месть Аллаха?
— Тебя! — вскричал шейх. — Ты обманул нас! Ты франк, гяур, собака, а не посланец Ахмед-бея!
— Ну, это уж слишком! — вскипел Альбер, поворачиваясь к шейху спиной. — Я возвращаюсь к Ахмед-бею, я скажу ему, что правоверные обошлись с его посланцем как с гяуром, и тогда он задумается, посылать ли помощь тем, кто оскорбил его, оскорбив меня.
— Ты хитрый и ловкий обманщик! Но Аллах помог нам разоблачить твою гнусную ложь. Скоро камни Дахры окрасятся твоей кровью! Ты знаешь этого человека?
И он указал на палатку, у входа в которую виднелось бледное лицо, обрамленное черной с проседью бородой. С первого взгляда Альбер узнал искаженную страхом физиономию еврея из Орана.
Так вот оно что! У него закипела кровь. Значит, его предал этот еврей. Человек, которому он обещал, если удастся, освободить его родное дитя, — этот человек вернулся в лагерь кабилов, чтобы донести на него.
А зачем? Этот вопрос мелькнул в голове молодого француза. Ответить было несложно. Еврей полагал, что предательство поможет ему вернуть дочь. Любовь к ней сделала его предателем.
В душе Альбер проклинал этого еврея, которого сделало преступником одно из благороднейших чувств, дарованных нам природой. Тем не менее он вынудил себя хранить ледяное спокойствие.
— Какого человека? — спросил он. — Того, у палатки? Я повстречал его у брода, и он поведал мне басню о своей украденной дочери. Я сбился с пути, а когда он сказал, что знает, где правоверные, я велел показать мне дорогу. Вначале я принял его за шпиона, и думаю, не ошибся. Он направлялся в лагерь франков!
— А не ты ли сказал ему, что ты франк? Не ты ли обещал ему помочь? — допытывался шейх.
— Нет! — невозмутимо ответил Альбер. — Как я мог такое сказать, если я правоверный, а судьба его дочери волнует меня не больше, чем судьба первой встречной собаки. Если этот гяур пришел ошельмовать меня, пусть остается в лагере, пока вы не пошлете гонцов к Ахмед-бею, а когда они вернутся и подтвердят вам, что я сказал правду, я собственной рукой отделю голову этого гяура от туловища!
— Я прошу милосердия, милости! Говорю вам, он франк! — вскричал еврей, бросаясь к шейху и падая перед ним на колени. — Он послал меня к французскому полковнику, который мне поможет. Он говорил со мной на языке франков! Клянусь жизнью, он франк, шпион! Шейх правоверных сдержит слово, он человек чести и вернет мне дочь за то, что я открыл ему важную тайну. Накажи меня Бог, если я солгал!
— Так вы верите этому гяуру? — с нескрываемой иронией спросил Альбер, обращаясь к шейху и остальным кабилам. — Вы верите ему больше, чем словам правоверного? Неужели вы настолько глупы, что не догадываетесь, зачем он явился? Поскольку я ему признался, что прибыл издалека, что незнаком с уроженцами ваших мест, шельма еврей смекнул, что может выдать меня за франка, обмануть правоверных и, погубив меня, вызволить свою дочь!
Альбер говорил с таким спокойствием, голос его звучал так уверенно, а взгляд был полон такого презрения, что сказанное им произвело нужное впечатление. Евреев мусульмане ненавидят сильнее, нежели французов. Уже само поведение молодого человека, полное достоинства, разительно отличавшееся от жалкого вида еврея, скрючившегося в пыли, говорило в его пользу. Кабилы были озадачены. Они перевели взгляд на шейха.
— Тогда поклянись на Коране, что ты посланец Ахмед-бея! — нашелся тот.
— Клясться? Нет! — гордо возразил Альбер. — Если бы ты потребовал этого вчера, я поклялся бы, скажу прямо. Но сегодня я клясться не буду. Почему, спросишь ты? Разве одно только слово правоверного не дороже сотни клятв этого презренного гяура? Неужели ты потребуешь, чтобы добрый мусульманин возложил руку на Коран только для того, чтобы опровергнуть эти злые наветы? Нет, если ты не веришь моему слову, шейх правоверных, ты не поверишь и моей клятве. Отправляй гонцов к Ахмед-бею. Я сам укажу дорогу правоверным, я готов. Но клясться я не намерен. А теперь позволь мне уйти. Бесполезно тратить слова, пока вы считаете меня лжецом!
— Подождем прибытия Бу Мазы! — несколько смягчившись, произнес шейх. — Пусть он решит, стоит ли посылать к Ахмед-бею и проверять истинность твоих слов. До тех пор ты останешься в лагере, и горе тебе, если ты вздумаешь его покинуть. Пуля…
— Довольно об этом! — прервал шейха Альбер и решительно зашагал навстречу почтительно расступившимся перед ним кабилам. Молодой офицер знал обычаи этих людей. Он знал, что теперь они считают его невиновным, и хотя пользы от этого ему будет мало — о побеге нечего было и думать, — его утешала мысль, что их месть настигнет его не сразу.
Не спеша, он прошелся по всему лагерю, осмотрел все позиции, отчетливо запечатлел в памяти отдельные детали, после чего возвратился в свою палатку. Охрана была уже снята, и Альберу принесли самое лучшее из того, что нашлось в лагере: рис, мясо, финики, инжир и мед. И несмотря на все это, он был пленником — его предприятие постигла неудача.
VII. ПЕЩЕРА ДАХРЫ
Миновал полдень. Альбер потребовал, чтобы ему принесли трубку и табак. Он курил, ожидая прибытия Бу Мазы, который должен был появиться вечером. В полотняной стенке палатки оказалась небольшая дырка, и молодой человек время от времени приникал к ней, чтобы узнать, что происходит в лагере кабилов.
Вскоре он обратил внимание на охватившее его врагов необычайное волнение. Что за причина: прибыл Бу Маза или случилось что-то другое? Альбер поднялся и вышел из палатки.
Он увидел собирающихся в дорогу женщин, обратил внимание, что сгоняют вместе всех мулов и навьючивают их поклажей. Похоже, лагерь готовится сняться с места. Но отчего? Привычным ухом Альбер уловил отдаленные ружейные выстрелы. Раздавались они редко — возможно, ветер доносил эхо только некоторых из них. Вероятно, французы были недалеко. Неужели полковник Пелисье рискнул начать наступление уже теперь? Может быть, он получил сведения о том, где находятся кабилы? Не исключено, что тут действует и другой корпус.
Лагерь между тем снялся с поразительной быстротой. Не прошло и четверти часа, как все племя было готово к отходу. Альберу тоже вернули его лошадь. Ему было велено держаться поблизости от шейха, и он подчинился. Из отдельных реплик он понял, что французы подошли к горам, зная, по всей вероятности, местонахождение лагеря кабилов. Наверное, силы французов были велики, потому что кабилы не решались принять бой.
Через три часа племя оказалось в самой труднодоступной части гор. Отряд спускался в ущелье. К своему удивлению, Альбер увидел, что голова колонны кабилов исчезает в своеобразных воротах, созданных природой в скалах. Скоро Альберу удалось, однако, разгадать эту тайну. В скальной породе в этом месте существовала огромная пещера, где без труда могли разместиться сотни людей, а располагалась она в столь отдаленных и глухих местах, что отыскать ее было под силу лишь опытному проводнику, знающему горы как свои пять пальцев.
Раньше Альберу уже приходилось слышать рассказы о существовании в Дахре таких пещер, однако он никак не предполагал, что они могут быть настолько грандиозны. Пещера, в которую он попал, имела огромный свод, подобный своду величественного собора, но не такой высокий. Отдельные ходы вели, похоже, еще дальше в толщу горной породы и там разветвлялись.
В пещере царил непроглядный мрак, да и за ее стенами уже наступила ночь, поэтому пришлось зажигать факелы и разводить костры. Все готовились ко сну, и Альбер последовал примеру кабилов, которые, плотнее закутавшись в свои бурнусы, укладывались наземь.
Ночью он проснулся и услышал разговор какого-то кабила с шейхом. Кабил — вероятно, караульный — сказал шейху, что за стенами пещеры нет-нет да и раздаются одиночные выстрелы французов. Вскоре Альбер снова заснул пробудился, когда в пещере забрезжил первый предутренний свет.
Он уже окончательно пришел в себя, и — удивительное дело! — то ли ему почудилось, то ли это была действительность: внезапно до его слуха донеслись отдаленные звуки французских сигнальных рожков! Ему стоило немалого труда сдержаться и не вскочить на ноги — ведь поддаваться эмоциям он не имел права! Он вновь услышал те же звуки — это была реальность! Французы, должно быть, находились где-то поблизости! Приподнявшись сперва, он затем опять улегся на землю, прислушиваясь с напряженным вниманием.
Вскоре пробудились и кабилы. К шейху устремились гонцы, ночная тишина сменилась шумным оживлением. Шейх поднялся и направился к выходу из пещеры. Звуки французских сигнальных рожков раздавались все ближе. Временами слышались одиночные выстрелы.
Кабилы громко, наперебой кричали. Похоже, они были ошеломлены. Из услышанного Альбер уловил причину их обескураженности: на всех возвышенных местах показались французы, притом, по-видимому, в немалом количестве. Вероятно, им тоже была известна эта пещера: их действия говорили о том, что они намерены окружить ее.
Появился французский парламентер и предложил всем кабилам, находившимся в пещере, сдаться. Условия сдачи были приемлемыми. Половина мужчин должна оставаться у французов в качестве пленных, другая половина вместе с женщинами и детьми — покинуть пещеру, предварительно сложив оружие.
Однако шейх велел передать, что на эти условия не пойдет. Он требовал, чтобы всем кабилам было позволено беспрепятственно уйти из пещеры, при этом оружие сдаст только половина воинов. В противном случае, гласил ответ шейха, кабилы будут защищаться до последнего.
Видимо, командующий французскими войсками захотел проверить истинность этого утверждения, потому что спустя несколько минут у входа в пещеру показались головы зуавов и затрещали ружейные выстрелы.
Молодой офицер решил, что настало время подумать о собственном спасении. Пока кабилы готовились к отражению атаки французов, он попытался приблизиться к выходу из пещеры. Альбер еще точно не знал, что делать. Бежать сразу, наудачу он не решался, опасаясь, что соотечественники примут его за араба. В этом случае можно не сомневаться, что пуля настигнет его прежде, чем он успеет произнести хоть одно слово. Но может быть, ему удастся сдаться в плен, если французы ворвутся в пещеру.
Между тем кабилы, стремясь воспрепятствовать вторжению врагов, поступили очень хитро: они оставались в темноте и по обе стороны от входа в пещеру соорудили больверки, так что середина пещеры была совершенно свободной. Правоверные не без основания ожидали, что огонь французов будет сосредоточен главным образом на середине пещеры.
Альбер понимал: если дело примет серьезный оборот, последствия будут ужасными. Кабилы имели большое преимущество: фигуры наступавших четко вырисовывались на фоне освещенного входа в пещеру, в то время как у французов не было иной мишени, кроме зияющего мрака, царившего в пещере. Даже если товарищи Альбера сумеют ворваться внутрь (что влечет за собой с их стороны огромные потери), продолжение боя станет еще более кровопролитным, поскольку рукопашная схватка будет идти в полной темноте. Предвидя такой исход, кабилы заранее погасили почти все факелы.
Альбер ожидал начала схватки с тревогой и беспокойством. Шейх находился недалеко от входа и отдавал приказания своим соплеменникам. Держась какое-то время поблизости от него, Альбер услышал, как шейх вполголоса сказал одному из своих приближенных, что на худой конец ему известен еще один выход из пещеры, воспользоваться которым смогут, правда, лишь единицы. Молодой офицер проскользнул, узнав об этом, ближе к входу, теперь он избегал попадаться на глаза шейху, опасаясь, что тот отправит его в глубь пещеры.
Завязался бой. Пули зуавов проникали в пещеру и ударялись об ее стены. Кабилы открыли ответный огонь. Тесное замкнутое пространство многократно усиливало звук каждого выстрела, превращая его в громовые раскаты Страшного суда. Казалось, еще немного — и пещера рухнет. Выстрелы с французской стороны были пока редкими, зуавы боялись еще по-настоящему продвигаться вперед. Они, видимо, догадывались, что представляют собой превосходную мишень. И в самом деле, где бы ни появился француз, пули кабилов настигали его. Альбер горевал, видя безуспешные попытки зуавов как-то укрыться от ответного огня. Наконец появилась целая рота французов. Вероятно, командование верно рассудило, что отдельные стрелки сделать ничего не смогут. Французам удалось прорваться к пещере, и бой, в котором приняло участие много сражающихся, вспыхнул с новой силой.
Теперь Альберу особенно нужны были осмотрительность и осторожность — возможность побега сделалась для него реальной. Он поднял с земли первое попавшееся ружье и поспешил вперед. Французы обрушивали град пуль на стены пещеры, кабилы отвечали залпами.
— Назад! — услышал Альбер рядом с собой. — Здесь тебе нечего делать. Назад!
Это был шейх. Альбер остановился — кабилы и вправду могут убить его, сделай он еще хоть один шаг.
— Разве я не имею права сражаться против гяуров, как другие правоверные? — спокойно спросил он.
— Нет! — твердо ответил шейх. — Мы не доверяем тебе. Ты пленник.
Надежда на побег рухнула. Может быть, и к лучшему для Альбера: он уже видел, что французы отступают. Три четверти из них, едва успев прорваться к пещере, остались лежать у самого входа убиты или ранены. Преодолеть вход оказалось невозможно. Рожки заиграли отбой.
Спустя несколько минут вновь явился парламентер. Как и кабилы, Альбер ожидал от французского командования более приемлемых условий примирения. Но он ошибся.
Французы потребовали, чтобы шейх, а вместе с ним и три четверти воинов сложили оружие и сдались в плен. Если в течение пятнадцати минут этого не произойдет, пусть кабилы готовятся к самому худшему.
Как и предвидел Альбер, кабилы встретили это требование презрительными насмешками. Шейх велел ответить, что настаивает на своих прежних условиях. Своему ближайшему окружению он сообщил, что теперь уже скоро Бу Маза ударит французам в тыл.
Отпущенные четверть часа истекали, на этот раз в гробовой тишине. В ожидании повторной атаки кабилы полностью забаррикадировали вход в пещеру.
Вскоре у входа показались зуавы. Они несли перед собой большие связки хвороста — фашины. Альбер решил, что для защиты от пуль кабилов. Зуавов с фашинами становилось все больше и больше. Внезапно фашины вспыхнули, и солдаты принялись швырять их в пещеру, стараясь забросить как можно дальше. Пылающая масса покрыла весь пол у входа. Связки хвороста были начинены порохом. Он ярко вспыхивал, и вскоре дневной свет закрыло облако дыма.
Стены пещеры содрогнулись от ужасного многоголосого вопля. Альбера, словно молния, озарило одно воспоминание. Как-то полковник Пелисье заметил, что готов выкурить целое гнездо кабилов, если застигнет их в какой-нибудь пещере. Боже праведный! Полковник привел свою угрозу в исполнение. Кабилы были обречены, и он, Альбер, вместе с ними!
Как описать наполнивший пещеру нечеловеческий вой, как передать этот вопль ужаса и отчаяния, как воссоздать картину всеобщего смятения и оцепенения! Пламя постепенно разгоралось, пожирая все новые и новые фашины. Огненная стена у входа росла, и густой удушливый дым медленно полз в пещеру, вначале распространяясь под ее сводом и затем опускаясь все ниже. На мгновение и Альбер потерял самообладание: к подобной смерти он не был готов!
Вдруг он вспомнил о втором выходе, о котором упоминал шейх. Среди криков отчаяния, раздававшихся вокруг, он искал главу племени. Вот Альбер, кажется, увидел наконец высокую фигуру шейха, спешащего в глубь пещеры, и, думая только о том, как бы спастись, круша все на своем пути, он стал пробиваться к нему. Его уже окутывал зловещий дым, уже последний проблеск дневного света померк в этом аду, он чувствовал, что ступает по человеческим телам, слышал кругом жуткие вопли, но не терял шейха из виду, не отставал от него. Прямо перед ним мелькало белое одеяние шейха, к которому присоединились еще несколько кабилов.
Что случилось с ним дальше, Альберу удалось вспомнить лишь с огромным трудом — вспомнить как кошмарный, неправдоподобный сон. Память подсказывала ему, что он боролся с кабилами, которые, обезумев от страха, убивали друг друга, что ему не давал дышать вездесущий дым и что в конце концов он оказался в узком проходе, где царил полный мрак. Словно из бесконечной дали до него доносился шум шагов и голоса идущих впереди кабилов, что позволяло ему ориентироваться в темноте. Дым преследовал его повсюду, пока наконец он не увидел над головой слабый свет и лежавших рядом в беспамятстве нескольких кабилов. Измученный до полусмерти, он тоже лишился сознания и рухнул наземь.
Нет, однако, лучшего средства вернуть к жизни обессиленного, потерявшего сознание воина, чем гром выстрелов, и Альбер услышал этот гром недалеко от себя. Он открыл глаза и приподнялся.
Только теперь он увидел, где находится. Это оказалась вершина той самой скалы, в толще которой была пещера, ставшая для кабилов роковой. Рядом с ним лежали шейх и трое незнакомых ему кабилов, также обессиленные до последней степени. В некотором отдалении он заметил группу конных арабов, готовых вступить в бой. Еще дальше вовсю кипело жаркое сражение между арабскими всадниками и пешими кабилами с одной стороны и французами — с другой.
Вскоре Альберу было суждено все узнать. Шейх глубоко вздохнул.
— Приди Бу Маза на четверть часа раньше, несчастья можно было бы избежать! — сказал он. — Но велик Аллах, и Мохаммед пророк его. Такова судьба! Покоримся воле Аллаха!
Итак, теперь с французами сражались опоздавшие совсем ненамного люди Бу Мазы. Альбер уже более не вспоминал о пережитом ужасе и все свои мысли направил на то, что его ожидало. Каким будет исход битвы?
Из слов шейха и его спутников Альбер понял, что Бу Маза сам командует своими людьми. Французы тоже попали в затруднительное положение. Их главные силы были сосредоточены в долине, у входа в пещеру.
Ожесточенный бой продолжался около часа. Наконец французам удалось пробиться на противоположную сторону долины и подняться на вершины. Но и они, видимо, понесли значительные потери, потому что уклонились от продолжения боя. Похоже, они были довольны, что избежали такого же разгрома, какой прежде учинили кабилам в злополучной пещере.
Вскоре снова явился французский парламентер. Альбер, вместе с шейхом и его спутниками присоединившийся к кабилам, отчетливо слышал все, что тот говорил. Командующий французскими частями велел передать: кабилы погибли в пещере, так как проявили неразумное упрямство, оказывая сопротивление, и уничтожили немало его лучших солдат. Если расплачиваться за это придется французам, захваченным в плен людьми Бу Мазы, он, командующий, также безжалостно казнит пленных кабилов.
Бу Маза — теперь Альбер уже видел его: истый араб со смуглым лицом и черной бородой — посовещался со своим окружением. Сначала, правда, захваченных французов собирались расстрелять, но, поскольку среди попавших в плен кабилов оказалось несколько родовитых, от мести воздержались. Бу Маза просил передать французскому командованию, что впоследствии они обсудят возможность обмена пленными, а до того времени он гарантирует захваченным французам безопасность.
Проводив парламентера, Бу Маза повернулся к шейху, который почтительно приблизился к нему и поцеловал полу его плаща.
— Я уже слышал, что ты спасся, и это радует меня, несмотря на несчастье! — сказал Бу Маза. — Аллах велик! Он решил испытать правоверных, прежде чем даровать им победу. Скольких ты спас?
— Еще этих троих, — ответил шейх. — Что касается его, — он указал на Альбера, — о нем я поговорю с тобой позже.
Увидев, что Бу Маза смотрит на него, Альбер с глубоким уважением поклонился ему.
— А сколько у тебя было людей? — опять спросил Бу Маза.
— Мужчин, способных носить оружие, — четыреста, — сказал шейх. — Кроме того, восемьдесят стариков, столько же женщин и двести детей. У нас было шестьсот лошадей и триста мулов. А спаслось нас всего четверо!
— Аллах велик! — воскликнул Бу Маза, простирая руки к небу. — Он отомстит за эти жертвы! Мы потеряли больше людей, чем в открытом бою. Нужно проверить, может быть, кого-то еще удастся спасти. Что ты скажешь на это?
— Не думаю, — ответил шейх, указывая на скалу. — Дым все еще просачивается через трещины.
Тем не менее были отданы распоряжения проникнуть в злополучную пещеру. Альбер тоже сомневался, чтобы кто-нибудь избежал гибели. Шейх сделал знак следовать за ним, и Альбер убедился, что и теперь продолжает находиться под наблюдением.
Вместе с кучкой кабилов он спустился в долину. Огромный костер у входа в пещеру продолжал дымиться. Полуобугленные фашины оттащили в стороны и открыли доступ свежему воздуху. Но войти внутрь удалось не сразу, лишь после того, как были убраны трупы задохнувшихся.
Альбер отвернулся, не в силах видеть лица, до неузнаваемости обезображенные смертельным страхом. Но он не мог не слышать рев взывающих к мести кабилов; он слышал их яростные вопли и временами невольно трепетал, опасаясь, что эти безумцы заглянут в его душу и узнают всю правду. Узнают, что он принадлежит к тем, кто совершил это чудовищное злодеяние. Он содрогнулся. Ведь он тоже француз, на его счету тоже немало кабилов, уничтоженных, правда, в бою! Но вместе с тем он спрашивал себя, допустимо ли такое по законам войны, не совершил ли командир, отдавший подобный приказ, ничем не оправданную жестокость.
Спустя час Альбер стоял лицом к лицу с предводителем кабилов. Шейх рассказал тому все, что было ему известно об Альбере, особенно подчеркнув причины, которые вызвали подозрения. Бу Маза слушал спокойно, внимательно, с серьезным лицом. Он не сводил глаз с Альбера, а тот, слишком хорошо зная, как много теперь поставлено на карту, придал своему лицу самое невозмутимое выражение.
Когда шейх закончил, дали сказать Альберу. Он повторил все, что уже сказал шейху, опроверг подозрения, которые навлек на него еврей. Бу Маза выслушал его столь же спокойно.
— Если этот человек сказал правду, — обратился он затем к шейху, — мы могли бы восполнить потери, которые понесли. Я слышал, что Ахмед-бей жив. Мы можем испытать этого человека. Каково расстояние до Билед-уль-Джерида, до жилища Ахмед-бея?
— На хорошей лошади я проскакал двенадцать дней без перерыва, — ответил Альбер.
— Хорошо, я дам тебе для сопровождения полсотни своих людей, — сказал Бу Маза. — Ты вернешься к Ахмед-бею и скажешь ему, что мы ждем его и его воинов. Если ты не найдешь жилища Ахмеда, если ты солгал, мои люди привезут тебя сюда и ты получишь по заслугам!
Альбер ждал этого, он давно предполагал, что кабилы предложат именно такое решение. Он был согласен — для него подворачивался самый удобный случай совершить побег к своим.
VIII. ЮДИФЬ
Какие образы способна вызвать у нас скачка в Билед-уль-Джерид через те районы Алжира, которые непосредственно граничат с пустыней! Вечно голубое небо, раскаленное солнце, огромные безжизненные пространства, высокие горные хребты, приветливые оазисы и отряд молчаливых кабилов, закутанных в свои длинные белые бурнусы, — право же, в такой скачке заключена высокая поэзия!
Однако для Альбера Эрреры это было путешествие в неясное будущее, в мрачную неизвестность, — путешествие, которое могло грозить ему смертью! С каждым ударом копыт своего коня он все больше удалялся от соотечественников, от родины, от цивилизованного мира и приближался к тем местам, о которых не имел даже представления, но которые должны были решить его судьбу.
Прошло без малого четырнадцать дней. Дахра с ее ужасами осталась позади. По предположениям Альбера, цель путешествия была уже достаточно близка. Между тем путь был далекий, и ошибиться на день-два было нетрудно. Кроме того, по мнению кабилов, Альберу ничего не стоило несколько сбиться с пути. Так что подозрений пока ни у кого не возникало.
Да и где, собственно говоря, находилась эта страна, Билед-уль-Джерид? Ведь там, на юге Атласа, у северной границы Сахары, не существует привычных нам, заключенных в незыблемые пределы государств, с какими мы встречаемся в Европе. Одинаковое название распространяется на некую территорию, не имеющую границ в общепринятом смысле слова, и, произнося название «Билед-уль-Джерид», или Страна Финиковых Пальм, имеют в виду то обширное пространство от Марокко до Триполи, ту бескрайнюю равнину с редкими постройками, где обширные песчаные пустыни чередуются с горными хребтами, приветливыми долинами и оазисами.
На второй же день после того, как Альбер с кабилами покинули лагерь Бу Мазы и отправились в путь, в небольшой кабильской деревушке к ним присоединилась маленькая группка путешественников. Она состояла из четырех мужчин, один из которых был, без сомнения, господином, а остальные — слугами, и трех женщин. Их сопровождало несколько тяжело навьюченных мулов. Господин был, по-видимому, высокородный араб — слуги явно перед ним раболепствовали; даже с кабилами он был немногословен и весьма сдержан. Лиц женщин до сих пор никто не видел. Обычно они вместе с арабом и его слугами держались приблизительно в ста шагах позади отряда, словно самостоятельный, хотя и маленький, отряд. Вечерами господин вместе с женщинами скрывался в большой палатке, которую для них разбивали слуги. На страже у входа в палатку становился один из слуг.
Не имея пищи для своей фантазии, Альбер терялся в догадках, одна романтичнее другой, относительно этого араба и его жен. Он допытывался у кабилов о причинах, заставивших незнакомцев примкнуть к их отряду. Но и кабилам мало что было известно. Бу Маза сказал их командиру, что на второй день пути к отряду присоединится один правоверный с тремя женами и тремя слугами и будет сопровождать кабилов до самого конца путешествия. В случае опасности их следует защищать так же, как если бы они входили в состав отряда.
В один из следующих дней Альбер случайно остался на некоторое время без сопровождающих. Большая часть кабилов ускакала немного вперед, остальные отстали. Получилось, что Альбер ехал в одиночестве. Мягкий песок скрадывал топот конских копыт, наподобие ковра, поэтому он не сразу услышал догонявшего его всадника. Лишь когда тот поравнялся с ним, Альбер узнал таинственного араба.
Несколько минут оба молча разглядывали друг друга. Казалось, прежде чем начать разговор, араб сосредоточенно пытается что-то прочитать в лице Альбера. Тому в свою очередь прежде хотелось узнать, что же привело к нему незнакомца.
Внимательнее вглядевшись в лицо араба, Альбер заметил, что тот не так уж и молод. Он хранил серьезность, был мрачен, смотрел недоверчиво, испытующе.
— Ты и есть тот чужеземец, который должен привести нас к Ахмед-бею? — высокомерно спросил араб.
— Что касается тебя — не знаю, — спокойно ответил Альбер. — Но я служу отряду проводником.
— Я — родственник Ахмед-бея. Мой отец сражался вместе с ним в Константине против французов. Теперь я перебираюсь жить к нему. Он все так же строг в соблюдении заповедей Корана? Он все еще служит примером для правоверных?
— Разумеется! — ответил Альбер, сделав вид, что удивлен. — Разве хоть один человек когда-нибудь сомневался в этом?
— Нет, но прежде о нем говорили, что он принимает в свой гарем христианок и евреек.
— Возможно, в этом отношении он не вполне строго следует Корану, — вскользь заметил Альбер. — Это не беда.
— Ты думаешь? — спросил араб, испытующе глядя на Альбера. — Правоверные по ту сторону Атласских гор строги. Они не потерпят, чтобы какой-то воин взял в свой гарем еврейку, — они отвергнут его.
Теперь Альберу стало ясно, с кем он разговаривал. Он был приятно удивлен.
— Значит, это ты похитил дочь Эли Баруха Манаса, еврея из Орана? — спросил он с такой невозмутимостью, словно речь шла о покупке хорошей лошади. — А теперь собираешься доставить ее Ахмед-бею?
— Кто это тебе сказал? — мрачно спросил араб. — И что тебе вообще известно об этом деле?
— Хочешь сохранить его в тайне? Меня все это не интересует. Просто я слышал такой разговор в лагере правоверных. Именно отец этой еврейки обвинил меня в том, что я франк. Глупец! Он надеялся своей ложью спасти дочь!
— Как? Значит, ее отец был в лагере еще раз?
— Конечно! Ты этого не знал? Он вернулся, чтобы оболгать меня. Чего он этим добился? Ты везешь его дочь в чужую страну, а он наверняка погиб — задохнулся в пещере Дахры.
— Аллах иль Аллах, — пробормотал араб после слов Альбера, и казалось, с его души свалилось тяжкое бремя. — Значит, ты думаешь, Ахмед-бей не слишком щепетилен в соблюдении этой заповеди?
— Я так предполагаю, — ответил Альбер, — но, правда, не могу сообщить тебе ничего определенного. В гареме бея я не был, жен его не видел, и есть ли среди них христианки или еврейки — я не знаю.
— Бу Маза — глупец, ему не следовало посылать меня в такую даль, — угрюмо заметил араб. — Если воин берет в жены еврейку, каким образом он может оскорбить нравственное чувство правоверных?
Выходит, сообразил Альбер, Бу Маза отослал прочь похитителя иудейки, чтобы его связь с дочерью Манаса не возмущала правоверных, ибо этот Манас — гяур.
— Меня уверили, что путешествие займет примерно четырнадцать дней, — сказал араб.
— Оно может продлиться и пятнадцать, и шестнадцать дней. Мне жаль тебя, — добавил Альбер с легкой насмешкой, — ты будешь жаждать уединения с прекрасной еврейкой!
— Возможно! — ответил араб, наскоро простился и поскакал назад к своим слугам.
Теперь молодому французу были известны обстоятельства, связанные с таинственным арабом. Узнал он и то, что, сам того не подозревая, довольно долго находился поблизости от красавицы иудейки.
Другие кабилы уже заметили беседу наших героев и приблизились, чтобы послушать, о чем говорил молчаливый незнакомец с тем, кто, казалось, менее всего заслуживал подобного доверия. На вопросы, которыми они его засыпали, Альбер отвечал очень скупо. Он считал излишним рассказывать другим о том, что узнал сам. Сказал только, что незнакомец интересовался Ахмед-беем. Спустя несколько минут другое обстоятельство целиком и полностью завладело всеобщим вниманием, переключив его с вышеописанного разговора.
— Лев! — закричал один из кабилов. — Лев! Прекрасный экземпляр! Вперед! Поохотимся на льва!
Это известие распространилось в отряде с быстротой молнии. «Лев!» — радостно кричали со всех сторон, кабилы молодцевато выпрямлялись в седлах, потрясая ружьями. Лошади отвечали энергичным ржанием, словно догадываясь о том, что им предстояло. В Альбере также проснулся охотничий азарт, жажда борьбы.
— Дай-ка мне ружье, порох и свинец, дружище, — попросил он, подъезжая к командиру отряда. — Я не могу упустить такую возможность!
— Как хочешь! — ответил тот, тоже готовясь к неожиданному развлечению. — Возьми вот это — доброе ружье!
Альбер схватил протянутое ему ружье — его собственное отобрали еще в лагере кабилов. К ружью был привязан мешочек с порохом и пулями. В одно мгновение Альбер зарядил оружие, пришпорил коня и помчался вслед за кабилами.
Охотники разбились на две партии. Одни уверяли, что льва видели здесь, другие — что там. Альбер поехал наудачу, направив коня к возвышенному месту, чтобы оглядеться и сориентироваться.
Тем временем один из кабилов действительно успел обнаружить льва. Весь отряд поспешил к нему, привлеченный ликующим воплем счастливца.
Теперь и Альбер увидел зверя. Лев спокойно стоял перед зарослями кустарника, как бы желая выяснить, не он ли явился причиной всей этой суматохи. Затем не спеша двинулся дальше, словно пренебрегая возможностью укрыться в чаще.
Вырвавшиеся вперед кабилы находились уже очень близко от него. Двое из них, сгорая от нетерпения, выстрелили. Пули не поразили зверя, пожалуй, даже не задели его. Но он вдруг испугался: повернул голову, тряхнул гривой и, поджав хвост, пустился наутек, все быстрее и быстрее.
Несколько минут весь отряд во главе с Альбером преследовал царя пустыни. У подножия довольно высокой скалы лев наконец остановился. Одним могучим прыжком он достиг вершины и замер в неподвижности, глядя на своих преследователей сверху вниз.
Зверь был действительно великолепный. Как гордо стоял он, недовольно потряхивая гривой и описывая хвостом огромные круги! Как сверкали его глаза, устремленные на кабилов! Был момент, когда у него появилось, видимо, желание бежать, однако потом он гордо выпрямился, подставив врагам голову.
Альбер не ожидал, что лев остановится. Он не удержал лошадь и через мгновение оказался у подножия скалы, примерно шагах в двадцати от льва, почти под ним. На миг он заколебался, стоит ли оставаться в такой опасной близости от животного. Потом решительно поднял ружье. За его спиной уже прогремели несколько выстрелов, но они оказались неудачными.
Столь же неторопливо и спокойно, как Альбер поднимал свое ружье, лев приготовился к прыжку. Оба, человек и зверь, впились друг в друга широко открытыми глазами. Это был ужасный момент. Лошадь дрожала и фыркала. Казалось, она больше, чем седок, сознавала всю опасность единоборства.
Альбер прицелился. Лев приподнялся. Прыжок, выстрел. Альбер ощутил навалившуюся на него огромную тяжесть, почувствовал, что по лицу струится теплая кровь…
— Боже, я пропал! — невольно воскликнул он по-французски и потерял сознание.
Эти несколько слов, произнесенные на языке смертельного врага, решили судьбу молодого человека.
Трудно было представить себе более веские доказательства против Альбера. Слова, которые вырываются у человека в последний, самый опасный, самый решающий момент его жизни, — эти слова исходят из глубины его души! Притворство в подобных случаях невозможно. Лишь француз, Франк, в такой ужасный момент мог взывать к Богу гяуров, а не к Аллаху правоверных!
Когда Альбер снова пришел в себя, он увидел, что окружен угрюмыми кабилами. Он сам не знал, что именно сорвалось с его уст. Он протянул руку, прося о помощи. Но никто не шелохнулся. А между тем положение, в котором он находился, было не из легких.
Передние лапы и голова льва покоились на груди Альбера, когти впились в его тело. Лошадь лежала неподвижно, словно мертвая. А лев и в самом деле был мертв. Вероятно, в момент прыжка пуля Альбера поразила его прямо в сердце; именно кровь животного струилась по лицу молодого человека.
— Вытащите гяура и позаботьтесь о его безопасности! — повелительно произнес командир отряда.
Трое кабилов схватили тушу льва и потащили ее прочь. Теперь, когда Альбер в полной мере ощутил тяжесть огромного зверя, пронизавшая его боль показалась ему едва ли не более сильной, чем раньше. Но он превозмог ее. Молодого офицера не оставляла в покое мысль о том, что же могло произойти. Ведь он ничего не помнил!
Он почти не обратил внимания, как его подняли и помогли подняться его лошади. Она дрожала и всхрапывала, но, как и Альбер, не получила сколько-нибудь серьезных повреждений. Вскоре молодой человек уже снова сидел в седле. Его белый бурнус был выпачкан кровью, как, вероятно, и его лицо; когда он провел по лбу рукой, то увидел на пальцах кровь.
Никто до сих пор не сказал ему ни слова. Альбер взглянул на убитого льва. Похоже, его хотели оставить нетронутым, словно не собирались захватить с собой даже великолепную шкуру.
Альбер медленно поехал вперед. Рядом с ним не было никого, кабилы держались впереди и за спиной. Альберу стало ясно, что его намеренно избегают.
Так продолжалось около часа. Посоветовавшись с ближайшим окружением, командир повел отряд к находящейся неподалеку пальмовой рощице. Похоже, там собирались разбить лагерь. Видимо, путешествие подходит к концу. Но почему? Альбер понял, что разоблачен, иного объяснения просто нельзя было себе представить.
Неразговорчивые и мрачные, кабилы занимались привычными делами, связанными с разбивкой лагеря. Казалось, даже на них тяжелым бременем навалилось то, что они узнали. Альбер заметил: те, с кем он успел сойтись ближе всего, теперь сторонились его особенно старательно, не удостаивая даже взглядом.
Наконец настало время, когда все случившееся должно было разъясниться: к нему подошел командир кабилов.
— Ну что, приятель, — спросил он холодно, но с некоторой долей иронии, — сколько нам осталось добираться до Ахмед-бея?
— Точно не знаю, — невозмутимо ответил Альбер, — но скоро мы его найдем.
— Ты уверен? — вскричал араб. — Ты осмеливаешься и дальше водить нас за нос, проклятый гяур?!
В глазах кабила Альбер увидел смертельную ненависть.
— Почему это я вдруг стал гяуром? — в свою очередь спросил он. — Проснулись прежние подозрения?
— Ты когда-нибудь слышал, чтобы в минуту опасности правоверный взывал к Богу франков?! — насмешливо спросил командир.
Альберу все стало понятно. Так вот в чем дело! Да, да, у него в ушах вновь зазвучал собственный крик. Он взывал к своему Богу, а не к Аллаху мусульман!
Что же теперь делать? Продолжать лгать? Он мог бы пойти на это. В запасе у него были еще тысячи причин для оправдания, тысячи отговорок. Он скажет, что за время своей жизни среди неверных усвоил гнусную привычку: при необычайных обстоятельствах взывать к Богу на манер франков. Он скажет многое, что вызовет у кабилов новые сомнения.
Но Альбер устал лгать. Он уже пресытился своей ролью. Да и что толку дальше разыгрывать из себя правоверного? Ведь Ахмед-бея ему все равно не найти, мифической цели не достигнуть. Печальная игра закончилась немного раньше, а в сущности, это ничего не меняет.
— Ну что же, — спокойно ответил он, — я франк, гяур, я обманывал вас, а теперь все выяснилось!
С этими словами он отвернулся и бросился наземь. Он устал. Он жаждал покоя.
Командир вернулся к своим. Альбера не интересовало даже то, как была воспринята обманутыми уверенность, которую они сейчас обрели. Ему стало безразлично, как решится его судьба, убить его не могут, так как Бу Маза приказал в любом случае доставить его к себе. А если бы и захотели — пусть попробуют: он намерен дорого продать свою жизнь и погибнуть с оружием в руках.
Альбер поднялся и направился к небольшому озерцу. Оно находилось в рощице и, вероятно, регулярно возникало во время сезона дождей, чтобы к концу лета вновь высохнуть. Он смыл с себя следы крови. Когда наступил вечер, он плотнее закутался в бурнус и улегся спать, совершенно равнодушный ко всему на свете и к собственному будущему.
Ночь была темная, безлунная, звезды тускло мерцали сквозь кроны пальм. Альбер спал спокойно и довольно крепко, хотя временами все же просыпался. Вдруг прямо у себя над ухом он услышал чей-то голос и различил французскую речь. Ему показалось, что он грезит. Он хотел приподнять голову, но нежная рука остановила его.
— Ради Бога, не шевелитесь, вы погубите нас обоих! — прошептал женский голос.
Альбер окончательно проснулся. Рядом с ним, почти касаясь его телом, лежала женщина. Ему почудилось, что он чувствует ее дыхание.
— Боже мой, кто вы? — спросил он тихо. — Кто здесь говорит со мной на моем родном языке?
— Меня зовут Юдифь, я несчастная дочь Эли Баруха Манаса, — ответила незнакомка. — Сегодня, когда вы убили льва, от одного из моих слуг я узнала (моего похитителя в это время поблизости не было), что вы француз. Он сказал мне, что подозрение на вас пало только потому, что вас выдал какой-то еврей. Этим евреем мог быть только мой отец. Я начала расспрашивать подробно и узнала все. С этой минуты мной овладела лишь одна мысль: искупить перед вами свою вину. Любовь ко мне сделала моего отца злодеем. Я обязана все исправить, и потому я здесь.
— Что же вы намерены предпринять? — спросил Альбер, еще не опомнившись от удивления. — И как вам вообще удалось ускользнуть от своего похитителя, обмануть его бдительность и пробраться ко мне?
— Я расскажу вам, но прежде вы должны обещать мне, что согласны бежать, — прошептала прекрасная еврейка.
— Бежать? Почему бы и нет, если представится удобный случай? Обещаю вам.
— Хорошо, тогда слушайте. Как меня похитили и что мне до сих пор приходится терпеть, вас вряд ли заинтересует. К тому же я должна спешить. Короче говоря, до недавнего времени я не видела иного способа спастись, кроме как принять смерть. Я узнала, что кабил собирается к Ахмед-бею, и подумала, что, как только мы к нему доберемся, я пропала. Наконец несколько дней назад у меня неожиданно появилась некоторая надежда. Я заметила, что один из слуг кабила бросает на меня такие взгляды, которые не вызывают никаких сомнений в его намерениях. Мне удалось поговорить с ним наедине, и он признался, что любит меня и решил спасти, если я соглашусь стать его женой. Я испытываю к нему не меньшее отвращение, чем к его господину, однако его предложение приняла. Это казалось мне единственным способом вновь вернуться к отцу, на родину. Вчера мы долго разговаривали с ним тайком и обо всем договорились. Мы собирались вернуться в обжитые места, и оттуда я должна была написать отцу, чтобы он отыскал меня и привез мне денег. Бежать мы условились сегодня ночью, взяв лошадей моего жениха и его господина.
И вот теперь произошел случай, который открыл мне глаза на то, кто вы и в каком незавидном положении оказались из-за предательства моего отца. У меня сразу же созрело решение. Вечером, как мы договорились со слугой, я подмешала в воду, которую имеет обыкновение пить на ночь мой похититель, усыпляющий напиток. Теперь он спит так крепко, как не спал ни разу в жизни. Потом я закуталась в самый длинный и самый плотный плащ и, пользуясь темнотой, проскользнула сюда. Теперь ваше спасение в ваших руках!
— Но я пока не вижу для этого никакой возможности, — прошептал Альбер, с изумлением слушавший рассказ Юдифи.
— О, это совсем просто, — тихо сказала она. — Вы закутываетесь в мой плащ и исчезаете таким же способом, каким попала сюда я. В тысяче шагов от палатки, где мы ночуем, ждет кабил с двумя лошадьми. В темноте он не узнает вас в этом наряде, если вы к тому же немного сгорбитесь. Вы убежите вместе с ним, а утром сами решите, как избавиться от нежеланного попутчика.
— Благодарю вас, мадемуазель! — ответил молодой француз. — А вы? Что будет с вами?
— Со мной? Я останусь здесь, вместо вас.
— Как вы благородны, как великодушны! — мягко сказал Альбер. Потом немного помолчал. — Будь я вооружен, я мог бы принять ваш план, — продолжал он. — Я разыскал бы кабила и, не долго думая, убил бы его как врага моего отечества. Потом подошли бы вы, и мы убежали бы вместе. Но принять ваш план таким, как вы предложили, я не могу.
— О, не говорите так! — умоляюще прошептала девушка. — Не беспокойтесь обо мне. Вы спасете себя, а со мной ничего дурного не случится, можете быть уверены! Не отказывайтесь от моего предложения!
— Есть, пожалуй, еще одна возможность! — заметил Альбер. — Будь у кабила три лошади или сумей он захватить меня с собой, мы могли бы убежать втроем.
— Нет, нет, я не думаю, чтобы он пошел на это! — прошептала Юдифь. — Прошу, умоляю вас, не теряйте драгоценного времени!
— Один я не побегу, — решительно заявил Альбер. — Совесть не позволит мне так поступить. И все же я благодарен вам, благодарен от всей души!
— Вы отказываете мне! Это жестоко! — вздохнула Юдифь. — Вы пренебрегаете моим советом точно так же, как презираете мой народ!
— Нет, клянусь Богом, нет, — уверял ее Альбер. — Но решение мое твердо, ничто не в силах его поколебать. Без вас я отсюда не уйду.
— Вы лишаете меня последней надежды на то, чтобы изгладить из вашей памяти поступок моего отца! — укоризненно сказала Юдифь.
— О нет, мадемуазель, никто лучше меня не может оценить чувство, которое подсказало вам ваше сердце, но даю вам слово, я прощаю вашего отца ради его дочери. Не настаивайте на своем. Отсюда я не уйду, разве что узнаю и о вашем спасении.
— В таком случае я тоже остаюсь! — почти в полный голос твердо заявила Юдифь.
— Прошу вас, не жертвуйте собой напрасно! — продолжал настаивать Альбер. — Спасайте себя! Позже вы убедитесь, что моя счастливая звезда не покинула меня. Я тоже увижу свое отечество.
— Так вы отказываете мне? — повторила Юдифь.
— Я не в силах пойти на это ни при каких условиях, как бы мне ни было больно! — ответил Альбер.
— Тогда прощайте! — прошептала девушка и быстро растаяла во мраке ночи.
IX. САМУМ
Наверное, ни один отряд никогда не угнетала такая жуткая тишина, какая давила на тот, в котором находился Альбер, в полдень следующего дня. Вряд ли когда-либо оказавшиеся в пустыне люди так напоминали призраков, были так мрачны и молчаливы, как входившие в этот отряд кабилы. Отряд производил теперь поистине зловещее впечатление, рождавшее самые мрачные предчувствия.
Раскаленный воздух дрожит, будто нагретый пламенем свечи, с трудом пропуская даже солнечный свет. Этот свет, обычно ослепительно яркий, был сейчас тусклым и отбрасывал едва заметные тени. Суеверный вообразил бы, что нарушился привычный порядок вещей и бренный мир движется навстречу своему концу.
Такая перемена в погоде наступила не сразу. Еще ночью, когда Юдифь покинула Альбера и он принялся размышлять о своем разговоре с дочерью Манаса, молодой человек ощутил невыносимую духоту. Он приписал это внутреннему жару, охватившему его беспокойству и в конце концов заснул, погрузившись в тяжелые, кошмарные сновидения. Проснувшись наутро, он почувствовал, что те своеобразные изменения в атмосфере, о которых мы упоминали, уже произошли. Альбер едва дышал, одежда прилипала к телу, при малейшем движении пот лил с него градом.
Он слышал, как некоторые из кабилов предлагали остаться в пальмовой рощице и переждать тот природный катаклизм, какой предвещала наступившая духота. Командир был против. Ему якобы по опыту известно, что такого рода явления нередко продолжаются несколько дней, и он вполне уверен, что до наступления бури, если она вообще разразится, можно добраться до большого оазиса, расположенного в северном направлении. Его слово оказалось решающим. Кабилы собрались в путь, и Альбер опять сел в седло.
Взгляд его был устремлен на небольшую группку людей, обыкновенно державшуюся в арьергарде основного отряда, — группку, где находилась Юдифь. Сегодня, как и всегда, Альбер насчитал четырех мужчин и трех женщин. Выходит, Юдифь сдержала слово — отказалась бежать.
Кабилы оставили рощицу далеко позади и очутились на плоской равнине. Куда ни глянь, повсюду тяжелый дрожащий воздух, красноватое небо, бледный диск солнца. Даже всадники впереди были почти неразличимы. Альберу представлялось, что он смотрит на окружающее сквозь толстое цветное стекло. Он предчувствовал, что произойдет нечто ужасное — вероятно, разразится один из тех страшных ураганов, которые губят целые караваны, не одну сотню людей.
Лошади забеспокоились. Воздух сотрясал то какой-то жалобный вопль, то непонятный, вселяющий ужас глухой звук. Прямо перед носом у кабилов, ехавших в середине отряда, вдруг стрелой промчалась антилопа, словно по пятам за ней гнался демон. Стороной, словно тени, пронеслись другие животные. Взметнулась пыль. Зной нарастал с каждым мгновением. Ряды всадников вновь пересекли животные — газели, пантеры, антилопы. Пронесся даже жираф.
— Самум! Самум! — со страхом передавали из уст в уста.
Спустя минуту все пришло в ужасное смятение. Люди бросились к мулам, навьюченным кожаными мешками с водой. Мешки были моментально разрезаны. Каждый смачивал платок в тепловатой жидкости. Все лица были полны ужаса, мертвенно-бледны и мокры от обильного пота. Альбер тоже бросился к мулу и намочил в воде весь бурнус, мгновенно сорвав его с себя.
Внезапно налетел порыв ветра, но прохлады не принес. Казалось, он шел из раскаленной печи. За первым порывом последовал второй, а с ним на отряд обрушилось облако пыли. В воздухе возник неясный гул, с каждой секундой делаясь все сильнее.
— Самум! — снова пронеслось по рядам, и отряд рассеялся.
Вдруг до Альбера долетели приглушенные женские голоса. Их жалобный тон напомнил ему о той, которую он забыл в этом разгуле стихии. Он подумал о красавице еврейке и сразу же почувствовал прилив сил.
— Юдифь! — громко крикнул Альбер по-французски. — Если вы живы, дайте мне знать!
— Я здесь! — услышал он в ответ. — Освободите меня! Кабил не дает мне двинуться с места!
В этой гнетущей обстановке, когда вокруг не было ничего, кроме туч раскаленного песка, вселяющей страх полутьмы, рева самума, стонов и жалоб людей и животных, — ничего, кроме предчувствия неминуемой смерти, — Альбер, принуждая к повиновению свою храпящую, дрожащую, поднимающуюся от страха на дыбы лошадь, пробивался вперед, до боли напрягая глаза — их и без того жгло словно огнем, — пытаясь хоть что-то разглядеть, что-то различить в окружающем его мрачном хаосе.
Неожиданно он увидел впереди темную массу, очертаниями напоминающую всадника, и рядом с ним еще одну фигуру. Ему показалось, они борются друг с другом. Он пришпорил лошадь, спеша приблизиться.
— Ты умрешь, умрешь, как и я! Тебе не уйти! — долетел до него мужской голос, и он узнал похитившего Юдифь араба.
— Оставь меня, чудовище! — умоляла негодяя дочь Манаса. — На помощь!
Теперь Альбер воочию увидел Юдифь и кабила: кабил пытался перетянуть девушку на свою лошадь. Молодому французу оба показались тенями, они тоже не замечали Альбера, хотя он находился от них в каких-нибудь двух шагах. Вдруг справа от него что-то блеснуло — это был ятаган в руке кабила.
— Оставь меня, безумец! — кричала Юдифь. — На помощь! Он убьет меня!
Альбер успел перехватить ятаган. Лезвие сверкнуло, рассекая воздух, — раздался крик раненого кабила. Все еще пытаясь удержать Юдифь, он упал и со стоном исчез под копытами своего коня.
— Это я, Юдифь! Сюда! — вскричал Альбер. — Дайте мне поводья вашей лошади! Все в порядке — я держу их!
Левой рукой он схватил поводья лошади, за холку которой судорожно цеплялась девушка, а в правой по-прежнему сжимал окровавленный ятаган. Альбер снова дал шпоры лошади, направляя ее вперед. Тучи раскаленного песка, которые обрушивались на него, становились все плотнее.
Между тем рядом с Юдифью выросла, словно тень, еще одна фигура. Альбер увидел, как к девушке опять потянулись чьи-то руки. Что это? Неужели ангел смерти не хочет упустить свою добычу? Юдифь вскрикнула.
Это оказался второй кабил — тот, что собирался бежать с ней.
— Прочь! Оставь меня в покое! У тебя нет никаких прав на меня!
Альбер снова сделался свидетелем единоборства, в его руке вновь сверкнула сталь ятагана, и опять темная фигура рухнула наземь и исчезла из глаз. Сдавленный крик на мгновение заглушил рев урагана.
Куда же теперь? Путь свободен, а что дальше? Альбер пришпорил лошадь. Он был готов бежать, но куда? Повсюду свирепствовал самум. Но и оставаться здесь он не мог. Он увлек за собой лошадь Юдифи. Похоже, животные сами чувствовали, что нужно спасаться, — их гнал инстинкт.
Вскоре лошадь под Юдифью пала. Альбер пытался поднять ее, но безуспешно. Времени на раздумья не было, он обхватил девушку левой рукой и перенес к себе, не выпуская из правой ятагана. А теперь вперед!
Настала ночь. Тучи песка словно пытались пригнуть Альбера к земле. Его лошадь храпела все сильнее. Скоро она падет. Тогда Альберу, а с ним и Юдифи конец. В смертельном страхе она обхватила его руками. Альбер смотрел на ее бледное лицо, закрытые глаза, черные, разметавшиеся от ветра волосы. Он чувствовал биение ее сердца. Внезапно его охватил жар, кровь бросилась в лицо, голова раскалывалась, перед глазами поплыли разноцветные круги. Его лошадь вязла в песке, но пока плелась. Сколько она еще протянет? Может быть, минуту. А что дальше?
Неожиданно он рухнул в бездну, в абсолютный мрак. Из груди Юдифи вырвался крик, Альбер почувствовал, как лошадь под ним забилась. Потом он потерял сознание.
X. МАКСИМИЛИАН МОРРЕЛЬ
Трибуны большого зала заседаний Палаты пэров Франции редко бывали заполнены так, как 28 сентября 1840 года. Предстояло разбирательство серьезного обвинения. На узких сиденьях трибун теснилась элита парижского общества. Все взоры были устремлены в зал — тот самый зал, который в свое время был свидетелем вынесения обвинительного приговора генералу де Морсеру, пэру Франции.
В зале царила мертвая тишина. Там, внизу, сидел канцлер Пакье, президент Палаты пэров, сбоку от него — королевский прокурор Фран-Карре, перед ними широким полукругом располагались примерно двести человек, все в изысканных костюмах или блестящих мундирах, люди в большинстве своем уже немолодые. Это были пэры Франции — цвет французского дворянства.
По другую сторону от канцлера можно было видеть небольшую группу, насчитывающую девятнадцать человек; некоторые из них были в мундирах, большая часть — в штатском. Почти все взгляды, однако, приковывал к себе один из них.
Роста он был чуть ниже среднего, бледный, с каштановыми волосами и бородкой, крупным носом, одетый просто, без претензий. Он задумчиво смотрел прямо перед собой, почти не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Лишь иногда он оборачивался к своему защитнику — человеку, которого знал весь Париж. Это был Беррье, знаменитый адвокат. Временами он шепотом обменивался несколькими словами с седовласым стариком в генеральском мундире, также занимавшим место на скамье подсудимых.
Слово взял королевский прокурор. Он произнес длинную речь. Но то ли факты, содержащиеся в обвинении, были уже известны присутствующим, то ли им не уделяли должного внимания, а только его слова были едва слышны на трибунах, где слушатели перешептывались друг с другом и обменивались мнениями.
Наконец прокурор снова занял свое место, и поднялся первый из обвиняемых — тот самый молодой человек, немногим старше тридцати, насколько можно было судить по его внешности. В зале воцарилась гробовая тишина.
— Впервые в жизни, — начал он, — мне наконец позволено говорить во Франции и открыто обратиться к соотечественникам…
После этой вступительной фразы он спокойно и уверенно, немного взволнованным голосом заговорил о своем великом родственнике, своем дяде, об интересах Франции. Каждая его фраза была веской и содержательной.
— Как участник политического дела, — закончил он свое выступление, — я не признаю за политическим судом права судить мои намерения и поступки. Ваши формальности никого не введут в заблуждение. В той борьбе, которая начинается, существуют только победитель и побежденный. Если вы на стороне победителя, мне нечего ждать от вас справедливости, а в великодушии я не нуждаюсь!
Он сел на свое место. Это был Луи Наполеон Бонапарт, третий сын бывшего короля Голландии. Он предстал перед судом за вооруженную высадку в Булони, за повторную попытку добиться того, чего позже ему все-таки удастся достигнуть, — власти над страной, первым императором которой был его дядя.
Затем начался процесс и специальный допрос, затянувшийся до самого вечера. Наконец зал опустел, слушатели покинули трибуны. Первое заседание суда закончилось.
Однако канцлер Пакье и королевский прокурор Фран-Карре оставались в Люксембургском дворце. За легким ужином они оживленно обменивались мнениями по поводу прошедшего дня, после чего перешли в один из внутренних покоев дворца. Канцлер занял место за огромным столом, покрытым зеленым сукном. Прокурор уселся на некотором расстоянии от него.
Вслед за тем судебные приставы ввели в комнату молодого человека и оставили наедине с блюстителями правосудия. Вошедший оказался крупным, статным человеком приблизительно тридцати лет от роду.
— Господин Максимилиан Моррель, если не ошибаюсь? — спросил канцлер Пакье.
— Да, сударь, — ответил молодой человек. — Капитан Моррель. Но, прежде чем ответить на ваши вопросы, позвольте мне в свою очередь задать вопрос вам. Я слышал, сегодня начался процесс по обвинению участников Булонского дела. Почему меня не предали суду Палаты пэров?
— Разные причины побудили нас сделать в отношении вас исключение, — ответил канцлер. — Для начала мы считаем необходимым побеседовать с вами наедине. Что будет дальше — зависит от результатов этой беседы. Итак, к делу. Ваше имя нам известно. Так же как и ваше прежнее положение. Теперь, как мы выяснили, вы больше не занимаете никакой должности. Вы — частное лицо, не так ли?
— Я владелец дома на Елисейских Полях и замка в Трепоре.
— Вы женаты?
— Да, господин канцлер.
— На ком?
— На Валентине де Вильфор, дочери прежнего королевского прокурора.
В эту минуту прокурор прошептал канцлеру на ухо несколько слов, и какое-то время оба тихо переговаривались друг с другом.
— Вы утверждаете, что женаты на Валентине де Вильфор, дочери прежнего королевского прокурора? — спросил канцлер.
— Сударь, — едва не вспылив, быстро ответил Моррель, — я не утверждаю этого, я и в самом деле ее муж.
— Но никакой Валентины де Вильфор больше не существует, она умерла, — спокойно заявил канцлер, уверенный в своей правоте.
— Она и была мертва, по крайней мере все так считали, — сказал капитан, подняв глаза кверху, словно желая поблагодарить небо. — Ее считали мертвой, но ее спас некто, кого я ставлю первым после Бога. Впрочем, я полагаю, господин канцлер, к делу это не относится. Моя жена не имела никакого касательства к известному вам делу.
— Речь идет лишь о выяснении ваших семейных обстоятельств, — сказал Пакье, похоже не вполне удовлетворенный ответом Морреля. — Продолжайте, пожалуйста! Вы были французским офицером. Почему вы ушли в отставку?
— Во-первых, я взял отпуск в Алжире, чтобы залечить полученное там ранение, — ответил капитан. — К тому же во Франции меня задержала женитьба, и наконец, моя супруга просила меня оставить службу и жить только для нее. Это и решило мою дальнейшую судьбу.
— Но что побудило вас сделаться сторонником Бонапарта? — почти по-дружески поинтересовался канцлер.
— Мой отец был приверженцем Наполеона, дед моей жены, Нуартье де Вильфор, тоже, видимо, знаком вам как бонапартист. Таким образом, дух бонапартизма живет в нашей семье. Кроме того, я действовал согласно желанию одного человека, которому мой отец обязан своим спасением, а я — жизнью своей жены. Согласно желанию того самого человека, о котором я уже упоминал. А его желания при всех обстоятельствах будут для меня законом.
— Это граничит с безумием! — вполголоса пробормотал канцлер. — И кто же он, этот человек?
— Граф Монте-Кристо! — с гордостью ответил Максимилиан.
Канцлер был удивлен ответом и взглянул на королевского прокурора с почти насмешливой улыбкой.
— Граф Монте-Кристо? Кто это? Где он находится? — недоверчиво спросил Пакье. — Я никогда о нем не слышал!
— Возможно, и не слышали, я сам не знаю, где он теперь, — сказал капитан. — Однако такой человек существует. Разве вам не приходилось слышать о нем, когда он несколько лет назад был в Париже? О графе говорили все.
— В самом деле, я что-то смутно припоминаю, — согласился канцлер. — Вероятно, какой-то авантюрист или что-то в этом роде.
— Господин канцлер! — едва сдержался молодой человек. — Не судите о том, кого не знаете! На свете нет более благородного человека!
— Вы, кажется, очень высокого мнения о нем — прекрасно! — пожал плечами Пакье. — Следовательно, именно граф Монте-Кристо поручил вам примкнуть к сторонникам Наполеона. Почему он это сделал?
— Вы требуете от меня слишком многого — я не знаю, — ответил Моррель. — В июле меня разыскал некто, мне неизвестный. Он передал привет от графа Монте-Кристо и сказал, что граф помнит меня. Потом от имени графа он велел мне отправиться в банкирский дом Ротшильда и получить некую сумму, которую мне вручат, когда я удостоверю свою личность. Он заметил также, что графу будет приятно, если я примкну к тому делу, которому служит человек, ожидающий от меня этих денег. Я спросил, что это за дело. Посланец графа ответил, что я это узнаю. Я отправился к братьям Ротшильд и, представившись, получил значительную сумму. С этими деньгами я вместе с женой выехал в Лондон, ибо человек, которому мне надлежало передать деньги, находился там. Взяв их, он сказал, что они предназначены Луи Наполеону и его делу. Я счел своим долгом также присоединиться к этому делу, тем более что питал симпатии к принцу.
— А кто был этот человек в Лондоне?
— Его имени я вам не назову, — ответил капитан. — Среди обвиняемых его нет, и участия в осуществлении плана он не принимал. Это просто один из друзей принца.
— А кто был другой — тот, что привез вам поручение графа Монте-Кристо? — спросил канцлер.
— Даю вам слово, что не знаю его. Я никогда его не видел — ни до того, ни после.
— Довольно странно, — с неудовольствием заметил Пакье. — А вы не можете сказать, имел ли тот лондонский господин отношение к графу, и если имел, то какое?
— Нет, господин канцлер. Я никогда об этом не спрашивал.
— Можете вы назвать по крайней мере сумму, которую граф переправил с вами в Лондон?
— И это мне запрещено. Могу только сказать, что это была немалая сумма.
— Больше миллиона?
— Конечно! Намного больше.
— В таком случае этот граф Монте-Кристо должен быть богат!
— Несомненно. Я считаю его одним из самых богатых людей на свете.
— А откуда он получил эти несметные сокровища? Мне никогда не приходилось слышать о таком состоятельном семействе — Монте-Кристо.
— На этот счет не могу вам сказать ничего определенного, — ответил Моррель. — Я уважаю графа как лучшего и благороднейшего из смертных, как спасителя моей семьи. Я никогда не спрашивал, откуда у него эти богатства. Кроме того, по-моему, это к делу не относится. Обратитесь к графу сами.
— Побольше откровенности, капитан Моррель, и вам вернут свободу. Назовите нам человека, которому вы передали деньги.
— Ни в коем случае! — возразил Моррель. — К тому же этот человек, насколько мне известно, еще находится в Лондоне.
— Если вы будете упорствовать, нам придется проявить строгость, — предостерег канцлер. — Из заключения вас освободят не раньше, чем вы назовете имя, которое нас интересует.
Кровь бросилась в лицо капитану. Казалось, он с трудом сдерживает себя.
— Вы шутите, господин канцлер, — сказал он. — Надеюсь, во Франции еще существует справедливость. Пусть меня предадут суду Палаты пэров, суду присяжных, какому угодно другому суду. Пусть суд вынесет мне приговор, и я буду отбывать наказание, как все прочие участники этого дела.
— Посмотрим! — сказал канцлер загадочным тоном. — Мы вас больше не задерживаем!
Он позвонил. Появились судебные приставы. Под их конвоем Моррель покинул комнату, холодно попрощавшись. Когда он ушел, канцлер с недоумением взглянул на королевского прокурора и покачал головой.
— Ну, что вы скажете обо всем этом? Мистификация это или правда? Существует ли такой граф — Монте-Кристо? Правду сказал капитан или солгал?
— Я внимательно следил за его поведением и выражением лица, — ответил Фран-Карре. — Похоже, он говорит правду. А о графе Монте-Кристо я немало слышал несколько лет назад. Однажды я даже видел его в доме де Вильфора, который прежде занимал мою теперешнюю должность. Впрочем, я полагаю, есть довольно простой и надежный способ узнать правду. Супруга Морреля живет здесь, в Париже, в доме, который принадлежит зятю капитана. Поскольку она была с мужем в Лондоне, ей тоже известно, с кем встречался там Моррель. Если я обрисую ей участь, ожидающую ее супруга, в самых мрачных тонах, она выложит нам все как есть. Завтра же и отправлюсь к ней.
— Верно, неплохая мысль! — одобрил Пакье. — Разыщите госпожу Моррель и постарайтесь также разузнать все что возможно, об этом графе Монте-Кристо. Неизвестно кто скрывается под этим именем!
XI. ВАЛЕНТИНА
Утром следующего дня в одной из комнат приветливого дома на улице Меле можно было наблюдать такую картину. У окна за вышиванием сидела сестра капитана Морреля, Жюли. Ее муж, Эмманюель Эрбо, устроившись напротив, углубился в газету. Маленькая девочка, пристроив у себя на коленях куклу, заставляла ее танцевать: белокурый ребенок безуспешно пытался привлечь внимание отца к своим невинным забавам. Но сегодня Эмманюель читал, не замечая ничего вокруг, как и вторая молодая женщина, сидевшая на софе. Одной рукой она прижимала к себе маленького сына, а в другой держала газету.
У нее было нежное выразительное лицо, тонкость черт и аристократическую прелесть которого еще более подчеркивало ее черное платье. Она выглядела несколько бледной, но эта бледность не производила впечатления нездоровья. Впрочем, взгляд ее был слегка печален, а темный наряд вносил некий диссонанс в семейную идиллию, царившую в доме Эрбо.
Это была Валентина, жена Морреля, с маленьким Эдмоном. Со времени ареста мужа она оставила дом на Елисейских Полях, где чувствовала себя слишком одиноко, и перебралась к Эмманюелю и Жюли, с которыми могла по крайней мере поговорить о Максимилиане: чета Эрбо разделяла горе Валентины. Молодая, любящая женщина облачилась в черное платье, чтобы даже внешне подчеркнуть, как глубоко она переживает временную потерю своего Максимилиана.
В эту минуту в комнату вошел старый слуга Пенелон, бывший матрос, в прошлом — искусный мореход, который служил еще отцу Максимилиана и Жюли. Пенелон передал молодой женщине какую-то записку.
— Что это значит? — спросила Валентина, пробежав лазами написанное. — Господин Фран-Карре, королевский прокурор, просит принять его для короткой беседы. Для чего я могла понадобиться прокурору?
— Боже мой, Валентина, как ты не догадалась? — воскликнула Жюли. — Наверняка он собирается говорить с тобой о Максе!
Молодая женщина, прочитав записку, вначале сильно побледнела — возможно, оттого, что слова «королевский прокурор» напомнили ей об отце, — но потом справилась со своими чувствами и быстро поднялась.
— В таком случае мне следует с ним встретиться, не так ли? — нерешительно спросила она.
— Несомненно! — поддержал Эмманюель. — Пенелон, проводи господина королевского прокурора в гостиную. Будьте осторожны, Валентина, никогда нельзя знать, с какой целью пришел королевский прокурор. У него могут быть добрые намерения, а возможно, он хочет все разузнать о Максимилиане. Так что будьте начеку!
— Господи, я так мало знаю о том, что сделал Макс! Мне это будет нетрудно! — воскликнула Валентина.
Она передала Жюли своего Эдмона и прошла в гостиную, где навстречу ей поднялся одетый в черное господин с бледным худым лицом, со шляпой в руке.
— Госпожа Валентина Моррель? — спросил он, учтиво поклонившись.
— Это я.
— Дочь господина де Вильфора, если не ошибаюсь?
— Совершенно верно, господин королевский прокурор. Прошу вас садиться. Чему я обязана удовольствием видеть вас у себя? Подозреваю, вас привели ко мне дела моего мужа.
— Вы правы, сударыня, — ответил Фран-Карре, который целиком и полностью перенял здесь непринужденный тон и манеры истинного джентльмена. — И надеюсь, это обстоятельство извиняет мою дерзость.
— Напротив, я даже благодарна вам. Меня утешает уже сама возможность услышать что-то о моем муже. Как я узнала из газет, его нет среди обвиняемых, представших перед судом Палаты пэров.
— Его участие в этом деле незначительно. Я даже надеюсь, что он окажется в числе тех, кто отделается непродолжительным лишением свободы. Но отчасти это зависит от него самого.
— Как так — от него самого?! — спросила Валентина, обрадованная, и удивленная.
— Да, да, сударыня! От него самого! — ответил Фран-Карре, бросив на молодую женщину самый невинный, самый простодушный взгляд, на какой только был способен. — Позвольте мне быть с вами откровенным! Я пришел к вам не по долгу службы, а как друг, истинный друг! Надеюсь, вы согласитесь со мной, что ваш супруг поступил опрометчиво. Он спокойно наслаждался жизнью в лоне счастливой семьи, имея превосходную супругу. Зачем он пустился в политические спекуляции, зачем принял участие в авантюре, которая теперь полностью и навсегда потерпела неудачу? Ему не следовало это делать хотя бы ради вас!
— Ваши слова не лишены справедливости! — согласилась Валентина, которая с сочувствием встретила тираду королевского прокурора. — Но у моего мужа были некие святые для него обязательства, заставившие его принять сторону принца.
— Я знаю, ваш супруг был весьма откровенен с нами на этот счет. Он выполнял желание графа Монте-Кристо и передал в Лондон сумму в два миллиона. Мне кажется, речь шла о двух миллионах.
— Мне и в самом деле это неизвестно, — чистосердечно призналась молодая женщина, не подозревая, что дружелюбный господин намерен выпытать у нее все, что можно. — Однако меня удивляет, что Макс сказал вам об этом. Он имеет обыкновение скрывать от всех свое знакомство с графом Монте-Кристо.
— Ну что вы, он рассказал нам гораздо больше! — воскликнул Фран-Карре. — И был совершенно прав, потому что знает: мы желаем ему добра, а искренность всегда ведет к цели. Тем более странно, что он упорно отказывается отвечать на один вопрос, который нас весьма и весьма интересует. Речь идет об имени одного-единственного человека, к тому же совершенно незначительного. Вероятно, ваш муж дал слово чести не называть его имени, и это соображение мешает ему подумать о собственном благе и благе своей семьи. Ибо не скрою, что свободу ваш супруг получит не раньше, чем назовет имя этого человека. Поэтому я подумал о вас…
— О ком же идет, собственно говоря, речь? — испуганно спросила Валентина.
— Речь идет о человеке, которому ваш супруг вручил в Лондоне упомянутую сумму, — уточнил Фран-Карре.
— Боже мой, к сожалению, я его не знаю! — искренне огорчившись, призналась госпожа Моррель. — Как жаль!
— Действительно, очень досадно! — заметил королевский прокурор. Он понял, что обманулся в своих ожиданиях, и теперь с трудом сохранял спокойствие. — Я полагал, что вам известно это лицо. Ну что же, есть еще один выход. Если не ошибаюсь, завтра вы сможете получить свидание с мужем. Он вам скажет, что его спрашивали об этой фамилии. Употребите все свое красноречие, сударыня, чтобы побудить его отказаться от своего упорного молчания. От этого зависит многое. Скажите ему, что он не увидит вас, не увидит сына, не вдохнет воздух свободы, пока не назовет фамилию этого человека.
— Боже мой, это ужасно! — в крайнем испуге вскричала молодая женщина. — Макс так упрям, так своенравен! И мне не суждено его увидеть свободным! Он не увидит своего Эдмона — да муж просто сойдет с ума!
— Тем больше у вас оснований объяснить ему неразумность запирательства! — решительно сказал Фран-Карре. — Если он любит вас и ребенка, он назовет этого человека, с именем которого мы не связываем особенно больших планов, но оно, это имя, увы, непременное условие освобождения вашего супруга. Возможно, я мог бы и сам узнать его, поскольку проявляю к вам большой интерес. Но в таком случае мне необходимо знать, что за человек передал вашему супругу такое поручение графа Монте-Кристо. Он вам знаком?
— Господи, даже это я не в силах вам сказать! — воскликнула молодая женщина, еще больше смутившись.
— Фатальное невезение! — заметил прокурор, не в силах скрыть неудовольствие. — Выходит, не остается иного средства, кроме того, что я вам предложил. Постарайтесь завтра убедить вашего мужа назвать это злополучное имя. Приложите все усилия, возьмите с собой сына. Иначе, сударыня, — я вынужден, несмотря на свое расположение, предупредить вас, — в противном случае вы, быть может, долго не увидите мужа! Впрочем, я надеюсь, он будет благоразумным. Вы обещаете мне сделать это?
— Обещаю! — твердо заявила Валентина. — Я очень благодарна вам, господин королевский прокурор!
— Ну что же! Тогда оставим эту скучную политику, сударыня, и поговорим о других вещах. Вы знаете, какое-то время я полагал, что вас нет в живых! Я едва решился поверить вашему супругу, когда он сказал, что женат на Валентине де Вильфор, дочери прежнего королевского прокурора.
— И вы были совершенно правы, — ответила Валентина с невеселой улыбкой. — Скажу вам, что только чудо спасло меня от смерти. Еще несколько лет назад я никому бы не рассказала эту историю, но теперь стала спокойнее и в том, что тогда казалось мне ужасным, непостижимым, бесчеловечным, усматриваю волю Провидения. Вы, может быть, не знаете, что мой отец был женат дважды. Первый раз в Марселе, когда служил там королевским прокурором, на Рене де Сен-Меран. Это моя рано умершая мать. Она была богата, и по материнской линии мне досталось большое наследство. Отец женился снова, на молодой красивой женщине. От нее у него родился сын. Я со своей стороны не обрела в ней матери, и даже отец едва осмеливался мне признаться, что еще любит меня. В доме я чувствовала себя лишней, пока в конце концов по воле случая не познакомилась тайком с Максимилианом Моррелем. Официально этот молодой человек не был вхож в наш дом, однако мы нередко встречались украдкой. Но наша любовь оказалась несчастливой: я была помолвлена с другим молодым человеком, Францем д’Эпине. Отец и мачеха настаивали, чтобы я вышла за него замуж. Так что в своем доме у меня не было никакой защиты и поддержки, единственный, кто понимал меня, — это мой дедушка по отцовской линии, Нуартье де Вильфор.
— Это мне известно, — заметил королевский прокурор, очень внимательно слушавший рассказ Валентины. — Его разбил паралич, и он не мог даже говорить.
— Верно, однако мы с ним прекрасно понимали друг друга. К нему одному я питала доверие, но даже ему я не осмеливалась признаться в любви к Максимилиану. Впрочем, и собственный сын, не говоря уже о моей мачехе, относился к нему с пренебрежением, и я опасалась, что его влияния окажется недостаточно, чтобы избавить меня от брака с бароном д’Эпине, вообще говоря славным и добрым человеком. Поэтому свою последнюю надежду я связывала с моими бабушкой и дедушкой по материнской линии, с маркизой и маркизом де Сен-Меран. Они должны были приехать в Париж, чтобы присутствовать при составлении брачного контракта между мной и Францем д’Эпине.
Незадолго до того в Париже появился граф Монте-Кристо. Он был вхож и в наш дом. В то время я не имела ни малейшего представления, что он окажет решающее влияние на мою судьбу. Я лишь мимоходом обменялась с ним несколькими фразами, да и он почти не обращал на меня внимания. Однако я слышала, что он знаком с Максом, больше того, Макс даже считается его другом.
Добралась до нас одна только бабушка. А дедушка, маркиз де Сен-Меран, в дороге внезапно умер в страшных мучениях. Несколько дней спустя подобным же образом умерла и бабушка. Тогда я еще не знала, что они были отравлены и что какое-то время убийцей даже считали меня, полагая, что я намереваюсь вступить в права наследства. Вскоре скончался Барруа, слуга моего дедушки Нуартье, причем так же внезапно. Я слышала, что и сам дедушка заболел, но справился с болезнью. В это время в Париж приехал барон д’Эпине для подписания брачного контракта. Я не видела выхода, я думала, что потеряна для Морреля навсегда.
Положение вещей внезапно изменил случай. Франц д’Эпине уже собирался поставить подпись под контрактом, когда дедушка Нуартье велел позвать его к себе. Он признался молодому человеку, что некогда, кажется в тысяча восемьсот четырнадцатом году, убил на дуэли д’Эпине-отца. Внучка такого человека не могла стать женой д’Эпине-сына. Барон отступил.
Я была спасена, но лишь для того, чтобы стать жертвой неожиданной и опасной болезни. Дни и ночи я пребывала в состоянии полусна и уже считала, что умру. В одну из этих ночей я увидела, как в стене отворилась потайная дверь и появился граф Монте-Кристо. Что он мне говорил, я тогда почти не понимала, ибо лежала в бреду. Знаю только, он просил меня быть спокойной, что бы ни случилось.
А случилось так, что, по мнению всех, включая и Морреля, я скончалась. Очнулась же лишь в нашем родовом склепе «когда открыла глаза, увидела перед собой графа Монте-Кристо. Он сказал мне несколько утешительных слов, затем взял на руки — я была слабой и легкой, как ребенок, — и вынес из склепа. Стояла ночь. Он усадил меня в карету и доставил в свой дом, где меня встретила и выходила девушка — настоящий ангел добра и красоты. Потом я вместе с графом отправилась на юг, на остров Монте-Кристо.
— Удивительно! Право, удивительно! — воскликнул, покачивая головой, королевский прокурор. — И там вы нашли капитана Морреля?
— Вы угадали, — подтвердила Валентина. — Потом я узнала, как все произошло. Макс, поверив в мою смерть, хотел лишить себя жизни, но граф взял с него слово сделать это не ранее определенного срока. Мне стало известно также, что в первое время граф не испытывал особого восторга, узнав о симпатии Морреля ко мне. Дело в том, что он ненавидел всю мою семью, а в особенности — моего отца. Но отчаяние Макса тронуло его сердце, и он, уже зная причину поразивших нашу семью внезапных смертей, решил спасти меня. А причина оказалась неожиданной.
Моя мачеха сделалась убийцей. Она безумно любила своего избалованного сына, а поскольку по ее линии его ожидало весьма небольшое состояние, она вознамерилась увеличить его за счет моего наследства. Однако произойти это могло только в случае, если я и все мои родственники уйдут из жизни. Поэтому она отравила моих бабушку и дедушку де Сен-Меран, а яд, который выпил Барруа, предназначался дедушке Нуартье. Наконец пришла и моя очередь умереть, и графу удалось спасти меня только благодаря тому, что он, арендуя дом по соседству, пробил дверь и видел все, что со мной происходило. Вместо яда, которым ежедневно потчевала меня мачеха, он давал мне снотворное питье, вызвавшее мою мнимую смерть. Лишь таким образом ему удалось спасти меня. Но Морреля он держал в неведении, решив подвергнуть его испытанию. Когда же Макс и в самом деле попытался лишить себя жизни, граф соединил нас.
Потом я узнала, что в нашем доме происходили и более ужасные события. Мой отец догадался, что его жена — убийца, и, чтобы не выступать ее публичным обвинителем, к чему обязывала его занимаемая должность, он подал ей страшный совет — покончить жизнь самоубийством. Она так и поступила, но отравила также их общего сына! В тот же самый день отцу предстояло вести процесс против человека, который едва не стал мужем Эжени Данглар.
— Я знаю, — вставил Фран-Карре, — против так называемого князя Кавальканти.
— Да, таково было его имя! — продолжала Валентина, пытаясь скрыть охватившее ее волнение. — В ходе процесса удалось установить, что мнимый князь Кавальканти — беглый каторжник и убийца. И не только это! Выяснилось, что он — внебрачный сын моего отца, которого тот намеревался убить сразу же после появления на свет. Спас младенца случай. Это был сокрушительный удар для отца. Он вернулся домой, обнаружил трупы жены и сына. Не выдержав потрясений, он сошел с ума.
Валентина закрыла лицо руками. В первую минуту даже суровый королевский прокурор не нашел что сказать. Так вот какова судьба его предшественника по службе! Какую мрачную страницу из истории парижских нравов довелось ему прочитать!
— Вы взволнованны, сударыня, — наконец сказал он. — Я не хотел этого! У меня не было намерений огорчать вас. Оставим эту тему. Вы сказали, что граф Монте-Кристо был врагом вашего отца. С чего вы это взяли? Ведь тогда граф появился в Париже впервые. Он был знаком с вашим отцом?
— Мой муж все мне объяснил, — ответила Валентина, уже успевшая немного успокоиться. — Вину за непримиримую вражду, которую граф питал к моему отцу, несет отец. Когда он служил королевским прокурором в Марселе, граф был простым моряком и собирался жениться на одной девушке. Впоследствии она вышла замуж за генерала де Морсера, того самого, что лишил себя жизни незадолго до трагедии в нашей семье. Граф — тогда его звали Эдмон Дантес — был обвинен в том, что является якобы участником бонапартистского заговора. Император в то время находился на Эльбе. Шла подготовка к его возвращению во Францию. Эдмон Дантес был невиновен. Он выступал лишь посредником, передавшим письмо, содержания которого не знал. К несчастью, послание было адресовано моему дедушке Нуартье — давнему приверженцу Наполеона, в то время как отец держал сторону Бурбонов. Отец опасался, что будет скомпрометирован, если сведения из этого письма получат огласку. Он боялся повредить своей карьере и из честолюбия решил навсегда — так он по крайней мере надеялся — упрятать молодого Дантеса в подземелья замка Иф. Отсюда и зародилась враждебность графа к моему отцу, когда после долгих лет заточения он бежал из тюрьмы и собрал — не знаю где — несметные сокровища.
— Теперь я понимаю, — сказал Фран-Карре. — Итак, граф неслыханно богат? В самом деле?
— По всему, что рассказывал мне муж, так оно и есть в действительности. Он один из самых богатых людей на земле!
— В таком случае странно, что о нем так мало говорят, — заметил королевский прокурор. — Где же он находится теперь? Ведь не во Франции же?
Поскольку имя графа уже упоминалось в связи с Моррелем и его причастностью к Булонскому делу, любому другому такой вопрос показался бы каверзным. Но молодая женщина была слишком неискушенной в подобных делах и чересчур взволнованной своими печальными воспоминаниями, чтобы обратить на это внимание.
— Не знаю, — ответила она с прежней непосредственностью. — Если бы знала, попросила бы его что-нибудь сделать для Макса, которого он так любит.
— Откуда у вашего супруга такая огромная благодарность к графу?
— О, на это я могу вам ответить: Макс никогда не делал из этого тайны! — воскликнула молодая женщина. — Отец моего мужа был торговцем в Марселе и владел судном, на котором Эдмон Дантес служил моряком. За расположение, которое мой свекор не раз проявлял к молодому моряку, тот платил ему искренней преданностью. Ей суждено было проявиться в полной мере, когда Эдмон Дантес превратился в графа Монте-Кристо. Вы только послушайте! Отец Морреля находился на грани банкротства и собирался застрелиться. Слишком много несчастий выпало на его долю. Пятого сентября истекал срок уплаты по векселю на двести тысяч Франков; отца могло спасти только прибытие единственного корабля, который у него еще оставался. Но корабль затонул, спаслась только команда. Мой свекор впал в отчаяние. Макс часто мне об этом рассказывал. Он видел пистолет на столе своего отца — отец сам говорил ему о своем решении покончить счеты с жизнью. Вдруг появляется агент фирмы «Томсон и Френч» в Риме, перекупивший этот вексель, и он — вернее, незнакомый человек — дает поручение моей золовке Жюли отправиться в некий дом, где прежде жил отец Дантеса, и взять там кошелек. Так Жюли и сделала. В кошельке оказался тот вексель, но с уведомлением, что вся сумма получена. Одновременно в гавань вошел корабль, который носил то же имя, что и погибший, принадлежал господину Моррелю и был полон товаров. Мой свекор был спасен.
— Но как это стало возможно? — воскликнул королевский прокурор в недоумении. — Ведь корабль погиб.
— Граф Монте-Кристо велел построить новый. Он сам выкупил злополучный вексель и погасил его. Не ожидая благодарности, не объявляясь, он исчез. Макс снова увидел его только в Париже спустя много лет, но не узнал. Это ли не благородство и великодушие? Разве теперь не ясно, что мой муж не задумываясь, слепо исполнит все, что прикажет ему граф — спаситель его семьи и устроитель его семейного счастья?
— Да, в самом деле, — согласился Фран-Карре. — Насколько же богат должен быть этот человек? Вы упоминали об острове Монте-Кристо. Вероятно, граф сделал название этого острова своим именем. Где он расположен?
— Вблизи острова Эльба, — уточнила Валентина. — Он выбрал для своей резиденции подземный грот и великолепно его отделал. Теперь этот грот принадлежит нам, но мы бываем там редко. Это слишком далеко.
Королевский прокурор задумался. Его лицо приобрело довольное выражение, которое, впрочем, сразу же исчезло.
— А ваш дедушка Нуартье! Он еще жив? Он живет вместе с вами? — спросил он.
— Он остался в нашем доме на Елисейских Полях. Я не хотела причинять ему мучения — заставлять перебираться сюда, где я живу со времени ареста мужа. Кроме того, я надеюсь, что скоро все мы вновь соберемся вместе. Я навещаю его каждый день. Он ревностный бонапартист, и я думаю, Макс примкнул к партии принца не без его влияния.
— Он принимает визиты? — спросил королевский прокурор, который воспринял важные сведения, по душевной простоте сообщенные ему молодой женщиной, с самым равнодушным выражением лица. — Я не отказался бы заглянуть разок к почтенному Нуартье.
— Думаю, это невозможно! — с сожалением ответила Валентина. — Он не в состоянии говорить, может делать только знаки глазами и не видит никого, кроме Макса и меня, не считая, конечно, маленького Эдмона.
— Жаль! Прошу засвидетельствовать ему мое почтение! — заметил королевский прокурор, вставая. — А теперь, сударыня, еще раз: употребите все средства, чтобы убедить вашего супруга назвать нам имя известного ему человека из Лондона. От этого зависят покой и счастье вашей семьи. Все дело только в этом злополучном имени! Боже мой, здесь нет никакого умысла, никто и не помышляет о том, чтобы причинить вред этому человеку, который, вероятно, находится в Лондоне. Но Палата пэров желает знать его имя, и ваш супруг поступает опрометчиво, проявляя непонятное упрямство. Прощайте, сударыня! Можете быть уверены, что я сделаю все, чтобы быть вам полезным! Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение вашим близким!
И королевский прокурор покинул молодую женщину, которая незамедлительно возвратилась к Жюли и Эмманюелю. Оба собеседника остались довольны. Фран-Карре узнал хотя и не все, что собирался, но многое. Валентина настолько была убеждена, что этот человек настоящий друг, что даже сомнения, высказанные на сей счет Эмманюелем, не могли поколебать ее уверенности.
Когда же в полдень следующего дня она возвращалась после свидания с мужем, глаза ее были заплаканы, а на сердце лежала огромная тяжесть. Моррель стоял на своем. Он сказал, что ни ей, ни кому бы то ни было другому не собирается называть фамилию известного ему лица. Он требует только, чтобы его судили в соответствии с законом.
Макс упрекал жену в том, что она так много рассказала королевскому прокурору. Короче говоря, Валентина чувствовала себя глубоко несчастной. Она поспешила к королевскому прокурору. Однако Фран-Карре не принимал.
Спустя два дня она снова поехала к мужу в тюрьму. В свидании с капитаном ей было отказано. Валентине сообщили, что дальнейшие попытки добиться его напрасны.
Эмманюель составил прошение в Палату пэров и королю. Ответа не последовало. Валентина проводила день за днем в бесконечных мучениях: никаких известий, ни строчки, ни слова от мужа!
Вскоре, правда, неизвестный передал ей короткую записку без подписи. В записке говорилось:
«Не тревожьтесь, сударыня! Скоро Ваш муж будет свободен. Порукой тому слово человека, который в большой беде был Вашим спасителем и утешителем».
Кто еще мог написать эти слова, кроме графа Монте-Кристо? У Валентины вновь появилась надежда. Однако время шло, а Моррель все не возвращался. В самом ли деле граф настолько могуществен, чтобы противостоять намерениям правительства?
XII. В ПАЛЕ-РОЯЛЕ
Это было в Пале-Рояле, в одной из потайных его комнат, ибо собравшаяся здесь компания остерегалась посторонних. В воздухе плавал сигарный дым, от пламени газовых светильников было невероятно жарко. На одном столе стояли бутылки вина и бокалы, на другом были разбросаны карты и деньги. Здесь собрались отпрыски лучших семейств Парижа — почти сплошь молодые люди и те, кто по крайней мере сам причислял себя к таковым. Ни один случайный посетитель сюда не допускался, каждый новый участник мог попасть в это общество не иначе как по рекомендации одного из завсегдатаев. Здесь играли, и играли по-крупному.
Сейчас игра на время прервалась. Одни устроились на диванах, другие стояли, разбившись на группы и обсуждая новости.
Одну из таких групп составляли четверо наших старых знакомых. Это были Люсьен Дебрэ, секретарь министерства внутренних дел, граф Шато-Рено, избравший несколько лет назад дипломатическую карьеру (от скуки, как он уверял), журналист Бошан, которого побаивались, зная его острое перо, и барон Франц д’Эпине, бывший жених Валентины, — бледный молодой человек с выразительным лицом, носившим налет меланхолии.
— Сколько же времени вы отсутствовали, д’Эпине? — спросил Бошан.
— Около года, — ответил барон.
— Ведь вы, кажется, побывали и в Африке?
— Я как раз оттуда, — сказал молодой человек. — Пытался разыскать одного из наших общих знакомых, но, к сожалению, безуспешно.
— Кого же? — вмешался Дебрэ. — Я и не предполагал, что кто-то из них отправился в Африку.
— Теперь у нашего общества короткая память, — с некоторой грустью заметил барон. — Я имею в виду Морсера.
— Да, черт побери, болтали, что он тогда уехал в Африку! — воскликнул Шато-Рено. — Бедняга! Мне было искренне его жаль. Отец мертв, состояние по глупости пошло прахом — что ему еще оставалось делать? Так вы не встретили его там, д’Эпине? Вероятно, он давно погиб или пропал без вести.
— Вероятно, — согласился барон. — Помните, господа, как однажды утром мы собрались у него, чтобы познакомиться с графом Монте-Кристо? Сейчас опять все в сборе, кроме Морсера и Морреля.
При этих словах барона пятый молодой человек, стоявший немного поодаль от нашей четверки и делавший вид, что погружен в собственные мысли и не проявляет никакого интереса к разговору, прислушался с особым вниманием.
— Да, верно, кроме Морреля! Где он? Что с ним стало? Он был славный малый! — заметил Шато-Рено.
— Моррель участвовал в Булонском деле и за это арестован, — внес ясность Дебрэ.
— Это правда? Неужели он настолько безрассуден? — удивился дипломат.
— Тем не менее это правда; если не ошибаюсь, он всегда питал симпатии к Наполеону. Где же он познакомился с принцем? Он жил в Париже?
— Я потерял Морреля из виду, — заметил Бошан. — В последний раз я видел его на погребении той самой Валентины, на которой он потом женился.
— Как так? — испуганно вскричал д’Эпине. — Разве Валентина не умерла? Что это значит?
— Вот и видно, что вы не живете в Париже, — заметил Дебрэ. — Тогда, правда, вы были в отъезде. Говорят, Валентина была в глубоком обмороке или даже в летаргическом сне. Ходили слухи, что из этого состояния ее вывел граф Монте-Кристо.
— Удивительный человек этот граф! — покачал головой д’Эпине. — Вам известно, господа, где он закончил свой жизненный путь?
— Отнюдь, больше о нем не было ни слуху ни духу, — сказал Бошан. — Исчез он так же внезапно, как и появился, — словно метеор. Жаль, он был такой романтической личностью, что я даже намеревался заказать ему несколько романов-фельетонов в духе Александра Дюма. У него, надеюсь, нашлось бы достаточно материала.
— Простите, господа! — вмешался в разговор уже упомянутый пятый молодой человек. — Вам угодно знать, где встретил смерть граф Монте-Кристо?
— Может быть, вы располагаете сведениями на этот счет, господин де Лупер? — осведомился Шато-Рено.
— Пожалуй! — ответил новый собеседник. — Я слышал, что некоторое время назад некий человек взобрался на римский Капитолий, произнес речь, обращенную к народу, а затем в пламени вознесся на небо. Можно не сомневаться, это был граф Монте-Кристо.
— Конечно! — подхватил шутку Бошан. — И это, вероятно, было самовозгорание.
— Несомненно! — с иронией заметил де Лупер. — Ведь граф буквально светился, ибо обладал одними только блестящими качествами.
— Так вы знали его, юный Ротшильд? — спросил Дебрэ.
— Я мельком видел его в Париже, — продолжал Лупер в том же легкомысленном тоне. — И мне непонятно, как такой человек мог произвести впечатление на просвещенных парижан.
— Это верно, — согласился Шато-Рено. — Мы все, пожалуй, поддались тогда на эту мистификацию.
— А я вряд ли соглашусь с вами, — возразил д’Эпине немного серьезнее. — Что ни говорите, граф был незаурядной личностью.
— Тут я поддерживаю вас, — заверил его Бошан. — Достаточно вспомнить, как он погубил старого Морсера. Голову даю на отсечение, именно граф был виновником той сцены, что разыгралась в Палате пэров и повлекла за собой смерть генерала. Удивительное было время.
— Дом на Елисейских Полях, который граф тогда занимал, еще стоит, — добавил Дебрэ. — Он подарил особняк Моррелю, и тот жил там некоторое время.
— А Моррель действительно в заключении? — допытывался д’Эпине. — Но ведь среди тех, кому официально предъявлено обвинение, его нет.
— Верно, суду Палаты пэров его не предавали, — сказал Бошан, — но в последнее время режим его содержания в тюрьме стал, говорят, более строгим. Я слышал, что ему не разрешают свиданий с женой.
— Готов подтвердить это, — присоединился к Бошану Дебрэ. — Я читал прошения по этому поводу, направленные его женой министру и королю.
— Выходит, Валентина осталась жива и вышла замуж за Морреля, — задумчиво пробормотал Франц д’Эпине.
— Вы все еще не потеряли к ней интереса? — спросил дипломат. — Радуйтесь, д’Эпине! Во всяком случае, уже тогда она любила своего капитана. Вы никогда не были бы с ней счастливы.
— Это правда, — согласился д’Эпине. — А Вильфор, как я слышал, сошел с ума. Его уже нет в живых?
— Не могу вам сказать, — ответил журналист. — Он исчез так же, как и его сын, князь Кавальканти. Ни о том, ни о другом ничего больше не слышно.
— Как? — вскричал д’Эпине. — Этот подлый преступник ускользнул от наказания? Он же беглый каторжник, убийца — и правосудие его не покарало?
— Ну, я тоже не знаю всех обстоятельств этого дела, — вмешался в разговор Дебрэ. — Но, насколько мне известно, Доказать его причастность к убийству не удалось. Граф Монте-Кристо, единственный свидетель против него, к тому времени уже исчез.
— Исчез после того, как он — все полагали — указал убийцу, — дополнил сказанное Шато-Рено.
— Весьма запутанная история, — сказал д’Эпине. — Кто же была мать этого человека?
Никто не ответил. Бошан, показав глазами на отвернувшегося в это время Дебрэ, приложил палец к губам — вероятно, чтобы дать знак д’Эпине. Тот понял намек.
— Выходит, имени де Вильфора оказалось достаточно, чтобы дать преступнику ускользнуть? — спросил он затем.
— Похоже на то, хотя с полной уверенностью сказать трудно, — ответил Бошан. — Несомненно лишь одно: лжекнязь Кавальканти, в прошлом каторжник Бенедетто, избежал наказания и, похоже, даже улизнул. Возможно, из-за отсутствия улик.
— И все-таки, — продолжал д’Эпине со вздохом, — прежде всего меня интересует судьба Морсера. Кажется, все семейство вымерло, исчезло с лица земли. Загадочная судьба!
Вся компания погрузилась в задумчивость, за исключением одного человека, который по-прежнему хранил ледяную холодность. Это был де Лупер, следивший за выражением лиц своих собеседников.
Между тем игра за другим столом возобновилась. Молодые люди перешли туда и приняли участие в игре. Лишь барон и журналист остались на прежнем месте.
— Кто такой этот барон де Лупер? — спросил д’Эпине. — Прежде я никогда о нем не слышал.
— Я тоже мало что знаю о нем, — ответил Бошан. — Он начал появляться в свете примерно год назад. Я слышал, он из провинции и почти полностью спустил в Париже свое состояние. А с тем немногим, что у него осталось, он принялся испытывать судьбу, играя на бирже.
— Ах вот оно что! Обратите внимание, он носит парик, хотя выглядит еще довольно молодо!
— Действительно, я только сейчас заметил, — вполголоса сказал Бошан. — Эти прекрасные черные волосы — фальшивые! Они слишком контрастируют с красноватым цветом лица. А взгляните на того мексиканца! Вот у кого волосы настоящие! А что за локоны! И какой цвет лица! Что значит южная кровь!
— В самом деле, прекрасный молодой человек! Кто он? По-французски говорит бегло, но с иностранным акцентом.
— Я ведь сказал вам, он мексиканец, из Калифорнии. Его зовут дон Лотарио де Толедо. Он путешествует, стремясь то ли истратить свои капиталы, то ли получить образование. В сущности, это одно и то же. Он прибыл в Париж примерно три месяца назад и сразу же был принят в лучших семействах. Весьма приветливый, простодушный юноша. С первых же слов ясно, что в столице он впервые. Но здесь таких любят. У женщин он пользуется бешеным успехом. Должно быть, у него водятся деньги — этот Лупер так и вертится около него.
— Тем хуже для молодого человека! Но что поделаешь, каждому приходится учиться! — заметил д’Эпине. — Впрочем, пойдемте отсюда, Бошан, здесь скучно.
— Я уже обещал Шато-Рено отправиться вместе с ним — нужно держать свое слово, — возразил журналист.
Друзья обменялись рукопожатием, после чего д’Эпине удалился, а Бошан подошел к игорному столу.
Игра между тем оживилась: были сделаны высокие ставки. Счастье улыбалось дону Лотарио — золото так и текло к нему. Лупер был в проигрыше и посматривал на молодого испанца с тайной завистью. Он занял у него денег, которые Лотарио ссудил ему с величайшей готовностью. Барон проиграл и эти деньги. Неожиданно Фортуна изменила и дону Лотарио, и через каких-нибудь четверть часа оба остались с пустыми карманами. На этот раз везло Шато-Рено и Дебрэ.
Наконец собравшиеся вознамерились покинуть Пале-Рояль. Лупер был явно не в духе, а Лотарио, похоже, не слишком печалился из-за своего проигрыша, который, впрочем, оказался невелик.
— Черт возьми, господа, вам известно, что я остался без гроша? — воскликнул Лупер с наигранным смешком.
— Вы шутите! Человек вроде вас, ежедневно ворочающий на бирже тысячами, — и без гроша? — фыркнул Шато-Рено.
— Нет, нет, какие шутки! — продолжал барон. — Вы не одолжите мне десять тысяч франков до завтрашнего вечера, граф?
На тонком, истинно аристократическом лице графа мелькнула презрительная усмешка. Он пожал плечами.
— Простите меня, барон, — ответил он любезно, но с нескрываемой иронией, — но я не имею привычки давать из выигрыша в долг. Еще мой отец, мой дед, мои предки никогда этого не делали. Такова семейная традиция. Иначе на следующий же вечер будешь в проигрыше.
— Весьма похвальная традиция! — засмеялся Бошан. — Пожалуй, я заимствую ее и завещаю своим детям и внукам.
— Тогда вы, господин секретарь, помогите мне выбраться из этого затруднительного положения! — обратился Лупер к Дебрэ.
— Пардон, — ответил тот столь же учтиво, что и Шато-Рено, — в другой раз я непременно окажу вам эту услугу. К сожалению, завтра я должен оплатить разницу на бирже. Надеюсь, это не станет причиной недоразумений между нами. Для этого сумма, которую вы просите, слишком мала.
В его отказе также сквозила откровенная насмешка. Лупер, очевидно, почувствовал это и закусил губу. Потом перевел взгляд на Лотарио, но, вероятно, решил, что на него можно положиться, и промолчал.
Компания расходилась. Дебрэ, Шато-Рено и Бошан ушли втроем.
— Должно быть, этот Лупер здесь в последний раз, — заметил граф. — Я о нем очень невысокого мнения.
— И я к вам присоединяюсь, — констатировал Дебрэ. — А что вы скажете о доне Лотарио?
— По-моему, он честный, достойный юноша, — отметил Бошан. — Нам следует предостеречь его от Лупера. Почему этот барон так увивается вокруг него. Он иностранец, в Париже новичок. Лупер его разорит!
— Разве у дона Лотарио не было рекомендации к аббату Лагиде? — спросил Шато-Рено.
— Больше того, это основная его рекомендация, — ответил Бошан. — Поэтому именно за него можно ручаться. Мне еще не приходилось слышать, чтобы аббат Лагиде протежировал подозрительному человеку.
— Это правда, — согласился Дебрэ. — И как я слышал, молодой человек наведывается к аббату довольно часто. Нужно сказать Лагиде, чтобы он предостерег юношу от Лупера и ему подобных.
Тем временем оба, дон Лотарио и Лупер, не ведая о том, что о них говорят, молча шли рядом, направляясь на левый берег Сены, где поселился молодой испанец. Было уже за полночь. На улицах ни души. Дон Лотарио насвистывал какую-то мелодию и курил сигару. Лупер мрачно шел рядом, сжав кулаки.
— Лотарио, — прервал он молчание, — вы должны ссудить мне до завтрашнего вечера десять тысяч франков.
— Думаю, что не смогу этого сделать, — простодушно ответил испанец.
— Черт побери, и вы увиливаете! — вспылил барон. — Вы должны дать мне денег.
— Но, любезный друг, сперва надо обдумать, могу ли я себе это позволить! — несколько раздраженно ответил дон Лотарио. — Сегодня я проиграл сумму, которой мне должно было хватить до конца месяца. Дома у меня примерно четыре тысячи франков. На эти деньги мне жить в Париже. Я не могу еще раз идти к своему банкиру. Я и так уже потратил здесь гораздо больше, чем следовало. Из-за вас мне пришлось бы отказаться от своих планов и снова требовать денег. Честно говоря, это мне будет нелегко.
— Ну что же! Больше я у вас просить не стану! Между нами все кончено! Прощайте, дон Лотарио!
Однако высокомерный тон, каким барон это произнес, на сей раз не дал результата, равно как и те несколько шагов, которые он сделал, удаляясь от своего собеседника. В доне Лотарио заговорила гордость.
— Господин барон, — крикнул он вслед Луперу, — если из-за этого вы намерены прекратить наше знакомство — извольте! Я рад, что узнал вас с такой стороны. Всего наилучшего!
Казалось, Лупер намеревался что-то возразить, но, поскольку испанец продолжил свой путь, ему осталось только направиться в противоположную сторону. Однако через несколько шагов он остановился.
— Проклятье! — пробормотал он. — Мой кошелек пуст. Я мог бы выкачать деньги из этого заносчивого испанца. Впрочем, все еще впереди. Попробую сделать то, что уже давно задумал. Ведь когда-нибудь нужно начинать. А теперь мне как раз нужны деньги, много денег. Дать их мне может только она. Смелее!
Решительным шагом он направился правым берегом Сены и вскоре добрался до Итальянского бульвара. Оказавшись у прекрасного особняка, он поднял глаза на окна второго этажа. Они были ярко освещены — вероятно, там еще продолжался прием.
Лупер принялся не спеша прогуливаться по бульвару, временами посматривая на окна. Он увидел, как подкатили несколько экипажей и затем поехали вниз по бульвару. Наконец свет в окнах (похоже, это были окна самого просторного из салонов) погас.
Дождавшись этой минуты, барон вошел в переднюю. Последняя коляска отъехала от парадного входа, и Лупер растворился в темноте, окутавшей внутренние покои особняка.
XIII. ТЕРЕЗА
Тем временем молодой испанец невозмутимо продолжал свой путь. Многое в Лупере было ему не по душе. То, как обошлись с бароном сегодня вечером Дебрэ и Шато-Рено, не могло не привлечь внимание дона Лотарио и озадачило его. Он почувствовал, что Луперу не доверяют, и это обстоятельство заставило и его насторожиться.
Несмотря на то что уже наступила осень, ночь была теплой. Дон Лотарио поднялся на Новый мост. Когда он приблизился к памятнику Генриху IV, установленному прямо посередине моста, у него выскользнула трость, и он наклонился за ней. Тут же заметил у перил женский силуэт.
Одинокая фигурка, застывшая у парапета, заинтересовала его. Он неслышно подошел к перилам и перегнулся через них в нескольких шагах от незнакомки. При этом с любопытством посматривал время от времени на свою соседку, которая, казалось, совершенно не замечала его присутствия.
Ее лицо было почти полностью скрыто от его глаз шляпой, по моде тех лет очень широкополой. Лотарио окинул взглядом ее наряд. Он был прост, однако, насколько мог судить дон Лотарио, свидетельствовал о прекрасном вкусе, и если зрение не обманывало нашего героя, легкий шелковый плащ скрывал очаровательную фигурку. Незнакомка так сильно наклонилась, что не могла не видеть воду. Дона Лотарио она не заметила, но невольно сделала едва уловимое движение в его сторону, и молодому человеку представилась возможность разглядеть ее.
В неверном свете дальних фонарей он различил тонкое бледное лицо, прекрасные, гладко зачесанные волосы, небольшой, но приятный лоб, маленький, красивой формы нос и тонко очерченный рот с плотно сжатыми губами. В целом это создавало впечатление скорее привлекательности, нежели броской красоты. Но именно такие лица нравились дону Лотарио.
Некоторое время молодой испанец надеялся, что незнакомка взглянет на него. Увы, надежды оказались тщетными. Его соседка словно застыла. Взор ее был прикован к волнам, а рот по-прежнему плотно сжат. По всей вероятности, она не догадывалась, что за ней кто-то наблюдает.
Дону Лотарио пришлось дать знать о своем присутствии и подождать развития событий. Он опять уронил свою трость, на этот раз намеренно, и тут же поднял ее, не сводя глаз с незнакомки.
Она рассеянно оглянулась, нисколько не испугавшись. Выходит, она знала, что он рядом.
— Простите, сударыня, — сказал дон Лотарио, — я помешал вам.
Ответа не последовало. Женщина вновь приняла прежнюю позу, будто не слышала, что к ней обратились, или не заметила, что обратились именно к ней.
— Возможно, мы оба поклонники искусства, — продолжал испанец. — Вероятно, вы, как и я, изучаете световые блики на воде. Здесь прекрасная возможность заниматься этим, и к тому же никто не мешает.
— Вы изучаете световые блики? — насмешливо спросила неизвестная особа.
— Совершенно верно, — поспешно подтвердил дон Лотарио, чрезвычайно обрадованный тем, что ему удалось разговорить незнакомку. — Смотрите, как замечательно отражается в воде эта цепочка фонарей!
— В самом деле, очаровательное зрелище, — согласилась молодая женщина. — Вы намерены рисовать Париж именно отсюда? Картина должна получиться весьма непривычной.
Дон Лотарио рассмеялся, тем более что в словах незнакомки слышалась откровенная ирония. Впрочем, он достиг своей цели — разговор завязался.
— Жаль, что вы не поклонница искусства, — сказал он. — А я был уверен в обратном. Это первое, что пришло мне в голову, когда я увидел молодую женщину в такое время и в таком месте.
— Нет, я не художница. Я не изучаю отражение в воде света газовых фонарей. Я просто люблю наблюдать за отражением, которое отбрасывает на этих темных волнах моя собственная душа.
Теперь дон Лотарио не сомневался, что встретил женщину, пережившую какое-то горе. Его потряс суровый, строгий тон ее голоса. Ему никогда не приходилось слышать из женских уст ничего подобного.
— И вы пришли сюда, чтобы без помех предаться своим ночным мыслям? — спросил он.
— Может быть, — ответила она. — Впрочем, на этой земле есть огромный недостаток: здесь даже нельзя углубиться в собственные мысли — тебе непременно помешают.
— Если это упрек мне, я спокойно принимаю его, — сказал дон Лотарио. — Я даже ставлю себе в заслугу, что мне удалось отвлечь молодую и красивую женщину от печальных мыслей.
— Выходит, я должна быть вам благодарной? Пусть так! — заметила незнакомка. — Однако мои мысли не были столь печальными. Это, скорее, философские размышления. Я смотрела на черную, холодную, глухо шепчущую воду. Я видела, как на мелких волнах играют световые блики. Воображение рисовало мне, что в этот момент на дне находится, может быть, чье-то бездыханное тело и течение медленно сносит его, а здесь, наверху, ничего об этом не знают, и его никогда не найдут или отыщут с большим опозданием. Я представляла себе, как мало беспокоятся об этом трупе, как предпримут поиски и как в конце концов зароют его в землю и никто не будет его оплакивать. Спустя месяц никому и в голову не придет, что на свете жила такая душа. Не правда ли, довольно мрачно — впрочем, только для нас, которые еще живут, чувствуют и мыслят! Но если лежишь на дне, там, должно быть, совсем хорошо.
— И об этом вы думали? — с испугом и смущением спросил дон Лотарио.
— А почему бы и нет? — почти шутливо ответила женщина. — Разве вас никогда не посещали такие мысли?
— Лишь однажды, но не в такой отталкивающей форме, — признался молодой испанец. — Тогда меня оставила возлюбленная.
— Значит, и вас покидала любимая женщина? — спросила незнакомка. Голос ее звучал непривычно, в нем слышались почти торжествующие нотки. — Обычно такое случается редко, не только здесь, в Париже, но и повсюду. Чаще мужчины бросают своих возлюбленных. А мы, несчастные женщины, от души радуемся, если мужчина остается с нами.
Если бы дон Лотарио в этот миг меньше был занят собственными мыслями о прошлом, эти слова, возможно, открыли бы ему тайну незнакомки. Но он думал лишь о донне Росальбе и о жестоком оскорблении, которое она ему нанесла.
— У меня было достаточно причин ненавидеть женщин, — сказал он, и его юношескому тщеславию льстила возможность открыть ей подобную тайну. — Мне любопытно знать, оправдали бы вы мою бывшую возлюбленную за ее поступок, расскажи я вам свою историю?
— Прежде вам нужно посвятить меня во все подробности, — ответила, явно заинтересовавшись, неизвестная особа.
Молодому человеку только это и было нужно. Подобно всем юношам, он верил, что бесхитростная история его первой любви не может не пробудить у другой женщины интерес к нему. Он рассказал о несчастье, которое его постигло, и о том, как отнеслась к нему донна Росальба. Лорда Хоупа он упомянул лишь вскользь, не желая затягивать свое повествование. Незнакомка выслушала его исповедь спокойно.
— Сударь, — сказала она, — ваша донна Росальба — самая заурядная, корыстная девица. Только теперь, узнав, как вы молоды и как мало знаете свет, я понимаю, что вы позволили ей провести себя. Донна Росальба никогда не любила вас — она вас обманывала. Но вы еще не можете судить обо всех женщинах и должны благодарить судьбу, что она избавила вас от тягостного брака и роли семейного раба. Жаловаться вы были бы вправе, если бы знали, что в самом деле были любимы и ваша возлюбленная принесла бы вас тем не менее в жертву светским предрассудкам.
— Истинная любовь не признает предрассудков такого рода, — возразил дон Лотарио.
— Это теперь вы так рассуждаете. Может быть, вы и правы, — не согласилась незнакомка. — Я же считаю подобные предрассудки оправданными, хотя и стала их жертвой. Однако мне пора. Я благодарна вам — вы напомнили мне о реальной жизни. Прощайте, сударь!
— Надеюсь, вы позволите проводить вас? — сказал дон Лотарио. — Где вы живете?
— В квартале Марэ, улица Гран-Шантье. Ваше предложение я принимаю, хотя нисколько не боюсь ходить одна. Вы, наверное, убедились в этом, встретив меня здесь.
— Вы живете на улице Гран-Шантье? — переспросил Лотарио. — Там живет весьма известный человек, с которым меня здесь познакомили. Я бываю у него очень часто, почти каждый день.
— Теперь, когда я вас внимательнее разглядела, мне тоже кажется, что я видела, как вы проходили мимо моих окон, — заметила незнакомка. — Кто же этот человек, о котором вы говорите? Самая известная личность на моей улице, насколько я знаю, аббат Лагиде.
— Именно его я и имел в виду, — сказал дон Лотарио. — Вы с ним знакомы?
— Немного. А где живете вы? Надеюсь, провожая меня, вы не слишком удалитесь от собственного дома? Иначе я и в самом деле прекрасно доберусь одна.
— Я поселился недалеко от Люксембургского дворца. Впрочем, это не имеет значения. Для меня сейчас еще слишком рано, да и путь недалек. Позвольте предложить вам руку?
— Охотно позволяю, — ответила незнакомка, спокойно принимая предложение испанца.
Они перешли по мосту на правый берег Сены. Улицы теперь совершенно обезлюдели.
— Так вы не художник, как представились сначала? — спросила дона Лотарио спутница.
— Увы, надеюсь, вы не станете на меня сердиться за эту невинную выдумку?
— Вы называете это выдумкой? С тем же правом я могла бы назвать это ложью. Ведь мужчины беззастенчиво обманывают нас, женщин.
— Боже мой, не будьте так строги! — воскликнул молодой человек. — Не будь мы, мужчины, столь изобретательны, нам не удавалось бы завязывать знакомство с дамами.
— А я и не думаю принимать это всерьез, — равнодушно сказала незнакомка. — Хотя утверждаю, что знакомство, начавшееся с обмана, обманом и заканчивается.
— Как вы суровы! — с укоризной заметил испанец. — Уверен, что с нашим знакомством такого не случится.
— Вы полагаете, нам предстоит узнать друг друга ближе? — спросила она.
— Мне кажется — да! — решительно сказал дон Лотарио. — Если вы знакомы с аббатом Лагиде, это будет нетрудно: я попрошу аббата представить меня вам. Правда, прежде необходимо назвать ему ваше имя.
— Меня зовут Тереза, остальное для вас не имеет никакого значения. Кроме того, излишне утруждать аббата Лагиде подобной просьбой. Я сама себе хозяйка, живу одна, могу знакомиться, где и с кем захочу! Наносить мне визит или нет — это ваше дело.
Дон Лотарио был поражен сверх всякой меры. Неужели он ошибся? Не из тех ли она «независимых» дам, каких так много в Париже? Или эта женщина, скажем, вдова, которую действительно можно назвать независимой? Но нет, в словах Терезы не чувствовалось никакого намека на то, чтобы увлечь, соблазнить. Наоборот, они, скорее, отбивали желание знакомиться: звучали так холодно, так равнодушно. Или это тоже одно притворство, призванное еще больше разохотить молодого человека?
Но ведь она знакома с аббатом! Пусть аббат разрешит эту загадку!
— В таком случае я дерзну нанести вам визит в ближайшие дни, — сказал Лотарио. — В котором часу?..
— Назначить вам определенного часа я не могу, — ответила Тереза. — Я не связываю себя точным временем, в отличие от светских дам. Я ухожу из дому, когда мне вздумается. Если вы удачно выберете момент, считайте, вам повезло. Как мне доложат о вашем приходе?
— Меня зовут Лотарио де Толедо, — ответил молодой человек. — И вы примете меня? Ваше обещание не пустая отговорка?
— Фу, как дурны, должно быть, мужчины, если в каждом слове им чудится ложь!
— А если даже и так! Женщины так часто обманывают нас! — парировал дон Лотарио.
— Это верно! Как я могла забыть об этом! — сказала Тереза. — Ну, вот мы и пришли. Прощайте, сударь!
Она высвободила свою руку и позвонила. Дверь открылась, и она исчезла.
Лотарио в задумчивости стоял возле ее дома. Это приключение оказалось совсем иного рода, чем он предполагал. Во всяком случае, оно было необычным, как необычной была и сама молодая женщина. Ему не терпелось продолжить начавшееся знакомство, кое-что разузнать об этой таинственной Терезе. Завтра нужно расспросить аббата Лагиде. Впрочем, стоит ли посвящать его в эту тайну? Ведь Тереза отказалась продолжить знакомство с ним через аббата. Не было ли в этом намека? В конце концов Лотарио отмел все сомнения. Он решил просить совета у Лагиде, который был рекомендован ему как советчик и старший друг.
— Вот уж действительно история! — сказал он наконец и улыбнулся, довольный собой.
Затем плотнее запахнул плащ и отправился домой.
XIV. НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
В доме на Итальянском бульваре, за которым столь внимательно наблюдал господин де Лупер, в тот вечер и в самом деле собралось небольшое общество. Это были те самые подруги, которые не порвали отношений с баронессой Данглар, после того как ее супруг, один из первых банкиров Франции, разорился и по примеру своей дочери бежал. Тогда баронесса на несколько месяцев покинула Париж, но жизнь вне столицы была ей, истинной парижанке, невыносима. Она вернулась и, владея значительным состоянием, которого не коснулось банкротство мужа, без труда вновь зажила на широкую ногу. Отыскались некоторые старые друзья, и с каждым новым вечером, когда баронесса принимала, салоны ее особняка становились все многолюднее.
Лишь один из прежних друзей, самый близкий, перестал бывать у баронессы. Это знакомый нам Люсьен Дебрэ, секретарь министерства внутренних дел, — тот самый Дебрэ, что вечером находился в Пале-Рояле вместе с Шато-Рено и Бошаном. Раньше он ежедневно наносил визиты Дангларам. В глазах всего парижского общества он был тем другом, который пользуется особой благосклонностью хозяйки дома, возможно, даже ее любовником. Вместе с баронессой он, используя ее личные средства, легко извлекал из биржевых операций немалые доходы. Как секретарь министерства, он всегда был в курсе самых последних новостей и, удачно играя на бирже, неизменно выигрывал. Выигрыш компаньоны делили поровну. Потом, вероятно, поползли какие-то подозрительные слухи, а у Люсьена Дебрэ оказалось достаточно капитала, чтобы заниматься биржевыми спекуляциями в одиночку. Незадолго до того, как баронесса покинула Париж, Дебрэ расплатился с ней сполна. Это было сугубо деловое прощание, и к постигшему ее большому несчастью — потере мужа и дочери — добавилось едва ли не большее: ей пришлось убедиться в бессердечии и холодности человека, которого она считала искренним другом и возлюбленным.
С тех пор минуло несколько лет, и баронесса утешилась, как может утешиться женщина, которая еще владеет миллионами, умна и по-прежнему привлекательна. Будь она вдовой, у нее не было бы недостатка в женихах. Но она не была разведена с мужем, хотя, вероятно, желала этого. Ей ничего не было о нем известно, если не считать, что вскоре после исчезновения из Парижа барона видели в Риме. О своей дочери она тоже не знала ничего определенного. Ходили слухи, что Эжени Данглар избрала карьеру певицы, выступала под чужим именем и имела в Италии шумный успех.
Баронесса была радушной хозяйкой, однако гости, учитывая ее длительное нездоровье, решили разъехаться ранее обычного: первые приглашенные покинули особняк в два часа ночи.
Самые близкие знакомые задержались еще на четверть часа. Разговор зашел о процессе Луи Наполеона.
— Не люблю я этих волнений, — промолвила дама с добродушным лицом. — Всегда неприятно, когда видишь и слышишь, как пытаются очернить и обвинить подсудимого.
— Это, конечно, верно, — заметила другая, очень бледная дама. — Но на меня подобное волнение оказывает в некотором роде благотворное действие. Я смотрю на эти публичные судебные заседания как на своеобразный театр. Какие пикантные сцены разыгрываются там время от времени! Я не имею в виду политические процессы, обычно они очень сухи. Но вспомните хотя бы о заседании, на котором лжекнязь Кавальканти объявил, что господин де Вильфор — его отец!
— Тсс! — прошептал какой-то господин. — Госпожа Данглар рядом, а этот Кавальканти едва не стал ее зятем!
До баронессы, вероятно, долетели обрывки разговора — она отошла на несколько шагов.
— Об этом я как-то не подумала, — продолжала бледная дама. — Но теперь баронесса нас не слышит. Так вот, разве подобное волнует, даже потрясает меньше, нежели какая-нибудь сцена в театре? Если не ошибаюсь, госпожа Данглар сама присутствовала при этом и даже упала в обморок. Ну в самом деле, она испытывала особый интерес к человеку, который выдавал себя за князя и чуть было не добился руки Эжени. Впрочем, это дело прошлое.
При этом на лице у нее промелькнула гримаса, и на лицах остальных женщин тоже появилась многозначительная мина. Что и говорить, гости не слишком уважали хозяйку дома.
— Однако я немного устала! — услышали они теперь голос баронессы. Это означало, что пора прощаться. Присутствующие обступили госпожу Данглар. Она и в самом деле была очень бледна. Гости заторопились.
Салон опустел. Баронесса вернулась в свою комнату. Бледность еще не сошла с ее лица. Она распорядилась, чтобы ей помогли переодеться и оставили одну. Горничная все исполнила и вышла.
Госпожа Данглар сидела, подперев голову рукой, и казалось, глубоко задумалась. Временами из ее груди вырывался тихий вздох. Потом она попробовала почитать, но вскоре отложила книгу.
Раздался негромкий стук в дверь. Это был знак, что горничная хочет ей что-то сказать. Она крикнула:
— Войдите! Боже мой, я же сказала, чтобы меня оставили в покое! Что случилось?
— Только что, госпожа, мне вручили одну визитную карточку с настоятельной просьбой передать ее вам.
Баронесса, неприятно удивленная, взяла карточку и поднесла ее к свету. Внезапно она вздрогнула, карточка едва не выпала у нее из рук, однако судорожно сжатые пальцы удержали ее уголок.
— Проводите этого господина в будуар, — едва слышно приказала она. — Я буду говорить с ним наедине.
Горничная удалилась. Госпожа Данглар вскочила. Казалось, ей не хватает воздуха, нечем дышать. Она прижала руку к груди и сделала несколько шагов по комнате.
— Боже мой, что это? — простонала баронесса и еще раз бросила взгляд на карточку.
Там было написано следующее:
«Барон де Лупер желает говорить с госпожой Данглар по делу, касающемуся лжекнязя Кавальканти. Он надеется, что сможет сообщить баронессе важные сведения».
— Лупер? Кто этот барон Лупер? Никогда о нем не слышала, — прошептала баронесса. — Мужайся, мое бедное сердце, время страданий еще не миновало!
Она взяла небольшой флакончик, открыла его, поднесла к носу и сделала несколько энергичных вдохов. Там, по-видимому, находилась некая ароматическая соль, так как на щеках баронессы вновь появился легкий румянец. Решительной походкой она прошла через смежную комнату и открыла дверь в свой будуар.
Горничная успела зажечь там всего одну свечу. Небольшое помещение, отделанное с такой изысканной роскошью, какую парижанки умеют придавать комнатам для приема самых близких друзей, было слабо освещено. Госпожа Данглар вошла и закрыла за собой дверь.
В кресле, небрежно развалясь, скрестив ноги, сидел неизвестный человек. В одной руке он держал шляпу, а в другой — трость, концом которой выводил на ковре какие-то замысловатые фигуры. При появлении баронессы он встал и поклонился. Госпожа Данглар окинула его быстрым испытующим взглядом, не в силах полностью подавить страх. Однако не узнала его. В глаза ей бросились прежде всего черный парик и темные усы незнакомца. Держался он легко и непринужденно, не испытывая ни малейшего смущения.
— Слушаю вас, сударь, — сказала баронесса. — Вы пришли по делу, которое меня интересует, и хотя я пока не догадываюсь, какие важные сведения вы намерены сообщить мне в этой связи…
— К чему эта официальность, мамочка? — прервал ее незнакомец. — Я явился собственной персоной, потому что, разумеется, могу сообщить вам наиважнейшие сведения. Я — Андреа Кавальканти, который некогда едва не удостоился чести стать вашим зятем, но как сын, конечно же, ближе вашему сердцу.
Первыми же словами, произнесенными его грубым и неприятным голосом, госпожа Данглар была сражена и невольно опустилась на стул. Теперь она поднесла к глазам платок. Она была близка к обмороку. Такой встречи баронесса не ожидала!
— Вы, кажется, удивлены, мамочка? — продолжал Лупер. — Надеюсь, это приятное удивление. Разве вы никогда не испытывали желания с любовью взглянуть на собственного ребенка — единственного, кто не покинул вас, когда все остальные бросили?
Последние слова были сказаны настолько фальшиво-сентиментальным тоном, что не могли не вызвать улыбку у всякого здравомыслящего человека. Однако госпоже Данглар было не до улыбок. Этот грубый человек, которого она уже тогда с неприязнью принимала в своем доме, человек, разоблаченный впоследствии как беглый каторжник, вор и убийца, — этот человек был ее сыном, плодом ее преступной связи с господином де Вильфором! Этот человек — ее ребенок, которого она считала мертвым с момента его рождения и о существовании которого впервые узнала на том ужасном судебном заседании!
— Но откуда вам известно, что я — ваша мать?!
— Вы правы, сударыня! — спокойно ответил Лупер. — Прежде всего необходимо уточнить факты. Где я появился на свет, вам известно не хуже меня. Но вы не знаете, что случилось со мной после. Я тоже узнал об этом лишь в тюрьме от моего бывшего приемного отца Бертуччо, который тем временем стал управляющим у графа Монте-Кристо. Этот корсиканец Бертуччо, которого вы, пожалуй, никогда не видели, да, наверное, и не слышали о таком, был заклятым врагом господина де Вильфора, моего настоящего отца. Господин де Вильфор приговорил к расстрелу брата Бертуччо за его бонапартистский образ мыслей, и Бертуччо поклялся убить моего будущего отца. В то время де Вильфор еще не был моим отцом. Бертуччо отправился в Париж и узнал, что господин королевский прокурор поселился в Отейле, в часе езды от Парижа, и частенько навещает небольшой домик, где живет молодая дама. Этой дамой были вы, мамочка! Господин де Вильфор имел также обыкновение временами спускаться в сад и прогуливаться там около получаса. На этом корсиканец и построил план мести. Однажды ночью господин де Вильфор появился в саду с небольшим ящиком в руках. Бертуччо уже подстерегал его. Он видел, как господин де Вильфор закопал ящик, и нанес ему удар кинжалом. Королевский прокурор рухнул наземь. Бертуччо посчитал его мертвым. Он не сомневался, что в ящике сокровища, откопал его и, прихватив свою добычу, скрылся. Этому обстоятельству я и обязан своей жизнью, мамочка!
В этом месте сын выдержал небольшую прочувствованную паузу, поднеся к глазам носовой платок. Госпожа Данглар сидела безмолвно и неподвижно, словно статуя. Она еще не ведала этих тайн.
— Когда Бертуччо открыл ящик, — продолжал Лупер, — то вместо драгоценностей обнаружил в нем младенца. Он был немного обескуражен этим обстоятельством, однако осмотрел ребенка, и поскольку ему показалось, что малютка еще жив, он принялся вдувать ему в легкие воздух и растирать его до тех пор, пока ребенок не вскрикнул. Затем отнес его в Воспитательный дом. Этим малышом был, конечно же, я! Потом Бертуччо вернулся на Корсику и рассказал приключившуюся с ним историю своей сестре. По прошествии нескольких месяцев та отправилась в Париж. Предъявив неопровержимые доказательства своего права на ребенка, которые Бертуччо сохранил, она вытребовала меня из Воспитательного дома и привезла на Корсику, где мне дали имя Бенедетто.
Я мог бы вырасти достойным, порядочным человеком, способным доставлять радость своим родителям, если бы они впоследствии вновь обрели своего сына. По крайней мере Бертуччо и его сестра не жалели ничего, чтобы воспитать меня благоразумным. Вся вина лежала только на мне самом или, может быть, на тех необычайных обстоятельствах, при которых я появился на свет. Короче говоря, я вырос незаурядным парнем. Иными словами, мне пришлось бежать, чтобы уклониться от слишком близкого знакомства с корсиканской полицией, и вскоре я попал в компанию, которая приняла меня с распростертыми объятиями и ввела в еще более достойное общество: я попал на галеры. Там я свел дружбу с другим каторжником, неким Кадруссом.
Вместе с ним я бежал; и вот теперь, мамочка, начинается еще один, совершенно необычный период моей жизни, который вы отчасти, но только отчасти, знаете и который мне самому до сих пор не вполне ясен, — я имею в виду период моего знакомства с графом Монте-Кристо.
Лупер снова прервал свой рассказ, ожидая, очевидно, что баронесса вымолвит хоть слово. Но этого не произошло: госпожа Данглар все еще была близка к оцепенению.
— Черт его знает, какие намерения в отношении меня были у этого Монте-Кристо, — продолжал Лупер. — Словом, меня позвали к нему, и он сказал мне, что я встречу своего отца, маркиза Кавальканти. Он отрекомендовал мне его как очень состоятельного человека, чему я был весьма рад. Однако вскоре обнаружил, что этот «отец» не является моим отцом и прекрасно осведомлен, что я не его сын. Монте-Кристо поручил ему сыграть роль отца, так же как мне — роль сына.
Я согласился, ибо граф дал мне столько денег, сколько мне требовалось; к тому же у него в руках была моя тайна. В своем доме в Отейле Монте-Кристо впервые более коротко свел меня с вашим семейством — вы знаете, когда он говорил об истории, разыгравшейся в его комнате. Тогда мне еще не было известно, на что он намекал. Но граф, вероятно, знал все. Наверное, Бертуччо, ставший тем временем его управляющим, сообщил ему все подробности этого дела.
Одним словом, меня считали князем, и господин Данглар почувствовал ко мне или к моим мнимым богатствам необычайную симпатию. И не успел я опомниться, как стал женихом вашей дочери. Еще немного, и я бы женился на собственной сестре. Но произошло непредвиденное. Кадрусс, бежавший со мной с галер, разыскал меня в Париже. На всякий случай мне следовало избавиться от человека, который мог все испортить. Он собирался ограбить дом графа. Я не имел ничего против, надеясь, что граф его схватит, а возможно, и убьет. Но получилось иначе. Кадрусс покинул дом графа невредимым, и тогда я его заколол. Для вас, мамочка, я не делаю из этого тайны.
Произнося эти слова, Лупер так понизил голос, что его было едва слышно. Баронесса содрогнулась от отвращения. Вероятно, силы бы вновь оставили ее, но ужас этой сцены заставлял ее держаться.
— Я потом часто ломал голову: кто мог меня выдать? — продолжал Лупер. — Кроме графа и Бертуччо, моя тайна никому не была известна. Сам граф, я думаю, не видел убийства Кадрусса. А если и видел — какой смысл ему было портить всю затею? Он сделал меня князем, давал деньги, помогал мне войти в высшее общество. Тем не менее иногда я подозревал в предательстве именно его. Словом, вы помните, что полицейские агенты явились в ту минуту, когда я собирался подписать контракт, который должен был сделать меня мужем мадемуазель Эжени. Мне удалось скрыться, но ненадолго. После того как я странным образом еще раз встретился с мадемуазель Эжени в гостинице близлежащего города, меня схватили судебные приставы и доставили в Париж.
Все же я не считал себя пропащим. Граф Монте-Кристо послал ко мне Бертуччо и приказал добиться для меня некоторых послаблений. Поэтому я был твердо уверен, что именно граф является моим отцом. Но потом Бертуччо открыл мне всю правду. Я узнал, что тот самый королевский прокурор, который должен быть моим обвинителем, — мой отец. Поскольку он в свое время собирался убить меня сразу после моего появления на свет, я, скажу откровенно, считал, что мне нечего щадить его самого. Вы помните, мамочка, как я заявил ему прямо в лицо, что он — мой отец, а я — плод его незаконной связи.
Благодаря этому я оказался в большом выигрыше. Процесс отложили. У меня появилась надежда бежать и восстановить свою репутацию. Между тем единственный свидетель, который мог выступить против меня, — граф Монте-Кристо — уехал из Парижа. Теперь я решительно отрицал все то, в чем прежде признавался, так как верил, что граф — мой отец и в любом случае спасет меня. Я отрицал убийство Кадрусса, и собрать улик против меня не смогли. Режим моего заключения был смягчен. Я получил четыре тысячи франков (подозреваю, что от вас, мамочка) и с их помощью без труда подкупил охрану и бежал. Я снова стал свободен.
Клянусь вам, сударыня, сейчас я вознамерился вести честную жизнь. Как видите, я изменил свой внешний облик и решил переделать внутренний. Я бережно расходую деньги, принял имя барона де Лупера и довольствуюсь спекуляциями на бирже и игрой — двумя занятиями, которыми живут многие порядочные люди. Вот каков я на сегодняшний день!
А теперь самое главное! После того как я узнал, что господин де Вильфор был моим отцом, у меня в памяти всплыла сцена, которую граф Монте-Кристо разыграл тогда с вами в спальне и в саду купленного им дома в Отейле. Я вспомнил ваше волнение; впоследствии, когда я уже стал бароном де Лупером, я слышал, что тогда на судебном заседании вы упали в обморок, — так вот, я навел справки в Отейле и узнал, что в злополучном доме жила в то время дама, которая теперь носит титул баронессы Данглар. Мне стало ясно, что моей матерью не мог быть никто, кроме вас! Как глубоко обрадовало и тронуло меня это открытие! Женщина, покинутая своим мужем и своей дочерью! Ах, мамочка, разве нет Божьего промысла в том, что вы нашли меня именно в тот момент, когда лишились супруга и дочери?!
Вновь наступила прочувствованная пауза, вновь Лупер поднес к глазам платок, а госпожа Данглар продолжала сидеть в полной неподвижности и смотрела на сына как на призрака.
— Вы спросите меня, почему я не прислушался к голосу своего сердца и не разыскал вас раньше? — продолжал барон. — Я охотно сделал бы это. Но вначале я не был уверен в истинности того, что узнал, потом вы уезжали, и я не успел до конца навести справки в Отейле. Кроме того, мне хотелось предстать перед вами порядочным, честным человеком. Вы не можете не понять это чувство. Однако больше я не в силах был противиться велению сердца. Я должен был вас разыскать, должен был вас видеть. А вы, вы не скажете мне ни слова?
Ни слова! Госпожа Данглар не покидала своего кресла, рядом с которым находился небольшой стол. Казалось, она вот-вот упадет. Баронесса ухватилась рукой за столик, удержалась и наконец подперла свою тяжелую голову правой рукой, а левой схватилась за сердце. Лупер сделал попытку поддержать ее, но она так повелительно вытянула левую руку, как бы отстраняя его, что он в замешательстве вынужден был вновь опуститься на свое место.
Повисло долгое молчание. Кто знает, какая борьба происходила в эту минуту в душе госпожи Данглар, кто в силах описать эту борьбу? Столик, на который она опиралась, и свеча, стоявшая на нем, дрожали.
— Сударь, — промолвила она наконец еле слышно, не поднимая глаз на Лупера, — вы сами признаете, что стали разбойником и убийцей. Не требуйте, чтобы я признала в вас сына — ни перед людьми, ни в своем сердце! Мое сердце переполнено не любовью, а отвращением к вам! Но я скажу вам только одно, я обязана сказать.
Одно время вы считали графа Монте-Кристо своим благодетелем, даже своим отцом. Вы верили, что обязаны ему своим спасением. Может быть! Но вы были не чем иным, как игрушкой в его руках. Я не знаю, каким образом этот ужасный, этот загадочный человек проник во все наши тайны. Но он узнал их, он воспользовался ими, чтобы отомстить моему мужу, Данглару, которому он поклялся отплатить злом, и одновременно нанести удар ненавистному де Вильфору. Поэтому он выбрал галерного каторжника и сделал его князем, поэтому он ввел вас в наше семейство, околдовал моего мужа, положение которого знал, а в алчности уже убедился, — и все это лишь для того, чтобы скомпрометировать нас в глазах всего общества, опозорить навсегда имя Данглара. Именно он — в этом я больше не сомневаюсь, — именно он предал вас, донес на вас в полицию, причем так удачно выбрал время, что полицейские власти явились прямо к нам в салон, в поисках вас им пришлось пробираться сквозь толпу собравшихся гостей. Графу вы не обязаны ничем! Все, что он сделал для вас, он сделал для осуществления своей мести, а вас избрал ее орудием. Знал он и то, что вы убили Кадрусса, — в этом нет никаких сомнений!
— Дьявольщина! — вскричал Лупер. — Что, если это правда! Об этом я как-то не подумал! Но что, черт побери, граф имеет против господина Данглара и моего отца?
— Я узнала об этом позже, по слухам, и мне пришлось самой доискиваться до сути дела, — ответила госпожа Данглар также едва слышно. — В свое время, в Марселе, де Вильфор по доносу моего мужа отправил графа в тюрьму. Тогда граф был еще простым моряком, и Данглар примерно тем же — лучше бы ему оставаться таким на веки вечные!
— Значит, именно ненависть к Данглару, ненависть к господину де Вильфору, моему отцу, побудила графа…
— …превратить вас из каторжника вначале в князя, а потом из князя снова в преступника, — чуть ли не шепотом закончила баронесса. — Ослепление моего мужа и финансовые затруднения, которые он уже тогда испытывал и из которых рассчитывал выбраться с помощью вашего мнимого состояния, благоприятствовали плану графа. Иначе до такого никогда, пожалуй, не дошло бы!
— Этот Монте-Кристо — черт побери! — я считал его своим добрым другом! — воскликнул барон, возвращаясь к прежним своим мыслям. — Но если дело обстоит так, я поговорил бы с ним по-своему! Черт возьми! — вскричал он, вскакивая с кресла. — Если встречу графа, ему не поздоровится!
Госпожа Данглар бросила на него испуганный взгляд, потом, дрожа, вновь отвела глаза.
— Оставьте графа! — тихо сказала она. — Кто знает, где он теперь, может быть, его месть была справедливой. Скажите лучше, зачем вы пришли. Знаю, ко мне вас привела не сыновняя любовь!
— В самом деле? — удивился Лупер. — Впрочем, вы, пожалуй, правы, мамочка! Если это и не любовь, то, во всяком случае, доверие, какое сын должен питать к своей матери. Я пришел излить вам душу. Видите ли, мамочка, это чертовски трудно — честно прожить жизнь, даже если спекулируешь на бирже и играешь по-крупному. Сегодня вечером случай свел меня с несколькими господами, настоящими аристократами, и я проиграл все, что имел. У Шато-Рено и Дебрэ хватило бесстыдства отказать мне в ссуде! Ладно, они еще пожалеют об этом!
При упоминании имени Дебрэ госпожа Данглар вздрогнула.
— Теперь ума не приложу, что будет со мной завтра, — продолжал Лупер. — Кроме того, завтра я должен оплатить свою долю в партии акций, и если я не сделаю этого, то потеряю кредит на бирже. Разумеется, в этом отчаянном положении я подумал о вас. Но только крайность заставила меня — даю вам слово, — а также сыновняя любовь, тоска, желание…
— Значит, вы явились взять у меня денег?
— Да, что-то в этом роде! — ответил сын. — Мне хватит небольшой суммы, на первый раз…
Госпожа Данглар попыталась подняться с кресла. Несмотря на то, что она опиралась на столик, это ей не удалось. Тогда на ее лице появилась непреклонная, почти сверхчеловеческая решимость, она сделала над собой огромное усилие, встала и вышла из комнаты. Через несколько минут она вернулась, протянула барону пачку банкнотов и тут же рухнула в кресло. Силы ее были исчерпаны.
Лупер с нескрываемой радостью взял деньги и тут же судорожно их пересчитал.
— Пятьдесят тысяч франков, — довольно уныло подвел он итог. — Благодарю вас, мамочка! Говорят, вы богатая женщина. При том безденежье, в каком я сейчас нахожусь, мне, скорее, подошла бы сумма вдвое больше.
— В другой раз! — с трудом промолвила госпожа Данглар. — В доме у меня больше нет наличных денег. Оставьте мне свой адрес, я вышлю вам недостающую сумму. Но не злоупотребляйте моей добротой, сударь! Никогда, никогда между нами не может быть и речи о родственных чувствах. То, что я делаю сейчас — поймите меня правильно, — я делаю только с целью купить ваше молчание. К несчастью, я слишком дорожу мнением света и не хочу, чтобы меня считали матерью такого сына. Не злоупотребляйте этим! Ведь господин де Вильфор сошел с ума, а граф Монте-Кристо исчез, так что вам, пожалуй, будет нелегко выступить против меня с вашими собственными показаниями, а в моем сердце, не буду скрывать, не шевельнется никакого другого чувства, кроме отвращения к галерному каторжнику и убийце!
Лупер закусил губы и сердито сунул деньги в карман.
— Ну, мамочка, — сказал он, вставая, — вам не придется сетовать на меня. Вы увидите, я хороший сын. Мой адрес — на визитной карточке. Не заставляйте меня слишком долго ждать!
— Ступайте прямо, в соседней комнате горит свет! — крикнула баронесса как могла громко. — Горничная проводит вас. Никогда больше не приходите ко мне, пока я не велю вас позвать!
— Пожалуй, вам еще придется сделать это! — мрачно, со злостью пробормотал Лупер.
Очутившись на улице, барон долго расхаживал взад и вперед. Он был взволнован, насколько позволяло ему врожденное хладнокровие. Его сердила холодность баронессы. Он размышлял над ее словами. Пожалуй, она права. Он не мог открыто выступить против нее, а чтобы каким-то иным способом подтвердить, что она его мать, у него недостает доказательств, ими располагали только де Вильфор, Монте-Кристо и Бертуччо. Даже самообвинение Вильфора — ведь на том судебном заседании он признался, что является отцом обвиняемого, — не играло решающей роли, поскольку вслед за тем он сошел с ума и, следовательно, мог еще раньше не отдавать себе отчета в своих словах. Его признание также могло быть сделано в состоянии безумия. Лупер чувствовал, что баронесса не полностью в его руках, и это его раздражало.
Наконец все его мысли обратились к графу Монте-Кристо. Он еще раз все обдумал и пришел к выводу, что баронесса сказала правду: он был всего лишь орудием в руках графа. Это привело Лупера в безграничную ярость. Он уже не вспоминал о том, что прежде и так был разбойником и убийцей, галерным каторжником, — он думал лишь о том, кем бы мог стать, если бы граф его не выдал. Как всякий преступник, он снимал всю вину с себя и взваливал ее на графа. Он поклялся отомстить Монте-Кристо. Да, ему доставляло удовольствие, своего рода утешение знать, что теперь он снова может кого-то ненавидеть, что он вправе вынашивать мысли о мести и убийстве: ведь ему так долго пришлось вести скучную и по-своему даже честную жизнь. Он отыщет графа, разоблачит его и уничтожит.
Принятое решение успокоило его. Кроме того, в кармане лежало пятьдесят тысяч франков. Остальные пятьдесят тысяч он сможет получить в ближайшее время. На первый раз этих денег достаточно. И он, удовлетворенный, отправился домой.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. ТЮРЬМА
В ту ночь — такую памятную для дона Лотарио и госпожи Данглар — Моррель, скрестив руки и нахмурившись, неспешными шагами расхаживал по своей тесной камере.
Он был погружен в раздумья о графе Монте-Кристо, о том, что рассказывал ему граф, когда они вместе покидали Париж, о своих собственных страданиях в каземате замка Иф. Теперь Моррель понял то, чего не понять никому, кто не испытал это на себе, — он понял все отчаяние человека, который разлучен со своими близкими и не знает, когда вновь свидится с ними и свидится ли вообще!
А ведь его камера выглядела настоящим дворцом по сравнению с тем мрачным и сырым узилищем, где томился некогда Эдмон Дантес. Она, скорее, напоминала жилую комнату. Там стояли кровать, стол, стул. Дневной свет проникал через забранное решеткой окно. Теперь, ночью, камера Морреля скудно освещалась висящим на стене фонарем. Днем окно открывали, и в камеру врывался свежий воздух. Моррель получал книги, бумагу, перья — короче говоря, он пользовался льготами, способными смягчить суровость тогдашнего заключения графа, будь они ему доступны.
Но об этом Моррель не задумывался, и его можно было простить. Он раздумывал лишь о тяготах своего положения. Уже несколько недель он не видел ни Валентины, ни маленького Эдмона. Несколько недель не слышал ничьих голосов, если не считать голоса надзирателя, впрочем, довольно приветливого человека.
Почему Монте-Кристо не предпринимал ничего, чтобы освободить его или хотя бы добиться для него свидания с женой? Этот вопрос больше всего волновал капитана. Однако ни разу ему не пришло в голову упрекать графа. Даже в самых потаенных уголках души он никогда не винил Монте-Кристо: его уважение к этому человеку, чувство благодарности, которое он к нему испытывал, были слишком велики.
Шум у дверей отвлек капитана от невеселых мыслей. Может быть, это дежурный офицер, пришедший проверять посты. Его появление сулило своего рода нарушение привычного уже однообразия, и Моррель обрадовался.
В замке повернулся ключ, и на пороге выросла чья-то темная фигура. Потом дверь захлопнулась.
Моррель с удивлением уставился на посетителя. На вошедшем не было мундира, значит, он не надзиратель и не солдат. Он был закутан в длинный плащ, а в руке держал шляпу.
— Добрый вечер, господин капитан! — приветствовал он узника. — Как ваши дела? Надеюсь, не слишком плохо?
Моррель внимательнее вгляделся в неожиданного посетителя, ибо тусклый фонарь давал мало света.
— О, это вы, сударь! Слава Богу! — воскликнул он. — Я часто о вас думал!
Он узнал того самого человека, который однажды приходил к нему от графа с поручением доставить в Лондон некую сумму денег. Моррель действительно не раз думал об этом неизвестном ему человеке — тот, по-видимому, был близок графу Монте-Кристо.
— Охотно верю, — сказал незнакомец, распахивая свой плащ. — Вашему положению не позавидуешь.
Моррель пододвинул гостю единственный стул и предложил присесть. Он увидел перед собой мужчину средних лет, одетого просто и совсем неприметно. Гость был высок ростом, худощав, с выразительным лицом. С первого взгляда определить его возраст оказалось нелегко. Длинные, слегка тронутые сединой темные волосы почти достигали плеч, оставляя открытым высокий бледный лоб. У него были большие красивые глаза, нос с легкой горбинкой и рот, свидетельствующий об энергии и настойчивости.
— Чему тут завидовать? Меня мучают самым недостойным и несправедливым образом! — воскликнул Моррель. — Если бы все шло в соответствии с законом, меня уже приговорили бы к определенному наказанию и по крайней мере разрешили бы иногда видеться с женой и сыном.
— Как вы можете ждать здесь справедливости! — вскричал неизвестный. — Впрочем, поговорим об этом в другой раз. Сейчас речь о вашем собственном деле. Вы, конечно же, упрекаете меня и графа. Ведь мы до сего времени ничего не сделали для вашего освобождения. Но это не наша вина. Вас стерегут с такой строгостью, что мне стоило огромных трудов добиться хотя бы этого разговора. Разумеется, пришлось подкупить охрану.
— Каждое ваше слово служит мне утешением, — сказал Моррель, в сердце которого вновь затеплилась надежда.
Тут они услышали, как в замке снова заскрипел ключ.
— Что это? — удивленно спросил незнакомец. — Ведь надзиратель обещал не беспокоить нас с вами два часа!
Дверь между тем отворилась, пропустив человека, закутанного в длинный плащ, и опять закрылась. Правда, на этот раз засов не был задвинут. Незнакомец в недоумении поднялся со стула.
— Здравствуйте, господа! — сказал вошедший с саркастической улыбкой. — Извините, если я помешал, и позвольте мне присоединиться к вам.
— Кто вы такой, сударь, что осмеливаетесь вторгаться сюда? — опять спросил незнакомец, еще не оправившийся от удивления.
— Моя фамилия — Фран-Карре, я прокурор Его Величества короля, — ответил вновь пришедший. — А доступ в эту тюрьму мне открыт, вероятно, так же, как любому другому.
— Здесь пахнет предательством! — воскликнул первый из пришедших. — Каналья надзиратель выдал меня!
— Этот человек просто исполнил свой долг. Он сообщил мне, что кто-то стремится тайно побеседовать с капитаном Моррелем, и я поручил ему устроить такие переговоры, но указать мне время. Мне было необходимо познакомиться с вами, сударь!
— Весьма обязан! — заметил незнакомец, теперь уже вполне овладевший собой. — Но, как вы догадываетесь, мне требовалось поговорить с господином Моррелем с глазу на глаз. А поскольку я не вправе требовать, чтобы вы покинули нас, господин королевский прокурор, моя миссия на этом окончена. Честь имею кланяться!
— Позвольте! — сказал королевский прокурор, когда незнакомец, взяв шляпу, направился к двери. — Я ведь сказал, что пришел познакомиться с вами, а эта цель еще не достигнута. Кроме того, далеко вам не уйти — я, разумеется, приказал задержать вас, как только вы перешагнете порог этой камеры. Так что вам лучше остаться. Для нас обоих удобнее побеседовать именно здесь. Вы согласны, не правда ли?
— Не совсем, — ответил неизвестный. — Но раз уж вы предупредили, что меня задержат, придется, пожалуй, остаться. Что же привело вас сюда, господин королевский прокурор?
Последняя фраза была сказана таким повелительным тоном, а выражение лица говорившего было таким спокойным и решительным, что казалось, должностное лицо здесь — незнакомец, а Фран-Карре — допрашиваемый. Прокурор вначале в самом деле оторопел, но быстро взял себя в руки.
— Что привело, сударь? Странный вопрос! — засмеялся он. — Вы ведь уже знаете. Я хотел познакомиться с господином, проявившим столь большой интерес к капитану Моррелю.
— Допустим, вы узнаете мое имя или ближе познакомитесь со мной, что дальше? — поинтересовался неизвестный.
— Дальше я буду просить вас в интересах государства и господина Морреля дать мне те самые разъяснения, которые по сей день отказывается дать капитан, — ответил Фран-Карре. — Как видите, я с вами откровенен.
— Откровенны — как бывает откровенен королевский прокурор! — учтиво сказал незнакомец, переходя на непринужденный тон. — Ну что же! Мне известно, какого рода разъяснений вы ждете. Я сам просил моего друга Морреля дать их вам.
— В самом деле? — обрадованно воскликнул Фран-Карре. — Так что же вы медлите, господин капитан?
— Я по-прежнему отказываюсь давать показания, — упорствовал Моррель, который все это время был внимательным, но безмолвным слушателем. — От меня вы этого имени не узнаете — ни в коем случае!
— Какое упрямство! — вскричал королевский прокурор и обратился к незнакомцу: — Тогда положите конец делу, сударь, и назовите мне этого человека в Лондоне, потому что не знать его вы не можете!
— Откровенный вопрос предполагает и откровенный ответ, — улыбнулся неизвестный. — Но в данном случае я, увы, не могу вам его дать. Я не вправе ни опекать господина Морреля, ни действовать вместо него без его согласия. А поскольку я не имею чести быть обвиняемым, я, вероятно, и не обязан отвечать на ваши вопросы.
— Мы напрасно теряем время! — невольно заметил Фран-Карре. — Вы, правда, пока еще не обвиняемый, сударь, но в самое ближайшее время станете им.
— Я? С чего вы взяли? — воскликнул незнакомец. — Ваша уверенность просто пугает.
— Оставим шутки, — уже строже сказал королевский прокурор. — Во-первых, вы виновны в том, что подкупили надзирателя, во-вторых, есть подозрение, что вы — участник Булонского дела.
— Это правда? Какое ужасное подозрение! — вскричал незнакомец. — А вы все еще даже не знаете, кто я.
— Не знаю, но узнаю, прежде чем вы покинете это здание, — невозмутимо пообещал Фран-Карре, в котором теперь заговорило оскорбленное служебное достоинство. — Извольте же сообщить ваше имя!
— Так сразу? — спросил неизвестный. — Это предполагает продолжительное знакомство, которым я еще не удостоил даже своего друга Морреля. Я думаю, мы немного повременим.
— Сударь, вы забываете, с кем говорите! — с обидой воскликнул королевский прокурор. — Или вы назовете мне свое имя немедленно, или отправитесь со мной в другую камеру. Но предупреждаю: вы покинете это здание не раньше, чем власти установят вашу личность!
— Ну, если уж этого не избежать… — улыбнулся незнакомец. — Как добрый француз, я чту закон!
Он наклонился к королевскому прокурору и прошептал на ухо свое имя.
Тот вздрогнул, словно от удара электрическим током. Неизвестный же как ни в чем не бывало отошел от него. Фран-Карре проводил его взглядом, выражавшим одновременно и недоверие, и робость. Когда он увидел спокойную осанку и гордое лицо незнакомца, на котором играла тонкая улыбка, робость одержала верх. Прокурор был слишком искушенным человеком и имел достаточно поводов знакомиться с людьми различного ранга, чтобы понять, что неизвестный не солгал. Он молча поклонился, на что незнакомец в свою очередь ответил молчаливым же поклоном. Прокурор отвел глаза и погрузился в глубокое раздумье.
Он услышал имя, известное всему Парижу, — имя человека, в равной мере выделявшегося знатным происхождением, богатством и ученостью, человека, который, правда, не был политическим деятелем, не занимал никакой должности, но, может быть, именно в силу этих обстоятельств был особенно влиятелен. И этот человек оказался другом Морреля, а скорее всего, и другом графа Монте-Кристо и — так по крайней мере можно было предполагать — приверженцем Наполеона. Если такая личность будет втянута в процесс, значение этого судебного разбирательства возрастет еще больше. В последнее время с огромным трудом удалось немного приглушить интерес публики к Булонскому делу. Но стоит только привлечь этого человека к суду как тайного сторонника Луи Наполеона, угасший было интерес публики неминуемо вспыхнет с новой силой. А в тайне его участие не сохранить — болтунов в Париже хватает. Короче говоря, Фран-Карре попал в незавидное положение. С одной стороны, у правительства Франции были все основания выразить ему признательность за то, что он установил причастность к делу этого человека, но, с другой стороны, его могли и упрекнуть за излишнее рвение. Во всяком случае, сделанное открытие следовало скрывать самым тщательным образом.
Королевский прокурор настолько предался своим мыслям, что совершенно забыл о присутствии посторонних и медленно, задумчиво расхаживал из угла в угол. Наконец он, видимо, принял решение.
— Сударь, — сказал он, — вы говорили, что капитан Моррель не знает вашего имени?
— Да, это правда, — уверенно ответил незнакомец.
— А вам бы не хотелось, чтобы он узнал его теперь? — спросил Фран-Карре.
— Вообще говоря, это не имеет значения, — заметил неизвестный. — Правда, мне хотелось бы, чтобы господин Моррель услышал то, что я собирался ему сообщить, из моих собственных уст.
— Согласен, только позволю себе просить вас побеседовать со мной в другом помещении. Разговор будет весьма непродолжительным. Не беспокойтесь, я не намерен обременять вас!
— Я убежден в этом, — ответил незнакомец с учтивостью светского человека. — Но не позволите ли мне прежде продолжить прерванный разговор с господином Моррелем без свидетелей?
— Это невозможно, совершенно невозможно! — с сожалением воскликнул Фран-Карре. — Знай я заранее, что встречу здесь вас, сознаюсь, я, может быть, и не помешал бы вашей беседе. Но теперь у меня не хватает смелости столь явно нарушить свой служебный долг. Итак, если вы не возражаете, мы с вами уйдем отсюда вместе.
— Я готов. — Неизвестный повернулся к капитану.
— Постойте! Вы слышите эти голоса, эти крики? — удивленно вскричал вдруг королевский прокурор. — Что там происходит?
Он вскочил, и почти одновременно с ним в замешательстве вскочили Моррель и незнакомец. До них в самом деле донесся неясный шум, в котором можно было различить пронзительные крики. Камера, скупо освещенная фонарем, наполнилась ярким красноватым светом. Прокурор поспешил к двери.
В этот миг дверь распахнулась, и в камере сделалось еще светлее.
— Спасайтесь, господин королевский прокурор! — с перекошенным от страха лицом кричал надзиратель. — В переднем флигеле пожар!
Фран-Карре сжался от испуга. Однако он слыл мужественным человеком. Он схватил надзирателя за руку и крепко сжал ее.
— Спокойно, спокойно, мой друг! — пробормотал он. — Огонь потушат. Я не слишком хорошо знаком со всеми закоулками этого здания. Какие выходы ведут на улицу? Покажите их нам, но не забывайте о своей службе. Не открывайте камер, пока не прибудет достаточно солдат.
— Из этого флигеля всего один выход, — ответил, дрожа всем телом, надзиратель, — он ведет через лестницу в тот флигель, где возник пожар. Лестница тоже или горит, или вот-вот займется.
— Пожалуй, все еще обойдется, — сказал королевский прокурор. — Пойдемте со мной. Уж мы найдем выход!
Эти слова были обращены к незнакомцу. Между тем зарево пожара разрасталось с ужасающей быстротой. В камеру долетали отчаянные вопли заключенных. Моррель побледнел.
— А я, выходит, должен остаться здесь и сгореть заживо, господин королевский прокурор? — с горечью спросил он.
— Ей-Богу, опасность не так велика, и мне не остается ничего другого, как успокоить людей. Они слишком легко теряют голову в подобных случаях. Огонь непременно укротят. Пойдемте, сударь! — не задумываясь о судьбе Морреля, обратился Фран-Карре к незнакомцу.
— Э, нет, такому не бывать! — ответил тот. — Неужели вы полагаете, что я брошу моего молодого друга?
— Делайте что хотите! — вскричал королевский прокурор. — Опасность угрожает всем нам. Пусть каждый заботится о собственном спасении! Надзиратель, не открывайте камер до прибытия вооруженной охраны!
По узкому коридору прокурор направился к лестнице. Опасность и в самом деле существовала. Треск дерева, пожираемого пламенем, усилился. Воздух сделался горячим и душным. Многие заключенные, содержавшиеся в заднем флигеле тюрьмы, вероятно, проснулись и как сумасшедшие принялись колотить в двери камер. Из переднего флигеля доносился дикий рев, на фоне которого порой слышались отчаянные крики: «Откройте двери! Мы задыхаемся! На помощь!»
— Пойдемте, — сказал незнакомец Моррелю, — нам нужно искать выход, иначе этот ночной визит может стоить мне жизни! Скорее, может быть, и вам удастся ускользнуть в этой суматохе!
Моррель поспешил в свою камеру за шляпой, ибо ему оставили его собственную одежду.
— Вы что, не слышали приказа господина королевского прокурора? — спросил надзиратель, преграждая путь капитану. — Вы должны оставаться здесь!
— Глупости! — ответил за Морреля неизвестный. — Не задерживайте нас! Вас отблагодарят!
С этими словами он оттеснил надзирателя в сторону и вместе с Моррелем заторопился по коридору.
В конце коридора на фоне ярких отблесков пламени отчетливо выделялась одинокая черная фигура.
— Это королевский прокурор, — сказал незнакомец. — Плохо дело! Если уж он не в состоянии выбраться из здания, как же нам найти выход из этого лабиринта? Самое лучшее — не отставать от него!
Они приблизились к прокурору. Теперь все трое в полной мере осознали грозившую им опасность. Единственная лестница, которая, как уверял надзиратель, вела из этого флигеля в передний, была охвачена пламенем. Если бы не ветер, относивший дым в другую сторону, находиться в узком коридоре уже теперь было бы невозможно. Передний флигель пылал, а о пожарных не было ни слуху ни духу. Доносились лишь вопли заключенных.
— Кошмар! — с дрожью в голосе заметил королевский прокурор. — Минут через десять лестница сгорит дотла, и пламя доберется до камер. Спасение может прийти к нам только со стороны канала.
— Канала? Вы имеете в виду канал, который окружает этот флигель? — спросил неизвестный.
— Именно его, — ответил прокурор. — Но, прежде чем нам удастся выломать решетки в окнах, прежде чем подставят лестницы или бросят нам веревку, мы задохнемся в дыму.
— Вы не можете распорядиться, чтобы открыли камеры? — спросил незнакомец.
— Существует строжайший приказ делать это не раньше, чем появится достаточное количество охраны.
— Но по горящей лестнице им сюда не добраться! — возразил неизвестный.
— Разумеется! — пожал плечами Фран-Карре. — Но чем я могу помочь? Солдатам не удастся расположиться даже во дворе, потому что ветер гонит пламя прямо туда! Повторяю, спасение может прийти к нам только со стороны канала. Надеюсь, уже принимаются необходимые меры, чтобы помочь нам! Надзиратель! Идите сюда! Есть ли хоть одна свободная камера с окнами на канал?
— Нет, господин королевский прокурор! — ответил надзиратель, у которого зуб на зуб не попадал.
— Так откройте любую, кто бы там ни был! — приказал Фран-Карре. — Нам необходимо позвать на помощь!
— А остальные камеры?
— Пусть остаются закрытыми, пока не поступит приказ.
Надзиратель устремился вперед. Все трое последовали за ним с поспешностью, вполне естественной в такой ситуации. Надзиратель открыл одну из камер и посторонился, пропуская своих спутников.
Фран-Карре сразу же подошел к окну. Моррель тем временем с любопытством взглянул на узника, содержавшегося в этой камере. Услышав звук открывающейся двери, тот ошарашенно вскочил с нар и заспанными глазами уставился на вошедших.
Это был крепкий, сильный человек. Волосы и борода у него были всклокочены. Он носил обычную тюремную одежду, которая Моррелю не полагалась, ибо он не был осужден. Узник жадно и вместе с тем неуверенно поглядывал на открытую дверь. Вероятно, у него сразу же возникла мысль о побеге. Но в следующее же мгновение ему, наверное, стала ясна причина столь необычного визита, потому что в дверь ворвался яркий отблеск пламени и донеслись голоса заключенных, отчаянно взывавших о помощи.
На мгновенье его лицо озарилось дикой радостью, и он остался стоять в своем углу, время от времени с нетерпением поглядывая на вошедших и поджидая благоприятного момента.
— Эти стекла! Я забыл, что они закрашены! — вскричал прокурор. — Ничего не видно!
Обитатель камеры злорадно рассмеялся:
— Вот-вот, меня это тоже частенько сердило!
— Ничего не поделаешь! Придется их разбить! — крикнул Фран-Карре и ударил по стеклам.
Заключенный снова рассмеялся:
— Уж теперь-то охрана, пожалуй, услышит! Подожди, голубчик!
Потом ему в голову пришла, видимо, какая-то мысль, и он быстро подошел к королевскому прокурору.
— Послушайте-ка, вы, верно, приятели и собираетесь бежать? — обратился он к Фран-Карре, кладя ему на плечо руку.
— Убирайся к черту! — сердито отозвался прокурор. — Разве не видишь, что творится?!
— К черту я отправился бы с охотой! — пробормотал узник, отходя в сторону, а Фран-Карре между тем просунул голову сквозь прутья решетки.
— Эй, часовой! — крикнул он вниз. — Здесь королевский прокурор. Позови на помощь, кликни пожарных!
— Убери голову, или буду стрелять!
— Постой, ведь я — королевский прокурор. Мое имя — Фран-Карре!
Прогремел выстрел, и пуля попала в окно, едва не задев голову прокурора. Это был единственный ответ снизу. Осколки стекла со звоном упали на пол. Заключенный злорадно захихикал, а Фран-Карре, бледный как смерть, отскочил на середину камеры. К окну быстро шагнул капитан.
— Прежде чем он успеет перезарядить, я взгляну вниз, — заметил Моррель. — В этом месте от канала до стены примерно шесть шагов. Там, внизу, толпа, кажется, я различаю пожарных. Не делай глупостей, приятель! — крикнул он часовому. — Я — капитан спаги́ Моррель, здесь у нас действительно королевский прокурор. Здание горит! Чем стрелять, позови лучше на помощь!
Но часовой, похоже, не поверил капитану. Инструкции, которые он получил, были строги. Едва Моррель успел убрать голову, в окно вновь влетела пуля.
— Конечно, он из провинции. Ну, господин королевский прокурор, наши дела плохи. Сдается мне, в ваших же интересах было не мешать моему разговору с этим господином!
Прокурор что-то буркнул в ответ. Заключенный же очень внимательно прислушивался к происходящему. Если он и в самом деле был так хитер, как можно было предположить, глядя на его физиономию, из слов Морреля он наверняка понял, что имеет дело с товарищем по несчастью. Он следил за капитаном с растущим любопытством.
За стенами камеры стоял невероятный шум, раздавались Жалобные крики и стоны. Было слышно, как трещит огонь, рушатся балки; все здание было охвачено невообразимой суматохой; жара становилась невыносимой. Временами камера заполнялась дымом — похоже, огонь перекинулся уже на задний флигель. Моррель чувствовал, как со лба катятся крупные капли пота.
Снизу донесся теперь лязг оружия или каких-то металлических предметов, затем зазвучали слова команды.
— Это пожарные! — вскричал Фран-Карре, с облегчением переводя дыхание. — Еще немного, и мы спасены!
— Не только вы — я, надеюсь, тоже, — негромко сказал узник.
Максимилиан Моррель поспешно устремился к окну.
— Сюда, друзья! — закричал он. — Господин королевский прокурор здесь! На помощь! Вот молодцы ребята! Они переправляются через канал. У них лестницы и веревки. Сюда! Сюда!
Но голос Морреля утонул в общем хоре таких же криков о помощи, доносившихся из камер, которые выходили окнами на канал. Этот многоголосый хор в ночи производил жуткое впечатление.
— Боже! — вскричал капитан, все еще не отходя от окна. — Кажется, горит этаж, что под нами! Если эти люди не поторопятся, мы пропали! А еще потребуется время, чтобы перепилить прутья решетки! И мы, как назло, на четвертом этаже — ни одна лестница не достанет! Господи, помилуй нас!
Обернувшись, он увидел рядом с собой заключенного. Глаза его сверкали. Бледное лицо, годами не знавшее иного воздуха, кроме спертого, нездорового воздуха узилища, порозовело от возбуждения. На нем читались решимость и безоглядная дерзость. Он схватился за железный прут решетки.
— Разве это помеха — пара пустяков! Считайте, что свое дело я уже сделал!
Он так тряхнул прут, что тот сломался.
— Ну вот, через такую дыру уже можно пролезть, — заметил заключенный, не выпуская обломка из рук. — Толстяков среди нас нет. Господа, конечно, пропустят меня вперед…
Фран-Карре мрачно взглянул на него, но возражать не осмелился. Он прекрасно сознавал, что узы закона и дисциплины сейчас ослабли, а в подобном положении любой человек, чтобы спасти свою жизнь, способен на все. Моррель и незнакомец тоже промолчали.
Между тем опасения капитана, похоже, подтверждались. За окном подымались клубы дыма, валившего, видимо, из нижнего этажа. Дым не давал ничего разглядеть. Пожарных уже не было видно, слышались только слова команды. Заключенный высунулся из окна.
— Сюда, на помощь! — закричал он громовым голосом. — Здесь находится господин королевский прокурор!
— Мы бросим вам веревку! Ловите! — донеслось снизу. — Приготовились! Бросай!
— Если поймаешь веревку, получишь свободу! — воскликнул Фран-Карре.
— Благодарю! — насмешливо обронил узник. Было слышно, как в стену ударил какой-то предмет; заключенный высунул руки, но напрасно: первая попытка пожарных оказалась неудачной.
Опасность возрастала с каждой минутой. В камере стояла адская жара, за окном царил непроглядный мрак, к тому же все затянуло дымом. Заключенный снова высунул руки и на этот раз, похоже, что-то схватил.
— Поймал, господа! — торжествующе завопил он. — А теперь прощайте!
Он быстро зацепил железный крюк, привязанный к концу спасительной веревки, за подоконник, зажал зубами обломок прута, пролез в окно и скрылся из виду.
— Далеко не уйдет! — заметил Фран-Карре. — Внизу его схватят!
Все трое бросились к окну удостовериться, что узник благополучно достиг земли. Однако из-за дыма ничего разглядеть не удалось. Веревка сначала была натянута, потом вновь ослабла.
— Скорее, скорее! — торопили снизу. — Из окон вырывается пламя! Веревка сгорит!
— Поспешите, господин королевский прокурор! — крикнул незнакомец. — Вам по праву надлежит быть первым! Вперед!
Опасность придала королевскому прокурору, человеку уже не первой молодости, ловкости и силы. Он вскарабкался на подоконник и ухватился за веревку, потом исчез в дыму. Спустя минуту-другую в камере услышали крик и увидели, как задрожала и заходила ходуном веревка.
— Наверное, он выпустил канат и упал! — предположил Моррель. — А теперь ваша очередь, сударь! Поторопитесь! А я буду последним.
— Прощайте! — сказал неизвестный. — Я наведу о вас справки у вашей семьи, назвавшись Дюпоном.
С этими словами он взялся за веревку. Моррель с замиранием сердца следил за его действиями. Но незнакомец, видимо, добрался до земли без всяких неожиданностей. Капитан по крайней мере не заметил ничего необычного.
Наконец настал его черед. Он протиснулся в окно и схватился за веревку. Капитану, издавна привыкшему к физическим упражнениям, не составило труда быстро начать спуск. Опасность подстерегала его дальше — там, где из окон нижнего этажа выбивались языки пламени. Но деваться ему было некуда. Вероятно, именно там Фран-Карре выпустил веревку и сорвался вниз.
Спустившись до этого места, Моррель едва не лишился сознания от невыносимого жара. Веревка готова была выскользнуть у него из рук. Последние двадцать футов он пролетел камнем и, добравшись до земли, упал.
Когда он поднялся, его внимание привлек распростертый на земле королевский прокурор, вокруг которого хлопотали несколько пожарных. Однако он не видел, что творилось всего в нескольких шагах от него, ибо узкое пространство между тюремной стеной и каналом заполняли густые клубы дыма. Он поискал глазами незнакомца. Ему показалось, что тот совсем недалеко. Моррель поспешил к нему. И сразу же получил сильный удар по голове, рухнул наземь и потерял сознание.
Очнувшись, капитан обнаружил, что находится в окружении солдат, которые стерегли толпу заключенных. Он ощущал сильную боль в затылке. Дотронувшись до него, он увидел на пальцах кровь. Сделал он и еще одно неприятное открытие: на нем была теперь тюремная куртка. Удивленный, он поднялся на ноги и огляделся. В некотором удалении он заметил светлое пятно и толпящихся людей. Это была горящая тюрьма. Он хотел взглянуть на свои часы — часов не оказалось. От изумления Моррель покачал головой. Он видел, что задавать вопросы солдатам бесполезно. Заботило его только одно — чтобы ему как можно скорее сделали перевязку.
— Дружище, — обратился он к одному из солдат, — нет ли здесь лекаря? Я ранен в голову.
— Ишь ты, нашел друга! — огрызнулся солдат. — Нет здесь никаких лекарей. Лекарь тебе будет потом!
Капитан вновь опустился на землю, потому что от боли почти терял сознание и боялся упасть. Так прошло около получаса. Наконец появился офицер и сказал солдатам:
— Огонь потушен. По крайней мере дальше пожар не распространяется. Отведите заключенных на тюремный двор через задние ворота; да следите, чтобы никто не удрал!
Морреля подтолкнули прикладом, и он, с трудом поднявшись на ноги, побрел вперед. Какой-то заключенный из сострадания протянул ему руку. Миновав ворота, узники очутились на тюремном дворе, где их окружили солдаты.
Моррель был не в силах собраться с мыслями: рана на голове не давала ему сосредоточиться. Только время от времени он вспоминал, что бежать ему не удалось, и не мог удержаться от вздоха. Теперь за дело принялись надзиратели. Они осматривали номера на арестантских куртках и каждого опознанного уводили в камеру.
— Номер тридцать шесть! — выкрикнул один из надзирателей, бросив взгляд на куртку Морреля. — Ага, знаю такого! Тот самый негодяй, что доставлял столько хлопот бедняге Валлару, а под конец и вовсе его ухлопал!
— Друг мой, — собрав все силы, сказал Моррель, — вы ошибаетесь: я вовсе не номер тридцать шесть. Я не имею представления, как на мне оказалась эта куртка. Я — капитан Моррель. Господин королевский прокурор может это подтвердить!
— Что такое? В наших списках нет никакого капитана Морреля! — ответил надзиратель. — Ладно, выясним. А что До господина королевского прокурора, он разбился при падении и теперь, может быть, уже отдал Богу душу.
— Ну что ж, меня может опознать и мой надзиратель, — сказал Максимилиан. — Я жил в камере номер Двадцать девять.
— Ты гляди-ка — он жил! — со смехом заметил надзиратель. — Надзиратель, видите ли, может его опознать! Так вот, беднягу Валлара нашли мертвым там, наверху! Кто-то из вас, мерзавцы, его угробил! Уж не ты ли? А ну, марш вперед!
II. БЕГЛЕЦ
Влюблен он или нет? Или Тереза пробудила в нем более глубокий интерес? Этого дон Лотарио еще не знал, все происшедшее представлялось ему слишком необычным. По дороге домой он задавал себе вопрос, кто она и как встретит его, если он осмелится нанести визит.
Завоевать сердце молодого испанца было вовсе не так легко, как могло показаться. Перед многими юношами, вступавшими в свет, у него было преимущество, и немалое: он уже испытал любовь. Если и не все его сердце без остатка, то уж наверняка лучшая его часть принадлежала донне Росальбе, и дон Лотарио не мог вспоминать о ней, не испытывая горечи от предательства, каким она отплатила за его искреннее чувство. Он уже не питал к ней страсти — и во время своего путешествия, и здесь, в Париже, он встречал немало женщин, гораздо более привлекательных и достойных любви, — но ее образ еще не изгладился из его памяти. К тому же он стал недоверчив. Обыкновенно молодые люди судят о светском обществе, сообразуясь со своим первым жизненным опытом. Обманутые одной лживой, корыстной кокеткой, они начинают ненавидеть всех женщин.
И на этот раз наш герой вооружился ничем не оправданным недоверием. Да, он не собирался отказываться от своего амурного приключения, но дал себе обещание оставаться холодным и невозмутимым. Он забыл, что он дитя юга, что он еще очень молод. Вообще говоря, эта интрижка доставляла ему радость. Она вносила разнообразие в его монотонную жизнь в большом городе, и он негромко напевал веселую мелодию из оперы, которую слышал вечером. Он прекратил петь, потому что увидел в ночном небе далекое зарево. Это горела тюрьма. Она находилась на южном берегу Сены, приблизительно там, куда он держал путь, направляясь домой. Теперь он совершенно отчетливо видел это зарево слева от себя и вначале намеревался добраться до пожарища, казавшегося довольно близким. Вот почему он зашагал в сторону Люксембургского дворца.
Но, сворачивая за угол довольно узкой улицы, он столкнулся с каким-то человеком, который так торопился, что едва не сбил его с ног. К счастью, дон Лотарио успел ухватиться за стену дома и удержался от падения.
— Черт побери! Впредь не спешите так, когда поворачиваете за угол! — воскликнул испанец, поправляя шляпу, съехавшую набок от столкновения с запоздалым пешеходом.
— Охотно последовал бы вашему совету, сударь, если бы мог видеть, что происходит за углом! — ответил незнакомец. — Тем не менее прошу меня извинить — я очень тороплюсь! Скажите, что это за улица?
— Не имею представления, — ответил Лотарио. — Могу только сказать, что мы находимся поблизости от Люксембургского дворца.
— Вы не здешний? — продолжал расспрашивать незнакомец. — В таком случае, сударь, возможно, у вас более сострадательное сердце, чем у парижан?
— Может быть — да, а может быть — нет, — ответил, смеясь, испанец, которого позабавило такое предположение.
— И вам не покажется странным, если незнакомый человек попросит приютить его на несколько часов?
— Хм! — замялся дон Лотарио, разглядывая ночного собеседника. — Это совсем другое дело. Все зависит от дополнительных обстоятельств. Почему вы меня об этом просите?
— Почему? Потому что я, к несчастью, оказался в положении, когда приходится уповать на подобное великодушие, — ответил неизвестный. — Выслушайте меня, сударь! Вчера вечером дела застали меня в этом районе, и я задержался до сих пор. А живу я вблизи Монмартра. Завтра в восемь утра я снова должен быть здесь. Может быть, мне и следовало отправиться прямо домой, но тогда пришлось бы вскоре возвращаться назад, почти не сомкнув глаз. Так что вы совершили бы благое дело, взяв меня с собой. Для ночлега мне вполне подойдет прихожая или комната прислуги.
Испанец еще пристальнее вгляделся в неизвестного. Однако рядом не было ни одного фонаря. Дон Лотарио заметил только, что на незнакомце добротные сюртук и шляпа, а остальная одежда находилась в совершенно неудовлетворительном состоянии; взъерошенная борода также выглядела весьма непривлекательно.
— Однако, что вам мешает найти временное пристанище в пансионе или гостинице? — спросил испанец.
— Сущая безделица — у меня в карманах ни одного су, — ответил загадочный проситель.
— Да, в таком случае выбирать не приходится! — рассмеялся дон Лотарио. — Ну что же, во мне вы не ошиблись — у меня в самом деле доброе сердце. По крайней мере мне так кажется. Ступайте вперед, к Люксембургскому дворцу!
Незнакомец огляделся и зашагал в указанном ему направлении. Дон Лотарио внимательно наблюдал за ним. Неизвестный оказался рослым человеком крепкого сложения. Сюртук был немного тесноват ему в плечах, тем более что он застегнул его на все пуговицы. Шел он неторопливой, тяжелой походкой рабочего. Между тем дону Лотарио стало ясно, что он имеет дело вовсе не с каким-то франтом, но отступаться от данного однажды слова было не в его правилах.
— Вы шли из тех мест, где, кажется, горит дом, — сказал испанец. — Что, большой был пожар?
— Это горит тюрьма, — холодно ответил незнакомец. — Я тоже имел глупость там задержаться.
— Боже мой, тюрьма! — воскликнул Лотарио, полный сострадания. — Должно быть, это ужасно! Если опоздаешь открыть камеры, заключенные задохнутся или сгорят заживо! Вы ничего такого не слышали?
— Поговаривали, что сгорело что-то около полудюжины заключенных, — невозмутимо ответил неизвестный. — Впрочем, это ничего не меняет. По большинству тех, кто там сидит, плачет виселица или гильотина. Умрут ли они несколькими днями раньше и каким именно образом — это в конце концов безразлично. Правда, скулили они довольно жалобно.
— А вы, похоже, не так сострадательны, как я, — укоризненно заметил испанец. — Однако вот мы и пришли!
Незнакомец поднял глаза и бегло осмотрел дом, большой и красивый — из числа тех фешенебельных домов, какие частями или целиком сдают состоятельным иностранцам.
Дон Лотарио позвонил и вошел в подъезд, сопровождаемый своим ночным спутником. Оба начали подниматься по лестнице.
— Мой слуга спит, не будем его будить, — заметил молодой испанец. — Пойдемте в мою комнату.
Он отпер дверь. Прихожая скудно освещалась одной-единственной лампой, готовой вот-вот погаснуть. В первой же комнате испанец зажег свет и теперь увидел своего гостя при полном освещении.
Дону Лотарио стоило немалого труда скрыть охватившее его изумление. Эти всклокоченные волосы, взъерошенная борода, болезненно-одутловатое лицо, мрачная, злобная мина, эти серые в черную полоску штаны, грубые башмаки — все указывало на то, что перед ним бродяга, вор, а может быть, и убийца. Испанцу даже показалось, что волосы и борода неизвестного слегка опалены, а лицо почернело от дыма.
— Все ясно, сударь! — Дон Лотарио отступил на шаг, пораженный внезапной мыслью. — Вы бежали из горящей тюрьмы, а шляпу и сюртук украли по дороге!
— Будь вы следственным судьей, сударь, подобные предположения сделали бы вам честь, — ответил незнакомец, насмешливо улыбаясь. — Однако вы заблуждаетесь. Разве обязательно быть преступником и убийцей, если облачен в плохое платье?
— Может быть, я нарушаю закон, оставляя у себя этого человека, — сказал Лотарио, обращаясь скорее к самому себе, нежели к ночному гостю. — Покиньте мой дом! Будем считать, что я вас не видел.
— Это и есть ваше милосердие? — с издевкой спросил неизвестный. — И почему вы так заявляете? Ваши догадки по меньшей мере преждевременны. Эти штаны и башмаки я надеваю во время работы, а по профессии я — каменщик. Сюртук и шляпу ношу на улице. Ну а борода — это, надеюсь, мое личное дело. Так что, сударь, разрешите мне отдохнуть у вас до семи утра.
— А вы не боитесь, что я позову полицию? — спросил испанец.
— Отнюдь, — засмеялся незнакомец. — Во-первых, вы этого не сделаете, а во-вторых, я вам в этом помешаю. Всегда неприятно иметь дело с полицией.
Он быстро повернулся, запер дверь, ведущую в прихожую, а ключ сунул в карман.
— Позвольте, сударь! — воскликнул дон Лотарио, не столько испуганный, сколько удивленный. — Вы пользуетесь моей добротой — и осмеливаетесь так вести себя в моем доме?! Имейте в виду, я принял меры против подобных посягательств!
Он быстро подошел к письменному столу, вытащил шкатулку и направил на неизвестного пистолет, зловеще блеснувший при свете свечей.
— Вздор, — заметил бежавший заключенный, потому что он и был таинственным гостем дона Лотарио, — вздор! Во-первых, очень сомнительно, чтобы эта штука была заряжена, а во-вторых, у меня и в мыслях не было доставить вам хоть малейшее беспокойство. Укажите мне софу или кровать, и я буду вполне доволен, а ровно в семь утра тихо вас покину. Не думайте, что я недооцениваю вашу любезность. Вы оказали мне огромную услугу. А теперь я намерен всего-навсего не дать вам нарушить ваше же собственное обещание.
Дон Лотарио согласился, что слова ночного гостя не лишены здравого смысла. В крайнем случае — какое ему дело, что это за тип. Он не связан никакими обязательствами с французской полицией, чтобы помогать ей ловить преступников. Для него важно только обезопасить самого себя от возможного нападения этого человека. А тот, похоже, только и умеет хватать других за горло и опустошать их карманы. Наш испанец уже успел немного успокоиться и трезво обдумал свое положение.
— Тогда отправляйтесь в соседнюю комнату, — сказал он, — там вы найдете удобную софу. Даю вам слово, что не пошлю за полицией.
— Полагаюсь на ваше обещание! — невозмутимо ответил незнакомец. — Позвольте мне зажечь свет. Доброй ночи!
С зажженной свечой в руке он прошел в указанную ему комнату и запер за собой дверь.
Другая дверь вела из большой комнаты, где только что находились оба собеседника, в спальню дона Лотарио. Молодой испанец предался размышлениям, может ли он, очутившись в таких обстоятельствах, воспользоваться тем сладостным даром природы, которого жаждало его утомленное тело. Он чувствовал себя довольно уверенно, ибо обладал двумя достоинствами: чутким сном и заряженным пистолетом. К тому же он мог запереть дверь в свою спальню. Устал он порядком, да и что в том предосудительного, если на одну ночь приютишь у себя подозрительную личность! Он забрал с собой шкатулку с пистолетом и, не раздеваясь, бросился на постель. Через несколько минут он уже спал…
Его сладкий сон прервал стук в дверь. Первым делом молодой человек подумал о слуге, но затем в памяти у него всплыл ночной гость, и он вскочил. Открыв дверь, он увидел в предрассветных сумерках, слабо освещавших большую комнату, какого-то человека. Пораженный, он уставился на него. Перед ним стоял тот самый незнакомец, но как он преобразился! Лотарио не удержался от возгласа изумления.
— Сударь, — сказал неизвестный, — я пришел попрощаться с вами и кстати попросить извинения за ту вольность, что я себе позволил. Как видите, я позаимствовал из вашего гардероба необходимые мне предметы туалета, чтобы выглядеть прилично.
— Вижу, — ответил дон Лотарио, с трудом сдерживая улыбку при этих словах незнакомца, сказанных вполне серьезным тоном. — Во всяком случае, сейчас вы производите более благоприятное впечатление, чем прошлой ночью!
— Не правда ли? — спросил тот, с удовлетворением оглядывая свой костюм. На сей раз одет он был изысканно, почти щегольски: наметанный глаз заключенного сумел отыскать лучшее из хозяйского гардероба, находившегося в его распоряжении всю ночь. Тонкая рубашка, вязаный жилет, серебристые панталоны, цветастый галстук (все по самой последней моде) — ничего не было упущено находчивым наглецом. Бороду он успел сбрить, сохранив лишь небольшие усы и английские бакенбарды. Короче говоря, за считанные часы ночной гость стал совершенно неузнаваем, превратившись в заправского франта. Правда, его лицо все еще не утратило прежнего выражения, и дону Лотарио было не по себе при виде человека, который ночью выглядел совсем иначе.
— Только сапоги узковаты да перчатки немного малы, — улыбнулся незнакомец, пытаясь обратить все в шутку. — Впрочем, это мелочи, и на них скоро перестаешь обращать внимание. Вы позволите мне называть эти вещи своими, не правда ли?
— Я вынужден это сделать, — ответил молодой человек. — Надеюсь, вы этим и ограничились и не познакомились поближе с моей кассой — она находится в той же комнате.
— В самом деле? — воскликнул неизвестный. — Нет, на это у меня не было времени. Даю вам слово, вы найдете ее нетронутой. Денег у меня достаточно, иначе я попросил бы вас о некоторой ссуде.
— Я рад, что избавлен от необходимости отказать вам в этом, — холодно ответил дон Лотарио. — Во всяком случае, разрешите мне заглянуть в свой секретер и убедиться собственными глазами.
— Извольте! — с неудовольствием сказал незнакомец. — Впрочем, с вас достаточно было бы и моего слова!
Дон Лотарио не знал, как поступить: сердиться на эту неслыханную наглость или рассмеяться. Все еще не выпуская из рук пистолета, он прошел в комнату, где заключенный провел ночь. Уже одного взгляда, брошенного внутрь секретера, оказалось достаточно, чтобы понять: все в порядке.
— А теперь, милостивый государь, — с холодной учтивостью промолвил наш герой, — у меня нет причин удерживать вас от ваших странствий по Парижу.
— Весьма благодарен, — ответил незнакомец с легким поклоном, — а теперь, сударь, прежде чем попрощаться, я прошу вас еще об одном. Назовите ваше имя.
— К чему? — удивился испанец. — Я полагал, что оно не имеет для вас никакого значения.
— Не совсем так. Вы оказали мне огромную услугу, поэтому я хотел бы знать ваше имя!
— Что ж, если вам это столь необходимо, извольте: меня зовут дон Лотарио де Толедо.
— Прекрасное имя, — ответил неизвестный и с серьезной миной извлек из кармана записную книжку, куда и занес нашего героя. — Я буду помнить о вас. Никогда нельзя знать, при каких обстоятельствах я смогу быть вам полезен. А чтобы и вы знали, кто я и кому вы сделали любезность, разрешите представиться: Этьен Рабласи — в некоторых районах франции это имя небезызвестно!
— Нисколько в этом не сомневаюсь! — сказал дон Лотарио, которому стала невыносима неслыханная наглость собеседника. — А теперь, любезнейший, я хотел бы продолжить прерванный вами сон. Кстати, с вашей стороны было неосторожно называть мне свое имя. Я могу заявить в полицию и указать ваши приметы…
— Вы этого не сделаете — вы слишком благородный человек, — ответил Рабласи, состроив гримасу, напоминавшую улыбку. — Прощайте, дон Лотарио! Вы всегда найдете во мне друга и благодарного должника!
— Черт бы побрал этого молодца! — сердито пробормотал дон Лотарио и добавил: — Прощайте! Никогда бы вас больше не видеть!
Беглец рассмеялся, отвесил поклон и, открыв дверь ключом, который все еще держал у себя, покинул комнату, а потом и квартиру. Дон Лотарио подошел к окну и увидел Этьена Рабласи, беззаботной, небрежной походкой пересекавшего площадь перед Люксембургским дворцом. Сапоги, пожалуй, и в самом деле были ему узки, ибо он ступал очень медленно и осторожно. Это придавало его походке какую-то неестественность и вызывало смех. Он оглянулся на окна квартиры и дружески помахал наблюдавшему за ним испанцу. Дон Лотарио отошел в глубину комнаты.
— Бог знает, какого негодяя избавил я от карающей руки полиции! — сказал он себе. — Хотя что мне оставалось? В конце концов, я был во власти этого человека. Хуже всего, что он не дал мне отдохнуть. У мадемуазель Терезы я буду выглядеть утомленным, как после бессонной ночи.
С этими словами он вернулся в свою спальню и бросился на постель. Каким бы странным ни казалось происшедшее с ним, оно было неспособно лишить его душевного равновесия. Спустя несколько минут дон Лотарио уже спал.
III. ВИЗИТ
Ровно в десять часов утра слуга разбудил дона Лотарио. На столе уже стоял горячий кофе. Рядом с чашкой лежали несколько утренних газет, среди них — небольшая газетка, выходившая лишь в девять часов и сообщавшая обо всех событиях минувшей ночи. Дон Лотарио пробежал ее довольно равнодушным взглядом, и его внимание привлекла заметка, помещенная в конце полосы. В ней говорилось следующее:
«Сильный пожар разрушил прошлой ночью флигель тюрьмы на Бьеврском канале. Подробности происшествия редакции пока неизвестны. Уверяют, однако, что никому из заключенных бежать не удалось, никто из них не погиб в огне и не получил увечий. Произошло несчастье иного рода. Тяжелое ранение получил королевский прокурор Фран-Карре, который находился во время пожара в здании тюрьмы, допрашивая одного из заключенных. Не имея иного пути к спасению, кроме брошенной пожарными веревки, он, однако, сорвался при спуске, почти достигнув земли. Кроме того, был убит надзиратель по имени Валлар — вероятно, в то время, когда он открывал камеры. Подозрение пало на небезызвестного Этьена Рабласи, который по счастливой случайности находится в руках правосудия, поскольку бежать ему не удалось».
— Как? Что это значит? — спрашивал себя дон Лотарио. — Рабласи — именно так назвался этот наглец, и если он — тот самый, он, безусловно, бежал. Зачем же другому человеку принимать имя убийцы?
Несколько минут испанец размышлял над этим странным обстоятельством. Тем временем вошел слуга, чтобы помочь ему одеться, и в предвкушении событий наступившего дня испанец забыл о странном ночном происшествии.
Вправе ли он воспользовался разрешением Терезы и нанести ей визит? Он сделал бы это не задумываясь, но что-то его удерживало. Жизнь в Париже не прошла для него даром. Он уже научился не доверять своему сердцу и проявлять больше осмотрительности, чем, видимо, требовалось. Кроме того, сейчас он более здраво относился к своему ночному приключению. Новое знакомство представляло для него несомненный интерес, однако многое из того, что считается интересным, имеет свои опасные стороны.
Впрочем, он вовремя вспомнил о том, что Тереза, по ее словам, знакома с аббатом Лагиде. Аббат был человеком в летах. Пусть в юности Лагиде тоже отдал дань светским глупостям, тем более что его взгляды были весьма терпимыми, теперь вряд ли можно предположить, что с этой молодой дамой его связывает нечто большее, нежели дружеская привязанность. По этой причине дон Лотарио намеревался предварительно разузнать о ней именно у аббата.
Как всегда, ровно в двенадцать у дверей дома остановился элегантный наемный экипаж. Молодой человек жил в достатке, но не был мотом. Он считал, что для пребывания в Европе ему должно хватить двадцати тысяч долларов. Он хотел доказать лорду Хоупу, что достоин такого покровителя.
Экипаж покатил по пустынным бульварам. Дон Лотарио не встретил ни одного знакомого. Он велел ехать в кафе «Тортони». Первым, кого он там увидел, оказался Лупер, углубившийся в газеты.
Лупер поднял глаза. Дон Лотарио пребывал в нерешительности, следует ли ему здороваться с бароном. Его природное добродушие одержало бы, пожалуй, верх и он возобновил бы знакомство с Лупером, если бы тот не сделал вид, что не знает испанца. Он вновь равнодушно уткнулся в свою газету, а дон Лотарио спросил завтрак, весьма раздосадованный встречей с этим человеком, которого отныне решил не замечать.
К молодому человеку подсел другой знакомый, и вскоре дон Лотарио забыл обо всем. Вдруг его внимание привлек новый посетитель, которого он, кажется, уже где-то встречал. Тот был изысканно, даже щеголевато одет, а серебристо-серые панталоны вошедшего убедили испанца, что он не ошибся. Он едва поверил своим глазам: в новом посетителе он узнал беглого арестанта Этьена Рабласи.
Тот еще не видел дона Лотарио, и наш герой успел скрыть свое изумление. Какая дерзость! Лотарио ни секунды не сомневался, что его ночной гость — вор, грабитель. Он находил естественным, что беглец сменил одежду. Но появляться здесь, где собирается весь цвет парижского общества, — это уже непростительно. Несколько минут испанец всерьез подумывал, не лучше ли послать за полицией и велеть задержать беглеца. Однако молодые люди обычно великодушны и сострадательны даже в тех случаях, когда подобные чувства неуместны. Дон Лотарио посчитал излишним вмешиваться не в свое дело. Тем не менее присутствие Этьена Рабласи стесняло его, и он едва осмеливался поднять глаза: как большинству честных людей, ему было свойственно стыдиться за других. Наконец он собрался с духом и огляделся.
Видимо, Рабласи давно его заметил, он приветствовал дона Лотарио, причем столь учтиво, что молодому человеку пришлось, пусть даже небрежно, ответить на его поклон. Еще меньше ему хотелось вступать с Рабласи в беседу, хотя нельзя было поручиться, что наглец не осмелится заговорить с ним. Поэтому он быстро поднялся из-за столика, вышел из кафе и поехал к аббату Лагиде.
Именно сегодня аббата, обычно принимавшего до четырех-пяти часов каждый день, не оказалось дома. Ждать его возвращения дон Лотарио не захотел. Идти к Терезе сейчас или прежде разузнать о ней все, что можно? — вот что не давало покоя молодому испанцу. Он еще подумал и решил рискнуть.
Дом, в котором жила Тереза, трудно было не узнать — своими размерами он превосходил все соседние дома.
— Мадемуазель принимает? — спросил он портье, сонно выглянувшего из своей комнатки.
— Полагаю, что так, сударь. Извольте подняться на второй этаж.
Дон Лотарио направился вверх по ступеням. Дом был вполне фешенебельным, но лишенным вульгарной роскоши, свойственной жилищу всякой «подозрительной» дамы, и в то же время слишком скромным и чистым, чтобы подобная мысль вообще могла прийти в голову. Если Тереза и в самом деле была «падшей», она, во всяком случае, умела продавать наивысшие добродетели, которыми обладает женщина, за достойную цену: перила лестницы вырезаны из прекрасного дуба, ступени выстланы коврами. Дон Лотарио позвонил.
— Мадемаузель Тереза принимает? — обратился он к приветливой горничной.
— Позвольте узнать ваше имя, сударь.
— Дон Лотарио де Толедо.
— Прошу вас! Госпожа у себя в будуаре.
Молодой человек не имел плебейской привычки вступать в разговоры с прислугой. Но один вопрос так и вертелся у него сейчас на языке.
— Госпожа ждала меня, дитя мое?
— Этого я не знаю, — ответила горничная. — Однако сегодня утром госпожа называла мне ваше имя — этого достаточно.
«Отлично, — подумал Лотарио, — значит, меня ждали. Горничная называет хозяйку госпожой — впрочем, так во франции называют любую даму. Она в своем будуаре. Моя судьба должна решиться!»
Комната, куда он вошел, была отделана с утонченным вкусом. Вообще вся квартира не производила впечатления нанятой, где устраиваются на непродолжительное время. В каждой мелочи чувствовалось прикосновение искусной заботливой женской руки. Должно быть, хозяйка квартиры — настоящая дама. Это убеждение еще больше подогрело интерес молодого человека.
Он прошел еще одну комнату, но Терезу так и не встретил. Это несколько смутило его. Идти дальше ему, пожалуй, не следовало. Однако прислуги не было видно. Впрочем, горничная ведь предупредила его, что госпожа в будуаре. Вероятно, она готова принять его. Если он допустит нескромность, вся вина ляжет на горничную; к тому же все двери были открыты, и он, набравшись смелости, решил идти наугад.
Он миновал еще одну комнату — повсюду та же изысканная роскошь. На стенах — прекрасные картины, оригиналы или копии известных мастеров. Дон Лотарио решил, что Тереза, наверное, богата.
Следующая дверь, тоже полуоткрытая, вела, похоже, в будуар. Молодой человек кашлянул, чтобы предупредить хозяйку дома о своем приходе, ибо ковры на полу скрадывали его легкие, неторопливые шаги. Сердце у него немного забилось — ведь он был еще молод, — и он переступил порог.
Тереза была одна. В легком изящном утреннем туалете она сидела у окна за небольшим столом. Но дон Лотарио испугался: лицо молодой женщины покрывала мертвенная бледность, глаза остекленели, зубы были судорожно стиснуты. Застывшее лицо напоминало маску. Она не замечала его. Дону Лотарио стало казаться, что перед ним бездыханное тело, а не живое существо.
— Боже мой! — воскликнул он. — Что с вами?! Вы нездоровы? Я позову горничную!
Ответа не последовало. Дон Лотарио уже не сомневался, что Тереза действительно больна. Ни о каком притворстве, даже преднамеренном, не могло быть и речи. Он отыскал звонок и принялся резко дергать за шнур, потом стал искать воду, нюхательную эссенцию.
— Госпоже плохо! У нее опять приступ! — воскликнула, вбежав в будуар, горничная. — Но сейчас он пройдет! Прошу вас, сударь, оставьте нас всего на несколько минут!
Испанец вышел из будуара. Это было странное, можно сказать, пугающее начало. Пока он, охваченный беспокойством, шагал из угла в угол в соседней комнате, появилась еще одна служанка. Может быть, ему вообще уйти? Но молодому человеку непременно хотелось знать, благополучно ли закончится приступ. Перед его мысленным взором все еще стояло бледное как смерть лицо Терезы, он отчетливо видел ее застывший взгляд, и к мимолетному интересу, который он вначале испытывал к ней, добавилось искреннее сочувствие. Часто ли у нее случаются такие приступы? Не с ними ли связано ее мрачное настроение? Ему было от всей души жаль Терезу. Он все больше сострадал ей. Подчас измученное бледное лицо в полумраке больничной палаты вызывает у нас больше симпатии, нежели горящие щеки и блестящие глаза в озаренном ярким светом бальном зале. Он решил остаться.
Прошло уже около десяти минут, а наш герой все не мог успокоиться.
— Вы еще здесь, дон Лотарио? — спросила, появившись в дверях, горничная. — Прекрасно! Госпожа желает говорить с вами.
— В самом деле? — воскликнул испанец. — Она уже вполне оправилась? Я остался лишь затем, чтобы убедиться, что опасность миновала. Передайте госпоже, что я не стану докучать ей, если она не чувствует себя достаточно здоровой.
— Приступ миновал, и госпожа настоятельно желает говорить с вами, — повторила горничная.
Когда дон Лотарио вошел в будуар, Тереза сидела на софе. Лицо ее было очень бледным и утомленным, со следами недавнего ужасного кризиса. Но взгляд ожил, хотя и не обрел еще достаточной бодрости.
— Простите, дон Лотарио, — сказала Тереза, и он заметил, что ей стоит большого труда скрывать охватившую ее слабость, — простите, что я встретила вас не лучшим образом! Правда, моей вины здесь нет! Время от времени я становлюсь жертвой подобных приступов, причиной тому мои слабые нервы. Садитесь! Вы легко нашли мою квартиру?
— Это не составило труда — я хорошо запомнил ваш дом, — ответил молодой человек. — Однако прошу вас, сударыня, без церемоний! Если вам нужно отдохнуть, я немедленно уйду. Позвольте только навестить вас в ближайшие дни, чтобы справиться о вашем здоровье.
— Нет-нет, останьтесь, если иных причин у вас нет! Как только приступ проходит, я снова чувствую себя вполне удовлетворительно. К сожалению, я сама виновата в своих страданиях. Некие воспоминания, которые я так часто намеренно воскрешаю в памяти, оказываются настолько сильными, что приводят меня в такое состояние. Я это знаю и стараюсь избегать таких воспоминаний. Но временами какая-то демоническая сила заставляет меня вновь и вновь перебирать свое прошлое до тех пор, пока мной не овладевает это ужасное оцепенение. Тогда мне кажется, что я стою на пороге смерти. Вы видели меня в самый драматический момент, — продолжала она со слабой улыбкой, — а кокетство, которое в той или иной степени свойственно всему женскому полу, побуждает меня показаться вам и в более привлекательном виде. Не правда ли, я выглядела отвратительно?
— Не говорите так! — воскликнул Лотарио. — Я просто потрясен! Как вы могли подумать, что при виде подобного зрелища человек, наделенный чувствами, способен ощутить что-то иное, кроме душевной боли и самого искреннего сострадания?
Взгляд ее сделался теперь спокойным и ясным, и лишь лицо по-прежнему выглядело утомленным. Казалось, Тереза поддерживает разговор только из учтивости. Дон Лотарио воспользовался случаем, чтобы дополнить наблюдения, сделанные прошедшей ночью. Он утвердился в том, что Терезу нельзя назвать блестящей красавицей, из тех, что так импонируют мужчинам. У нее было правильное лицо с тонкими чертами, которое несколько портила бледность. Украшали его прекрасные карие глаза, пышные блестящие волосы и тонко очерченные пунцовые губы, скрывавшие два ряда великолепных зубов. Она обладала красивой, по крайней мере привлекательной фигурой, напомнившей дону Лотарио самых грациозных девушек его родины. Никогда он не видел такой маленькой руки и миниатюрной ноги. Видимо, Терезе было чуть больше двадцати лет. Он не сомневался: стоит ей только захотеть, и в его сердце вспыхнет пламя страстной любви. Но сейчас, несмотря на мимолетную улыбку, ее лицо было холодным, сдержанным, почти строгим. Может быть, даже равнодушным. Лотарио с радостью признался бы ей, что она пробудила в нем необыкновенный интерес — как это и было в действительности, — ибо именно таких, как она, и называют интересными женщинами, но, глядя на выражение ее лица, не решался.
— Сударыня, — продолжал он, — мысли, которыми вы поделились со мной вчера, были столь мрачного и своеобразного свойства, что я счел своим долгом разыскать вас, чтобы избавить от пессимизма, вернуть вам счастье жизни, радость молодости!
— И вы действительно верите в успех? — насмешливо поинтересовалась Тереза.
— Надеюсь, мне удастся этого добиться, пусть не сразу — со временем.
— Если вы к этому стремитесь, значит, я вызвала у вас интерес?
— Так оно и есть, — ответил Лотарио. — И разве не естественно, что мы сочувствуем тем, кто, подобно вам, обладая молодостью и красотой, как бы создан для радостей жизни, а не для печальных мыслей? Мне и теперь непонятно ваше настроение. Все, что я вижу, должно, кажется, доставлять вам радость. Вы молоды, красивы, независимы, богаты — насколько я могу судить по той роскоши, которая вас окружает. Нет, ваша печаль для меня решительно непостижима!
— Ну, и как же вы намерены взяться за мое исцеление? — спросила Тереза. — Мне не терпится узнать ваш метод.
— Я бы рекомендовал вам впредь не совершать ночных прогулок, а гулять днем, когда сияет солнце. Вам следу также бывать в свете и блистать там умом и красотой, вызывая восхищение окружающих. Я посоветовал бы вам найти преданных и веселых подруг. Вам не мешало бы научиться наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях: путешествовать, развлекаться, а прежде всего вам бы следовало — Дон Лотарио запнулся, не решаясь произнести нужное слово. Его лицо окрасил легкий румянец.
— …влюбиться! Что же вы замешкались? — прервала его Тереза. В ее голосе зазвучали резкие, отчужденные нотки. — Мне нужно было-бы влюбиться — все это так! Ко мне вернулись бы и радость жизни, и здоровье, если бы я могла полюбить. Но этого никогда не будет.
— Выходит, всякий, кто дерзнет полюбить вас, обречен быть несчастным?
— Возможно. Однако я сомневаюсь, что в состоянии вообще пробудить любовь! Интерес — пожалуй, а любовь — нет! И это счастье. Я никогда не смогу ответить взаимностью тому, кто меня полюбит!
Шутить на такую тему было просто недопустимо, и Тереза говорила совершенно серьезно. А что должен был ответить ей Лотарио? Впрочем, случай избавил молодого человека от необходимости продолжать этот разговор, который был ему неприятен, хотя еще больше пробудил интерес к молодой женщине. Вошедшая горничная спросила, примет ли госпожа господина графа.
— Разумеется, — ответила Тереза, — если дону Лотарио угодно познакомиться с графом Аренбергом!
— Граф Аренберг? — удивился Лотарио. — Если не ошибаюсь, я уже слышал это имя у аббата Лагиде.
— Очень может быть. Граф Аренберг — мой старший друг и покровитель.
Вошел пожилой господин лет шестидесяти. Впрочем, ему можно было бы дать и больше. Он был среднего роста, худощавый, с бледным аристократическим лицом, длинными седыми волосами. Никогда дону Лотарио не встречались лица с таким доброжелательным выражением. Голубые глаза графа обращали на себя внимание прямо-таки небесной чистотой и ясностью. В них было еще столько неподдельной живости, словно граф так и остался юношей. Однако годы брали свое — он слегка сутулился. Судя по тому, как он был одет — ни пальто, ни шляпы, — он, видимо, жил в этом же доме.
— Граф Аренберг, из Германии, — дон Лотарио де Толедо, из Мексики, — сказала Тереза, представляя гостей друг другу. — До сих пор мне еще не приходилось принимать у себя уроженцев столь непохожих уголков земли.
Граф весьма церемонно поклонился молодому испанцу, но тут же обернулся к Терезе.
— Вы были нездоровы, голубушка, — мягко сказал он своим мелодичным голосом. — Опять этот ужасный приступ! Когда только вы перестанете мучить себя? Когда наконец успокоитесь?
— Боюсь, что никогда, дорогой граф! — слабо улыбнувшись, ответила Тереза. — Впрочем, все уже позади!
— Благодарю вас, дон Лотарио! Вам удалось немного развлечь мадемуазель Терезу — она по крайней мере улыбается! — обратился граф к молодому испанцу. — Нет, нет, Тереза, вам не следует более беседовать с аббатом! Для вас его взгляды чересчур пессимистичны. Вам нужно быть веселее. Я искренне рад встретить у вас молодого человека, на лице которого нет и следа той меланхолии и мировой скорби, что, к сожалению, так характерна сейчас для всего нашего юношества.
— Что касается, аббата, вы, граф, пожалуй, правы, — согласился Лотарио. — Мне тоже приходила такая мысль. Лагиде — превосходный человек, но, мне кажется, ему более пристало напоминать о бренности жизни беззаботным весельчакам, нежели утешать несчастных. Он еще не в ладу с самим собой и с мировым порядком.
— Очень верно подмечено, — сказал граф. — Итак, вы знаете аббата. Мне тоже приходилось слышать от него ваше имя. Да, да, так и есть. Вы приехали из Мексики. Аббату вас рекомендовал лорд Хоуп. Он отзывался о вас с большой похвалой.
— Аббат очень любезен. К сожалению, я еще весьма неискушен в жизни, чтобы в полной мере оценить его достоинства и таланты. Встретив лорда Хоупа и аббата, я нашел в них людей, которые открыли мне всю бездну моего невежества. Но, слава Богу, я еще молод и надеюсь наверстать упущенное!
— Если вы так рассуждаете, вы на верном пути. Только почаще навещайте мадемуазель Терезу. Судя по всему, вы оптимист. Тереза нуждается именно в таких людях. И аббат, и я — мы слишком стары для нее, а к молодым людям она испытывает непонятную антипатию.
— В таком случае мне не приходится ожидать многого от своих усилий, даже если бы я и решился на это, — с улыбкой заметил дон Лотарио. — А вы уверены, что мадемуазель Тереза готова признать меня целителем ее души?
— По крайней мере я позволяю вам предпринять такую попытку, — вмешалась в разговор Тереза. — Большего я сделать не могу!
— Значит, вы не запрещаете чаще бывать у вас?
— Буду рада видеть вас в любое время.
— Благодарю! — воскликнул молодой испанец, которого гораздо больше обнадежил веселый тон, каким были сказаны эти слова, чем смысл самого разговора.
— Если аббату вас рекомендовал лорд Хоуп, следовательно, вы знаете лорда ближе?
— Да, знаю, — ответил дон Лотарио, — и все же это, пожалуй, слишком сильно сказано. По моему разумению, постичь его сущность очень нелегко. Во всяком случае, лорд самый необыкновенный человек, какого я встретил в своей жизни!
— Расскажите нам о нем, — попросила Тереза. — Прошлой ночью вы упомянули его имя лишь вскользь.
Молодой испанец изъявил полнейшую готовность поведать слушателям то немногое, что ему было известно о лорде Хоупе. Несмотря на краткость, его рассказ весьма заинтересовал обоих.
— Скажите, а лорд женат? — поинтересовалась Тереза, когда дон Лотарио подошел к концу своего повествования.
— Самое удивительное, что первым почти всегда задают именно этот вопрос, — засмеялся испанец. — К сожалению, не могу сказать вам ничего определенного, мадемуазель. Когда я попытался это узнать, лорд уклонился от прямого ответа. Впрочем, подозреваю, что он не одинок. Скажу откровенно, мне очень хотелось бы познакомиться с той, кого лорд Хоуп удостоил любви.
Между тем граф, сославшись на дела, поспешил откланяться.
— Прощайте, дитя мое! Рад снова видеть вас здоровой! Прощайте, дон Лотарио! До скорой встречи! Если не застанете мадемуазель Терезу дома, не забудьте обратиться ко мне!
Лотарио учтиво поклонился графу и заверил, что именно так и сделает. Аренберг удалился, бросив на молодую женщину взгляд, исполненный нежного сочувствия.
Едва он ушел, оставив дона Лотарио в нерешительности — то ли найти новую тему для продолжения беседы, то ли заканчивать затянувшийся визит, — как горничная доложила о приходе баронессы Данглар.
— Передайте, что я рада ее видеть! — распорядилась Тереза. — Вы знакомы с баронессой, дон Лотарио?
— Не имел чести, — ответил тот. — Это ваша подруга?
— Да, причем единственная здесь, в Париже. Она гораздо старше меня и перенесла немало горя. Если следовать вашей теории, я должна была бы прекратить с ней всякие отношения. Баронесса — умная, достойная женщина, и я люблю ее именно за то, что она столько пережила, а возможно, страдает и до сих пор.
Вошла баронесса. В своем черном костюме — госпожа Данглар почти всегда носила темное — она выглядела бледнее и, пожалуй, старше, чем обычно, но такой мертвенно-бледной Тереза еще ни разу ее не видела. Даже походка у нее изменилась: она шла медленно и тяжело. Сегодня она производила впечатление пожилой дамы.
— Боже, баронесса, какой у вас болезненный вид! — воскликнула Тереза. — Что с вами?
Похоже, она намеревалась встать и поспешить навстречу подруге. Но силы ее были еще слишком слабы.
— Сидите, сидите! — остановила ее госпожа Данглар, опускаясь рядом с ней на софу. — У меня была сегодня тяжелая, очень тяжелая ночь. Такое иногда случается, а в моем возрасте это уже нелегко. Впрочем, скоро все пройдет. Я ожидала застать вас в одиночестве или в обществе графа Аренберга. Надеюсь, я не помешала?
Тереза познакомила дона Лотарио с баронессой. Госпожа Данглар не без любопытства поглядывала на красивого молодого человека. Дон Лотарио постоянно привлекал внимание женщин. Но то, что он был здесь, в этой комнате, совсем заинтриговало баронессу. Ей, безусловно, были известны взгляды Терезы и ее душевные тайны. Дон Лотарио был, пожалуй, первым молодым человеком, которого она застала у подруги.
Ему показалось, что обеим не терпится посекретничать, и он, чувствуя, что его визит и так уже слишком затянулся, стал прощаться.
Тереза просила дона Лотарио прийти еще раз, и он обещал непременно быть. Впрочем, в его обещании было больше искренности, чем в ее приглашении. Еще одно приглашение он получил от госпожи Данглар, которая ожидала его в один из ближайших вечеров. Испанец с благодарностью принял его и, довольный, удалился.
IV. ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ФРАНКОВ
Спустя несколько дней после знакомства у Терезы дон Лотарио попросил госпожу Данглар о конфиденциальной встрече, и баронесса, собиравшаяся в этот день навестить больную подругу, назначила ему на десять часов вечера.
Когда молодой человек вошел в комнату баронессы — ту самую, которая совсем недавно была свидетельницей отвратительной сцены, разыгравшейся между матерью и сыном, — он выглядел серьезнее обычного.
— Не знаю, удивились ли вы, сударыня, получив мое письмо, — сказал он, — но вы, надеюсь, простите мне мою дерзость с той же благосклонностью, какую вы проявляли ко мне в последнее время. Я искал этой встречи, чтобы попросить у вас помощи и совета. Я страстно желаю завоевать любовь Терезы!
— Вы жаждете помощи, совета? — спросила госпожа Данглар, казалось приятно пораженная простодушием молодого человека и теплотой, с которой он говорил. — Ну, ведь в любовных делах советовать и помогать бесполезно. Почему бы вам не объясниться с Терезой?
— Как раз об этом я и пришел поговорить. Думаю, Тереза давно поняла, что привело меня к ней, но до сих пор мне неясно, испытывает ли она ко мне что-то похожее… любит ли она меня? А вы — близкая подруга Терезы. С вами она, верно, делилась своими мыслями обо мне. Поэтому я и пришел к вам.
— Откровенность за откровенность, мой друг! Тереза не раз признавалась мне, что вы ее заинтересовали, она рада видеть вас и беседовать с вами. Но я не замечала, чтобы она питала к вам более глубокое чувство. Я попытаюсь заглянуть в ее сердце. Но позвольте дать вам совет: не торопитесь! Тереза много, очень много страдала. Возможно, ее душевная рана еще слишком свежа. Однако не найти сердца, которое долго сопротивлялось бы преданной, верной любви. Действуйте не спеша, не опережайте события!
— Вы правы! — вздохнул дон Лотарио. — Да и мне легче, когда есть кому излить душу!
— Простите, госпожа, если я помешала, — прервала их разговор горничная. — Мне только что передали визитную карточку…
— Так поздно? — неясное предчувствие овладело баронессой. Она взяла карточку, и рука ее дрогнула. Если бы дон Лотарио в этот миг взглянул на нее, он заметил бы, как она побледнела. — Передайте этой персоне, — она подчеркнула слово персона, — что я приму ее завтра.
— Эта персона настаивает, чтобы вы ее приняли сейчас, госпожа! — возразила горничная. — Она утверждает, что у нее к вам неотложное дело.
— Хорошо! — согласилась баронесса с непривычной для нее энергией. — Я приму ее. Проводите дона Лотарио в гостиную. Простите, сударь! Всего пять минут, и я снова буду в вашем распоряжении. Тягостный визит, не более.
— Вообще мне пора, позвольте пожелать вам доброй ночи!
— Нет, нет! — запротестовала госпожа Данглар, опасаясь, видимо, что молодой испанец встретится с нежданным визитером. — Пройдите в гостиную, а потом мы продолжим разговор!
Дон Лотарио последовал за горничной в соседнюю комнату. Насколько он знал, гостиную отделяла от будуара баронессы анфилада комнат. Горничной было известно, что дон Лотарио знаком с расположением комнат, поэтому она ограничилась тем, что предложила ему пройти в гостиную, где уже горел свет, и подождать там.
Однако испанец нашел дверь, ведущую в следующую комнату, запертой. Звать горничную ему не хотелось. Кроме того, он не счел нескромным слышать предстоящий разговор с бедной просительницей и остался в соседней комнате за полуоткрытой дверью в будуар баронессы.
Он слышал, как туда кто-то вошел. Но вовсе не женщина, как он ожидал! Судя по решительным, твердым шагам, отчетливо раздававшимся, несмотря на ковры, это был мужчина.
— Добрый вечер, мамочка! — донесся до него мужской голос. — Вы не хотели принимать меня — это несправедливо с вашей стороны.
— Предоставьте мне судить о том, что есть справедливость и несправедливость! Что вам угодно от меня, сударь?
— Как вы холодны, как строги! И это называется материнской любовью? — спросил неизвестный. — Разве мое письмо не объяснило вам, что мне нужно? Разве вы вправе оставлять меня в нищете?
Дон Лотарио был скорее испуган, чем удивлен, — он узнал голос своего прежнего знакомого, барона де Лупера. Что он за человек? Что ему нужно от баронессы? Неужели он настолько беден, что вынужден клянчить деньги? Однако он назвал баронессу матерью! Между тем у нее не было сына, по крайней мере он никогда ничего подобного не слышал. За всем этим скрывалась какая-то тайна!
— Вы сказали в нищете? — повторила баронесса. — Пустив на ветер всего за три недели сто тысяч франков, вы разглагольствуете о нищете?! Не вы ли писали мне, что получили обещанные пятьдесят тысяч в дополнение к тем пятидесяти тысячам, которые в этой самой комнате я передала вам недавно из рук в руки? Разве вы не уверяли меня, что на первое время вам вполне достаточно?
— Все верно, — согласился Лупер, и Лотарио показалось, что он сел. — Все так и было, не спорю! Но, увы, человек предполагает, а Бог располагает! Я думал, что невесть как разбогател, получив от вас последние пятьдесят тысяч, а они разошлись за неделю. Тогда я написал вам и опять попросил денег. Но ответа не получил. Я решил, что вы потеряли мой адрес, поэтому я здесь.
— Так вам опять подавай деньги? — спросила госпожа Данглар, и Лотарио услышал, что ее голос, всегда чистый и звонкий, дрожит.
— Вы угадали! Мне нужны деньги, минимум пятьдесят тысяч. Теперь я буду умнее — стану их экономить. Но сейчас они мне необходимы — я в крайне трудном положении. Ведь вы не можете допустить, чтобы ваше родное дитя терпело лишения?
— Не впадайте в патетику — в ваших устах она смешна! — вскричала баронесса. — Когда вы явились ко мне в первый раз, я была потрясена несчастьем, которое наслало на меня Провидение, подарив такого сына, и не в силах была ответить вам так, как вы того заслуживаете. Сегодня я не менее несчастна, но лучше владею собой. Возможно, сударь, что когда-то я и носила вас под сердцем, хотя доказательств тому нет. Да будь вы даже моим законным сыном, я не признала бы вас: такой отъявленный негодяй, вор и убийца, как вы, потерял всякое право на мою любовь! Тем более вы сами признались, что вас растили и воспитывали достойным человеком! Я не могу относиться к вам иначе как к попрошайке, которому жертвую милостыню! Но такому человеку, как вы, кто так сорит деньгами, не выжать из меня ни су! Кроме тех денег, что я дала вам по собственной воле, вы не добьетесь от меня ничего! Вот мое последнее слово! Оставьте мне свой адрес, вы получите сумму, какую я смогу вам дать. А сейчас уходите. Сегодня вы не получите ничего. Денег в доме нет.
Дон Лотарио невольно приблизился к полуоткрытой двери, откуда был виден будуар. Он был ярко освещен, в то время как в комнате, где находился наш герой, горела всего одна лампа.
Мать и сын стояли друг против друга. Баронесса — бледная как смерть, но не теряя гордой осанки, Лупер — перед ней, потупив голову.
— В таком случае я приду завтра! — упорствовал барон. — Ведь вы не можете не дать мне деньги!
— Не приходите вообще никогда! — воскликнула баронесса. — Утром я пришлю вам столько, сколько сочту нужным. Повторяю: будь у меня даже миллионы, я скорее бросила бы их в Сену, чем доверила такому человеку! И не пытайтесь приходить ко мне, пока я не позову! Для вас меня дома нет. Сегодня я приняла вас лишь затем, чтобы сказать все это. Можете шуметь, делать что вам заблагорассудится! Уходите! Теперь вы знаете мое мнение!
Лупер продолжал стоять, опустив голову и сжав кулаки. Казалось, у него в голове зреет какой-то план.
— И вы не дадите мне денег, даже если бы из-за этого мне пришлось совершить самое серьезное преступление в своей жизни?! — зловеще спросил он, понизив голос.
— Да, — вскричала баронесса, — я этого не сделаю!
Более всего дону Лотарио хотелось броситься на этого негодяя и как следует его проучить — настолько возмутила его подлость мерзавца, которого несчастная женщина вынуждена была признать своим сыном. Не в силах оставаться немым свидетелем этого разговора, он отошел в глубину комнаты, где голоса матери и сына доносились до него в виде неясных, приглушенных звуков.
Через несколько минут ему почудилось, что он слышит слабый крик, и он поспешил вернуться на прежнее место, откуда был виден будуар. Там за это время произошло следующее.
— Пятьдесят тысяч франков, всего пятьдесят тысяч! — тупо повторял Лупер.
— Ничего! Ни су! — отвечала госпожа Данглар с прежней решимостью. — Уходите!
— Говорю вам, пятьдесят тысяч франков! — настаивал Лупер. — Я должен получить их, сударыня!
— Нет, ничего ты не получишь! Я не собираюсь быть соучастницей твоих преступлений!
— Так будь же ты проклята! — заскрежетал зубами барон.
Он взмахнул правой рукой, и госпожа Данглар, негромко вскрикнув, упала на ковер. Мгновение Лупер глядел на нее, потом стремительно шагнул к стоявшему в будуаре столику и лихорадочно принялся обшаривать ящики.
— Деньги! — пробормотал он, вытаскивая пачку банкнотов. — Примерно двадцать тысяч! Дьявольщина! Почему не больше! Остальное — ценные бумаги! Брать или нет? Может быть, завтра удалось бы их продать; впрочем, завтра меня будут уже искать! Горничной-то известно мое имя! Черт побери, из-за двадцати тысяч франков придется сматываться из Парижа!
Именно в эту минуту дон Лотарио опять занял свою прежнюю позицию у полуоткрытой двери. Однако впопыхах он не увидел госпожу Данглар и подумал, что она вышла из комнаты. Он видел, как Лупер спрятал что-то в нагрудный карман и, захватив шляпу, поспешно исчез. Лишь теперь испанец заметил несчастную баронессу. Она лежала на полу, на груди и на ковре расплывались темные пятна крови.
Не помня себя от ужаса, он вбежал в будуар и рванул шнур ближайшего звонка. Баронесса лежала бледная и неподвижная. По ее шелковому платью из раны, оказавшейся вблизи сердца, медленно струилась кровь. Лицо еще хранило выражение прежней решимости. Руки были сжаты в кулаки.
— Созовите всю прислугу! Пошлите за врачом и полицией! Этот негодяй убил госпожу Данглар! Нельзя терять ни минуты! — кричал Лотарио горничной. Та, вскрикнув, упала в обморок. Молодой человек не переставая дергал за шнур звонка, пока вся перепуганная прислуга не сгрудилась в будуаре убитой. Через несколько минут переполох охватил весь дом.
Появились врачи и полицейские. Дон Лотарио по-прежнему машинально отдавал распоряжения, хотя пребывал в каком-то оцепенении. Только когда полицейские, более привычные к подобным происшествиям, начали выяснять обстоятельства преступления и очередь дошла до него, он пришел в себя и дал показания, сообщив все, что мог. У него спросили имя и фамилию, имена и фамилии его знакомых — ведь он и сам мог быть убийцей — и лишь после допроса горничной позволили ему уйти.
V. НАДЕЖДЫ И СОМНЕНИЯ
В полном смятении, почти не помня себя, дон Лотарио устремился к аббату Лагиде. Однако слуга объяснил, что аббат, получив приглашение, около часа назад отправился на званый вечер. Молодому человеку ничего не оставалось, как уйти ни с чем. Шагая по улице Гран-Шантье, он приблизился к дому, где жила Тереза. Ему почудилось, что в ее окнах горит свет. Неужели именно он будет первый, кто сообщит ей о гибели подруги? Нет, это невозможно! При повышенной возбудимости и болезненной впечатлительности молодой девушки приходится остерегаться, сообщая ей о таком несчастье. Иначе снова можно сделаться невольным свидетелем тягостной сцены, вроде той, какую он застал во время своего первого визита. А этого он не хотел.
Когда он не спеша проходил мимо хорошо знакомого теперь дома, из парадной вышли двое мужчин. Холод заставил их плотнее закутаться в свои плащи. Шагали они довольно медленно и не придавали значения тому, что дон Лотарио — впрочем, без всякого умысла — шел следом. Судя по походке и по одежде, оба спутника были светскими людьми.
— Ни одного фиакра поблизости! — заметил один. — Жаль! Придется идти пешком!
— Тем лучше! — ответил другой. — Я бы с удовольствием прогулялся, чтобы согреться! Ну, что вы скажете об этом графе Аренберге?
— Или его самого надули, или он — мошенник! — ответил первый, что был пониже ростом; акцент выдавал в нем парижанина и безусловно образованного человека. — Знаем мы эти истории!
— Что вы! — возразил высокий. — Граф богатый человек, не так ли? Или я ошибаюсь?
— Судя по тому, что мне приходилось слышать, он богат, — ответил первый. — Я вовсе и не хотел сказать, что он обманывает ради собственной выгоды.
— Граф Аренберг богат, и это для меня главное, — отозвался высокий.
— Кстати, вскоре он покинет Париж, он сам вам заявил. Так что́ вам в нем проку?
— Вполне достаточно, ибо и я не намерен оставаться в Париже. Я тоже отправлюсь в Германию!
— Бррр! Впрочем, как вам угодно. Пусть каждый идет своей дорогой. Кстати, я очень вам благодарен за то, что вы познакомили меня с графом. Он знает аббата Лагиде, а если с его помощью я войду в круг знакомых аббата, мне больше нечего и желать. Лагиде — весьма известное и влиятельное лицо в Париже.
Этот разговор, невольным свидетелем которого сделался наш герой, заинтересовал его с самых первых фраз. Он по-прежнему держался поблизости от собеседников, которые разговаривали настолько громко, что молодой человек без труда разбирал каждое сказанное ими слово.
— Вот и держитесь своего аббата, мне это по душе. А я примусь за графа! — сказал высокий. — Кстати, как вам понравилась та бледная молодая особа, что была у него некоторое время?
— Мила, но не более того! — ответил тот, что пониже. — Не знай я, что граф весьма состоятельный человек, я принял бы ее за приманку. Мне кажется, ее страдающие глаза не оставят равнодушными эксцентричные натуры. Может быть, она его любовница, ибо и святые не без греха!
Оба расхохотались. Дон Лотарио почти раскаивался, что последовал за ними, — так больно задел этот смех его израненное сердце. Сказать такое о девушке, которую он так пылко любил! Как могло случиться, чтобы и граф, и Тереза водили знакомство со столь недостойными людьми? Неужели граф так плохо знает свет, что стал жертвой тех, кто намерен использовать его религиозный фанатизм в сугубо мирских целях?
Ему захотелось увидеть лица обоих, чтобы опознать их, доведись случайно встретиться с ними у графа. На это у него была еще одна причина. Всякий раз, когда говорил высокий, испанцем овладевало своеобразное ощущение: так бывает, когда слышишь как будто бы уже знакомый голос, но не знаешь наверное, кому он принадлежит. Дон Лотарио прибавил шагу и, заметив, что незнакомцы собираются свернуть в переулок, на углу которого стоял фонарь, перешел дорогу и получил возможность отчетливо разглядеть их лица.
Того, что пониже ростом, он не знал: это оказался незнакомый ему человек с тонким умным лицом. Рослого же опознал сразу, несмотря на высоко поднятый воротник его плаща: перед ним был не кто иной, как его ночной гость Рабласи.
Испанец решил предостеречь графа. Подобный субъект мог являться к Аренбергу лишь с недобрыми, корыстными намерениями. Молодой человек слышал, как мы убедились, о замыслах негодяя. При одной только мысли, что Тереза могла общаться с подобным типом, его бросило в дрожь.
Улицы вдоль Сены стали более многолюдными, и испанец потерял обоих злоумышленников из виду. Углубившись в их поиски, он очутился вскоре возле Пале-Рояля. Он вспомнил, что как раз сегодняшним вечером там опять собирается общество молодых людей для игры в карты.
Уже недели три, с того самого вечера, когда познакомился с Терезой, дон Лотарио не был в Пале-Рояле. Да и вообще он редко видел своих знакомых. Но сейчас он ощутил острую потребность очутиться среди людей. Ему не хотелось оставаться наедине со своими невеселыми мыслями, и он вошел в здание. Служители уже знали его и пропустили в комнату, где шла игра.
Первым, кого он увидел, был Лупер, сидевший за игорным столом. Испанец в ужасе отшатнулся. Ему показалось, кровь застыла у него в жилах. Здесь находился человек, каких-нибудь полчаса назад убивший собственную мать, — человек, которого нисколько не тяготило совершенное преступление и не страшило наказание, что могло настигнуть его в любую минуту.
Дон Лотарио готов был броситься к Луперу, сбить его с ног и затем передать в руки правосудия. Но он удержался от этого естественного порыва. Ему хотелось посмотреть, до каких же пределов могут дойти гнусность и бесстыдство этого чудовища! Ведь его послали познавать жизнь во всех ее проявлениях; что ж, прекрасно! — он намерен понаблюдать, как убийца ищет спасения от собственной совести, он готов заглянуть в самую мрачную, самую отвратительную бездну.
— Добрый вечер, господа! — сказал он, взяв себя в руки и изобразив на лице беззаботную улыбку. — Как ведет себя госпожа Фортуна?
— Как всегда: по своей близорукости не замечает самых достойных! — ответил Шато-Рено, слывший немного тщеславным. — Я проиграл десять тысяч франков. Сегодня Лупер в выигрыше. Берегитесь, барон, вас ждут неприятности! Удача на бирже, везение в игре — так долго продолжаться не может! Подумайте о будущем!
Нетрудно было догадаться, что внезапное повышение своей кредитоспособности Лупер приписал удачным спекуляциям на бирже. С некоторых пор он проматывал огромные суммы, поэтому и в описываемый нами вечер вновь получил доступ в Пале-Рояль.
— Утешьтесь, граф! — отвечал барон. — Как только наберу денег на дорогу, так и выйду из игры.
— Вы собрались уезжать? Куда же? — поинтересовался Бошан. — Разве игра на бирже более не удерживает вас в Париже?
— Отнюдь, дела призывают меня в Лондон. Возможно, я уеду уже завтра утром, — ответил барон.
— Вы так бледны и серьезны сегодня, дон Лотарио, — заметил Франц д’Эпине.
— Я прибыл из дома смерти, — ответил Лотарио. — Из дома баронессы Данглар, которую только что нашли убитой в своем будуаре.
Все изменились в лице. Бывший возлюбленный баронессы, Люсьен Дебрэ, вздрогнул, глубоко потрясенный этим известием. Лотарио обвел взглядом всех, кто находился в комнате. Невозмутимым оставался лишь Лупер, который даже не побледнел.
— Она убита? Боже мой! Это ужасно! — вскричал Бошан. — А кем? Вам известны подробности?
— Убита человеком, который однажды уже был у нее ночью. Он требовал, чтобы она приняла его и сегодня. Ему удалось бежать. На визитной карточке, открывшей ему доступ к баронессе, было указано его имя — барон де Лупер.
— Лупер! — Все взоры обратились к барону. Он казался удивленным.
— Черт побери! — воскликнул он. — Что вы там такое говорите? Барон де Лупер — ведь это мое имя! Должно быть, какой-то негодяй воспользовался моим именем! А вы не ослышались, дон Лотарио? Вы не ошибаетесь?
— Думаю, нет, — ответил без колебаний испанец. — Его имя было Лупер.
— Но почему, за что? — продолжал допытываться Франц д’Эпине. — Убийство с целью ограбления? Месть?
— Убийство сопровождалось ограблением, — уточнил дон Лотарио. — Недосчитались двадцати тысяч франков и ценных бумаг. Это преступление тем ужаснее, что Лупер, кажется, близкий родственник баронессы!
— Родственник?! — спросил потрясенный Люсьен Дебрэ.
— Вы ведь помните того Бенедетто, лжекнязя Кавальканти?
— Конечно! — послышалось со всех сторон. — А какое он имеет отношение к этому убийству? Где он?
— Он — это и есть барон де Лупер — сын баронессы! Я стал невольным свидетелем этого преступления. Но если что и потрясло меня, то не столько само убийство, сколько наглость убийцы! Да, господин де Лупер — Бенедетто…
Голос молодого человека дрожал от гнева. Он был в возбуждении. Он искал глазами убийцу.
— Где же он? Где Лупер? — вскричал дон Лотарио. — Лупер — убийца!
Наступило всеобщее замешательство. Лупера и в самом деле в комнате не оказалось. Он воспользовался минутой, когда все взгляды были прикованы к дону Лотарио, чтобы улизнуть. За ним бросились вдогонку, но он успел покинуть Пале-Рояль.
В этот вечер игра уже не возобновлялась. Дон Лотарио вместе со своими знакомыми направился на улицу Оноре, по пути рассказывая им об обстоятельствах убийства. Именно на этой улице жил в последнее время Лупер. Когда они подходили к дому, где снимал квартиру барон, их внимание привлекли толпившиеся полицейские. Часть полицейских орудовала и в квартире лжебарона. Видимо, Лупера еще не схватили.
Было уже далеко за полночь. Лотарио немного успокоился и, усталый, вернулся домой.
Наутро его вызвали в полицейский участок, где ему пришлось повторить свои показания. Он поинтересовался, удалось ли задержать Лупера. Ответ был отрицательный. Вся парижская полиция была поднята на ноги. Ходили слухи, что преступник пока в столице.
Дон Лотарио все еще не отваживался пойти к Терезе. Он знал, что за это время до нее дошло известие о гибели баронессы, и отчетливо представлял себе, как она потрясена. Это побудило его вначале заглянуть к аббату Лагиде.
Аббат оказался дома. Когда Лотарио вошел к нему в кабинет, аббат писал, сидя за столом. Лагиде выглядел мрачнее обычного. Длинные волосы в беспорядке спускались на его плечи. Аббат был уже стар. На его лице явственно проступали следы долгих раздумий и склонности к меланхолии и в то же время следы страстей, не утихших даже с возрастом. Худая рука аббата лихорадочно двигалась по бумаге; в той поспешности, с какой он водил пером, словно в зеркале, отражалась его мятущаяся, никогда не ведающая покоя душа. Вместе с тем в его облике было нечто возвышенное, нечто притягательное. У Лагиде было лицо мыслителя.
— Мой милый Лотарио, — сказал он печально. — Вы знаете, что госпожа Данглар мертва. Говорят, вы даже присутствовали при этом ужасном злодеянии. Вы уже говорили с Терезой?
— Нет, — ответил молодой человек. — Но я полон сочувствия к ней: она лишилась единственной подруги.
— Ужасно! — сказал аббат. — Садитесь, сын мой! Расскажите, что вам известно обо всем этом!
Дону Лотарио ничего не оставалось, как удовлетворить желание аббата, хотя ему очень не хотелось воскрешать в памяти столь неприятные воспоминания.
Аббат мрачно выслушал рассказ испанца, ни разу не прервав его.
— Похоже, над иными семьями тяготеет рок, — заметил он. — Этот Данглар — вначале простой моряк, затем — благодаря подлости, хитрости и обману — один из богатейших людей Парижа и в конце концов банкрот и бедняк. Его дочь бежала, а теперь жертвой преступления стала и госпожа Данглар, которая ни в чем не виновата и, несмотря на свою ошибку, была славной женщиной!
Он подпер голову рукой, и на его изборожденном морщинами лице появилось выражение тяжкой задумчивости.
— Бедная Тереза! — продолжал аббат. — Это будет для нее тяжелым ударом. Впрочем, и ей самой суждено страдать. Позвольте, однако, спросить, что привело вас в столь позднее время к госпоже Данглар?
Дон Лотарио сперва колебался, следует ли ему вполне довериться аббату. Правда, если сам он не осмеливался обратиться к Терезе, после гибели баронессы у него не осталось никого, кроме Лагиде, кого бы он мог посвятить в свою тайну. Да и что, в конце концов, в этом дурного? Аббат, безусловно, умеет хранить секреты лучше, чем госпожа Данглар.
Вдобавок молодому испанцу очень хотелось поделиться тем, что переполняло его душу. Поэтому он решился и рассказал аббату все то, о чем говорил с баронессой. В его словах было больше пыла, чем накануне вечером, — ведь он говорил с человеком, который, как утверждали, и сам предавался страстям. Лотарио клялся, что безумно любит Терезу, что она должна принадлежать ему.
И на этот раз аббат слушал его невозмутимо: на его бледном лице не отражалось ни удивления, ни сочувствия.
— Мой дорогой друг, — сказал он, — а вы проверили свое сердце? Вы уверены, что это настоящее чувство?
— Я знаю это! — вскричал Лотарио. — Без Терезы моя жизнь пройдет бесцельно!
— Что ж, если ваша любовь так крепка, она выдержит и испытание временем. Я не могу вселить в вас особой надежды, Лотарио: я еще не до конца проник в душу Терезы, но думаю, что она пока не питает к вам того чувства, которого вы жаждете. Впрочем, я поговорю с графом Аренбергом. Если кому и ведома душа Терезы, так это графу. Он мне скажет, не говорила ли она ему хотя бы намеками о своей благосклонности к вам.
Здесь аббат заметил, в какое уныние привели дона Лотарио его слова, и спохватился.
— Будьте мужественны и не теряйте надежды! — добавил Лагиде потеплевшим голосом. — Советую вам не прекращать своих визитов к Терезе. Ваше поведение должно оставаться неизменным. Впрочем, это вполне естественно, тем более что Тереза сейчас слишком взволнована, слишком опечалена смертью баронессы, чтобы думать о чем-то другом. А теперь приступим к работе! Даже жизненные перипетии не могут помешать труду и нашему стремлению к совершенству!
Говоря о работе, аббат имел в виду своеобразную лекцию, которую прочитал молодому человеку. Он посвятил ее истории развития человеческого рода, расцвету и гибели различных народов и государств, изменениям религиозных воззрений и политических взглядов. Аббат говорил с таким пламенным красноречием, так увлекательно описывал события, что дон Лотарио и на этот раз почти избавился от своей угнетенности. За отчаянными битвами и борениями человеческого духа, ранее потрясавшими мир, он забыл о собственных страданиях: на фоне этих грандиозных событий они показались ему мелкими и ничтожными. Обретя утешение, погруженный в раздумья о минувших временах, испанец распрощался со своим наставником.
На следующее утро он наконец решился вновь навестить Терезу. Когда он поднимался по лестнице, сердце у него колотилось сильнее обычного. Его тайна принадлежала теперь не только ему: и аббат и граф, если и не разгласили ее, могли намекнуть, что она существует. Однако наш герой намеревался не терять хладнокровия или по крайней мере ничем не выдавать своего волнения. Он сознавал, что аббат прав. Как он осмелился сразу же претендовать на ответную любовь такой девушки?
В тот день опасения и ожидания дона Лотарио были напрасными. Горничная передала ему слова своей госпожи: она просит извинить ее — она слишком нездорова и удручена, чтобы говорить с ним. Пусть он навестит ее в один из ближайших дней: только почувствовав себя лучше, она сможет выслушать рассказ о последних минутах баронессы.
Молодой человек покинул дом Терезы со смешанным чувством удовлетворения и недовольства, а остаток дня посвятил попыткам развеять свою тоску и забыться.
Наутро он вновь явился на улицу Гран-Шантье. Он не видел Терезу целых три дня, которые показались ему вечностью.
— Мадемуазель Тереза принимает? — осведомился молодой человек у портье.
— Нет, сударь, она уехала вместе с графом Аренбергом.
— Уехала?! Это невозможно! Куда же? — подавленно спросил дон Лотарио. — В Версаль или еще куда-нибудь поблизости?
— Нет, сударь, насколько мне известно — в Германию, — ответил портье.
Дон Лотарио застыл как вкопанный. Он никак не мог осмыслить услышанное. У него замерло сердце. Тереза уехала? Покинула Париж? Неужели ему не суждено ее больше увидеть? Пусть даже разлука не навсегда, пусть надолго — нет, это невозможно!
Спустя несколько минут он снова был у аббата, который встретил его, как обычно, с присущим ему спокойствием.
— Что с вами? — спросил Лагиде, увидев бледного, запыхавшегося молодого человека. — Какое-нибудь несчастье?
— Увы! Хуже не бывает! Тереза уехала — уехала в Германию! Это правда или меня обманывают?
— Обманывают? Кому придет в голову обманывать вас? Я сам был чрезвычайно удивлен, когда сегодня утром граф и Тереза заехали ко мне попрощаться. Ночью Тереза надумала покинуть Париж, который теперь сделался ей невыносим. Она больна. Граф надеется, что на родине, в Германии, ей будет лучше. Тереза и граф просили меня передать вам немало добрых слов. Они твердо надеются увидеться с вами в Берлине.
Дон Лотарио опустился на стул.
— А что граф? Вы говорили обо мне с графом? — спросил он сдавленным голосом.
В ответ Лагиде кивнул.
— Граф был со мной совершенно откровенен. Тереза неизменно отзывается о вас с симпатией и дружелюбием. Но ни малейших признаков того, что в ее душе зреет ответное чувство к вам, он пока не замечал. Кстати, граф того же мнения, что и ваш покорный слуга: такой человек, как вы, непременно завоюет любовь Терезы, если оправдает надежды, что на него возлагают. Разве это не достаточное утешение?
— Ничего себе утешение для отчаявшегося!
Подобно всем влюбленным, дон Лотарио не усматривал в этом отъезде ничего, кроме тщательно продуманного намерения молодой женщины уклониться от его домогательств.
— К сожалению, мне придется напомнить вам еще кой о чем, — продолжал аббат. — Срок вашего пребывания в Париже истек, вы задержались даже больше положенного. Жаль расставаться с вами, но…
— Мне пора уезжать, я знаю! — с горечью заметил испанец. — Ведь я чувствую себя ребенком, с которым не грех и позабавиться!
— Если вы смотрите на добрые намерения лорда Хоупа глазами ребенка, то глубоко заблуждаетесь, — возразил аббат. — Вспомните, что сделал для вас лорд, и задумайтесь над тем, что только на пути, им предначертанном, вы сможете добиться руки Терезы! Лорд задумал сделать из вас мужчину! Так будьте им!
— Где ты, тихая моя гасиенда? — вздохнул дон Лотарио. — Хорошо, я уеду. Париж и так стал мне ненавистен! Три месяца в Лондоне, а потом — в Берлин или… нет, никогда!
Он покинул аббата, не простившись. В его душе впервые шевельнулся дух противоречия, протеста против сил, бросивших его в далекий незнакомый мир. Он чувствовал себя игрушкой в чужих руках. Но уже сами эти мысли свидетельствовали о пробуждении в нем самостоятельности.
На следующий день он отправился в Лондон.
VI. ОСТРОВ НА БОЛЬШОМ СОЛЕНОМ ОЗЕРЕ
— Куда он запропастился? Ведь должен же он быть на этом острове! Пора наконец вывести его на чистую воду!
— Пора, черт возьми! С тех пор как он стал корчить из себя отшельника, не выношу его больше! Похоже, он вовсе и не думает о нас! Ну, погоди, парень, от нас не уйдешь!
— Чертовски неудобная тропинка, клянусь Моисеем и пророками! Не отыщешь местечка, чтобы без опаски поставить ногу! Такое испытание не для меня. Дай-ка руку, брат Хиллоу! Вот так!
Путники продолжали карабкаться вверх. Это были наши старые знакомые — мормоны: доктор Уипки и кряжистый кентуккиец Хиллоу.
— Постой! — воскликнул вдруг Уипки, до этого беспрестанно кряхтевший и стонавший. — Здесь, пожалуй, можно перевести дух. А какой, в самом деле, чудесный вид открывается отсюда! Наш братец не так глуп. Впрочем, он мог бы заняться кое-чем получше, чем отыскивать такие красоты!
Доктор отпустил руку Хиллоу, оперся на свою палку и обвел беспокойным взглядом представшую перед ним панораму. Как уже упоминалось, оба мормона находились на острове. Под ногами у них, далеко внизу, виднелась весельная лодка, на которой дюжий Хиллоу доставил доктора Уипки. Их взорам открылся вовсе не бескрайний океан, а всего лишь большое озеро. Однако его можно было принять за море, потому что к северу и западу его берега отступали на много миль. Но в том месте, где располагался остров, озеро было узким, и отчетливо виднелся ближайший его берег — южный. Восточный берег находился всего в каких-нибудь двух тысячах шагов, и на нем особое внимание привлекали к себе явные признаки будущего города: белые стены, деревянные дома, а кое-где уже и красные черепичные крыши. К северу от острова, где высадились мормоны, из вод озера поднимались еще несколько островов, более крупных. Они были покрыты скалами, как и тот, где происходили описываемые нами события. На одном из островов скалы достигали немалой высоты, почти в две тысячи футов, а на том, куда Хиллоу доставил Уипки, они были, пожалуй, немногим ниже. К озеру — Большому Соленому озеру — со всех сторон подступала равнина, окруженная высокими горами. Более всего она простиралась к югу, там с недавних пор и осели мормоны, положив начало так называемому государству Дезерет, что в переводе с древнееврейского означает «Страна медоносных пчел». Равнину покрывала прекрасная трава, деревьев же, напротив, нигде не было видно, только кое-где встречались кусты хлопчатника. Скалы острова местами тоже поросли кустарником. Вдоль долины змеилась небольшая река — мормоны нарекли ее Иорданом, а строящемуся городу дали название Новый Иерусалим.
— К вашим услугам, господа! — услышали вдруг мормоны у себя за спиной знакомый голос. — Похоже, вы надумали разок порадовать меня?
— Черт побери, да вот же он! — обрадовался Уипки. — Здравствуй, Вольфрам! Как дела, мой мальчик?
— Неплохо! — кратко ответил тот, протягивая руку мормонам. — Что нового в городе? Надеюсь, все в порядке?
— Не мешало бы тебе самому в этом убедиться! — заметил Хиллоу. — Хватит торчать на этих скалах!
— Так скажи нам, чем ты тут занимаешься? — спросил доктор. — Или тебе по душе разыгрывать из себя Робинзона?
— Может быть, — ответил Вольфрам, — мне просто нравится одиночество, только и всего!
— Хм, так может рассуждать только эгоист! — с укоризной сказал Уипки. — Братья нуждаются в твоих услугах!
— Не знаю, что такое «эгоист», — добавил Хиллоу, — но ты, пожалуй, пригодился бы нам в городе.
— Сдается мне, я покуда сам себе хозяин и могу находиться там, где мне заблагорассудится. Скажите прямо, вам поручили вернуть меня?
— Поручили? Отнюдь! — возразил Уипки. — Мы явились по своей воле, как твои лучшие друзья. Смотри, чтобы тебя не изгнали из общины! Что будет тогда с твоей невестой?
— А что с ней может быть? Станет моей женой — только и всего!
— Как сказать! Ты так долго не появляешься, что она может и передумать, — предостерег Уипки. — Последнее время она и так поглядывала на тебя не слишком нежно — не то, что раньше. А если объявится кто-то другой, более ласковый…
— Хватит болтать, черт возьми! — в ярости воскликнул Вольфрам. — Ты решил разозлить меня? Если так, клянусь Богом, ты у меня искупаешься в соленой воде!
— Похоже, одиночество не научило тебя вежливости, — холодно и невозмутимо ответил Уипки. — Хоть ты и угрожаешь мне, послушай дальше. Скажу тебе все как есть. Женщин среди нас немного, поэтому, если ты сам не возьмешь в жены «невесту мормона», ее отдадут за другого.
— Еще не легче! — с горечью сказал Вольфрам. — Как бы вам ни было жаль, я женюсь на ней. И никому не советую становиться мне поперек дороги! Впрочем, это никому и не удастся, даже тебе, ученый доктор!
— Скажу по секрету, если ты не вернешься в общину и не возьмешься за ум, твоя возлюбленная достанется другому. Нам нужны жены, а француженка очень недурна.
— Оставь меня в покое! — сказал Вольфрам, презрительно улыбаясь.
Доктор вместе с Хиллоу отправились восвояси. Казалось, и кентуккиец не в восторге от этой встречи. Он был угрюм и недоволен тем, что такой молодой и крепкий парень тратит время на всякие чудачества, когда в Новом Иерусалиме каждая пара рук на счету. Между тем Вольфрам взобрался на выступ и оттуда провожал взглядом уходящих мормонов. Скрестив руки на груди, он с каждой минутой хмурился все больше, пока его брови окончательно не сошлись на переносице. Он был красив какой-то мрачной красотой, словно падший ангел.
— Он сказал «пригодился бы»! Как будто я мог там пригодиться! Они считают, что я мог быть там полезным! — сорвалось с его губ, искривленных в презрительной усмешке. — Глупцы! Что вы называете полезностью, в чем для вас смысл жизни? Тебе, Хиллоу, неважно, чем заниматься: валить лес в Огайо или Миссури или возводить город мормонов здесь, в Новом Иерусалиме. А ты, Уипки, лицемер и негодяй, и тебя не было бы среди нас, будь мы такими кроткими, благочестивыми и честными, какими, по твоим словам, должны быть! Вам угодно изгнать меня; ну что же, мне все равно, я даже буду рад! Вашей глупостью я сыт по горло! Дурачьте кого хотите, но только не меня!
Он уже умолк, а гримаса презрения все еще кривила рот. Лишь спустя некоторое время лицо его вновь сделалось серьезным и строгим.
«Что он там болтал об Амелии, — думал Вольфрам, — правду или ложь? Нужно с ней поговорить. В конце концов, у мормонов она по моей вине. Если я кому и сочувствую, так только ей. Она, конечно, утешится, если я ее оставлю. Но по крайней мере надо спросить ее, не могу ли я чем-то помочь!»
Он взглянул на солнце — оно уже скрылось за скалами в западной части острова. С севера на озеро опустились голубоватые сумерки.
— Пора! — решил Вольфрам. — Отправлюсь в город, может быть, в последний раз!
Он медленно спустился со скалы. В укромной бухте у него была спрятана лодка с одним веслом. Молодой человек вставил весло в кормовую уключину — так, как это делают матросы в гаванях, — и, быстро работая этим веслом, направил лодку к восточному берегу озера.
VII. АМЕЛИЯ
Вольфрам медленно шагал по поселку, старательно обходя те места, где его могли заприметить. Ни разу он не взглянул на освещенные окна и на людей, сидевших после трудового дня перед своими домами. Не интересовали его и те, кто в домах. Наконец он остановился, шагах в пятидесяти, недалеко от большого рубленого дома. Его обитательницы были стары, больны или слишком некрасивы, чтобы рассчитывать на замужество. Здесь же находилась и Амелия де Морсер, хотя и не принадлежала ни к одной из перечисленных категорий.
Комната, где она сидела, подперев рукой голову, освещалась одной-единственной свечой, дававшей весьма скудный свет. Ее жилище было так скромно, что даже искусные руки и тонкий вкус молодой француженки оказались не в силах создать в нем хотя бы минимальный уют.
Уже на следующий день после того, как она побывала на горе Желаний, какой-то человек, которого она прежде никогда у мормонов не встречала, передал ей письмо лорда.
«Не думайте, мадемуазель, — писал лорд, — что я намеренно решил причинить Вам боль и страдание. Я вполне сочувствую Вам и сознаю Ваше положение. Однако повторяю Вам то, что уже говорил. Ваше пребывание у мормонов должно содействовать достижению определенной цели, которая, верю и надеюсь, полезна и для Вас. От любой опасности Вас защитят мое обещание и человек, который вручит Вам это письмо. Вам даже нет необходимости посвящать его в свои заботы и сомнения. Он получил мои распоряжения и будет охранять Вас, причем Вам не надо специально обращать его внимание на то или иное обстоятельство. С Вольфрамом держите себя так, как подскажет Вам сердце. Уверен, час Вашего избавления от мормонов недалек».
С тех пор Амелия нередко встречала человека, передавшего ей послание лорда. Однако он никогда не подходил к ней, не говорил ей ни слова. Было ему лет тридцать, с виду похож на мастерового. Открытое, умное лицо и приветливые глаза внушали доверие. В колонии знали, что он прибыл от лорда Хоупа. Ходили слухи, что лорд разрешил ему примкнуть к мормонам. Он оказался весьма усерден и искусен в своем ремесле и успел заслужить уважение колонистов. Звали его Бертуа, утверждали, что он француз.
Между тем Вольфрам уже стоял перед домом, задумчиво поглядывая на освещенное окно под самой крышей. Он знал, что эта комнатка, где пока еще горел свет, принадлежит его возлюбленной. Ему не терпелось убедиться, что она еще не спит. Рядом с ним, на холме, возвышался флагшток, на котором по праздникам мормоны поднимали свой флаг. С обычной легкостью Вольфрам быстро вскарабкался наверх и теперь мог беспрепятственно заглянуть в окно молодой француженки.
Он долго не мог оторвать от нее глаз, крепко обхватив руками мачту флагштока. Амелия выглядела такой бледной, а при свече казалась бледнее обыкновенного. Как прекрасны были ее золотистые локоны — те самые, которые некогда пленили его своими очаровательными кольцами! Ведь это она та, что так доверчиво последовала за ним через океан, та, что видела в нем свою единственную поддержку и опору! Пожалуй, ему прежде следовало избавиться от охватившей его сентиментальности, однако сердце его сделалось мягче обычного, а в душе шевельнулось неясное ему самому обидное и горькое чувство.
Амелия поднялась, пригладила свои длинные волосы и отошла от стола. Движения ее были усталыми и неспешными.
— Нужно торопиться, пока она не легла! — сказал Вольфрам сам себе и проворно соскользнул наземь.
Несмотря на царившую свободу нравов, закон мормонов запрещал мужчинам входить в этот дом без сопровождения особы женского пола. Вольфраму же не терпелось поговорить с Амелией наедине.
Он постучал в дверь и попросил старуху, выполняющую обязанности служанки, вызвать Амелию.
Спустя несколько минут на пороге появилась стройная фигурка в светлом плаще.
— Это я, Амелия! — прошептал Вольфрам, стараясь не выдать охватившего его волнения. — Я взял на себя смелость побеспокоить вас. Могу я просить вас выслушать меня? Дайте мне вашу руку!
Раньше они обращались друг к другу на «ты». Мгновение Амелия колебалась, затем протянула Вольфраму руку.
Ни слова не говоря, Вольфрам увлек ее за собой. Так они миновали поселок, где уже начал стихать дневной шум, и перед ними открылся небольшой лесок. Мормоны с гордостью именовали его Новоиерусалимским парком и поставили в нем несколько скамеек. Туда и направлялись Вольфрам с Амелией. На юго-западе взошла над горами молодая луна, и ее дрожащий матовый свет изливался на тихую, умиротворенную землю. Вся природа словно погрузилась в мечтательный сон.
Молодой человек уселся на одну из скамеек. Амелия нерешительно опустилась рядом с ним. От холода или от волнения ее охватила дрожь, и она плотнее закуталась в свой плащ.
— Амелия, — сказал наконец Вольфрам, — пришло время признаться: мы обманывали друг друга.
— Обманывали? — повторила француженка своим красивым мелодичным голосом, не в силах скрыть дрожь. — Обманывали? Если кто-то из нас двоих и был обманут, так это только я!
— Пожалуй, не совсем, — сказал Вольфрам, прилагая все силы, чтобы говорить как можно спокойнее и хладнокровнее. — Я тоже обманулся в вас, Амелия. Когда мы познакомились в Париже, я думал, что вы созданы для жизни, полной приключений, что вы способны найти выход из любого положения. Поэтому я и предложил вам связать наши судьбы. Тогда я не предполагал, что вы способны бездумно следовать старым предрассудкам и доводить до крайности нелепые идеи. Я предлагал вам стать моей женой — правда, согласно обычаям мормонов. Ну что поделаешь: с волками жить — по-волчьи выть. Я не вправе требовать, чтобы мормоны сделали для меня исключение.
— Это я признаю, — спокойно сказала Амелия. — Но я была вольна не давать своего согласия. Что я и сделала и сделаю впредь. Я не собираюсь быть любовницей — я хочу стать женой, не вашей женой, Вольфрам, об этом я и думать забыла. Кроме того, я не видела безусловной необходимости в ваших поступках. Для энергичного, деятельного человека в Америке достаточно возможностей. Не обязательно продавать душу и тело этим мормонам. Даже в последнее время вы были вольны расстаться с ними. Но вы не хотите. Вам наскучила такая жизнь, вам опостылела даже работа. Вы перестали беспокоиться и обо мне. Я даже догадываюсь, почему вы разыскали меня сегодня. Жить среди мормонов вам больше не по вкусу: слишком мало ярких впечатлений, слишком много однообразия. Вы намерены покинуть их, и тут вы, вероятно, вспомнили, что в Америке я оказалась именно из-за вас. Поэтому вы сочли своим долгом сказать мне, что в самом скором времени мне придется жить среди этих людей совершенно одной.
Вольфрам ответил не сразу: Амелия с удивительной прозорливостью заглянула в его душу.
— Я рад, что вы так проницательны и далеки от сентиментальности, — вымолвил он наконец. — Вы угадали мои намерения. Может быть, я и покину мормонов. Но пока это всего лишь предположение, я еще ничего не решил. А что будете делать вы, Амелия, если я оставлю долину Дезерет?
— Что буду делать я? — переспросила молодая француженка, пытаясь унять дрожь в голосе. — Разве вы интересовались, чем я занималась последнее время? И впредь мне придется самой заботиться о себе.
— Верно, — кивнул Вольфрам. — Но ваше положение изменится. Вам известны обычаи мормонов. У них не хватает женщин, и вас вынудят выбрать себе мужа.
— Вынудят?! — вскричала Амелия. — Хотела бы я посмотреть на того, кто собирается принудить меня к этому! Я никого не боюсь. Что бы я ни сделала, я сделаю по собственной воле! Пусть вас это не печалит!
— Я и не думаю грустить, — мрачно заявил несколько раздраженный Вольфрам. — Значит, замуж за мормона вы выйдете добровольно?
— Раз я отказала вам, вы заранее уверены в моем отрицательном ответе, — почти насмешливо сказала Амелия. — Однако такая возможность существует. К вам у меня было другое отношение, Вольфрам, совсем другое. Я доверила — вам свое будущее, и вы обещали посвятить мне свое. От мормонов я не вправе такого ожидать, как не вправе и требовать. Когда я буду решать, мне придется считаться с этим.
— Не будь возможности, на которую вы намекаете, я предложил бы вам иное.
— Что ж, говорите. Я выслушаю вас. То, что я высказала вам, — это пока только предположение, и я не собираюсь выдавать его за твердую уверенность.
— Так вот, не согласитесь ли вы покинуть мормонов вместе со мной? Правда, я еще не знаю, пойду ли на это. Да и осуществить такой побег будет нелегко. Мормоны уверены, что я им многим обязан, и будут пытаться удержать меня. Добраться отсюда до ближайших обжитых мест тоже будет непросто. Впрочем, это пустяки! Вы согласитесь сопровождать меня?
— Лишь при одном-единственном условии: как только мы доберемся до города или поселка, вы предоставляете мне средства и возможность вернуться во Францию! Это ваш долг! И, ей-Богу, я требую не так уж много!
— И вы хотите вернуться во Францию без меня? — недовольно спросил Вольфрам.
— Я не стану препятствовать вам сопровождать меня, — холодно ответила Амелия.
— Ну, тогда вам лучше всего остаться здесь! — с горечью сказал Вольфрам. — Я вижу, это самое разумное, что вы можете сделать. Довольно! Я предложил вам бежать, а вы мне отказываете!
— Да, отказываю, если вы сразу же не согласитесь на мое условие! — ответила Амелия.
Вольфрам помедлил, затем порывисто поднялся.
— Пора возвращаться, Амелия! — промолвил он. — И если сегодня мы видимся в последний раз, то прощайте!
— Прощайте, Вольфрам! — Амелия всеми силами старалась сохранить спокойствие. — Желаю вам на новом месте обрести спокойствие, которого вы не нашли со мной, и пусть добрые дела, какими вы, может быть, еще облагодетельствуете своих ближних, избавят вас от угрызений совести. Впрочем, не будем вспоминать об этом!
Вольфрам шел опустив голову, Амелия — рядом с ним. Знать мысли и чувства, обуревавшие молодого человека, она не могла, но, пожалуй, догадывалась. Ее сердце терзали сомнения. Неужели ей и в самом деле не суждено вновь увидеть его? Способен ли он вот так взять и уйти? Прежде она считала это возможным. Прежде — но не теперь. Разве его слова все еще не были полны любви к ней? Но она должна быть спокойной, холодной, непреклонной. Женщине, даже если она страстно влюблена, не следует забывать об осмотрительности. Пылая неподдельной страстью, она обязана казаться равнодушной — по крайней мере в отношении таких натур, как Вольфрам. Амелия чувствовала: если она поддастся ему, то целиком окажется в его власти.
Они молча шли рядом, пока не добрались до дверей дома, где жила Амелия.
— Прощайте же, прощайте навсегда! — сказал Вольфрам. — Прощайте, Амелия! Да благословит…
Однако нечто необузданное, нечто демоническое в его натуре даже в такую минуту не позволяло ему произнести благословение, уже готовое сорваться с губ. Он боялся, что Амелия сочтет его слабым. Он страшился смягчиться, разжалобиться.
— Да благословит вас Бог и да простит вам все, что вы совершили! — твердо произнесла Амелия, как бы желая закончить недосказанную Вольфрамом фразу.
Он еще колебался, однако та же сила, которая заставила его покинуть родину и Европу, — сила, называемая упрямством и эгоизмом, — вновь одержала победу. Он повернулся, быстро зашагал к берегу и прыгнул в лодку. Но спустя некоторое время силы покинули его. Он бросил весло и разразился судорожными рыданиями.
— Все пропало! Она не любит меня больше! — бормотал он, глотая слезы и всхлипывая. — Она презирает меня — и поделом!
Прошло три дня. Вольфрам расположился перед входом в пещеру, служившую ему жильем, на уступе скалы, откуда мог окинуть взором всю водную гладь.
Его лицо разительно изменилось: глаза глубоко запали, щеки ввалились. Впрочем, оно не утратило горделивого и презрительного выражения, однако выглядело намного мрачнее.
Назавтра после посещения острова мормонами и разговора с Амелией прибыл посланец из Нового Иерусалима и официально, от имени пророка и верховного предводителя Бригема Янга, потребовал от молодого человека побороть свою лень и вернуться к братьям. Вольфрам едва удостоил его ответом и лишь в общих словах дал понять, что будет поступать так, как считает нужным.
Со своего наблюдательного пункта он как на ладони видел все озеро, а взгляд его неизменно возвращался к Новому Иерусалиму. Вскоре он заметил небольшое суденышко, которое держало курс на его остров. Когда оно приблизилось, острый глаз Вольфрама разглядел в нем двух человек. Он предположил, что это опять Уипки и Хиллоу. Но не угадал: из этих двоих там был один только Уипки, а второй, вероятно, просто сидел на веслах.
Прошло немало времени, прежде чем Уипки взобрался на скалу. Вольфрам не встал ему навстречу, даже взглядом не удостоил.
— Эй, Вольфрам! — воскликнул Уипки. — Ты что же, решил остаться здесь навсегда?
— Останусь, пока не надоест!
— А тебе известно, кому принадлежит остров?
— Остров? Кому же?
— Мормонам, насколько я знаю, — ответил Уипки.
— Прекрасно, и что отсюда следует?
— Только то, что он — часть территории колонии, а это значит…
— А это значит… договаривай, черт возьми, не тяни!
— …если ты не прекратишь раздражать братьев своим равнодушием и своей ленью, тебе придется его покинуть, — мягко и невозмутимо закончил доктор.
Вольфрам не удержался от презрительной гримасы и с насмешкой взглянул на Уипки.
— Так ты явился сообщить мне о моем изгнании?
— Нет, даю слово! — заверил доктор. — Но братья дуются на тебя. Может быть, от тебя слишком многого ждали и теперь недовольны, что ты не оправдываешь надежд. Ты всюду нужен — ведь наши архитекторы, сам знаешь, немногого стоят! Именно поэтому к тебе будут строги.
— Все? — спросил Вольфрам. — Это мне и самому давно ясно.
— Нет, не все, — продолжал Уипки. — Завтра — воскресенье, и после богослужения будет собрание общины.
— Дальше, дальше, черт побери!
— Дальше будет повенчано несколько пар…
— Это меня нисколько не интересует.
— Как сказать, — усомнился Уипки. — Я слышал, одному из братьев отдадут в жены француженку.
— Француженку?! — переспросил Вольфрам, стараясь не показать волнения. — Кому же именно?
— Не знаю, — ответил доктор. — Вначале мы все, конечно, думали, что ее выдадут за тебя. Но когда ты стал подобным образом демонстрировать всем нам свое пренебрежение, нашлись, разумеется, и другие претенденты.
— Я отказался от нее! — вскричал Вольфрам. — И тебе это давно известно!
— И тебе безразлично, если ее руки будет добиваться другой?!
— Совершенно! Впрочем, назови мне, ради интереса, тех, кто ищет себе невесту в Новом Иерусалиме!
— Во-первых, я сам! — заявил Уипки.
— Ты?!
Вольфрам вскочил, и на его лице появилось столь своеобразное выражение, что Уипки даже испугался.
— Ты удивлен? — спросил доктор. — Но у меня нет супруги, меня уже не раз упрекали за это, и, прежде чем жениться на старухе или уродине, почему не подумать о молодой и красивой француженке? Повторяю тебе еще раз, мне бы это и в голову не пришло, если бы ты еще имел на нее виды. Но коли ты отступился, я не вижу причин… — Уипки запнулся и умолк.
Между тем Вольфрам отвернулся от него и обратил взгляд на спокойную гладь озера.
— Ты прав, совершенно прав, я понимаю! — сказал он ледяным тоном.
Доктор не знал, что и думать о Вольфраме. Весь облик юноши выдавал глубокое волнение, а слова, которые он произнес, звучали бесстрастно и равнодушно.
— Церемония состоится завтра, — добавил Уипки. — Ты придешь?
— Пока не знаю, — ответил Вольфрам. — Я должен все обдумать.
— Но тебя вызывают и по твоему собственному делу, — напомнил ему доктор.
— Мне это известно. Но мой ответ будет прежним.
Проклиная сквозь зубы высокомерного и несговорчивого парня, доктор Уипки отправился восвояси.
На другой день, едва первые солнечные лучи позолотили вершины скал, Вольфрам собрался в путь. Утро выдалось таким ясным и безмятежным, о каком можно только мечтать. Поверхность озера была совершенно гладкой, и в нем отражалось безоблачное небо. Ни один порыв ветра не рябил воду, и сверкающий след от лодки Вольфрама, направлявшейся в Новый Иерусалим, был виден на водной глади до самого острова.
Дом семейства Хиллоу располагался на окраине поселка, и Вольфрам, направляясь туда, мог не опасаться, что будет замечен многими жителями Нового Иерусалима.
Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы добраться до жилища мормона.
В комнате, куда он вошел, было чисто прибрано, и на фоне этой ухоженности истрепанная одежда молодого человека производила особенно неприятное впечатление. Даже дети, казалось, почувствовали это — при появлении нежданного гостя они испуганно попятились, стараясь держаться поближе к отцу. Сам же Хиллоу дружелюбно встал ему навстречу.
— А, брат Вольфрам! — сказал он, протягивая ему руку. — Неужели и вправду решился, да еще в воскресенье?
— Как видишь, — ответил молодой человек. — А тебе известно, почему я пришел?
— Я так понимаю, что должен замолвить за тебя словечко у пророка и старейшин.
— Вовсе нет, — сказал Вольфрам. — Прежде всего, не дашь ли мне на время какой-нибудь костюм?
— Ха! Только и всего? — рассмеялся мормон. — И правда, не в обиду тебе будь сказано, выглядишь ты чертовски оборванным. Иди в соседнюю комнату. Там найдешь мой одежный шкаф. Выбирай что хочешь!
Вольфрам последовал его совету и минут через двадцать появился вновь, но уже совершенно преобразившийся. Хотя Хиллоу был немного пошире его в плечах, зато молодой человек был повыше ростом, а в общем коричневая куртка кентуккийца очень шла ему. К тому же Вольфрам побрился, оставив только небольшие усы.
— Вот это да! Теперь ты выглядишь как настоящий джентльмен! — изумился и обрадовался Хиллоу. — Никогда бы не подумал, что у меня такая хорошая куртка! А теперь пошли в церковь!
— Спасибо тебе! — ответил Вольфрам. — Только я пойду один. И если хочешь сделать мне приятное, не говори пока братьям, что видел меня.
— Как скажешь! — ответил Хиллоу. — Только не натвори новых глупостей!
С таким напутствием молодой человек вышел из дома и некоторое время шагал берегом Иордана.
Вскоре из центра строящегося города до него донеслись звуки веселой музыки. Непосвященного удивила бы подобная музыка, которая, впрочем, оказалась вовсе не плохой. Вольфраму же было известно, что, по обычаям мормонов, верующих, собирающихся на богослужение, следовало встречать именно музыкой.
Под ее звуки Вольфрам добрался до места, где проходили собрания общины. Церкви или, точнее, храма еще не существовало. Но замысел был грандиозен. Сейчас строительство только начиналось, и на месте будущего храма находился лишь простой навес, над которым развевались флаги Северной Америки и какие-то флаги, поднимаемые мормонами по собственному усмотрению. Под навесом люди укрывались только в случае непогоды. А в такие солнечные дни, как этот, верующие обыкновенно располагались прямо под открытым небом, занимая места на длинных скамьях. Скамьи расставлялись полукругом, а в центре возвышался своеобразный алтарь с кафедрой для пророков и проповедников.
В числе собравшихся были, впрочем, не только те триста мормонов, что стояли лагерем у подножия горы Желаний. Следом за ними к Большому Соленому озеру прибыл из Нову Бригем Янг с основной массой своих приверженцев, затем еще несколько отрядов. Мужчины и женщины сидели вперемешку, и в целом собрание являло собой картину, во многом напоминающую религиозные собрания в восточных штатах Северной Америки.
Мужчины, большей частью крепкие, мускулистые, с загорелыми лицами, были, как и женщины, одеты по-праздничному. Среди женщин лишь немногие выделялись привлекательной наружностью, молодые лица встречались еще реже.
Вольфрам, сумевший пробраться незамеченным, окинул взглядом собравшихся. Ему показалось, что в окружении нескольких пожилых женщин сидит Амелия. Потом он устроился на последней скамье со стариками, не знавшими его в лицо. Он пригнулся, подпер голову руками и стал ждать начала богослужения.
Со своего места на кафедре поднялся пророк Бригем Янг, одновременно являвшийся президентом секты, и благословил верующих и их начинание. Фортери, предводитель трехсотенного отряда мормонов, хотя и входил в Новом Иерусалиме только в число старейшин, на деле по-прежнему обладал немалой властью.
Затем мормоны запели псалом на мотив весьма популярной в Северной Америке песни. Пение пришлось Вольфраму по душе.
Один из священников прочитал молитву, в которой, разумеется, были упомянуты догматы веры мормонов. В общем эта молитва мало отличалась от англиканской. Когда он закончил, собравшиеся исполнили еще один мелодичный псалом.
Второй священник прочитал довольно длинную проповедь, весьма удачную и предназначенную для широкой публики. В ней прозвучали общие моральные наставления и призывы к трудолюбию, добросовестности, упорству и терпению. Правда, проповедь оказалась непривычно короткой, из чего можно было заключить, что после богослужения речь пойдет о других делах, как обыкновенно и случалось. Богослужение в Новом Иерусалиме выполняло одновременно роль собрания всех его жителей.
Бригем Янг поднялся вновь и обратился к верующим со следующими словами:
— Сегодня я намерен говорить о серьезных вещах и, поскольку никаких объявлений более не последует, незамедлительно перехожу к делу.
Духовные братья и сестры! Мы назвали этот край, эту обетованную землю Дезерет, что означает «Страна медоносных пчел»! Мы избрали символом нашей веры — истинной веры — улей. Почему? Ответ ясен! Тем самым нам хотелось подчеркнуть, что мы — деятельный народ, что только труд и усердие достойны истинно верующего. Церковь истинно верующих, церковь будущего, нужно создавать непрестанными усилиями всех истинно верующих. Никому не позволено сидеть сложа руки и предаваться праздности!
Духовные братья и сестры! С тех самых пор, как я милостью Божьей и по решению старейшин занимаю мой священный пост, у меня еще ни разу не было причин напоминать вам нашу заповедь, за что я и благодарю Бога. Но сегодня я вынужден это сделать из-за двух человек, которых не вправе назвать верующими, ибо они того не заслуживают.
Первый из них — Вольфрам.
Вы помните, как он пришел к нам в Нову, как радостно все мы приняли его и как верили, что своим усердием и своими талантами он принесет общине немалую пользу. Он дельный человек, толковый архитектор. Такие нам нужны. Вначале он оправдывал все наши ожидания. Но как только мы оказались в Новом Иерусалиме, я с сожалением заметил, что он все больше отходит от нас и пренебрегает своими обязанностями. Он отказался трудиться, забросил порученные ему работы и способствовал их прекращению. Я велел по-дружески напомнить ему о его долге и призвать вернуться к нам. Однако он предпочел уединиться на острове. Наконец, я недвусмысленно потребовал, чтобы он явился сюда и прежде всего предстал передо мной, чтобы я мог еще раз по-доброму побеседовать с ним. Он этого не сделал, следовательно, его здесь нет. Он пренебрег и этим требованием и оказал мне открытое неповиновение.
При этих словах Хиллоу встал во весь рост и принялся рассматривать собравшихся, пытаясь, очевидно, отыскать среди них Вольфрама. Но поскольку тот продолжал сидеть сгорбившись на последней скамье, Хиллоу, несмотря на острое зрение, не удалось его обнаружить, и он с разочарованной миной сел на прежнее место.
— Жаль, что дело зашло так далеко, — продолжал пророк. — Не скрою, я первый признаю талант Вольфрама. Но тем непростительнее с его стороны подавать дурной пример верующим. В то же время мой долг — блюсти чистоту доверенной мне общины, чтобы в ней не завелась паршивая овца! Вот почему в этом случае — пусть он будет первым и последним! — я должен поступить по всей строгости наших законов. Где ты, Вольфрам? — возвысил голос пророк.
Все было тихо. Вольфрам не шевельнулся. Только Хиллоу слова поднялся и с беспокойством огляделся вокруг.
— Его здесь нет! — заявил пророк. — Так вот, опираясь на наши законы и на решение старейшин, я объявляю упомянутого Вольфрама изгнанным из общины! Никогда его нога не ступит на нашу землю, он утратил все права, он лишен покровительства истинной церкви и достоин презрения!
Что касается второго лица, — продолжал Бригем — это спутница Вольфрама, француженка Амелия, которую прозвали «невестой мормона». Она давно уже относится к истинно верующим с неприязнью: отказалась выходить замуж за Вольфрама по обычаям нашей церкви, сторонится нас. Однако заповедь о труде и усердии распространяется у мормонов не только на мужчин, но и на женщин. Мужчина работает топором, мотыгой, лопатой, а женщина должна трудиться по дому, вести хозяйство и быть полезным членом нашего общества. Но этой цели она может достигнуть только в том случае, если она действительно женщина, если она замужем, если она супруга истинно верующего. Француженка молода, она давно пользуется нашим покровительством, ест наш хлеб. Она должна наконец покончить с праздностью и исполнить предназначение женщины.
А первое и единственное предназначение любой женщины — быть хозяйкой дома. Поэтому я призываю собравшихся здесь холостых мужчин объявить, желает ли кто-нибудь из них взять в жены француженку Амелию де Морсер!
Наступило всеобщее оживление. Все с любопытством смотрели на поднявшегося со своего места доктора Уипки. Правда, он был видной, влиятельной фигурой, поэтому можно было предположить, что он просто собирается что-то добавить.
— Ты публично обратился к нам, брат, — заявил он Бригему Янгу, — и нашел в моем лице верующего, который тебя услышал! Я оставался холостяком по собственному желанию, но в последнее время почувствовал, что мое пошатнувшееся здоровье улучшилось и телесные силы возросли. Уже давно мой выбор пал на Амелию де Морсер, и теперь, когда рядом с ней больше нет Вольфрама, она нуждается в чьем-то покровительстве, а мой долг — защищать спутницу моего давнего друга, ибо я все еще считаю его таковым. Поэтому заявляю, что готов взять в жены Амелию де Морсер!
— Ты ничего не имеешь против, сестра Амелия? — спросил пророк.
Француженка встала, окинула беглым взглядом собравшихся мормонов и наконец остановила свой взор на пророке. Ее лицо необычайно побледнело.
— Я хочу кое-что сказать, — с французским акцентом проговорила она своим певучим голосом. — Я знаю, что сестрам позволено выбирать среди нескольких претендентов, а поскольку меня, хотя и против моего желания, причисляют к истинно верующим, я намерена воспользоваться этим правом. Прежде я хочу знать, найдутся ли среди присутствующих здесь холостяков другие желающие взять меня в жены. Спроси их!
— Француженка права, — согласился пророк, меж тем как Уипки быстро оглядел сидящих, словно собираясь выяснить намерения каждого из них.
— Братья! — продолжал Бригем Янг. — Есть ли среди вас еще кто-нибудь, кто претендует на руку француженки?
Пожалуй, почти никто не верил, что у доктора появится хоть один соперник. Холостяков среди мормонов было очень немного, да и влияние Уипки считалось столь значительным, что выступить против него осмелился бы далеко не каждый.
И все же один человек поднялся. Он сидел прямо за Амелией и незаметно для окружающих шепнул ей перед этим несколько слов.
Он был еще молод, а сегодня, в праздничной одежде, выглядел весьма недурно. Открытое загорелое лицо, умные глаза — все располагало к нему.
— Это Бертуа, француз! — пронесся шепот по рядам собравшихся.
Услышав эти слова, Вольфрам впервые поднял глаза. До сих пор он слушал, казалось, безучастно, ибо предвидел, как пойдет дело. Такой поворот событий явился для него неожиданностью. Кто-то выступил против Уипки. Этого Вольфрам не ожидал.
Он взглянул на француза и почувствовал ревность: ему пришлось сознаться самому себе, что этот претендент выгодно отличается от остальных. Прежде он никогда не обращал на него внимания, вряд ли слышал о его появлении у мормонов. Он даже не знал, что француз послан лордом Хоупом, иначе бы возненавидел его.
«Так вот кого имела в виду Амелия, эта предательница! — нашептывал ему голос ревности. — Именно о нем она вела речь. Они сговорились заранее».
— Брат, — обратился к пророку француз, — поскольку ты нас спрашиваешь, я заявляю тебе, что втайне всегда мечтал жениться на своей соотечественнице Амелии де Морсер. Если она примет мое предложение, я буду счастлив предоставить ей очаг и надежный кров!
Глаза доктора Уипки сузились до того, что превратились в крохотные щелки. Он смотрел на Бертуа с явным недружелюбием. Физиономия доктора выражала разочарование и тоскливое ожидание. Вероятно, он, подобно Вольфраму, видел в Бертуа опасного соперника.
— Брат Бертуа пока не давал ни малейшего повода упрекнуть его, — промолвил Бригем Янг, — он, скорее, заслуживает всяческой похвалы и одобрения. Никаких возражений против него я не имею. Есть ли среди вас, братья, еще претенденты на руку сестры Амелии?
Воцарилась мертвая тишина. Больше никто не откликнулся — Уипки и Бертуа оказались единственными кандидатами в женихи.
— Других претендентов нет! — подытожил пророк. — Ну что же, француженке придется выбирать из этих двоих. Брат Уипки — уважаемый человек, имеет перед церковью немалые заслуги. Он часто помогал нам своими советами. Но и брат Бертуа заслуживает признательности. Поэтому ни превозносить, ни хулить любого из них мы не станем. Тебе решать, сестра Амелия!
— Я согласна принять предложение брата Бертуа! — твердо заявила Амелия.
— Змея! Она обманула меня! — пробормотал Вольфрам.
— Прекрасно, тогда отдаем сестру Амелию в жены брату Бертуа! — провозгласил Бригем Янг. — Прошу вас обоих выйти вперед и занять место перед алтарем!
— Постойте! — вскричал Уипки, с трудом скрывая досаду и разочарование. — Постойте! У меня есть еще одно возражение. Церемонию придется отложить! Думаю, я вправе требовать, чтобы меня выслушали!
— Так говори, — согласился пророк. — Никто тебе не препятствует в этом! Какие у тебя резоны?
— Их я могу сообщить старейшинам только с глазу на глаз, поэтому заключение брака прошу отложить, — ответил Уипки.
Несомненно, это была лишь пустая отговорка, и большинство мормонов, видимо, так и подумали. Но доктор Уипки был заметной фигурой в общине, к тому же его побаивались. К мнению доктора нельзя было не прислушаться, и Бригем Янг посовещался со старейшинами.
— Бракосочетание сестры Амелии с братом Бертуа решено перенести на неделю! — сказал в заключение пророк. — До следующего воскресенья мы разберем все причины. Прежде чем разойтись, позвольте благословить вас, братья и сестры! Да ниспошлет Господь вам мир ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Мормоны уже собирались по домам, но их удержало внезапное появление Вольфрама. Молодой человек порывисто вскочил и по проходу между рядами скамей быстро направился к церковной кафедре. Там он остановился; в его позе было столько гордости, столько вызова и презрения, что взоры всех присутствующих с изумлением обратились к нему.
— Сначала кое-что об этой женщине! — с яростью произнес он во всеуслышание. — Она последовала за мной, оставив свою родину, она поклялась мне в верности, а теперь, когда я намерен оставить эту юдоль зла, она отрекается от меня, ибо пресытилась мной и нашла себе другого! Что ж, благодарю вас, Амелия! Вы преподали мне хороший урок женской преданности! Будьте счастливы, наслаждайтесь с вашим будущим супругом, пока ему не придет фантазия взять себе новую жену, а вас оттеснить на второй план. Ради него вы отказали мне. Теперь вы рассеяли все мои иллюзии, и я презираю вас!
Амелия побледнела как смерть. Казалось, в первую минуту она растерялась, смутилась, но потом нашла в себе силы привстать и сказать слабым, но решительным голосом:
— Вы несправедливы ко мне, Вольфрам, и когда-нибудь поймете это!
— А вам, мормоны, — снова повысил голос Вольфрам, — вам, мормоны, я скажу, что меня нисколько не огорчают ваше отлучение и ваше проклятие! Ни сердцем, ни в мыслях я никогда не был с вами. Я пришел к вам, потому что не имел ничего лучшего, потому что мне было безразлично. Я буду жить, где захочу, я буду делать, что сочту нужным, и горе тому, кто осмелится помешать мне! Я все еще прежний Вольфрам и, чтобы проучить любого из вас, не пожалею кулаков. Кто дал вам право судить мои поступки? Разве этот край, эта земля принадлежат вам? Нет, этот воздух, это озеро, эти скалы — все это мое, так же как и ваше! Вы можете мне грозить, но покажите мне того, кто приведет ваши угрозы в исполнение! Так вот, я остаюсь на острове, и кому не жаль головы, пусть явится туда и попробует изгнать меня! Я смеюсь тебе в лицо, избранный Богом народ, я презираю тебя, потому что знаю мошенничество и обман твоих предводителей и детскую доверчивость простых верующих. Похоть, произвол и корысть — вот что связывает всех вас! Вы утверждаете, что вы — честные люди! Скажите об этом кому угодно, но только не мне! Теперь я высказал все, что было у меня на душе! Делайте что хотите, а я стану делать то, что считаю благом. Если жаждете борьбы — будем бороться! Увидим, кто окажется сильнее!
В словах, которые Вольфрам бросил в лицо мормонам, было столько ярости, столько резкости и угроз, что все замерли от ужаса, никто не посмел возразить ему, никто не решился проучить его.
Затем он покинул свое место, но без спешки, медленно и величественно, словно герой, шествующий через толпу восхищенного народа. Да, в этом гордом юноше тлела искра прометеева огня. Какова же будет ее судьба: разгорится из нее благодатное пламя или она положит начало губительному пожару?
Его никто не удерживал. Все со страхом, в полном молчании провожали его взглядом, пока он не скрылся за домами поселка. Но какие бы чувства ни обуревали предводителей общины, что бы ни испытывали сами мормоны — все это не шло ни в какое сравнение с тем отчаянием, какое терзало душу самого Вольфрама.
Тем не менее врожденная гордость придавала ему силы, не позволяя проявить слабость, по крайней мере до тех пор, пока он не укроется от глаз мормонов. Только на берегу, когда он увидел свою лодку, он не смог удержаться от крика и схватился руками за сердце, готовое, кажется, выпрыгнуть из груди.
— Послушайте, что с вами? — услышал он вдруг рядом с собой чей-то голос.
Вольфрам поднял глаза. Он увидел всадника, которого никогда прежде не встречал. Похоже, тот и не был мормоном. Длинные льняного цвета волосы незнакомца ниспадали на широкие плечи; на нем был плащ-макинтош, на ногах высокие сапоги с отворотами. За спиной виднелся большой саквояж, из-за плеча выглядывало длинноствольное ружье, за поясом торчали несколько пистолетов. Широкополая шляпа затеняла лицо неизвестного. Темные глаза несколько контрастировали с белокурыми волосами. Роста он был, пожалуй, выше среднего.
В первую минуту Вольфрам принял его за квакера. Он встречал их на востоке Северной Америки и решил, что этот путешественник, вероятно, из Орегона или граничащих с ним земель. Молодой человек смотрел на неизвестного не слишком дружелюбно: казалось, в его глазах надолго застыло выражение неприязни и презрения.
— Так вот, — сказал всадник, — мне нет дела, отчего вы ревете словно дикий зверь. Допытываться я не собираюсь. Скажите только, что это за селение там впереди?
— Проклятое Богом место, настоящее змеиное гнездо! — с трудом выдавил из себя Вольфрам. — Если вы честный человек, держитесь от него подальше. Если плут — ступайте прямо туда!
— Странная, однако, оценка! — Незнакомец от души рассмеялся. — Змеиное гнездо? Я полагал, что это Солт-Лейк-Сити!
— Он самый! Эти мерзавцы величают его Новым Иерусалимом, — пробормотал Вольфрам. — А следовало бы назвать его Новым Содомом и Гоморрой! Или вы тоже мормон?
— Я? Нет! — ответил всадник — видимо, чистокровный янки: так коверкают английский только заокеанские жители. — Я еду из Орегона к приятелю, который живет в Небраске. Хотелось бы разок глянуть на поселок этих людей. Говорят, они трудолюбивы, как бобры, набожны, как проповедники…
— И лживы, как Иуда! — добавил Вольфрам. — Если вы человек чести и у вас с собой есть деньги, будьте осторожны, чтобы не лишиться и того и другого!
— Слушайте, дружище! — сказал незнакомец, поудобнее усаживаясь в седле в ожидании более обстоятельного рассказа. — Мне еще не приходилось встречать кого-либо, кто бы так дурно отзывался о мормонах. Откуда такая неприязнь?
Вольфраму не терпелось излить душу, а этот квакер был сейчас единственной живой душой, способной спокойно выслушать его. Он оказался внимательным слушателем и лишь время от времени прерывал разгневанного юношу вопросами. Несмотря на кажущуюся простоту, эти вопросы были поставлены так умно, что молодой человек поведал и то, о чем предпочел бы умолчать, — о своей любви к Амелии. И спустя каких-нибудь четверть часа всадник уже знал все, что произошло этим воскресным утром в Новом Иерусалиме. Незнакомцу удалось заглянуть в душу Вольфрама глубже, чем кому-либо другому, а уж тем паче мормонам.
— В том, что вы мне здесь рассказали, веселого и впрямь мало! Однако я намерен увидеть все это собственными глазами. Так вы останетесь тут, несмотря на изгнание из общины?
— Конечно! — гордо ответил Вольфрам. — Хотел бы я посмотреть на того, кто отважится поднять на меня руку! Да они на это и не решатся, эти трусы!
— Что ж, прощайте! — сказал квакер. — Я вижу, вы гордый юноша! Но будьте настороже: здесь вам придется полагаться только на самого себя!
— А с меня этого довольно! — ответил Вольфрам и направился к лодке.
Квакер поскакал в колонию, и пока Вольфрам добирался до своего острова, он уже спрашивал, где живет некий Бертуа.
Похоже, Бертуа единственный мормон, которого он знал. После полудня они вдвоем обошли весь поселок, и незнакомец попросил представить его пророку, с которым имел продолжительную беседу. Вечером того же дня он покинул Новый Иерусалим, и когда расставался с Бертуа, тот с чувством глубочайшего уважения снял шляпу.
— Я в точности исполню все ваши желания, милорд! — заверил он.
VIII. РЕШЕНИЕ
Все последующие дни Вольфрам страстно желал, чтобы мормоны напали на остров и попытались изгнать его оттуда. Тогда он вступит с ними в борьбу и погибнет. По крайней мере это будет смерть, достойная настоящего мужчины!
Он жил, как и прежде, питаясь лишь птичьими яйцами да иногда дичью, если удавалось подстрелить. Свою добычу он жарил на костре в облюбованной под жилье пещере. Он с презрением отвернулся бы от всякой пищи, если бы не мысль о предстоящей борьбе, для которой ему требовались силы.
На исходе недели, что следовала за злополучным воскресеньем, он с немалым удивлением и тайной яростью заметил приближающуюся к острову лодку. Острое зрение позволило ему узнать в человеке, который ловко орудовал веслом, своего соперника, француза Бертуа. С какой вестью пожаловал к нему этот человек?
Лодка пристала к берегу, и спустя несколько минут Вольфрам увидел, как француз карабкается по скалам. При нем было ружье и охотничий нож. Впрочем, молодого человека это обстоятельство ничуть не смутило: мормоны никогда не удалялись от поселка без оружия. Они постоянно опасались нападения индейцев. Кроме того, в случае удачи можно было поохотиться.
Когда юноша смотрел на француза, его взгляд был полон мрачной гордости и презрения. Вопреки ожиданиям, соперник не испытывал перед ним ни смущения, ни робости. Он невозмутимо приветствовал Вольфрама, глядя ему прямо в глаза.
— Простите, что я помешал вам, господин Вольфрам!
— Придется простить, — недовольно ответил молодой человек. — Что вам угодно?
— Речь пойдет о девушке, которая некогда была дорога вам. — Бертуа прислонил ружье к скале. — Правда, не знаю, намерены ли вы уделить ее особе сколько-нибудь внимания. Надеюсь, что да.
— Вы надеетесь? — Вольфрам презрительно скривил губы. — Какое, право, бескорыстие! Вы — избранник Амелии, вы — ее муж или скоро будете им! И посвящаете постороннего в дела вашей супруги?
— Похоже, вы раздражены, господин Вольфрам, — спокойно заметил Бертуа. — Между тем то, что я должен вам сообщить, требует величайшей осмотрительности и ясности ума. Поэтому позвольте мне прежде разъяснить одно обстоятельство. Амелия никогда не будет моей женой!
— Как?! Что за чертовщина?! — с горечью вскричал Вольфрам.
— Никакой чертовщины, самая что ни на есть реальность! — сказал француз так серьезно, что Вольфраму стало почти неловко за свое поведение. — Я слишком высоко ценю мадемуазель Амелию и слишком трезво — свои собственные скромные заслуги, чтобы надеяться на взаимность такой девушки. Ее судьба всегда вызывала у меня сочувствие, и, когда я понял, что домогательства Уипки ей неприятны, а повторное сближение между вами не так уж невероятно, я предложил ей руку, но лишь для того, чтобы дать ей время. Вот истинная причина моего сватовства. Вы не должны видеть во мне ни соперника, ни врага!
— Очень любопытно! — ответил Вольфрам все еще насмешливым тоном. Затем, видимо поняв, что перед этим человеком незачем разыгрывать из себя высокомерного и оскорбленного, заговорил уже совсем по-другому: — Если это так, благодарю вас! Но прежде вам следовало сказать об этом Амелии!
— Ей все известно, — ответил Бертуа. — Мое решение созрело в ту минуту, когда Уипки заявил о своих притязаниях, и я шепнул мадемуазель Амелии о своем намерении.
— Хорошо. А что вы собирались сообщить мне?
— Ничего утешительного, — ответил француз. — Дела вашей спутницы приняли плохой оборот. Судите сами, я расскажу вам все как есть.
Вольфрам весь превратился в слух. Он чувствовал, что француз сказал ему правду, что перед ним человек, которому чужды фальшь и лицемерие. Его охватило удивительно приятное ощущение: возможно, Амелия его по-прежнему любит. Если она действительно приняла предложение Бертуа, чтобы выиграть время, у него еще оставалась надежда. И разве не Амелия произнесла таким трагическим тоном: «Вы несправедливы ко мне, Вольфрам, и когда-нибудь поймете это!»
Он опустился на камень. Бертуа присел рядом.
— Вот как обстоит дело, — продолжал француз. — С самого начала я был убежден, что предложение Уипки не случайность, а плод зрелого размышления. Он, видимо, знал, что вы отказались от всяких притязаний на руку своей спутницы. Поскольку он, если не ошибаюсь, честолюбив и тщеславен и стремится расширить свое влияние, брак с умной и образованной Амелией будет ему, несомненно, на пользу, стоит только преодолеть первую зависть мормонских жен. О ее внешности я уже и не говорю. Словом, я приготовился, что Уипки попытается всячески вставлять мне палки в колеса. И в самом деле, он явился ко мне уже на следующее утро. Со свойственными ему хитростью и лукавством он принялся внушать мне, что простому мастеровому вроде меня от такой жены, как Амелия, толку будет мало, что он найдет мне другую, богатую и работящую, жену. Поэтому, настаивал Уипки, я должен отказаться от своего намерения. Я отвечал ему, что не собираюсь этого делать, потому что люблю Амелию. Он рассердился, напомнил мне, что у мормонов я без году неделя и всем якобы бросится в глаза, если новичок пойдет против признанного иерарха общины. Однако я твердо стоял на своем, и он удалился крайне недовольный.
Я предвидел, что Уипки будет строить мне козни, и, делая вид, что тружусь как ни в чем не бывало, внимательно наблюдал за ним. Он долго советовался с пророком и наиболее влиятельными из старейшин. Вчера утром ко мне пожаловал сам Бригем Янг и после массы уверток и извинений сказал мне, что совет старейшин решил просить меня отказаться от француженки в пользу брата Уипки и что он надеется на мое благоразумие.
Я, однако, был непреклонен, ибо хотел посмотреть, как далеко зайдет дело, и дал пророку тот же ответ, что и доктору. Как ни прискорбно ему проявлять в отношении меня строгость, заявил на это Бригем Янг, но решение совета старейшин непоколебимо, и Амелия будет женой Уипки. Он дает мне право, добавил пророк, покинуть общину, если я того пожелаю, но ожидает, что я найду утешение с богатой и красивой девушкой — он назвал мне ее имя, — которая станет моей женой.
Теперь мне известно, что в ближайшее воскресенье состоится церемония бракосочетания, а Уипки уже ведет себя как супруг Амелии. Сегодня пятница. Времени на раздумье осталось мало. Я ни минуты не сомневаюсь, что Амелию вынудят отдать руку этому человеку, а Уипки настолько подл, что, вероятно, попытается силой и обманом добиться своей цели. К сожалению, определенные обязательства не позволяют мне открыто выступить против мормонов. Скажу откровенно, у них меня удерживают лишь некоторые соображения и приказания человека, которому я служу и которого уважаю. Поэтому я и пришел к вам. Если у вас еще сохранилась хоть капля сострадания или интереса к Амелии, то, мне кажется, самое время действовать, иначе будет слишком поздно!
Вольфрам сидел скрестив руки и нахмурившись: возможно, сомнения еще не покинули его окончательно.
— Так вы полагаете, Уипки способен на насилие или предательство?
— Я считаю этого мошенника способным на любую гнусность.
— А почему вы называете его мошенником?
— На это у меня свои причины, — ответил француз. — Для меня, например, не подлежит сомнению, что по пути к Большому Соленому озеру он пытался умертвить Фортери, чтобы самому стать во главе отряда мормонов.
— Возможно. Я и сам об этом думал, — признался Вольфрам. — Но неужели он способен причинить зло женщине, беззащитному существу?
— Подозреваю, что способен, — ответил Бертуа. — Впрочем, послушайте, как будут развиваться события. Амелию стерегут, так что бежать ей не удастся. В воскресенье ее заставят появиться на собрании общины и сочетают браком с доктором. Если она откажется покинуть дом, церемония состоится там же. Затем Уипки предоставят возможность воспользоваться своими правами супруга, и я не сомневаюсь, что хитрый негодяй сумеет заставить Амелию признать его мужем.
— А что же делать мне? — спросил Вольфрам, словно очнувшись от глубокой задумчивости.
— Этого я не могу вам сказать, сударь. Однако я питаю сострадание к Амелии, да, пожалуй, и к вам. Поэтому счел своим долгом сообщить вам о том, что произошло. Остальное предоставляю решать вам. Моя миссия закончена.
По всей вероятности, он ожидал, что Вольфрам продолжит разговор, но тот молчал.
— Прощайте! — Француз поднялся. — Надеюсь, до крайностей дело не дойдет!
— Прощайте! — ответил Вольфрам, вставая. — Благодарю вас. Я пока не знаю, как поступлю. Но, во всяком случае, благодарю вас!
Он протянул французу руку, хотя и несколько неприязненно.
— Вы сказали, что у мормонов вас удерживают определенные обязательства?
— Да, сказал, — согласился Бертуа. — Однако я не вправе больше говорить об этом. Считайте, что это — тайна, которой я с вами поделился. Прощайте!
Некоторое время Вольфрам сопровождал его, глубоко погруженный в свои мысли, — это было совершенно непроизвольное проявление вежливости по отношению к французу.
— Вот еще что! — поспешно добавил он. — У вас прекрасное ружье и охотничий нож. У меня, правда, есть свое, но не такое хорошее. Продайте его мне! Возможно, мне оно окажется нужнее, чем вам! Сделайте мне одолжение!
— Охотно, — ответил Бертуа. — Вот только продать не могу — это подарок. Могу лишь подарить. Если примете ружье в память обо мне, буду рад. А продать не могу.
— Что ж, принимаю! — согласился Вольфрам после недолгих колебаний. — Возьмите взамен это кольцо. Я носил его как память. Но того, кто мне его оставил, я и так не забуду. А нож? Может, и его отдадите? Мне предстоит пробираться по глухим местам, где без оружия не обойтись. Еще я попросил бы у вас пороха и свинца, вы всегда можете пополнить запасы в Дезерете, а мне теперь путь туда закрыт.
— С величайшим удовольствием! — любезно ответил француз, и его ружье, ружейные припасы и охотничий нож перекочевали к Вольфраму. — А если мне представится случай переговорить с Амелией, что ей сказать о вас?
— Ничего, ничего не говорите, сударь! — коротко ответил Вольфрам и отвернулся.
Француз начал быстро и ловко спускаться к берегу. Вольфрам в сильнейшем волнении ходил взад и вперед. Амелия была в опасности. Должен ли он позаботиться о ней? Хватит ли у него сил спасти ее? Мог ли он думать об этом?
Ничего не решив, строя все новые и новые планы, то загораясь надеждой, то приходя в отчаяние, Вольфрам не находил себе места. Так прошел остаток дня.
— Хорошо! — воскликнул он наконец. — Пусть эта ночь принесет мне решение!
Между тем уже совсем стемнело. На берегу, где находился поселок общины, не было ни огонька. Вольфрам вернулся в свою пещеру, взял хранившийся там пистолет, осмотрел его, прицепил к поясу охотничий нож и спустился к лодке.
Когда он причалил к берегу Нового Иерусалима, уже близилась полночь. Поселок лежал перед ним, погруженный в глубокий сон. Не спали только дозорные, которых мормоны выставляли со стороны суши для защиты от индейцев. У Вольфрама уже созрел план. Он направился прямо к дому, где прежде жила Амелия.
Как и предполагал Вольфрам, дом был погружен во тьму. Однако ему было известно, где находилось окно ее комнаты. Даже если дом охраняется, Вольфрам надеялся, что при помощи жерди доберется до окна и разбудит Амелию.
В поисках подходящей жерди молодой человек забрел на площадку, на которой днем работали плотники.
— Господин Вольфрам! — услышал он рядом с собой чей-то шепот. — Это вы?
Вольфрам вздрогнул и схватился за пистолет. Из темноты появился человек. Вольфрам узнал Бертуа.
— Я был уверен, что вы придете, — прошептал тот, — и должен сообщить вам неприятную новость. Амелии в этом доме нет. Его сочли недостаточно надежным. Сегодня вечером ее перевели в дом Бригема Янга.
— Черт побери! — пробормотал Вольфрам. — Этого еще не хватало!
— Не отчаивайтесь! — вновь прошептал француз. — Вам известно, как расположены комнаты в доме пророка?
— Довольно неплохо, — ответил Вольфрам. — Я часто бывал у него. Надо думать, ее поместили в комнату для жен. Ну а чтобы до нее добраться, нужно пройти через комнату, где спит сам хозяин.
— Совершенно верно, — подтвердил Бертуа. — У пророка две жены. Рядом с его спальней находится только комната первой жены. Амелию же поместили в комнате второй. Попасть туда можно из передней, а еще лучше, пожалуй, со двора. Кто поручится, что дверь в переднюю не заперта? Важно проникнуть в дом, ведь обычно он на замке. В этом я вам помогу: попрошу разбудить Бригема Янга и передать, что у меня к нему неотложное дело. Мне уж точно откроют, и вы получите возможность проскользнуть внутрь. О чем я буду говорить с пророком — мое дело. Во всяком случае, я задержу его настолько, чтобы дать вам достаточно времени для осуществления вашего замысла.
Они отправились к дому пророка. Ночная мгла уже окутала весь Новый Иерусалим. Караульных на улице не было: каждый мормон был обязан сам защищать свою семью и свое жилище. Дом главы общины был также погружен во мрак.
— Теперь спрячьтесь и ждите! — шепнул Бертуа.
Он приблизился к дому и бесцеремонно забарабанил в ставни.
Прошло довольно много времени, пока изнутри не осведомились о цели прихода ночного гостя. Потом дверь открылась, и Бертуа исчез за ней.
Вольфрам подкрался к двери и с радостным удивлением обнаружил, что ее оставили незапертой. Он безбоязненно проник в дом, прошел через переднюю, отодвинул засов на двери, ведущей во двор, и очутился на подворье, окруженном хозяйственными постройками.
Он знал, что комната второй жены пророка выходит во двор. Окна были закрыты грубыми деревянными ставнями. Стекол в них не было — подобной роскоши в то время не знал даже правитель Нового Иерусалима. Для защиты от насекомых оконный проем был затянут кисеей.
Ставни оказались подогнаны не слишком хорошо, сквозь них пробивался слабый свет — вероятно, от горевшей в комнате лампы. Вольфрам открыл ставни, которые были только притворены, и заглянул в комнату.
На кровати спала женщина — вторая жена Бригема Янга. Еще одна женщина сидела у стола, подперев голову руками. Спит она или нет, Вольфрам разобрать не мог. По длинным золотистым локонам он узнал Амелию. Больше в комнате никого не было.
Вот он, удобный случай! Молодой человек вынул нож, разрезал натянутую кисею, открыл изнутри одну створку окна и влез в комнату. Теперь оставалось предупредить Амелию, сидевшую спиной к окну, и постараться не разбудить спящую.
Молодой человек на цыпочках подкрался к француженке и шепнул:
— Не пугайтесь, Амелия, это я, Вольфрам!
От неожиданности она вздрогнула. Вольфрам повторил сказанное еще раз, задув тем временем горевшую лампу.
— Ни звука, умоляю вас, иначе разбудите соседку. Нам нужно бежать! Идите за мной к окну!
— Это вы, Вольфрам, в самом деле вы? — прошептала, вся дрожа, Амелия.
— Я, я! — повторил он. — Быстрее идите за мной!
Амелия поднялась со своего места, и он увлек ее к окну. Сначала вылез сам, а потом помог выбраться ей.
— Куда вы собираетесь вести меня, Вольфрам? — Амелия никак не могла справиться с охватившей ее дрожью.
— Сейчас никаких вопросов! — прервал ее Вольфрам. — Не отставайте от меня ни на шаг!
Он вошел в переднюю, она следом за ним. Несколько торопливых шагов — и оба очутились на улице. Кажется, самое сложное уже позади. Вольфрам взял Амелию за руку и направился к озеру.
Вдруг он резко остановился и отпрянул назад. Он увидел, как в доме, мимо которого они проходили, открылась дверь и на пороге показался человек с фонарем. Это был доктор Уипки.
Острый глаз мормона мгновенно узнал беглецов.
— Эй, в чем дело? Это ты, Вольфрам? — воскликнул он.
Молодой человек выпустил руку своей спутницы и подскочил к доктору. Стальной кулак юноши опустился на голову мормона с такой быстротой, что тот, не сумев уклониться, рухнул, оглушенный.
Не говоря ни слова, Вольфрам вновь схватил свою спутницу за руку и поспешил с ней к озеру, где была спрятана его лодка.
Только сейчас Амелия, казалось, пришла в себя. Она колебалась.
— Куда вы хотите меня везти, Вольфрам?
— Пока — на остров, — ответил он после некоторого замешательства глухим, сдавленным голосом. — Я думал только о вашем спасении. Но обещать ничего не могу. Я должен покинуть эти места. Если и вы согласитесь сопровождать меня — ваше счастье!
— Мое счастье? Если вы тот, что прежде, — вряд ли.
— Я стал другим человеком, Амелия, совсем другим! — с трудом выдавил из себя Вольфрам. — Готовы ли вы довериться мне и в горе, и в радости? Да или нет?
— И вы хотите быть моим спутником, моим спасителем, моим защитником — и ничего более?
— Если вам так угодно — ничего более!
— Пусть будет именно так, и я призываю Бога в свидетели, что вы говорите правду!
Вольфрам вошел в лодку, протянул руку Амелии и через мгновение беглецы пустились в плавание.
Плыли они недолго. Молодой человек раздумывал, стоит ли немедленно покидать остров. Так или иначе, нужно забрать оружие. Кроме того, он был не настолько знаком с озером, чтобы отважиться пересечь его глубокой ночью. Оставалось надеяться, что мормоны пустятся в погоню не сразу.
За все время переправы они не сказали друг другу ни слова. Даже теперь, высадившись на берег, Вольфрам молча помогал своей бывшей возлюбленной взбираться по скалам. Добравшись до пещеры, он зажег небольшую лампу и предложил Амелии прилечь на ложе из мха, которое соорудил для себя.
Затем он вышел из пещеры и принялся всматриваться в даль, туда, где остался Новый Иерусалим. Огней не видно. Похоже, о преследовании никто не помышлял. Он задумался, куда же бежать. Вначале следовало переплыть озеро и высадиться в каком-нибудь уединенном месте, а оттуда двигаться либо на юг, в Калифорнию, либо к северу, в Орегон, либо на восток, в Небраску и Миссури. Каждый путь был далек и опасен, каждый шел через глухие места и скалистые горы, населенные индейцами. Ближе всего было до Калифорнии, и Вольфрам решил идти именно туда. Можно, пожалуй, недели через три добраться до порта и сесть на судно, отплывающее в Европу или на восточное побережье Северной Америки. Правда, у него не было денег, поэтому придется поработать в порту.
Он вернулся в пещеру. Амелия сидела на его ложе и, встретившись с ним взглядом, невольно опустила глаза.
— Я решил бежать в Калифорнию. Добраться туда будет непросто. Вы готовы разделить со мной все трудности и лишения, Амелия?
— И вы еще спрашиваете, Вольфрам? — мягко отозвалась она. — Я согласна на все, только бы выбраться отсюда, подальше от этих людей!
— Ну что же, — промолвил он. — Нам нужно попасть в какой-нибудь порт и на пароходе отправиться в Европу или куда-то еще. К сожалению, у меня нет денег. У вас не найдется?
— Увы! — ответила Амелия и снова опустила глаза. — Еще в Нью-Йорке…
Она не закончила фразу, но лицо Вольфрама уже залил густой румянец: он вспомнил, что именно там Амелия отдала ему свои последние сбережения.
— Я стану работать! — твердо и решительно сказал он. — За месяц-полтора мне удастся накопить денег, которых хватит на то, чтобы пересечь океан.
— Вы собираетесь работать, Вольфрам? — спросила Амелия с мягкой улыбкой, которая поразила молодого человека в самое сердце. — Боюсь, после столь долгой праздности вам придется нелегко!
Ничего не ответив, он отвернулся. Пока он занимался осмотром своего оружия, Амелия улеглась на его постели, желая, вероятно, отдохнуть.
Прошло часа два. Близился рассвет. До восхода солнца им следовало покинуть остров. Кроме ружья, пороха и свинца Вольфрам захватил кирку, молоток и ягдташ, представлявшие для него теперь определенную ценность, и спустился к воде, чтобы погрузить все это в лодку.
Закончив приготовления, он опять поднялся в пещеру — разбудить Амелию, которая успела за это время крепко заснуть.
Спустя несколько минут лодка Вольфрама заскользила по синей глади Большого Соленого озера навстречу новой жизни.
IX. ИСКУШЕНИЕ
Если бы Альбер Эррера, падая в бездну, не потерял сознания, если бы он хоть в малейшей степени мог оценить свое положение, он встретил бы неожиданность, вырвавшую его из лап самума, не стонами, а возгласами ликования.
Это падение спасло его и спутницу, и, когда он вновь пришел в себя, когда открыл свои воспаленные глаза, он смутно осознал это. Они находились в большой, как ему показалось, яме глубиной футов десять; впрочем, правильные ее очертания убедили его, что это не творение природы, а плод человеческих трудов. Он понял, что провалился в заброшенный колодец, какие время от времени встречаются в пустыне и служат для сбора столь драгоценной в этих местах дождевой воды.
Рядом лежала недвижимая, закутанная в свои широкие одежды Юдифь, которую он продолжал обнимать левой рукой. Под ним была лошадь, по-видимому, мертвая. Только теперь молодой человек вспомнил, да и то не слишком отчетливо, подробности, предшествовавшие его падению.
Осторожно, несмелым движением он откинул покрывало с лица Юдифи, и его пораженному взору открылось бледное лицо необычайной красоты, в котором едва угадывалось восточное происхождение. Он с восхищением смотрел на ее пышные, вьющиеся каштановые волосы, тонко очерченные брови; изящный нос мог служить предметом гордости любой гречанки, а небольшой рот был так хорош, что Альбер не помнил, встречались ли ему когда-нибудь губы столь привлекательной формы. О цвете глаз, однако, он судить не мог, ибо глаза Юдифи все еще были закрыты.
— Очнитесь, мадемуазель! — воскликнул Альбер, прикладывая руку к ее лбу. Лоб оказался холодным.
Поднимаясь, он попытался увлечь за собой и молодую девушку — в надежде, что движение пробудит в ней жизнь.
Это ему удалось. Застонав, она попробовала открыть глаза и, не имея сил, все еще не придя в сознание, склонилась на грудь французу, старавшемуся поддержать ее.
— Юдифь! — вскричал Альбер. — Очнитесь! Мы спасены!
При звуках его сильного, звонкого голоса по ее телу пробежала дрожь, и она с усилием подняла веки. На Альбера глянули прекрасные карие глаза.
— Это вы! Боже мой, где я? — вырвалось у нее, и в порыве девичьей застенчивости она испуганно отшатнулась, пытаясь высвободиться из его рук. Впрочем, она оказалась еще слишком слаба.
— Это я, француз, которого вы так самоотверженно пытались спасти и которому удалось бежать с вами! — воскликнул Альбер.
По ее непроизвольному движению он почувствовал, что она смущена, и, отдавая должное этому проявлению женской стыдливости, он, нежно и мягко опуская Юдифь, усадил ее на лежавшее рядом седло.
— Своим спасением мы обязаны случаю, — сказал он. — Мы провалились в заброшенный колодец, где скапливается дождевая вода, и буря пронеслась над нами. Возможно, мы единственные, кому удалось избежать смерти!
Юдифь вздохнула, но ничего не ответила. Альбер тоже погрузился в раздумье.
— Я собираюсь выбраться отсюда — узнать, что стало с отрядом, — сказал он, помедлив. — Оставшиеся в живых не причинят мне вреда: их будет немного, а мертвых бояться нечего!
— Вы хотите покинуть меня? — в испуге спросила Юдифь.
— Увы, но я скоро вернусь, — ответил Альбер. — Может быть, удастся отыскать что-нибудь, что пригодилось бы нам в дороге.
Вскарабкаться по стенке колодца оказалось нелегко. Но, к счастью, швы кирпичной кладки стали рыхлыми, и Альберу, хотя и с некоторым трудом, удалось, цепляясь за них, выбраться наружу. Однако, прежде чем сделать это, он осторожно высунул голову и огляделся. Ничего подозрительного; он вылез и отряхнул одежду от набившегося песка.
Печальная картина полного безлюдья, открывшаяся его взору, была ему привычна. Но при мысли, что совсем еще недавно здесь двигался отряд сильных, крепких людей, а теперь никого из них больше нет в живых, все они погребены под коварными песками, — при мысли об этом ему стало жутко.
Выяснить, с какой стороны приближался отряд к этому роковому месту, откуда налетел самум, было непросто. Альбер решил обойти спасительный колодец, описав при этом большой круг, и натолкнулся, к своей радости, на труп лошади, на которой ехала Юдифь. Эта находка помогла ему сориентироваться, и вскоре он обнаружил трупы других лошадей и всадников. Однако их оказалось меньше, чем он ожидал. И не потому, что большинство арабов спаслись от самума, нет, просто их тела занесло песком и не осталось ни малейших следов.
Неужели все лошади погибли? Альбер усомнился — в конце концов, животные выносливее людей. Правда, он не знал, как долго после его падения в колодец продолжал свирепствовать самум. Он внимательно осмотрел животных, и ему действительно повезло: сначала он отыскал одну, а затем и другую лошадь, которые еще подавали признаки жизни. Он освободил их от песка, очистил глаза, ноздри и зубы и с радостью убедился, что постепенно они начинают оправляться.
Потом он занялся поисками оружия. Эта задача оказалась более легкой. Каждый кабил имел при себе ружье и ятаган, у многих были еще и пистолеты. Альбер выбрал два ружья и несколько пистолетов, забрал порох и свинец и попытался найти съестные припасы. Однако безуспешно. Настроение Альбера упало. Как отправиться в дальний путь через пустыню, не имея запасов провианта?
Затем он попробовал отыскать погибших служанок Юдифи. Тут его ждал успех: он нашел одну из них, а когда осмотрел поклажу, которую несла ее лошадь, обнаружил шкатулку. Там оказались предметы, необходимые для туалета арабской женщины, — вероятно, шкатулка принадлежала Юдифи. Он вновь вернулся к лошадям. Животные теперь настолько окрепли, что поднимались на передние ноги. К своей неописуемой радости, Альбер нашел мешок фиников — видимо, его в отчаянии бросил, спасаясь бегством, кто-то из кабилов. Эта находка была для молодого человека более ценной, чем даже оружие, и теперь, вполне удовлетворенный, он возвратился со своими сокровищами к колодцу.
Юдифь, опустив голову, сидела на седле.
— Мадемуазель! — крикнул Альбер, наклонившись к ней. — Мы не так одиноки, как вы, может быть, думали. Уцелели еще две лошади — можно будет воспользоваться ими, — у меня тут оружие, финики и кое-что для вас! Взгляните! Это не ваша шкатулка?
Юдифь подняла свои прекрасные глаза.
— Моя. В ней мои вещи. Так мы можем продолжать путь? Но в какую сторону ехать? Из кабилов остался кто-нибудь в живых?
— Кажется, никто, — ответил Альбер. — А ехать можно в любом направлении — на север, на восток или на запад. Нельзя только на юг — там огромная пустыня. Теперь, может быть, у вас хватит сил выбраться отсюда? Я опушу вам ремень от ружья. Попытайтесь с его помощью подняться настолько, чтобы я мог протянуть вам руку!
Задача была довольно сложная, но девушка оказалась сильнее, чем он ожидал. Ухватившись обеими руками за ремень и упираясь ногами в зазоры между кирпичами, она сумела взобраться на нужную высоту. Альбер протянул Юдифи руки и вытащил наверх.
— Благодарю вас, сударь! — сказала она, оказавшись рядом с ним. — Вы сделали для меня больше любого другого человека на свете. Отныне я буду вашей рабыней!
— Рабыней?! — вскричал Альбер. — Никогда! Где еще можно встретить столько благородства и великодушия, сколько вы проявили прошлой ночью? Это я должен быть благодарен вам, ибо ради меня вы собирались пожертвовать собой. К счастью, судьба распорядилась иначе!
— Вы полагаете, что мой отец — я не смею произнести его имя в вашем присутствии, — мой отец умер или, может быть, все-таки жив?
— Право, я не в силах дать вам ответ! — сказал Альбер. — Если он находился в той пещере, возможно, что и погиб. Не думаю, чтобы кроме нас пятерых кто-то еще уцелел. Если же его там не было, он, вероятно, жив.
— А теперь вы собираетесь направиться прямо в Алжир? — вздохнув, спросила Юдифь.
— Решиться нелегко. Во всяком случае, вначале поедем на север, потому что там найдем первые оазисы. Пойду взгляну на лошадей. О, они уже на ногах! Великолепные животные! Через час можно отправляться в путь. Нужно дать им немного фиников.
Молодой офицер принялся седлать лошадей — для Юдифи отыскалось, к счастью, дамское седло — и навьючивать на них все необходимое для дальнего путешествия. Бедные животные жадно проглотили финики, которые никак нельзя было отнести к их излюбленной пище, и печально заржали.
Появились и иные признаки, указывающие, что пора уходить с этого зловещего места. Над юдолью смерти уже кружили стервятники, а вдали время от времени можно было видеть то волка, то шакала.
Альбер подвел обеих лошадей, у которых с каждой минутой прибавлялись все новые силы, к Юдифи, уже готовой отправиться в путь: пока юноша делал необходимые приготовления в дорогу, она наскоро привела в порядок и частично обновила свою одежду.
— Скоро наступит ночь, — заметил Альбер. — Но ехать придется и ночью, тогда к утру мы будем, надеюсь, недалеко от оазиса. К тому же ночевать одним в пустыне мало радости! Я, правда, отыскал два полотнища парусины, но отдыхать под сенью пальм все же приятнее!
Альбер чувствовал, что нужно ободрить Юдифь, поэтому с изяществом завзятого кавалера, улыбаясь протянул ей руку, помогая сесть в седло. Затем проверил, насколько вынослива его собственная лошадь.
— Эти кабильские лошади просто чудо! — с удовлетворением воскликнул он. — Всего час назад они были при последнем издыхании, а теперь у меня нет сомнений, что они без труда проделают весь путь!
Они поскакали бок о бок, однако так, что Альбер не видел лица спутницы. Впрочем, сейчас он и не испытывал желания разговаривать. Он был целиком занят мыслями о своем новом, так неожиданно изменившемся положении. Какие повороты судьбы довелось испытать ему в последнее время!
Несколько часов он предавался этим мечтаниям, пока они не были прерваны мыслями о том, что ожидает его в самом ближайшем будущем. Что творилось тем временем в душе Юдифи, он не знал, не мог даже предположить. Она ни разу не повернулась к нему; к тому же верхняя половина ее лица была закрыта покрывалом. Она управляла лошадью с такой сноровкой, что не оставалось никаких сомнений: она из тех женщин, кому не в новинку путешествовать подобным образом.
— Ну, мадемуазель, — нарушил молчание Альбер, когда стало совсем темно, — у вас хватит сил всю ночь напролет провести в седле?
— Думаю, хватит, — ответила девушка. — В последние дни вы могли убедиться, что в такого рода поездках для меня нет ничего необычного, да и ночь не так длинна.
— Но она покажется вам длинной, если я буду молчать, как прежде, — заметил Альбер.
— О, — произнесла она своим нежным, мелодичным голоском, — я привыкла проводить целые дни в размышлениях, не говоря ни слова. За последние две недели я обменялась со своими служанками всего несколькими фразами.
— А разве вас не тяготит подобный аскетизм? Ведь в Оране у вас было много развлечений? — спросил Альбер. — Контраст, должно быть, немалый!
— Ничуть не тяготит — совсем наоборот! — воскликнула Юдифь. — В Оране я жила уединенно, насколько это было возможно. Я не видела никого, кроме отца и своих служанок, да и с ними разговаривала мало.
— Довольно странно! — заметил Альбер. — А между тем в этом городе вас считали одной из признанных красавиц!
— Что вас побуждает так льстить мне? — спросила Юдифь.
— Льстить?! — удивился Альбер. — Когда я находился в Оране, я только и слышал что о красоте дочери Эли Баруха Манаса да о ее добродетельности! Сам я тогда ни разу вас не видел и, признаюсь откровенно, когда впервые увидел сегодня, изумился. Я ожидал увидеть одно из тех лиц, что были воспеты поэтами Ближнего Востока, а оказывается, ваши волосы и глаза куда светлее.
— Так оно и есть, — помедлив, согласилась Юдифь. — Думаю, многим это бросилось бы в глаза. Впрочем, сударь, я объясню вам, в чем дело. Вы вправе требовать от меня искренности, и мой долг велит мне быть с вами откровенной. Поэтому открою вам одну тайну. Вы знаете моего отца. Я не смею упрекать его, но мне известен его характер. Мне кажется, он всегда говорил только о выручке и о благах добропорядочной жизни. Уже в молодости он был богат. Моя мать также унаследовала немалое состояние, и родители решили поженить молодых людей. Так и случилось, и этот брак казался счастливым. А может быть, его и впрямь можно было считать таким. Однако перед смертью мать призналась мне — а в то время мне было уже двенадцать лет и я слыла понятливым ребенком, — что раньше любила одного англичанина и вышла замуж за отца лишь под давлением своих родителей. Она сказала, что и после свадьбы не порывала связи с тем человеком, и представила мне некоторые доказательства, что я именно его дочь, а не Эли Баруха Манаса.
Отец ничего не знал и ни о чем не догадывался. Еще когда была жива моя мать, он любил меня с прямо-таки безрассудной страстью. После ее смерти его любовь стала еще сильнее. На этом свете он ничего не желал знать, кроме золота, серебра и меня. Он настолько преодолел свою алчность, что давал мне намного больше того, что я требовала, ибо мои потребности всегда отличались умеренностью. Он нанял для меня нескольких учителей, учивших разным языкам, он дал мне воспитание намного лучше того, какое в обычаях нашего народа. Отец считал меня самым большим своим сокровищем, которое нужно показывать в самом выгодном свете, словно я была бриллиантом, нуждающимся в дорогой оправе. Насколько сильна была его любовь, вы можете судить хотя бы по тому, что из-за меня он предал вас: поставил на карту вашу жизнь, чтобы спасти свою дочь! Простите его!
Я уже говорила, мои потребности были весьма скромны, поэтому мне и в голову не приходило бездумно тратить деньги, пользуясь его пристрастием ко мне. Я вела скромную, уединенную жизнь, проводя ее за книгами, музицируя и занимаясь живописью. Я едва сознавала, что стала взрослой, и намеки отца на предстоящее мне вскоре замужество не только оставляли меня равнодушной, но и вселяли какой-то безотчетный страх. Итак, я была совершенно одинока и с тревогой ожидала того времени, когда отец начнет настаивать, чтобы я вышла замуж. Разбойное нападение кабилов положило конец моим опасениям. Не знаю, к счастью или к несчастью…
Ее рассказ поразил Альбера. Он нашел в этой девушке больше, намного больше того, чем предполагал. Случай свел его с одним из тех необычайных созданий, которые, как он раньше считал, существуют лишь в воображении поэтов. Невольно он начал задавать ей вопрос за вопросом, стремясь глубже проникнуть в ее душу, и с каждой минутой его удивление росло. Он обнаружил ум, не только не уступавший его собственному, но, пожалуй, даже и превосходивший его, если не силой и энергией, то, во всяком случае, широтой научных познаний, зрелостью и остротой восприятия.
Всадники умолкли и пустили лошадей в галоп, поскольку почва под ногами сделалась более твердой. Этот разговор во многом изменил представления Альбера о его спутнице. Теперь они лишь время от времени перебрасывались отдельными фразами. Вскоре забрезжило утро, однако все еще не видно было ни кустика, ни горной цепи на горизонте.
Через некоторое время он заметил всадников, примерно двадцать человек, которые двигались им навстречу. Альбер решил добыть у них съестного и узнать дорогу. Он попросил Юдифь придержать лошадь и подождать, а сам поскакал вперед.
Оказалось, нашим героям повстречался торговый караван, который следовал в центральные районы Африки. Альбер, все еще выдавая себя за кабила, рассказал купцам о постигшем их отряд печальном событии и попросил немного маисового хлеба или другого съестного. Он не удержался и сообщил караванщикам, что, если они пойдут по его следам и отыщут место трагической гибели кабилов, их ждет богатая пожива. Рассказ молодого человека произвел должное впечатление на жадных купцов: Альбер получил все, чего просил, а тайком еще и две бутылки рома. Что касается дороги, ему объяснили, что приблизительно через два часа он доберется до оазиса, а чтобы попасть в Лагуат, нужно ехать в северо-западном направлении. Удовлетворенный, Альбер вернулся к Юдифи, и ни разу в жизни ни одна дыня не казалась ему вкуснее той, которую она теперь резала и протягивала ему своими нежными пальцами.
Два часа до оазиса — совсем немного! Лошади, которым Альбер дал несколько ломтей маисового хлеба, смоченного ромом, вновь перешли в галоп, и вскоре путешественники узрели на горизонте синеющее пятнышко, убедившее их, что перед ними долгожданный оазис.
Их встретила небольшая пальмовая роща, которая со всех сторон обступала колодец с пресной водой, поросший по краям скудной травой. Местами финиковые пальмы росли настолько близко друг к другу, что их листья давали надежную тень; какое это было блаженство для тех, кто неделями изнывал под палящими лучами африканского солнца!
Вскоре лошади с радостным ржанием уже пили из колодца, а Юдифь занималась приготовлением скромного завтрака из тех припасов, что добыл Альбер. Впервые они чувствовали себя так непринужденно. Альбер шутил, Юдифь вторила ему. Она не сводила с него своих блестящих глаз и лишь иногда, когда их взгляды встречались, стыдливо опускала их. Ее свежие губы блестели, на щеках играл румянец, и Альберу казалось, что ему никогда не доводилось слышать ничего более восхитительного, чем ее прелестный смех, когда он пускался на всяческие ухищрения, чтобы восполнить отсутствие тарелок и вилок и как можно церемоннее поднести ко рту куски приготовленного ею нехитрого блюда.
После завтрака, который Альбер запил глотком рома (он уже забыл вкус этого напитка!), разговор незаметно перешел на более серьезные темы, и молодой офицер вновь был поражен очарованием, какое его спутница умела придать их беседам.
В Париже Альбер ничем не отливался от своих товарищей. Он не ведал, что такое любовь, а в тех случаях, когда какая-нибудь танцовщица не проявляла к нему достаточной благосклонности, сын богатого генерала де Морсера умел завоевывать ее с помощью денег. Он был уже близок к тому, чтобы превратиться в слабохарактерного, пустого и избалованного человека. Доброе сердце не спасло бы его от последствий беспутной жизни в Париже.
Лучшим учителем оказалась для него нужда. Простой солдат африканского экспедиционного корпуса, а затем офицер, получавший скудное жалованье, половину которого он откладывал для матери, был лишен тех соблазнов, что окружали Альбера в Париже.
Так что, каким бы странным это ни показалось, за все время пребывания лейтенанта Эрреры в Алжире — а оно исчислялось уже годами — он ни разу не взглянул на женщин, ни разу не почувствовал хотя бы мимолетного влечения. Его жизнь сводилась к тому, чтобы добиваться признания и наград на военном поприще, совершенствоваться в изучении наук и набираться житейского опыта. Год шел за годом, а он так и не коснулся руки ни одной женщины.
Тем опаснее стала для Альбера эта встреча. Он забыл о своем былом пренебрежении к женщинам, ведь Юдифь, казалось, просто создана, чтобы пробудить в нем интерес, которого он никогда до того не ощущал, в нем с новой силой вспыхнула так долго подавлявшаяся чувственность. Все, чего только может желать мужчина: физическое совершенство, разумность суждений, глубина чувств, — все эти достоинства счастливо сочетались в этой девушке, которая находилась всего в двух шагах от Альбера, под сенью пальм, одна в далекой пустыне, бесконечно оторванная от мира, от постороннего взгляда. Альбера охватило возбуждение. Сладкая дрожь, какую он ощутил, впервые прижав Юдифь к своей груди, вновь теперь овладела им, и, не сознавая, что делает, он сел рядом с ней и взял ее руку в свою.
Она не уклонилась, не отняла руки, но на мгновение опустила глаза и, казалось, застыла.
— Юдифь! — прошептал глубоко взволнованный Альбер, — вы сказали, что еще не испытывали любви! Неужели вы никогда не смогли бы полюбить?
— Полюбить? Не знаю! — пролепетала Юдифь каким-то неестественным, дрожащим голосом.
— Разве вы не могли бы полюбить меня, Юдифь? Судьба свела нас, мы одни в этой пустыне. Мы избежали смерти, почему бы нам не жить друг для друга? Наше счастье зависит только от вас!
Он еще ближе привлек ее к себе. Она не противилась. Он видел, как ее щеки постепенно наливаются румянцем, как участилось ее дыхание. Его губы коснулись ее лба, и он заключил ее в крепкие объятия.
Внезапно яркий румянец на щеках Юдифи сменился смертельной бледностью. Лоб ее под его поцелуями сделался холодным как лед, веки опустились, по губам пробежала дрожь.
— Юдифь! — в испуге вскричал Альбер. — Вы вся трепещете, что с вами — вы не любите меня?
— Я ваша рабыня, вы мой господин, мой спаситель. Я доверила вам все, свою жизнь, свою честь! Я не смею желать иного, чем вы!
Голос ее звучал невнятно, глухо, Альбер едва различал, что она говорит. Вдруг она зарыдала и закрыла лицо руками.
Руки Альбера соскользнули с ее плеч, он почти с ужасом глядел на нее. Потом вскочил, в душе проклиная себя.
Что он наделал! Эта девушка, прекраснее, лучше, чище, достойнее которой он никогда не встречал, целиком доверилась его чести, его покровительству, его порядочности. Возможно, она не любит его, но не смеет ни в чем отказать из-за чрезмерной преданности и ложно понятого чувства благодарности. И эту девушку, которую он, может быть, столь же мало любит, — эту девушку он собирался сделать игрушкой своего мимолетного порыва! Где же его честь, что он так ревностно берег? Где же его благородство, что он стремился исповедовать и собирался вновь сделать отличительной чертой своей фамилии, хотя его отец и покончил счеты с жизнью опозоренным?
— Юдифь, — сказал он сдавленным голосом, — я негодяй! Как я посмел? Я должен просить у вас прощения! Клянусь, пока судьба не разлучит нас, я сделаю все, чтобы заставить вас забыть об этой минуте!
И он бросился перед ней на колени. В глазах у него стояли слезы. Ее взгляд прояснился, и она с признательностью посмотрела на молодого человека.
— Я не ослышалась? — воскликнула она, не в силах скрыть волнение. — Вы оберегаете меня, оберегаете единственное, что у меня осталось на этом свете, — мою честь и мою беспомощность? О, благодарю вас, благодарю от всей души! Вы доказали мне, что я достойна лучшей судьбы, чем я ожидала! О мой господин, прежде я уважала и любила вас как своего спасителя. Но вы сделали больше любого другого мужчины. Я обожаю вас, преклоняюсь перед вами!
Прошло шесть дней.
На седьмой день, вечером, когда их лошади стали терять силы, Альбер заметил на горизонте голубоватое пятнышко — примету оазиса. Однако, приблизившись, Альбер был неприятно удивлен — это оказался тот самый оазис, который они с Юдифью покинули неделю назад. Выходит, они сбились с пути и ехали по кругу. Впрочем, на этот раз оазис не был пуст. Здесь остановился большой караван, направлявшийся, как выяснил Альбер, в Центральную Африку. Если они не хотели опять безрезультатно блуждать по пустыне, им следовало присоединиться к этому каравану, пока они не доберутся до места, откуда пролегает надежная дорога на морское побережье или в обжитые края.
X. АЛИ БЕН МОХАММЕД
После долгого и трудного пути — долгого, потому что продолжался несколько недель, трудного, так как караванщикам приходилось противостоять безжалостному африканскому солнцу, — пустыня стала постепенно меняться. Чаще начали попадаться оазисы, синеющие на горизонте полоски предвещали близость гор или лесов, а нагретый воздух сделался не столь обжигающим.
Альбер стремился, чтобы его по-прежнему принимали за правоверного, поэтому ему весьма пригодился опыт, приобретенный в Алжире, и ему удавалось и здесь сходить за чистокровного араба. Он был молчалив, сдержан с участниками каравана, и никто не ставил ему это в вину. Юдифь он выдавал за свою родственницу, и арабы, которые никогда не проявляют интереса к жене другого и вообще мало интересуются женщинами, сразу же приняли все за чистую монету. К сожалению, говорить с ней по-французски — на языке, которым она владела в совершенстве, — Альбер мог позволить себе лишь в тех случаях, когда поблизости никого не было. Все остальное время им приходилось пользоваться арабским языком. Впрочем, с караванщиками он редко заговаривал — только когда покупал у них съестное. Вечерами он разбивал свою палатку в отдалении от них, рядом с палаткой для Юдифи. Караван состоял исключительно из купцов, направлявшихся отчасти из Марокко, отчасти из западных районов Африки для обмена своих товаров на товары Судана и на рабов.
В караване находился один человек, которого Альбер наметанным глазом сразу же выделил из купцов. И цветом кожи с оливковым оттенком, и одеждой он отличался от остальных арабов, недостаточно свободно говорил на их языке. К нему, однако, относились с величайшей почтительностью, и постепенно Альбер узнал, что он был послан в Западную Африку могущественным властителем с деликатным поручением. Ему предстояло обсудить с тамошними султанами возможность захвата далекой страны с негритянским населением: для ее завоевания в одиночку у его владыки не хватало сил. Выполнив поручение, посланец возвращался с этим караваном в родные края. Альбер заметил, как он бросил быстрый внимательный взгляд на Юдифь, когда порыв ветра случайно открыл ее лицо. Французу показалось, что с той минуты посланец стал искать второго такого же случая. Что-то похожее на ревность шевельнулось в душе Альбера и заставило его сторониться Али Бен Мохаммеда, как звали этого человека.
Пейзаж уже не производил теперь впечатления безжизненной пустыни. На смену необозримым пескам пришли вначале холмы, затем скалы; потом глазам открылись покрытые лесом горные цепи и долины. Высокие пальмы различных пород, поднимавшиеся над густыми зарослями кустарника, чередовались с тамариндами и другими деревьями. Заросли кишели бесчисленным множеством птиц и обезьян, по лугам важно прохаживались длинноногие цапли, огромные змеи нежились на солнце по песчаным берегам рек и на горных склонах.
Караван начал распадаться: купцы стали рассеиваться по городам и деревням, где намеревались вести торговлю. К кому же из них присоединиться теперь Альберу, куда держать путь? Названия государств, городов, куда направлялись купцы, были ему совершенно незнакомы. Он слышал названия Тимбукту, Сокото, Кано, Якоба, Кука, не зная точно, где находятся эти города и какой из них ближе всего к побережью. Правда, ему стало известно о существовании караванного пути между Триполи и Кука — конечным пунктом следования североафриканских караванов, но получилось так, что идти в Кука никто из купцов не собирался. Ехать туда вдвоем с Юдифью? Путь был неблизкий. Он пролегал через места, населенные народами, которых почти не коснулась цивилизация и которые враждовали друг с другом. Принять решение было нелегко. Тем не менее сомнений у Альбера не было. У него оставалось достаточно денег, да и физически он уже окреп. Поэтому он присоединился к тем купцам, что направлялись далеко на восток вплоть до города Кано, а уже оттуда он попытается попасть в Кука.
Али Бен Мохаммед тоже остался с этими купцами, но, как слышал Альбер, его путь лежал еще дальше, в Якоба — главный город одной из самых южных провинций Великого государства Фульбе. Альбер сознавал преимущества, которые сулили ему добрые отношения с этим человеком: он мог получить от него разумный совет и помощь. Однако француз не мог побороть в себе некоторую ревность и поэтому решил задержаться с купцами в Кано, а если представится возможность достичь Кука, вместе с караваном, миновав пустыню, возвратиться в Западную Африку, в Фес или Марокко.
Наконец купцы, а с ними Альбер и Юдифь прибыли в Кано. Город представлял собой хаотическое скопление глиняных хижин, над которыми лишь кое-где возвышались более крупные жилища. Но простирался Кано далеко и был обнесен стеной. В нем насчитывалось самое большее десять тысяч жителей. Холмы и леса придавали Кано живописный вид, однако он был грязен, а потому и малопригоден для жизни. Альберу отвели большой дом, который он разделил с Юдифью.
В Кано Али Бен Мохаммеда встретила большая группа всадников, она должна была, по всей вероятности, сопровождать его до Якоба. Какое бы это было везение для Альбера — продолжать свой путь под такой защитой! Он всерьез раздумывал, не лучше ли побороть свое недоверие и обратиться к Али Бен Мохаммеду с просьбой, тем более что тому предстояло вскоре уезжать. К сожалению, спросить совета у Юдифи он не мог: в этом случае ему пришлось бы сознаться, в чем причина его неприязни к таинственному арабу.
Неожиданно тот сам пошел ему навстречу. Как-то Альбер расположился у дверей своего дома, покуривая длинную трубку. Али Бен Мохаммед проходил в это время мимо. Завидев Альбера, он приблизился к нему.
— Послушай, приятель, — сказал он по-арабски, но так, что Альбер с трудом его понял, — куда ты собираешься?
— В Кука, — ответил молодой француз. — Оттуда я рассчитываю быстрее добраться до родных мест. Нам по пути?
— Если ты поедешь напрямик, то нет, — ответил посланец. — Мне нужно в Якоба. Но добраться до Кука оттуда легче, чем отсюда, из Кано.
— Так ты советуешь мне ехать с тобой до Якоба? — поинтересовался Альбер.
— Конечно.
— А почему ты мне это советуешь?
Али Бен Мохаммед посмотрел на молодого человека с удивлением.
— Потому что путешествовать под охраной сотни всадников надежнее, чем в одиночку.
— И ты дашь мне эту сотню всадников и от Якоба до Кука?
— Возможно. Поедешь с нами? Мы отправляемся сегодня после полудня.
— Мне нужно подумать. Если увидишь, что мы с сестрой будем готовы ко времени твоего отъезда, значит, мы поедем с тобой. Если нет — остаемся здесь.
При слове «сестра» Али Бен Мохаммед поднял глаза и подозрительно посмотрел на Альбера. Но тот оставался невозмутим и серьезен.
— Мы поедем мимо этого дома, — сказал посланец. — Подумай. — Он поклонился Альберу и продолжил свой путь.
Такого предложения Альбер не ожидал. Отвергать его вряд ли стоило. Еще раз все взвесив, он не нашел причин для отказа. Внимание, какое Али Бен Мохаммед проявил к Юдифи, могло быть мимолетным. Будь оно вызвано иными, более серьезными причинами, Альбер придумал бы какую-нибудь отговорку. Он решил соблюдать осторожность и прежде посоветоваться с Юдифью.
Войдя в комнату девушки, он застал ее, по обыкновению, в глубокой задумчивости. Она подняла голову, и при виде Альбера глаза ее заблестели.
— Мадемуазель, — сказал он, опускаясь рядом с ней на скамью, — нам необходимо принять важное решение.
— Нам? — с улыбкой спросила Юдифь. — Наверное, только вам! Я все доверяю решать вам.
— Но мне нелегко это сделать, и я прошу совета у вас, — ответил Альбер. — Отсюда в Северную Африку ни один караван не ходит. Нам нужно попробовать добраться до Кука, а это довольно далеко от Кано. Говорят, путь туда труден и небезопасен. Али Бен Мохаммед, которого я как-то вам показывал, предложил мне добраться с его спутниками до Якоба. Кажется, оттуда легче попасть в Кука. Стоит ли мне соглашаться?
— А почему бы и нет? Что ж вы медлите? — спросила Юдифь.
— Скажу откровенно, мне не нравится этот человек.
— Если вы чего-то опасаетесь, поедемте одни, — предложила Юдифь.
— Я опасаюсь не за себя — я боюсь только за вас!
— За меня?
— Именно так, потому что этот Али Бен Мохаммед посматривает на вас с таким вниманием, которое здесь, где нам неоткуда ждать помощи, внушает мне опасения.
— Я понимаю ваши сомнения, — спокойно ответила Юдифь. — Ничего не бойтесь! Под вашей защитой я чувствую себя вполне уверенно. Я доверяю небу и вам, как и прежде!
— Благодарю вас, Юдифь! Здесь нужна осторожность. Я скажу ему, что вы моя сестра и обещаны в жены одному из моих друзей.
— Так и скажите! — Юдифь улыбнулась. — Ведь я и в самом деле ваша сестра!
Альбер отвернулся. Ничто его так не восхищало, как эта мягкая, нежная улыбка прекрасной спутницы.
— Ладно, я приму его предложение, — решился он. — А могу я рассчитывать на ваше понимание, если отвергну возможные домогательства этого человека?
— Альбер! — покраснев, воскликнула Юдифь.
— В моем вопросе нет ничего удивительного, — сказал молодой человек, стараясь не выдавать волнения. — Вы вправе распоряжаться собственной судьбой. А поскольку у себя на родине этот Али, видимо, важная персона, я вряд ли мог бы упрекнуть вас, если бы вы…
Юдифь быстро встала и подошла к маленькому окошку.
— Вам, вероятно, неприятен разговор на эту тему? — сказал Альбер, ликуя в душе. — Кончим на этом. Итак, после полудня мы должны быть готовы к отъезду!
Молодая девушка ничего не ответила, продолжая смотреть в окно.
— Юдифь! — взволнованно прошептал Альбер, приблизившись к ней. — Вы предоставляете мне право действовать вместо вас? Нас ожидает новое путешествие, полное опасностей и трудностей. И мне было бы легче принимать решения, имей я право на ваше доверие. То, что я лишил вас самостоятельности, не дает мне покоя, ибо я не знаю, могу ли принять от вас такую жертву, как полное подчинение.
— Я вас не понимаю, — тихим, дрожащим голосом ответила Юдифь. — Я вам сказала, что на свете у меня нет никого, кроме вас. Самое большое счастье для меня — покоряться вашей воле!
— Самое большое счастье? Такими словами не шутят! Я мог бы по-разному толковать их! Но согласиться на такое полное подчинение, если это всего лишь жертва, всего лишь знак признательности, я не могу! Существует, впрочем, полное подчинение совсем иного рода, не имеющее ничего общего с жертвенностью, — это взаимное подчинение в любви! Могу я надеяться, Юдифь, что это именно оно?
Она не ответила. Альбер положил руку ей на плечо, но не с той пылкостью и порывистостью, как тогда, у оазиса, а нерешительно и несколько смущенно.
— Это оно, Юдифь! — тихо повторил он. — Я могу надеяться? Скажите хоть слово!
Она по-прежнему молчала, но, когда юноша нежно привлек ее к себе, не сопротивлялась. Он видел, как ее щеки окрасились пурпуром, и неожиданно она спрятала лицо у него на груди. Он услышал, как она беззвучно плачет.
— Эти слезы, — с дрожью промолвил Альбер, — знак отказа или залог чего-то другого?
— Я никогда не полюблю никого, кроме вас, никогда — и не только из благодарности! — прошептала Юдифь.
Альбер в ответ мягко обнял ее.
— Теперь я найду в себе силы и мужество, чтобы действовать за вас. Останемся вместе навсегда, Юдифь, как перед лицом опасностей, которые нас теперь ожидают, так и в предвкушении счастья, которое в будущем нам, может быть, дарует небо! Клянусь вам в вечной верности, клянусь всей душой, ибо другой мое сердце принадлежать никогда не будет! А когда мы доберемся до чужих стран, когда вы увидите иных мужчин, не раскаетесь ли вы, что опрометчиво дали слово человеку, которого случай сделал вашим спасителем? Не упрекнете меня, что я воспользовался вашим положением, чтобы привязать вас к себе? Подумайте, Юдифь! Я не принуждаю вас!
— Не говорите таких слов! Они надрывают мне сердце! Больше всего я буду счастлива, если вы не пожалеете, что полюбили меня! Я так недостойна!
— Вы недостойны?! — с воодушевлением вскричал Альбер. — Вы не знаете себя! Впрочем, к чему весь этот разговор. Я счастлив! И будь что будет!
Он долго держал Юдифь в своих объятиях, потом запечатлел на ее чистом белом лбу горячий поцелуй и наконец отпустил, чтобы заняться приготовлениями к отъезду.
Спустя несколько часов перед домом остановилась группа всадников Али Бен Мохаммеда. К этому времени Альбер уже снарядил лошадей в дальнюю дорогу. Теперь он позвал свою спутницу. Еще раз он увидел ее сияющее счастьем лицо, блестящие глаза, мягкую, приветливую улыбку. Потом она быстро закуталась в покрывало и села в седло.
Дорога пролегала по местам, которые оказались живописнее тех, что встречались Альберу прежде. Горы придавали им более романтический, хотя и более первозданный, вид.
В первые дни пути Али Бен Мохаммед ни словом не перемолвился с Альбером. Иногда он что-то спрашивал у одного из своих спутников, получая краткий ответ. Альбер узнал, что до Якоба оставалось четыре дня пути.
Но как-то утром Али направил свою лошадь к Альберу и зна́ком дал ему понять, что хочет ехать с ним рядом. Полный тревожного ожидания, но внешне совершенно спокойный, Альбер повиновался.
— На родине у тебя остались родственники, отец, братья? — спросил Али Бен Мохаммед.
— Нет, — ответил Альбер, — я один и сам себе хозяин.
— А девушка, что тебя сопровождает, твоя сестра?
— Да, я хочу проводить ее к своему другу: она его невеста. Друг, верно, думает, что мы оба погибли.
— И он утешится, не так ли?
— Может быть, но поверить в это трудно! — ответил Альбер. — Он очень любит мою сестру — они знают друга друга с детства. Еще тогда она была обещана ему.
— Так вот, я хочу тебе что-то сказать. Отдай свою сестру мне в жены и оставайся здесь.
— Как?! — вскричал Альбер с неудовольствием, какое мог позволить себе сдержанный сын пустыни. — Ты предлагаешь мне нарушить слово, которое я дал другу, и не выполнить завет отца?
— Твой друг уверен, что вы оба мертвы. Возможно, у него уже другая жена.
— Возможно, — сказал Альбер. — Но я должен убедиться в этом.
— Не говори так. Счастье, огромное счастье само идет в руки тебе и твоей сестре. Ты войдешь в число влиятельнейших людей на юге Африки.
— Разве ты сам настолько могуществен, что можешь обещать мне такое?
— Я занимаю высокое положение, а в недалеком будущем моя власть станет еще больше, — ответил Али Бен Мохаммед. — Я вижу, ты разумный человек. Буду с тобой откровенен. Султан Баучи — страны, где главный город Якоба, — стар и скоро умрет. Я буду его наследником. Султан не хозяин в своей стране. Баучи — всего лишь часть Великого государства Фульбе, во главе которого стоит Повелитель Всех Правоверных. Ты, может быть, слышал, что я ездил на запад советоваться с одним тамошним султаном насчет войны против черных язычников? Поэтому Повелитель Всех Правоверных и послал меня туда. Но переговоры я вел в своих интересах, а не в его. Я не желаю быть слугой, я хочу быть господином. Я договорился с султаном, что, когда подниму восстание против Повелителя Всех Правоверных, он пришлет мне помощь. Султан бросит свои войска против Тимбукту, я поведу свои против Сокото и Кано. Мы поделим Великое государство Фульбе.
— План дерзкий и отчаянный, — сказал Альбер.
И в самом деле, Великое государство Фульбе состояло из ряда провинций, каждая из которых была сама по себе большим государством и управлялась султаном. Султан в свою очередь был вассалом Повелителя Всех Правоверных, эмира эль-Муэммина, которому платил дань. Баучи со столицей Якоба — одна из самых крупных, живописных и плодородных провинций Фульбе, была к тому же самой важной, так как поставляла многочисленное и храброе войско, составлявшее костяк армии Фульбе. План передела крупного, обширного государства казался выполнимым. Восстание столь важной провинции, поддержанное нападением извне, легко могло увенчаться успехом, поскольку Фульбе существовало всего несколько лет и престиж эмира эль-Муэммина был пока недостаточным.
— План дерзкий, ты прав, — согласился Али. — Но мне известны силы, которые нужно пустить в ход. Страна Баучи верна мне, воины повинуются мне, даже если я прикажу им выступить против эмира эль-Муэммина. Впрочем, эмир и не подозревает о моем заговоре. Он целиком доверяет мне. Через двадцать месяцев я рассчитываю сам стать эмиром эль-Муэммином и тогда отдам тебе одну провинцию. А что до твоей сестры — разве может ей выпасть более счастливый жребий, чем сделаться женой могущественного владыки?
— Значит, ты требуешь, чтобы я отрекся от своей родины, жил на чужбине, нарушил завет отца и, собственную клятву? А где уверенность, что, добившись власти и могущества, ты сдержишь обещание?
— Положись на мое слово! — ответил Али Бен Мохаммед. — Почему бы мне не осыпать милостями брата моей жены, моего ближайшего родственника, ведь у меня никого больше нет? Но как только мы прибудем в Якоба, твоя сестра должна стать моей женой.
— А другие жены у тебя есть? Может быть, она станет третьей или четвертой?
— Нет, у меня только рабыни. Твоя сестра будет моей первой и последней женой!
— Но что побудило тебя сделать такой выбор? — спросил Альбер с наигранным удивлением. — Насколько я знаю, ты ведь даже не видел моей сестры?
— Одно мгновение, — ответил Али Бен Мохаммед. — И она стала для меня желаннее, чем оазис среди пустыни для измученного паломника! Она красива, умна и понятлива. Сна будет достойной женой повелителя!
— Для меня это большая честь, — сказал Альбер с притворным раболепием. — А если я все же откажусь?
— Это тебе не поможет, потому что ты в моей власти! — невозмутимо сказал Али. — Я убью тебя и завладею твоей сестрой!
— Я подумаю и поговорю с ней, — ответил Альбер и направил лошадь к ехавшей в одиночестве Юдифи.
Он вкратце рассказал ей о своем разговоре с Али Бен Мохаммедом и просил не впадать в отчаяние, а сохранять спокойствие. Заметив, что Али издали наблюдает за ним, он принялся изображать из себя человека, который напряженно и мучительно размышляет, но не может прийти к решению. Наконец, когда полуденный отдых подошел к концу и отряд вновь отправился в путь, он подъехал к Али, отозвал его в сторону и с видом примирившегося со своей судьбой человека сказал:
— Пусть будет так, как ты хочешь. Я понимаю, что не могу противиться твоей воле. Пусть моя сестра станет твоей женой; я отдаю наши судьбы в твои руки. Но не торопись! Сестра любит моего друга, товарища ее детства, и мысль о расставании с ним и с родиной будет ей тяжела. Будь снисходителен к ней! Пусть она свыкнется с этой мыслью!
В знак согласия Али Бен Мохаммед наклонил голову, и хотя Альбер не заметил больше никаких внешних признаков его удовлетворения и радости, ему почудилось, что Али поглядывает на него с большей доброжелательностью. Француз вернулся к Юдифи.
Альбер считал, что из отряда необходимо бежать прежде, чем они достигнут Якоба. Ведь совершить побег из города всегда труднее, чем по пути к нему. Казалось, побег не сулит особых сложностей. Альбера никогда не стерегли, палатки для себя и для Юдифи он всегда разбивал в некотором отдалении от всех остальных. Так что бежать им будет довольно легко. Важно только выбрать такой путь, чтобы уйти от преследования. Но как это сделать? Если Али разошлет свою свиту во все концы, беглецов, несомненно, обнаружат и схватят.
Тем не менее Альбер твердо решил бежать той же ночью. Стараясь оставаться незамеченным, он придирчиво осмотрел местность, чтобы сориентироваться. На юге и на востоке он увидел довольно внушительные горные цепи, а перед ними — долины, по которым текли реки. Горы могли бы стать самым надежным укрытием, а возможно, по ним проходила и граница. Во всяком случае, бежать следовало в таком направлении, которое не удаляло бы наших героев от города Кука — конечной цели их путешествия. Таким образом, Альбер должен был держать путь на восток, к горам.
Вечером отряд стал лагерем не на равнине, в тени деревьев, а в небольшой деревушке, жители которой были очень почтительны с Али Бен Мохаммедом. Он отвел Альберу и Юдифи хижину для ночлега. Оставшись с девушкой один на один, Альбер, не мешкая, сообщил ей, что решил бежать, ибо теперь достаточно хорошо узнал Али Бен Мохаммеда. Он убежден, что, едва они доберутся до Якоба, спасение станет невозможным. Юдифь согласилась с Альбером. Ни на секунду ее лицо не покидало выражение радости и тихого счастья. Альбер привел в порядок поклажу для лошадей, стоявших во дворе, после чего выскользнул за дверь, чтобы ознакомиться с деревушкой.
Ночь стояла тихая. Выяснить, где выставлены дозоры и не наблюдают ли за его хижиной издали, Альберу не удалось. Он прошел в глубь деревни. Ни души. Он даже приблизился к дому, где расположился сам Али Бен Мохаммед. Но и там все было погружено в глубокий сон. Альбер возвратился к Юдифи. Он сказал ей, что все спокойно и самое время бежать.
Он попросил ее не отставать от него ни на шаг, взял за поводья обеих лошадей и вывел со двора на улицу. К счастью, песчаная почва почти полностью скрадывала стук копыт, и Альбер достиг последних хижин на окраине деревушки, не заметив ничего подозрительного. С не меньшей осторожностью он довел лошадей до зарослей кустарника, помог сесть в седло Юдифи, сел сам, и они поехали, двигаясь в направлении, которое он точно определил.
Ночной мрак затруднял их передвижение. На пятьдесят шагов не было видно ничего, кроме неясных очертаний больших куп деревьев. Дул слабый ночной ветерок. Альбер знал, что дует он с востока, и, поскольку держал путь именно к востоку, ему оставалось лишь скакать навстречу ветру. Это давало ему уверенность, что они с Юдифью не сбились с пути.
Вначале они ехали по обширной, поросшей травой равнине. Потом дорогу им преградила река. Альбера это препятствие скорее обрадовало, чем расстроило. Ему было известно, что в это время года большинство рек мелеют. Стремясь оставлять как можно меньше следов, он решил скакать по ее руслу. Сперва он сам въехал в реку, обследовал ее на некотором расстоянии, а потом подал знак Юдифи. Река текла с востока, и беглецы направились против течения. Эта уловка должна была затруднить людям Али Бен Мохаммеда преследование: требовалось очень внимательно следить за берегами, чтобы заметить, что беглецы вновь выбрались на сушу, тем более что до той поры пройдет несколько часов.
Забрезжило утро. В деревушке теперь, наверное, хватились беглецов, и Альбер не строил себе иллюзий: ему было ясно, что их, несомненно, догонят, если они не доберутся прежде до таких мест, на которые власть Фульбе не распространяется.
Они провели в дороге уже немало времени, как вдруг Юдифь сказала:
— Смотрите, люди!
Ошеломленный, Альбер оглянулся. На горах, которые они только что миновали, он увидел небольшую группу всадников. По одежде он сразу же узнал спутников Али Бен Мохаммеда. Находился ли среди них сам Али, установить ему не удалось.
— Они посланы за нами! — крикнул он Юдифи, и оба пустили теперь своих лошадей во весь опор.
Вскоре они добрались до широкой и, как видно, довольно полноводной реки. Подобно первой, обмелевшей, эта также преграждала им путь. Заметив новую преграду, расстроенный Альбер закусил губы: лошади успели уже порядком разгорячиться — вряд ли можно пускать их в воду. Тем не менее раздумывать было некогда. Альбер направил своего коня в реку, попросив Юдифь следовать за ним на некотором расстоянии. Дважды сильное течение едва не унесло животных, пока наконец они не нащупали дно и не выбрались на берег.
Альбер обернулся. Африканцы находились уже вблизи противоположного берега. Поскольку он невольно указал им место, где можно переправиться через реку, можно было не сомневаться, что они последуют его примеру. Он пришпорил лошадь, Юдифь — тоже, и они помчались по равнине, выжимая все, что можно, из своих скакунов.
Внезапно из зарослей кустарника, мимо которых пролегал их путь, появилась группа всадников. Альбер сперва насторожился, ибо принял их за вторую половину свиты Али Бен Мохаммеда, но через минуту понял свою ошибку. У всадников, что ехали им навстречу, лошади были лучше, да и одеты они были иначе. Наверное, это жители страны, где беглецы теперь оказались, — страны, которую Али называл страной Багирми.
Увидев беглецов и преследовавших их фульбе, эти всадники тоже придержали коней. Воинов-багирми также оказалось не менее двадцати, некоторые из них были с ружьями.
Альберу было некогда раздумывать, как встретят его багирми — как друга или как врага — и как ему поступить. Он криком и знаками дал понять, что за ними гонятся и они просят у багирми защиты. Затем оглянулся и увидел, что фульбе поехали медленнее и начали приводить в готовность свое оружие.
Через несколько минут Альбер находился уже среди незнакомых всадников. Как и все жители этой центрально-африканской страны, они были неграми; один из них имел знаки отличия, которые позволяли заключить, что он более важная персона, нежели его спутники.
К его ногам и бросился Альбер, быстро соскочив с лошади. Словами и жестами он просил принять его и спутницу и защитить от погони.
Преследователи между тем остановились и, похоже, обсуждали, что предпринять. То же сделали и багирми. Они лопотали на каком-то незнакомом языке, так что Альбер понимал лишь отдельные слова. Впрочем, их язык напоминал язык фульбе. Тем не менее из услышанного он сделал вывод, что багирми рассержены вторжением фульбе в их владения. Они грозили воинам Али Бен Мохаммеда копьями и, казалось, готовы были немедленно пустить их в ход. Однако предводитель удерживал своих соплеменников.
Вслед за тем — когда Альбер вновь садился в седло — пожаловал один из фульбе — вероятно, парламентер. Француз прилагал все усилия, чтобы уяснить себе смысл переговоров, которые тот вел с негром. И действительно кое-что он понял. Фульбе требовал выдачи беглецов, которые являются собственностью их племени, а взамен обещал багирми богатый выкуп овцами и коровами, а также немало денег. В случае отказа он угрожал применить оружие.
— Кто ваш предводитель? — спросил негр, и Альбер отчетливо слышал этот вопрос.
— Али Бен Мохаммед, будущий преемник султана Якоба.
— Передай ему, пусть убирается! — с яростью вскричал негр и угрожающе вытянул руку. — Я не желаю говорить с ним и скорее готов вонзить в его сердце кинжал, чем оказать дружескую услугу. Беглецы останутся у меня. Пусть попробует их забрать!
Эти слова, точный смысл которых Альбер уяснил лишь потом, сопровождались такими откровенно недружелюбными жестами, что парламентер поспешил ретироваться.
Тем временем силы Али Бен Мохаммеда возросли: подошло подкрепление — еще десять всадников, присоединившихся к первой группе. Таким образом, фульбе получили численный перевес над багирми и, вероятно ободренные этим, начали приближаться. Те, у кого были ружья, изготовились к стрельбе, остальные достали луки и стрелы.
Словами и знаками Альбер объяснил негру — предводителю багирми, что разумнее встретить воинов фульбе, расположившись в ближнем кустарнике. Негр оценил дельный совет француза. Багирми быстро отступили на несколько шагов и тоже взялись за оружие. Альбер же был весьма доволен, что может продемонстрировать фульбе свою храбрость. Он искал Али Бен Мохаммеда, которого успел заметить, но тот держался позади своего отряда.
Враги приблизились уже настолько, что их легко могла поразить ружейная пуля. Для стрел, правда, расстояние было еще слишком велико. Молодой француз решил, что самое лучшее — начать схватку самому, и выбрал мишенью воина, который был ближе всех. Раздался выстрел — воин рухнул наземь. Багирми издали ликующий вопль.
Наверное, они подумали, что не стоит пренебрегать таким союзником, как Альбер, и выстрелили из ружей и луков. Впрочем, они промахнулись, и фульбе подошли еще ближе. Альбер дал понять находившемуся рядом с ним воину, чтобы тот заряжал одно ружье, пока сам он будет стрелять из другого. Хитрый африканец быстро смекнул, что от него требуется, и в знак согласия кивнул французу. Теперь Альбер взял на мушку второго фульбе и сразил его. Затем схватился за пистолеты, которые, как он предполагал, били на сто шагов. Он попробовал, и с первого же выстрела ему удалось ранить третьего противника.
Потеря трех человек еще до начала схватки повергла фульбе в замешательство. Они удвоили осторожность, и Альбер с удовлетворением заметил, что Али Бен Мохаммеду приходится всячески подбадривать и воодушевлять своих воинов и это вызывает у него гнев и недовольство. Негр успел зарядить одно ружье, сам Альбер зарядил второе и, не спеша прицелившись, опять поразил двух фульбе.
Рев ликования, издаваемый багирми, сопровождал поражение очередного фульбе. Те сбились в кучу, словно стадо овец. Наверное, каждый из них опасался, что следующий выстрел настигнет его, и испытывал непреодолимое желание очистить поле боя.
Теперь и Али Бен Мохаммед направил свое ружье на Альбера. Целился он довольно хорошо — его пуля пролетела рядом с французом и угодила в ствол дерева. Багирми подняли его на смех, да и в глазах соплеменников этот промах вряд ли добавил уважения к их предводителю.
Тогда Али Бен Мохаммед выхватил из ножен саблю и поскакал во главе своего отряда, воодушевляя колеблющихся. Не задумываясь, Альбер предназначил очередную пулю гордому фульбе. Но тот, разгадав замысел врага, воспользовался моментом, когда его отряд совершал поворот, и опять очутился позади своих воинов. Альбер решил, что самое время напасть на приближающихся врагов. Он сделал знак негру, и тот мгновенно понял, что от него требуется, но жестами попросил Альбера сделать прежде еще несколько выстрелов. Молодой человек внял просьбе и разрядил в воинов фульбе свои ружья и оба двуствольных пистолета. Промахнулся он всего один раз: убитыми и ранеными оказались пятеро врагов. Таким образом силы фульбе и багирми примерно сравнялись, с той, однако, разницей, что фульбе обескураженно отступили, а багирми, напротив, ликовали.
По первому знаку негра багирми с дикими криками бросились на фульбе. Завязалась борьба, в которой смешались копья, луки, стрелы, сабли и щиты. Альбер отступил. Он довольствовался тем, что заряжал свои ружья и временами улыбался Юдифи, дарившей его взглядами, полными восхищения и любви.
Нетрудно было угадать, кому достанется победа. Багирми были полны уверенности и ликования, у них были свежие лошади, куда более выносливые, нежели лошади противника. Фульбе, напротив, действовали нерешительно, уставшие лошади мешали им продвигаться вперед. Одного за другим они теряли людей и постепенно отходили к реке. Там они предприняли последнюю, но безуспешную попытку оказать сопротивление, но до противоположного берега добрались единицы, среди них и Али Бен Мохаммед, которого багирми некоторое время преследовали, но не догнали.
Багирми снова собрались вместе, и негр — без всякого сомнения, их предводитель — приблизился к Альберу.
— Храбрец! Храбрец! — одобрительно кивая головой, воскликнул он. — Кто ты?
Пользуясь вперемешку арабским и языком фульбе, Альбер поведал ему о своих приключениях, не очень уклоняясь от истины. Он добавил, что ничего так страстно не желает, как вновь увидеть родные края, что будет очень благодарен воинам багирми, если они укажут ему кратчайший путь домой. Негр выслушал его со всем вниманием и спросил, куда ему, собственно, нужно. Альбер ответил, что в Кука.
Услышав это название, багирми пришли в неистовство, принялись потрясать копьями и размахивать саблями, прямо-таки наседая на ошеломленного француза. С невероятным трудом Альберу удалось добиться, чтобы его выслушали. Он растолковал багирми, что вовсе не знает Кука, не ведает, где он находится, и не понимает, чем вызвал у них такой гнев. С не меньшим трудом ему удалось выяснить, что Багирми находится в состоянии войны с султаном государства Борну, столицей которого является Кука.
Таким образом, надежда быстро добраться до Кука — города, откуда отправляются караваны, — вновь не оправдалась, по крайней мере в ближайшее время. Но поскольку государство Багирми простирается, как слышал Альбер, далеко на восток, он рассчитывал и отсюда добраться до какого-нибудь города, связанного с цивилизованным миром. Ему казалось, что багирми настроены к нему довольно дружелюбно, поэтому он без колебаний присоединился к ним. Они в свою очередь тоже сочли его намерение естественным, и, когда багирми отправились в путь, он уже скакал посередине их маленького отряда, рядом с предводителем.
XI. МУЛЕЙ
— Слушай, народ Багирми, слушайте, правоверные, слушайте, жители Массенья!
Та-ра-та-та! Бум! Бум! Та-ра-та-та! Бум! Бум!
— Миллион курди, миллион курди, слушайте все, миллион курди предлагает султан, повелитель правоверных, наш всемилостивейший господин, — миллион курди обещает он тому, кто вернет ему сына, которого похитили проклятые буддама! Слушайте повеление султана и верните ему сына, которого похитили проклятые буддама! Верните султану его сына, верните стране счастье и радость! Миллион курди! Миллион курди!
Услышав эти странные призывы, прерываемые звуками старой трубы и зловещим рокотом барабана, Юдифь и Альбер едва подавили улыбку, когда, встреченные этим шумом, добрались до большой рыночной площади Массенья, главного города государства Багирми, жители которого были приверженцами ислама.
— Что означает этот переполох? — спросил Альбер негра, который по-прежнему ехал рядом с ним.
— Еще не знаю, — ответил тот. — Вероятно, пока меня не было, здесь что-то случилось. Если я не ослышался, похитили сына султана. Поедем со мной во дворец, чужеземец, там все узнаем.
Альбер последовал за своим провожатым, от которого на протяжении пяти дней пути не отставал ни на шаг.
Перед ними тотчас распахнулись ворота дворца, представлявшего собой большой, но в общем невзрачный прямоугольник. Челядь встречала их повсюду со смешанными чувствами радости и печали. Казалось, все охвачены величайшим смятением.
Прежде чем войти во дворец, негр отвел Альберу отдельный домик, который также находился на обнесенной стеной дворцовой территории. Домик оказался светлым, просторным и приветливым. Правда, он был пуст, если не считать циновок и низких скамей у стен в каждой комнате. Там находилось также несколько кувшинов — видимо, для воды.
Тем не менее Альбер, получив такой кров, был очень доволен. Долгая скачка измотала даже его. А как же, наверное, утомлена Юдифь, хотя на ее лице нет и следа усталости! Первым делом молодой человек привел в порядок комнату своей спутницы, украсив ее тем немногим, что удалось спасти после буйства самума. Брезентовые полотнища он использовал вместо гардин на окнах, чепраки с лошадей — вместо ковров.
Едва он, закончив эти первые попытки обжить новое жилище, покинул Юдифь и растянулся на циновке в собственной комнате, как явился негр, которого, как слышал Альбер, называли Мулей.
— Ты должен немедленно пойти со мной к султану, чужеземец! — воскликнул он, обращаясь к Альберу.
— Как, уже? — недовольно ответил тот, как всякий человек, которого беспокоят в первые же минуты долгожданного отдыха. — Что случилось? Зачем я султану?
— Он требует, чтобы ты вернул ему сына! — ответил Мулей. — Пока я отсутствовал, молодой сын султана предпринял небольшое путешествие вверх по реке Шари к озеру Чад. Теперь ты знаешь, что мы находимся в состоянии войны с султаном государства Борну, и султан просил народ буддама стать его союзником.
— Что это за народ — буддама? — не в силах скрыть досаду, спросил Альбер.
— Буддама — язычники, проклятые Богом язычники! — ответил Мулей. — Они живут на островах озера Чад и нередко враждуют с султаном Борну. Но теперь, как я сказал, они помирились, чтобы бороться против нас. Наверное, буддама стало известно, что сын султана отправился в плавание, они напали на путешественников и похитили его. Весть об этом дошла сюда вчера вечером. Султан вне себя от горя и ярости — ведь это его единственный сын.
— Почему бы ему не собрать своих воинов, не напасть на буддама и не вернуть сына?
— Ты говоришь глупости! — отрезал Мулей, впрочем весьма дружелюбно настроенный по отношению к Альберу. — Буддама обитают на островах, а у нас нет лодок. И султан Борну помешал бы нам добраться до озера Чад. Сына султана можно вызволить только хитростью!
— Пусть так! Но какое мне до всего этого дело? — нетерпеливо спросил Альбер.
— Так слушай же! Здесь у нас, как уверяют жрецы, существует древнее предсказание, что однажды сын султана будет похищен могущественными врагами, но его освободит храбрый и мудрый чужеземец. Поэтому твое прибытие именно в эту минуту султан считает волей Аллаха, а тебя — тем самым чужеземцем, которому суждено освободить его сына.
— Понимаю! — вскричал Альбер, вне себя от раздражения и нетерпения. — Не успел я избавиться от ужасов пустыни и уйти от преследования Али Бен Мохаммеда, как здесь мне уготовано новое испытание! Ну как, как мне спасти сына султана?
— Этого я не знаю, — ответил Мулей. — Скажу тебе только одно: если ты откажешься, султан непременно велит тебя казнить! Но сейчас он желает немедленно видеть тебя! Следуй за мной, все остальное узнаешь сам!
Альбер понял, что ему не остается ничего другого, как повиноваться. Мимоходом он сказал Юдифи, что идет к султану, и отправился вслед за негром. Он заметил, что перед его домом уже выставлена охрана из пяти воинов. Прислуга дворца таращилась на него с нескрываемым любопытством — слух о пророчестве уже, видимо, распространился.
В просторном зале в окружении жрецов и сановников, подобно восточному владыке, восседал на троне султан Багирми, облаченный в праздничные одежды.
Альбер счел за благо не демонстрировать чрезмерную покорность. Он остановился посредине зала, скрестил руки на груди и поклонился.
Султан, однако, поднялся с трона, приблизился к Альберу и обнял его. Это был статный и даже красивый человек, но, судя по лицу, жестокий властитель.
— Добро пожаловать, чужеземец! — приветствовал он молодого человека. — Тебя посылает нам сам Аллах! Добро пожаловать!
Затем он усадил Альбера рядом с троном и начал долгий, обстоятельный рассказ, из которого француз очень скоро уяснил, что Мулей поведал ему чистую правду. Один из жрецов, говорил султан, огласил прорицание, недвусмысленно гласившее, что в результате предательства у могущественного султана Багирми похитят единственного сына, но смелый чужестранец вернет ему наследника. Нет никаких сомнений, что этим чужеземцем может быть только Альбер, и султан с решительностью, не допускающей возражений, потребовал, чтобы Альбер немедленно начал готовиться к походу в страну буддама для освобождения наследника престола.
— По совету нашего верного слуги Мулея мы предоставляем твоей собственной мудрости, чужеземец, — закончил свой рассказ султан, — отыскать средство вернуть Нам Нашего горячо любимого сына. Мы надеемся, что это случится скоро. Тебя наградят щедрее, чем объявлял народу глашатай. Мы добавляем к миллиону курди еще миллион и обещаем тебе, что ты будешь сидеть рядом с Нами на троне и вместе с Нами повелевать правоверными. Твоим наследникам Мы пожалуем самую красивую провинцию Нашего государства. Ступай же в ожидании столь щедрой награды и исполни предсказание! Да будет милостив к тебе Аллах!
Альбер почтительно наклонил голову и в сопровождении Мулея вернулся домой. Негр обещал французу скоро опять навестить его. Таким образом, у Альбера оставалось время, чтобы подготовить Юдифь к тем опасностям, которые снова грозили ему, а значит, и ей.
Юдифь и в самом деле была несказанно удручена, когда узнала, какое опасное предприятие предстоит ее возлюбленному, и Альбер не находил слов утешения.
Этот взволнованный разговор был прерван приходом Мулея, и Альбер удалился с негром в свою комнату. Успокаивая Юдифь, Альбер показал ей миниатюрный медальон с портретом своей матери, который носил на груди под бурнусом. На этот раз от волнения он забыл спрятать драгоценную реликвию.
— Что это у тебя за красивая блестящая вещица? — поинтересовался Мулей, заметив медальон. — Не из тех ли, что носят чужеземцы, чтобы знать время?
— Нет, нет! — ответил Альбер, и вправду опасаясь, что негр изъявит желание завладеть медальоном. — Там, внутри, портрет моей матери, которую я очень люблю!
— Покажи его мне, чужеземец! — попросил негр, и Альберу ничего не оставалось, как открыть медальон.
Мулей рассматривал портрет долго, очень долго. На лице его отразилось волнение, что удивило Альбера. Наконец он возвратил медальон владельцу.
— Господин де Морсер! — произнес он на сносном французском языке со слезами на глазах. — Аллаху было угодно свести нас там, где я никак не ожидал встретить вас!
Если бы среди ясного неба внезапно сверкнула молния или свершилось какое-нибудь чудо, это не так бы поразило и напугало молодого француза, как обращение к нему на языке его родины, как произнесение его подлинного имени! Он уставился на негра — ему казалось, он грезит! Должно быть, он и в самом деле грезил — ничего другого быть не могло.
— Господин Альбер, — заметил негр с грустью, — неужели вы не узнаете старого Ахмета?
Он опустился на колени и, схватив руку Альбера, покрывал ее поцелуями, заливаясь слезами.
— Ахмет! Ахмет! Боже мой, что со мной! Что я слышу? — вскричал Альбер, не помня себя от изумления. — Ахмет? Наш старый слуга? Лакей моего отца?
— Да, молодой господин, это я, я Ахмет, лакей господина генерала!
Француз был потрясен. По его телу пробежал трепет. Здесь, в Центральной Африке, в стране, где все было ему чуждо и враждебно, он встретил любящее сердце, встретил верного друга! Слезы навернулись ему на глаза. Он поднял негра, крепко прижал его к груди и расцеловал.
Вряд ли можно было представить себе более неожиданную встречу! Когда отец Альбера, генерал де Морсер, находился в Турции, когда он, совершив предательство, помог свергнуть пашу Янины, — предательство, разоблачив которое граф Монте-Кристо впоследствии вынудил генерала покончить жизнь самоубийством, — он получил в награду от турецкого правительства вместе с прочими дарами несколько негров-невольников. Он оставил себе лишь одного из них — Ахмета и взял его с собой в Париж, определив лакеем в своем доме. Генерал не особенно беспокоился об Ахмете, но Мерседес была к нему очень добра, и ребенком Альбер любил с ним играть. Тем не менее негр не переставал тосковать по родине. В доме генерала без него было нетрудно обойтись, поэтому он без труда получил разрешение покинуть Париж, и вскоре о нем забыли.
— Я благополучно добрался до родных мест, — рассказывал негр. — Багирми — моя родина. Здесь я вновь принял прежнее имя — Мулей. Султан, который в то время только что пришел к власти — а для этого он убил своего брата, — призвал меня к себе, прослышав, что я необычайно умен. Но, мой молодой господин, когда тебе доведется увидеть Париж, нетрудно прослыть мудрецом в своей стране. Султан говорил со мной и, видимо убедившись, что я могу оказывать ему добрые услуги, оставил во дворце. Со временем я сделался его правой рукой. Но я ненавижу его, потому что он жесток со своими подданными. Впрочем, скоро час его пробьет! Но довольно об этом! Еще в первый день, когда мы встретили вас и спасли от преследования фульбе, я заподозрил, что с вами что-то не так. Хотя вы были одеты и вели себя как правоверный, но однажды неосторожно сказали своей спутнице несколько слов по-французски. Я случайно это услышал. Конечно, я вспомнил язык, вспомнил Францию и почувствовал к вам некоторое расположение. Правда, если бы я мог предположить, кто вы — ведь вы очень изменились, — я доставил бы вас до границы с Борну, снабдил всем необходимым и указал, как добраться до вашей родины! Да и кто мог предположить, что вас изберут для свершения прорицания? Впрочем, может быть, такова воля Аллаха! Увидим! Расскажите мне, что за обстоятельства привели вас в Багирми?
Удовлетворить любопытство бывшего слуги оказалось не так легко, однако молодому французу удалось возможно более кратко поведать ему достаточно о событиях последнего времени. Мулей только покачивал головой от удивления.
— А теперь, разумеется, ты поможешь мне бежать и избавишь от этой непосильной задачи — искать сына султана! — закончил Альбер.
— Мой дорогой господин, — печально возразил Мулей, — это невозможно. Моя власть не столь велика. Впрочем, и ваша задача не так уж сложна.
— Не так сложна? — недоверчиво воскликнул Альбер.
— Да, я не оговорился! Эти буддама не так уж плохи, как вы, наверное, решили, — ободряюще заметил Мулей. — То, что они похитили сына нашего султана, ни о чем не говорит. Их натравил султан Борну, а они ненавидят нашего повелителя за его жестокость. В остальном же они миролюбивый народ и редко покидают свои острова, но, разумеется, не потерпят, чтобы кто-то проник туда с враждебными намерениями. Прежде всего они очень любопытны, и все, что им незнакомо, удивляет их. Если вы возьметесь за дело правильно, вас примут вполне дружелюбно. Конечно, не проговоритесь, что вы из Массенья!
— Но если они узнают, я пропал!
— Они не узнают, положитесь на меня! — заверил его Мулей. — Будьте совершенно спокойны и не теряйте присутствия духа. Завтра с утра мы отправимся к озеру Чад. Уже решено, я буду сопровождать вас. Во всем остальном положитесь на меня! Не знаю, спасете ли вы сына султана. Но это и не столь важно. Вам придется пробыть на островах не более восьми дней. Потом вы вернетесь назад — с принцем или без него.
— Могу я взять с собой свою спутницу? — поинтересовался Альбер.
— Можете, но только до озера, не дальше. Это было бы чересчур рискованно. Впрочем, не тревожьтесь о ней! Я буду беречь ее как зеницу ока. Ничего дурного с ней не случится, а я захвачу с собой моих жен, чтобы они прислуживали ей.
XII. ВОССТАНИЕ
Путешественники направились к озеру Чад по реке Шари. Мулей, Альбер и Юдифь находились в одной лодке и могли без помех обмениваться мыслями и строить планы на будущее. Мулей все еще не оставлял попыток убедить молодого француза в безопасности всего предприятия. Негр утверждал, что вовсе не важно, удастся ли Альберу привезти сына султана, главное — чтобы он вообще отправился к буддама и пробыл у них несколько дней, проявив тем самым добрую волю.
В общих чертах его план состоял в следующем. Альберу надлежало появиться во владениях буддама в как можно более причудливом наряде, чтобы привлечь их внимание. Он должен был захватить с собой только ружье и необходимые припасы, но ничего, что представляло бы хоть малейшую ценность, ибо можно ожидать, что островитяне примутся выпрашивать у него все, по их мнению, мало-мальски ценное. Лодка, на которой он поплывет к островам, должна быть также снабжена парусом — устройством, которое обитателям островов совершенно незнакомо. Если ему удастся объясниться с буддама, ему необходимо скрыть, что он прибыл из Массенья, намекнув, что его послал султан Борну. Кроме того, ему не следует справляться о сыне султана Багирми — вполне вероятно, что буддама сами начнут хвалиться своим недавним успехом.
Примерно в десяти милях от устья Шари путешественники сделали остановку, и Мулей принялся наряжать своего подопечного. Он по-новому повязал ему тюрбан, причудливо задрапировал бурнус и превратил Альбера в столь фантастическое существо, что даже Юдифь при виде его не смогла, несмотря на все свои опасения, удержаться от улыбки. На лодке, которой предстояло воспользоваться Альберу, установили парус. Вечером все было готово к отплытию. Чтобы не привлекать внимания племен, населявших берега реки, ему надо было миновать нижнее течение Шари ночью. К рассвету лодка должна уже выйти в озеро. Все деньги, часы и медальон Альбер передал Юдифи. Пока он будет отсутствовать, Юдифь останется под защитой Мулея и его жен, дожидаясь Альбера на том самом месте, откуда он отправится в путь.
Альбер стремился скрасить Юдифи минуты расставания. Он напустил на себя уверенный вид, хотя почти не питал надежды на успех. С улыбкой он пожал ее руку, распрощался с Мулеем и султаном, также сопровождавшим маленькую флотилию в собственной лодке. Затем, с заходом солнца, он сел в свое суденышко и отдался во власть бурного течения Шари. Вскоре он скрылся из глаз провожавших, на прощание помахав им рукой.
Несколько часов он плыл, лежа в лодке, а когда наконец выпрямился и сел, то заметил вдали, на севере, как ему показалось, какую-то светлую полосу. Вероятно, это и было озеро Чад. Он не ошибся. Потом река стала шире, течение замедлилось, и в наступающих предрассветных сумерках Альбер увидел бесконечную водную гладь, напоминавшую своей необозримостью океан. Перед ним лежало озеро Чад.
Его охватил страх при виде этого водного простора, у которого будто и нет берегов, если не считать того, что находился у него за спиной. Взошло солнце, повсюду царила торжественная, ничем не нарушаемая тишина. Постепенно он стал различать справа и слева бесформенные синеватые пятна — должно быть, те самые острова, где жили буддама.
Почти все острова были покрыты пышной растительностью, да иначе и быть не могло при царящей здесь влажной жаре. Впрочем, первые острова казались необитаемыми. Они располагались близко друг от друга, разделенные узкими протоками, которые напоминали небольшие каналы. Эти протоки были настолько мелкими, что Альбера одолели сомнения, удастся ли ему преодолеть их на своей лодке. Поэтому он остался на открытой воде и воспользовался слабым ветерком, чтобы обогнуть острова.
Через какой-нибудь час он увидел еще один остров, гораздо больше предыдущих. Там было немало хижин, а на берегу лежали длинные узкие лодки. Как вдруг на острове все пришло в движение. Лодки одна за другой отходили от берега и быстро приближались к Альберу. В каждой сидели островитяне. Судя по описанию Мулея, это и были люди буддама.
Они не выказывали ни малейшей враждебности. В этом Мулей тоже не ошибся. Вместо недоверия и подозрительности Альбер почувствовал самый неподдельный интерес к своей особе. Похоже, буддама были приятно удивлены появлением незнакомца. Лишь немногие из них имели луки со стрелами. Огнестрельного оружия Альбер вообще не заметил. Он опустил парус и встал во весь рост. При виде этой странной фигуры женщины и дети принялись от радости хлопать в ладоши, проявляя прямо-таки детский восторг. Они подплыли к нему вплотную и принялись оживленно о чем-то болтать. Если не считать нескольких слов, Альбер ничего не понял.
И на этот раз предвидения Мулея исполнились в точности. Альбера приняли с неподдельной благожелательностью, все с удивлением и восхищением разглядывали его. Первые дни его возили с острова на остров как величайшую достопримечательность. Правда, объясниться с островитянами ему никак не удавалось. Впрочем, в этом и не было нужды. Буддама приносили ему вволю еды и питья, ничего не требуя взамен. Главное — рассматривать его и трогать.
Разумеется, Альбер ни на минуту не забывал об основной цели своего визита. Однако прошло уже три дня, а ему все еще ничего не удалось услышать о сыне султана Багирми. Он уже начал опасаться, что попал к племени, которому об этом похищении ничего не известно. Это расстроило бы все его планы. Но на четвертый день его привезли на большой остров, который назывался, кажется, Гуриа. По окончании церемоний, связанных с его приездом и проведенных с размахом, его торжественно подвели к одинокой хижине, отодвинули засов и пригласили внутрь.
Там на соломенной циновке сидел чернокожий юноша лет шестнадцати с печальными глазами. Он был совершенно подавлен и убит горем, выглядел хилым и болезненным. По торжествующим взглядам, которые бросали на него буддама, по их насмешливым репликам, где упоминались Багирми и Массенья, Альбер тотчас же сделал вывод, что перед ним злосчастный сын султана. Пользуясь простодушием и наивностью туземцев, не допускавших, видимо, и мысли, что чужеземец мог оказаться посланцем султана Багирми, Альбер заговорил с юным принцем. Он намеренно обратился к нему на языке, которого тот не мог знать, но потом с многозначительной миной, призывавшей соблюдать осторожность и хранить молчание, показал ему амулет султана. По всей вероятности, этот амулет был хорошо знаком удрученному наследнику престола Багирми.
Юноша быстро овладел собой. Мимолетным взглядом показал французу, что его намерения поняты. Затем Альбер, сопровождаемый толпой островитян, оставил эту импровизированную тюрьму.
На следующий день торжественная процессия отправилась на другие острова. Опасаясь чрезмерно удаляться от острова Гуриа, Альбер часто упоминал его название и жестами давал понять, что хотел бы снова туда вернуться. Буддама не возражали, и на шестой день утром француз опять очутился на Гуриа.
Он убедился, что освободить принца и бежать вместе с ним не составит никакого труда. Тюрьма не охранялась, ибо на острове в этом не было необходимости. Альбер решил устроить побег той же ночью. Вечером он удостоверился, что его лодка стоит на прежнем месте, и не ложился допоздна, любуясь танцами, устроенными буддама в честь удивительного незнакомца, после чего ушел в отведенную ему хижину.
Спустя час вся деревня погрузилась в глубокий сон. Ночь была темная, безлунная. Альбер действовал без опаски, так как, даже если буддама его поймают, он оправдается, словами и знаками объяснив, что имел вполне безобидные намерения. Он зашагал прямо к хижине, служившей тюрьмой для принца, отодвинул засов, разбудил спокойно спавшего юношу и жестом велел ему следовать за ним. Принц вскочил, и через несколько минут беглецы, покинув сонную деревню, уже сидели в лодке.
Нельзя было терять ни минуты. Во что бы то ни стало до рассвета нужно покинуть злополучные острова, а поскольку ветра не было и воспользоваться парусом было невозможно, задача оказалась не из легких. Отталкиваясь длинным шестом, Альбер продвигал лодку вперед. Принц помогал ему. Вскоре француз заметил, что юноша очень слаб. Видимо, он хворал, временами его била дрожь, и он знаками показывал, что ему очень плохо.
Беглецам необходимо было добраться до низовьев Шари и при этом не подвергнуться нападению туземцев, живших по берегам. Внушая своему молодому другу, что это самая трудная часть его предприятия, Мулей не ошибся. Правда, он дал слово Альберу выставить вдоль берега скрытые дозоры, чтобы они предупредили его, Мулея, и сгорающего от нетерпения султана о появлении беглецов и обеспечили им возможность вовремя прийти на помощь. Но эта надежда была довольно слабой, и Альбер всерьез подумывал, не лучше ли дождаться ночи и затем пойти к устью Шари под парусом, тем более что дул попутный ветер. Однако, обернувшись, он увидел позади множество лодок — вероятно, это была погоня. Ему пришлось отказаться от первоначального замысла и уходить от преследования. К счастью, он убедился, что буддама на своих утлых суденышках, приводимых в движение шестами, не решаются выйти в бурную Шари. Впрочем, им ничто не мешало преследовать беглецов по суше. Альбер использовал ветер, который все больше крепчал, и вскоре с радостью заметил, что лодки буддама далеко отстали. Наконец около полудня лодка Альбера вошла в устье Шари.
Теперь Альбер счел за благо прибегнуть к прежней хитрости.
Он опять лег на дно лодки, чтобы его не было видно с берега, и лежа управлял рулем. Парус он не убрал. Таким образом прибрежные обитатели, незнакомые, как и буддама, с назначением паруса, поневоле решат, что лодка движется сама по себе. Альбер рассчитывал, что жители окажутся достаточно суеверными и боязливыми и не скоро рискнут приблизиться к таинственной лодке. Лишь иногда он приподнимал голову, чтобы уточнить направление движения.
В самом деле, он не увидел ничего, что предвещало бы нападение. Ветер по-прежнему благоприятствовал беглецам, так что преодолевать быстрое течение реки было легче, чем он ожидал. Лодка двигалась быстро, и к вечеру они уже достигли мест, которые, как он отметил в ночь своего отплытия, находятся вблизи границ Багирми. Однако в эту минуту на лодку обрушился дождь стрел, и Альбер, осторожно выглянув, обнаружил, что подошел слишком близко к берегу, где толпились воины. Он ускользнул от них целый и невредимый, однако они стали преследовать лодку по берегу. Но между тем граница Багирми была уже совсем рядом.
Временами Альбера тревожило и самочувствие наследника султана. Возможно, он ошибался, но, на его взгляд, принц находился при смерти: глаза юноши остекленели, дыхание сделалось затрудненным и хриплым.
Опять спустилась ночь, и иногда Альбер все еще слышал с берега крики врагов. Затем он уловил шум схватки. Вероятно, преследователи наткнулись на воинов багирми.
— Альбер! Альбер! Сын мой! Сын мой! — эти крики Юдифи и султана убедили его наконец, что он вновь среди друзей. Он направил лодку к берегу и выпрыгнул на сушу.
Усталый, ослепленный факелами, радостно взволнованный своим благополучным возвращением, целиком поглощенный Юдифью, он почти не замечал, что творилось вокруг, и едва ли обратил внимание на толпу, собравшуюся приветствовать отважного спасителя.
— Что бы ни случилось, будьте совершенно спокойны!
Эти слова прошептал ему на ухо верный Мулей. Альбер, вначале было насторожившийся, вскоре забыл о таинственном предостережении друга. Он слышал милый голос Юдифи, любовался ее улыбкой и был доволен. Вскоре он погрузился в сладкий сон под пологом палатки, в которую его проводили.
На следующее утро Альбер удивился внезапно наступившим переменам. Над лагерем висела зловещая тишина, не предвещавшая ничего хорошего. У его палатки несли караул воины из личной охраны султана, запретившие ему покидать это временное жилище. Остальные воины сидели скорчившись на земле и вполголоса тянули монотонную печальную мелодию. Скоро Альбер понял причину происходящего. Он догадался, что сын султана умер. Но почему так строго стерегут его, Альбера? Почему на него хотят взвалить вину за несчастье, в котором он неповинен?
Наконец его позвали к султану. Повелитель Багирми сидел в своем шатре, склонившись над умершим сыном. Его взгляд не предвещал ничего хорошего.
— Ты вернул мне не сына, а его труп, чужеземец! — вскричал султан, увидев Альбера.
— Аллах оказался сильнее меня! — смиренно ответил француз. — Я сделал все, что в моих силах, я освободил твоего сына. Я не могу противостоять воле Аллаха!
— Ты отравил его, негодяй! — гремел разгневанный султан.
Альбер презрительно пожал плечами. Против подобного обвинения ему нечего было возразить. Его отвели в прежнюю палатку. Потом лагерь снялся с места, и молодой француз оказался в окружении султанских воинов. Юдифь исчезла. Время от времени он видел только Мулея рядом с султаном. Альберу пришлось идти пешком. Траурная процессия неспешно двинулась в путь. Спустя три дня Альбер снова очутился в Массенья.
Там его поместили в прежний домик, Юдифь снова была с ним. Только многочисленная охрана была выставлена вокруг их жилища и пища, которую им приносили, стала гораздо хуже. Альбер понял, что с ним обращаются как с пленником.
На следующее утро Альбер обратил внимание, что посередине большой площади, расположенной в пределах дворца, сооружают небольшой дощатый помост с простым сиденьем. Вначале он решил, что речь идет о принесении жертв за умершего принца. Но потом явился отряд личной охраны султана и велел ему следовать с ним. Альбера осенила догадка, что возведенное сооружение имеет какое-то отношение к его особе. Тем не менее он не выказал страха, переглянулся с Юдифью и покорно отправился в сопровождении телохранителей султана.
Повелитель правоверных уже восседал на троне, принесенном для него. Альбер остановился напротив, и мрачные, полные угрозы взгляды, которыми султан мерил француза, не сулили тому ничего хорошего. Однако Альбер спокойно и гордо смотрел прямо в глаза султану.
— Чужеземец! — начал тот дрожащим от гнева голосом. — Мы приказали тебе исполнить предсказание и спасти Нашего сына. Ты, лицемерный и лукавый, сделал вид, что готов выполнить Наш приказ. Ты освободил Нашего любимого сына, но доставил его Нам мертвым. Из гнусных побуждений ты отравил его! За свое преступление ты умрешь! Веревка обовьет твою шею, и ты будешь задушен!
— Зачем мне было делать это, повелитель правоверных? — спросил Альбер, стараясь не терять присутствия духа.
— Потому что ты, глупец, верил, что исполнится вторая часть предсказания и ты станешь властителем этой страны! — с презрением вскричал султан. — Но Мы докажем тебе, что Наша власть сильнее искусства прорицателей! Ты умрешь, умрешь немедленно!
«Умереть?! Умереть теперь, не простившись с Юдифью? Теперь, когда будущее сулит мне величайшее благо мира? Нет, если умереть, то по крайней мере не таким образом, не от руки палача!»
— Подойдите сюда, продажные слуги подлого султана! — угрожающе вскричал Альбер, простирая руки к палачам. — Я невиновен! Я сделал все, что в моих силах, чтобы спасти сына этого человека! В том, что он умер, моей вины нет!
Телохранители заколебались. Султан в гневе поднялся с трона. От ярости он не мог вымолвить ни слова. Альбер бросил взгляд на Мулея: негр хранил спокойствие. Он безмолвно поднял глаза к небесам, как бы желая напомнить Альберу о Боге, а затем сделал какой-то неопределенный знак, который молодой француз не совсем понял, однако уловил в этом жесте Мулея некое подобие надежды.
Этот миг и решил судьбу молодого человека. Едва он, склонив голову, успел подумать: «Неужели и Мулей предал меня?», как мускулистые руки негров схватили его и поволокли к помосту. Здесь всякое сопротивление было бесполезно.
— Альбер! Альбер! — донесся до него пронзительный крик Юдифи. — Альбер, что с тобой будет?
— Меня убьют по приказу презренного лгуна! — вскричал молодой француз, пытаясь вырваться из рук телохранителей. — Да свершится воля Божья! Помни о том, Юдифь, что я сказал! Будь счастлива и не забывай меня!
Молодая девушка попыталась протиснуться к нему, но ее удержали — на этот раз по повелению самого Мулея. Четыре пары сильных рук буквально припечатали Альбера к деревянному сиденью. К нему уже приближался палач с толстой веревкой в руках. Неужели действительно пришло время умирать? Неужели ему суждена такая позорная, такая бесславная смерть?
В этот миг напряженную тишину разорвал удар барабана — того самого, что вызвал невольную улыбку молодого француза при въезде в Массенья. За этим ударом последовал сперва неясный ропот, в следующую секунду сменившийся дикими воплями. Двор наполнился ужасным ревом. Поднялся такой невероятный шум, словно наступил конец света. Альбер не знал, что и подумать, — ему почудилось, будто рухнул дворец повелителя правоверных. Его палачи казались испуганными больше его самого: они мгновенно отпустили свою жертву и готовы были обратиться в бегство. Альбер тут же вскочил, его первая мысль была о Юдифи.
Впрочем, ему сразу же стало все ясно: на его глазах рухнул вовсе не дворец — рухнуло целое государство. Бесчисленные толпы вооруженных негров устремились со всех сторон к центру двора, где находился султан. Они кричали и размахивали оружием, сметая все на своем пути. Султан, тот самый султан, что совсем недавно обрек Альбера на смерть, стоял теперь в полной растерянности, держась одной рукой за спинку трона, а другой судорожно сжимая саблю. Он был напуган и зол.
— Народ Багирми! Правоверные! — воскликнул он неуверенным голосом. — Я всегда был милостив к вам…
— Убийца! Тиран! Кровопийца! — неслось отовсюду. Насмешливые, издевательские крики и вопли ярости сливались в леденящую душу музыку, от которой было не по себе даже Альберу, хотя ему она сулила, скорее всего, свободу и жизнь.
Телохранители, все еще верные султану, были уже рассеяны и уничтожены. Султан предпринял слабую попытку защититься. Он оглянулся, ища глазами Мулея. Тот стоял в стороне, скрестив руки на груди и пронизывая своего повелителя ненавидящим взглядом. В следующее мгновенье султан рухнул наземь, пронзенный пиками и стрелами нападающих. Спустя минуту его окровавленная голова уже взметнулась вверх, надетая на пику, и своды дворца огласились криками ликования.
Между тем молодой француз все еще находился на помосте. Он не верил своим глазам. Переход от полной безнадежности и отчаяния к свободе был слишком неожиданным, слишком внезапным. Альбер был близок к беспамятству, лоб его пылал огнем. Но зрение не обманывало его. Голова султана покачивалась на острие пики, являя собой отталкивающее зрелище. Толпы народа, заполнив все свободное пространство вокруг дворца, шумели и ликовали.
Но почему вдруг взоры восставших обратились в его сторону? Неужели восстание грозит гибелью и ему? Хаос понемногу уступал место некоторому подобию порядка. Ряды негров раздались, пропустив вперед Мулея, который нес на подушке тюрбан, богато украшенный драгоценными камнями. Зазвучала музыка, способная привести в ужас изощренный слух европейца, — музыка, где ведущие партии принадлежали барабанам и трубам. Однако жителям столицы эта мелодия, похоже, добавила энтузиазма. Мулей тем временем приблизился к Альберу.
— Слава новому повелителю Багирми! Слава властителю правоверных!
Негр громким, торжественным голосом произнес эти слова, и, подхваченные тысячами его сограждан, они прогремели под сводами дворца. Затем Мулей опустился перед французом на колени, а когда Альбер оглянулся, он увидел, что все пространство вокруг него заполнено коленопреклоненными людьми. Потом Мулей поднялся и, прежде чем Альбер успел ему помешать, заменил его простую арабскую феску на великолепный тюрбан, а в руку вложил скипетр султана.
— Смотри, народ Багирми, смотри на своего нового, истинного султана! — воскликнул Мулей.
— Слава, слава султану! — откликнулась толпа, подымаясь с колен.
У Альбера не было сил что-то сказать, собраться с мыслями. Будто в прострации он почувствовал, как его усадили на трон, подняли вверх, как его несут на плечах восемь крепких мужчин. Вокруг он видел море голов. Повсюду музыка, повсюду крики: «Слава султану Багирми!» Его вынесли из дворца на площадь. Навстречу процессии то и дело попадались большие толпы негров, то и дело слышались возгласы радости. У него кружилась голова.
Так Альбера несли все дальше и дальше, словно он был щепкой, увлекаемой морскими волнами. Наконец его глазам вновь предстал султанский двор, наконец его снова внесли под своды дворца. Там трон опустили, и Альбер нетвердыми шагами ступил на землю. Рядом с ним появился Мулей. С глубочайшей почтительностью он распахнул двери, ведущие во внутренние покои, пропустил Альбера вперед и вышел. Какое-то мгновенье Альбер оставался в одиночестве, совершенно обессиленный, готовый в изнеможении рухнуть, как вдруг отворилась противоположная дверь и вошла Юдифь. Глаза ее были заплаканы, но на губах играла улыбка.
— Альбер! Ты спасен! Слава Создателю!
Она упала ему на грудь. Он держал ее в объятиях. Нет, это был не сон, не бред — Юдифь снова была с ним!
— Любимая моя, уж не грежу ли я? — несмело спросил он. — Что это? Что со мной было? Что все это значит? Или эти люди сошли с ума, или у меня самого помутился разум!
— Ты совершенно здоров! — радостно вскричала она. — Больше я ничего не хочу знать, ты мой, ты спасен! Этого мне довольно! Кажется, они провозгласили тебя султаном.
Альбер недоверчиво покачал головой. Вот и Юдифь о том же! И все-таки, неужели это правда? Он, Альбер, — повелитель целой страны!
— Твой народ, господин, жаждет доказать тебе свое уважение и покорность! — услышал он за спиной чей-то голос и, обернувшись, увидел Мулея. Глаза негра лучились радостью.
— Ради всего святого, Мулей, что это? — воскликнул он. — Чего хочет от меня этот народ? Ведь не могу же я быть его повелителем!
— Не можешь? Почему же? — поинтересовался, улыбаясь, Мулей. — Теперь ты обязан им быть! Пойдем! Тебе будут давать присягу на верность первые лица королевства!
Он взял молодого человека за руку и, отвесив Юдифи учтивый, совсем на европейский лад, поклон, увлек его за собой.
Очутившись в просторном зале, Альбер увидел выстроившихся полукругом людей в праздничных одеждах. Они поклонились ему, низко, до земли, а Мулей подвел его к большому тронному креслу.
Теперь мимо него потянулась процессия, напоминающая те, что ему прежде доводилось видеть в парижских театрах. Первыми шли военачальники, за ними священнослужители, затем дворцовые чиновники, а дальше еще какие-то люди неизвестных ему сословий.
На молодого человека, душа которого и так уже была потрясена событиями, предшествовавшими этой неожиданной метаморфозе, все это произвело ошеломляющее впечатление. Когда церемония завершилась громкими возгласами ликования всех присутствующих, он окончательно обессилел, и Мулей с почти отеческой нежностью и заботливостью проводил его в один из боковых покоев, где ждала Юдифь.
Придя в себя, Альбер обнаружил, что лежит на диване в комнате, убранной в восточном вкусе.
— Кажется, я видел сон! — приподнимаясь, сказал Альбер, и в самом деле уверенный, что он еще в Оране и все-все приключившееся с ним: его поездка к кабилам, скитания по Сахаре вместе с Юдифью, опасности, которые его подстерегали, его любовь, — все это лишь сон.
— Надеюсь, сновидение было приятным! — сказал по-французски кто-то рядом с ним.
Молодой человек повернул голову и увидел честное лицо Мулея.
— Ты? — спросил он, удивившись, что вновь видит старого слугу, который являлся ему во сне. — Это ты, Мулей? Значит, это был не сон!
Негр улыбнулся, взял руку своего молодого господина и запечатлел на ней поцелуй.
— Нет, Мулей, не надо! — сказал Альбер. — Я смутно начинаю припоминать, что произошло. Знаю только одно: я был на краю гибели и ты, именно ты спас меня, потому что вспыхнувшее восстание — твоих рук дело. Теперь скажи мне, как все это стало возможно? И для чего вы разыграли передо мной эту комедию?
— Это вовсе не розыгрыш! — твердо сказал Мулей. — Ты — повелитель Багирми, по крайней мере до того времени, пока не произойдет раздел страны и ты не получишь самую плодородную и живописную ее часть!
— Поговорим об этом после, — с улыбкой заметил Альбер. — А сейчас объясни мне все по порядку.
— Для того я и пришел, — подтвердил Мулей. — Нетрудно было догадаться: все, что произошло, для тебя загадка. Так слушай же! Я уже говорил тебе, что покойный султан был жесток и деспотичен. Большинство багирми боялись его и лишь немногие любили. В стране у него не было сторонников, если не считать телохранителей, которых он привлек на свою сторону, осыпав всякими милостями.
Между тем мое влияние очень возросло, и я долго размышлял, как бы посадить на престол добродетельного владыку, милосердного и терпимого. Я давно уже советовался со своими родственниками и многочисленными друзьями, как поднять в стране восстание против султана. Если бы мы только знали, кого возвести на престол, султан давно бы уже пал жертвой собственной тирании.
И тут появился ты, мой молодой господин, и Аллаху было угодно, чтобы ты явился как раз вовремя и участвовал в освобождении похищенного принца. Правда, вначале я не думал, что ты подходящий для нас человек, ибо еще недостаточно знал тебя. Но вскоре случай с предсказанием избавил меня от всех сомнений. Тебе известна первая часть прорицания. Но там есть и вторая. Ее я тебе сейчас и открою. Пророчество гласит: враги похитят сына султана, а смелый и мудрый чужеземец спасет его. Потом этот чужеземец, которого послал Аллах, станет править страной багирми и сделает ее счастливой. Эта вторая часть прорицания с быстротой молнии разнеслась по всей стране, и все жители уже смотрели на тебя как на будущего владыку. Я, конечно, не упускал возможности представить твои заслуги в самом благоприятном свете. Рассказ о твоем мужестве в схватке с фульбе передавался из уст в уста. Султан трепетал. Он почти решился убить тебя, как только ты вернешь ему похищенного сына.
Теперь тебе понятны дальнейшие события. В смерти наследника султан увидел новое подтверждение, что пророчество может исполниться, и обвинение, что ты отравил принца, было, разумеется, надуманным. Он намеревался казнить тебя немедленно, но я объявил, что это вызовет возмущение его подданных, и просил его подождать, а тем временем предпринял все необходимое, чтобы в решающий момент победа оказалась на моей стороне. Я хотел довести дело до крайности, чтобы еще больше ожесточить сердца моих соотечественников, которые уже питали любовь к тебе. Весь расчет я строил на твоей стойкости. Ты убедился, что я сдержал слово.
— Да, убедился и благодарю тебя! — с признательностью воскликнул Альбер. — Однако, дорогой Мулей, я не в силах повелевать этой страной! Я едва владею языком, на котором здесь говорят, я ничего не смыслю в управлении государством. Скажу откровенно, я охотнее буду лейтенантом в каком-нибудь полку, нежели султаном в твоей стране!
— Что касается первого, я помогу тебе советом и делом, — заверил Мулей. — А что до второго, — добавил он чуть ли не с тоской, — разве так уж недостойно быть любящим отцом бедным неграм и нести свет просвещения в эту страну, которая безнадежно отстала от вас, французов?
Такого Альбер не ожидал. Слова Мулея не оставили его равнодушным. Он долго пребывал в задумчивости. В речах негра был заключен глубокий смысл. Быть отцом этим несчастным угнетенным людям, нести свет цивилизации в Центральную Африку — это мысль, способная заставить забиться даже чуждое тщеславию сердце!
— И вот еще что, — продолжал Мулей. — Тебе не придется оставаться в Массенья. Чтобы добиться своей цели и свергнуть султана, мне пришлось взять в союзники одного из соседних правителей. Для вида он завел тесную дружбу с нашим султаном и прислал сюда войско, якобы для его защиты, а на самом деле — чтобы помочь мне. Ему мы оставим Массенья и меньшую часть страны, ту, что граничит с его владениями. Сами же отправимся на восток, где расположены самые плодородные и живописные области Багирми. Там тебе нечего будет опасаться. Ты волен призвать туда своих соотечественников и завести порядки, которые существуют во Франции. Это и мое желание…
Ночь Альбер провел без сна, обуреваемый противоречивыми мыслями. Лишь к утру он немного успокоился. Решение было принято. Он направился к Юдифи и поразился, увидев, как уютно сделалось в ее покоях. Этим она, по ее словам, обязана достойной удивления заботливости Мулея.
— Юдифь, — сказал молодой человек, — тебе известно, что происходит. Этот народ провозгласил меня своим владыкой. Из всех сердец, какие здесь бьются, безраздельно принадлежит мне, пожалуй, только твое. Ты готова пойти на жертвы и остаться здесь со мной? Говори, теперь все зависит от твоего слова!
— Где бы ты ни был, Альбер, мое счастье только с тобой! Где ты, там моя родина! — с подкупающей искренностью ответила Юдифь, воплощение преданности и любви.
XIII. МОРРЕЛЬ ИЛИ РАБЛАСИ
— Напоминаю вам, обвиняемый, что вы должны говорить чистую правду! Обращаю также ваше внимание, что ложь лишь усугубит наказание! — Этими словами председатель суда начал допрос обвиняемого, обращаясь к Максимилиану Моррелю. — Ваше имя, обвиняемый?
— Максимилиан Моррель! — ответил капитан. Он был очень бледен и печален, выглядел весьма опустившимся. На голове все еще была повязка, напоминавшая о полученном ударе.
— Итак, вы продолжаете настаивать на своей лжи? Тем хуже для вас!
— Но позвольте, какое же имя мне следует назвать? — в отчаянии вскричал Макс. — У меня нет другого имени. Я все точно указал на предварительном следствии. Как на мне оказалась арестантская куртка с номером тридцать шесть, мне неизвестно. Должно быть, какой-то преступник оглушил меня ударом по голове и натянул эту куртку, чтобы отвести от себя подозрение. Надеюсь, суд удовлетворил мое желание и получил необходимые разъяснения от королевского прокурора, господина Фран-Карре.
— Разумеется, — ответил председатель суда. — Однако господин Фран-Карре по-прежнему очень болен и смог сказать только, что весьма смутно помнит о событиях той злополучной ночи. Впрочем, если вы и в самом деле капитан Моррель, вам не составит труда доказать правоту своих слов. Достаточно назвать имя человека, о котором вас столь часто спрашивал господин королевский прокурор. Угодно ли вам сделать это?
— Выходит, несмотря на нездоровье, господин Фран-Карре не забыл об этом деле! — с горечью заметил капитан. — А если я не назову этого имени?
— Это послужит лишним доказательством, что вы Этьен Рабласи, а не капитан Моррель.
— А будь я Этьеном Рабласи, что бы меня ожидало?
— За совершенные преступления вы были бы наказаны, скорее всего, смертью!
Макс опустил голову. По его бледному лицу, искаженному мучительной гримасой, было видно, какая трудная борьба происходила в его душе.
— Я не назову этого имени! — наконец сказал он твердо. — Пусть свершится правосудие, и да простит Бог судьям, если они не в состоянии отличить виновного от невиновного! Почему не удовлетворена моя просьба? Почему ко мне не допустили мою жену? Она бы сразу меня опознала!
— Именно потому, что мы не намерены предоставлять закоренелому преступнику возможность встречаться с каким бы то ни было посторонним лицом, — ответил председатель суда. — Существует и еще одна причина. Мы поручили узнать у госпожи Моррель, известно ли ей, где находится ее супруг. Поскольку она уклонилась от ответа, неделю назад мы произвели у нее на квартире обыск.
— Очень благородно! Производить обыск у беззащитной женщины! — с укором пробормотал Макс.
— Во время обыска была найдена записка следующего содержания, — продолжал председатель суда. — Я позволю себе зачитать ее вам, обвиняемый!
«Любимая! Не беспокойся обо мне! Мне удалось бежать. Будь готова последовать за мной. Я пришлю тебе весточку из Лондона или другого города.
Макс Моррель».
Капитан вытаращил глаза на председателя суда: ему показалось, что он ослышался.
— Записка подписана моим именем? — наконец спросил он, собравшись с мыслями. — Я никогда не писал ничего подобного! Никогда! Разрешите мне взглянуть на подпись!
Судебный пристав протянул ему записку.
— Почерк похож на мой, но писал все же не я, — неуверенно сказал Макс. — Я расписываюсь иначе. Подпись подделана! Боже мой, кто мог пойти на этот обман — и с какой целью?
Он выпустил из рук записку и погрузился в мрачную задумчивость. Тем временем служащие суда огласили некоторые документы, а прокурор и официальный защитник обвиняемого перекинулись несколькими фразами.
— Обвиняемый! — произнес затем председатель. — Суд убедился в вашей виновности. Вы изобличены в том, что на протяжении трех лет под разными именами совершили в Провансе и Дофине ряд убийств, грабежей и краж, орудуя в одиночку или в компании с другими преступниками. Вы изобличены также в том, что при задержании оказали сопротивление представителям власти, убив двух жандармов. Вы подозреваетесь в убийстве тюремного надзирателя Валлара. Каждое из совершенных вами преступлений заслуживает смертного приговора. Покайтесь и облегчите хотя бы отчасти свою участь откровенным признанием!
При этих словах, произнесенных громким голосом, Моррель вновь поднял глаза. Он выслушал их как во сне и в замешательстве только покачал головой.
— Господа, — сказал он, — я еще раз клятвенно заявляю и призываю в свидетели Бога, что мое имя Моррель, а не Рабласи, что я непричастен к преступлениям, в которых меня обвиняют! Что касается дальнейшей моей судьбы, я целиком полагаюсь на милосердие Божие!
Перед тем как увести, на него надели наручники. Капитан отнесся к этому с величайшим спокойствием. Он находился в прострации и не мог даже ясно осознать свое положение.
Временами, когда он возвращался в мыслях к Валентине и сыну, его начинало трясти как в лихорадке. В такие минуты его охватывала безумная ярость. Он потрясал наручниками и в бессильном гневе устремлял глаза на забранное толстой решеткой окно камеры. Впрочем, Валентина даже не подозревала о его положении. Если тот самый преступник, что нанес ему роковой удар, написал ей от его имени, что ему удалось благополучно бежать, она, должно быть, верит, что ее муж в безопасности, и, вероятно, со дня на день ожидает от него вестей.
Не меньшую ярость вызывала у него мысль, что ему суждено умереть за грехи отъявленного преступника — убийцы и грабителя. Можно ли вообразить себе более ужасную участь для человека, величайшим сокровищем которого всегда была незапятнанная честь?
Моррель даже не подозревал о существовании некоего лица, которое пыталось спасти его — правда, исключительно по юридическим мотивам. Один из судей — почти всегда вопреки своим коллегам — был твердо убежден в невиновности обвиняемого и стремился собрать для этого доказательства. Делал он это очень умело. Сперва он доказал, что в ночь, когда произошел пожар, из тюрьмы бежали четверо: господин Фран-Карре, некий незнакомец, которого королевский прокурор, по его словам, не знал и застал врасплох за беседой с Моррелем, наконец, сам Моррель и преступник Рабласи. Необходимо было выяснить, кто же в действительности совершил побег — Моррель или Рабласи.
Этот настойчивый юрист твердил, что такой закоренелый преступник, как Рабласи, безусловно, не мог упустить редкостный шанс. Но, предвидя, что в арестантской одежде ему далеко не уйти, он, конечно же, подумал о том, как достать себе другое платье. Когда Моррель, последним схватившийся за спасительную веревку, достиг земли, Рабласи — так считал этот правовед, — ударив капитана по голове железным прутом (вероятно, от оконной решетки), оглушил его, стащил с потерявшего сознание сюртук, а взамен натянул на него свою тюремную куртку. Затем преступник, отыскав, вероятно, в кармане сюртука бумажник капитана, с легкостью подделал его почерк, написав записку госпоже Моррель. Тем самым он предотвратил встречу капитана с его супругой, заставив ее поверить, что муж бежал. Таким образом преступник пресек дальнейший поиск собственной персоны.
Предположение этого юриста полностью соответствовало истине, и весьма странно, что оно не произвело впечатления на судей. Впрочем, те были убеждены, что Рабласи по-прежнему у них в руках, и ни за что не хотели упускать возможность осудить столь опасного преступника. Поэтому они отклонили все доказательства невиновности обвиняемого как чисто теоретические предположения.
Однако настойчивый юрист, рассерженный упрямством своих коллег, на этом не остановился. Вначале он попытался побеседовать с госпожой Моррель. Но та, уверовав, что мужу удалось бежать, и опасаясь, как бы правосудие не напало на его след, отказалась его принять. Ее зять, Эмманюель Эрбо, раз и навсегда отсоветовал ей иметь дело с законниками.
Таким образом, добровольному защитнику Морреля пришлось искать иные пути, чтобы добиться своей цели. К сожалению, надзиратель Валлар — единственный, кто знал заключенного в лицо, — был мертв. Но юрист обратил внимание, что на Морреле не было тех арестантских штанов, в каких, безусловно, должен был ходить Рабласи. Далее, у него оказалось более тонкое нижнее белье, чем можно было заподозрить у Рабласи. Кроме того, обвиняемый не говорил на прованском диалекте, а Рабласи был родом из Прованса. В конце концов дотошному юристу удалось добиться, чтобы его назначили официальным защитником обвиняемого. Полагая, что задета его профессиональная честь, и горя одним-единственным желанием — отстоять свое мнение, он стал спасителем Морреля.
От каких мелочей зависит подчас жизнь человека! Юрист имел несколько предварительных бесед с капитаном и в одной из них попросил сообщить ему имя неизвестного, которого Фран-Карре застал в камере Морреля, ибо этот человек мог стать главным свидетелем защиты. Моррель принужден был сознаться, что не знает его имени: незнакомец сказал ему только, что наведет о нем справки, представившись Дюпоном. В результате юрист пришел к выводу, что ему придется отступиться от своих надежд.
Может показаться странным, что ни Монте-Кристо, ни его друг в Париже не разузнали подробностей этого судебного дела. Но, во-первых, процесс продолжался очень недолго, а во-вторых, незнакомец, назвавшийся Дюпоном, пребывал в полной уверенности, что в ту злополучную ночь Моррель бежал одновременно с ним самим. От своих тайных агентов он узнал, что госпожа Моррель получила уже известную нам записку, и совершенно успокоился на этот счет. Вскоре и он покинул Париж.
Тем не менее старания упорного юриста не пропали даром: ему удалось поколебать уверенность своих коллег и добиться отсрочки смертного приговора. Правда, большинство судей по-прежнему считали, что обвиняемый действительно Рабласи, который просто использует все средства, чтобы выдать себя за другого и избежать заслуженного наказания. Однако возможность судебной ошибки была налицо, поэтому смертный приговор мнимому Рабласи был заменен пожизненной каторгой.
Между тем дух Морреля был сломлен — он впал в глубокую меланхолию, которая грозила перейти в тяжелую душевную болезнь. Он совершенно безучастно относился ко всему происходящему, а поскольку парижские тюрьмы были переполнены, его перевели в каторжную тюрьму, находившуюся в провинции.
Во время перевозки осужденных охрана решила сделать остановку в кабачке в какой-то заброшенной деревушке. Там агент республиканской партии умудрился передать каторжникам несколько политических листовок, которые были направлены против правительства Луи Филиппа и призывали к свержению этого короля. Агенты не пропускали никого, кто был готов слушать их призывы и читать их воззвания.
Вручили такую листовку и капитану. Сначала он не обратил на нее никакого внимания, но жандармы болтали и бражничали настолько долго, что он, устав держать листовку в руке, в конце концов от скуки невольно пробежал глазами по строчкам и с удивлением, на какое еще был способен его ослабевший рассудок, увидел свое имя. Тогда он прочел весь текст, который гласил:
«Мы намерены представить гражданам Франции новое прискорбное свидетельство того, как пекутся в нашем отечестве о соблюдении справедливости. Законы обещают нам гласность судебного разбирательства. Пусть, однако, следующие факты, за достоверность которых мы готовы поручиться, покажут читателям, как соблюдают этот закон люди, находящиеся сейчас у кормила власти.
Среди лиц, причастных к Булонскому делу, находился и некий капитан Моррель, бывший армейский офицер. В силу определенных обстоятельств и, вероятно, опасаясь его заявлений, Морреля исключили из числа обвиняемых, представших перед Палатой пэров. Его держали в одиночной камере и устроили ему закрытый процесс. Капитан Моррель исчез, и, если бы не странный случай, общественность никогда не узнала бы о его судьбе.
Некоторое время назад госпожа Моррель получила письмо, где ее супруг сообщал, что благополучно спасся и вскоре вновь даст о себе знать. Несколько недель спустя за первым письмом последовало второе, в котором муж — так по крайней мере полагала госпожа Моррель — просил ее отправиться в Страсбург, где она получит дополнительные сведения. Молодая женщина, расстроенная исчезновением мужа и страстно ожидающая встречи с ним, поехала в Страсбург одна, в сопровождении только старого слуги, захватив с собой маленького сына. Ее зять не мог отправиться вместе с ней, поскольку с минуты на минуту ожидал разрешения своей жены от бремени.
Из Страсбурга госпожа Моррель написала родным, что ее встретил некий господин, вызвавшийся проводить ее к мужу, местонахождение которого все еще оставалось ей неизвестным. Однако по прошествии еще трех недель ее зять, господин Эмманюель Эрбо, получил от нее следующее письмо, на этот раз из Берлина, которое мы видели собственными глазами. Содержание этого письма мы дословно сообщаем нашим читателям — оно говорит само за себя:
«Дорогой Эмманюель, милая моя Жюли!
Только теперь, по прошествии двух дней, я в силах подобрать слова, чтобы сообщить вам о своем горе, описать свое положение. Оно ужасно. Я в отчаянии, на грани безумия.
Господин, который встретил меня в Страсбурге, был очень учтив со мной, но, к сожалению, весьма немногословен и, как мне показалось, чем-то опечален. Он сказал, что не может сообщить мне о судьбе моего мужа ничего определенного, однако он старый друг Макса и доставит меня в Берлин по его поручению.
По приезде в Берлин меня уже ожидала частная квартира, где я и остановилась. Я надеялась сразу же увидеть Макса, но увы! Весь следующий день я оставалась в квартире одна. Только позавчера явился некий господин и с серьезным, строгим лицом приветствовал меня. Попытаюсь кратко повторить вам, что он мне рассказал.
«Сударыня, — сказал он, — я пришел к вам, чтобы исполнить печальный долг. Я был товарищем вашего мужа. Мы содержались в одной тюрьме и проходили по одному делу — вам известно какому. Наши камеры оказались рядом, и нам удавалось переговариваться друг с другом. Вначале мы думали о побеге, но потом убедились, что бежать невозможно, и заключили дружеский союз, настолько искренний и тесный, какой только возможен в подобных обстоятельствах.
Однажды я заметил, что его долгое время не было в камере. Наконец он постучал в стену, разделявшую наши камеры, и через отверстие, которое мы проделали, сказал мне следующее:
«Дорогой Шарль, сегодня мне объявили, что, если я не сделаю правительству сообщений, которые я не могу, да и не хочу делать, завтра меня казнят. Итак, завтра я умру. Все мои мысли только о жене и о сыне. Но поскольку даже в самом лучшем случае меня ожидало бы пожизненное заключение, я даже рад смерти. Надеюсь, тебе удастся выйти на свободу. Тогда не забудь выполнить мою последнюю просьбу. Передай моей жене, что я любил ее до последнего вздоха и надеюсь, что она воспитает сына в уважении к памяти отца. Будь отцом моему ребенку, если обстоятельства позволят тебе находиться рядом с ним. Было бы лучше, чтобы он рос не во Франции и чтобы Валентина тоже покинула эту страну, которую я теперь ненавижу! Обещай мне это!»
На следующее утро меня привели в помещение, где находилась гильотина. Вместе со мной там были еще двое узников, которые, как мне было известно, тоже участвовали в Булонском деле. Вскоре появился и Моррель. Он держался с большим хладнокровием. Вместо приветствия Моррель дружески кивнул мне. Чиновникам он заявил, что страдает безвинно, и со словами «Да здравствует Наполеон!» положил голову под нож…
Мне удалось бежать, сударыня, а остальное вы знаете. Я бежал в Германию, и единственной моей мыслью было исполнить желание погибшего друга. Я сделал все, что было в моих силах…»
Ах, Эмманюель, Жюли, я больше не могу! Как я несчастна! Макс умер, а вместе с ним и все мое счастье! Молите за меня Всевышнего!
Валентина».
Нам нечего добавить к этим письмам. Пусть правительство попробует отвести от себя это обвинение! Это ему не удастся! А французскому народу теперь известно, как попираются законы…»
Глаза капитана блуждали по строчкам, а его помутившийся рассудок безуспешно пытался обуздать бурю невероятных мыслей, от которых у него голова шла кругом. Его считают погибшим? Валентина в Берлине? Что это за друг, который взялся заботиться о нем? Недоразумение это или обман?
Ответить на эти вопросы Моррель был не в силах. Листовка выпала из его рук, и, когда жандармы подошли напомнить, что пора в путь, а товарищи попытались заговорить с ним, с его уст сорвались лишь какие-то бессвязные слова, которые были встречены смехом. Помешательство Морреля, разумеется, сочли притворством и препроводили капитана в тюрьму, согласно полученному предписанию. И только там врачебная экспертиза установила, что он и в самом деле психически болен, и его перевели в одну из психиатрических лечебниц, расположенных в провинции.
XIV. ОБЩЕСТВО САМОУБИЙЦ
Прибыв в Лондон, дон Лотарио направился к банкиру и получил у него довольно значительную сумму. Он не нанес визита ни одному из тех лиц, которых ему надлежало посетить. Он больше не желал знать ничего о том, что связывало его с прежней жизнью. Предоставленный самому себе, он собирался проводить бесплодные дни на свой страх и риск. Предупреждение аббата Лагиде, что для завоевания благосклонности Терезы ему прежде нужно стать дельным человеком, он больше не вспоминал, наставления лорда были забыты.
В один из вечеров он оказался в игорном доме, куда его увлек случайный знакомый. Играл он крупно, причем с таким безразличием, с таким ледяным спокойствием и равнодушием, что на него обратили внимание даже холодные, сдержанные англичане. Фортуна благоволила к нему. Наконец он поставил на карту десять тысяч фунтов — весь свой выигрыш — и проиграл. Безмятежно, словно ничего не произошло, отнюдь не с отрешенным спокойствием отчаявшегося, не с жалкой улыбкой человека, который пытается скрыть свое несчастье, — нет, просто с невозмутимым спокойствием джентльмена, проигравшего каких-то десять фунтов, Лотарио отошел от карточного стола, заказал изысканный ужин и с большим аппетитом, будто ничего не случилось, отдал ему должное.
— Простите, вы англичанин? — поинтересовался некий джентльмен за соседним столиком.
— Нет, сударь! — ответил Лотарио, едва удостоив спрашивающего взглядом.
— В таком случае вы достойны быть им! — продолжал тот.
Услышав это самоуверенное замечание, Лотарио не удержался от улыбки.
— Почему? — спросил он. — Разве все прочие нации должны иметь какие-то особые заслуги, чтобы быть на равных с англичанами?
— Отнюдь, я просто имел в виду, что вашему хладнокровию мог бы позавидовать любой англичанин, а это говорит о многом!
— Подумаешь! — презрительно отозвался дон Лотарио. — Хладнокровие? Терять голову из-за каких-то десяти тысяч фунтов? Неужели англичане настолько мелочны, что придают этому значение? Что касается меня, мне столь же безразлична была бы потеря и двадцати тысяч фунтов, даже самой жизни!
— Даже жизни? — повторил англичанин. — Неужели она вам так безразлична?
— Совершенно безразлична! — заверил испанец. — Приди кому-нибудь охота взять ее у меня и не поленись он ударить для этого палец о палец, я уступлю ему, не колеблясь.
— Черт побери! — вскричал англичанин. — Вы заслуживаете того, чтобы стать одним из нас!
Дон Лотарио вновь улыбнулся, однако внимательнее вгляделся в своего соседа. Тот был высок ростом, сухощав, светловолос. Под тонкой кожей явственно виднелись голубоватые жилки кровеносных сосудов. Одет незнакомец был весьма изысканно и по последней моде, и весь его внешний облик и манеры выдавали истинного джентльмена.
— Как это понимать, «одним из нас»? — удивился Лотарио. — Вы опять имеете в виду англичан?
— Нет, на этот раз не совсем! — ответил неизвестный, понизив голос. — Я имею в виду англичан до мозга костей, членов нашего общества, лучшего во всей Англии.
— Хм! А что это за общество, позвольте узнать?
— Здесь я не могу вам этого сказать, — прошептал англичанин. — Не угодно ли отправиться со мной? Вы увидите людей, для которых собственная жизнь не дороже выеденного яйца. А в том, что вы достойны сделаться одним из нас, я сейчас убедился, если вы, конечно, не безумно богаты.
— Я богат? Вовсе нет! По английским меркам у меня нет даже приличного состояния.
— Что ж, тем лучше! Тогда прошу вас, — пригласил незнакомец. — Вот моя визитная карточка. Если же устав нашего общества вам не понравится, прошу вас дать слово джентльмена, что все увиденное вы сохраните в тайне.
Дон Лотарио мельком взглянул на карточку, протянутую незнакомцем, и прочел на ней имя лорда Бильзера — человека, который, как ему приходилось слышать, слыл весьма эксцентричным, но имел тем не менее безукоризненную репутацию. Испанец дал честное слово и последовал за лордом, экипаж которого ожидал у входа в игорный дом.
Карета тронулась в направлении Вест-Энда, фешенебельного квартала Лондона, где остановился и молодой испанец. Она подкатила к великолепному особняку и, миновав ворота, въехала во двор. Скромно, но элегантно одетые слуги открыли дверцы кареты, и лорд проводил своего нового знакомого в дом, богатством и роскошью не уступавший дворцу.
Они оказались в просторном зале, и дон Лотарио был поражен царившим здесь невиданным великолепием. Впрочем, оно говорило вовсе не о привычной для англичан солидности и не о бесстрастном блеске английских дворцов, а скорее о пышности и изысканности Востока.
Юноша насчитал в зале двенадцать человек. Большинство составляли молодые еще люди, бледные, принадлежавшие к тому типу англичан, которых называют уставшими от жизни. Двое других отличались необычной полнотой. Однако все они были истинными джентльменами.
— Милорды, я имею честь представить вам нового кандидата! — сказал лорд Бильзер, выводя молодого человека на середину зала. — Ваше имя, сэр?
Дон Лотарио вспомнил, что еще не представился, и протянул лорду визитную карточку.
— Весьма отрадно, — ответил тот. — Итак, дон Лотарио де Толедо — лорд Уайзборн, лорд Каслфорд, лорд Берингер, граф Бомон…
И одного за другим он представил молодому испанцу членов таинственного общества. Это были сплошь титулованные особы — лорды, графы или виконты. Наконец очередь дошла до тщедушного господина с белесыми волосами, который был представлен испанцу как француз, граф д’Эрнонвиль, исполнявший должность казначея.
— Помнится, я встречал вас в Париже у Тортони, — заметил д’Эрнонвиль своим неприятным, немного гнусавым голосом. — Ваше лицо поразило меня, и я сразу подумал, что случай когда-нибудь вновь сведет нас. Я и не предполагал, что встречу вас в столь достойном обществе!
Дон Лотарио поклонился. Этот граф д’Эрнонвиль вызывал у него неприязнь. Между тем присутствующие заняли свои места за столом, и лорд Бильзер поведал, каким образом он познакомился с доном Лотарио. Поведение молодого человека в игорном доме встретило всеобщее одобрение.
— А теперь я открою вам, где вы находитесь, — сказал лорд. — Вы среди членов Общества самоубийц. Каждый из нас обязался лишить себя жизни, которая стала ему в тягость, хотя и волен покинуть Общество, когда пожелает. Однако при вступлении в Общество каждый из джентльменов должен передать в его распоряжение все свое состояние, а при выходе получает обратно лишь половину. Это делается с вполне определенной целью: мы хотим окружить менее состоятельных членов нашего клуба той самой роскошью, которая служит лучшим и почти единственным источником пресыщения жизнью. Наш союз существует уже восемьдесят лет. Учредили его наши предки, разумеется, не отцы, ибо никто из нас не имеет права жениться, а те, кто предвосхитил наши взгляды. Кстати, одному из основателей Общества уже за семьдесят. Как видите, нет никакой необходимости сводить счеты с жизнью в течение какого-то ограниченного срока. Вы можете спокойно ожидать, когда ваше отвращение к этому животному существованию сделается настолько невыносимым, что смерть покажется вам самым желанным, самым прекрасным исходом. Мы даем вам неделю на размышление. Вы будете ежедневно бывать у нас и решите, намерены ли вы вступить в наше Общество. Но в любом случае вы обязаны молчать, не разглашать тайну. Существование Общества не противоречит закону. Но есть в его уставе один параграф, который, возможно, уязвим с юридической точки зрения, а именно параграф о том, что всякие попытки вернуть самоубийцу к жизни запрещены. Мы намеренно включили этот параграф, потому что попытки возвращать жизнь тем, кто решил покончить с собой, противоречат нашим принципам. Кроме того, нам пришлось бы предпринимать такие попытки в отношении каждого, ибо долг любого в нашем Обществе — лишить себя жизни в этих стенах. Позже я познакомлю вас с разными способами покончить с собой. А пока займите за нашим столом место гостя. Вам выпала честь присутствовать при выборах нового президента, поскольку прежний лишил себя жизни неделю назад.
Нельзя сказать, что обращение лорда к дону Лотарио было выдержано в серьезных или в игривых тонах. Лорд Бильзер сумел подобрать такие слова, которые время от времени заставляли молодого человека улыбнуться, но затем вновь настраивали его на серьезный лад.
За столом начался общий разговор на житейские темы. Говорили о театре, о политике, о скачках, о красивых женщинах. Подобную же беседу дон Лотарио мог бы услышать в любой компании состоятельных англичан, с той лишь разницей, что эти суждения оказались еще более сдержанными и бесстрастными, нежели высказывания рядовых британцев.
— Пойдемте со мной, — сказал наконец лорд Бильзер дону Лотарио, — я покажу вам достопримечательности этого дома. Вы убедитесь, что в смерти мы разбираемся лучше, чем остальные люди — в жизни. Эта дверь ведет в угарную комнату. Она предназначена для тех, кто предпочитает умереть от удушья.
Молодой испанец ожидал увидеть мрачное, зловещее помещение, а очутился в великолепном просторном салоне с коврами, диванами, зеркалами и картинами. В углу стояло несколько жаровен с тлеющими углями, чад от которых уходил через особое отверстие. Стоило только закрыть это отверстие заслонкой, и вся комната наполнялась угаром. Трудно, пожалуй, вообразить себе более простой и удобный способ самоубийства.
— А вот и вторая комната, — сказал лорд, открывая следующую дверь и показывая молодому человеку новый салон, который, подобно первому и всем последующим, был прекрасно обставлен и ярко освещен. — Она для тех, кто ищет смерти от яда. В том шкафу находятся все известные ныне яды. На каждой склянке обозначено, через какое время яд начинает действовать. Правда, до сих пор не было случая, чтобы кто-то воспользовался этой комнатой, и это вполне естественно. Смерть от яда недостойна мужчины, неэстетична, да и затягивается надолго.
Дон Лотарио послушно следовал за своим спутником, который уже открыл третью комнату.
— Она для тех, кто намерен застрелиться. Это видно по разнообразному огнестрельному оружию — пистолетам и ружьям всех систем, что разложены повсюду. А эта комната для тех, кто решил заколоться, — продолжал лорд. — У нас здесь собраны все виды кинжалов, мечей и игл. Обычно этой комнатой пользуются редко.
Следующий салон был одним из самых любопытных. Он предназначался для тех, кто задумал удавиться. Для этого были предусмотрены все орудия и приспособления: от виселицы высотой пятнадцать футов до петли, куда достаточно сунуть голову.
Еще больший интерес вызвала комната, призванная удовлетворить желания тех, кто решил отправиться в лучший мир посредством воды, — просторный салон с герметически закрывающимися окнами и дверями. Для не умеющих плавать там был устроен большой бассейн. Для владеющих искусством плавания предусматривалось приспособление, позволявшее наполнить салон водой до самого потолка. И наконец, последняя комната, с мраморными ваннами. Ее выбирали те, кто, по примеру Сенеки, намеревался вскрыть себе вены, лежа в ванне.
В заключение этой своеобразной экскурсии лорд Бильзер подвел молодого человека к широкому окну.
— Это окно, — пояснил лорд, — для тех, к кому я питаю весьма мало симпатии. Из него выбрасываются джентльмены, предпочитающие именно так свести счеты с жизнью. Здесь приняты все меры, чтобы, падая, они ударялись о разные выступы и углы и, достигнув земли, наверняка были мертвы. Впрочем, такой смерти обычно избегают.
Дон Лотарио невольно содрогнулся, тем более что лорд говорил все это со спокойной улыбкой, являвшей разительный контраст с предметом разговора.
— А какую смерть предпочли бы вы? — поинтересовался молодой человек.
— Я пока не решил, — ответил лорд. — Склоняюсь больше к трем излюбленным способам лишения себя жизни. Или перережу себе вены — хотя подобный способ представляется мне слишком женственным, — или застрелюсь — что, несомненно, более всего подходит мужчине, — или же повешусь. Скорее всего, выберу последнее, ибо, по слухам, эта смерть — одна из самых приятных. Долгое время в нашем Обществе существовал обычай, чтобы его члены присутствовали при гибели своего собрата. Теперь этот обычай упразднен, поскольку закон запрещает предоставлять самоубийцам свободу действий.
— А разве вы не говорили мне, что каждый должен умереть в этих стенах? — спросил дон Лотарио.
— Совершенно верно, — согласился лорд. — До сего времени не было ни одного исключения.
— Однако меня удивляет, что закон не вмешивается, — заметил молодой человек. — Ведь вполне можно предположить, что нашедшие здесь свою смерть были попросту убиты против своей воли.
— В случае необходимости достаточно нашего свидетельства, — ответил лорд Бильзер. — К нашему Обществу всегда принадлежали достойные джентльмены.
Дон Лотарио молчал. В его мрачном, мизантропическом настроении все увиденное вызывало своеобразный зловещий интерес. Не прервать ли и ему здесь нить своей жизни?
— Вы сказали, что еще никто не убивал себя ядом?
— Никто; и если вам любопытно, могу сообщить соответствующие цифры. Они у меня в голове. Со времени учреждения Общества в него входило, включая нынешних членов, девятьсот десять джентльменов. Большинство из них — триста пять человек — повесились, двести двадцать восемь застрелились, сто сорок семь угорели, восемьдесят семь закололись или перерезали себе горло, пятьдесят девять вскрыли вены, пятьдесят семь утонули и пятнадцать выбросились из окна.
Тем временем наши собеседники вновь очутились в зале. Теперь дон Лотарио по-особому вглядывался в присутствующих. Все они были еще нестарые состоятельные люди, отпрыски лучших семейств страны, некоторые имели заслуги. И всех привело сюда желание уйти из жизни, которая стала им безразлична.
Разговор шел о театре, об Итальянской опере.
— Вам уже довелось слышать донну Эухению Ларганд? — спросил молодого человека тучный лорд Уайзборн.
— К сожалению, нет, — ответил дон Лотарио. — Сколько я ни пытался, не смог достать билет. Она действительно так хороша?
— Великолепна, выше всяких похвал — правда, только в трагических ролях, — ответил толстяк. — К другим у нее нет таланта. Впрочем, нужно знать историю ее жизни! Вам известно, кто она?
— Нет, — ответил молодой испанец. — Этого имени я никогда не слышал.
— Собственно, Ларганд — псевдоним, анаграмма ее настоящего имени, — продолжал лорд Уайзборн. — Отец ее был крупным банкиром в Париже, а мать совсем недавно убита там же каким-то авантюристом. Ее зовут Эжени Данглар.
— Данглар? — в ужасе вскричал дон Лотарио, ибо перед глазами у него вновь встала та роковая ночь во всей ее чудовищности. — Тогда ее имя мне знакомо. Я видел, как погибла ее мать. Это одна из самых страшных минут в моей жизни!
Смерть баронессы произвела сенсацию и в Лондоне, хотя бы уже потому, что донна Эухения Ларганд на целую неделю прервала свои выступления. Всем захотелось узнать подробности этого убийства, и дон Лотарио рассказал о том, чему невольно оказался свидетелем.
— А разве убийца не был схвачен? — спросил граф д’Эрнонвиль.
— Насколько мне известно, нет, — ответил лорд Бильзер. — Но совесть покарает его.
— Вы уверены? — вновь спросил граф. — И тем не менее вы так мало цените жизнь?
— Свою — безусловно! — пояснил лорд. — Она принадлежит мне, и я волен делать с ней все, что пожелаю. Я не из тех мечтателей, которые утверждают, что наша жизнь принадлежит обществу. Но жизнь другого для меня — святыня! Она — его собственность, и я не взял бы ее, как не украл бы у него кошелек или что другое!
— Вы правы, совершенно правы! — поддакнул д’Эрнонвиль.
— Надо заметить, что донна Эухения очень красива! — сказал худощавый лорд Каслфорд. — Я уже предлагал, чтобы один из нас влюбился в нее и таким образом пресытился жизнью.
— Почему именно пресытился? — удивился дон Лотарио, у которого появился интерес к певице: ведь она — дочь женщины, погибшей у него на глазах. — Разве любовь обязательно делает человека несчастным?
— Отнюдь нет, — ответил лорд Каслфорд. — Однако о донне Эухении ходят слухи, что ее сердце холодно как лед и никому еще не удавалось завоевать его.
— Говорят об этом часто, — согласился дон Лотарио. — Но справедливо ли говорят — вот в чем вопрос!
— Донна Эухения, несомненно, питает отвращение к браку, — продолжал лорд Каслфорд. — Ведь она бежала из дому в день подписания своего брачного контракта. Бежала вместе с подругой, ибо испытывала антипатию к своему жениху, и с того времени всецело отдалась искусству.
— А теперь перейдем к главному! — вмешался в разговор лорд Бильзер. — Прошу вашего внимания, джентльмены! Нам предстоит избрать президента и заслушать отчет о состоянии наших финансовых дел. Сначала обратимся к отчету. Будьте так любезны, граф, исполните скучную обязанность, которую вы добровольно взяли на себя!
Держа в руке бумагу, граф встал и коротко отчитался о наличных суммах, набежавших процентах и расходах. Дон Лотарио несказанно удивился, услышав, что капитал Общества, вложенный в ценные бумаги и закладные, составил никак не меньше полутора миллионов фунтов стерлингов. И при этом никто не заботился о ведении финансовых дел. Члены Общества испытывали радость и облегчение, если один из них брал на себя исполнение этих обременительных обязанностей. Какая свобода действий для казначея!
— А теперь перейдем к выборам президента! — воскликнул лорд Бильзер, когда отчет закончился и все откровенно зевали. — На днях я упоминал о заслугах нашего покойного президента. Он всегда достойно защищал наши интересы. Пусть же преемник берет с него пример! Мне, как старейшему члену нашего Общества, принадлежит право назвать нового кандидата. Я рекомендую графа Бомона. Он не раз демонстрировал, как мало ценит жизнь, и представил такие доказательства своей отваги, которые заслуживают самой высокой похвалы. Впрочем, это только мое предложение. Решайте сами, джентльмены. Белые шары — за графа Бомона, черные — против. А подсчет голосов поручим дону Лотарио!
Молодой человек взял запертый ящичек с отверстием точно такого диаметра, чтобы в него проходил небольшой по размеру баллотировочный шар. Каждый из двенадцати членов Общества опустил свой шар.
— Вот и ключ! — сказал лорд Бильзер, обращаясь к дону Лотарио. — Откройте ящичек и подсчитайте шары, ведь вы — лицо незаинтересованное.
Все это было сказано шутливым тоном. Дон Лотарио проделал то, что от него требовалось.
— Двенадцать белых шаров! — произнес он.
— Итак, президентом нашего Общества единогласно избран граф Бомон! — торжественно провозгласил лорд Бильзер.
Теперь поднялся граф Бомон, и дону Лотарио впервые представилась возможность внимательнее рассмотреть его. Графу не было и сорока, он выделялся безупречными, прямо-таки античными чертами лица. Большие синие глаза были ясны, как весеннее небо; легкая поволока только украшала их. Кожа напоминала белый мрамор. А такого мягкого, чувственного рта дону Лотарио никогда прежде видеть не доводилось. Пальцы и кисти рук графа могли бы служить завидной моделью любому скульптору. На всем облике Бомона лежала печать спокойствия и томности. За весь вечер он не произнес еще и двух слов.
— Джентльмены! — начал он звучным голосом. — Сердечно благодарю вас за это проявление дружбы и внимания! Я считаю для себя величайшей наградой стать президентом Общества, и, когда уйду из жизни, пусть только это и будет поставлено мне в заслугу. Еще раз благодарю вас, джентльмены, и постараюсь быть достойным чести, которую вы мне оказали.
Члены Общества обступили графа, пожимая ему руки. А он с прямо-таки очаровательной любезностью поблагодарил каждого в отдельности.
— Вступая в должность президента, — продолжал он, — я выражаю признательность прежде всего лорду Бильзеру за то, что он предложил мою кандидатуру. У него больше оснований претендовать на эту должность, и я полагаю, меня избрали, чтобы сделать приятное ему. Я благодарен лорду и за то, что он ввел в наш круг дона Лотарио де Толедо. Об этом новом кандидате мне хочется сказать несколько слов.
Он очень молод, моложе лорда Бильзера, который вступил в наше Общество двадцати пяти лет от роду. Следовательно, он еще не знает жизни, и вполне можно предположить, что к нам его привело мимолетное настроение, скорее всего, превратности любви. Между тем нам не пристало принимать новых членов, способных вскоре опять покинуть наше Общество. Кто входит в наш союз, должен вступать в него по убеждению и навсегда. Поэтому я предлагаю — ибо в уставе об этом не сказано ни слова — продлить дону Лотарио испытательный срок на неопределенное время. Пусть прежде твердо решит для себя, готов ли он вступить в наши ряды. С этим все согласны, джентльмены?
— Безусловно! — послышалось со всех сторон.
— Далее, я полагаю, что мы должны всячески облегчить дону Лотарио знакомство с радостями жизни, чтобы он постиг всю важность своего шага. Пусть дон Лотарио познакомится с донной Эухенией Ларганд, а мы сможем наблюдать, как скажутся на нем последствия такой встречи. Если он будет по-прежнему настаивать на своем первоначальном намерении, если заявит, что жизнь ему безразлична, мы подвергнем его обычному испытанию, после чего он станет нашим достойным собратом.
— Да будет так! — согласились все, и граф Бомон опустился на свое место.
Присутствующие разбились на отдельные группы, и дон Лотарио, любопытство которого было подогрето всем происходящим, попытался разузнать у лорда Бильзера подробности о донне Эухении. Сам он мало что слышал о ней в Париже. Госпожа Данглар неохотно говорила о дочери и нередко называла ее холодной и эгоистичной. Да и молодой испанец не мог не признать справедливость слов баронессы. Он считал, что долг дочери — вернуться к несчастной матери, утешать ее, сделаться ей близкой подругой.
Однако и лорду Бильзеру было не так много известно о донне Эухении. Она с большим успехом выступала на подмостках Италии, куда приехала из Парижа, но принуждена была покинуть Рим, так как встретилась там со своим отцом, который пытался шантажом выманить у нее деньги. Под именем Эухении Ларганд она отправилась в Испанию, а оттуда приехала в Англию, где с триумфальным успехом, какого не знала ни одна певица, стала петь в Итальянской опере.
Все в один голос утверждали, что она красива, очень красива, и лорд Бильзер подтвердил это. В то же время, если верить упорным слухам, она никогда никого не любила, и молодые люди называли ее между собой не иначе как мраморным изваянием. Некоторые из лордов потратили безумные деньги, чтобы только быть принятыми у нее, — но тщетно! Она почти никогда не принимала мужчин, а если и принимала, то лишь пожилых или по крайней мере таких, которые не домогались ее любви. Короче говоря, донна Эухения Ларганд была средоточием всеобщего внимания.
Все это было вкратце рассказано дону Лотарио. Кое-кто из членов Общества уже направился к выходу.
— Позвольте, где граф Бомон? — спросил лорд Бильзер. — Мы собирались вместе отправиться домой. Однако я нигде его не вижу. Неужели он ушел, не простившись со мной?
В этот миг в зале появился слуга.
— Милорды! — невозмутимо доложил он. — Граф Бомон только что найден мертвым в комнате номер три.
Хотя джентльмены изъявили готовность встретить смерть с величайшим спокойствием, при этом известии все они замерли как громом пораженные.
Воцарилось гробовое молчание.
— Номер три! — прервал наконец безмолвие лорд Уайзборн. — Выходит, граф застрелился!
— Джентльмены! — промолвил лорд Бильзер, оправившийся от первого потрясения и опять спокойный как никогда. — Идемте же на место смерти, чтобы увидеть, как умер наш президент!
Он пошел первым, а за ним все остальные, включая и дона Лотарио. Молодой испанец с удовлетворением отметил про себя, что это событие воспринято членами Общества не так легко и бесстрастно, как можно было ожидать, судя по высказываниям некоторых из них. Лица у всех сделались серьезными, почти торжественными.
Дверь в салон была распахнута настежь. На софе как живой сидел граф Бомон. На полу у его ног лежал пистолет, и только кровь, струившаяся по его светлому жилету, говорила о его насильственной смерти.
Вошедшие сгрудились вокруг умершего, и дон Лотарио с мрачным любопытством оглядел труп. Глаза покойного были полузакрыты, рот приоткрыт. Граф был не бледнее обычного, а на его лице застыло уже знакомое всем выражение меланхолического спокойствия.
Лорд Бильзер закрыл графу глаза.
— Пуля попала прямо в сердце! — заметил он. — Мир его праху. Постойте, я вижу на столе перо и бумагу! Вероятно, он оставил нам несколько строк.
Лорд подошел к столу и, взяв в руки записку, огласил ее содержание:
— «Последнее слово к моим друзьям.
Я принял смерть, ибо жизнь не имеет для меня никакой цены. Единственная цель, к которой я стремился, — стать президентом нашего Общества. Эта честь мне оказана, и, чтоб быть достойным ее, я наконец сделал шаг, которого давно жаждал. Я желаю своим коллегам всего наилучшего и прошу располагать моим состоянием, согласно уставу. Прошу лишь принять в расчет завещание, составленное мною при вступлении в Общество.
Кроме того, я бы хотел, чтобы мое имя было занесено в книгу с одним-единственным примечанием: Он был президентом Общества и умер в день своего избрания. Он оказался вполне достойным оказанной ему чести!
Пусть лорд Бильзер возьмет на себя труд отправить медальон, что лежит на столе, и коротенькую записку, что находится рядом, по известному ему адресу.
Граф Бомон».
Эти слова были выслушаны молча, и трое членов Общества приступили к своим обязанностям: раздеть усопшего и дать в газеты извещение о его смерти.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I. ЭЖЕНИ ДАНГЛАР
Миновало две недели. Дон Лотарио почти ежедневно наведывался в Общество самоубийц. Свел он знакомство и с донной Эухенией.
Впрочем, никаких перемен к лучшему в нем не произошло. С каждым днем душа его страдала все сильнее, он делался все более мрачен. Сердце не покидала та самая мучительная боль, и сквозь мрак, постепенно поглощавший все его стремления и желания, его внутреннему взору ясно виделись лишь блестящие глаза Терезы.
В тот вечер в доме донны Эухении Ларганд, или, как мы будем ее называть, Эжени Данглар, собралось небольшое общество, где присутствовал и дон Лотарио. Кроме него, здесь находился молчаливый господин весьма преклонных лет, который сопровождал певицу из любви отчасти к искусству, а отчасти к путешествиям и оказывал ей покровительство. Был приглашен и уже знакомый нам лорд Бильзер. Как и на всех приемах, которые устраивала хозяйка дома, была здесь также и ее подруга Луиза д’Армильи.
Эжени была в ударе — всего несколько часов назад она привела в восторг оперных завсегдатаев, исполнив с непревзойденным мастерством партию донны Анны в «Дон Жуане» Моцарта. Она оживленно говорила об английской публике — казалось, ей очень нравится в Англии. Ее темные глаза — весьма своеобразные, по утверждению многих, ибо они пылали огнем, не излучая тепла, — светились живым блеском, особенно когда она смотрела на дона Лотарио, что, впрочем, случалось очень часто. А молодой испанец по своему обыкновению спокойно и внимательно прислушивался к разговору, почти не принимая в нем участия.
Из всех мужчин, которые до сих пор встречались Эжени, ни один не удержался от соблазна завоевать ее благосклонность, расточая ей любезности. Но ни один не произвел на нее такого впечатления, как этот молодой испанец с печальными глазами и серьезным, задумчивым лицом, на котором временами появлялось мимолетное выражение скрываемой душевной боли. В чем же дело? Во-первых, глубоко заблуждались те, кто считал Эжени холодной. Иначе как бы она могла стать знаменитой певицей? Просто ее натуре претили лесть и всякое преднамеренное восхваление. Она понимала, что не в силах сносить тяготы брака, лжекнязь Кавальканти вызывал у нее неприязнь — как, вероятно, и любой другой на его месте. Потому она и бежала из Парижа, от своих родителей. Эжени жаждала свободы и самостоятельности. Натуры, подобные ей, инстинктивно чувствуют в мужчине властителя, тирана и не намерены ему покоряться. Внешне она казалась холодной и рассудочной, но в ее сердце оставалось достаточно места для самых бурных страстей.
Она полюбила дона Лотарио с всепоглощающей страстью, которая, возможно, не бросалась в глаза окружающим лишь потому, что ее приписывали повышенной эмоциональности, какую привыкли видеть у актеров — в их речах и жестах. Правда, Луиза д’Армильи и лорд Бильзер догадывались, что творится в ее душе. Но Эжени пока еще владела собой, с лихорадочным нетерпением ожидая хоть какого-то знака, свидетельствовавшего о том, что ее чувство небезответно.
Однако таких признаков все еще не было, а пламя страсти так сильно бушевало в сердце Эжени, что за несколько дней она изменилась даже внешне, стала бледнее, нервознее, беспокойнее обычного. Но дон Лотарио ничего этого не видел. Да и как ему было заметить эти перемены, когда он был поглощен мыслями о Терезе!
Разговор в гостиной принял общий характер, хотя и не выходил за рамки искусства, и дон Лотарио, который не слишком интересовался театром, становился все рассеяннее и в конце концов целиком предался своим мечтаниям. Оскорбленная Эжени неожиданно прервала интересную беседу.
— Мне очень жаль, милорд, — обратилась она к лорду Бильзеру, — но я вынуждена проститься с вами. Мне хотелось бы поговорить с доном Лотарио наедине. Всего несколько слов о моей матери! Простите мне эту дерзость, дон Лотарио, — сказала Эжени, когда лорд удалился, — но вы, надеюсь, поймете мое нетерпение. Мне хочется из ваших уст услышать, как погибла моя мать. Ведь вы были очевидцем злодеяния! Прежде я не осмеливалась просить вас об этом, но теперь, когда мы ближе знаем друг друга… Луиза, ты не посмотришь, принесли нотные тетради?
Луиза, а вместе с ней и пожилой господин поняли намек и покинули гостиную.
— Эта трагедия затрагивает такие печальные минуты моих семейных воспоминаний, — начала Эжени, когда они остались вдвоем, — что вполне оправдывает мое желание говорить с вами без свидетелей. Не ужасно ли, что тот самый человек, который некогда собирался стать моим мужем, стал теперь убийцей моей матери?!
— Вам еще не все известно! — заметил молодой испанец и, стараясь по возможности щадить дочерние чувства Эжени, поведал ей о родственных связях Бенедетто-Лупера с баронессой. Певицу бросило в дрожь. Как легко она могла сделаться женой человека, который был ее сводным братом!
Близилась полночь, свечи догорали. Вошедшая горничная сообщила, что Луиза отправилась спать.
Чем больше подробностей упоминал в своем рассказе испанец, тем беспокойнее становилась Эжени, и любой другой на месте дона Лотарио обратил бы внимание, что ей очень хочется сменить тему разговора. Ее щеки порозовели, прекрасные глаза заблестели. Румянец временами сменялся внезапной бледностью, а руки предательски дрожали. Певица и дон Лотарио словно поменялись ролями: Эжени была пылкой влюбленной, готовой признаться в своих чувствах, а испанец ничего не подозревал и не догадывался, что творится в сердце девушки.
Наконец она решилась.
— Давайте оставим эту грустную тему, дон Лотарио. Где вы познакомились с моей матерью?
— У одной… молодой дамы, — ответил испанец, и кровь отхлынула от его лица. — Госпожа Данглар была единственной ее подругой. Когда баронесса погибла, эта дама покинула Париж.
— Мне говорили, что вы недавно из Парижа, — продолжала Эжени. — Родом вы из Мексики. Что же заставило вас уехать с родины?
— Несчастье, мадемуазель! — ответил молодой человек, невесело улыбнувшись. — Мое имение сгорело, меня сочли разоренным, и невеста ушла от меня. Чтобы забыть Мексику, я отправился в Европу.
— Какая подлость! — вскричала Эжени, начиная догадываться о причинах меланхолии своего друга. — Фу, как отвратительно! Можно подумать, вы не заслуживаете, чтобы вас любили и без всякого состояния. Воображаю, что это была за девица!
— Ничуть не хуже большинства представительниц своего пола, — пожал плечами дон Лотарио.
— Значит, большинства! Возможно, так оно и есть — я ничего в этом не понимаю. Но мне непонятно и другое: как можно любить в мужчине деньги, ведь только он сам со всеми своими достоинствами и недостатками способен дать женщине счастье, даже при самых скромных доходах. Простите меня за навязчивость, дон Лотарио, однако я в недоумении: отчего потеря этой девицы и поныне не дает вам покоя? В первую минуту разочарование, предательство могут перевернуть душу, но потом начинаешь сознавать, что такое супружество отравило бы тебе всю жизнь.
— Пожалуй, вы правы, но боль в сердце не унимается!
Теперь испанец понял, что его подавленность Эжени приписывает неразделенной любви к донне Росальбе. Впрочем, он не собирался разуверять ее, ибо не имел ни малейшего намерения посвящать певицу в свои отношения с Терезой.
— Пусть не унимается! — продолжала Эжени. — Но милосердная природа создала надежное лекарство от сердечных разочарований, наделив молодость способностью к новой любви. Думаю, дон Лотарио, вы не из тех, кто, обманувшись в своих надеждах один раз, способен отказаться от дальнейшей жизни и нового чувства. Иначе мне пришлось бы усомниться в ваших душевных силах, в вашей мужественности! Я сочла бы вас слабым!
— Как прекрасно вы рассуждаете о любви! — заметил дон Лотарио. — Никто бы этому не поверил, ведь, говорят, в сердечных делах вы весьма неопытны, а любовная страсть вам недоступна. Теперь я почти готов утверждать обратное!
— Неопытна? Вероятно. Но холодна — нет и еще раз нет! — воскликнула Эжени, устремив на молодого человека пламенный взор. — Я знаю наверное, что сумею сделать счастливым того, кого полюблю!
Дон Лотарио не удержался от вздоха, невольно подумав о том, каким безмерно счастливым сделала бы его любовь Терезы.
— Да, должно быть, огромное счастье, когда тебя любят. Остается только позавидовать мужчине, которому вы подарите это блаженство! Впрочем, все, что вы говорите, не больше чем абстрактные рассуждения. Откуда вам знать, как вы станете любить, если вы не испытали этого чувства?
— А кто вам сказал, что я не люблю?! — ответила, сверкнув глазами, Эжени.
— Это меняет дело, — произнес молодой человек, который, как ни странно, не понял ее взгляда, — в таком случае я должен просить вас извинить меня. Но как вам удается столь искусно скрывать свою любовь? О ней никому ничего не известно.
— А никто и не может об этом знать, потому что я таю свою любовь в сердце.
— Выходит, вас постигла участь тех мужчин, что добиваются вашей благосклонности. Они любят втайне и не смеют признаться.
— Они-то смеют! Но разве женщина может открыть свою любовь? — вскричала Эжени. — Разве не долг мужчины — сказать первое слово? Может ли женщина позволить себе нечто большее, чем намекнуть, что влюблена?
— А тот, кого вы любите, не догадывается о вашем чувстве? — спросил дон Лотарио.
Когда молодой человек заговорил о тайной любви, щеки певицы окрасил густой румянец. Теперь же они побледнели, и эта внезапная бледность, эта дрожь не укрылись от молодого испанца, как ни далек он был от разрешения загадки.
Эжени сама спохватилась, что позволила себе непростительную слабость, и, забыв обо всем, закрыла лицо руками.
— Мадемуазель! — воскликнул молодой человек, все еще сомневавшийся в своих догадках. — Простите меня! Я зашел слишком далеко! Да и как я решился спрашивать об этом? Может быть, ваша любовь безответна!
— Безответна? — медленно и без всякого выражения промолвила Эжени. — Может быть.
— Простите, ради Бога, простите! — с искренним раскаянием сказал дон Лотарио. — Как я мог так забыться?
— Теперь мне ясно: я несчастлива в любви! — вскричала Эжени, опускаясь в кресло. — Бог знает, что я натворила! Что подумает свет!
Стоя рядом, молодой человек испытывал мучительную неловкость. В нем все больше крепла уверенность, что Эжени любит именно его.
— Что вам сказать, мадемуазель? — пробормотал он. — Может быть, я знаю того, кого вы любите? Позвольте мне быть вашим другом, вашим доверенным! Может быть, мне поговорить с этим человеком? Вдруг вы ошибаетесь и он отвечает вам взаимностью?
— Нет, нет! — вскричала Эжени и, собрав остатки сил, поднялась. — Оставьте меня, дон Лотарио, уходите, прошу вас, уже поздно, очень поздно!
Она сделала несколько шагов к двери. Потом силы покинули ее, она зашаталась, готовая вот-вот упасть. Дон Лотарио подхватил ее.
— О Боже, помоги мне! Дай мне силы перенести все это! — всхлипнула Эжени. — Как это тяжело, как жестоко! Отвергнуть искреннее чувство в память о какой-то донне Росальбе!
Лотарио задрожал. Слова были произнесены почти неосознанно; возможно, Эжени даже не отдавала себе отчет в том, что сказала все это вслух. Сомнений не было, певица полюбила именно его!
— Мадемуазель, — сказал он, помогая ей снова сесть в кресло, — я слишком горд, чтобы обманывать вас и злоупотреблять вашим признанием. Поверьте, вовсе не память о коварной мексиканке оставляет меня равнодушным к достоинствам такой женщины, как вы! Скажу откровенно: я люблю другую — люблю ту самую Терезу, подругу вашей покойной матери!
— Другую! — вскричала Эжени, и в ее глазах вспыхнул новый огонь — огонь ревности и мести. — Где она? Отвечайте!
— Я не знаю! Не думаю, что она любит меня, но я ее люблю!
— Он любит ее! — прошептала Эжени. — Довольно, довольно, дон Лотарио! Уходите, я не хочу вас больше видеть! Никогда!
Испанец почтительно откланялся и вышел. Ожидавшему внизу слуге он велел сесть в коляску и отправиться в клуб, а сам пошел туда пешком.
Никогда еще он не был так мрачен и так подавлен, как сегодня. Мало того что несчастен сам, он разбил и еще одно сердце, даже не подозревая об этом, — сердце Эжени! И почему им обоим так не везет? Почему бы Эжени не полюбить кого-нибудь другого, более достойного; почему он любит Терезу? Непостижимы превратности судьбы. Если земное существование — это мука, бесконечная вереница роковых заблуждений, к чему продолжать его? Не лучше ли положить ему конец как можно раньше?
II. ИСПЫТАНИЕ
Приблизительно так размышлял дон Лотарио, когда появился в зале Общества самоубийц, где его ожидал лорд Бильзер. Необычно мрачный, угрюмый вид молодого человека приковал к нему взоры присутствующих. Лорд Бильзер вознамерился вначале расспросить его, но все же не решился. Не говоря ни слова, дон Лотарио занял отведенное ему место.
— Прошу господина президента принять меня в члены Общества! — сказал он наконец. — Трезво все обдумав, я пришел к такому решению.
— Ну что же, — согласился лорд Бильзер, уже избранный новым президентом, — у меня нет возражений. Завтра проведем голосование и решим этот вопрос. Но прежде, дон Лотарио, мне необходимо сказать вам несколько слов с глазу на глаз.
Он поднялся из-за стола и в сопровождении молодого испанца покинул зал. Они миновали несколько коридоров, и дону Лотарио казалось, они идут мимо комнат, предоставляющих различные возможности покончить с собой. Освещение, обычно столь яркое, становилось все тусклее, и дон Лотарио уже перестал узнавать, где он находится. В конце концов они очутились в просторной комнате, где царила почти полная темнота.
— Прошу вас, дон Лотарио! Садитесь! — сказал лорд. — Я только позову одного джентльмена, который будет присутствовать при нашем разговоре. Вам придется подождать не более десяти минут.
В комнате было так темно, что дон Лотарио не различал стен. Единственным источником света служила лампа под потолком. Ее абажур направлял скупые лучи вниз, освещая лишь небольшой участок пола. Испанец спокойно расположился на софе, погруженной в глубокий полумрак.
Вскоре, однако, он почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он старался глубоко дышать, но это не помогало. Странное беспокойство овладело им. Он поднялся с софы и сделал несколько шагов по комнате. При этом его слегка покачивало, словно от легкого опьянения.
Испанец отметил про себя это любопытное обстоятельство, не подозревая об истинных его причинах, протер глаза и постарался вернуть ясность мыслям. Но тягостная духота не только не исчезала, а даже усиливалась. Кровь застучала у него в висках, в глазах появилась резь, в горле пересохло.
Вдруг его осенило — он уловил слабый запах тлеющих углей. Значит, он находится в салоне, где умирают от угара. Вероятно, его решили подвергнуть испытанию, хотели выяснить, как он встретит реальную угрозу смерти.
Догадка вернула ему спокойствие и рассудительность, насколько это было возможно в его состоянии. Он улыбнулся. Если это и в самом деле испытание, отчего бы ему не выдержать проверку? Ведь никто не собирается лишать его жизни!
Однако плоть отказывалась подчиняться доводам рассудка. Дон Лотарио подумал, что умирать от угара вовсе не так легко и приятно. Ему казалось, тело готово разорваться на части. Дыхание сделалось невыразимо тяжелым, грудь сдавило словно в тисках.
Все страдания он переносил мужественно, со стойкостью человека, которому известно, что он не погибнет. Он подозревал, что за ним наблюдают, и одно только сознание этого удерживало молодого испанца от слабости и малодушия.
Но… в голову приходили и иные мысли. Что, если упустят какую-нибудь мелочь, если оставят его в комнате слишком надолго? Он может погибнуть, у него может наступить паралич дыхания!
Умереть! Что же с того, если он умрет? Разве он не просил принять его в члены Общества, где самоубийство возведено в принцип? И разве он не пришел с твердым намерением умереть в этих стенах — если не сегодня, то все равно скоро? Если по воле случая ему суждено погибнуть именно сейчас, что это изменит? Просто он избавится от своих душевных мук несколькими днями раньше!
Перед глазами у него поплыли разноцветные круги. Комната представлялась ему то охваченной пламенем, то погрузившейся в непроницаемый мрак.
Постепенно возбуждение, в котором он пребывал, сменилось глубокой, приятной расслабленностью. Его охватило невыразимое блаженство. Ему представлялось, что он купается в море воздуха и света, в волнах эфира, которые мягко несут его куда-то. Вокруг парили сонмы ангелов. Все они были с одним и тем же лицом, и все смотрели на него одними и теми же глазами — глазами Терезы. До его слуха долетала сладкозвучная музыка, и этой музыкой был ее голос. Его лицо ласкало нежное дуновение ветерка, и это было ее дыхание. Он чувствовал, что поднимается все выше и выше, растворяясь в море света…
— Браво! Браво! — донесся вдруг до него мужской голос. — Вы с честью выдержали испытание, дон Лотарио!
Молодой человек открыл глаза и увидел, что находится в зале. Он сидел на прежнем месте, поддерживаемый двумя членами Общества, которые располагались справа и слева от него и временами подносили к его носу пузырек с нюхательной солью.
— Браво! — повторил лорд Бильзер. — Вы почти уже не подавали признаков жизни. Самому бы вам не спастись, и мы не могли оставить вас в этой комнате. Испытание вы выдержали как нельзя лучше. А теперь расскажите всем нам, что вы чувствовали!
Дон Лотарио постепенно собрался с мыслями. В первую минуту им владело одно-единственное чувство — глубокая неудовлетворенность. Он негодовал, что его пробудили от столь сладостных грез. Он готов был немедленно вернуться обратно, лишь бы вновь погрузиться в эти невыразимо прекрасные мечтания. Наконец он полностью пришел в себя и вспомнил, что это была всего лишь проверка и поступить иначе было никак нельзя.
Затем молодой испанец со всей возможной обстоятельностью описал друзьям, заинтересованно его слушавшим, впечатление, какое произвело на него воздействие угара, и добавил, что не изберет никакого другого способа сведения счетов с жизнью. Некоторые слушатели с ним не согласились. Лорд Каслфорд уверял, что испробовал два способа — тот, каким испытывали дона Лотарио, и повешение — и отдает предпочтение последнему. Правда, уточнил лорд, такие эксперименты очень рискованны, ведь в случае неудачи можно сломать позвонки.
Торжественное заседание, на котором дона Лотарио должны были официально принять в члены Общества, назначили на следующий вечер.
Так оно и случилось. Молодому человеку зачитали устав, и он взял на себя обязательство добровольно уйти из жизни только в стенах клуба, а в случае выхода из него отказаться от половины своего состояния. Кроме того, ему пришлось пообещать, что на такой шаг, как выход из Общества, его может толкнуть лишь серьезное, веское обстоятельство, например женитьба по любви или занятие высокого поста.
Затем лорд Бильзер уведомил дона Лотарио, что утром посетит его вместе с графом д’Эрнонвилем, чтобы уточнить размеры его состояния. При этом президент добавил, что новый член Общества вправе свободно распоряжаться всем состоянием клуба, а на всякий случай ему гарантирован ежегодный доход в двадцать тысяч, что приблизительно соответствует его имущественному положению. Если какое-то непредвиденное событие потребует от него дополнительных расходов, касса Общества к его услугам. Далее на заседании было объявлено о предстоящем вскоре приеме в члены Общества двух англичан, личное состояние каждого из которых превышает миллион фунтов.
Около пяти утра дон Лотарио, полностью удовлетворенный, покинул клуб. В сущности, все эти формальности беспокоили юношу чрезвычайно мало, ибо жизнь утратила для него всякую привлекательность и не представляла больше интереса.
III. ВЕКСЕЛЬ
Назавтра в полдень у дверей дома, где жил дон Лотарио, остановился экипаж, из которого навстречу нашему герою вышел лорд Бильзер в сопровождении графа д’Эрнонвиля, исполнявшего, как мы помним, обязанности казначея Общества.
Этот визит можно было назвать почти официальным. Дон Лотарио встретил гостей в весьма подавленном настроении, что отчасти объяснялось физическими страданиями вследствие злополучной проверки.
— Итак, нам предстоит уточнить ваши финансовые возможности, — сказал лорд. — Вероятно, ваши капиталы находятся в Калифорнии, и реализовать их будет нелегко.
— Не совсем так, — ответил молодой человек, после чего рассказал, в чем заключается его состояние и какой договор он заключил с лордом Хоупом.
— Странная история! — прогнусавил внимательно слушавший его рассказ граф д’Эрнонвиль.
— В самом деле, — согласился лорд Бильзер, — если быть точным, ваше состояние заключено в векселе, выданном на очень крупную сумму, и речь идет о том, чтобы превратить его в наличные деньги. Посмотрим, возможно ли это. Удивительно, что я не знаю никакого лорда Хоупа, хотя он, по вашим словам, сказочно богат.
— Я также чрезвычайно удивлен, — добавил граф д’Эрнонвиль.
— Вам уже приходилось получать деньги по этому векселю? Какие банкирские дома платили по нему?
— Все, к каким я обращался, — ответил дон Лотарио.
— Следовательно, вы могли бы уступить ваш вексель нам или, точнее говоря, кассе нашего Общества, — подытожил лорд Бильзер. — Если он будет опротестован, это в конце концов не так уж и важно, ибо мы не вправе требовать от вас больше того, чем вы располагаете. Вам известно, что нашему клубу безразлично, имеет тот или иной джентльмен деньги или нет. Мы смотрим только на личные качества претендентов.
— Благодарю, но мне кажется, вексель не вызывает сомнений, — заметил молодой испанец.
В этот миг вошел слуга с письмом, только что полученным из Парижа, с пометкой «срочно».
Дон Лотарио извинился перед гостями и вскрыл письмо. Оно было от аббата Лагиде, который сообщал ему следующее:
«Мой юный друг!
Надеюсь, Вы приложили все силы, чтобы мужественно перенести несчастье, постигшее Вас в Париже. По крайней мере желаю Вам этого. Граф Аренберг и Тереза прибыли в Берлин и просили меня засвидетельствовать Вам свое почтение. Кроме того, лорд Хоуп прислал мне для Вас письмо, которое я незамедлительно должен переправить Вам. Он предполагал, что Вы еще в Париже. Не забывайте меня и помните о нашем последнем разговоре!»
С помрачневшим лицом — ибо слова аббата всколыхнули в его памяти недавнее глубокое разочарование — дон Лотарио распечатал послание лорда. Во время чтения он лишь единожды слегка побледнел, однако опять овладел собой.
— Странное совпадение! — заметил он с улыбкой. — Вы только послушайте, джентльмены! Мой вексель превратился теперь в пустую бумажку. Лорд Хоуп объявил себя банкротом. Вот что он пишет:
«Дорогой дон Лотарио!
Должен сообщить Вам печальную весть. Предприятие в Нью-Йорке, куда была вложена бо́льшая часть моей наличности, обанкротилось. Кроме того, мои здешние начинания поглотили гораздо больше средств, чем я мог предположить, поэтому не исключено, что мне придется продать кое-что из недвижимости. Таким образом, мне останется только извиниться перед Вами, если я буду вынужден отказаться от покупки, которую сделал, откровенно говоря, только из сострадания к Вашему бедственному положению. Я поручил банкирским домам, с которыми имею дело, впредь не производить платежей по векселю, поскольку я не в силах покрыть их. Мне очень бы не хотелось поставить Вас этим в затруднительное положение. Впрочем, оно не так уж и безвыходно. Я поручил банку Ротшильда в Лондоне выплатить Вам еще десять тысяч долларов. Если Вы согласны принять их и ранее полученные Вами двадцать тысяч долларов в качестве платы за Вашу гасиенду, я буду доволен. В противном случае я возвращаю Вам Вашу собственность без дополнительной компенсации. Простите, что так получилось, но моей вины здесь нет. А если хотите получить от меня совет, он будет таков: не впадайте в отчаяние! С остатком Вашего состояния Вы можете достойно завершить образование в Лондоне и особенно в Берлине, после чего Ваше отечество доставит Вам немало иных источников существования. Когда я был молод, я не был так богат, да и судьба не приготовит Вам таких ударов, какие выпали на мою долю. Последуйте же моему совету и отправляйтесь в Берлин. Все остальное, о чем я Вам говорил, пусть остается по-старому, а если мне удастся спасти от банкротства больше, чем я рассчитываю, Вы также получите свою часть. Главное — не теряйте мужества
Ваш лорд Хоуп».
— Странная история! — повторил граф д’Эрнонвиль, покачивая головой. — И вы в нее верите?
— А почему бы и нет? — возразил лорд Бильзер. — В ней нет ничего невозможного! Несчастье такого рода может случиться с каждым, а предложения лорда, в сущности, не так плохи. Вероятно, он переоценил свои силы.
— Должно быть, так, — вставил свое слово дон Лотарио. — Что до меня, то я считаю лорда искренним человеком. Но я почти уверен, что нельзя не разориться, если живешь так широко. Во всяком случае, лорд — необыкновенный человек.
— Надо полагать, если он приобрел вашу гасиенду за такую баснословную цену! — поддержал испанца лорд Бильзер. — Что же еще поразило вас в нем? Может быть, он англичанин и приедет в Лондон? Не предложить ли ему вступить в наше Общество?
Дон Лотарио подавил невольную улыбку, а потом рассказал о подробностях своего знакомства с лордом и описал его богатство. Граф д’Эрнонвиль слушал со все возрастающим интересом.
— Именно сейчас, когда вы упомянули пароход, меня вдруг осенило, — наконец сказал он. — Позвольте задать вам несколько вопросов. У этого лорда темные волосы и рост немного выше среднего, не правда ли? Слуга у него немой негр? И выезжает на великолепных лошадях? Лицо у него всегда непроницаемое и улыбается он редко?
— Все так, как вы говорите.
— А как по-вашему, когда лорд появился в Калифорнии?
Дон Лотарио задумался и указал примерное время.
— И это совпадает! — заметил д’Эрнонвиль, и его голос на мгновение утратил обычную гнусавость. — Ну что же, я, кажется, знаю этого лорда. Это самый крупный авантюрист, какого я встречал. Бывал он и в Париже, под именем графа Монте-Кристо. Это мошенник и первостатейный плут!
— Монте-Кристо? — переспросил лорд Бильзер. — Верно, я что-то о таком слышал.
— Он привлекал всеобщее внимание, — продолжал д’Эрнонвиль, — и то, что у него денег куры не клюют, не подлежит сомнению. Никто, правда, не знает, откуда у него такое богатство. Я с самого начала понял, что это авантюрист. Но мне не хотели верить. О нем рассказывали всякие басни, в которых, на мой взгляд, не было ни капли истины. А не было ли при нем женщины?
— Признаться, я не заметил ни одной, но заподозрил что-то подобное, — ответил дон Лотарио. — Не знаю, есть ли у него вообще семья! Но мне бросилось в глаза, что он держит у себя сумасшедшего старика. Когда я спросил, не его ли это отец, он ответил: «Может быть, это — убийца моего отца!»
— Боже милостивый! — вскричал граф, меняясь в лице. К счастью, дон Лотарио в этот миг глядел на лорда Бильзера и не видел графа, а когда перевел взгляд на него, тот уже успел справиться со своими чувствами.
— В каком же районе Калифорнии он обосновался? — невозмутимо поинтересовался д’Эрнонвиль.
Дон Лотарио описал ему эти места, граф слушал с напряженным вниманием.
— Как бы там ни было, это не меняет дела! — заключил лорд Бильзер. — Вы — наш и останетесь им. Вносить в нашу кассу остаток вашего состояния было бы неразумно — сумма слишком ничтожна. Из средств клуба вы будете ежегодно получать три тысячи фунтов. Как я уже говорил, мы ожидаем значительного приумножения нашего состояния за счет приема новых членов. Так что не стоит расстраиваться!
— Неужели вы думаете, что тот, кто презирает жизнь, способен любить деньги? — с недоумением спросил дон Лотарио.
— Отнюдь нет, однако принципы обязывают нас обеспечить членам нашего клуба совершенно беззаботное существование. Учредители Общества исходили из неопровержимого постулата: ничто так не привязывает к жизни, как труд и заботы!
На этом визитеры откланялись (граф д’Эрнонвиль — не без некоторой холодности), и дон Лотарио остался наедине со своими чрезвычайно странными мыслями.
Что стало с ним с тех пор, как он покинул родные места по воле человека, которого теперь называют авантюристом и обманщиком? Он стал несчастлив, он сделался бедняком. У него не хватало знаний, чтобы обеспечить свое существование. Он находился на чужбине. Никогда он не был ближе к мысли покориться законам клуба, членом которого он теперь стал, и лишить себя жизни, представлявшейся ему бескрайней пустыней.
Однако у него еще было время. Он послал сначала к Ротшильду, чтобы получить по векселю остаток денег, и спустя два часа сделался обладателем пятнадцати тысяч долларов. Теперь это было все его состояние. Сколько людей чувствовали бы себя богачами, располагая подобной суммой, но для него она значила не больше, чем пятнадцать тысяч центов.
А что потом, когда эти деньги будут истрачены? Потом ему придется жить за счет кассы клуба. Нет, невозможно! Он не станет так унижаться! Лучше он пойдет работать. Но что он способен делать? И к чему мучить себя? Но разве труд — мука? Разве лорд Бильзер не сказал, что более всего держатся за жизнь именно те, кому приходится бороться с заботами и нуждой?
Такие мысли блуждали в голове молодого человека. Разве все, что ему довелось испытать до сих пор, потрясло бы его до такой степени, если бы на пути своих печальных мыслей он сумел соорудить плотину разумной и полезной деятельности? Разве пытался он бороться со своей судьбой?
Нет, не пытался! Он плыл по течению! Целых три часа он размышлял, расхаживая по комнате. Совершенно новые мысли рождались у него. Слова лорда Бильзера упали на благодатную почву.
Он послал лорду и Эжени прощальные письма и вечером того же дня уехал в Берлин.
Спустя две недели Лондон покинул еще один член Общества самоубийц, причем куда поспешнее дона Лотарио. Это был граф д’Эрнонвиль. Вероятно, на память о клубе граф захватил с собой всю наличность, которая оказалась в кассе, — довольно значительную сумму. Его скоропалительный отъезд весьма опечалил лондонскую полицию.
IV. СВИДАНИЕ
В так называемом зимнем саду расположились, прислушиваясь к звукам музыки, профессор Ведель, его жена и дон Лотарио. В те времена подобные заведения были в Берлине в новинку, и там можно было встретить самое изысканное общество, хотя они даже приблизительно не предлагали посетителям того комфорта, какой сегодня стал привычным и для рабочих пивных.
Дон Лотарио приехал в Берлин в неопределенном настроении. Он пробуждался к новой жизни и отдался этому чувству с уверенностью хорошего пловца, который видит, что до берега еще далеко, но надеется, что силы его не покинут. Лотарио снова казалось, что все у него впереди.
Дон Лотарио не стал справляться ни о Терезе, ни о графе Аренберге. Он хотел, чтобы прошло время, прежде чем он снова увидит Терезу. На следующий же день после приезда он отыскал профессора Веделя, того самого, которого рекомендовал ему лорд Хоуп. Знакомством с ним молодой испанец был весьма доволен. Профессор оказался человеком лет тридцати с небольшим, разносторонне образованным, знающим жизнь, человеком редкой гуманности и тонкости чувств. Ведель имел обширный круг знакомых в разных слоях берлинского общества и пользовался всеобщим уважением и любовью.
Профессор с благодарностью вспоминал о лорде Хоупе, с которым познакомился в Калькутте, где тот однажды выручил его из крупной финансовой неприятности. Он характеризовал лорда как чрезвычайно интересного человека и удивился, узнав, что он уединился в Калифорнии вместо того, чтобы предложить свои знания и жизненный опыт всем, кто в них нуждается. Ведель сразу же располагал к себе, и дон Лотарио поведал ему о своей прошлой жизни, умолчав, однако, о графе Аренберге и Терезе. Это доверие принесло добрые плоды. Во-первых, профессор успокоил молодого человека, убедив, что лорд никакой не авантюрист и написал ему истинную правду. Во-вторых, он научил молодого испанца, как вести разумный образ жизни и успешно постигать науки. Он растолковал дону Лотарио, что ему незачем оставаться в Германии, где для иностранца, не владеющего языком, почти нет надежды получить доходное и достойное место. Он рекомендовал молодому человеку обратить особое внимание на изучение истории и национальной экономики, чтобы по окончании обучения, вернувшись на родину, приносить пользу этой несчастной разобщенной стране, которой так недостает образованных людей. Имея три тысячи талеров, уверял профессор, дон Лотарио сможет долгое время вести обеспеченную жизнь в Берлине, а с тем, что у него останется, начать новую жизнь в Мексике.
Дон Лотарио убедился, что Ведель по всем статьям прав, и начал под его руководством свои занятия. Вскоре они так увлекли его, что в учении он открыл для себя удовольствие, о существовании которого прежде даже не подозревал. В его душе таилась неуемная жажда знаний, а терпение и упорство, какие он проявлял, трудно было даже предположить, зная его страстный темперамент.
Кроме семейства профессора, молодой человек почти ни с кем не общался. Ведель и его жена свободно изъяснялись по-французски, а профессор — еще и по-испански. Супруга Веделя оказалась очень красивой и приветливой женщиной. Она принесла мужу состояние, избавившее его от жизненных тягот, от которых так часто страдают люди науки. Эти средства он почти целиком тратил на свои изыскания. К сожалению, в этой дружной семье не было детей, и профессор, увидев красивого ребенка, всякий раз украдкой вздыхал.
В отличие от многих ученых мужей профессор и внешне был статен и привлекателен. Вряд ли можно было отыскать более достойный пример мужской красоты. Любопытно было видеть этого человека рядом с доном Лотарио: на его лице не осталось ни малейшего намека на страсти, которые в молодые годы, возможно, обуревали и его. Дон Лотарио тоже успокоился, но каким же беспокойным выглядело его спокойствие по сравнению с невозмутимой серьезностью профессора! Он только-только начал постигать, что опыт — школа жизни. И не зародилась ли уже у него мысль, что опыт — как заметил Гёте — это знание того, что мы не желаем узнавать?
Так и сидели эти трое, то слушая музыку, то негромко беседуя друг с другом. В зимний сад непрерывно прибывали новые посетители. Многие приветствовали профессора и завязывали с ним мимолетный разговор. Внимание дам привлекал, вероятно, дон Лотарио, ибо их лорнеты были направлены главным образом на молодого испанца. Видимо, распространился слух, что он иностранец, и это вызвало к нему повышенный интерес.
Совершенно случайно взгляд профессора упал на одну из немногих лож, где располагалась более изысканная публика. Такие полускрытые портьерами ложи находились на той стороне зимнего сада, куда ему прежде как-то не доводилось смотреть. Он испугался, а испуг столь уравновешенного человека не мог остаться незамеченным. Он побледнел и некоторое время, казалось, не знал, куда девать глаза, пока наконец не взглянул на свою жену, от которой не укрылось его смятение.
— Что с тобой, Пауль? — обеспокоенно спросила она по-немецки, поскольку этим языком дон Лотарио владел пока чрезвычайно слабо. — Наверное, заметил что-то необычное?
Профессор попытался скрыть испуг и заставил себя улыбнуться.
— Дорогая Мария, — ответил он, — мне не хотелось тебе говорить, но ты, чего доброго, обидишься на мою скрытность. Я увидел ту, которую ты так часто жаждала и в то же время страшилась увидеть, ту, которую я сам давно не видел.
— Чувствую, это Тереза! — сказала, вздрогнув, Мария. — Да, так и есть!
— Ты угадала, — подтвердил Ведель, и на его губах снова заиграла немного странная улыбка. — Впрочем, не привлекай к себе внимания — воздержись смотреть на нее сразу же. Она сидит во второй ложе с графом Аренбергом и еще каким-то господином.
Да, именно там, полускрытая портьерой, сидела Тереза, и ее по-прежнему бледное, страдальческое лицо, на котором застыло выражение неопределенности и замкнутости, было обращено к публике, в зал.
У госпожи Ведель было достаточно времени рассмотреть Терезу, да и сам профессор после некоторого замешательства снова устремил взгляд на вторую ложу, заметив, что дон Лотарио разговорился с соседом. При этом на лице профессора появилось чрезвычайно своеобразное выражение: на нем не было и следа волнения — только крайняя сосредоточенность. Казалось, его глаза пытаются проникнуть сквозь маску.
Жена вновь перевела взгляд на мужа, внимательно всматриваясь в его лицо.
— Может быть, ты обидишься на меня, Пауль…
— Вовсе нет! Говори! — улыбнулся в ответ Ведель. — Я догадываюсь, что ты собираешься сказать. Ты думала, что у нее более выразительное, более привлекательное лицо, верно?
— Ты почти угадал, — ответила Мария. — Впрочем, ты никогда не простишь мне этих слов. Мужчины очень гордятся своей первой любовью.
— Только не я, Мария. Теперь, когда я столько лет не видел Терезу, я нахожу твое замечание справедливым. Зато должен сознаться, что выражение ее лица стало гораздо серьезнее и одухотвореннее, что бы ты ни говорила.
— А она? Она забыла тебя? — нерешительно спросила Мария, пытаясь скрыть свою обеспокоенность.
— Надеюсь, — ответил Ведель. — А теперь давай-ка поболтаем с доном Лотарио. Мы совсем забыли о нем — это непростительно.
V. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЮНОСТИ
На следующее утро дон Лотарио принес профессору свою учебную работу. Разговор, который при этом завязался, вскоре перешел на религиозные темы. Профессору было известно, что в Париже молодой испанец познакомился с аббатом Лагиде, и он поинтересовался религиозными воззрениями аббата. Дон Лотарио ответил, что свои воззрения аббат изложил в известных трудах и он мало что может к этому добавить. Профессор, продолжая начатый разговор, заметил вот что. Он слышал, что в последнее время Лагиде воздерживается от религиозных дискуссий и вообще от общественной деятельности на этом поприще. Дон Лотарио возразил: аббат связан с графом Аренбергом, человеком очень набожным, если не сказать, фанатиком.
— А в Париже вы случайно не свели знакомство с графом? — спросил Ведель. Когда испанец ответил утвердительно, профессор произнес: — В таком случае вам, вероятно, известна молодая дама, которую можно встретить в его обществе?
— Мадемуазель Тереза? Да, я видел ее несколько раз, — ответил молодой человек.
— А у вас не возникало желания вновь разыскать графа здесь, в Берлине? — поинтересовался профессор.
— Пока не знаю.
— Вы доставите мне удовольствие, дон Лотарио, — сказал Ведель, доверительно кладя руку на плечо молодого человека, — если возобновите свои визиты к графу. Мне хотелось бы знать, каково настроение Терезы, как она живет, чем занимается. Когда-то она очень интересовала меня — я был в нее влюблен. Так что мое желание вполне объяснимо.
— В самом деле? — несколько удрученно спросил дон Лотарио. — Может быть, именно вы настолько завладели сердцем Терезы, что она не в силах полюбить другого?
— Другого? Это печально, — серьезно заметил профессор, опустив голову. — Надеюсь, это не так. Впрочем, у вас будет возможность познакомиться с ней ближе. Говорят, она сильно изменилась, я имею в виду ее душу. А чтобы вы могли проверить сердце Терезы, я расскажу вам печальную историю моего знакомства с нею.
У дона Лотарио забилось сердце. Именно здесь, где он менее всего ожидал, именно здесь ему суждено неожиданно узнать то, что так для него важно. Именно здесь, именно сейчас любовь Терезы перестанет быть для него тайной.
— Я опишу вам этот период своей жизни не ради того, чтобы удовлетворить ваше любопытство, — начал профессор, — а скорее для того, чтобы предостеречь вас от подобных связей.
Я был, как принято говорить, в самом расцвете сил. Закончив обучение и стремясь к независимости, я решил не сразу поступить на государственную службу, а пожить некоторое время свободно, по собственному усмотрению. Средств у меня не было, но были силы, которые и дали мне эти средства. У меня были добрые знакомые, а мои знания открыли мне путь в научные журналы. Я писал об истории, искусстве и литературе и находил в этом занятии, не отнимавшем у меня много времени, не только достаточный, но даже приятный источник существования. Потребности мои были не слишком велики, и я мог все их удовлетворить. Короче говоря, я чувствовал себя, если хотите, счастливым человеком.
Как-то весной я прогуливался с приятелем вблизи Бранденбургских ворот. Был чудный вечер, мимо нас то и дело проходили влюбленные парочки. Я был в меланхолическом настроении, и, пожалуй, впервые мне в голову пришла мысль, что жизнь без любви — ничто.
В тот самый вечер я познакомился с Терезой. И мне показалось, я нашел именно то, что искал.
Отец Терезы давно был где-то на чужбине, и на этом основании ее мать считала себя вдовой. Старший брат с ними не жил. Я ни разу его не видел. Говорили, что он своенравный, непутевый малый. Чтобы прокормить себя и дочь, мать Терезы открыла небольшую кондитерскую, приносившую ей мизерный доход. Она была истинной берлинкой, не скажу, что необразованной, однако и не слишком хорошо воспитанной, весьма расчетливой, а в некотором смысле даже мудрой. Она ужасно любила франтить и придавала значение только умению пустить пыль в глаза.
Тереза унаследовала характер матери, правда в облагороженном, как мне казалось, варианте. В то время ей не было еще семнадцати. Ее нельзя было назвать красивой, но меня она привлекала. В ней была та живость, какую молва приписывает француженкам, и она представлялась мне вполне подходящей для мимолетной связи, какой я тогда жаждал.
Вскоре я понял, что целиком завоевал ее сердце, и это представлялось мне двойной победой. Во-первых, посещать кондитерскую ее матери никому не возбранялось, а поскольку Тереза была достаточно хороша, чтобы привлечь молодых людей — на что ее мать, наверное, и рассчитывала, — у меня оказалось немало соперников. Во-вторых, мне льстило, что меня любили только за мою индивидуальность. Обычно дамы дарили мне свою благосклонность, скорее, за мои знания, за мою репутацию весьма образованного человека. С Терезой у нас все сложилось иначе. Моя ученость интересовала ее чрезвычайно мало. Ей нравился я сам, и именно это обстоятельство придавало особое очарование моим стремлениям добиться ее расположения.
Не обманулся я и в другом. Тереза была слишком молода, чтобы быть расчетливой, и не настолько сентиментальна, чтобы мечтать о вечном счастье. Мы никогда не говорили о любви, о супружестве, хотя встречались ежедневно и развлекались как нельзя лучше. Ее доверчивость обезоруживала меня, и я не смел злоупотреблять ею. Мы вместе бывали на балах, на пикниках, совершали продолжительные прогулки, играли на фортепьяно в четыре руки и пели дуэтом, посещали небольшие увеселительные заведения — все это в сопровождении ее матери или других семейств.
Так прошел год. Слова о любви или браке, как я уже говорил вам, никогда не срывались с наших уст. Даже ее расчетливая мать хранила молчание. Вскоре я отправился в путешествие, отчасти чтобы проверить, как мы оба перенесем разлуку. Впрочем, мы с ней переписывались, и мой первый визит по возвращении был к Терезе.
Между тем обстоятельства у нее несколько изменились. Руки́ Терезы добивался некий богатый молодой человек. Я не придал этому особого значения, но мой соперник был настроен решительно. Тут я впервые начал бороться. Сперва мне пришла мысль реже бывать у Терезы и постепенно совсем прекратить свои визиты. Но это оказалось невыносимо. Тереза погрустнела. Я понял, что мать настаивает, чтобы она сделала свой выбор.
Потом начались муки ревности, и лишь тогда я осознал, что люблю Терезу. Мысль, что она может принадлежать другому, была для меня нестерпима. Тем не менее я никогда не помышлял о женитьбе, не считал ее возможной! Я вел изнурительную борьбу с собственным честолюбием, с собственным будущим, с собственным бытием — и Тереза одержала в этой борьбе победу.
Я официально стал ее женихом. Оба мы были счастливы. Не подумайте, что у меня на душе остался неприятный осадок. Я торжественно дал себе клятву сделать Терезу счастливой.
Но останься она прежней, счастливой ей не стать — это я сознавал не хуже любого другого. Даже алмазу не стать бриллиантом без огранки! А какой юной, какой податливой представлялась мне моя избранница! У нее, правда, были мелкие недостатки, но как легко любовь надеется все преодолеть! Я откровенно сказал ей обо всем. Объяснил, что когда-нибудь ей придется вращаться в тех кругах, которые будут ей чужими, нарисовал картину ее будущего. Она согласилась со мной, и я был удовлетворен.
Однако все вышло не так, как я рассчитывал. Тереза ли была тому причиной или ее мать? Я склоняюсь к последнему. Мать надеялась получить зятя, которого можно быстро подчинить своей воле, а теперь убедилась, что перед ней человек с характером, привыкший делать все по собственному усмотрению и не признающий никакого диктата. Ведь я и не думал скрывать, что привык главенствовать в своем кругу, тем более среди таких, как она и ее дочь. За первую же неделю мать поняла, что вскоре утратит на свою дочь всякое влияние, что хозяином в доме буду я. Это пришлось ей не по вкусу. Она уже раскаивалась, что обещала мне руку дочери, тем более что, как женщина практичная, весьма не одобряла, что я не имел твердого заработка и определенного служебного положения.
Тут подоспели и разные мелочи, которые, увы, нигде не имеют большего значения, чем в делах любви. Иной раз мои увещевания приводили Терезу в уныние, и она заявляла, что недостаточно хороша для меня. Поскольку ей было известно, как сильно я ее люблю, некому было внушить ей подобные мысли, кроме матери. Меня злило, что она слушает эти нашептывания. И здесь в ней говорила мать, которая вдобавок никак не желала смириться с тем, что я пытался приучить Терезу быть как можно проще и скромнее в помыслах и поступках. Ведь мать обожала наряды, концерты, театры, общество.
С другой стороны, я сетовал и на собственную судьбу. Казалось, счастье, прежде улыбавшееся мне, покинуло меня. Возможно, я недостаточно появлялся в обществе, и меня перестали замечать. Мне пришлось предпринять серьезные шаги, чтобы обеспечить себе достаточно средств к существованию. Однако мои усилия были безуспешны. Но относилась ли Тереза к числу тех женщин, что легко переносят лишения, с которыми подчас сопряжена жизнь ученого?
И вот в это самое время в Берлин прибыл известный ученый и остановился в доме одного из моих лучших друзей. Я многого ожидал для себя от его посредничества и не мог упустить случай завоевать его расположение. Я стал почти ежедневно бывать в том доме, вращаясь в обществе остроумнейших мужчин и очаровательнейших женщин, и могу признаться, что, несмотря на свою молодость, был не последним в их кругу. Но поверьте, дон Лотарио, мне было там неуютно. Среди этого блеска я тосковал о Терезе и рассматривал свое присутствие там как тягостную обязанность. Поздним вечером я спешил к ней, надеясь услышать доброе слово, поймать ласковый взгляд. Но в ее словах не было ничего утешительного, а во взглядах — ничего обнадеживающего. Тереза чувствовала себя оскорбленной моими редкими визитами. Видимо, мать исподволь делала свое дело, а Тереза, к сожалению, слушала ее. Она пыталась переделать меня в соответствии с желаниями матери, которая стремилась превратить меня в рабочую лошадь, без передышки добывающую деньги для дочери.
Что сказать вам обо всех прочих мелочах, дон Лотарио? О той холодности, с какой мои друзья и знакомые восприняли известие о моем выборе? По всей вероятности, они были уверены, что мне следовало жениться по меньшей мере на какой-нибудь принцессе! О досаде на самого себя — ведь я больше не мог работать, месяцами я не притрагивался к перу! И наконец, эти мрачные мысли, что обуревали меня. Я же любил Терезу с такой страстью, какую только можно себе представить.
Я заставил себя трезво все обдумать. Мои друзья полагали, что эта связь сделает меня несчастным; однако они ошибались. При любых обстоятельствах я был бы счастлив с моей супругой: я ее любил и она понимала меня. Но с каждым днем мне становилось все яснее, что я сделал бы Терезу несчастной. Научная карьера неизбежно приведет меня в такие сферы общества, где Тереза, останься она прежней, будет чувствовать себя не в своей тарелке.
Все дело решил пустяк, и я понял, что не ошибся в своих предположениях. Придя к Терезе однажды вечером, я услышал смех и веселые голоса; оказалось, у нее подруги. Когда они собрались уходить, мать поблагодарила их, сказав, что ее дочь провела первый приятный вечер за долгое время. У меня кровь закипела в жилах. Мое решение созрело. Я не мог предложить своей супруге столь легкомысленных развлечений. Поэтому я вернул ей свое слово!
Совесть моя успокоилась, чего нельзя сказать о сердце. Ведь я знал, что Тереза любит меня, любит так сильно, как только может любить чистая, нетронутая душа! Передо мной снова открылся весь мир, но мир этот был подобен безлюдной пустыне. Я попытался возобновить прежние знакомства, но из этого ничего не вышло. Я стал бывать в семейных домах — они наводили на меня скуку. Повсюду мне не хватало Терезы. Пусть это большое горе, дон Лотарио, если судьба, светские предрассудки разлучают тебя с любимой. Но нет беды страшнее, чем понимать, что любовь не принесет счастья, даже если тебе отвечают взаимностью!
Я задумал уехать из Берлина. Тут подвернулся удобный случай. Правительство приняло решение направить кого-либо из ученых в Восточную Индию для проведения научных изысканий. Мне удалось взять эту миссию на себя. Скажу вам прямо, я был счастлив, что служебный долг предписывает мне находиться на расстоянии многих тысяч миль от Берлина. Кто знает, когда мне суждено вернуться, чтобы вновь ринуться навстречу тому пламени, которое грозило поглотить меня!
Профессор умолк. Лицо его хранило спокойствие, лишь слова выдавали душевное волнение.
— С тех пор до вчерашнего дня я не видел Терезы, — продолжал свой рассказ Ведель. — Когда я возвратился из экспедиции, ее мать уже умерла. Я слышал, что сироту приютил граф Аренберг. В то время он находился в своем поместье в провинции, и случилось так, что я больше не встречал Терезу. Вскоре я познакомился с моей теперешней женой. Чтобы не влачить такое же безрадостное и одинокое существование, как прежде, я должен был отдать свое сердце другой — и не жалею об этом. Мария могла бы осчастливить любого смертного. Я доволен и спокоен. Одного мне недостает, и в этом вы могли бы, пожалуй, мне помочь. Я хотел бы знать, обрела ли спокойствие Тереза, забыла ли она меня… А теперь поговорим о другом! — добавил он. — Видите, какая незатейливая история. Но она навсегда унесла частицу моего сердца!
Он заговорил о посторонних вещах, но дон Лотарио слушал его рассеянно. Он поблагодарил профессора за доверие, обещал навести справки о Терезе и распрощался с гостеприимным хозяином.
Дону Лотарио не терпелось узнать, по-прежнему ли Тереза любит Пауля, — для молодого испанца это был вопрос жизни и смерти. Сам он не сомневался в этом, ибо тоже успел проникнуться к Веделю любовью и уважением. Могла ли Тереза забыть такого человека?
Адрес графа был ему неизвестен, и потому он отправился к знакомому, который поддерживал отношения с прусской аристократией, за необходимыми сведениями. Узнать ему удалось сравнительно немного.
Граф Аренберг оказался единственным потомком древнего рода. Воспитывался он в большой строгости и готовился к военной карьере, к которой из-за мягкости характера не проявлял ни малейшей склонности. По этой причине у него начались нелады с отцом. Отец угрожал лишить его наследства и какое-то время держал чуть ли не в заточении, пытаясь подчинить его своей воле. Вероятно, именно эта пора в жизни графа наградила его меланхолией и набожностью, которые определили его характер, когда он стал взрослым. В двадцать пять лет граф сделался наследником значительного состояния, оставшегося после смерти отца. Но с тех пор о нем почти ничего не было слышно. Он проводил жизнь в путешествиях по Италии, России, Франции и Англии, в своих поместьях в Саксонии или в уединенном берлинском доме. Утверждали, что он якобы основатель или по крайней мере последователь какой-то религиозной секты, которая отличалась весьма своеобразными догматами и нигде не получила поддержки. Граф никого не принимал и сам редко появлялся на приемах. В то же время он делал немало добра беднякам; утверждали даже, что половину своего состояния он пожертвовал на благотворительные цели. Ходили слухи о его связях при дворе. Упорно говорили как о достоверном факте, что он поддерживает отношения с ближайшим окружением царствующих особ.
О том, что Тереза находится у графа, знакомый дона Лотарио, как видно, не знал. Зато ему был известен номер дома, где жил Аренберг.
Когда на город опустились зимние сумерки, дон Лотарио и отправился по этому адресу. Особняк графа располагался на Вильгельмштрассе в глубине двора, отгороженный от улицы высокой стеной со старинным орнаментом, посередине которой были устроены большие ворота с гербом Аренбергов. Ворота оказались накрепко запертыми, а сама стена, возвышавшаяся между прекрасными особняками, что располагались вдоль улицы, производила странное впечатление уединения и отрешенности от земной суеты. Рядом с воротами была небольшая калитка. На звонок молодого человека появился слуга, которого испанец помнил по Парижу.
— Господин граф принимает? — поинтересовался наш герой. — Вот моя визитная карточка.
— Дон Лотарио де Толедо, если не ошибаюсь! — поклонившись, сказал старый слуга. — Господин граф поручил мне сегодня же разыскать вас в Берлине!
— А мадемуазель Тереза? Она принимает? — снова спросил испанец.
— Она чувствует себя хорошо, и я полагаю, она у господина графа, — ответил слуга.
Внутреннее убранство дома отличалось простотой и сдержанностью, однако не было лишено известного старомодного изящества, напоминавшего, пожалуй, о прошлом столетии.
Слуга доложил о приходе нашего героя, и спустя минуту-другую дон Лотарио очутился в просторной, ярко освещенной комнате. Граф и Тереза сидели у камина. Видимо, они были заняты чтением, ибо на столике возле них были разложены книги и журналы.
— Добро пожаловать в Берлин! — промолвил граф, вставая навстречу гостю и пожимая ему руку. — Мы только сегодня узнали, что вы здесь. Почему же вы не пришли раньше?
Едва взглянув на Терезу, которая поднялась со своего места одновременно с графом, дон Лотарио побледнел. Однако приветствие графа вернуло ему спокойствие и самообладание.
— Прежде чем позволить себе нарушить покой других, я хотел вначале успокоиться сам и закончить свои дела. Я рад, что вы не изменились, граф. А вы, мадемуазель, надеюсь…
— Вы правы, дон Лотарио, я, слава Богу, чувствую себя здесь, на родине, много лучше! — прервала его Тереза, радушно протягивая ему руку, которой испанец коснулся губами, не в силах преодолеть охватившее его волнение. — Прежде всего извините меня, сударь! Мы так поспешно покинули Париж, что даже не успели проститься с вами. Впрочем, довольно об этом! Но смерть моей единственной подруги, госпожи Данглар, настолько потрясла меня, что Париж стал мне в тягость. Мне казалось, город вот-вот рухнет и погребет меня под своими обломками! Граф Аренберг счел за благо, чтобы я возвратилась в родные края, и я согласилась с ним. И в самом деле, здесь я снова обрела душевное равновесие.
Тем временем дон Лотарио тоже сел у камина и, охваченный беспокойством, не мог оторвать глаза от лица Терезы. Оно совершенно не изменилось, только щеки, казалось, чуть посвежели, а взор прояснился. Впрочем, это можно было объяснить влиянием зимнего воздуха или пылавшего в камине огня. В остальном лицо девушки выглядело умиротворенным, речь лилась плавно и была полна доброжелательности, всегда ее отличавшей. Напрасно дон Лотарио пытался разглядеть в ней ту, что описал ему профессор.
— Письмо аббата уведомило нас, что вы направились в Лондон, — сказал граф. — Вы говорили, что намерены пробыть там месяца три, поэтому в Берлине мы ожидали вас позже. Итак, Лондон вам не понравился?
— Да, мои лондонские воспоминания — весьма мрачного свойства, — ответил дон Лотарио. — Я рад, что покинул этот город. Однако для отъезда у меня была еще одна причина. Жизнь там была бы мне не по карману. Лорд Хоуп, от которого зависит все мое благополучие, объявил себя почти полным банкротом.
Графу не терпелось узнать подробности, и дон Лотарио обрисовал ему положение дел, умолчав, разумеется, о своих связях с Обществом самоубийц. Граф покачивал головой и, похоже, не очень верил рассказу молодого испанца.
— То, что вы поведали, повергает меня в изумление, — заметил он. — Аббат описывал мне лорда как человека настолько богатого, что разорение не могло ему грозить. Впрочем, если он написал вам это, значит, так и есть. Он — честный человек.
— В нем я уверен, — ответил испанец. — Короче говоря, раз я лишился возможности целиком отдаться изучению наук в Лондоне, а также сносно жить там на свои скромные доходы, мне пришлось перебраться в Берлин, чему я весьма рад. Ничто не отвлекает меня от занятий, да и деньги тают не слишком быстро.
— Вероятно, вы настолько прилежный ученик, что вряд ли можно надеяться часто видеть вас? — заметил граф.
— Напротив, если я не слишком докучливый визитер, я не упущу случая навестить вас, — ответил молодой человек. — Для себя я уже решил, что ваш дом и дом профессора Веделя единственные, где я буду появляться, разумеется, если вы не имеете ничего против.
Дон Лотарио ждал, что его спросят о профессоре, и, произнося его имя, впился глазами в лицо Терезы. Она осталась совершенно невозмутимой, и никаких вопросов не последовало.
— Надеюсь, вы не откажетесь поужинать с нами? — сказал граф Аренберг. — Однако вам придется извинить меня — я вынужден на полчаса оставить вас вдвоем с Терезой. Аббат ждет от меня скорого ответа, и я намерен написать ему сегодня же.
— Если мадемуазель Тереза не погнушается моим обществом! — ответил дон Лотарио, не веря исполнению самого страстного своего желания.
— Наоборот, я собираюсь кое о чем спросить вас, — ответила Тереза. — Я остаюсь с вами.
Граф ушел, а дон Лотарио продолжал сидеть у камина вдвоем с Терезой. Минута, которой он так страшился и так ждал, минута, когда после разлуки в Париже он снова будет один на один с Терезой, — эта минута настала!
— Вы, кажется, хотели о чем-то спросить меня? — начал молодой человек.
— Да, хотела. А поскольку я, как вам известно, не выношу недомолвок и с первых же минут нашего странного знакомства была с вами откровенна, то и сейчас не стану увиливать. Я видела вас еще вчера вечером!
— Вчера вечером? — вскричал дон Лотарио. — А я вас — нет! Где это было?
— Вы, кажется, были слишком заняты своей очаровательной соседкой, — с милой непосредственностью пошутила Тереза. — Я имею в виду госпожу Ведель!
— Как, вы были в зимнем саду? — удивился молодой человек. — Я вас не заметил.
— Мы сидели в ложе, — пояснила Тереза. — Я видела вас вместе с профессором Веделем. Скажите откровенно, он когда-нибудь говорил с вами обо мне?
— Говорил, — сознался молодой человек, не ожидавший, что этот разговор примет столь своеобразный, столь важный для него оборот. — Говорил, и не далее, как сегодня утром.
— И он сказал вам, в каких отношениях мы когда-то были?
— Да, — ответил дон Лотарио. — Он мне все рассказал.
— Все? — переспросила Тереза. — В каких же выражениях он говорил обо мне? Только ничего не скрывайте!
— У меня и в мыслях нет скрывать! Он говорил о вас с величайшим уважением, с величайшим участием. И казался очень взволнованным. Похоже, воспоминания захватили его целиком.
— А вы убеждены, что он счастлив вообще и в браке в частности?
— Совершенно убежден. Судя по всему, что я видел за время моего пребывания в Берлине — а в семействе профессора я бывал ежедневно, — должен сказать, что его супружество — одно из самых счастливых, какие бывают на свете.
— Прекрасно! Искренне рада слышать это! — сказала Тереза.
Дон Лотарио не сводил с нее глаз. Смотрел и не мог наглядеться. А ее лицо, если не считать легкого возбуждения, оставалось спокойным и невозмутимым.
— Вы сказали, что профессор ничего не утаил от вас. Следовательно, и вы проникли в мою тайну. А вы сообщили ему, что знакомы со мной и вновь меня увидите?
— Да, я признался ему, что немного знаю вас по Парижу.
— А не ждет ли он, что вы будете говорить со мной о наших с ним отношениях?
— Ждет или нет — не знаю, об этом он не проронил ни слова. Но раз уж вы требуете от меня откровенности — извольте, буду говорить начистоту. Он просил меня узнать о вашем настроении, успокоилось ли ваше сердце.
— Я так и думала. Я знаю Пауля, знаю, что ему непременно захочется это выяснить. Так вот, я тоже буду откровенна с вами и разрешаю вам передать ему то, что я вам расскажу, но передать только ему одному. Для этого мне тоже придется вернуться в прошлое и показать его вам с другой стороны. Вы готовы выслушать меня сейчас или отложим до другого раза?..
— Нет, нет, говорите, прошу вас! — воскликнул дон Лотарио.
— Тогда слушайте. Постараюсь вспомнить, какой я была в то время, — начала свой рассказ Тереза. — А это не так легко. Ведь я стала совсем, совсем другой. Тогда я была молоденькой девушкой, которая получила весьма поверхностное образование, немного играла на фортепьяно, почти не читала и обожала наряды, я была счастлива, когда на меня обращали внимание молодые люди, что, впрочем, случалось очень часто, ибо все мои подруги были еще ничтожнее меня, поэтому среди них я чувствовала себя настоящей королевой.
Лишь в одном я опережала своих подружек. В кондитерской, которую держала моя мать, я нередко сталкивалась с мужчинами, я даже была обязана занимать их разговором, когда они заходили к нам, и выслушивать их комплименты. Мать с детства приучила меня к осторожности, а поскольку я унаследовала от нее изрядную долю смекалки, я всегда умела держать мужчин в подобающих им рамках. Ни один из них покуда не произвел на меня впечатления.
Приблизительно такой я была, когда познакомилась с Паулем. Зная мой тогдашний характер, вы поймете, что на первых порах он почти не привлек моего внимания. Слишком уж он не походил на тех молодых людей, какие мне в то время нравились. Он был серьезнее, сдержаннее их, но постепенно заинтересовал меня. Я видела, что в общении он непринужденнее, благороднее всех прочих молодых людей, заметила, что те добровольно сдают свои позиции и удаляются, когда он заводит со мной разговор. В его речах для меня также таилось своеобразное очарование, потому что он умел находить в самых прозаических предметах совершенно особую сторону. Это веселило меня и в то же время побуждало к размышлениям. Его суждения поражали своей меткостью. Казалось, он лучше меня самой знает мое сердце. И потом, он был красив. Я знала, что уже из-за этого подруги завидуют мне. Знала и то, что он был вхож в самые аристократические круги Берлина, но нередко пренебрегал ими, чтобы поболтать со мной. Все это, вместе взятое, вскоре вытеснило из моей головы самую мысль о каком-либо другом мужчине.
Пауль уехал в небольшое путешествие. Тем временем моей руки стал домогаться один молодой человек, который нравился мне, хотя я его, пожалуй, и не любила. Когда Пауль вернулся, я поняла, как ужасно он страдает, и здесь мне впервые пришла мысль, что он слишком любит меня и не уступит другому. Мы, женщины, странные создания, а я в ту пору ничем не отличалась от большинства молодых девушек. Пока я боялась потерять Пауля, я старалась удержать его. Но лишь только увидела, что он очарован мной, сразу стала с ним холоднее. Я сказала ему, что нашей связи нужно положить конец, поскольку речь идет о моем будущем. Ведь рано или поздно мне придется делать выбор, пояснила я, так почему бы не теперь.
В итоге Пауль добился моей руки, и я стала его невестой. Я была безмерно счастлива, как может быть счастлива любая семнадцатилетняя девушка оттого, что она невеста и все подружки завидуют ей. Моя мать, напротив, не была расположена к Паулю, да и самой мне больше нравилось, когда он просто развлекал меня, не пытаясь учить. В то время я была глупа, не скрою. Пауль иногда намекал, что, имея такого жениха, мне следует гордиться, но я не могла предположить, что он говорит истинную правду. Мне нравились в нем лишь внешность и благородство души, а вовсе не его светлая голова, которая открывала ему блестящее будущее. Скажу откровенно, я прислушивалась к тому, что говорила мне мать, больше, чем следовало. Я злила его по пустякам. Я забывала, что мне следует не просто удержать возлюбленного, но сберечь верное, преданное сердце. Призна́юсь, в том, что он ушел от меня, — моя вина. Он не мог не разочароваться во мне.
Мать моя внезапно умерла, но неприязнь к Паулю не покидала ее до самой кончины. Я осталась одна на целом свете, не имея понятия, где находится мой старший брат. Тогда-то со мной и познакомился граф Аренберг — к счастью или к несчастью для меня, судить пока не берусь — и стал заботиться обо мне.
Оказалось, один из друзей графа в молодости любил мою ныне покойную мать. По этой причине и потому, что был одинок, граф привязался ко мне всей душой. Он взял меня к себе, а когда обнаружил у меня некоторые способности, принялся их развивать. Меня обучали лучшие учителя… Впрочем, это к делу не относится.
Прежде я смотрела на уход Пауля как на расставание с неверным любовником и вскоре, как уже говорила вам, нашла бы утешение с другим, только бы доказать Паулю, что я еще в силах пробудить любовь. Но постепенно я начала осознавать, кем был тот, кто мог бы принадлежать мне. До меня доходили слухи о Пауле. Я видела, всем тем мужчинам, что заводили знакомство со мной и пользовались уважением в обществе, далеко до Пауля. Я уже не говорю о его личном обаянии. Я слышала, с какой почтительностью отзывались о нем, видела общество достойнейших людей, где он был желанным гостем, и постепенно со всей отчетливостью поняла, что это за человек, и смогла оценить всю безмерность утраты.
С тех пор меня и настигла моя болезнь. Я с наслаждением упивалась всеми муками, всеми страданиями, какие способна причинить память. Пауль стоял перед моим внутренним взором во всем своем величии. Не проходило дня, чтобы я не говорила себе, каким безграничным могло быть мое счастье, если бы в то время я была в состоянии оценить его так, как ценила теперь. Но поздно. Я гонялась за призраком, я мечтала о несбыточном. Даже к графу, моему надежному покровителю, я не испытывала должной благодарности. Если бы не знакомство с ним, я не стала бы такой, какой сделалась благодаря его стараниям, — способной осознать всю незаурядность Пауля — и мои мучения не были бы столь ужасны.
Правда, со временем острота переживаний несколько притупилась. Но мне казалось, мое сердце разбито. Малейшее воспоминание, любая, самая ничтожная деталь, вызывавшая в памяти его образ, приводили меня в состояние крайне болезненного возбуждения, которое проявлялось в тех ужасных приступах, что вы однажды наблюдали в Париже. Я и подумать не могла о ком-то другом или хотя бы только сравнить его с Паулем. Я считала, что сама, собственными руками разрушила свое счастье. Сознание этого делало меня глубоко несчастной!
Чего только не предпринимал граф, чтобы отвлечь меня от подобных мыслей! Он знакомил меня с красивыми, остроумными молодыми людьми, показывал мне чужие страны. В конце концов он убедился, что все это лишь еще больше возбуждает меня и самое правильное — оставить меня наедине с моими переживаниями и набраться терпения, пока лучший в мире лекарь — время — не исцелит мою душу.
По мере выздоровления у меня зародилась надежда, что бремя этих воспоминаний постепенно перестанет терзать мое сердце. Надежда придала мне бодрости. Не могу сказать, чтобы какой-то мужчина привлек мое внимание, однако к представителям вашего пола я уже не отношусь с отвращением, какое не в силах была побороть прежде, когда думала только о Пауле. Короче говоря, дон Лотарио, надеюсь, я полностью излечилась от той страсти. Вчера я видела профессора и осталась совершенно спокойной. Он тоже сильно изменился. Если бы мы встретились впервые, возможно, я вновь полюбила бы его. Но теперь об этом нечего и думать. С тех пор прошли годы, и мои желания, мои взгляды и требования стали совершенно иными. Теперь даже более близкое знакомство с ним оставило бы меня, пожалуй, совершенно равнодушной. В то время наша связь не могла продолжаться долго — она была обречена: Пауль слишком превосходил меня во всех отношениях. А сегодня я предъявляю к мужчине совсем иные требования. Кто знает, подошел бы Пауль мне теперь?
Так что передавайте ему, что я спокойна, совершенно спокойна, что после долгой борьбы с собой и полного осознания того, что потеряла, я наконец обрела способность трезво смотреть на жизнь.
Тереза замолчала. Дон Лотарио, слушавший рассказ молодой женщины с лихорадочным вниманием, сидел опустив голову и не проронил ни слова. Он все понял. Душа Терезы перестала быть для него загадкой. Но возможно ли, чтобы Тереза могла теперь полюбить другого? Или же она обманывала себя? Да и кто мог быть тем счастливцем, который займет в ее сердце место Пауля Веделя? Неужели он, дон Лотарио? Поверить этому он не смел!
VI. ГОСПОДИН ДЕ РАТУР
Тем временем вернулся граф. Он мельком посмотрел на молодых людей, которые сидели задумавшись, глядя на пылавший в камине огонь.
— Однако я замешкался, — бросил он. — Зато письмо написано, и аббат обрадуется, узнав, что дон Лотарио разыскал нас. Вечером, дорогая Тереза, у нас будет еще один гость. Господин де Ратур просил передать мне, что намерен быть у нас к чаю. Возможно, его будет сопровождать госпожа Моррель.
— Рада слышать, — ответила Тереза. — Я с удовольствием приму госпожу Моррель. Ее намерение свидетельствует о том, что она чувствует себя лучше.
— Ратур заверил меня, что пройдет еще немного времени, и ее страдания облегчатся, — продолжал граф, — и я от души желаю этого достойной женщине. А вы, дон Лотарио, случайно не знакомы с господином де Ратуром по Парижу?
— Нет, — твердо ответил молодой человек, — никогда не встречался с человеком, который носит такое имя.
— Правда, в то время Ратур был в заключении, — уточнил граф. — Что же, вам предстоит познакомиться с любопытной личностью. Ратур — медик, но человек религиозный, да сверх того еще и светский, что говорит о многом. Он имел несчастье оказаться участником бонапартистского процесса, поскольку был замешан в Булонском деле. Однако ему удалось бежать, и необычная миссия привела его в Берлин.
И граф поведал молодому человеку историю Морреля и его жены. Дон Лотарио внимательно выслушал печальное повествование; судьба несчастной женщины не оставила его равнодушным.
— Со дня на день мы ожидаем приезда зятя госпожи Моррель, господина Эрбо, — продолжал граф. — Опасная болезнь жены, последовавшая за тяжелыми родами, задержала его в Париже. Если не считать одного-единственного раза, — граф невольно взглянул на Терезу, — мне никогда не приходилось видеть более неподдельных и глубоких страданий, нежели те, что причиняет госпоже Моррель судьба ее супруга. Как врач и просто добрый человек, господин де Ратур умеет облегчать душевные муки — в этом нет сомнений. Но в отношении госпожи Моррель все его усилия не дают желаемого результата.
— Это самая достойная из женщин, каких я знаю, — подхватила Тереза. — Чтобы понять ее скорбь о муже, нужно знать, каким причудливым образом соединились их судьбы.
И она рассказала дону Лотарио все, что узнала от госпожи Моррель о ее любви к Максу и о том, как графу Монте-Кристо удалось соединить два любящих сердца. Лотарио только покачивал головой.
— Невероятно! — пробормотал он. — Но в этой истории меня больше всего интересует неожиданное обстоятельство, которое касается и меня. Некоторые мои друзья в Лондоне уверены, что этот граф Монте-Кристо и мой лорд Хоуп — одно и то же лицо!
— Что ж, вполне вероятно! — ответил граф Арен-берг. — Монте-Кристо исчез внезапно и мог, пожалуй, обосноваться в Калифорнии. Возможно, вам представится случай побеседовать о нем с госпожой Моррель.
Вошедший в этот момент слуга известил о прибытии господина де Ратура и госпожи Моррель. Через несколько минут визитеры появились в каминной. Госпожа Моррель была в глубоком трауре.
Увидев де Ратура, дон Лотарио вздрогнул. С первого взгляда он узнал беглого каторжника Этьена Рабласи, с которым случай свел его в Париже, узнал, несмотря на перемены, преобразившие облик этого человека, от которого он собирался предостеречь графа Аренберга.
Было ли это узнавание взаимным, узнал ли в свою очередь Ратур — вернее, Этьен Рабласи — молодого испанца, судить трудно: ни взглядом, ни жестом он себя не выдал. Представленный дону Лотарио, он поклонился ему с величайшим спокойствием и с учтивостью истинно светского человека.
Перемены, происшедшие с господином де Ратуром, были разительны. В нем не осталось ничего от бесцеремонного, нагловатого субъекта, что пытался той памятной ночью произвести впечатление на дона Лотарио своей дерзостью. Теперь он выглядел рафинированным джентльменом. Одет он был модно, но не настолько, чтобы бросаться в глаза, с его лица не сходило любезное выражение, манеры его были безукоризненны. Здоровое, свежее лицо де Ратура обрамляли широкие темные бакенбарды. На вид дон Лотарио дал бы ему чуть более тридцати лет; в больших живых, беспокойных глазах де Ратура было нечто вызывавшее несомненный интерес.
Особое впечатление произвело на молодого испанца лицо Валентины. На нем лежала печать такой неподдельной печали и муки, что это трогало до глубины души. Необычайной бледностью оно напоминало мрамор, глаза покраснели от слез. Вместе с тем в этом проявлении душевной боли было что-то невыразимо привлекательное. В разговоре она на первых норах не участвовала. Речь шла о совершенно отвлеченных вещах. У дона Лотарио никак не шел из головы рассказ Терезы, а Валентина Моррель хранила молчание, не поднимая глаз. В конце концов Терезе все же удалось втянуть ее в общую беседу.
— Госпожа Моррель, — промолвил граф, — дон Лотарио знаком с графом Монте-Кристо.
Это имя, казалось, вывело несчастную женщину из состояния полной апатии, в котором она пребывала.
— Как?! — воскликнула она. — Вы знаете этого необыкновенного человека?
— Полагаю, что да, — ответил дон Лотарио и привел доводы в пользу своего предположения.
Госпожа Моррель была твердо убеждена, что лорд Хоуп как раз и есть ее спаситель, граф Монте-Кристо. Она спросила о Гайде, но молодой человек оказался не в силах удовлетворить ее любопытство.
— Одного только никак не могу понять, — покачивая головой, сказала Валентина. — Граф распорядился, чтобы мой муж принял участие в борьбе Луи Наполеона, и при всей своей предусмотрительности, которой, как мне кажется, нет предела, все-таки допустил, чтобы Макса арестовали. Не понимаю, почему он ничего не сделал для мужа, почему позволил ему погибнуть?
— Возможно, граф сам находился в затруднительном положении, — предположил дон Лотарио и рассказал молодой женщине о письме, которое переслал ему аббат Лагиде.
— Что ж, может быть! — выдавила Валентина, с трудом удерживаясь от слез. — Однако все, что рассказывал о нем Макс, наводит на мысль о столь большом состоянии, которое впору назвать сказочным. Известие о банкротстве такого неслыханного богача кажется просто невероятным.
— И тем не менее так оно, видимо, и есть в действительности, — вмешался граф Аренберг. — Вероятно, собственные неприятности помешали лорду Хоупу, как совершенно справедливо заметил дон Лотарио, повлиять на судьбу вашего несчастного супруга.
— А известен вам адрес графа? — спросила Валентина. — Мне хотелось бы написать ему.
— Точного адреса я не знаю, но он есть у аббата Лагиде, который может переправить ваше письмо по назначению. Увы, оно придет слишком поздно.
Наступила мучительная пауза. Дон Лотарио попытался прервать ее.
— Вы, кажется, врач, господин де Ратур? — обратился он к французу. — Какие же недуги вы врачуете? Или вы вообще не занимаетесь лечением больных?
— Я из тех практикующих врачей, которым представляется минимальная возможность использовать свой опыт, — с учтивой улыбкой ответил Ратур. — А врачую я главным образом душевные недуги.
— Другими словами, безумие и меланхолию? — уточнил дон Лотарио.
— Не столько безумие, сколько меланхолию, — ответил Ратур. — Главной целью моих занятий всегда было желание узнать, нельзя ли воспользоваться для излечения или по крайней мере облегчения сердечных и душевных недугов медицинскими средствами. Правда, меня можно было бы упрекнуть в том, что я рассматриваю душу всего лишь как часть тела, на которое удается воздействовать всякими снадобьями. Но это не совсем так. Я полагаю только, что болезненные состояния души вызывают и болезненное состояние тела, так что, исцеляя последнее, можно избавлять и от первых.
— Быть может, я воспользуюсь вашим искусством, — невесело улыбнулся дон Лотарио. — Вам уже приходилось проводить лечение и добиваться успеха?
— Не хочу показаться самонадеянным, но думаю, что мадемуазель Тереза немного повеселела отчасти и благодаря моим препаратам. Что касается госпожи Моррель, то в этом случае лечение идет не столь успешно. Она не принимает лекарств, какие я ей назначил.
— Ваши старания напрасны, — твердо заявила госпожа Моррель.
— Гомеопаты тоже утверждают, что с помощью своих снадобий способны утолять боль, разгонять тоску и обуздывать радость, — вставил граф Аренберг, намереваясь перевести разговор на другую тему. — А если говорить о Терезе, с тех пор как мы имели удовольствие познакомиться с господином де Ратуром, она и впрямь стала бодрее.
Дон Лотарио почувствовал, как при этих словах графа у него защемило сердце.
— Я и вправду не знаю, помогло ли мне искусство господина де Ратура, — улыбнулась Тереза. — Может быть, на то были иные причины, скрытые в моей душе.
Ратур как-то странно покосился на Терезу. Дон Лотарио этого не заметил: слова Терезы задели его еще сильнее.
Должен ли он сообщить графу, кто такой господин де Ратур? Долг дружбы требовал этого. Следовало по меньшей мере предостеречь графа Аренберга. Но что скрывается за словами Ратура? Действительно ли именно его врачебное искусство исцелило Терезу? Или… Ратур оказался тем мужчиной, что вернул ее сердцу частицу прежней веселости?
Последняя мысль была для молодого человека почти невыносимой. Неужели именно этот человек покорил ее сердце, отданное некогда профессору Веделю? Того Лотарио считал своим достойным соперником и — хотя и с тяжелым чувством — уступил бы ему Терезу. Но какому-то Ратуру? Нет, это невозможно!
Его невеселые размышления были неожиданно прерваны, ибо госпожа Моррель поднялась и стала прощаться, Ратур тоже встал. Пришлось откланяться и дону Лотарио.
— Надеюсь, мы будем видеться не только здесь, — учтиво заметил Ратур, расставаясь с доном Лотарио. — Окажите мне честь своим визитом, вот моя карточка.
Дон Лотарио был вынужден ответить тем же и протянул французу свою визитную карточку, где был указан его адрес. На этом они окончательно распрощались.
Молодой испанец медленно направился домой. Минувший день был чрезвычайно богат неожиданными событиями. Вначале исповедь профессора, затем откровения Терезы, а теперь еще и встреча с Рабласи — это уж слишком! Домой он стремился лишь для того, чтобы переодеться и отправиться бродить по улицам. В таком настроении собственная квартира казалась ему слишком тесной.
Но едва он очутился в своем кабинете, как слуга доложил, что с ним желает говорить какой-то господин, и протянул визитную карточку. Дон Лотарио прочитал на ней фамилию Ратура. Следовательно, французу не терпелось встретиться с ним.
Тут же, не дождавшись ответа хозяина квартиры, на пороге кабинета появился господин де Ратур.
— Прошу простить меня, дон Лотарио, — сказал он, — что я нарушаю ваш покой, но мне крайне необходимо переговорить с вами. Вы разрешите?
— С большим удовольствием, — сухо ответил молодой человек. — А каков, позвольте узнать, предмет этого разговора?
— Наше прежнее знакомство, — непринужденно ответил Ратур.
— Простите, — заметил дон Лотарио, пытаясь проверить своего гостя, — не припомню, чтобы когда-нибудь видел вас, кроме как сегодня у графа Аренберга.
— Уж и не знаю, благодарить вас за эту тактичность или сетовать на вашу забывчивость, — улыбнулся Ратур. — Однако при нашей встрече у графа скрыть волнение вам не удалось.
— Выходит, я не ошибся? — мрачно заметил дон Лотарио. — Но позвольте, возможно ли такое? Человек, которого, как мне показалось, я узнал, увидев вас, — разбойник, а может быть, и убийца!
— Как вам угодно! — ответил Ратур. — Но я действительно тот самый Этьен Рабласи.
— И у вас хватает смелости появляться на людях, в обществе такого достойного человека, каким я считаю графа?
— Да, хватает! — хладнокровно парировал Рабласи. — Однако, как вы сами убедились, мне не терпится дать вам разъяснения по поводу того, что, безусловно, покажется вам удивительным. То, что я человек дерзкий и прямой, вам уже известно с того самого утра, когда я назвал вам свое имя. А личину я сменил только потом, когда без этого было не обойтись. Так выслушайте мою историю.
Родился я в Провансе в довольно состоятельной семье. Родители дали мне хорошее воспитание, и отец решил, что мне следует посвятить себя медицине. Я отправился в Париж и начал заниматься. Парень я был, однако, ветреный, жизнь в столице стоила очень дорого, так что после смерти родителей все мое состояние растаяло за год-два. Я не представлял себе, как жить дальше. При одной только мысли, что придется зарабатывать на кусок хлеба медицинской практикой, меня бросало в дрожь. Своенравный, Дерзкий парень, большой фантазер, я подумывал податься в Италию, в Абруццы, и примкнуть к местным разбойникам. Но потом сообразил, что, пожалуй, смогу найти себе подходящее дело и в Испании, в войсках дона Карлоса. И я отправился в Испанию. Там я некоторое время участвовал в сражениях. Однако жизнь оказалась не такой безоблачной, как я ожидал, — она состояла из бесконечной череды лишений и трудностей. К тому же я догадался, что звезда дона Карлоса клонится к закату, и, когда из-за некоторых эксцессов в женском монастыре меня собирались подвергнуть наказанию, я вместе с товарищами, моими соучастниками, бежал на родину, в Прованс, чтобы вести там независимую, романтическую жизнь.
Так что не принимайте меня за обычного вора и разбойника, дон Лотарио. Верно, с точки зрения закона я преступник. Меня, безусловно, приговорили бы к смерти. Но я не знаю за собой заурядных преступлений, и, будь Франция подобна Италии, мое имя, возможно, передавалось бы из уст в уста, как имена Фра Дьяволо или Ринальдо. Поэтому я не считаю себя отверженным, которому следует опасаться общения с миром. Разумеется, мне пришлось приукрасить свое прошлое. Но отказываться от будущего я не собираюсь. Вот почему, угодив в конце концов в руки правосудия, я воспользовался удобным случаем, который подвернулся мне во время того памятного пожара, и бежал, а затем свел знакомство с вами.
— Предположим, я готов даже поверить в эту романтическую историю, — заметил дон Лотарио, — но какое отношение она имеет к тем обстоятельствам, которые связывают вас с госпожой Моррель и связывали, по вашим собственным словам, с ее мужем?
— Дело было именно так, как я сказал, — ответил Ратур. — С той лишь разницей, что меня осудили не за участие в планах принца Наполеона, а за мое прошлое. У меня была возможность переговариваться с Моррелем, которого держали в соседней камере. Как он погиб, я не видел. Но перед смертью он дал мне последние поручения, поскольку принимал меня за бонапартиста. Я полагаю, что здесь нет ничего дурного.
— Вроде бы нет, — согласился дон Лотарио. — Но зачем вы сблизились с графом?
— Совершенно случайно, однако этот случай повлек за собой более серьезные последствия, нежели я мог предположить, — ответил Ратур. — Тогда, в Париже, я вел скрытную жизнь, поджидая благоприятного момента, чтобы ускользнуть за границу. То, что однажды вы увидели меня в кафе Тортони, ничуть не противоречит моему рассказу, ибо самую скрытную жизнь ведут в Париже как раз те, кто жаждет быть у всех на глазах. Я принял имя де Ратура и свел знакомство с неким господином, который знал графа Аренберга и ввел меня в его дом. Услышав, что граф собирается в Берлин, я подумал, что он сможет обеспечить мне здесь неплохую практику, и еще больше сблизился с ним. Впрочем, я у вас не для того, чтобы рассказывать об этом. Это вряд ли заставило бы вас молчать о моем прошлом и о нашей прежней встрече. Причины гораздо глубже. Вы питаете уважение к графу Аренбергу и его воспитаннице, не так ли?
— Вне всякого сомнения, — откровенно признался дон Лотарио. — Я считаю их превосходными людьми!
— В таком случае вы разделяете мое мнение, — продолжал Ратур. — Так вот. Когда я ближе узнал графа и Терезу, у меня зародилась мысль, что именно эти люди не только способны обеспечить мне достойное будущее, но могут примирить меня с жизнью простого обывателя, с царящими в обществе законами. С графом, питающим слабость к медицине и ее служителям, я вскоре был на дружеской ноге, и он поведал мне, отчего мадемуазель Тереза так болезненна, так возбудима. Всему виной несчастная любовь. Сейчас, по словам графа, ей лучше, и он надеется, что скоро она будет совсем здорова. Но ведь всем известно, что от несчастной любви нет иного средства, кроме новой сердечной привязанности. Ежедневно бывая в ее обществе, я что-то не замечал, чтобы она уделяла внимание какому-нибудь другому мужчине. Меня же, как мне казалось, она принимала охотно. В конце концов я утвердился во мнении, что новое чувство пробудил в ней именно я и, сам того не ведая, больше всех остальных способствовал ее исцелению.
Я пытался проверить свои предположения и, хотя и не получил от Терезы неопровержимых доказательств на этот счет, уже не сомневаюсь, что она меня любит. Вы же знаете, как граф привязан к Терезе! Он любит ее больше, чем любил бы родную дочь, любит с каким-то религиозным фанатизмом как посланного Богом ангела, призванного озарять его жизненный путь. Судите сами, каково будет графу узнать о моем прошлом! О Терезе говорить не хочу, возможно, она не перестанет любить меня, ибо я все еще достоин ее любви. Но для благочестивого графа мое прошлое явилось бы камнем преткновения и, заставив разлучить меня с Терезой, сделало бы его безмерно несчастным. Нужны ли еще какие-то слова?! Неужели вы решитесь выдать меня графу?
— Мне нужно подумать, — едва слышно ответил дон Лотарио, не в силах преодолеть охватившее его оцепенение. — Но ведь вы можете и ошибаться. Возможно, Тереза вовсе и не любит вас?
— Да нет же, нет, она любит меня — тысячи мелочей говорят об этом! — воскликнул Ратур. — Не далее как сегодня вечером она обронила несколько слов, которые еще больше укрепили меня в моих предположениях. Не стану отрицать, в любом другом случае вы исполнили бы свой долг, рассказав все, что знаете обо мне, своим знакомым. Но в этом случае вы нанесли бы Терезе и графу смертельный удар, а такое вряд ли входит в ваши планы. Я сказал вам, что на моей совести нет преступлений, которые могли бы унизить меня в собственных глазах. Неужели вы решитесь помешать мне стать честным человеком? Неужели хотите сделать Терезу несчастной?
— Ваши доводы не лишены убедительности, — с ледяным спокойствием ответил дон Лотарио. — Однако мне нужно трезво все обдумать. Я не знаю, можно ли безоговорочно доверять вам. Раньше вы утверждали, что познакомились с графом в надежде начать при его поддержке честную жизнь. Но как-то мне пришлось быть невольным свидетелем вашего разговора с неким господином, когда вы вышли от графа. Вы тогда без обиняков сказали своему спутнику, что намерены воспользоваться благочестием графа, чтобы обмануть его.
— Не стану оспаривать! — сказал Ратур, быстро оправившись от замешательства. — Тогда я надул своего спутника, человека весьма легкомысленного. Возможно, в начале нашего знакомства мои намерения в отношении графа не были столь серьезны, как теперь. Над моими мыслями еще властвовало мое недавнее прошлое. Но кто, узнав графа, не станет лучше? Кто, полюбив Терезу, не откажется от всяких глупостей?
— Завтра я письменно уведомлю вас о решении, какое приму этой ночью, — ответил дон Лотарио.
— Что ж, благодарю вас! — сказал, подымаясь, Ратур. — А поскольку я заранее знаю, каков будет ваш ответ — ведь вы человек чести, — позвольте дать вам добрый совет. Сегодня вечером мне стало известно, что ваши финансовые дела немного расстроились. Вам представляется редкая возможность поправить их, притом самым приятным образом. Теперь вы знаете госпожу Моррель. Лучшей партии вам не найти, и пусть ее отчаяние еще слишком велико — со временем она утешится, особенно, если вы приложите все силы, чтобы приблизить эту минуту. По моим расчетам, госпожа Моррель обладает состоянием приблизительно в два миллиона франков. К тому же она чрезвычайно хороша собой, да и моложе многих незамужних девиц. По-дружески советую вам учесть это.
— Благодарю, — с саркастической улыбкой обронил дон Лотарио. — Но предоставьте мне самому искать себе подругу жизни, господин де Ратур. Да и ваши планы в отношении Терезы могут, чего доброго, не оправдаться, и тогда вы наверняка пожалеете, что уступили госпожу Моррель другому. Так что подумайте прежде всего о себе!
— Кажется, вы сомневаетесь в моей любви к Терезе! — с негодованием вскричал Ратур.
— Вовсе нет, — ответил дон Лотарио, — однако осторожность не помешает. И вот еще что! В Париже я с удивлением прочел в газетах, что вы по-прежнему находитесь в руках правосудия, что бежать вам не удалось. Как это возможно? Или здесь какое-то недоразумение?
— Вероятно, — пояснил Ратур, — за меня приняли другого заключенного. Но потом все выяснилось. Иначе я бы уведомил власти, что мне удалось бежать. Ведь какая была бы трагедия для кого-то другого быть казненным вместо меня, разве что он сам заслуживал гильотины. А теперь простите за столь поздний визит. Прощайте! Завтра жду вашего письма.
Он хотел пожать руку дону Лотарио, однако тот ловко уклонился от подобного проявления дружеских чувств. Ратур удалился.
— Он любит Терезу! И она любит его! Боже милостивый, такого я не вынесу!
Это были единственные слова, вырвавшиеся из груди молодого человека после ухода Ратура. Потом он облачился в меховое пальто и вышел на зимнюю улицу.
Одно было ему ясно: он не вправе выдавать Ратура. Каким бы ни было его отношение к Терезе, теперь он уже не вправе заводить речь о прошлом этого человека. Правда, скажи он об этом, ни граф, ни Тереза, возможно, не догадаются, что он ревнует девушку к Ратуру. Но дон Лотарио сознавал, что обвинил бы преступника не просто из чувства долга — скорее, он сделал бы это, чтобы избавиться от соперника. А такого его честь, его совесть ему не позволят. Вправе ли он делать несчастной еще и Терезу? Он, конечно, сомневался в правдивости того, что рассказал ему Ратур, и по-прежнему считал его хитрым и коварным лжецом. Однако это не означало, что Тереза и в самом деле не могла полюбить Ратура. Нет, говорить нельзя! Ему придется мириться с тем, что этот человек будет рядом с Терезой.
Смертельно усталый, на пределе своих жизненных сил, дон Лотарио возвратился домой, сел к письменному столу и написал Ратуру всего три слова: «Я буду молчать».
На глаза ему попался листок бумаги, который дал ему в дорогу лорд Хоуп. В последнее время наш герой часто в него заглядывал. Там были собраны общие жизненные правила — своего рода заповеди, свидетельствующие об огромном жизненном опыте лорда и о глубоком знании человеческого бытия. Сейчас взгляд молодого испанца надолго приковала к себе одна из заповедей:
«Если ты считаешь, что не в силах вынести какое-либо несчастье или какую-либо неприятность, попытайся хотя бы противостоять им. Если убедишься, что силы твои слишком слабы или несчастье чрезмерно велико, всегда есть время отступить!»
— Я попытаюсь! — сказал, глубоко вздохнув, дон Лотарио и отложил листок в сторону.
VII. ПОДОЗРЕНИЕ
На следующий день дон Лотарио проснулся поздно. Едва он очнулся от сна, слуга вручил ему письмо, которое пришло около часа назад. Оно гласило:
«Дорогой дон Лотарио!
Хотя я узнала Вас только вчера и вполне отдаю себе отчет в том, что не вправе претендовать на дружескую услугу с Вашей стороны, однако уверена, что Вы не останетесь безучастным к постигшему меня несчастью. Поэтому прошу Вас заглянуть ко мне сегодня между двенадцатью и часом дня. Если повстречаете господина де Ратура, который живет в том же доме, прошу Вас сказать ему, что Ваш приход не более чем визит вежливости. Надеюсь, впрочем, что дома его не окажется.
Валентина Моррель».
Дон Лотарио несколько удивился посланию, но раздумывать было некогда. Часы показывали уже одиннадцать, и он быстро оделся. Жил он недалеко от дома госпожи Моррель. Дон Лотарио обосновался у Жандармского рынка, а Ратур и госпожа Моррель остановились на Беренштрассе, недалеко от Вильгельмштрассе. Спустя некоторое время молодой человек уже поднимался по лестнице в квартиру госпожи Моррель.
Дверь отворил старый слуга, и, после того как дон Лотарио отрекомендовался, он проводил его в гостиную Валентины.
Молодая женщина, вероятно, с нетерпением ожидала прихода испанца. Когда она встала ему навстречу, на лице ее было заметно волнение.
— Ах, сударь, — воскликнула она, — я все утро раскаиваюсь, что отправила вам это письмо. Мне следовало дождаться другого случая, чтобы передать вам мою просьбу. Но дело сделано, и мне остается только извиниться перед вами.
— Я польщен вашим доверием, сударыня! — сказал дон Лотарио. — Говорите же, прошу вас!
— Доверием! Да, я испытываю к вам именно доверие! — воскликнула госпожа Моррель. — Не знаю, отчего у меня зародилась мысль излить свою душу вам. Может быть, оттого, что вы связаны с графом Монте-Кристо — человеком, которого я уважаю более всего на свете. Впрочем, простите меня, сударь, в любой момент может появиться Ратур. Я должна спешить. Что вы думаете о господине де Ратуре?
Вопрос прозвучал столь серьезно и госпожа Моррель, казалось, с таким напряжением ждала его ответа, что молодой человек поневоле задумался.
— Сударыня, — помедлив, сказал он, — я знаю господина де Ратура лишь со вчерашнего вечера. Так что…
— Это верно, — прервала его Валентина. — Но ведь недаром говорят, первое впечатление — самое правильное.
— Что ж, сударыня, если вы так ставите вопрос, — промолвил молодой испанец, — не скрою, что Ратур не тот, кому можно безоговорочно доверять. Я, во всяком случае, не стал бы это делать.
— О, вы просто читаете мои мысли! Я думаю буквально то же самое! — Госпожа Моррель закрыла лицо руками. — Не знаю почему, но я тоже ему не доверяю. Если бы я могла поговорить о нем с графом Аренбергом!
— Так почему бы вам не сделать этого, сударыня? — удивился дон Лотарио.
— Почему? Он сумел так расположить к себе графа, что у меня не хватает смелости завести подобный разговор! — ответила Валентина. — Да и что я скажу графу? Я испытываю к Ратуру какое-то необъяснимое недоверие. Не могу поверить, что мой муж, мой Макс погиб! — вскричала молодая женщина, залившись слезами. — Голословного утверждения Ратура мне мало!
— У вас есть какие-нибудь основания считать, что ваш супруг жив? — спросил дон Лотарио. — Вчера вечером я слышал рассказ о его смерти. Звучит он правдоподобно.
— Да, правдоподобно! — вскричала Валентина. — И все же я не могу поверить! Обманывает ли меня Ратур, говорит ли не все, что ему известно, — не знаю. Но я не доверяю ему. Сердце подсказывает мне, что Макс жив!
— В таком случае для подозрений у вас должны быть какие-то основания, — заметил молодой человек, которого серьезно заинтересовала эта история. К тому же он вполне допускал предательство Ратура.
— Мне нелегко вам все объяснить, — сказала Валентина. — Однако я попытаюсь. Во-первых, я не верю, что правительство Луи Филиппа настолько жестоко, чтобы тайно казнить человека, почти непричастного к преступлению, в котором его обвиняют. Правда, на политических процессах творятся иногда невероятные вещи, но такого еще не было. Во всяком случае, мужу разрешили бы еще раз повидаться со мной или отправить мне последнее, прощальное письмо.
— Но какой же смысл Ратуру обманывать вас и привозить сюда, в Берлин?
— Возможно, он правительственный агент, — ответила госпожа Моррель. — Не исключено, что правительство намерено использовать это последнее средство, чтобы вынудить мужа назвать имя лица, которое так интересует власти. Ведь ему могли сказать, что он не увидит меня до тех пор, пока не выполнит волю правительства.
— Откровенно говоря, такое предположение кажется мне весьма маловероятным.
— Тогда получается, что Ратур действует в одиночку, — добавила, помедлив, госпожа Моррель. — Какую цель он преследует — не знаю. Может быть, ему было известно положение моего мужа, может быть, он знает, что Макс не в состоянии позаботиться обо мне, а может быть, он задумал… впрочем, об этом я не могу говорить!
— Вы меня удивляете! — прервал покрасневшую Валентину дон Лотарио. — Если так, то Ратур самый обыкновенный преступник! Но ведь у вас должны быть причины для подозрений! Доверьтесь мне! Расскажите все без утайки!
— Это трудно, но я попробую. Первое время Ратур был очень учтив со мной, заботился обо мне, словно настоящий друг моего мужа. Но когда увидел, что моя душевная боль не притупляется, стал вести себя иначе. Это произошло уже здесь, в Берлине. Он перестал быть просто другом, покровителем, заговорил о других вещах. Нет-нет да и вставит в разговор, что перед смертью Макс якобы просил его, Ратура, взять на себя заботу о нашем сыне, а может быть, и стать моим мужем. Прямо он об этом никогда не говорил, но я без труда догадалась, что он имеет в виду. Это вызывало у меня неприязнь и отвращение к нему. Чтобы я стала женой другого? А может быть, Макс вовсе не умер! А если даже его и нет в живых — разве я смогу когда-нибудь полюбить другого? Да и могу ли я думать о ком-то другом, когда еще не сняла траур по погибшему?
— Ратур продолжает вести с вами такие разговоры? — спросил дон Лотарио.
— Что вы! — удивилась госпожа Моррель. — Его поведение вдруг изменилось — он стал со мной едва ли не холоден. О Максе почти не упоминает, а когда я сказала, что хотела бы вернуться в Париж, он и не подумал возражать, хотя прежде находил для этого не одну причину. Такой неожиданный поворот еще больше убедил меня в том, что он выманил меня из Парижа с единственной целью: развязать себе руки в игре со мной, а теперь, убедившись, что у него не остается никаких надежд, не прочь отделаться от меня.
Дон Лотарио не сомневался в правоте молодой женщины. Ему было известно то, о чем Валентина только смутно догадывалась, — что Ратур преступник и обманщик. Он знал даже больше — об отношении Ратура к Терезе. Ратур стал холоден с госпожой Моррель, когда у него появились надежды на благосклонность Терезы.
— Говорить на такую необычную тему действительно нелегко, — заметил молодой человек после паузы. — Но ведь в Париже у вас остались родственники. Разве вы не писали им, разве они не наводили дополнительных справок?
— Именно это и усиливает мои подозрения! — вскричала госпожа Моррель. — Я не получила ни одной весточки ни от Жюли, ни от Эмманюеля. А ведь я послала им три письма!
— И, конечно же, поручили заботу об этой корреспонденции господину де Ратуру?
— Разумеется, — ответила Валентина. — Ратур уверяет, что отослал мои письма и получил ответ лишь от Эмманюеля. Зять якобы не может приехать из-за болезни Жюли. Но самого письма Ратур мне не показывал.
— Все это крайне подозрительно, — задумчиво произнес дон Лотарио. — Впрочем, я склонен думать, что вам не составило бы особого труда отослать письмо в Париж без ведома Ратура.
— Напрасно вы так думаете! — возразила Валентина. — Он с меня глаз не спускает, будто я — его узница. Не разрешает мне выходить одной, все мне приносит, не пускает никого ко мне, — словом, для меня его покровительство равносильно плену. Сейчас единственное время, когда я могла рассчитывать на беседу с вами с глазу на глаз, да и то лишь потому, что в этот час Ратур обычно посещает мадемуазель Терезу и графа. Даже если я и скажу ему, что вы были здесь, в вашем приходе он усмотрит только формальный визит вежливости, и ничего более.
— Значит, Ратур часто бывает у графа? — поинтересовался дон Лотарио.
— С некоторых пор — два раза в день, — уточнила Валентина. — Боюсь, с минуты на минуту он вернется. Так что, дон Лотарио, умоляю вас, напишите моему зятю — вот его адрес, — обрисуйте мое положение и попросите как можно быстрее ответить мне, но только на ваш адрес. Скажите ему, чтобы первым делом он попытался выяснить, действительно ли Макса нет в живых. Я не могу в это поверить. Напишите и аббату Лагиде или прямо вашему лорду Хоупу — уверена, это граф Монте-Кристо, — и сообщите о судьбе моего мужа. Если граф в силах помочь, он непременно поможет.
— Сегодня же исполню ваше желание! — заверил Валентину молодой испанец. — А вы будьте начеку. Я тоже не доверяю Ратуру. И для этого у меня есть свои причины.
— Какие же, скажите мне? — вскричала госпожа Моррель. — Я хочу знать, что он собой представляет.
— Пока я еще не имею права говорить, — ответил дон Лотарио. — Так что не настаивайте. А теперь прощайте!
С этими словами молодой человек покинул квартиру госпожи Моррель. Внизу он столкнулся с Ратуром, который удивленно уставился на него.
— Я намеревался нанести визит госпоже Моррель, — сказал дон Лотарио, заставляя себя улыбнуться. — Но она сказалась больной. Прошу вас засвидетельствовать ей мое почтение.
— Охотно, — ответил Ратур. — Надеюсь, она примет вас в другой раз.
— Вы получили мою записку, господин де Ратур?
— Получил и сердечно вас благодарю! — воскликнул француз. — Я не сомневался, что имею дело с достойным человеком!
VIII. НА ГОРЕ ЖЕЛАНИЙ
Эдмон Дантес и Гайде сидели рядом в кабинете Эдмона. Молодая женщина держала на руках ребенка, которому было, наверное, чуть больше года. В прелестном личике малютки серьезность и строгость отца гармонично сочетались с очарованием матери.
— Гайде, — сказал Дантес своей красавице жене, — я решил покинуть Калифорнию и вернуться в Европу.
— Давай уедем отсюда, Эдмон. Я давно знала, что тебе не захочется остаться здесь навсегда, — ответила Гайде.
— Дело не в этом, — продолжал Монте-Кристо. — Когда я добирался сюда, когда отыскивал этот укромный уголок земли, я жаждал одиночества, жаждал уединения. Борьба с несправедливостью, которую я вел, осуществление моих замыслов потребовали от меня напряжения всех сил. Я достиг своей цели, добился даже большего, чем ожидал, и тогда мне захотелось побыть наедине с самим собой, оглянуться на прошлое и обдумать планы на будущее. Я не предполагал, что случай сделает меня владельцем таких богатств, каких у меня никогда прежде не было. Эти сокровища изменили мои планы — у меня появилась возможность расширить и пересмотреть их. Теперь в моих руках сосредоточены богатства, каких не имеет, наверное, ни один человек на земле. Здесь, в Калифорнии, я основал колонию, которая будет расти и расцветать даже в мое отсутствие. Никаких дополнительных богатств мне больше не нужно, и я могу покинуть гору Желаний. В Европе обо мне, пожалуй, забыли, и я могу вновь появиться там, не опасаясь, что буду сразу же узнан.
— Так ты опять намерен окунуться в водоворот светской жизни, Эдмон? — спросила Гайде.
— С каким страхом ты это спросила, дорогая! Разве ты против?
— О нет, Эдмон, нет! Но в Париже, помню, ты редко бывал со мной.
— Так вот в чем причина! Ты боишься, что сутолока и хаос, царящие в Европе, отнимут у тебя мужа, — улыбаясь, прервал ее Дантес. — Не бойся! Я не собираюсь возвращаться в Париж, по крайней мере надолго. Я буду все время с тобой. Но там, по ту сторону океана, произошло немало такого, что вынуждает меня находиться поближе к тем, чьи судьбы не безразличны мне.
— Эдмон, я давно уже собираюсь спросить тебя: как ты находишь Вильфора? Ведь ты надеялся, что здесь к нему вернется рассудок, — перебила мужа Гайде.
— Увы, мои надежды не оправдались, — ответил Монте-Кристо. — Может быть, для него даже лучше, что он не в состоянии оглянуться на свое прошлое, которое так ужасно. Я рассчитываю лишь на одно, последнее средство — на то мгновение, когда он вновь увидит Валентину. Это его дочь, и он уверен, что ее тоже нет в живых. Он всегда любил ее. Пожалуй, даже хорошо, если рассудок вернется к нему не раньше, чем он увидит свою Валентину, — осознав, что она жива, несчастный найдет в этом утешение.
— Боже, какая страшная судьба! — воскликнула Гайде. — Знать, что твои родные отравлены твоей женой, испытать невыносимые нравственные муки неизбежного выбора между долгом, предписывающим тебе предъявить ей обвинение, и любовью к ней, затем в один и тот же день обнаружить, что эта женщина покончила с собой, отравив и твоего сына, и что злополучный убийца Бенедетто тоже твой собственный сын! Это ужасно!
— Не напоминай мне об этом, Гайде, прошу тебя! — скорбно сказал Дантес. — Вопреки моему желанию месть моя зашла слишком далеко. Я намеревался лишить Вильфора только его блестящего положения, я хотел, чтобы он вместе с Валентиной и своим законным сыном обосновался вдали от Парижа и зажил тихой, неприметной жизнью. Я не мог даже предположить, что все сложится именно так. Но Бог поможет мне поправить дело и искупить зло, какое я причинил Вильфору, добром, которое я сделаю для других.
— Даже когда ты покинул Европу, злой рок продолжал преследовать участников этой трагедии. Помнишь, аббат писал тебе, что баронесса Данглар погибла от руки того самого Бенедетто?
— Все это так, но я здесь ни при чем. Не моя вина, что французское правосудие упустило преступника, позволило ему целых два года разгуливать на свободе. Да и кому могла прийти мысль, что сын способен убить собственную мать?! В Лондоне его едва не схватили, но он вновь ускользнул, и одному Богу известно, куда ведет его преступная стезя.
— А не задумал ли он отомстить тебе? — озабоченно спросила Гайде.
— Я размышлял об этом. Что ж, причины у него есть. Но я не боюсь его.
— Давай прекратим этот тягостный разговор! Поговорим о более приятных вещах, — предложила Гайде. — Что стало с той француженкой, дочерью де Морсера, которая оказалась у мормонов?
— Ничего определенного о ее будущем сказать пока не могу. Судьба этой девушки зависит от того, как поведет себя человек, за которым она последовала. Но я надеюсь, она будет с ним счастлива. Удивительно, как случай привел ко мне человека, которого я мог бы безуспешно искать не один год. Помнишь, я говорил тебе о неком Вольфраме, что осмелился противиться мне в моем собственном доме. Несмотря на это, он уже при первой встрече запал мне в душу, ибо я распознал в нем решительный характер, силу воли и сильно развитое, хотя и ложно понятое, самолюбие. Я сразу же решил взять его под свое покровительство, а когда услышал, что Амелия его возлюбленная, — понял, что его спасение только в этой любви. Ожидания не обманули меня. Я послал Амелию назад к мормонам. Я предвидел, что Вольфрам неизбежно будет противиться этим людям, а в конце концов вместе с Амелией покинет их. Каждую неделю я получаю известия от Бертуа. Однажды и я побывал там, чтобы собственными глазами увидеть, как живут мормоны и каково положение молодых людей. Я рассказывал тебе и об их побеге с Большого Соленого озера, и о моей встрече с ними. А теперь самое главное. Бертуа написал мне, что Вольфрам, уединившись на острове, просил у него оружие и в благодарность подарил ему кольцо. Я поручил Бертуа, как ты знаешь, сообщать мне обо всем, что касается Вольфрама. Он передал мне и это кольцо, на внутренней поверхности которого выгравировано какое-то имя. По словам Вольфрама, это кольцо — величайшая для него ценность, оно принадлежало его отцу. На кольце мы обнаружили имя Бюхтинг!
— Бюхтинг? И что же означает это имя? — удивилась Гайде.
— Так звали умирающего, сообщившего мне об этой золотой жиле, а Вольфрам, несомненно, его сын! Я уже получил из Парижа и Берлина известия, что сын несчастного Бюхтинга, некий Вольфрам, перебрался из Берлина в Париж, а оттуда с какой-то молодой девушкой отправился в Америку. Теперь я почти уверен, что наш Вольфрам — сын человека, которому я обязан второй — большей — половиной моих богатств.
— Какое странное стечение обстоятельств! — воскликнула Гайде. — Но как бы там ни было, ты должен отдать ему часть этих сокровищ!
— Несомненно! — ответил Монте-Кристо. — Впрочем, Вольфрам еще не подозревает о своем богатстве. По моему мнению, он пока не в состоянии правильно им распорядиться, и поэтому получит его не раньше, чем оно действительно будет ему полезно, — другими словами, когда он станет настолько равнодушным к деньгам, что начнет относиться к своему состоянию всего лишь как средству помочь ближнему.
— Ты считаешь, это время еще не наступило?
— Полагаю, что нет, — ответил Дантес. — Впрочем, можешь убедиться сама. Я уже давно собираюсь посвятить тебя в свои дела. Смотри, в этом ящике стола письма моих друзей и копии моих собственных писем. Прочти те, что покажутся тебе самыми интересными. За некоторыми исключениями, все они написаны по-французски. Тогда, быть может, поймешь, что мои желания и надежды в ту ночь не были чрезмерными. Всего я не достиг, но добился многого. Прочти их. А я тем временем напишу в Берлин.
Он позвонил. Первым появился Али, и лорд приказал ему позвать Мирто. Вскоре в кабинет вошла служанка, и Гайде передала ей спящего ребенка, которого та унесла, прижимая к груди, словно бесценное сокровище.
Монте-Кристо сел к письменному столу, а Гайде поспешно развязала пачку писем. Большая часть посланий была адресована не лорду Хоупу, а людям, которые состояли у него на службе. Многие письма пришли ему из Парижа, Лондона и Нью-Йорка через тамошних друзей и имели совершенно незнакомые адреса. Вся корреспонденция была рассортирована по темам и по датам. В соответствующих местах были подложены письма самого Монте-Кристо, вернее — их копии. Таким образом, Гайде познакомилась с одной из самых удивительных переписок, какие когда-либо существовали. Приведем здесь содержание лишь самых важных писем.
1. Письмо, адресованное Фортери
«Уважаемый предводитель!
Когда мне впервые представилась возможность познакомиться с Вами, я изложил Вам свои взгляды на Церковь святых последнего дня и, как полагаю, побудил и Вас несколько изменить прежние воззрения. Я на деле выказал свои симпатии к этой церкви, вручив Вам сто тысяч долларов. Сегодня посылаю Вам чек на сумму вдвое больше. Человеку по имени Бертуа, который передаст его Вам, можно безусловно доверять во всем, что касается моих дел.
Постоянно помните, что колония перестанет быть тем, чем она является, если из ее жизни исчезнет религиозный дух. Правда, тогда я сказал Вам, что сила нового религиозного течения состоит прежде всего в освоении необжитых мест, в создании процветающих колоний. Я и сейчас того же мнения. Но никогда не позволяйте ослабнуть тем узам, что связывают воедино отдельных колонистов, — узам религии. Я указывал Вам, что в Вашем учении немало заблуждений, подчас просто смехотворных. Но даже с этими недочетами оно лучше полного безверия. Все эти необузданные, энергичные натуры, которые присоединяются к Вам, движимые бессознательной тягой к независимости, все эти воедино собранные волею случая дети разных наций пали бы вскоре духом и разбрелись кто куда, погубили бы все дело, если бы их не связывали друг с другом узы одной и той же религии, я бы даже сказал фанатизма. В Вашем вероучении не обошлось без изъянов, но со временем они сами собой исчезнут.
Позаботьтесь заполучить как можно больше приверженцев. Принимайте всякого, кто к вам приходит. Нет человека, который был бы настолько плох, чтобы из него не вышло ничего путного, и те, кто был исторгнут из Старого Света, подчас вполне могут приносить пользу здесь, где они не соприкасаются с этим Старым Светом. Но не забудьте о беспрекословном повиновении и железной дисциплине среди колонистов. В этом смысле я целиком согласен с тем, как Вы поступили с Вольфрамом, — это прежде всего для его же блага. Ведь, говоря откровенно, для мормонов он слишком хорош. Он талантлив, на другом, более подходящем поприще он способен действовать самостоятельно, на свой страх и риск, а в лоне Вашей церкви ему долгое время пришлось бы только повиноваться. Я позабочусь, чтобы его энергия не пропала втуне.
Вы спрашиваете мое мнение о многоженстве, и я немало размышлял на этот счет. С этим явлением я познакомился на Востоке и не нашел в нем ничего предосудительного. Правда, оно противоречит обычаям цивилизованного общества. Ясно и то, что одному мужчине, как подсказывает здравый смысл, вполне достаточно одной жены. В конце концов я все же пришел к выводу, что Вам следует сохранить это установление на деле, принципиально не высказываясь ни за, ни против. Это привлечет к Вам новых приверженцев, а чувственные натуры — не всегда самые плохие. Однако и здесь не следует допускать экстравагантности. Здесь также необходимо поддерживать порядок. Многоженство допустимо лишь в том случае, если обычай или закон запрещает мужчине общаться с женщиной, которая ему не принадлежит. На Востоке это предписывают обычаи. Ни один турок, ни один перс не притронется к жене другого. Превратите этот обычай в закон и строго, пусть даже смертью, карайте за нарушение супружеской верности. Тогда среди приверженцев Вашей религии установятся нравы, которым позавидуют города цивилизованной Европы и Америки.
Вы интересуетесь, далее, что я сделал для Вас в Нью-Йорке. Вскоре я дам Вам об этом знать. Еще раз: поддерживайте дисциплину и порядок, а что касается Вас лично — остерегайтесь Уипки, который не внушает мне доверия.
Лорд Хоуп».
2. Письмо мистеру М., Государственному секретарю Североамериканских Соединенных Штатов
«Сэр!
Ваши последние разъяснения по поводу американской политики я прочитал с величайшим интересом и чрезвычайно признателен Вам не только за доверие, которое Вы мне оказываете, но и за то время, которое Вы мне уделяете. В самом деле, Соединенным Штатам остается лишь благодарить судьбу, пославшую им такого государственного деятеля, который сочетает искушенность и осмотрительность европейского дипломата со смелостью американца.
Вы хотели узнать от меня некоторые подробности относительно Калифорнии. Сообщаю их Вам в прилагаемой памятной записке, поскольку описание этого края недопустимо удлинило бы письмо. Вы совершенно правы, проявляя к нему большое внимание. Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться, что раньше или позже Калифорния должна стать частью Соединенных Штатов, и я со своей стороны делаю все возможное, чтобы подготовить ее присоединение к Федерации.
Вам угодно было знать, насколько серьезно мое покровительство мормонам. Оно совершенно серьезно! Я основательно изучил верования, нравы и достижения этих людей и пришел к убеждению, что перед ними большое будущее. Тот факт, что их религия весьма несовершенна, не меняет существа дела. Она устраивает провинциалов, охотников, трапперов, всех переселенцев из Ирландии, Шотландии, Швеции и Германии.
Поэтому (я вновь возвращаюсь к прежней теме) главным условием продолжения наших теперешних отношений я делаю одно, а именно: чтобы правительство Соединенных Штатов не чинило мормонам существенных препятствий. Пусть оно делает вид, будто не поощряет распространение их учения, — с этим я не только согласен, но даже желаю этого, ибо преследуемая секта растет быстрее той, которой оказывают покровительство. Однако упомянутые препятствия должны быть мнимыми. Предоставьте мормонам свободу действий. Вы увидите, что в дальнейшем Штатам не придется жалеть об этом. Я собственными глазами убедился, как удивительно ведут колонизацию эти люди. Через несколько лет Дезерет превратится в крупный город; не пройдет и двадцати лет, и Юту будут упоминать в числе самых процветающих штатов страны.
Поэтому передайте мистеру Т., что такое — хотя и тайное — покровительство мормонам я выдвигаю в качестве главного условия оказываемой ему поддержки. Второе мое условие известно. Оно касается проблемы рабства. Если мистер Т. и не может прямо выступить против рабства, он должен взять на себя обязательство осудить его хотя бы в принципе и заявить протест против его введения в новых штатах. Я в свою очередь позабочусь о том, чтобы у мормонов не родилась злополучная идея держать рабов. Если мистер Т. согласится с моими условиями, я предоставлю в его распоряжение пять миллионов долларов в надежде, что он достигнет своей цели.
В последнем письме Вы назвали мне некоторых достойных отцов семейств, которые заслуживают поддержки. Если Вы убеждены, что когда-нибудь эти люди будут творить добро и смогут быть полезными обществу, начинайте постепенно оказывать им денежную помощь. Для этой цели я прилагаю к письму чек на пятьдесят тысяч долларов. Попытайтесь потом устроить дело таким образом, чтобы эти люди оказались в различных штатах федерации. Важно, чтобы подобные им — порядочные, дельные — люди распространились по всему миру. Что касается Нью-Йорка, в своих планах я почти не принимаю его в расчет. Он превратится во второй Париж или Лондон и в дальнейшем будет служить всего одной цели: по нему станут судить о глубине падения Америки.
Позвольте на этом проститься с Вами и заверить, что я буду с нетерпением ожидать очередного письма от Вас и с еще большим интересом прочту его.
Лорд Хоуп».
1. Письмо банкира Натана из Нового Орлеана к лорду
«Милорд!
С радостью пользуюсь возможностью оказать Вам услугу, ибо для меня это — большое счастье. Я никогда не забуду, милорд, что именно Вы поддержали пошатнувшийся кредит моего банка, помогли мне произвести платежи и вернули честное имя. Ваши наставления по поводу того, как мне следует вести себя с молодым человеком, который вручит мне Ваш чек, долгое время оставались нереализованными, и я уже начал опасаться, что буду лишен возможности что-то сделать для Вас. Однако в один прекрасный день в нашей конторе появился неизвестный молодой человек, в котором я тотчас же признал описанного Вами Вольфрама.
Он был очень бледен, выглядел весьма удрученным и подавленным, хотя одет был опрятно, пусть и несколько непривычно. По всему было видно, что это немец.
«Сэр, — сказал он, обратившись ко мне, — вы не получали поручения принять тысячу долларов от лица по имени Вольфрам для господина, который мне неизвестен?»
«Получал, — ответил я. — Я получил такое поручение месяца два назад».
«Я и есть тот самый Вольфрам! — ответил он. — Я не мог вернуть эту тысячу долларов. Я и сейчас не в состоянии сделать это. Впрочем, тот господин и не назначил определенного срока».
«Верно, — сказал я, придавая своему лицу, как вы мне наказывали, официальное выражение. — Однако почему вы не можете заплатить?»
«Со мной случилось несчастье, — ответил он. — Вначале, когда я добирался до ваших мест, заболела моя невеста, что была вместе со мной, и мне пришлось целых три недели ухаживать за ней. Беда застигла нас в пустыне, и мы были на краю гибели, когда встретили всадника, который поделился с нами своими запасами пищи и тем спас нас. Человек, похожий на квакера, был мне незнаком, хотя еще раньше, в городе Солт-Лейк-Сити, мне довелось обменяться с ним несколькими словами. Он указал нам путь в Луизиану, а оттуда велел мне направиться в Новый Орлеан и здесь, ссылаясь на него, обратиться в банкирский дом «Братья Натан». Напоследок он вручил мне тысячедолларовый банкнот, и я дал ему слово вернуть эти деньги вам. Когда я со своей невестой добрался наконец до верховьев Ред-Ривер, я был настолько измучен, что нам пришлось купить лошадей. На это ушла часть наших денег. Правда, когда мы оказались на Миссисипи и могли сесть на пароход, я опять продал наших лошадей, но выручил за них только половину того, что потратил. Едва мы прибыли в Новый Орлеан, как меня свалила болезнь, и вот, немного оправившись, я первым делом явился к вам. Чудо, что я вообще остался жив после желтой лихорадки. За все это время я, конечно, не заработал ни цента, а в чужом городе потратил гораздо больше, чем рассчитывал. От той тысячи долларов у меня осталось всего триста. Если бы мне пришлось вернуть их теперь, я остался бы нищим».
«Тот господин не назначил срока, — сказал я. — Поэтому оставьте деньги себе. Теперь вы здоровы и можете работать».
«Надеюсь, — ответил он. — Но в незнакомом городе, тем более здесь, в Новом Орлеане, где так придирчивы к приезжим, мне будет нелегко подыскать место. Тот господин, имени которого я не знаю…»
«Мистер Стенли», — подсказал я, как Вы велели мне отрекомендовать Вас, милорд.
«Так вот, мистер Стенли, — продолжал он, — направил меня к вам. Он сказал, что с вашей помощью мне, возможно, удастся получить работу».
«Мистер Стенли писал мне что-то в этом роде, — ответил я все ещё холодно и официально, верный порученной мне роли. — Посмотрим, что можно предпринять».
Он оставил мне свой адрес (он поселился в пригороде) и ушел. Этот молодой человек произвел на меня благоприятное впечатление, милорд, и уже заинтересовал меня. Не теряя времени, я поспешил навести о нем более подробные справки и убедился, что он сказал мне чистую правду. Три недели кряду он страдал от желтой лихорадки, находясь между жизнью и смертью. Его спутница или невеста, которую считали очень привлекательной, не покидала больного ни на минуту, хотя сама, говорят, была очень измучена и истощена. На следующий же день я разыскал эту пару. Когда я сказал молодому человеку, что ему найдется работа на строительстве порта, он сначала очень обрадовался. Однако радость его несколько уменьшилась, когда выяснилось, что его ожидает ничтожный заработок и весьма скромное положение. Тем не менее на его лице я не обнаружил ни малейшего намека на недовольство.
Мне стало довольно тяжело играть перед этой молодой парой ту роль, милорд, какую Вы мне поручили. Но я исполню ее до конца. Вот уже восемь дней, как Вольфрам трудится на стройке простым рабочим. Ему пришлось снять еще более скромное жилье вблизи порта. Воздух там нездоровый, и я всерьез опасаюсь, что ни он, ни его невеста не вынесут вредных испарений.
Вот как далеко зашло дело. Жду Ваших дальнейших распоряжений, милорд.
Джон Натан».
2. Письмо лорда Натану
«Дорогой друг!
Если уж Вы пишете, что Ваши чувства в известной мере уязвлены тем впечатлением, какое производит на Вас судьба этих молодых людей, позволю себе заверить Вас, что испытываю к ним еще большее сострадание, ибо ничего так страстно не желаю, как того, чтобы в будущем они были по-настоящему счастливы. Однако именно это желание и вынуждает меня вести себя сегодня таким образом. Вольфрам доказал, что постепенно научился переносить невзгоды. Но в состоянии ли он вынести счастье, пока неясно, а, по моему мнению, счастливо умеет жить лишь тот, кто испытал как можно больше страданий.
Так что не будем забегать вперед! Будем воздвигать перед нашей молодой парой одно препятствие за другим, чтобы сделать их жизнь нелегкой. Главное — не зайти слишком далеко. Предоставляю Вам следить за предохранительным клапаном, чтобы паровой котел не взорвался. Чтобы наши подопечные болели, допускать нельзя; Вам следует об этом позаботиться. Однако Вольфраму нужно создать условия, которые привели бы его в состояние, близкое к отчаянию. У него не должно быть возможности откладывать деньги на черный день. Пусть думает, что вечно будет пребывать в нужде и бедности. Все, кому он вынужден повиноваться, должны третировать его. Нельзя разрешать ему жениться на Амелии. Если он все это вынесет и останется достойным человеком, тогда, друг мой, ему будет оказана помощь. Но пока я не до конца доверяю ему — испытательный срок был слишком непродолжительным. Жду от Вас вестей не позднее чем через полтора месяца. Надеюсь, до того времени что-то прояснится.
Постарайтесь узнать фамилию молодого человека! Не умаляйте значения тех услуг, какие Вы мне оказываете. Что может быть тяжелее для Вас, чем поступать вопреки велению своего доброго сердца!
Лорд Хоуп».
3. Письмо Натана к лорду
«Милорд!
Никогда бы не поверил, что мне будет так трудно оказать Вам любезность — причем такую незначительную! Никогда не думал, что так тяжело не давать воли своим чувствам и воздерживаться от помощи и поддержки!
Я навестил известную Вам пару вскоре после получения второго Вашего письма. Молодых людей я нашел в состоянии, которое внешне напоминает полнейшее спокойствие и самообладание, а по существу свидетельствует о весьма мрачном настрое. Шаги, предпринятые мной по Вашему требованию, уже начали давать результаты. Чиновник в Управлении строительством порта, которому подчинен Вольфрам, обошелся с ним очень строго. Молодой человек как-то высказался в том смысле, что при составлении проекта была допущена ошибка, и одного только замечания такого рода оказалось достаточно — не считая моих собственных шагов в этом направлении, — чтобы настроить начальника против юноши. Ему теперь стали поручать самые тяжелые и неприятные работы. Те, с кем ему приходится работать (а среди них встречаются грубые, неотесанные типы!), тоже не слишком жалуют Вольфрама, поскольку он сторонится их компании и не заглядывает в пивные. В шесть утра он отправляется на работу, а в восемь вечера возвращается к невесте. Он лишен даже такого слабого утешения, как возможность заниматься делом поблизости от нее. По моему совету Амелия сняла жилье далеко от реки.
Некоторое время назад Вольфрам явился ко мне с жалобой, что его женитьбе на Амелии чинят всяческие препятствия, ибо хотят помешать браку бедных переселенцев. На самом же деле никаких препятствий в Новом Орлеане не существует: здесь венчают любую пару, которая этого пожелает. Я не мог открыть расстроенному молодому человеку, что в этих трудностях повинен Ваш покорный слуга. Он удалился очень опечаленный.
Во время одного из моих посещений Амелия робко призналась, что начала искать заказчиков, чтобы заработать немного денег рукоделием. Я лишил ее и этой надежды, сказав, что связь с Вольфрамом закроет перед ней двери приличных семейств. И он, и она почувствовали себя глубоко несчастными!
Кажется, сама судьба с Вами заодно, дорогой друг! Три недели назад среди рабочих, строящих порт, вспыхнули волнения, и, хотя мне доподлинно известно, что Вольфрам к ним совершенно непричастен, всю вину свалили на него. Вот что такое нелюбовь начальства! Рабочие, которые, как я уже писал, нелестно отзываются о нем, даже не потрудились оправдать его, и Вольфрама на восемь суток посадили в тюрьму.
С тех пор он сделался очень задумчив и замкнут. Даже на меня, когда мы встречаемся у него дома, он посматривает мрачно, и порой мне кажется, что его преследует мысль лишить себя жизни. Удерживает его, наверное, только страх за судьбу Амелии.
Итак, милорд, дела, по моему разумению, дошли до крайности. Я попытаюсь еще какое-то время не допускать паровой котел — как Вы выразились — до взрыва. Только не медлите с ответом
Дж. Натан».
1. Письмо лорда аббату
«Мой милый аббат!
Мы знакомы уже много лет, часто пользовались случаем, чтобы письменно или устно обменяться мыслями, и, несмотря на это, я всякий раз с удовольствием берусь за перо, собираясь написать Вам. Никто не понимает меня так, как Вы!
Предоставляю Вам и герцогу выбрать тех, кто заслуживает поддержки. Однако будьте осмотрительны и осторожны. Если это ремесленники — сделайте им крупные заказы, если коммерсанты — закупите у них большие партии товаров, если люди иных сословий — устройте так, чтобы они получили наследство, и так далее.
Что касается графа Аренберга, ознакомьте его с моими принципами и поручите действовать в этом же духе в Германии, особенно среди рабочего сословия. В ремесленниках и рабочих, составляющих ядро всякого народа, следует вновь пробудить добрую старую веру в то, что трудолюбие, удовлетворенность и вера в Бога — лучшие источники достойного земного существования, а спекуляция, рассчитанная только на обман других и жаждущая всего для себя одной, — это зыбкий, непрочный фундамент, не способный обеспечить жизнь ни одного народа.
Вы пишете немало хорошего о доне Лотарио, что подтверждает мое собственное мнение об этом молодом человеке. Со временем, верю и надеюсь, он станет одним из самых деятельных членов нашего союза. Мы стары или скоро состаримся, а цель, которую мы перед собой поставили, должна жить в веках. Поэтому нам надо заблаговременно подумать о том, чтобы воспитать в нужном для нас духе более молодых людей. Один из них — дон Лотарио. Ему предстоит пройти школу испытаний. Он словно бы из железа, а необходимо, чтобы он был из стали. Сталь же, как известно, закаляют в огне. Правда, обычные средства к дону Лотарио неприменимы. Думаю, он неплохо закален жизненными невзгодами, да и на своей гасиенде не роскошествовал. Ему следует пройти через душевные страдания. Вы сообщаете, что он начал проявлять внимание к некой молодой девушке и пока вряд ли может рассчитывать на взаимность. Тем лучше! Позднее я лишу его и средств, позволяющих вести светский образ жизни. Тогда его душе придется потрудиться. Чтобы научиться стоять на собственных ногах, он должен перестать надеяться на всех нас. Если такое случится, он наш единомышленник и сможет в будущем продолжить наше дело.
В своем письме Вы высказываете предположение, что я намерен еще раз испытать и стойкость Морреля. Это не так. Я знаю Морреля — это сильная натура, открытая душа. Не думаю, однако, что нам потребуется когда-нибудь посвящать его в самые сокровенные наши тайны. Я посоветовал ему поддержать дело бонапартистов по двум причинам. Во-первых, чтобы чем-нибудь занять его, иначе праздность погубила бы его, во-вторых, я сам приверженец Наполеона, пусть не по убеждениям, а по зову сердца. В юности, как Вы знаете, мне пришлось пострадать за него. Поэтому теперь я за Наполеона и против Бурбонов. Если Моррель, выполняя мое поручение, проявит твердость и энергию, посмотрим, как быть с ним дальше.
Намного больше занимает меня судьба Альбера де Морсера. В той самоотверженности, которую проявили и он, и его мать, в том отказе от всех земных благ, какие предоставил ему его отец, нельзя не почувствовать энергию и твердость характера, менее всего ожидаемые мною от этого молодого человека и вселяющие в меня немалые надежды на будущее. К сожалению, как Вам известно, все наши попытки сблизиться с ним оканчивались неудачей, наталкиваясь на его твердость и непреклонность. Он отказался от материальной поддержки и от протекции. И это тоже весьма располагает меня к нему. Не теряйте его из виду. Именно на него я очень надеюсь. Когда-нибудь нам все же удастся привлечь его на свою сторону, а что касается будущего: дон Лотарио, Вольфрам, Альбер де Морсер, профессор Ведель в Берлине (с которым я вскоре налажу непосредственную связь), а может быть, и Моррель — вот те люди, коим предстоит когда-нибудь сменить нас, ставших слабыми и немощными, и взять на свои плечи груз тех тяжких проблем, которые пытались решить мы, — проблем восстановления справедливости на этой земле!
До свидания, дорогой аббат! Передайте мой привет герцогу и графу Аренбергу. С нетерпением буду ждать Вашего ответного письма!
Эдмон Дантес».
2. Письмо аббата лорду
«Мой дорогой граф!
Я довольно долго беседовал с герцогом, и мы набросали список лиц, которым следует оказывать помощь в Вашем понимании этого слова. Но не слишком ли велика окажется сумма? Вы, правда, говорили, что Ваши возможности неисчерпаемы. Хочу этому верить. Граф Аренберг с нетерпением ждет от Вас письма. Однако он недостаточно практичен, чтобы вполне оценить Ваши замыслы. Впрочем, этот недостаток искупается его сердечностью и добротой. Кроме того, Вы безусловно можете рассчитывать на его умение молчать.
Что касается дона Лотарио, я обращаюсь с ним так, как Вы наказали. Это прекрасная натура. Да, он — настоящий человек, добрый, благородный, прямой, чуткий ко всему возвышенному.
Сейчас он чувствует себя несчастным. Тереза, которую он любит, потеряв свою подругу госпожу Данглар (об ее смерти Вам подробно сообщит герцог), намеревается покинуть Париж, и я все устрою таким образом, чтобы дон Лотарио оставался в неведении, отвечают ли ему взаимностью (в чем я и сам окончательно не уверен, хотя надеюсь на лучшее). Впрочем, я ни минуты не сомневаюсь, что это испытание он выдержит, как подобает настоящему мужчине.
Вы просите сообщить Вам подробности об этой Терезе. Граф Аренберг взял ее к себе, когда ей было около семнадцати лет, а первая несчастная любовь сломила ее дух и подорвала физические силы. Однако со временем у нее обнаружился необыкновенно сильный характер; если ей суждено полюбить дона Лотарио, они составят когда-нибудь почти столь же совершенную пару, как Вы и Гайде. Фамилия ее отца мне неизвестна. Здесь ее называют мадемуазель Тереза. Возможно, граф Аренберг, который подчас ведет себя как простой смертный, намеренно скрывает ее настоящую фамилию, ибо вскоре собирается удочерить ее. Подозреваю, что она низкого происхождения, поэтому графу желательно, чтобы об этом знало как можно меньше людей.
Подробности о Морреле Вам также сообщит герцог. Мне он сказал, что предпринимает кое-какие шаги, чтобы вызволить капитана из тюрьмы, где тот сейчас находится.
Должен сообщить Вам очень важные новости об Альбере де Морсере. Вернее, Вы узнаете их из газетных статей, которые я прилагаю. Отныне Альбер — властитель целого государства в Центральной Африке, и в свете только и разговоров что о нем! Таким образом, этот молодой человек вернул славу имени своего отца! Говорят, правда, что и теперь он пожелал какое-то время скрывать свое настоящее имя под псевдонимом Альбер Эррера. Тем не менее его подлинное имя установили. Правительство намерено завязать с ним отношения. Не угодно ли и Вам последовать этому примеру? Там перед Вами откроется огромное поле деятельности, и Вы сможете предоставить в распоряжение молодого человека гораздо больше средств, нежели наше правительство. Впрочем, во всем этом Вы разберетесь гораздо лучше меня.
P. S. Прилагаю листовку республиканцев, содержащую удивительные сведения о Морреле. Не могу поверить тому, о чем в ней говорится. Герцога сейчас нет в Париже. Я напишу ему, чтобы он как можно быстрее вернулся. Вместе мы сделаем все, чтобы узнать правду. Нет, нет, это невероятно! Здесь какое-то недоразумение! Но если все соответствует действительности — это горькое предостережение Вам, граф!
Дон Лотарио был принят в Лондоне в Общество самоубийц. Из-за несчастной любви он устал от жизни. Но он не умрет, я знаю! Однако не пора ли нам остановиться? С нетерпением буду ждать очередного Вашего письма, дорогой граф! Обстоятельства запутались и осложнились. Дай Бог, чтобы все кончилось хорошо! Если захотите написать Альберу де Морсеру, перешлите письмо мне — теперь я знаю, каким способом отправлять ему корреспонденцию.
Лагиде».
3. Письмо лорда аббату
«Мой милый аббат!
Обстоятельства в самом деле приняли угрожающий оборот, и я вынужден торопиться, чтобы осуществить свое решение, принятое некоторое время назад. Я нарушу свое уединение и вернусь в Европу. Дела требуют моего присутствия и в Новом Орлеане — правда, всего на несколько дней. Как только окажусь в Европе, сразу же извещу Вас, где и каким образом мы сможем встретиться. В смерть Морреля я не верю — на подобный шаг правительство не осмелится. Герцогу это было бы известно, и он никогда не допустил бы такого злодеяния. Это или выдумка, или недоразумение.
Дону Лотарио я послал письмо, в котором сообщил, что он разорен. Не сомневаюсь, у него хватит сил перенести и это испытание. Письмо к де Морсеру прилагаю.
Через несколько недель мы увидимся и побеседуем на европейской земле.
Эдмон Дантес».
«Дорогой Альбер!
Я называю Вас так, ибо намерен предать забвению прошедшие годы и вспомнить времена, когда мы с Вами любили друг друга. Я называю Вас так, ибо не могу называть иначе сына Мерседес!
Когда я был молодым человеком, Ваш отец оклеветал меня и обрек на пожизненное заточение, чтобы завладеть моей невестой. Затем с помощью неблаговидных деяний ему, человеку низкого происхождения, удалось добиться высокого офицерского чина, и он беззастенчиво предал отца моей жены, пашу Янины, туркам, заложив этим предательством основу своего будущего немалого состояния. Все доброе и благородное, что в Вас есть, — все это Вы унаследовали от Вашей матери, от Мерседес!
Когда я приехал в Париж с намерением отомстить моим прежним врагам, когда вновь увидел Мерседес, когда полюбил Вас, я засомневался, вправе ли моя месть настигнуть и Вашего отца. Я долго размышлял об этом. Но даже если бы я и отказался мстить за самого себя, нельзя было простить преступление, совершенное у всех на глазах, — предательскую выдачу туркам отца Гайде. Поэтому я и подготовил ту сцену, которая разыгралась в Палате пэров.
Какие последствия будет иметь это публичное предание позору, меня не интересовало. Ваш отец мог спокойно перенести все происшедшее, мог просто уехать из Парижа. Он же предпочел смерть. Известие о его гибели глубоко потрясло меня. Но разве Вы сами отказались бы покарать преступника только из боязни последствий?
Тогда Вы вызвали меня на дуэль. Ваша мать сознавала, что одному из нас предстоит умереть. Некогда так страстно любя меня — да благословит ее за это Бог до конца ее дней! — она раскрыла Вам глаза на причины, побудившие меня к такому поступку. Вы молча согласились с их справедливостью, отказавшись от поединка.
Так каковы же последствия свершившегося? Вы не станете отрицать, Альбер, что смерть отца наставила Вас на истинный путь. Кем Вы были прежде, в Париже? Одним из тех бездельников, которые проводят всю жизнь в праздности и в конце концов умирают, не оставив после себя никаких добрых дел. Смерть отца раздула ту искру силы и энергии, которая долгое время тлела внутри Вас. Вы отказались от всего, что оставил Вам отец, отказались даже от собственного имени и сделались свободным, самостоятельным, деятельным человеком. Вы стали полезным членом человеческого общества. Из безвольного существа Вы превратились в созидателя собственной судьбы. Вы отвергли поддержку, которую я собирался предложить Вам, и за это я благодарен Вам. Такое доказательство собственной энергии только возвысило Вас в моих глазах.
Вы направились в Африку, а я — я искал уединения. Освободив меня из заточения, Бог сделал меня орудием своей мести, но, может быть, я зашел дальше, чем следовало, может быть, на мне лежало бремя ответственности за судьбы, какие я сломал, сам того не желая. Я дал себе клятву вознаградить все человечество за свои прегрешения перед некоторыми людьми, и в том, что Провидение послало мне новые, несметные богатства, я усмотрел знак того, что Бог милостив ко мне и благословляет мои планы. Добившись справедливости для себя, я пытаюсь теперь добиться ее для всех людей.
Мир стоит на пороге жестоких потрясений. Религия, культура, нравственность — все это может погибнуть, если не найдется сил, способных устоять в этом всеобщем хаосе. Вот почему я вместе с несколькими мудрыми и влиятельными друзьями решил заранее приобрести единомышленников, готовых, когда потребуется, выступить на защиту благого дела. Нужно укреплять религию, веру в божественное Провидение и торжество истины. Мы стремились отыскать людей, которые при любых обстоятельствах и во всех слоях общества могли бы стать оплотом справедливости. Мы всемерно поддерживали своих избранников, поднимали их престиж в глазах окружающих, наделяли земными благами, делали их влиятельными персонами. Подобным образом нам удалось найти в Европе и Америке тысячи заслуживающих доверия людей, которые в условиях всеобщего падения нравов будут способствовать созданию некой новой церкви — церкви веры и праведности, — неважно, в каких формах.
Что касается Африки, у меня не было почти никаких путей для активного вмешательства в ее дела. В то же время меня никогда не покидала мысль вселить в души этих несчастных негров, таких обиженных Богом и людьми, веру в лучшее будущее. И тут я узнаю, что Вы, Альбер, почти чудом оказались в тех краях и заняли там положение, какого, пожалуй, не добиться никому другому! Это известие сделало меня безмерно счастливым. Бог призвал Вас свершить важную миссию! Не отказывайтесь от нее!
И теперь я готов помочь Вам в исполнении Вашей миссии не только советом, но и делом, — я предлагаю Вам денежную помощь. Не отвергайте ее — она довольно значительна и предназначена не лично Вам, но осуществлению одной из самых сокровенных моих надежд. Сейчас я богаче, чем когда бы то ни было. В моем распоряжении примерно сто пятьдесят миллионов долларов наличными, и я почти окончательно решил пожертвовать все свое состояние, за исключением того немногого, что нужно мне самому, на выполнение своих планов. Из этой суммы я дам Вам столько, сколько потребуется. Не пренебрегайте моим предложением, Альбер, умоляю Вас! Не думайте, что я собираюсь посягнуть на Вашу независимость. Если Вы отвергнете мою помощь, Вам придется обращаться за поддержкой к другим. Полностью свободным и независимым Вам не стать никогда.
Через несколько недель я отправляюсь в Европу. Я еще не оставил надежды вновь увидеть Мерседес.
Итак, давайте будем братьями и объединим наши усилия для совместных действий! Свой ответ адресуйте, пожалуйста, аббату Лагиде или герцогу***.
Эдмон Дантес».
IX. ГРАФ РОСКОВИЧ
В один из дней, которые в Новом Орлеане называют прекрасными — европейцу они показались бы невыносимо жаркими и душными, — по дамбе, защищающей город от вод Миссисипи, прохаживался неизвестный господин. В гавани кипела жизнь, присущая любому портовому городу. На якоре стояли крупные и мелкие суда под флагами разных стран, повсюду слонялись матросы, в толпе сновали торговцы, предлагая фрукты и прочий незамысловатый товар.
Хотя в толчее, которую преодолевал неизвестный господин, попадались самые разнообразные и чрезвычайно колоритные фигуры, он неизменно привлекал к себе внимание. В то время как все окружающие были облачены в легчайшие летние наряды, он был одет почти по-зимнему. Внешне он выглядел довольно невзрачно. В его лице отсутствовал даже малейший намек на привлекательность. Впалые щеки заросли бородой, которая, казалось, не знала бритвы, но, несмотря на это, никогда не отрастала больше чем на дюйм. Глубоко сидящие глаза серовато-зеленого оттенка не отличались выразительностью. Волосы, рыжеватые, как и борода, были коротко острижены. На шее болтался больших размеров галстук. Обладатель весьма изящного, несмотря ни на что, костюма был, вероятно, состоятельным человеком и, к тому же, кичился своим богатством. Помимо массивной золотой цепочки его жилет украшало множество брелоков, а пальцы были унизаны перстнями. Агенты различных торговых домов, получавшие или отправлявшие грузы, временами прекращали свое занятие и с насмешливым удивлением поглядывали на незнакомца.
— Что это еще за чучело? — спросил один из них своего коллегу.
— Русский! — ответил тот. — У него кредитное письмо на имя банка «Братья Натан». Я уже как-то видел его там, и служащие мне все рассказали.
А русский продолжал свою прогулку вдоль дамбы. Тем временем какое-то большое торговое судно уже снялось с якоря и на всех парусах покидало Новый Орлеан, открыв взорам тех, кто находился в порту, паровую яхту, стоящую на якоре среди прочих судов. С первого взгляда становилось ясно, что это частное судно: оно отличалось чистотой и изяществом линий.
— Кто владелец этой яхты? — поинтересовался странный русский у первого попавшегося матроса.
— Не знаю, сэр, — услышал он в ответ. — Какой-то иностранец.
Тот же вопрос русский задал еще нескольким матросам, но неизменно получал столь же краткий ответ. Видимо, паровая яхта возбуждала его любопытство. Не узнав ничего определенного в порту, незнакомец направился в находившуюся неподалеку контору. Она принадлежала братьям Натан, которые, подобно большинству банкирских домов Америки, не только занимались операциями по обмену валюты, но и возглавляли торговую фирму, а потому держали вблизи порта собственную контору.
Клеркам, вероятно, уже был знаком этот странный русский, потому что они приветствовали его с тем подобострастием, какое всегда проявляют скромные служащие по отношению к состоятельным клиентам.
Как все российские путешественники, он великолепно говорил по-французски. Судя по произношению, его вполне можно было принять за чистокровного француза.
— Скажите, кому принадлежит эта замечательная яхта? Ее как раз хорошо видно из этого окна.
— Не имею представления, господин граф! — ответил первый клерк. — Похоже, судно из Нью-Йорка. А владелец, возможно, англичанин. Да, флаг на яхте английский.
— Господину графу угодно знать, кто хозяин этой паровой яхты? — вмешался клерк постарше, недавно вернувшийся из главной конторы братьев Натан на улице Святого Чарлза. — Я рад услужить вам. Яхта принадлежит лорду Хоупу.
— Лорду Хоупу? — переспросил удивленный граф. — Не мог ли я уже слышать это имя?
— Лорд прибыл из Калифорнии, где у него земельные владения, — продолжал второй клерк.
— Ах, вот оно что! Нет, в таком случае я, пожалуй, не знаю его, — заметил граф и, повернувшись к окну, сделал вид, будто любуется красавицей яхтой. — Великолепное судно! — подытожил он свои впечатления. — Так вы сказали, у него владения в Калифорнии?
— Именно так, господин граф. Впрочем, он возвращается в Европу и пробудет здесь всего несколько дней. Его кредитные письма выписаны на наш банк. Поэтому я и знаю лорда.
— Благодарю вас! Прощайте!
С этими словами граф поспешил покинуть контору.
Первым делом он направился в «Гостиницу Святого Чарлза», разместившуюся на улице того же названия. Там он потребовал счет, рассчитал нанятого на время слугу и упаковал некоторые из своих вещей в специально припасенную для этого парусину. Затем забрал из шкатулки все ценные бумаги и вышел на улицу.
Контора братьев Натан по обмену векселей находилась неподалеку. Граф направился туда и потребовал встречи с управляющим.
Мистер Натан, немолодой дружелюбный человек с приятным, выразительным лицом, весьма мало напоминающий коммерсанта, казался немного смущенным.
— У меня к вам просьба, мистер Натан! — обратился к нему граф.
— О, это вы, граф Роскович! Пожалуйста, чем могу служить?
— Я намерен вернуться во Францию, — объяснил Роскович, — но прежде, чем попасть в Париж, собираюсь совершить путешествие по Италии и Южной Франции. Между тем все мои векселя выписаны на английские банки. Окажите мне услугу: выдайте как можно больше векселей на французские банки. Еще лучше, если бы я мог получить у вас некоторое количество французских банкнотов. Вы в состоянии выполнить мою просьбу?
— Можете не сомневаться! — ответил мистер Натан и вызвал бухгалтера.
Все дело было улажено за каких-нибудь четверть часа. Взамен английских векселей граф Роскович получил французские, а всю наличность, оказавшуюся в тот момент в кассе, — в французских банкнотах. Вполне удовлетворенный, он простился, с банкиром.
— Кстати, мистер Натан, — обернувшись уже на пороге, снова сказал Роскович, — нет ли у вас здесь, в Новом Орлеане, на примете искусного врача?
— Разумеется, есть! — ответил Натан. — Но позвольте узнать, что с вами?
— Нервы немного не в порядке, — ответил граф, — а я знаю свою натуру. Мне предстоит морское путешествие — хотелось бы, знаете, избежать возможных приступов. Так что если вы порекомендуете мне хорошего врача…
— Пожалуйста: доктор Томсон, совсем близко отсюда. Нужно миновать по нашей улице всего четыре дома. Он великолепный врач!
Окончательно распрощавшись с мистером Натаном, граф отправился к доктору Томсону, но не застал его дома. Граф решил подождать, и спустя четверть часа врач появился.
— Я хотел бы поговорить с вами по весьма необычному делу, доктор. Оно, безусловно, должно остаться между нами, — начал граф. — Видите ли, я собираюсь отправиться в Рио-де-Жанейро, чтобы вступить в брак с молодой, очаровательной и очень состоятельной девушкой. По крайней мере именно такой мне ее описывали, поскольку сам я ни разу ее не видел. Нужно вам сказать, что эта женитьба сделает меня несчастным. Мы оба с детства назначены в супруги нашими родителями. Однако на родине, в Петербурге, я влюблен в молодую даму, с которой не намерен расставаться ни при каких условиях. Я лучше умру, чем дам согласие на этот брак. Так что мне остается единственная возможность избежать женитьбы на девице из Рио-де-Жанейро: если она сама отвергнет меня. Но на это у меня сейчас нет почти никаких надежд. Я прекрасно сознаю, что не отличаюсь красотой и, не считая видной фигуры, не обладаю ничем, что могло бы прельстить молодую девушку. Впрочем, меня нельзя назвать и уродом, а раз уж ее с пеленок приучили к мысли, что я ее будущий супруг, она, чего доброго, еще даст свое согласие. И все же она никак не может стать моей женой! Это совершенно невозможно! Поэтому я подумал о последнем, отчаянном средстве. Вы, доктор, должны сделать меня безобразным, омерзительным. Разве не существует снадобий, способных вызывать на коже сыпь?
— Отчего же, иногда такими снадобьями лечат детей, — заметил доктор Томсон.
— В таком случае повышенная доза вызовет тот же эффект и у взрослого?
— Верно, только это небезопасно.
— А в чем состоит опасность?
— Опасность в том, что весь организм претерпевает серьезные изменения, а их последствия непредсказуемы. Дело может дойти и до заболевания крови. Употребляя подобное средство, нужно быть чрезвычайно осторожным.
— Что ж, я буду осторожен, — заверил Роскович. — И еще одно, доктор! Я думаю, что от такой искусственно вызванной сыпи можно избавиться с помощью других снадобий!
— Вы не ошиблись, — согласился врач. — После того как лечение достигает своей цели и сыпь помогает изгнать из детского организма дурные соки, мы избавляем от нее больного.
— Хорошо! Так пропишите мне оба средства: то, что вызывает сыпь, и то, что избавляет от нее. И последнее, доктор! Мне хотелось бы, чтобы сыпь высыпала в основном на лице: ведь это естественно в моих обстоятельствах!
— Господин граф, — серьезно заявил врач, — не относитесь к этому так легкомысленно. Дело может принять опасный оборот. Я, во всяком случае, не хотел бы брать на себя ответственность за подобные эксперименты.
— Разумеется, об этом не может быть и речи! — вскричал Роскович. — Я все беру на себя! Ведь я просил вас молчать об этом деле и сам буду держать язык за зубами. Даю вам честное слово, что употреблю ваши снадобья исключительно для собственной персоны. Решайтесь, доктор! Как только получу рецепты, я немедленно вручаю вам тысячу долларов. Одно снадобье я велю заказать у одного аптекаря, другое — у другого. Вот деньги, доктор, — выписывайте рецепты!
— Как вам будет угодно, но я снимаю с себя ответственность и прошу вас быть осторожным, — сдался доктор Томсон, поглядывая на две пятисотдолларовые бумажки, которые граф положил на стол. — Вот, возьмите рецепты. Того из снадобий, что изготовят по первому рецепту, больше десяти капель принимать нельзя, иначе можно умереть. А если хотите, чтобы сыпь появилась в основном на лице, сильно разотрите его, пока не наступит прилив крови, или воспользуйтесь прежде шпанской мушкой.
— Так и сделаю, будьте уверены! — сказал Роскович, пряча рецепты. — Прощайте, доктор! Еще раз прошу вас хранить молчание. Я уеду сегодня же.
На этом граф откланялся и пошел в гостиницу. Шагал он теперь легко, пружинисто. Казалось, его обуревает радостное чувство и он вполне доволен собой.
В гостинице Роскович уплатил по счету и объяснил, что без промедления уезжает пароходом в Мехико. Затем он отослал на судно свой багаж, велел купить себе билет и покинул гостиницу, захватив с собой лишь небольшой, заранее приготовленный сверток.
С первым рецептом Роскович заглянул в ближайшую аптеку. Оказалось, что ждать лекарства придется около часа. Тогда он отправился в следующую и подал аптекарю второй рецепт. Узнав, что приготовление второго лекарства займет примерно столько же времени, граф, чтобы как-то скоротать его, принялся бродить по улицам, тщательно избегая порта и особенно людных мест, где ему могли повстречаться знакомые.
Забрав готовые снадобья, он остановил на улице какого-то мальчугана и вручил ему записку, наказав отнести ее на пароход перед самым отплытием. В записке он уведомлял капитана, что пока не может занять свое место на судне, однако просит присмотреть за своим багажом, который заберет в Мехико, прибыв туда ближайшим пароходом.
— Так! — прошептал граф. — Теперь ни одна живая душа не знает, что я в Новом Орлеане. Граф Роскович уехал в Мехико.
X. ЛОРД ХОУП В НОВОМ ОРЛЕАНЕ
Одновременно с графом Росковичем порт покинул другой господин, направившийся в город.
Идти ему пришлось долго. Он миновал центральную, наиболее оживленную часть Нового Орлеана и очутился на окраине с тесными улочками и неказистыми домишками. Перед одним из них он остановился, некоторое время внимательно разглядывал его и наконец решил войти.
В прихожей посетителя встретила владелица домика, хорошо сохранившаяся пожилая женщина.
— Скажите, не здесь ли живет молодая француженка, что приехала в Новый Орлеан с юношей по имени Вольфрам?
— Именно здесь, сэр, — сдержанно ответила хозяйка. — Что вам угодно?
— Передайте этой девушке, что с ней хочет поговорить человек, с которым она некогда беседовала в Калифорнии.
Хозяйка на мгновение исчезла и тут же появилась вновь.
— Можете войти, сэр, мисс Амелия занимает эту комнату.
Лорд Хоуп — это был именно он — оказался в небольшой светлой комнатке, бедно, почти убого обставленной. Посередине комнаты виднелась хрупкая женская фигурка.
— Мадемуазель, — начал лорд, — я осмелился разыскать вас.
— Благодарю, милорд, — ответила Амелия. — Мало кому придет охота навещать нас в подобном положении. Я ценю ваше великодушие. Садитесь, прошу вас!
— Мадемуазель, — продолжал лорд Хоуп, — мне сказали, ваша с Вольфрамом судьба сложилась не лучшим образом. Вам довелось бороться с лишениями, даже с нуждой.
— Если называть нуждой нехватку самого необходимого — пожалуй, да! — ответила Амелия с таким спокойствием, какое можно было объяснить только полнейшим безразличием и отчаянием.
— Надеюсь, единственное, в чем вы не испытываете недостатка, так это в любви Вольфрама? — спросил лорд.
— Это действительно так, милорд. Однако его любовь не приносит мне утешения, ибо я вижу, как бесконечно он страдает, и понимаю, что ему было бы, наверное, легче, если бы не приходилось заботиться еще и обо мне.
— Вы слишком мрачно смотрите на жизнь! — попытался утешить девушку лорд Хоуп. — Все — дело случая. Малейшая случайность способна резко изменить вашу жизнь. Возможно, мне удастся что-то сделать для вас. Разве само мое присутствие здесь не кажется вам добрым знаком?
— Нет, милорд, не кажется. Да и какие на то причины?
— Как же, ведь в моих силах помочь Вольфраму! — заметил лорд.
— Сомневаюсь, что он примет помощь!
— Однако я не теряю надежды. Посмотрим! Ваша судьба должна решиться со дня на день. Я вижу, что дальше так продолжаться не может. Я поговорю с Вольфрамом. Прощайте! Когда мы увидимся в следующий раз — а я думаю, что встреча не заставит себя ждать, — у вас не будет столь мрачных мыслей.
С этими словами лорд покинул Амелию. Пока он добирался до улицы Святого Чарлза, его лицо выглядело хмурым, почти угрюмым. Подойдя к зданию, принадлежащему фирме «Братья Натан», он не вошел в контору, а, толкнув массивную дверь, сразу поднялся в квартиру мистера Натана.
— Добро пожаловать, милорд! — вскричал хозяин, спеша ему навстречу. — Как вы кстати! С тех пор как из вашего письма я узнал, что вы прибыли в Новый Орлеан, я с нетерпением жду вашего прихода! Однако у вас такой озабоченный вид!
Лорд молча пожал ему руку и опустился в предложенное кресло.
— Да, мистер Натан, озабоченный! — сказал он. — Для этого есть причины. Я только что от Амелии!
— От Амелии? Я так и предполагал. И вы, конечно же, застали ее в отчаянии!
— В отчаянии? Нет! — ответил лорд. — В состоянии безмерной усталости от жизни, в состоянии такого полнейшего равнодушия, что мне самому стало почти страшно, что с ними будет!
— Я так и думал! — воскликнул Натан. — Да, милорд, вы зашли слишком далеко! Но с себя я всякую ответственность снимаю! Моей вины в том нет!
— Я знаю, мистер Натан, и благодарю вас за все, — сказал лорд. — Впрочем, все будет хорошо. Нужно только вновь вселить надежду в сердца молодых людей, и они начнут жить и чувствовать как прежде.
— Так торопитесь же дать им эту надежду! — вскричал мистер Натан. — У меня просто сердце разрывается, когда я вижу Вольфрама на стройке. Я постоянно опасаюсь какого-нибудь несчастья!
— Теперь опасность позади, — заметил лорд. — Сознаюсь, однако, что испытание слишком затянулось. Я хотел бы немедленно видеть Вольфрама. Попросите позвать его — пора решать с этим делом.
— Слава Богу! — обрадовался Натан. — Я сам позову его. А вы, милорд, ознакомьтесь пока с письмами, которые я получил для вас.
Он поспешил покинуть комнату, а лорд принялся просматривать переданные банкиром письма, адресованные фирме «Братья Натан». Одно было от аббата Лагиде, два — от герцога***. Оба автора занимались проверкой слухов о смерти Морреля и приняли все меры, чтобы выяснить его местонахождение. В письмах упоминалось имя Рабласи, и герцог был на верном пути, хотя и не знал всей правды.
Аббат же писал следующее:
«Наконец нам удалось обнаружить Морреля. Под фамилией Рабласи его держат в психиатрической лечебнице, и он — увы! — потерял рассудок. Это факт, граф, и я умоляю Вас приехать к нам и помочь поправить дела, которые приняли столь печальный оборот. Не теряйте времени!»
— Моррель сошел с ума! — до неузнаваемости изменившимся голосом произнес лорд. — Такого я никак не ожидал! Господи, дай мне силы!
Из этого состояния его вывел звук открывшейся двери. Он поднялся с кресла и мгновенно взял себя в руки, спокойно и сосредоточенно глядя на вошедших.
Это были мистер Натан и Вольфрам. Молодой человек явился прямо в рабочей одежде, покрытый грязью. Он сразу узнал лорда и небрежно, с безразличным видом кивнул ему в знак приветствия. Потом, похоже, в нем проснулись прежние воспоминания, и он нахмурился.
— Нам уже доводилось встречаться, мистер Вольфрам, не правда ли? — заметил лорд, не обращая никакого внимания на мрачное выражение лица юноши.
— У меня нет ни малейшего желания вспоминать об этом, — дерзко ответил Вольфрам.
— Резонно, — сказал лорд. — Между тем, спокойно все обдумав, вы согласитесь, что зашли тогда слишком далеко и я поступил правильно. Сейчас я от всей души предлагаю вам руку в знак примирения и хотел бы что-то сделать для вас. Вы заслуживаете совершенно иной участи, нежели теперешнее ваше занятие. Мне предстоит также выполнить некоторые обязательства, касающиеся вас. Ваша фамилия Бюхтинг, не так ли?
Вольфрам с удивлением взглянул на лорда, но не проронил ни слова.
— Ну, в том, что вы — Вольфрам Бюхтинг, я совершенно уверен, — продолжал лорд. — Я знал вашего отца — он скончался у меня на глазах — и обязан вручить вам то, что он вам завещал.
— Прежде я должен быть уверен, что вы действительно делаете это от имени моего отца, — возразил Вольфрам. — А если это и так, мне хотелось бы получить завещанное через кого-нибудь другого!
— Вы не в силах забыть обиду, — невозмутимо ответил лорд. — Но меня это не смущает. То, что я говорил с вашим отцом, не подлежит никакому сомнению. Иначе откуда бы я узнал вашу фамилию? Вы и Вольфрам Бюхтинг — одно и то же лицо: достаточно взглянуть на кольцо, подаренное вами мормону Бертуа, чтобы убедиться в этом.
— Допустим. И что же завещал мне отец?
— Я наткнулся на него в пустыне, когда он уже умирал, — заметил лорд. — Он поведал мне историю своей жизни и просил, если я найду возможность, передать все, что окажется при нем, его детям. Отыскать вашу сестру мне не удалось, да и с вами я, как вы помните, познакомился Совершенно случайно. У вашего отца я обнаружил десять тысяч долларов. Готов вручить вам эту сумму. Позаботьтесь, чтобы ваша сестра получила причитающуюся ей долю.
Лорд вытащил бумажник и положил банкноты на стол.
— Милорд, — сказал Вольфрам, по-прежнему мрачно глядя на него, — из последних писем отца было ясно: рассчитывать на приличное наследство нам не приходится. Вероятно, вы, милорд, по каким-то неведомым причинам решили помочь мне. Однако никакой дружбы между нами быть не может, и менее всего я хочу быть обязанным именно вам!
— Но вы мне уже обязаны, — заметил лорд. — Я и тот мистер Стенли, который направил вас сюда, в Новый Орлеан, — один и тот же человек.
— Как? — вздрогнув, воскликнул Вольфрам. — Вы — мистер Стенли? Это неправда!
— Отчего же! Я превосходно владею искусством перевоплощения, — возразил лорд. — Мистер Натан может подтвердить.
— Верно! — с готовностью сказал банкир. — Лорд Хоуп и был тем мистером Стенли.
— В таком случае, милорд, я проклинаю вас! — в гневе вскричал Вольфрам. — Я проклинаю вас, как проклял того мистера Стенли, ибо он виновник всех наших несчастий. Именно мистер Стенли спас нам жизнь в пустыне и помог выбраться из нее, но за это я не чувствую к нему никакой благодарности! Лучше бы мы погибли от голода, чем испытывать здесь муки, которые в тысячу раз страшнее голодной смерти! Именно мистер Стенли направил меня сюда! И за это я должен быть ему благодарен? А как меня тут приняли! Какие страдания выпали на мою долю! Так вот, милорд, если вы и есть тот мистер Стенли, я швырну вам последние несколько долларов, что у меня остались, и стану трудиться день и ночь, чтобы вернуть вам все ваши деньги! От вас мне не нужно ни цента! На ваших деньгах, на ваших советах — печать проклятия!
С этими словами он повернулся и направился к двери.
— Постойте, — крикнул лорд, — выслушайте меня! Вы торопитесь навстречу собственным несчастьям! Я собирался рассказать вам все!
Он схватил молодого человека за руку, намереваясь задержать его.
— С меня довольно и того, что я услышал! — вскричал Вольфрам. — Отпустите меня, иначе…
Он высвободился, рванул дверь и с силой захлопнул ее за собой.
Лорд стоял на прежнем месте и глядел вслед Вольфраму. Губы его были плотно сжаты, лицо непроницаемо.
— Будем продолжать, — сказал он банкиру. — Останавливаться на этом мы не имеем права. Он должен испытать все сполна. Этот человек наделен такой стойкостью и самостоятельностью, что способен горы своротить. Пойдем следом за ним. Надеюсь, мне удастся все растолковать ему. Он поймет меня. А если этого не произойдет, придется помогать ему и Амелии как-то иначе.
— Так не будем терять время! — воскликнул Натан. — У меня очень неспокойно на душе. От такого человека можно ждать чего угодно. До сих пор его поддерживала любовь к Амелии. Но это отчаяние… это отчаяние…
Когда они вышли на улицу, было уже довольно поздно. Повсюду царило настоящее столпотворение, и им стоило немалого труда быстро продвигаться вперед. Тем не менее вскоре они добрались до дамбы и направились туда, где велись строительные работы.
Наши герои были не единственными, кто спешил в том же направлении: их обгоняли матросы, ремесленники, негры, клерки — словом, все, кто оказался в этот час в порту.
— Что там случилось? — спрашивали любопытные, присоединяясь к спешащим. — Кто это стрелял?
— Мастер, — отвечали им. — Он уложил какого-то рабочего.
Мистер Натан побледнел. Он взглянул на лорда, но не осмелился произнести ни слова. Они опять ускорили шаги и теперь почти бежали, так что намного обогнали остальных. Они увидели плотную толпу, собравшуюся поглазеть на убитого.
Пробиться через толпу стоило огромных трудов, но лорд и мистер Натан взялись за руки и совместными усилиями преодолели это препятствие. Толпа вокруг гудела, словно пчелиный рой, но никто, казалось, и не знал, как было дело. Да лорд и не задавал вопросов.
На тачке, прямо перед ними, неподвижно лежал человек. Одежда его была залита кровью.
— Это он! Это Вольфрам! — одновременно вырвалось у обоих.
Около Вольфрама стояли несколько мастеров и портовых служащих. Один из мастеров еще сжимал в руке пистолет.
— О, вот и мистер Натан, — сказал он. — Так вот, мистер Натан частенько предостерегал меня от этого парня и советовал приглядывать именно за ним.
— Совершенно верно! — дрожащим голосом промолвил банкир. — Но как это случилось?
— Очень просто, мы повздорили, — хладнокровно ответил стрелявший. — Но виноват этот Вольфрам. Я был в городе, а когда вернулся — услышал, что какой-то джентльмен увел Вольфрама со стройки. Ну, и разозлился, ведь я строго-настрого приказал парню работать как следует. Спрашиваю, кто разрешил ему уйти, а он в ответ так нагло заявляет: «Никто!» Тут я вышел из себя и слегка стукнул его стеком. Он замахнулся на меня лопатой. По его физиономии было видно, что удар будет серьезный — чего доброго, еще раскроит мне череп. Я выхватил из кармана пистолет и уложил его.
— Ведь я сам приходил за ним! Просто второпях забыл получить на него разрешение! — промолвил вконец расстроенный банкир.
— Жаль, мистер Натан, — сокрушался мастер. — Но теперь уже ничего не исправишь.
Тем временем лорд Хоуп расстегнул на Вольфраме куртку, задрал рубашку и осмотрел рану.
— Принесите воды и бинтов! — потребовал он непререкаемым тоном. — Возможно, беднягу еще удастся спасти. Мистер Натан, распорядитесь, чтобы этого человека предоставили нашим заботам, и примите все меры, чтобы Амелия ничего не знала, пока мы не будем уверены, что он останется в живых! Скорее воды и бинтов! — повторил он, обращаясь к толпившимся вокруг людям.
Воду уже успели принести. Не обращая ни малейшего внимания на все происходящее, лорд промыл рану и впился глазами в лицо Вольфрама.
— Он еще жив! — вскричал Хоуп. — Натан, быстрее достаньте носилки! Скорее, скорее! Боже мой! Если этот человек погибнет, его убийца — я!
Натан бросился на поиски носилок. Лорд и Вольфрам были по-прежнему окружены зеваками, которым не терпелось узнать, скончался юноша или просто потерял сознание. Однако интерес к происшествию постепенно угасал: убедившись, что глазеть больше не на что, самые нетерпеливые из зевак стали расходиться, и вскоре от большой толпы осталось не больше половины. Устав, вероятно, ждать, чем кончится дело, разбрелись и портовые служащие.
Все это время лорд без устали хлопотал вокруг раненого. Так и не дождавшись бинтов, он разорвал свой носовой платок и попытался соорудить что-то вроде повязки.
Наконец появились люди с носилками, присланные мистером Натаном. Они указали лорду дом недалеко от порта, куда можно было перенести Вольфрама. Лорд помог уложить раненого на носилки и пошел за ними.
Когда юношу переложили на кровать, лорд послал за самыми известными в городе хирургами и в ожидании их сидел возле Вольфрама, который все еще не подавал признаков жизни. Дверь тихо отворилась, и в комнату на цыпочках вошел мистер Натан.
— Вы распорядились сообщить Амелии, что сегодня Вольфрам домой не вернется? — шепотом спросил лорд. — Она ни в коем случае не должна знать правду.
— Я велел ей передать, что эти несколько дней нам потребуются его услуги и поэтому мы вынуждены на время разлучить их, — ответил банкир. — Хозяйка обещала никого к ней не пускать. А что вы сами думаете о состоянии Вольфрама?
— Не знаю, что и сказать, — ответил лорд, опустив глаза. — Состояние тяжелое, чрезвычайно тяжелое! Но он не умрет, нет! Бог не может покарать меня так жестоко! Не откажите в любезности, мистер Натан, распорядитесь передать на мою яхту записку. Надо сообщить Гайде, что я останусь здесь на ночь. Ночью все решится! Но он не умрет, нет, нет!
Банкир поспешил исполнить просьбу друга. Пока он отсутствовал, стали собираться врачи, осмотрели пациента и устроили консилиум.
Однако прийти к единому мнению ученым мужам не удалось. Кое-кто утверждал, что Вольфрам, уже мертв или на грани смерти, другие считали чудом, что он не умер мгновенно. И только один полагал, что раненого можно спасти. Пуля повредила большую вену, заметил он, но известны случаи, когда она вновь восстанавливалась, что и позволяло при тщательном уходе сохранять раненым жизнь.
Скрывая волнение, лорд выслушал каждого и попросил последнего врача остаться.
— Сэр, — сказал он, — спасите этого молодого человека, и вы получите десять тысяч долларов!
— Я сделаю все возможное, но не подумайте, что только ради денег! — ответил хирург.
Он попросил принести инструменты, освободил раненого от одежды и самым тщательным образом обследовал его, уделяя особое внимание ране. Во время осмотра, который проводился с применением зонда, у Вольфрама иногда вырывался стон и по его телу пробегала дрожь. Врач посчитал это добрым знаком. Он убедился, что внутреннего кровотечения у раненого нет. Тем не менее лорду он никаких гарантий дать не смог.
— Итак, сэр, — подытожил лорд, — мои возможности вам теперь известны. Я рассчитываю, что вы ни на минуту не оставите этого молодого человека. Откажите на время другим пациентам. Я доверю его вашим заботам лишь при условии, что вы будете неотлучно находиться подле него. Если он умрет, вашей вины в этом не будет: Если останется в живых — ваше будущее обеспечено, даю вам слово.
На следующее утро врач заявил, что надеется на выздоровление своего подопечного. Вскоре явился мистер Натан. Лорд поднялся и вместе с банкиром перешел в соседнюю комнату.
— Я только что от Амелии, — сказал Натан. — По счастью, никаких слухов до нее пока не дошло, и она совершенно не обеспокоена отсутствием Вольфрама, ибо уверена, что он у нас.
— Хорошо, пока он находится между жизнью и смертью, поддерживайте у нее такую уверенность, — распорядился лорд. — Эту тяжелую миссию мне придется снова возложить на вас, дорогой Натан, поскольку иного выхода у меня нет. Сегодня в четыре часа пополудни мне придется покинуть Новый Орлеан. События, которые волнуют меня не меньше, чем судьба этого молодого человека, призывают меня в Европу. Если Вольфраму суждено умереть, Амелия никогда не должна узнать об этом. Пусть лучше думает, что он покинул ее, пустившись на поиски лучшей жизни, и надеется на его возвращение. Если же он выживет — а я уповаю здесь на милость Провидения! — сделайте все возможное, чтобы быстрее поставить его на ноги.
— Сделаю все, что в моих силах, милорд! — пообещал мистер Натан, пожимая протянутую лордом руку.
В условленное время лорд и мистер Натан были уже в порту, на дамбе. У подножия лестницы лорда ожидала лодка.
Он сердечно распрощался с банкиром и уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, собираясь спуститься к воде, но в ту же минуту перед ним возник какой-то неизвестный с отвратительной физиономией, сплошь покрытой сыпью, как при проказе.
— Сжальтесь надо мной, сударь! — пробормотал прокаженный.
Изведавший все превратности бытия, привыкший невозмутимо взирать на блеск и величие, на безобразие и порок, лорд, однако, невольно отшатнулся от несчастного, в лице которого не было ничего человеческого.
— Что тебе надо? — с содроганием спросил он. — Дай мне пройти!
— Ах, сударь, умоляю вас ранами Христовыми, выслушайте меня! — вскричал прокаженный. — Уже несколько месяцев я мыкаюсь здесь, в Новом Орлеане, и никому нет до меня никакого дела, потому что я иностранец, француз! Я знаю, что умру, и хочу умереть на родине, но никто не берет меня на борт, даже за деньги. Сударь, если вы отплываете во Францию, приютите меня на своем судне, чтобы я мог увидеть еще разок свою Францию и умереть. Ах, сударь, вы, верно, добры и благородны, как никто другой! Но ведь и вы совершили в своей жизни что-то такое, за что молите небо о прощении! Если вы сжалитесь надо мной, Бог дарует вам прощение!
— Это правда! — прошептал лорд. Похоже, что мысль, высказанная несчастным, захватила его целиком. — Хорошо, я исполню твою просьбу. Спускайся со мной в лодку, по пути во Францию я попытаюсь вылечить тебя.
— Благодарю, благодарю вас, сударь! — униженно забормотал прокаженный, пытаясь припасть к ногам лорда.
— Оставь это! — прервал его лорд и спустился в лодку.
Несчастный последовал за ним.
Через несколько минут лодка причалила к паровой яхте. Лорд дал указание управляющему отвести прокаженного в лазарет, а сам заперся в каюте.
Вскоре из трубы повалил дым, и яхта лорда Хоупа покинула Новый Орлеан.
XI. ВИЛЬФОР
Паровая яхта лорда стояла на якоре в гавани Кадикса. Лучи жаркого испанского солнца заливали палубу. Всюду царили привычная тишина и спокойствие. Лорда на борту не было, у него нашлись какие-то дела на берегу.
Мнимый прокаженный (в котором внимательный читатель, несомненно, узнал Бенедетто, сменившего личину графа д’Эрнонвиля на личину графа Росковича) расположился на палубе, недалеко от трубы. Именно там ему отвели место, чтобы в погожие дни он мог погреться на солнце, что он нередко и делал.
Безобразная сыпь, покрывшая его лицо и тело после того, как он начал принимать снадобье доктора Томсона, ничуть не уменьшилась и не побледнела. Напрасно лорд давал ему лучшие средства, обычно избавлявшие от проказы, — никаких признаков отступления болезни не наблюдалось. Назначенное лордом лечение и не могло дать ожидаемых результатов, ибо пациент, по понятным читателю причинам, уклонялся от него. Не в силах даже представить себе столь чудовищного обмана, лорд регулярно посылал больному лекарства, которые тот, открыв в лазарете небольшой иллюминатор, так же регулярно отправлял за борт.
Путешествие продолжалось недолго. День и ночь небольшая, но превосходная судовая машина трудилась на полную мощность, и яхта без труда преодолевала налетавший временами встречный ветер. В Кадиксе предстояло пополнить запасы угля.
Как ни стремился Роскович разузнать, что́ происходит на борту яхты, его наблюдения не дали особых результатов. Вначале, пока погода была ненастная, ему не разрешали покидать лазарет, а теперь, с наступлением ясных, теплых дней, позволили находиться на палубе, но он не заметил никого, кроме кочегара, штурмана, двух матросов и управляющего Бертуччо. Самого лорда он видел чрезвычайно редко. Каюта, которую занимал владелец яхты, всегда была заперта, а иллюминаторы плотно закрыты занавесками.
Сейчас прокаженный лежал, закрыв глаза, подставив солнцу свое отвратительное лицо. Вдруг до его слуха донеслись какие-то жалобные звуки, напоминавшие детский плач. Сперва он вскочил, но тотчас, опомнившись, медленно повернулся и украдкой посмотрел в направлении каюты лорда.
Там, на узкой площадке перед каютой, он увидел закутанную женскую фигурку с ребенком на руках. Малыш раскапризничался, и женщина ходила взад и вперед, укачивая плачущее дитя. Ее причудливая одежда чем-то напоминала наряд восточных женщин. От острого глаза Росковича не ускользнуло и то, что занавеска на одном из иллюминаторов была немного отодвинута, открывая взору прелестное женское лицо. Лучась счастьем и радостью, незнакомка не спускала глаз с той, что нежно убаюкивала малютку.
В это время из машинного отделения поднялся кочегар поболтать с матросами, занятыми погрузкой угля у противоположного борта яхты. Когда он не спеша возвращался назад, Роскович попытался заговорить с ним.
— Я и не знал, что на судне женщины! — заметил он.
Кочегар остановился, но в сторону прокаженного не взглянул — видимо, не мог преодолеть отвращение.
— Это камеристка миледи, — буркнул он, — с маленьким лордом.
Едва кочегар скрылся в своих владениях, Роскович вновь уставился на женщину с ребенком. Так это камеристка, служанка. Значит, другая, выглядывающая из-за занавески, — жена милорда. Как она хороша, черт возьми! Никогда он не встречал таких красавиц!
— У него сын! — едва слышно пробормотал прокаженный. — Разумеется, он в нем души не чает!
Роскович вернулся в лазарет, отведенный ему под жилье. Лазарет размещался в носовой части судна и занимал, пожалуй, одно из самых удобных помещений на яхте.
Вскоре он заметил, что судно снялось с якоря, машина пришла в движение; и через некоторое время Кадикс скрылся за горизонтом — яхта лорда Хоупа вышла в открытое море.
— У него сын! — шепотом повторил прокаженный. — У него красавица жена! Хотел бы я знать, куда мы направляемся! Надеюсь, не в Марсель! Это было бы совсем ни к чему!
Здесь его размышления были прерваны непонятными звуками, доносившимися из соседнего помещения. Росковичу и раньше приходилось слышать эти звуки, и они неизменно разжигали его любопытство. Но они всегда были столь невнятны, что разобрать ничего не удавалось. Временами эти звуки чередовались с другими, более высокими, — ему казалось, он узнает голос лорда. Но что тот говорил — понять было невозможно. Несмотря на все ухищрения, прокаженный никак не мог разузнать, кто же находится в соседнем помещении. Расспрашивать ему не хотелось, потому что команда сторонилась его.
Скука уже не раз побуждала Росковича удовлетворить свое любопытство. Но именно сегодня у него впервые возникло подозрение, которое окончательно лишило его покоя. Он внимательнейшим образом обследовал переборку, отделявшую лазарет от смежного помещения. Оказалось, она изготовлена из двух слоев досок, пригнанных одна к другой с особой тщательностью. Этим и объяснялся эффект поглощения звука, мешавший Росковичу разобрать хоть одно слово из того, что говорилось за этой переборкой, сделанной без малейшего изъяна.
И все же острый глаз прокаженного обнаружил в ней что-то похожее на дверь, однако замаскирована она была столь умело, что лишь долгое разглядывание убедило Росковича в справедливости его предположения. На двери не было ни наружного замка, ни ручки, только крошечное отверстие, предназначенное, по всей вероятности, для искусно изготовленного ключа. Открыть потайной замок — а он, несомненно, находился в двери, — не имея подходящих инструментов, очень сложная задача. Но прокаженный не сомневался в успехе. Он запер лазарет изнутри, занавесил иллюминатор, отодвинул койку, преграждавшую путь к таинственной двери, и принялся за дело.
Всякий, кто увидел бы его за этим занятием, с полным основанием мог утверждать, что оно ему не в новинку. Пытаясь добиться своего, Роскович перепробовал самые разные хирургические инструменты, хранившиеся в лазарете. Убедившись, что все усилия напрасны, он прибегнул к последнему средству: ловко орудуя острым узким ножом, вырезал из двери небольшой квадратик древесины именно в том месте, где, по его мнению, скрывался потайной замок. Проделав эту операцию, он и в самом деле обнаружил миниатюрный замок, отпереть который с помощью изогнутого гвоздя не составляло никакого труда.
Открывать дверь он, впрочем, не спешил. Появись он в соседнем помещении, это, чего доброго, возбудило бы подозрения, поэтому он решил поступить иначе — принялся барабанить в дощатую переборку.
Ответа не последовало. Либо в помещении никого не было, либо там находился некто, кого подобный стук не беспокоил, кто безучастен ко всему происходящему. Выждав еще немного, Роскович приоткрыл дверь и заглянул в образовавшуюся щель.
Он увидел довольно темное помещение. Свет проникал через единственный иллюминатор, забранный прочной решеткой да сверх того занавешенный плотной зеленой гардиной. Прокаженный открыл дверь пошире и, просунув голову, огляделся по сторонам. Ничего подозрительного он не заметил. И, окончательно осмелев, распахнул дверь и проник в таинственное помещение.
Оно выглядело гораздо скромнее его собственного обиталища. Все предметы обстановки оказались накрепко прикрепленными к стенам и полу. Кроме того, на стенах были ковры, на полу тоже. Вероятно, чтобы скрыть от постороннего уха все, о чем здесь говорилось.
Роскович бесшумно двинулся дальше и вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. Обернувшись, прокаженный заметил на полу живое существо, человека. Он сидел скорчившись, обхватив руками колени и не сводил с вошедшего такого пристального, жуткого взгляда, что тот невольно отшатнулся. Да и было от чего прийти в замешательство!
Хотя его собственная физиономия и была так обезображена, что никто не мог глядеть на нее без отвращения, лицо, которое он теперь увидел, производило не менее отталкивающее, не менее пугающее впечатление. И причиной были не следы тяжкого недуга, а землистая бледность, жуткий блеск провалившихся, пугающе неподвижных глаз и длинные седые волосы неизвестного, которые беспорядочными прядями спускались с головы, соединяясь с давно не знавшей бритвы щетиной, покрывавшей его щеки и подбородок. Столь же непередаваемым было и выражение его лица, лишенное даже намека на человеческие мысли и чувства, — лица, сохранившего человеческие черты, но утратившего последние остатки разума!
Однако Роскович быстро оправился от испуга. Подгоняемый любопытством, он приблизился к неизвестному.
— Ба, да это и вправду старина де Вильфор! — сказал он вполголоса. — Ну и вид, черт побери! И за это пусть тоже скажет спасибо ему!
Безумец, казалось, не обращал внимания на постороннего. Он не отрываясь смотрел в одну точку. Роскович даже осмелился усесться рядом с ним.
— О чем ты сейчас думаешь, старик?
Против ожидания до старого Вильфора дошел, по-видимому, смысл заданного вопроса.
— Это чудный, чудный ребенок, не правда ли? — ответил он каким-то замогильным — настолько глухо он звучал — голосом.
— Ребенок? О ком ты говоришь? — обратился Роскович к старику.
— О ком? Об Эдуарде! О моем сыне!
— У него был сын, которого звали Эдуардом, — пробормотал себе под нос прокаженный. — Да, да, припоминаю! Вторая жена старика отравила мальчишку и отравилась сама! Где же этот ребенок? — прибавил он громко. — Здесь, с тобой, его нет!
— Эдуард играет в саду, — ответил Вильфор тем таинственным шепотом, который так характерен для потерявших рассудок. — Я не хочу мешать ему. Сперва посмотрю свои документы. Мне предстоит ответственный процесс — процесс против убийцы Бенедетто. Такой процесс принесет мне славу.
— Эти мысли всё не оставляют его в покое, — пробормотал Роскович. — Так ты говоришь, Эдуард в саду? Ты ошибаешься, старик! Эдуард мертв!
— Мертв? Эдуард мертв? — переспросил Вильфор и отрицательно показал головой. — Нет, Элоиза, моя жена, мертва, и Валентина, моя славная доченька, мертва, а Эдуард — жив!
— Тебе изменяет память! — возразил Роскович. — Вспомни-ка, старик, твоя жена отравила своего сына и отравилась сама.
— Отравила! — повторил Вильфор, и голос его задрожал. — Кто ты? Кто тут говорит об отравлении? Я, королевский прокурор, не могу спокойно об этом слышать. Я должен выдвинуть обвинение.
— Что ж, не возражаю! — весело заметил Роскович. — Ты забавляешь меня, старик! А скажи-ка, ты еще помнишь графа Монте-Кристо из Парижа? Ведь ты его знал тогда.
— Монте-Кристо! Хм, мне ли не знать этого имени? — пробормотал Вильфор. — Разве не он был у нас с визитом? Разве не он играл с Эдуардом? Эдуард любил играть с ним!
— Глупец! — вскричал, не сдержавшись, Роскович. — Монте-Кристо — убийца твоего сына!
Однако его слова не произвели на Вильфора ни малейшего впечатления. Казалось, его мысли никак не могут вырваться из заколдованного круга одной-единственной навязчивой идеи. Он невозмутимо покачал головой и опять уставился в одну точку.
— А ты не забыл последнее судебное заседание, где председательствовал? — спросил Роскович. — Помнишь, князь Кавальканти, Бенедетто, признался, что он — твой сын?
— Мой сын? У меня всего один сын — Эдуард! — упрямо твердил Вильфор. — А Бенедетто — это человек, против которого я буду вести процесс. Он отправится на гильотину.
— Старый дурак! Последние дни перед тем, как ему свихнуться, вылетели у него из головы! — злобно прошипел Роскович. — А я-то надеялся, несмотря на его безумие, найти в нем союзника! Рассчитывая, что он избавит меня от лишних забот и сам уберет этого Монте-Кристо! А он, похоже, даже не подозревает, у кого находится! — Тут он снова обратился к Вильфору: — Ты еще помнишь баронессу Данглар, старик?
— Баронессу Данглар? Тише, об этом нельзя говорить вслух! — прошептал несчастный. — Никто не должен знать, что она была моей любовницей в Отейле и я тайком закопал ее ребенка.
— Будь спокоен, об этом я никому не скажу! — воскликнул Роскович, которого снова начал забавлять этот впавший в детство старик. — Так вот, ты закопал ребенка, а он воскрес из мертвых. Ведь тот Бенедетто и был твоим сыном — твоим и баронессы Данглар!
— Нет, неправда… — снова зашептал Вильфор, мотая головой. — У меня всего один сын, Эдуард, и он играет в саду. И еще дочь, Валентина. Но она умерла!
— Глупец, это его идея фикс! — вскричал Роскович. — Нет, с ним каши не сваришь! Но почему же ты не сказал об этом на суде? Ведь все поверили, что Бенедетто твой сын! Почему ты ушел? А когда явился домой — увидел, что твои жена и сын мертвы.
На этот раз старик ничего не ответил. Роскович не спускал с него глаз. Может быть, сознание безумца прояснится и он вспомнит? Но несчастный продолжал сидеть уставившись в одну точку.
— Эдуард играет в саду! — сказал он спокойно. — Сейчас просмотрю свои документы и пойду к нему.
— Идиот! — пробормотал Роскович. — Нет, с ним каши не сваришь.
И он направился к двери, ведущей в лазарет.
XII. ПУТЕШЕСТВИЕ
— Наконец-то мы снова на нашем тихом острове, дорогая! — промолвил граф, помогая Гайде сойти на берег. — Он стал для тебя второй родиной! Жаль, что Валентина и Макс не встречают нас! А я так надеялся на это! Я ведь знал, что когда-нибудь вернусь в Европу! И все же мы увидимся с ними! Думаю, ждать осталось недолго! А вот и Джакопо!
К ним в самом деле спешил человек средних лет, по виду типичный итальянец.
— Синьор! Это вы, синьор! — кричал он.
— Да, да, Джакопо, как видишь, я! — сказал граф с той доброжелательностью, какую неизменно проявлял ко всем, кого любил. — Ну, как ты тут справлялся со своими обязанностями? Правда, остров принадлежит не мне, а господину Моррелю. Но позволь все же задать тебе этот вопрос. Надеюсь, все в порядке?
— В полнейшем, синьор! — отвечал Джакопо. — К сожалению, госпожи и господина Моррель давно здесь не было. Живем мы одиноко, но жаловаться грех. Так что все в лучшем виде, синьор! Убедитесь сами!
— Ну что же! Тогда проводи даму на женскую половину, — распорядился граф. — А я пока послежу за разгрузкой. В чем дело, Гайде? Чего ты ждешь?
— Позволь мне подождать Эдмона! — попросила молодая женщина, не отрывая глаз от яхты.
— Да вот же он, Мирто несет его, мальчуган в надежных руках! — улыбнулся граф. — А теперь все ступайте в дом. Если я задержусь, пусть Джакопо вернется сюда.
Женщины ушли, а к графу почтительно приблизился управляющий.
— Подойди поближе! — сказал граф. — Здесь, на острове, ты снова Бертуччо, а не Хэки. Слушай, что я скажу, и исполни мои слова в точности! Старого господина — ты знаешь, о ком я говорю, — надо устроить в тихой, удобной комнате в левом крыле. Уход за ним и охрана должны быть такими же, как на горе Желаний и на яхте. Ни ты, ни слуги никогда не должны оставлять дом. Если на острове появится чужой или в море будет замечено неизвестное судно, направляющееся сюда, не позволяй моей жене прогуливаться в одиночестве. Когда яхта вернется из плавания, в которое я отправлюсь завтра, — а вернется она в тот же день, — команда должна оставаться на борту. Я еду в Париж. Сопровождать меня будет Али.
— А как быть с прокаженным? — спросил Бертуччо. — Он останется на острове?
— Да, — ответил граф. — Я дам тебе склянку с лекарством, будешь давать ему каждый день по десять капель. Подыщи ему жилье, чтобы он не общался с остальными. Если надумает покинуть остров — здоровый или больной, — выдай ему тысячу франков и помоги добраться до французского побережья.
— Но, господин граф, мы его не знаем, он нам чужой! — нерешительно попробовал возразить Бертуччо.
— Верно, — ответил Монте-Кристо. — Но этот человек попросил меня о помощи при таких обстоятельствах, что отказать ему я не мог и дал себе клятву заботиться о нем!
Управляющий удалился, а граф молча продолжал наблюдать за выгрузкой нескольких громоздких ящиков и разной мелкой утвари. Прошло около четверти часа. Оглянувшись, граф заметил возвратившегося Джакопо, который почтительно ожидал, когда на него обратят внимание.
— Пока меня не было на острове, все было спокойно? — спросил граф.
— Все, синьор, — ответил Джакопо. — Прошлой весной приезжал господин Моррель с женой. С тех пор от них шли только письма. Я думал, они скоро вернутся.
— Они непременно вернутся, — подтвердил граф. — А что контрабандисты, пираты? Много их высаживается на остров? Мой дом они не обнаружили?
— Нет, теперь они совсем нас не беспокоят. Разве что иногда пристанет какая-нибудь небольшая барка с контрабандой. Но такое случается редко. Впрочем, в последнее время мне кое-что не нравится.
— Выкладывай, в чем дело, — потребовал граф.
— Вот уже месяца два, а то и больше мне попадается на глаза одно судно. Похоже, оно кружит вокруг острова. Как бы там ни было, его видно почти каждый день то с одного, то с другого места.
— Под каким же оно флагом? — спросил граф, которого рассказ Джакопо, казалось, ничуть не обеспокоил.
— Думаю, это французский корабль, — ответил Джакопо. — А какой — военный, торговый, частный или правительственный, — не знаю.
— Ну, это ни о чем не говорит, — ответил граф. — Если увидишь его еще раз — скажешь мне. Вероятно, это военный корабль, который охотится за контрабандистами.
На следующее утро яхта опять стояла под парами, готовая к новому, непродолжительному плаванию. Ей предстояло доставить графа в небольшую гавань на побережье Франции.
Граф нежно простился с Гайде, с сыном. Впервые он почувствовал, что́ значит покидать жену и ребенка: он с большей охотой пересек бы пустыню Калифорнии, чем отправился в цивилизованный Париж. Он прекрасно знал, что такое цивилизация: она таит в себе больше опасностей, нежели безжизненная пустыня. Граф успел уже объехать весь мир и, покидая очередную страну, никогда не терзался сожалением. Но тогда Гайде не была его женой, тогда у них не было сына! Призвав на помощь свое необыкновенное самообладание, он все же принудил себя держаться совершенно спокойно и с улыбкой покинул семью, сопровождаемый одним Али.
Навстречу им спешил запыхавшийся Джакопо.
— Синьор, корабль, о котором я вам вчера говорил, опять объявился! Все утро, а может быть, и всю ночь он маневрирует в открытом море!
— Хорошо, Джакопо, я понаблюдаю за ним с яхты, — пообещал граф. — Прощай!
Поднявшись на борт, граф припал к подзорной трубе. С первого взгляда он опознал французский правительственный корабль. Это был небольшой восьмипушечный корвет, насчитывающий от тридцати до сорока человек команды.
— Полный вперед! — приказал граф и прошел в каюту еще раз просмотреть свои бумаги, ибо предвидел, что они ему вот-вот понадобятся. Паспорт его был в порядке. Он был выдан на имя лорда Хоупа, землевладельца из Калифорнии.
Яхта взяла курс к берегам Франции, не обращая ни малейшего внимания на французский корабль. Однако тот на всех парусах направился к яхте.
— Лечь в дрейф! — прозвучал с корвета приказ, усиленный рупором.
Граф отдал команду остановить машину, и тотчас с французского корвета спустили шлюпку, которая пошла к яхте. В шлюпке находились десять солдат. У руля сидел офицер, рядом с ним — человек в гражданском платье.
Граф встретил обоих у трапа. Как всегда в подобных обстоятельствах, он выглядел подчеркнуто спокойным и предельно собранным. Еще накануне он несколько изменил свою внешность, чтобы случайно не быть узнанным в Париже. Он вообще не собирался появляться в парижском высшем свете, а хотел повидаться лишь с аббатом и герцогом.
— Простите, сударь! — сказал офицер. — Мы получили приказ осматривать каждое незнакомое судно, которое держит курс к французским берегам. Поэтому вы должны извинить нас…
— Напротив, я нахожу эту меру вполне оправданной, — ответил граф, придавая своему французскому легкий английский акцент. — Вот мои бумаги. Что касается яхты, можете ее осмотреть. Никакой контрабанды у нас на борту нет.
Господин в штатском углубился в изучение паспорта, а офицер, прихватив нескольких солдат, начал осмотр судна. В человеке, вертевшем в руках его паспорт, граф сразу же узнал полицейского чиновника, и это насторожило его.
— Простите, милорд, — сказал чиновник. — Вы идете с острова Монте-Кристо?
— Совершенно верно. Этот пустынный островок привлек мое внимание, и вчера я бросил там якорь.
— Вы высадили на остров несколько человек, — заметил полицейский. — Позвольте узнать, кто они такие?
— Это что же, допрос? — спокойно спросил Монте-Кристо. — Я полагал, вполне достаточно паспорта, который у меня в полном порядке. Что же касается всего остального, то это не представляет особого интереса…
— Для нас, хотели вы сказать, — прервал его чиновник. — Вы ошибаетесь. Наш интерес к вашей персоне столь велик, что мы уже очень давно патрулируем в здешних водах, поджидая вас.
— Меня? — с искренним удивлением спросил Монте-Кристо. — Разве я вам знаком?
— Не как лорд Хоуп, а скорее как граф Монте-Кристо.
— Так вы полагаете, что у меня два имени? — спросил граф, которому потребовалось все его присутствие духа, ибо он почуял опасность, еще не видя ее, и понял, что нужно быть настороже.
— Не только эти два, что я назвал, — возразил чиновник. — Вас знают также как Эдмона Дантеса, аббата Бузони, Синдбада-Морехода, лорда Уилмора. Однако прежде вы всегда предпочитали имя графа Монте-Кристо, под которым и появлялись в Париже.
— Признаюсь, вы неплохо осведомлены. Но что все это значит? — спросил граф.
— Это значит, что вам придется поступить в наше полное распоряжение, — ответил чиновник. — Поэтому прикажите вашей яхте возвращаться на остров, а сами перебирайтесь на наше судно.
— К чему такая спешка? — воскликнул граф. — Прежде позвольте узнать, с кем имею честь?
— Как вам будет угодно. Вот мой ответ. — Полицейский протянул графу бумагу.
Тот развернул ее и прочитал следующее:
«Предъявитель сего, советник полиции господин Дюкаль, уполномочен немедленно задержать, не останавливаясь, если потребуется, перед применением силы, и незамедлительно доставить в Париж лицо, известное под именем графа Монте-Кристо. Всем властям надлежит оказывать господину Дюкалю содействие в выполнении данного поручения.
Министр полиции».
— Хорошо, — сказал граф, — если даже допустить, что я — тот самый граф Монте-Кристо, а вы имеете предписание своего правительства задержать меня, его выполнению препятствует одно немаловажное обстоятельство. Дело в том, что я не француз. Я гражданин Тосканы и подданный Великобритании.
— Это не может помешать мне исполнить свой долг, — ответил чиновник. — Тайные инструкции, которые я получил, дают мне право доставить вас в Париж в любом случае.
— Прекрасно! — вскричал граф. — Я как раз направляюсь туда, а путешествовать в таком обществе мне даже веселее. Слуга, которого я беру с собой, нем. Итак, господин советник полиции, я в вашем распоряжении. Попрошу вас лишь об одном одолжении. Не я продолжу путешествие с вами, а вы — со мной.
— Не знаю, право, как это понимать! — ответил Дюкаль.
— Как я уже говорил, я очень спешу, мне не терпится добраться до Парижа. Да и вы задержали меня. А мне важно попасть туда как можно быстрее. Но сделать это раньше меня вам не удастся, ибо от Фрежюса до Парижа для меня уже готовы почтовые лошади. Так что прошу вас путешествовать со мной.
— Ваше предложение не так уж плохо! — согласился полицейский чиновник. Монте-Кристо ему явно импонировал, и он сделался весьма учтив и обходителен. — Только вот еще что! Строго говоря, у меня было предписание высадиться непосредственно на остров Монте-Кристо и прямо там заглянуть в ваши бумаги.
— Господин советник, — невозмутимо заметил граф, — хорошо, что случай помешал вам исполнить свое намерение. Здесь, в открытом море, я подчиняюсь насилию. Кроме того, мне безразлично, с кем ехать в Париж, потому что там это недоразумение выяснится. Но если бы вы осмелились так или иначе оскорбить меня на моем острове Монте-Кристо, на силу я бы ответил силой и, вероятно, имел бы успех.
— Давайте оставим эту тему! — сказал полицейский советник, внимательно выслушав графа. — Да и интересует меня главным образом только ваша персона, и, если вы дадите мне честное слово, что не попытаетесь бежать по пути в Париж, я попрошу составить нам компанию только двух полицейских, которые находятся со мной на корабле.
— Хорошо, даю вам слово, — ответил граф. — А чтобы понапрасну не волновать моих близких и друзей, которые остались на острове, позвольте мне продолжить плавание до Фрежюса на собственной яхте и лишь оттуда отправить ее обратно. До тех пор благоволите оставаться со мной. И солдаты пусть остаются на борту.
— Ничего не имею против, — согласился чиновник. — Нашли что-нибудь интересное, господин лейтенант? — обратился он к вернувшемуся офицеру.
— Нет, — ответил тот. — Все в порядке.
— Я остаюсь здесь, — сказал советник. — Ваши солдаты тоже могут остаться на яхте. Мы вместе пойдем до Фрежюса, а затем я поеду с этим господином в Париж.
Граф велел держать курс на Фрежюс, но не обгонять французский корвет. Его приказ был в точности исполнен. Впрочем, благодаря попутному ветру корвет все время держался рядом с яхтой, хотя ее машина работала на полную мощность. Вечером они подошли к французскому побережью.
Лорд распорядился, чтобы яхта немедленно возвращалась на остров, и, воспользовавшись шлюпкой с корвета, куда Али перенес его чемодан, вместе с полицейским советником направился к берегу, где их уже ожидала вторая шлюпка с французского судна. В ней находились те двое полицейских, о которых говорил советник.
— Итак, все готово к отъезду? — спросил граф. — В таком случае сейчас отправимся. Видите, как я тороплюсь. Пойдемте со мной в почтовую контору. Готовы лошади для господина Лаффита? — поинтересовался он у почтового служащего.
— Разумеется, сударь, они были заказаны на восемь вечера, уже запряжены и ждут во дворе, — ответил тот. — Если вы и есть господин Лаффит, они к вашим услугам!
Появился элегантный, удобный экипаж с четырьмя сиденьями внутри и тремя — для кучера и двух слуг — снаружи. Одно из мест рядом с кучером тут же занял Али.
— Как вам удалось заказать этот великолепный экипаж? — с удивлением спросил чиновник. — Неужели это собственность почты? Право, не предполагал, что наше почтовое ведомство обеспечивает проезжающих столь красивыми каретами!
— Вы ошибаетесь, сударь! — ответил Монте-Кристо. — Экипаж — мой собственный. Я заказал его мастерам в Марселе, а оттуда его доставили сюда.
На лице советника полиции, человека осторожного и невозмутимого, мелькнуло изумление. Спустя минуту он вместе с графом очутился на заднем сиденье. Полицейские устроились напротив.
Между тем настала ночь, а кучер все гнал лошадей, ибо граф показал ему пару золотых, велев мчаться во весь опор. Через два часа спутники были уже на ближайшей почтовой станции. Там повторилась та же история. Граф спросил лошадей для господина Лаффита. Запряженные лошади уже ждали во дворе. И так было на всех почтовых станциях по пути следования графа.
Утром выяснилось, что путешественники проехали за ночь почти пятьдесят лье.
— Черт побери! Вот это я понимаю! — вскричал советник. — Так можно ездить!
— Не правда ли?! — заметил граф. Он как раз выходил из экипажа, намереваясь узнать, нельзя ли на этой станции — это был довольно большой город — остановиться и позавтракать. — Не думаю, чтобы вас столь же хорошо обслуживали, путешествуй вы за казенный счет. Итак, мы завтракаем здесь?
— Как вам будет угодно! — ответил советник, и граф снял в гостинице отдельную комнату.
Когда они остались вдвоем за богато сервированным столом, которому граф, верный себе, уделил мало внимания, он сказал:
— Господин советник, я уже говорил, что в Париж меня призывают неотложные дела, семейные обстоятельства, которые необходимо уладить как можно скорее. Я не имею представления, какие причины побуждают правительство Франции познакомиться с моей скромной персоной. Но вам известен заведенный порядок. Вы прекрасно знаете, что бесплодные допросы могут отнять у меня все двадцать четыре часа — те самые двадцать четыре часа, какие нужны мне как воздух. Более всего мне хотелось бы заранее отыскать пути и средства возможно быстрее покончить с этим делом. Не поймите меня превратно. У меня и в мыслях нет подкупать вас. В Париже у меня такие связи, что недоразумение скоро выяснится. Но мне необходимо знать, что же послужило поводом для моего ареста. Если я буду знать это, мне не составит труда тотчас обратиться к влиятельным лицам. Одним словом, если вы располагаете какими-либо сведениями на сей счет, прошу сообщить их мне.
Советник полиции улыбнулся. Однако Монте-Кристо был так искренен, а лицо его по-прежнему хранило такое простодушное выражение, что советник почти смутился.
— Вы не ошиблись, — согласился он. — Неизвестно, кстати, что считать разглашением государственной тайны. В моем предписании не сказано об этом ни слова, следовательно, я вправе поступить, как сочту нужным. Однако никто не снимает с меня ответственности за мои поступки. А в таких делах и не заметишь, как лишишься и службы, и куска хлеба!
— О, думаю, до этого не дойдет! — успокоил его граф, как-то странно улыбаясь. — Впрочем, я готов возместить вам все убытки. И вот тому доказательство!
Быстрым движением он положил перед советником пачку банкнотов.
— Вы шутите! — воскликнул тот, покосился на деньги и с напускным равнодушием, почти машинально принялся пересчитывать купюры. — Пятьдесят купюр по тысяче франков каждая — о, сударь, вы шутите! За кого вы меня принимаете?! Не скрою, ответственность в самом деле велика, но я и без всего этого взял бы ее на себя, только бы оказать вам любезность! Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом?
— Нисколько! — успокоил его Монте-Кристо. — Ну, так что же вам известно?
— К сожалению, не так много, но для вас этого, может быть, вполне достаточно, — начал советник, уже успевший спрятать деньги в бумажник. — Некоторое время назад меня вызвали в министерство и поинтересовались, не знаю ли я чего-либо о человеке, который некогда жил в Париже под именем графа Монте-Кристо. К своему стыду, должен признаться, сударь, что ваше имя было мне совершенно незнакомо. Однако я получил приказ навести справки и взялся за работу. Таким образом я постепенно выяснил, что вы жили на Елисейских Полях и поддерживали знакомство с семействами Вильфор, Данглар, Морсер и Эрбо. До многого я не докопался, но пришел к убеждению, что вы очень богаты и не занимаетесь ничем таким, что могло бы бросить на вас тень. Затем меня вызвали к господину Фран-Карре, королевскому прокурору. Я имел с ним продолжительный разговор. Он тогда еще не оправился от последствий травмы, которую получил, спасаясь из горящей тюрьмы. Не подлежит сомнению, заявил мне королевский прокурор, что вы, граф, замешаны в Булонском деле. По крайней мере вы оказывали заговорщикам денежную поддержку. Моррель, добавил господин Фран-Карре, действовал по вашему наущению. От прокурора мне стало известно, что кроме особняка на Елисейских Полях вам принадлежат замок в Трепоре и владения на острове Монте-Кристо. Прокурор просил меня взять остров под наблюдение, поскольку правительству очень важно выяснить, что вы за личность и каковы ваши намерения. Необходимо было следить и за замком в Трепоре. Далее я получил предписание перлюстрировать корреспонденцию герцога***. Из его переписки мне стало ясно, что вас надо искать не в Европе, а, вероятнее всего, в Америке. Однако я предположил, что вскоре вы вернетесь в Старый Свет — вернее всего, на остров Монте-Кристо. Поэтому я решил подкараулить вас на борту известного вам теперь корвета — и, как видите, не обманулся в своих ожиданиях!
— Хорошо! — сказал граф. — Но с чего вы взяли, что я вернусь в Европу?!
— Я подумал, что человек с вашими возможностями и вашими талантами долго в Америке не задержится и скоро непременно вернется. Кроме того, я не сомневался, что вы постараетесь помочь Моррелю, потому что его судьба вам не безразлична.
— Кстати, что вам известно о его судьбе?
— Говорят, ему удалось бежать, — ответил чиновник. — Однако подробностей я не знаю. Не забывайте, я два месяца болтался в открытом море!
— Это верно, — согласился граф. — Что ж, вы дали мне весьма ценные сведения. Ясно, что правительство считает меня тайным участником Булонского дела. Это недоразумение я скоро улажу. А теперь, если не возражаете, пора в дорогу! Чем раньше мы прибудем в Париж, тем лучше!
Путешествие продолжалось с еще большей скоростью. Когда они въехали в Южные ворота Парижа, советник полиции сказал кучеру, куда держать путь. Через четверть часа экипаж остановился перед зданием полицейской префектуры.
Советник вышел первым, граф — следом за ним.
— А где же ваш чернокожий слуга, сударь? — удивился советник, обнаружив, что рядом с кучером никого нет.
— Вы имеете в виду Али? — улыбнулся граф. — Как только карета остановилась, он по своему обыкновению тут же спрыгнул с козел. Не беспокойтесь о нем! Он знает, что делает. Позаботьтесь лучше о моем чемодане — оставляю его под вашу ответственность.
Несколько огорченный промахом, который он, несомненно, допустил, советник полиции вошел вместе с графом в здание префектуры. Там он шепнул несколько слов какому-то чиновнику и повел графа в глубь здания.
— Честь имею откланяться, сударь, — сказал он потом. — Свой долг я исполнил до конца. Возможно, мы больше не увидимся. Надеюсь, ваше дело скоро уладится наилучшим для вас образом. Чтобы приблизить эту минуту, я сделаю все, что в моих силах.
XIII. ПРЕФЕКТ, МИНИСТР И КОРОЛЬ
Не прошло и пяти минут, как дверь отворилась и вошел некий господин. Угадать род его занятий было нелегко, ибо он носил гражданское платье, а его манера держать себя мало что говорила. Его можно было принять за образованного и состоятельного парижанина, каких немало в столице. Правда, здесь, в префектуре, трудно было не заподозрить в нем высокопоставленного полицейского чиновника.
— К вашим услугам, сударь! — начал вошедший. — Извините, что заставил вас ждать!
С этими словами он слегка поклонился и, казалось, ожидал подобного же приветствия от графа.
Между тем в позе графа было столько спокойствия и уверенности, а взгляд его был таким проницательным, таким гордым и открытым, что чиновник вначале удивился, а потом почувствовал смущение. Чтобы скрыть замешательство, он вытащил носовой платок и принялся протирать стекла очков.
Лишь теперь граф учтиво поклонился.
— С кем имею честь, сударь?
— С заместителем префекта парижской полиции, сударь! Самого господина префекта в городе сейчас нет, — пояснил чиновник.
— Мое имя — Эдмон Дантес, граф Монте-Крисго.
В его словах чувствовалось столько достоинства, что префект вновь смутился и, пытаясь взять себя в руки, начал надевать очки.
— Садитесь, прошу вас, — сказал он наконец. — Монте-Кристо, граф Монте-Кристо… Среди французского дворянства, к которому я имею честь принадлежать, это имя мне до сих пор не встречалось. По звучанию оно напоминает, скорее, итальянское.
— Вы не ошиблись, — подтвердил граф. — Когда я покупал у города Тосканы остров Монте-Кристо, одновременно я приобрел для себя и графский титул. Во Франции я с не меньшей гордостью ношу имя Эдмон Дантес, ибо по рождению я француз.
— Ну хорошо, господин граф, перейдем к нашему делу, — начал префект. — Вам уже известно, почему я не мог лишить себя удовольствия поближе познакомиться с вами.
— Простите, сударь! — сказал граф. — Я решительно не представляю себе этого, а поскольку обстоятельства, призывающие меня в Париж, чрезвычайно важны, у меня к вам всего одна просьба: как можно быстрее объясните мне, почему я здесь нахожусь.
— Если вам, господин граф, действительно не терпится уладить это дело, есть простое средство быстро покончить с ним, — ответил префект. — Вы должны лишь откровенно отвечать на вопросы, которые я стану задавать.
— В таком случае, прошу вас, спрашивайте! — сказал граф. — За ответами дело не станет.
— Прекрасно! Каковы ваши политические убеждения, господин граф?
— Это убеждения доброго христианина.
— Что касается религии — согласен, но я имею в виду политику!
— Я не знаю никакой иной политики, — ответил граф. — Политика и религия для меня едины.
— И тем не менее вы стали на сторону определенного политического направления! — возразил префект.
— А я и не знал! — ответил Монте-Кристо, слегка покачав головой.
— Ну, там будет видно! Вы знаете капитана Морреля?
— Разумеется. Я люблю его как собственного сына.
— Этот Моррель признался, что вы склоняли его присоединиться к партии Луи Наполеона.
— Он сказал правду.
— В таком случае вы, должно быть, питаете пристрастие к потомкам Наполеона?
— В этом меня можно было бы заподозрить, но это не так, — сказал граф. — Я убедился, что самое лучшее для Морреля — последовать своим симпатиям и примкнуть к Луи Наполеону. Поэтому и дал ему такой совет.
— Но тот же капитан Моррель заявил, что ему было поручено передать одному из сторонников Луи Наполеона значительную сумму денег от вашего имени.
— И это чистая правда, — согласился граф. — Однако, на мой взгляд, слишком смело — утверждать, что эта сумма предназначалась для осуществления политических целей принца.
— Согласитесь, господин граф, иное предположить трудно, — заметил префект.
— Объясняю вам, что эти деньги я предоставил в распоряжение одного из друзей принца, но не его самого. Знать, для каких целей они будут истрачены, я не мог.
— Так назовите мне имя этого человека, этого друга принца!
— Это было бы нескромно, ведь речь идет о денежных делах!
— Итак, вы отказываетесь дать такие сведения? — официальным тоном быстро спросил префект.
— Вы употребили такие выражения, как «сведения» и «отказываетесь», — невозмутимо констатировал Монте-Кристо. — Вы, кажется, принимаете меня за арестованного, господин префект. До сих пор я считал, что с моей помощью правительство намерено выяснить некоторые факты, и последовал за чиновником, который доставил меня сюда, ибо поездка в Париж и без того входила в мои планы. Теперь вы разговариваете со мной в таком тоне, будто я заключенный. Так вот, я отказываюсь давать вам какие бы то ни было сведения! — Сделав акцент на последних словах, граф встал, словно собираясь уйти.
— Прошу простить меня, господин граф, — обескураженно проговорил префект. — Но в некотором смысле вы уже не вправе полностью распоряжаться собой.
— А по какому праву меня собираются здесь задерживать? — вскричал Монте-Кристо.
— Надеюсь, вы не откажете правительству Франции в праве арестовывать и допрашивать лиц, которые наносят ущерб безопасности государства?
— Разумеется, если эти лица — французы, если они действуют во Франции! — ответил Монте-Кристо. — Но если, предположим, я и был косвенно причастен к Булонскому делу, я же не француз: вследствие длительного отсутствия я утратил права француза и никогда не собирался вновь претендовать на них. С таким же успехом меня можно считать тосканцем, англичанином и мексиканцем. Пусть французское правительство обращается к правительству Мексики, потому что в последнее время я жил в Калифорнии.
— Оставим этот вопрос! — сказал префект. — Есть еще причина, по которой я осмелился затребовать вас в Париж. Дело в том, что ваша личность окружена тайной. Правительству Франции не безразлично, кто вы — друг или враг. Ведь вы слывете сказочным богачом! Зачем вы напускаете на себя столько таинственности?
— Я живу так, как считаю нужным. А что касается тайны, которая якобы меня окружает, я не знаю, что вы имеете в виду. Я не любитель заводить обширные знакомства, поэтому избегаю великосветского общества. Создавать вокруг себя ореол таинственности подобает важной особе, каковой я себя не считаю. Хотя я достаточно богат, не в моих правилах поднимать вокруг этого шум.
— Однако вы принимаете различные имена! — запальчиво заметил префект. — Простите, господин граф, к лицам, которые меняют имена, обычно относятся с предубеждением.
— Возможно! Что касается меня, свои имена я носил по праву и менял их по собственной воле, смотря по тому, в качестве кого — графа или лорда — собирался действовать. Правда, имя аббата Брони я в некоторых случаях присваивал самовольно, но полагаю, это не преступление.
— Так вы утверждаете, что и другие свои имена носили на законных основаниях? — спросил префект.
— Безусловно. Вначале меня звали Эдмон Дантес — это имя я получил при крещении, в Марселе. Позже я приобрел титул граф Монте-Кристо. В Индии я познакомился с лордом Уилмором. Он был стар, не имел детей, поэтому усыновил меня и оставил свое состояние. Подобный же случай произошел с титулом лорда Хоупа. Этот лорд, последний из рода Хоупов, джентльмен преклонных лет, свел знакомство со мной в Мехико, ожидая неизбежного конца своего жизненного пути. Лорд очень сокрушался, что с его смертью исчезнет и его фамилия. Он добился разрешения усыновить меня. Кроме того, я получил право прибавить к титулу лорда Уилмора титул лорда Хоупа. Ну, господин префект, теперь я, наверное, могу быть свободным?
— Простите, господин граф! По некоторым пунктам, которые меня интересовали, вы и в самом деле любезно пошли мне навстречу. Однако я не уверен, удовлетворят ли ваши ответы мое начальство.
— Ваше начальство? Раз вы замещаете префекта, вы сейчас высшая полицейская власть в Париже, — заметил Монте-Кристо. — Вы не ответственны ни перед кем.
— Увы! — возразил чиновник. — Прежде всего — перед министром, а затем — перед Его Величеством королем Франции!
— Не думаю, однако, чтобы Его Величество интересовался моей персоной! — уверенно сказал Монте-Кристо.
— Вы ошибаетесь! Мне поручено представить доклад об этом деле лично королю. Так что, простите, я ненадолго оставлю вас!
— Хорошо, я подожду, — ответил граф. — Но прошу вас, не заставляйте меня ждать слишком долго! Мне дороги каждый час, каждая минута.
Спустя десять минут префект вернулся.
— Господин граф, — обратился он к Монте-Кристо, — с вами желает говорить министр. Могу я просить вас следовать за мной?
— С удовольствием последую! — заверил Монте-Кристо. — Но какого из министров вы имеете в виду?
— Министра иностранных дел, господина Адольфа Тьера, — ответил префект. — Простите, я вынужден пройти вперед! Я только хочу показать вам дорогу!
Он направился по галерее, граф — следом за ним. Затем они миновали несколько комнат. Префект продолжал идти впереди графа, но потом, открыв какую-то дверь, остановился.
— Прошу вас, господин граф! — сказал он. — Господин министр ждет вас!
Монте-Кристо шагнул в кабинет и очутился перед человеком небольшого роста, который стоял посреди комнаты, заложив руки за спину. Судя по его позе, он мнил себя чем-то вроде императора Наполеона, а графа считал безродным капралом, которому собирался дать особое поручение.
Обменявшись довольно небрежными приветствиями, хозяин кабинета и посетитель принялись внимательно разглядывать друг друга. Министр казался явно удивленным невозмутимостью графа и его импозантной внешностью.
— Поговорим начистоту, сударь! — начал Тьер. — Вы отказались дать префекту сведения, которые нам необходимы. Вы умолчали, в каких вы отношениях с Луи Наполеоном и для чего прибыли в Париж. Нас это удовлетворить не может. Когда иностранец, подобный вам, которого считают сказочно богатым и подозревают в причастности к политическим спекуляциям, направляется во Францию, мы должны доподлинно знать, что он собой представляет.
Закончив это довольно сумбурное вступление, министр умолк, ожидая, по всей вероятности, что граф незамедлительно даст ему ответ. Однако Монте-Кристо продолжал хранить полнейшее спокойствие, не испытывая, видимо, ни малейшего желания отвечать.
— Поэтому, сударь, — продолжал Тьер, — я вынужден просить вас дать более подробные сведения о себе. Вам известно, кто перед вами. В этом случае уже не приходится опасаться скомпрометировать себя в глазах каких-то чиновников. Можете говорить все без утайки. Что бы вы ни совершили, наказание вам не грозит. Процесс Луи Наполеона закончен, и никому не придет в голову возобновлять его. Итак, скажите мне откровенно: кто вы? чем вы занимаетесь? в каких отношениях вы с Луи Наполеоном и вообще с политикой? и действительно ли вы так богаты, как утверждают?
— Я — граф Монте-Кристо, — ответил его собеседник почти с иронией, — занимаюсь я только тем, что доставляет мне удовольствие, никаких отношений с Луи Наполеоном я не поддерживаю, политика меня не интересует, а богат я и в самом деле как мало кто из смертных — по крайней мере так я думаю.
— Такой ответ я не могу расценить иначе чем шутку! — вскричал премьер-министр. — Он не может устроить меня ни в малейшей степени. С какой целью вы прибыли в Париж?
— Я намеревался выяснить судьбу капитана Морреля, которая меня очень беспокоит. Ходят слухи, что он сошел с ума!
— Послушайте, сударь! Уж не хотите ли вы убедить меня, что покинули Америку и приехали в Париж из-за подобной безделицы?! Меня не так легко обмануть.
— Позвольте, сударь, — холодно возразил граф. — Вы употребили слово «обмануть». Тем самым вы вынуждаете меня умолкнуть. Я сказал вам правду, даю слово, и больше вы от меня ничего не услышите.
— Полно вам, сударь! — Министр поправил очки и обеспокоенно прошелся по кабинету. — Известно ли вам, что, разговаривая со мной в подобном тоне, вы подвергаете себя немалому риску? Мое слово, смею надеяться, кое-что значит в этой стране!
— Имей оно даже вес далеко за пределами Франции, — заметил Монте-Кристо, — я разговаривал бы с вами точно так же, в особенности если бы вы продолжали беседовать со мной в том же духе. Я знаю, что вы — премьер-министр Франции. Но поверьте, сударь, появись у меня желание вмешаться в судьбу этой страны, мне потребовалось бы не более двух недель, чтобы занять ваше место. А вам пришлось бы снова довольствоваться ролью члена оппозиции в парламенте — ролью, которую вы играли прежде!
Министр побледнел от ярости. Такого он никак не ожидал.
— Я прикажу немедленно отправить вас в тюрьму или в сумасшедший дом! — воскликнул он дрожащим голосом.
Он поспешил к звонку, но стук в дверь кабинета опередил его. Министр отворил дверь и получил депешу, которую без промедления прочитал.
— Нет! Нет! Решиться на такое я не могу! — вскричал он. — Я не имею права допустить, чтобы король давал аудиенцию безумцу! Нет, никогда!
Депеша выскользнула у него из рук, и министр снова принялся мерить шагами свой кабинет. Он пребывал в нерешительности, борясь то с душившим его гневом, то с приливом робости.
Тем временем Монте-Кристо поднял упавшую депешу и пробежал ее глазами. В ней содержалось повеление короля немедленно доставить к нему в Тюильри так называемого графа Монте-Кристо.
— Сударь! — сказал граф, обращаясь к хозяину кабинета со всей властностью и холодностью, на какую только был способен. — Вы не осмелитесь противиться совершенно очевидному желанию Его Величества. Я не ожидал, что удостоюсь чести видеть Его Величество, да и не жаждал этого, ибо чрезвычайно ограничен временем. Однако я понимаю, что эта аудиенция станет, возможно, лучшим средством избежать всех этих обременительных расспросов и выяснений.
— Что ж, отправляйтесь! — злобно воскликнул Тьер. — Сначала — в Тюильри, потом — в дом для умалишенных! Что за дурацкая история! Впрочем, пусть будет так!
Не обращая внимания на графа, министр быстро вышел из кабинета. Во дворе префектуры стояла карета премьер-министра. Никаких других экипажей не было.
— Мне ехать с вами?! Это невозможно! — сказал Тьер.
— Тогда я отправлюсь в вашей карете один, а в ваше распоряжение предоставлю свою! — ответил граф, занимая место в экипаже премьера. — Правда, это всего лишь скромная дорожная карета, но…
Между тем министр уже последовал примеру графа. Монте-Кристо распорядился, чтобы его экипаж также ехал в Тюильри. Карета Тьера тронулась первой. Министр сидел, забившись в угол и глядя прямо перед собой. Монте-Кристо через окно кареты любовался проплывающими мимо улицами и площадями.
Поездка не заняла много времени. Вскоре карета въехала во двор Тюильри и остановилась у небольшой двери, предназначенной только для тех, кто имел право доступа прямо в покои короля.
Перед премьер-министром открылись, естественно, все двери, равно как и перед его спутником, который уже одной только манерой держать себя способен был вызвать уважение у любого камердинера. Потом они очутились в просторной приемной.
— Подождите здесь, я доложу о вас! — бросил Тьер и вошел в кабинет короля.
Не прошло и минуты, как он вновь появился в дверях с недовольной миной.
— Его Величеству угодно говорить с вами наедине! — угрюмо сообщил он.
— Тем лучше! — улыбнулся граф и прошел к королю.
Король, облаченный в черный костюм, ожидал его, сидя за письменным столом.
Когда Монте-Кристо вошел, держась по своему обыкновению просто и уверенно, когда поклонился с непринужденностью придворного и достоинством принца крови, король внимательно вглядывался в него. Он отложил бумаги, которые держал в руках, вышел из-за стола и приблизился к графу.
— Рад видеть вас, мой дорогой Монте-Кристо! — сказал Луи Филипп. — Я немало наслышан о вас. Почему вы, столь, интересный, столь состоятельный человек, лишаете наше отечество своего присутствия?
— До сих пор обстоятельства не позволяли мне надолго обосноваться во Франции, Ваше Величество, — ответил граф. — Если же я вообще надумаю поселиться где-нибудь на длительный срок — непременно остановлю свой выбор на родных местах.
— Это приятно слышать! — благосклонно заметил «король-буржуа». — Мне доложили, что в юности вам пришлось вынести много страданий, отчасти по вине чиновника, который стремился сохранить некую тайну. В какой-то степени он сделал это в интересах семейства, к которому я принадлежу. Однако надеюсь, мой дорогой Монте-Кристо, вы не поставите в вину моим родным те несчастья, которые принес вам в то время этот чиновник?
— О, сир, я далек от подобной мысли! — воскликнул граф. — Я давно обо всем этом забыл и все простил — правда, после того как восстановил свое попранное достоинство и отомстил за себя.
— Это меня радует! И все же говорят, что граф Монте-Кристо покровительствует одному претенденту, который питает ко мне отнюдь не дружеские чувства.
— Те, кто так говорит, имеют в виду принца Луи Наполеона, — сказал Монте-Кристо. — Что ж, сир, не смею обманывать вас. Я ссудил одному из друзей принца значительную сумму. Для каких целей она предназначалась, мне неизвестно.
— Не будем больше об этом, — весело сказал король. — Мне довольно знать, что лично вы ничего против меня не имеете. Поверьте, я очень хотел познакомиться с вами. Мне немало рассказывали о вас, о вашей загадочной личности, о вашем богатстве, и, скажу откровенно, вы произвели на меня весьма благоприятное впечатление. Не понимаю только, зачем такому человеку окружать себя тайной. Никто не знает, каким образом вы приобрели богатство, где находятся ваши владения.
— Тем не менее я никогда не делал из этого тайны от своих друзей, — ответил граф. — Во время моего заточения я познакомился с несчастным аббатом, которого считали сумасшедшим. Он и рассказал мне, что в известном месте спрятаны большие сокровища. Потом он умер, а когда мне удалось вырваться на свободу, я убедился, что старик сказал правду. Вот где источник моего богатства.
— Хм, где же находятся эти сокровища, в каких землях?
— Увы, не во французских, — с ледяным спокойствием ответил Монте-Кристо.
Лицо короля на миг утратило дружелюбное выражение.
— Монте-Кристо, — сказал он, беря себя в руки и грозя графу пальцем, — у меня есть серьезное подозрение в отношении вас. Я уверен, что вы умеете делать золото.
— Делать золото, сир? — спросил граф. — Я, право, не знаю…
— Да, да, я имел в виду именно то, что сказал, — ответил король. — Совсем недавно я говорил об этом с одним из наших первых химиков, и он сказал мне, что с тех пор, как обнаружили возможность разложения золота на различные составные части, в этом нет ничего невозможного. Я подозреваю, что вы проникли в эту тайну. Ведь, положа руку на сердце, ваш рассказ о найденных сокровищах звучит довольно неправдоподобно, дорогой граф.
— Может быть, — твердо и невозмутимо ответил граф. — Но это чистая правда!
— Это было бы очень грустно! — улыбнулся король. — Нам во Франции чрезвычайно нужен такой специалист, и с вашей стороны, дорогой граф, было бы несправедливо отказывать своему отечеству в услуге, которая могла бы принести ему огромную пользу.
— Владей я этим искусством, Ваше Величество, вы были бы совершенно правы, — сказал Монте-Кристо. — К сожалению, я вынужден настаивать на своем первом объяснении, ибо не знаю никакого другого. Тайна изготовления золота мне совершенно неизвестна.
— Каковы же размеры вашего богатства? — несколько поспешно спросил король.
— Назвать точную сумму я сейчас не могу, — сказал Монте-Кристо. — Но полагаю, что ваш покорный слуга — один из самых богатых людей на земле.
— Ваше состояние не уступает состоянию братьев Ротшильд?
— Думаю, что даже превосходит его, — ответил Монте-Кристо. — Впрочем, истинные размеры их состояния мне неведомы.
— Как? И вы, владея такими богатствами, уединяетесь в пустыне и на каких-то необитаемых островах? — вскричал король. — Это непростительно, Монте-Кристо! Это, пожалуй, заслуживает наказания! Ей-Богу! Будь вы моим противником, вы были бы опасным противником!
Эти слова были сказаны, несомненно, в шутку, но в них прозвучало нечто совсем нешуточное, и Монте-Кристо почувствовал это.
— Я никогда не буду противником конкретной личности, — сказал он.
— Может быть, однако личности королей олицетворяют и вполне определенные принципы, — возразил король. — Так что если вас не устраивают принципы, которыми руководствуется мое правительство…
— Простите, сир, что я не даю вам довести свою мысль до конца, — прервал Монте-Кристо. — Дело в том, что я не занимаюсь политикой.
— Даже когда поддерживаете бонапартизм! — вспылил король.
— Ваше Величество не верит моим словам, — сказал Монте-Кристо. — Я глубоко сожалею, но могу повторить только то, что сказал раньше.
— Выходит, вы намерены продолжать свои тайные интриги и действовать исподтишка! Нет, сударь, во Франции этому не бывать, мы хотим знать, на что тратит свои деньги состоятельный человек.
— Я трачу их на благо человечества, сир. И как бы мне ни было жаль, если подобный ответ не удовлетворит Ваше Величество, другого я дать не могу. Да и что за причина заставляет правительство Франции вторгаться в частную жизнь простого человека?
— Это еще вопрос, действительно ли вы — частное лицо! — с явным раздражением вскричал король. — Утверждают, что вы — авантюрист, политический агент, Бог знает кто!
— Домыслы и предположения людей по поводу моей жизни уже давно стали мне безразличны и останутся таковыми впредь. Теперь я понимаю, что Ваше Величество введены в заблуждение относительно важности моей персоны. Не моя вина, что я не являюсь важной фигурой и не владею искусством делать золото, обманув тем самым ожидания Вашего Величества.
— Послушайте, друг мой, вы, кажется, решили прочесть мне нотацию? — с горечью сказал король. — Вы забываете, что находитесь в обществе, в котором еще никогда не бывали. Вы забываете, что богатство как таковое, сколь бы велико оно ни было, еще не гарантирует доступа в этот дворец.
— Я отнюдь не стремился попасть сюда, — ответил Монте-Кристо, и лицо его осталось таким же непроницаемым, холодным и спокойным, как и при входе в кабинет короля.
— Вы хотите сказать, что пребывание здесь оставляет вас равнодушным? — вскричал король почти с яростью. — Может быть, вы хотите подчеркнуть, что оказанная честь вам безразлична?
— О нет, сир, я ценю честь, которую вы мне оказали! — ответил граф. — Я только сожалею, что обязан этой честью всего лишь любознательности Вашего Величества!
— О, да вы, кажется, якобинец, сударь?
— Одному Богу известно, кто я! — спокойно и почти торжественно произнес Монте-Кристо.
Мгновение король медлил, потом позвонил. В кабинет вошел Тьер.
— Не знаю, как поступить с этим человеком, — обратился к министру король. — Отвечать он отказывается, похоже, он даже вознамерился перечить мне. Что будем делать?
— Я мог бы наперед сказать об этом Вашему Величеству, — ответил Тьер. — Что будем с ним делать? Думаю, его надо выслать туда, откуда он прибыл.
— Выслать из пределов Франции, ничего не узнав? — спросил Луи Филипп.
Говоря эти слова, он немного запнулся, и по лицу Монте-Кристо пробежала улыбка. Он догадывался, что́ именно хотел сказать король: не узнав тайну изготовления золота!
— С таким же успехом мы можем прибегнуть к принудительным мерам! — предложил министр. — Не исключено, что этот граф приобрел свои богатства незаконным путем. Возможно, он обнаружил пропавшую армейскую казну или нашел клад, половина которого принадлежит государству.
— Верно, — согласился король. — Я уже думал об этом. Значит, половина его состояния! А что известно нашей полиции о размерах всего состояния?
— Точно установить не удалось. Приблизительно пятьдесят миллионов франков.
— Что же, неплохая сумма! Однако прежде нам необходимо выяснить правду, всю правду! Государство не имеет права обогащаться так, как это может позволить себе частное лицо.
— Итак, Вашему Величеству угодно, чтобы было начато следствие по делу так называемого графа Монте-Кристо? — спросил министр.
— Ну да, пожалуй, если он продолжает упорствовать! Видите, Монте-Кристо, мы не позволим водить себя за нос! Так что будьте благоразумны!
— Ваше Величество! — вскричал Монте-Кристо. — Я не ваш подданный, я не ваш враг, я не обвиняемый! Я требую, чтобы мне предоставили свободу! Пусть полиция следит за каждым моим шагом. Через три дня я уеду из Парижа, а не позже чем через неделю вообще покину пределы Франции. Но три дня я должен пробыть здесь!
Король повернулся к нему спиной и вышел из кабинета.
Спустя четверть часа граф, сопровождаемый полицейским чиновником довольно высокого ранга, уже находился в своей карете, на козлах которой рядом с кучером вновь восседал Али. Монте-Кристо успел обменяться с Али какими-то знаками и сказать ему несколько слов по-арабски. Затем карета тронулась.
Вдруг граф распахнул дверцу и, прежде чем полицейский чин успел его задержать, исчез. Чиновник велел кучеру остановиться, но тот продолжал погонять лошадей, не жалея кнута. Когда карета наконец остановилась и полицейский выбрался из нее, он обнаружил, что Али тоже исчез. Чемодан графа загадочным образом пропал еще раньше, когда карета стояла перед дворцом Тюильри, и полицейский чин даже не мог сорвать досаду на кучере, потому что перед тем, как соскочить с козел, Али знаками приказал ехать как можно быстрее.
На этот раз граф был свободен.
XIV. ТРИУМВИРАТ
В уже знакомой нам комнате дома на улице Меле, где мы недавно видели Валентину Моррель в кругу родных ее мужа, в тот день находился лишь Эмманюель Эрбо. Он был бледен, выглядел растерянным и от волнения не находил себе места, расхаживая по комнате.
Болезнь жены, которая последовала за родами и усугубилась случайно до нее дошедшим известием о смерти Морреля, невозможность из-за этого самому покинуть Париж, отсутствие вестей от Валентины и ее покровителя — эти обстоятельства способны были повергнуть в уныние и печаль любое сердце.
Вошедший слуга передал Эмманюелю письмо. Господин Эрбо распечатал его и, пораженный написанным, перечитал еще несколько раз.
«Наш друг уже в Париже, — говорилось в письме. — Это тот самый человек, которому Ваше семейство издавна считает себя многим обязанным. Неблагоприятные обстоятельства не позволяют ему прийти к Вам открыто, как во время первого приезда в Париж. Поэтому по истечении часа с той минуты, как получите это письмо, откройте в своем саду калитку и впустите того, кто произнесет слова „Томсон и Френч“».
— «Томсон и Френч»! Да, да, это он! — не помня себя от радости, вскричал Эмманюель. — Именно так назывался банкирский дом, вексель которого выкупил граф Монте-Кристо, спасая моего тестя! Это граф, и никто другой! Слава Богу! Теперь снова есть надежда!
Он поспешил было к дверям, но, подумав, остановился.
— Нет, нет, эта весть только взволнует Жюли, и ничего больше! Значит, через час!
Ближайшие четверть часа, которые он провел у постели больной жены, казались ему бесконечными. За десять минут до назначенного срока он уже был у калитки сада, выходившего на тихую улицу. Точно в указанное время в калитку постучали и кто-то произнес долгожданные слова «Томсон и Френч». Эмманюель моментально распахнул калитку и немного опешил от неожиданности: перед ним стоял вовсе не граф Монте-Кристо. Это оказался сгорбленный, седой старик, одетый очень скромно, почти бедно.
— Добрый день, господин Эрбо, — сказал он, войдя в сад и сразу же закрывая за собой калитку. — Надеюсь, мы здесь одни и нас никто не слышит?
— Никто! — поспешно ответил Эмманюель, не сводивший глаз с незнакомца. — А вы, сударь… что привело вас ко мне?
— Как, вы не узнали меня в этом обличье? — смеясь, воскликнул неизвестный. — Неужели я так изменился?! Что ж, тем лучше! Так вот, я — Эдмон Дантес, собственной персоной!
— Да, да, теперь я и сам вижу! — обрадованно промолвил Эмманюель и, схватив руку графа, горячо пожал ее. — Слава Богу, что вы приехали! Ах, господин граф, вы появились в такое тяжелое время! Моррель мертв, Валентина далеко, моя жена больна!
— Именно поэтому я здесь! — сказал граф Монте-Кристо. — А теперь пойдемте в эту милую беседку, где нас никто не увидит и не услышит. Мне хотелось бы разузнать у вас обо всем, что произошло.
Они отправились в беседку, где завязался долгий разговор, из которого Монте-Кристо узнал только то, о чем ему было уже известно со слов аббата и герцога. Единственным источником сведений, которым располагал Эмманюель, было письмо Валентины. Обращение к властям не дало никакого определенного результата, хотя его еще раз заверили, что Моррель не был казнен, ему удалось бежать. Вероятно, болезнь жены помешала Эмманюелю Эрбо продолжить поиски истины. Иначе бы он, конечно, узнал, что капитана Морреля судили вместо настоящего преступника, а затем отправили в психиатрическую лечебницу.
— Утешьтесь, друг мой, — успокоил граф, невозмутимо выслушав невеселое повествование Эмманюеля. — Макс жив, правда, находится в тюрьме. Прошу вас только об одном: заботы о его освобождении предоставьте мне. Вторая моя задача — выяснить судьбу Валентины и соединить ее с мужем. Обо всем этом никому ни слова. Никто не должен знать, что я еще во Франции, больше того — в Париже. Оставайтесь с женой и приложите все усилия, чтобы она поправилась. А теперь прощайте, мне дорога каждая минута.
— О, господин граф, вы снова наш спаситель! Да вознаградит вас Бог! — вскричал Эмманюель со слезами благодарности. — Так вы не вернетесь вместе с Максом? Вы покидаете Париж и не оставляете мне надежды вновь увидеть вас?
— Все это еще неясно мне самому, мой друг! — ответил Монте-Кристо. — Передайте Жюли, что Макс жив. Это подействует на нее лучше любого лекарства!
С этими словами граф удалился, провожаемый радостно возбужденным Эмманюелем. Однако прежде, чем он достиг калитки, из дома поспешно вышел старик слуга, издали размахивая зажатым в руке письмом. Монте-Кристо немедленно спрятался за установленной в саду статуей, опасаясь, что слуга заметит его.
— Письмо! Письмо из Берлина! — кричал старик.
Издав радостный вопль, Эмманюель бросился навстречу слуге, взял у него конверт и, мельком взглянув на адрес, заторопился к графу.
— Идите сюда! — позвал он. — Письмо из Берлина, возможно, от Валентины! Во всяком случае, оно нам скажет что-то новое. Идите сюда, прочтем его вместе!
Снова очутившись в уже знакомой нам беседке, Эмманюель распечатал конверт.
— Письмо адресовано мне и написано явно мужской рукой! — воскликнул он. — А подпись — дон Лотарио де Толедо! Такого имени я не знаю!
— Зато я знаю! — сказал граф. — Ну, читайте! Я сгораю от нетерпения!
— «Сударь!
Эти строки написаны по поручению дамы, которая Вам дорога, — по просьбе госпожи Моррель. Познакомившись со мной у графа Аренберга, она попросила меня узнать, получали ли Вы письма из Берлина, написанные ею, или же к Вам поступали письма некоего де Ратура, утверждающего, что он — друг капитана Морреля. Мне кажется, у госпожи Моррель возникло подозрение, что этот Ратур неискренен с нею. Она не может поверить в смерть своего мужа. Бели бы у Вас появилась возможность приехать в Берлин, это было бы самое лучшее, чтобы внести некоторую ясность и положить конец отношениям, сложившимся между госпожой Моррель и этим человеком, которого я считаю двуличным. Во всяком случае, госпожа Моррель ждет, что Вы сообщите мне, известны ли Вам какие-либо подробности о судьбе ее мужа, ибо она желает, чтобы переписка между нею и Вами шла через меня. Дело в том, что госпожа Моррель не доверяет де Ратуру, который, откровенно говоря, держит ее буквально под домашним арестом. Поэтому прилагаю свой адрес и хочу заверить Вас, что не премину выполнить Ваши поручения на этот счет, если Вам будет угодно мне их дать, чтобы оказать услугу даме, несчастная судьба которой вызывает во мне величайшее сочувствие.
Лотарио де Толедо».
Кто же такой этот дон Лотарио? — воскликнул Эмманюель, закончив чтение.
— Дон Лотарио — мой протеже, человек чести. Я считаю большой удачей, что Валентина выбрала именно его. Теперь мне будет спокойнее за нее. Что касается личности господина де Ратура, скоро я это выясню. Никаких оснований для волнений, дорогой Эмманюель, у вас нет!
На этот раз Монте-Кристо без помех добрался до садовой калитки и на прощание пожал руку Эмманюелю.
В некотором отдалении графа ожидал фиакр. Монте-Кристо велел кучеру ехать на улицу Гран-Шантье.
Как помнит читатель, там жил аббат Лагиде, и граф торопился именно к нему. Али уже успел известить аббата о часе приезда графа. Аббат воспользовался оставшимся временем, чтобы уведомить герцога***, и теперь оба с нетерпением ожидали появления человека, дружбу которого ценили превыше всего на свете.
Встреча получилась сердечной, лишенной даже намека на какие бы то ни было церемонии. Все трое искренне радовались возможности увидеться, как радуются друзья юности, не встречавшиеся много лет. Они долго трясли друг другу руки, не скрывая своих чувств. Как обычно бывает в подобных случаях, разговор зашел вначале о всякого рода пустяках.
Граф первым завел речь о более серьезных делах.
— Дорогой аббат, — поинтересовался он, — письма для меня уже пришли?
Аббат принес целую пачку корреспонденции. Большая часть писем была из разных городов и касалась религиозных устремлений графа. Сначала Монте-Кристо прочитал только подписи, а затем отложил весь пакет для себя. Лишь одно послание он прочел от первой до последней строчки — письмо из Нового Орлеана от мистера Натана.
Банкир сообщал — спустя два дня после отъезда графа, — что состояние Вольфрама ничуть не изменилось и врач, который, впрочем, проявляет всяческую заботу о раненом, пока ничего не обещает. Амелии же Натан сказал, что Вольфрам в отъезде, а поскольку ее хозяйка ведет жизнь весьма уединенную, он надеется, правды она не узнает. В городе стали теперь питать к Вольфраму некоторую симпатию, и, если он поправится, о нем, несомненно, позаботятся, так что непосредственная помощь со стороны графа или его — Натана — ему вряд ли потребуется.
Граф прочел это письмо друзьям.
— Сознаюсь, — добавил он, опустив глаза, — что смерть этого человека сделала бы меня несчастным на всю жизнь, она тяжким бременем легла бы на мою совесть. Бог избавил меня от подобного испытания. Он прочитал в моей душе, он знает, что я желаю Вольфраму добра.
— Но в то же время, — заметил герцог, — в то же самое время, дорогой граф, Бог предостерег вас. Ему угодно было напомнить вам, чтобы вы не заходили слишком далеко.
— Я чувствую это! — сказал граф Монте-Кристо. — Еще одно, более очевидное предостережение — это судьба Морреля. Поэтому я и спешил сюда, спешил помочь, если удастся. Надеюсь, так оно и будет. Только скажите мне, что вы узнали о Морреле?
И теперь от герцога, которому удалось выяснить обстоятельства этого странного дела, Монте-Кристо со всеми подробностями узнал о том, что Морреля приняли за Рабласи, обвинили и осудили, узнал о помешательстве капитана.
— Но почему же Морреля спутали с тем убийцей? — недоумевал граф. — Ведь вы были у него той ночью, герцог. Вы говорите, на нем был обыкновенной черный костюм, а между тем решающую роль на суде сыграло то обстоятельство, что Макса нашли одетым в куртку негодяя Рабласи.
Герцог — а он-то и был тем таинственным незнакомцем — еще раз подробно поведал об обстоятельствах злополучной ночи, и все трое, взвесив и обсудив известные им факты, пришли наконец к заключению, что узник, покинувший горящую тюрьму вместе с Моррелем, герцогом и королевским прокурором, и был тем самым Рабласи. Они предположили также, что преступник воспользовался бумагами, обнаруженными в карманах Макса, чтобы обмануть Валентину и выманить ее из Франции.
— Теперь мне ясно, что господин де Ратур, о котором дон Лотарио написал Эмманюелю Эрбо, не кто иной, как убийца Рабласи. Вряд ли, однако, он познакомился с графом Аренбергом уже в Берлине. Вы не помните, Лагиде, здесь, в Париже, не встречали человека с таким именем?
— Позвольте! — воскликнул аббат. — Некий де Ратур был однажды представлен мне у графа Аренберга! Он слыл бонапартистом, тайно проживающим в Париже, и выдавал себя, если не ошибаюсь, за медика.
— Все совпадает! — сказал Монте-Кристо. — Хорошо! Из письма дона Лотарио следует, что этот негодяй пока не осмеливался всерьез докучать госпоже Моррель. В самое ближайшее время мы разузнаем все подробности этой истории, и, думаю, вырвать Валентину из лап мерзавца не составит особого труда. А мне предстоит поразмыслить о более важном деле. Особого внимания заслуживает сейчас сам Моррель. И, наконец, о доне Лотарио. Что вам о нем известно?
— Ничего, кроме того, что он влюблен в Терезу и из-за ее холодности к нему чувствует себя несчастным! — ответил Лагиде. — Могу вам повторить, граф, только то, о чем уже писал. Я бы не хотел, чтобы вы подвергали этого молодого человека слишком суровому испытанию! В этом нет необходимости!
— Мне нужно основательно все обдумать, — задумчиво ответил граф. — Я не намерен идти дальше, чем следует. Надеюсь, небо, которое до сих пор благоволило мне, будет покровительствовать и впредь и оградит от опасностей тех, кого бы мне хотелось сделать опорой нашего союза.
XV. ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
В одной из живописнейших провинций к югу от Парижа вдалеке от дорог возвышался большой приветливый, хотя и сильно укрепленный, дом, окруженный обширным парком. Раньше это был замок, но по распоряжению властей он был расширен и превращен в психиатрическую лечебницу, в которой, впрочем, содержались только те, кто и так уже находился под строгим надзором государства. Иными словами, это была лечебница для заключенных.
Спустя несколько дней после описанных выше событий к заведующему лечебницей явился незнакомый пожилой господин с рекомендательным письмом некоего высокопоставленного чиновника министерства, ведавшего подобными заведениями. В письме содержалась просьба рассказать его подателю — доктору Коннару — все, что тому угодно будет узнать о лечебнице и ее пациентах.
Заведующий, которому поневоле приходилось вести довольно уединенную жизнь, ведь больных насчитывалось немного, с готовностью согласился познакомить любезного доктора Коннара с особенностями проводимого лечения.
Доктор, казалось, остался весьма доволен разумными порядками, установленными в лечебнице. У каждого пациента он проводил немало времени, с большим вниманием изучая характерные симптомы расстройства его психики.
— А здесь у нас еще один тихий, безобидный больной, — заметил заведующий, открывая дверь очередной палаты. — Он кроток, словно дитя. Тем не менее мне охарактеризовали его как весьма опасного преступника, способного даже симулировать сумасшествие. Это убийца. Его зовут Этьен Рабласи.
— По-моему, я уже что-то слышал об этом человеке, — сказал доктор Коннар. — Теперь давайте посмотрим на него.
Они вошли в просторное помещение, довольно светлое, ибо там было несколько окон, расположенных, правда, очень высоко, почти под потолком, и забранных крепкими решетками. Больной сидел на табурете у стола, подперев голову рукой. Выглядел он в общем неплохо и производил впечатление вполне разумного человека.
Он с удивлением взглянул на вошедших. Убедившись, что это не санитары, к которым он успел привыкнуть, больной поднялся со своего места, поклонился и пододвинул им свой табурет, как бы приглашая присесть.
— Ну, как вы чувствуете себя сегодня, господин Рабласи? — спросил заведующий.
Больной ничего не ответил, а лицо его приняло угрюмое выражение.
— Он никак не реагирует, если его называют Рабласи! — шепнул заведующий Коннару. — Он выдает себя за небезызвестного капитана Морреля. Впрочем, сейчас вы сами услышите! Я вижу, вы здоровы и бодры, капитан Моррель! — громко сказал он.
— Да, благодарю вас, сударь! — учтиво отозвался капитан. — Я чувствую себя совершенно здоровым. Позвольте узнать, мое дело закончено?
— Еще не совсем, — ответил заведующий. — Но я надеюсь, вас оправдают.
— Оправдают? Этого я не требую! — сказал капитан с необъяснимой улыбкой душевнобольного, спокойно глядя на заведующего своими блестящими, но пустыми глазами. — Мне хотелось бы только повидать жену и ребенка!
— Но, дорогой капитан, у вас нет ни жены, ни ребенка! — возразил заведующий.
— Ни жены, ни ребенка? — пробормотал Моррель, тупо и безразлично уставившись в пол. — Странно, а мне казалось… хм! Я хочу вам кое-что сказать! Да, да, так оно и есть!
С этими словами он загадочно и доверительно, как это свойственно сумасшедшим, подмигнул заведующему, приглашая подойти поближе, и наклонился к его уху.
— Я видел сон! — сказал он довольно громким шепотом, так что было слышно и доктору. — Видел сон с той минуты, когда попал на остров Монте-Кристо. Да, мне явилась не сама Валентина, а всего лишь ее дух! У меня не было ни жены, ни ребенка! Это был только сон!
— Ну, что вы скажете об этом безумце? — поинтересовался заведующий у доктора. — Похоже это на симуляцию?
— Нет, — ответил доктор, — это, безусловно, не притворство. Да и к чему оно здесь? Палата прочна, словно тюремная камера. Бежать отсюда не легче, чем из тюрьмы.
— Ну, не скажите, — прошептал заведующий. — Во время прогулки в парке больные пользуются некоторой свободой.
Вместе с доктором он покинул палату, продемонстрировал своему гостю еще нескольких пациентов и наконец вернулся с ним в свою квартиру.
Доктор Коннар рассказал, что остановился у друга детства, который живет неподалеку. Он попросил разрешения навещать иногда необычное заведение, на что заведующий охотно дал согласие. Вполне удовлетворенный, доктор распрощался с гостеприимным хозяином.
На следующий день его можно было видеть в несколько непривычном для почтенного, уже немолодого врача месте. Он расположился среди ветвей дерева, которое росло вблизи стены, окружавшей больничный парк. Со своего наблюдательного пункта доктор внимательно изучал все дорожки парка, прибегая иногда к помощи небольшой подзорной трубы. Окончив осмотр, он осторожно спустился с дерева и, стараясь остаться незамеченным, покинул окрестности лечебницы, к счастью весьма малонаселенные, чтобы направиться в раскинувшийся неподалеку городок, где снимал комнату в скромной гостинице.
Еще через день доктор снова наведался в лечебницу, причем оказался там как раз в то время, когда Моррель, или Рабласи, в сопровождении санитара прогуливался в парке. Присоединившись к ним, доктор время от времени задавал больному какие-то вопросы, причем спрашивал столь необычным голосом, что того всякий раз охватывало беспокойство и он устремлял на Коннара пристальный взгляд.
— Погода, мне кажется, не совсем подходит для прогулок, — заметил доктор, делясь своими наблюдениями с заведующим. (И в самом деле, было очень холодно, и земля оделась легким снежным покрывалом.) — И вы разрешаете несчастному не пропускать ни одного дня?
— А почему бы нет? — ответил заведующий. — Движение оказывает на больного благотворное действие.
— А не опасно отпускать его с одним санитаром?
— О нет, ничуть! Вы сами могли убедиться, насколько безобиден и тих этот человек. Не думаю, чтобы он притворялся! Да и санитары нужны мне для других больных — ведь большинство из них буйные. Кроме того, на ногах у него кандалы — где уж тут перебраться через высокую стену?
— Ах да, я и забыл! — спохватился доктор Коннар. — Вы совершенно правы!
Назавтра, незадолго до полудня, доктор снова находился на своем наблюдательном пункте, который устроил на громадной ели: ее густые лапы служили прекрасным укрытием даже зимой. Он не отрывался от подзорной трубы, наведенной на здание лечебницы. Заметив, что в дверях, выходящих в парк, появились двое, доктор слез с дерева и сделал знак какому-то человеку, который сидел на пне недалеко от него и, казалось, только и ждал этого сигнала.
Незнакомец — это был негр — поднялся и подошел к доктору.
Доктор что-то сказал ему, потом забросил на стену веревочную лестницу и взобрался по ней наверх. Все это он проделал так скрытно, что заметить его из парка было совершенно невозможно. Тем временем негр притащил еще одну лестницу — на этот раз деревянную — и установил рядом с веревочной.
Прошло около десяти минут. Услышав шаги, доктор осторожно выглянул и увидел Морреля, приближающегося в сопровождении санитара.
Им предстояло пройти совсем рядом со стеной. Моррель шел немного впереди, а санитар, беззаботно насвистывающий какую-то песенку, отставал от своего подопечного на несколько шагов. И когда страж капитана проходил мимо того места, где притаился взобравшийся на стену Коннар, доктор прыгнул прямо на него. От неожиданности санитар закричал, но доктор не дал ему опомниться: засунул в рот кляп и связал руки. Все это Коннар проделал с таким проворством и с такой энергией, каких вряд ли можно было ожидать от человека его возраста. В довершение всего он связал санитару ноги и только тогда взглянул на Морреля.
Услышав вопль своего провожатого, капитан обернулся — да так и застыл на месте при виде столь необычного зрелища. Не теряя ни минуты, доктор шагнул к нему.
— Моррель! — сказал он. — Мы должны бежать! Вы меня понимаете? Нам нужно к Валентине, к маленькому Эдмону! Скорее, там лестница!
Говоря это, он лихорадочно разбивал кандалы на ногах капитана.
Пока доктор Коннар занимался с санитаром, негр тоже не терял времени попусту. Он уже успел взобраться на стену и спустить в парк деревянную лестницу.
Моррель недоуменно уставился на странного доктора. При упоминании о Валентине и Эдмоне лицо у него задрожало, но казалось, он не понимает Коннара.
— Говорю вам, Моррель, маленький Эдмон зовет вас! Он там, за стеной! Идите за мной! Разве вы не слышите, как он зовет отца? Это ваш Эдмон!
— Эдмон! Мой сын! — вскричал Моррель, и лицо его просияло. — Где он, мой мальчик? Где Валентина? Да, я слышу — он зовет меня! Я иду, иду, Эдмон!
Он бросился к лестнице и взобрался по ней с ловкостью и уверенностью лунатика. Очутившись на стене, он выпрямился во весь рост, намереваясь шагать дальше, словно находился на земле. Он непременно разбился бы, свалившись с изрядной высоты, если бы негр не подхватил его и не помог спуститься по веревочной лестнице.
Между тем доктор Коннар последовал за капитаном, втянул наверх деревянную лестницу и перебросил ее через стену, за пределы больничного парка.
— Друг мой, — крикнул он санитару, который по-прежнему лежал на земле, не в силах пошевелиться, — я напугал вас. Может быть, вас прогонят отсюда, если придут к мысли, что вы были в сговоре со мной. В этом случае отправляйтесь в Париж, на улицу Меле, к господину Эрбо. Он отсчитает вам от моего имени двадцать тысяч франков.
Затем доктор, воспользовавшись веревочной лестницей, спустился наземь, где его уже ждал недоумевающий Моррель.
— Где мой сын? — кричал он, озираясь по сторонам. — Где Валентина?
— Пойдемте, пойдемте, они там! — восклицал доктор, схватив капитана за руку и увлекал за собой.
Повторяя на разные лады эти слова и подбадривая таким образом несчастного Морреля, он тащил его прочь, подальше от злополучной лечебницы. Негр помогал ему, поддерживая Макса с другой стороны. Спустя несколько минут все трое миновали заросли кустарника и оказались на дороге, где их уже ожидала запряженная шестеркой лошадей дорожная карета. На козлах сидел человек, одетый кучером.
Доктор Коннар подсадил Морреля в экипаж, негр захлопнул дверцу, и карета рванулась с места, держа путь на юго-восток.
Оказавшись в тесном, отрезанном от внешнего мира помещении, какое представляла собой карета, капитан попытался было оказать доктору некоторое сопротивление, но тот поднес к его лицу флакон, содержимое которого привело Макса в состояние беспамятства. Доктор переодел его в гражданское платье, а тюремную одежду вышвырнул в окно.
Что и говорить, доктор Коннар умел ездить так же быстро, как граф Монте-Кристо, и в этом не было ничего удивительного: как давно уже, наверное, догадались читатели, это и был граф собственной персоной. На этот раз он, понятно, избрал другой путь — не тот, каким добирался до Парижа в обществе полицейского чиновника. Он направлялся через Лион в Пьемонт. Под Ниццей графа должна была поджидать его яхта, но не паровая — поскольку граф стремился отвести от себя всякие подозрения, — а обычная парусная.
Все время, пока продолжалось путешествие, Моррель пребывал в полузабытьи, потому что граф добавлял в воду и вино, предназначавшиеся больному, особое снадобье. Это было единственное средство, позволявшее несчастному выдерживать длительное пребывание в тесной карете.
Бумаги путешественников не вызвали никаких сомнений. Судя по паспортам, в карете находились доктор Коннар, некий весьма состоятельный больной, сопровождаемый доктором в Ниццу, и его слуга-негр, в котором читатель, безусловно, узнал нубийца Али. По прибытии в Ниццу граф дал капитану сильнейшую дозу своего лекарства, погрузив в такой крепкий сон, что без всякого труда перенес его в ожидавшую яхту.
Парусник, двигаясь вдоль побережья, доставил наших героев в условленное место, где стояла на якоре паровая яхта.
Едва поднявшись на борт судна, граф обратил внимание на удрученные, сумрачные лица команды. Штурман протянул ему письмо.
Монте-Кристо распечатал его и прочел следующее:
«Ваше сиятельство!
Клянусь Богом, я не виноват в том, что случилось! Предотвратить это несчастье я не мог. Если Вы хоть на миг усомнитесь в моей преданности, я готов лишить себя жизни!
Бертуччо».
XVI. БЕНЕДЕТТО
В то время, когда мягкая зима, привычная для жителей Центральной Европы, незаметно преодолевала незримую границу, отделявшую старый год от нового, в то время, когда снега, которые покрывали Альпы и Апеннины, спустились чуть ниже к подножию гор, на благословенном острове Монте-Кристо царила самая настоящая весна.
Неудивительно, что бедняга прокаженный не мог усидеть в отведенной ему хижине, а с самого утра поднимался на скалы и, расположившись на нагретых камнях, нежился под лучами солнца. Никому не было до него дела. Бертуччо исправно давал ему лекарство, оставленное графом, однако больной, как нетрудно догадаться, не спешил использовать его по назначению.
Обыкновенно прокаженный устраивался над обрывом, как раз там, где у подножия находилось таинственное жилище графа, почти целиком вырубленное в скале, так что непосвященный мог заметить его лишь после длительных поисков.
Теперь это жилище — ему, разумеется, недоступное, ибо его хижина стояла в стороне, — сделалось, похоже, объектом самого пристального внимания прокаженного. Сидел ли он на скале, как бы отрешившись от всего, что его окружало, или лежал, притворившись спящим, он не сводил с него глаз и мало-помалу раскрыл все его тайны. Он узнал расположение отдельных комнат, определил назначение отдельных помещений, установил обитателей загадочных апартаментов. Скоро ему стало известно, где помещается жена графа с сыном и служанками, где содержат безумного Вильфора, где устроился управляющий Бертуччо и какие комнаты отведены прислуге.
Как-то утром, выйдя из своей хижины, прокаженный увидел Бертуччо и Джакопо, увлеченных разговором. Время от времени Джакопо показывал рукой на восток. Прокаженный попытался незаметно приблизиться к собеседникам, пока не очутился совсем рядом с ними, и, спрятавшись за кустами, притворился спящим.
— Правда, его сиятельство особенно не предостерегал нас, — сказал Бертуччо, — однако нам следует соблюдать осторожность. Впрочем, ничего такого пока не произошло. Пираты и контрабандисты знают, что на этот остров наложено табу. Но графа давно здесь не было, и молодые парни, которые занимаются теперь этим неправедным делом, не питают должного почтения к прежним обычаям и законам.
— Если они и осмелятся нарушить неписаный закон, охраняющий наш остров, у нас хватит людей, чтобы постоять за себя! — сказал Джакопо. — Господин граф оставил нам столько оружия, что мы в состоянии обратить в бегство целую шайку! А их всего девять человек!
— Как ты думаешь, кто они — пираты или контрабандисты? — спросил Бертуччо.
— Мне кажется, контрабандисты, — заметил Джакопо. — Поэтому особых мер можно не принимать.
— Нас в общем-то целая дюжина, так что опасаться, пожалуй, нечего.
— За все время, что я на острове, и пираты и контрабандисты высаживались здесь раз пятьдесят, не меньше, и никогда им не приходило в голову забираться сюда.
Поговорив, собеседники ушли, а прокаженный еще некоторое время оставался в своем убежище, потом осторожно поднялся, обогнул жилище графа и, никем не замеченный, затерялся в конце концов среди скал, направляясь на восточное побережье острова.
Остров Монте-Кристо, как помнит читатель, невелик, и прокаженный довольно скоро добрался до места, откуда мог окинуть взором всю восточную оконечность этого клочка суши. В укромной бухте он обнаружил небольшое суденышко типа итальянской сперонары, так искусно укрытое среди скал, что заметить его было почти невозможно. На берегу, неподалеку от судна, расположились вокруг костра, кто сидя, кто лежа, какие-то люди.
Судя по всему, незнакомцы готовили обед. Один из них отделился от своих товарищей и направился в глубь острова, вероятно, на поиски щавеля, который моряки и вообще итальянцы охотно употребляют в пищу вместо салата.
Роскович незаметно приблизился к сборщику щавеля, пока расстояние между ними не сократилось примерно до пятидесяти шагов.
Наружностью этот человек нисколько не походил на контрабандиста, а тем более на пирата. Это был тучный, безобразного сложения коротышка с красным одутловатым лицом, которое свидетельствовало скорее о склонности к праздной жизни и чревоугодию, но отнюдь не об энергии, столь необходимой всякому пирату.
Если бы обезображенная физиономия прокаженного, его налитые кровью глаза были способны отразить хоть малую толику того, что он почувствовал, вглядевшись в толстяка, мы увидели бы выражение полного недоумения, сменившегося радостью. Он не удержался от удивленного возгласа и тут же вышел из-за скалы, за которой до сих пор таился.
— Рад вас видеть, мой друг! — сказал он по-французски. — Сдается мне, вы ищете салат к обеду!
Контрабандист — назовем его так — поднял глаза и, увидев лицо прокаженного, в ужасе отшатнулся.
— Дьявол! — вскричал он. — Настоящее исчадие ада! Боже, спаси меня!
— Весьма неучтиво с вашей стороны, приятель, — ответил Роскович, состроив отвратительную гримасу, — просто не по-христиански так обращаться ко мне. Разве моя вина в том, что я выгляжу не так, как прежде? Как говорит древняя пословица, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Кто узнал бы в том жалком бродяге, которого я вижу перед собой, барона Данглара, одного из первых банкиров Парижа?
— Так кто же вы, кто? — пролепетал барон, дрожа от страха, ибо прокаженный неумолимо приближался к нему. — В жизни не встречал вашего лица! Да Боже упаси!
— Некогда я был настоящим красавцем и, надеюсь, стану им снова! — ответил Роскович. — А теперь возьмите себя в руки и отвечайте на мои вопросы. Что это за люди, с которыми я вас видел? Контрабандисты или пираты?
— Понемногу и того, и другого, — ответил Данглар, все еще не оправившийся от испуга.
— Нет ли у вас охоты разжиться изрядным количеством дукатов? — продолжал спрашивать прокаженный.
— Э, тут нужно подумать! Да и не так просто добыть их здесь, на этом бесплодном клочке земли!
— И тем не менее. У вас не пропало желание отомстить графу Монте-Кристо, Данглар?
Толстяк невольно попятился. Казалось, он колеблется. Можно ли доверять этому человеку, который неожиданно, словно нечистый, принявший на этот раз самое отталкивающее свое обличье, вырос перед ним как из-под земли.
— Ну, ну, поразмыслите! — продолжал Роскович, видя его замешательство. — Не хочу принуждать вас. Приходите опять сюда после полудня. Может быть, узнаете во мне старого знакомого? Вашим приятелям обо всем этом ни слова, лучше убедите их провести в этой бухте еще одну ночь. Когда вы услышите мой план и расскажете о нем остальным, они наверняка согласятся. Итак, по рукам, господин Данглар!
— Пожалуй, но прежде мне нужно знать, кто вы, — настаивал банкир.
— Узнаете после обеда, — ответил Роскович. — Сейчас я не могу задерживаться здесь, меня могут хватиться.
С этими словами он покинул ошеломленного банкира и тайком вернулся в свою хижину.
Он почти не притронулся к нехитрому обеду, что ему принесли. Он обследовал свой узелок, с которым почти не расставался, и, когда все кругом, казалось, стихло, захватил его с собой на вершину скалы и припрятал в укромном месте. Потом, распластавшись на скале, возобновил свои наблюдения, еще раз проверил все подходы к жилищу графа, после чего вновь улизнул на восточное побережье.
Какое-то время ему пришлось ждать и даже присесть на обломок скалы, пока вдалеке не показалась медленно приближавшаяся неуклюжая фигура барона.
— Поторапливайтесь, господин барон! — ободряюще крикнул ему Роскович. — Вы тащитесь так, словно в сутках семьдесят два часа!
— Сударь, — обратился к нему, приблизившись, Данглар, — ради Бога, скажите же мне, кто вы!
— Вы имеете удовольствие, господин барон, видеть человека, который однажды едва не стал вашим зятем. Я — Бенедетто, князь Кавальканти!
— Черт побери! — отпрянул Данглар. — Возможно ли такое? И это говорите мне вы, вы — убийца, вы — человек, убивший мою жену!
— Неужели и до ваших ушей дошли эти вздорные слухи? — сочувственно спросил Бенедетто, пожимая плечами. — И как вы могли поверить этому — вы, кто не должен допускать и тени сомнений в моей невиновности? Впрочем, хватит об этом, теперь вам известно, кто я. Не угодно ли господину Данглару вкратце поведать мне о своих злоключениях с того времени, как ему пришлось бежать из Парижа?
То ли банкир несколько успокоился, узнав, с кем имеет дело, то ли воспоминания о прежних знакомствах развязали ему язык — как бы там ни было, он принялся бойко пересказывать прокаженному свою невеселую историю, то и дело осыпая проклятьями графа Монте-Кристо. Барон пожаловался внимательно слушавшему его Бенедетто, как граф разорил его в Париже, как преследовал даже в Риме, куда он бежал, захватив с собой последние пять миллионов, как лишил его там и этих денег, после чего открыл ему, что он Эдмон Дантес.
— Этот граф — большой хитрец! — воскликнул, смеясь, Бенедетто. — Но мы все-таки перехитрим его!
— Что мне тогда оставалось делать в Риме? — продолжал Данглар. — Я был без денег, без знакомств, потому что после банкротства мои прежние компаньоны отвернулись от меня. Хочешь не хочешь, а пришлось зарабатывать на жизнь. Некоторое время я служил официантом в гостинице. Но место оказалось незавидное: хлопот по горло, а денег мало; поскольку же в Риме меня знали плохо, подработать где-нибудь на стороне никак не удавалось. Тогда я поступил камердинером к одному знатному синьору. Однажды он оставил на столе тысячефранковый банкнот, и я, решив, что он намерен сделать мне тайный подарок, забрал деньги себе. К несчастью, этот сумасброд просто задумал проверить мою честность. Он прогнал меня, и мне оставалось только радоваться, что удалось избежать знакомства с итальянскими тюрьмами. Потом я вошел в пай с хозяином одной римской таверны, и когда тот однажды послал меня в Остию — помочь получить контрабандный сахар и сигареты, — я свел знакомство с теперешними моими товарищами. Они промышляют контрабандой, а при случае не прочь сыграть роль таможенников и обшарить других в поисках недозволенных товаров. Скоро они узнали мои хорошие качества, а когда убедились, что для всех тех дел, где требуются мужество и ловкость, я не гожусь, стали использовать меня для выведывания нужных сведений у всяких глупцов и простофиль. Кроме того, чтобы урвать иногда лишний кусок, я сам вызвался готовить на всю компанию.
— Бедный барон! — иронически заметил Бенедетто. — Какая превратность судьбы! В Париже — один из первейших богачей, а теперь — повар в шайке контрабандистов! И во всем этом виноват достойнейший граф Монте-Кристо! Как вы, наверное, благодарны ему!
— Еще бы не благодарен! Я уничтожил бы его, не задумываясь! — пробормотал Данглар, невольно сжимая кулаки.
— Так вот слушайте! — сказал Бенедетто. — Вам известно, что это остров Монте-Кристо, что он принадлежит графу. Но вы, пожалуй, не знаете, что здесь находятся его жена и сын, а может быть, и его сокровища, что самого графа здесь нет и вернется он только через несколько дней!
— В самом деле? — вскричал барон, жадно ловивший каждое слово прокаженного. — Что же дальше?
— Дальше все очень просто: хватит ли мужества у ваших приятелей-контрабандистов напасть на одинокое жилище, которое защищает горстка людей, и захватить несметные сокровища?
— Хм! А вы точно знаете, что графа здесь нет? — спросил Данглар. — Иначе…
— Его нет на острове. Я ждал такого случая. Не напрасно же я навлек на себя эту ужасную хворь, не напрасно все разузнал и разведал. Я жажду отомстить. Я собирался сделать это в одиночку, но вот встретил вас и могу совершить двойную месть. Может быть, удастся лишить графа и его сокровищ. Ну, что скажете? Второго такого случая больше не представится. Не побоятся контрабандисты поддержать нас?
— Их главарь — отчаянный парень, — заметил Данглар. — Позвать его?
— Разумеется, — сказал Бенедетто. — Я как раз собирался попросить вас об этом одолжении. Сходите за ним.
Данглар не заставил просить себя дважды и через четверть часа вернулся с человеком, в котором Бенедетто еще издали угадал настоящего итальянского «браво». Он был строен, мускулист, со смуглой кожей и черными как смоль волосами. Большие бакенбарды и изящная одежда, какую носят на юге Италии, придавали ему весьма живописный вид.
— Позвольте представить вас друг другу, господа! — высокопарно произнес Данглар. — Синьор Бенедетто, некогда весьма уважаемая персона, — синьор Тордеро, наш главарь!
Как ни был привычен синьор Тордеро ко всему тому, что люди именуют ужасным и безобразным, взглянув на Бенедетто, он поморщился и вместо того, чтобы протянуть ему руку, ограничился запоздалым поклоном.
— Синьор, — сказал прокаженный, тотчас отметивший про себя это обстоятельство, — вам неприятно глядеть на калеку, допустим на однорукого, не так ли?
— Верно, — согласился Тордеро. — Но почему вы спрашиваете об этом?
— Ответьте еще на один вопрос, — продолжал Бенедетто. — Итак, удовольствия это вам не доставляет. Однако же вы смотрели бы на него с участием, если бы прослышали, что он сам лишил себя руки ради достижения цели?
— И это верно! — сказал контрабандист, который с присущими людям такого сорта невозмутимостью и хладнокровием успел расположиться на каменной глыбе. — К чему, однако, столь странное вступление, синьор Бенедетто?
— К тому, что болезнь, так напугавшая вас, не что иное, как плод моего собственного желания! К тому, что я намеренно вызвал ее у себя, стремясь добиться своего — сбить с толку человека, который меня знает, чтобы покончить с ним!
— О! Браво! — одобрительно воскликнул Тордеро. — Дайте вашу руку, Бенедетто!
И они обменялись теперь крепким рукопожатием.
— Да, я хочу отомстить, и вы должны помочь мне в этом, Тордеро! Вы хорошо знаете остров? Вам известно, что он обитаем?
— Я не знаток этих мест, синьор, — ответил контрабандист. — Моя родина — Южная Италия… Неаполь… Сицилия… Сюда нас привел случай. Но если мне не изменяет память, этот остров принадлежит графу Монте-Кристо.
— Именно. Он здесь живет, и ему я собираюсь отомстить! — сказал Бенедетто.
— Отомстить графу? — с сомнением переспросил Тордеро. — Как-то я слышал, что он в союзе с нами. Говорят, нам запрещено причинять ему и его людям какой бы то ни было вред.
— Глупости! — насмешливо сказал Бенедетто. — Скорее всего, граф сам распустил этот слух, чтобы чувствовать себя в безопасности, но я готов держать пари: все это — чистый вздор! А если даже и так, разве это остановило бы вас и помешало бы заполучить сто тысяч скудо, а может быть, и вдвое больше?
XVII. НАПАДЕНИЕ
— Сто тысяч скудо? Черт побери! Я не ослышался? — недоверчиво воскликнул Тордеро.
— Нет, не ослышались. Граф сказочно богат. В его жилище хранятся, наверное, миллионы — уж сотни тысяч наверняка — золотом и драгоценными камнями.
— Если то, что вы говорите, синьор, правда, упустить такое богатство — непростительная глупость! Но если граф и в самом деле входит в наше братство, если он под его защитой, тут есть над чем задуматься. Нападение на того, кто принадлежит к братству, карается смертью!
— На этот счет можете не беспокоиться, клянусь честью! — начал убеждать его Бенедетто. — Судите сами. Во-первых, вы с вашими сокровищами в Италии не останетесь — отправитесь во Францию или Испанию, где вас никто не знает. Во-вторых, у графа не будет возможности преследовать вас. Он занялся политикой и сейчас находится в заключении во Франции.
То ли прокаженный высказывал предположения, то ли, подслушав разговоры прислуги и команды яхты об эпизоде с французским корветом, догадался об истинном положении дел — утверждать трудно.
— Нужно подумать! — сказал Тордеро.
Бенедетто примолк, не желая отвлекать главаря контрабандистов от серьезных размышлений.
— Что касается меня, — заметил он через некоторое время, — я не требую своей доли в той добыче, что попадет в ваши руки. Моя месть иного рода. Я удовлетворюсь тем, что́ вы уступите мне по собственному разумению. Вас девять человек. В жилище графа, если не ошибаюсь, всего шестеро. Кроме того, мне как свои пять пальцев известны все входы и выходы в жилище графа, так что вы захватите его прежде, чем прислуга сможет оказать сопротивление. У вас будет время не спеша, без помех заняться поисками сокровищ графа, и вы отыщете их, где бы они ни были спрятаны.
— Черт подери! Я согласен, синьор! — решительно сказал Тордеро, вскочив.
— Прекрасно! — с удовлетворением ответил Бенедетто. — А теперь слушайте, что вы должны делать. Как только стемнеет, на всякий случай приготовьте свою лодку к отплытию. Оставлять охрану излишне. Потом, как следует вооружившись, собирайтесь с вашими людьми на вершине скалы. Вон той, видите? Отлично! Там я буду ждать вас и потом в темноте проведу до места, откуда можно незаметно проникнуть в жилище графа. Договорились?
— Договорились! — сказал Тордеро, еще раз с удовлетворением пожимая безобразную лапу Бенедетто.
— До вечера еще несколько часов, — поучал прокаженный. — Нельзя быть уверенными, что кто-нибудь из слуг графа не следит за вами, поэтому напоминаю еще раз: не забудьте приготовить лодку к отплытию. Пусть думают, что с наступлением ночи вы собираетесь выйти в море. Пока совсем не стемнеет, не приходите. А теперь пора расходиться. Я должен возвращаться, мое отсутствие может вызвать подозрения.
Оба контрабандиста, Тордеро и Данглар, отправились в сторону бухты, а Бенедетто с обычными предосторожностями вернулся в свою хижину. Его острый, наметанный глаз замечал все, но не обнаружил ничего подозрительного, никаких признаков того, что приняты дополнительные меры безопасности. Матросы находились в доме, специально для них построенном. Бертуччо вместе с Джакопо занимали часть главного здания. Женщины, как обычно, прогуливались по террасе дома.
Может показаться странным, что граф, столь предусмотрительный и столь пекущийся о благе своих близких, не принял никаких мер, чтобы предотвратить несчастье такого рода, какое угрожало им теперь. Но, с одной стороны, он был уверен, что может положиться на бдительность своих слуг — надежных, проверенных людей, с другой — он и в самом деле поддерживал хорошие отношения с великим братством итальянских разбойников. Когда-то в Риме он оказал большую услугу знаменитому Луиджи Вампе, избавив от виселицы его любимца Беппино. За это Луиджи поклялся быть его вечным должником и в доказательство отдал всем главарям строжайший приказ никогда не причинять вреда ни графу, ни тем, кто его окружает. А при той железной дисциплине, какая царила среди этих людей, можно было не сомневаться, что этот приказ будет неукоснительно выполняться.
Однако с тех пор минуло уже немало времени, и имя графа Монте-Кристо почти изгладилось из памяти итальянцев. К тому же Тордеро не входил в это братство. Наполовину контрабандист, наполовину разбойник, он был сам себе хозяин. Кроме того, граф, вероятно, не задумывался над тем, что необычайная осторожность и предусмотрительность, с какими он всегда действовал, притупили бдительность его собственных слуг и им стало казаться почти нереальным, чтобы с графом или его семьей могло что-то случиться.
Солнце зашло. Вскоре сделалось так темно, что Бенедетто рискнул отправиться к утесам на востоке острова напрямую, не делая уже привычного крюка. Поднявшись на вершину, избранную для встречи с людьми Тордеро, он никого не застал. Спустя несколько минут из темноты одна за другой стали появляться фигуры контрабандистов.
— Это вы, Бенедетто? — спросил, приблизившись к прокаженному, их главарь.
— Тихо! Это я! — отозвался тот. — Теперь, синьоры, беспрекословно подчиняйтесь моим указаниям и следуйте за мной. Говорить только шепотом!
— Да будет так! — сказал Тордеро и строго повторил своим людям распоряжения Бенедетто.
Прокаженный пошел впереди. По пятам за ним двинулся Данглар, затем Тордеро и все остальные, растянувшись в безмолвную, зловещую цепочку.
Добравшись до скал, примыкавших к жилищу графа, Бенедетто стал продвигаться осторожно, без единого шороха. Остальные злоумышленники последовали его примеру. Дорогу прокаженный знал назубок. С обломка он вскарабкался на выступ, нависавший над бездной, а оттуда поднялся на вершину скалы. Контрабандисты ни на шаг не отставали от своего проводника.
— Осторожно! — прошептал Бенедетто. — Теперь придется прыгать.
Он прыгнул с высоты примерно десяти футов. Данглар было заупрямился, но Тордеро подтолкнул его, а внизу толстяка подхватил Бенедетто.
— С этой минуты, Данглар, от меня ни на шаг, слышишь? — почти угрожающе прошептал он на ухо испуганному барону.
— Да, да, разумеется! — ответил тот дрожащим от пережитого страха голосом. — Я сделаю все, что вы скажете.
Дождавшись, когда вся шайка очутилась на террасе, Бенедетто подал знак всем лечь и указал Тордеро те окна, через которые ему и его людям надлежало проникнуть в дом, и те, которые им предстояло защищать от возможного нападения слуг графа.
Затем прокаженный первым взобрался на парапет окна, выдавил стекло и исчез в темноте. Данглар последовал за ним. По-видимому, сильно развитое природное чутье подсказывало ему, что там, где Бенедетто, ему менее всего грозит опасность и ждет самая богатая пожива.
Между тем Бенедетто очутился в передней, где в дневные часы находились служанки. Он слышал, как через остальные окна в жилище ворвались контрабандисты, и поспешил вперед. Одна из дверей вела в соседнюю комнату; дверь оказалась незапертой, а комната — пустой. Тут до его слуха донеслись женские крики — сперва один, затем другой.
— Теперь вперед! — крикнул он Данглару. — В этой комнате две женщины и ребенок. Я свяжу первую, а вторую ты возьми на себя! Все это нужно проделать как можно быстрее! Держи веревку!
Следующая дверь была заперта, но Бенедетто навалился на нее с такой силой, что она не выдержала и разлетелась в щепки. Осторожно перешагнув через обломки, он проник в комнату.
Здесь была комната Гайде, где она спала вместе с ребенком и верной Мирто.
В испуге Гайде вскочила с постели и первым делом попыталась схватить малютку, продолжавшего мирно спать в своей кроватке. Проснулась и Мирто.
Слабый свет ночника позволил Бенедетто с первого взгляда оценить обстановку. Судорожно кутаясь в тонкие ночные одеяния, Гайде на миг словно оцепенела, глядя на него, а потом, очнувшись, принялась звать на помощь. Полуодетая Мирто пронзительно закричала и рывком соскочила с кровати, предоставив Данглару редкую возможность полюбоваться ее прекрасными обнаженными плечами. Бенедетто бросился к Гайде.
Борьба продолжалась недолго. Красивая хрупкая женщина, предмет особой гордости и самое ценное из сокровищ графа Монте-Кристо, преданная, нежная супруга, любящая мать, Гайде отчаянно сопротивлялась отвратительному негодяю. Но все было напрасно. В одно мгновение прокаженный связал ей руки и заткнул рот. Данглар так же быстро расправился с Мирто.
Тем временем заплакал проснувшийся от шума ребенок. Бенедетто, не раздумывая, положил его к матери, и малютка умолк.
Грабители с лихорадочной поспешностью принялись за поиски вожделенных сокровищ графа. Из других комнат до них долетали крики, какой-то шум, но ни единого выстрела слышно не было. Бенедетто с Дангларом зажгли свечи и, выдвигая ящики секретеров и шкафов, рассовывали по карманам драгоценности. Так они добрались до покоев графа, однако натолкнулись на непреодолимое препятствие. Там оказались металлические шкафы с искусными замками. Бандитам пришлось вернуться.
Тут грянули выстрелы, послышались крики. Бенедетто заглянул в спальню: связанные Гайде и Мирто недвижимо лежали на своих кроватях.
— А теперь к старику Вильфору! — скомандовал прокаженный. — Как-никак он мой отец. Если захочет, пусть идет с нами.
Бенедетто подхватил ребенка и поспешил прочь из спальни. Увидев это, Гайде вскочила словно подброшенная пружиной. Связанные за спиной руки не позволяли ей задержать похитителя, но не мешали следовать за ним.
Вскочила и Мирто, готовая разделить судьбу своей госпожи.
— А эта пусть остается здесь! Хватит с нас и одной! — крикнул Бенедетто Данглару.
— Но почему бы такой красивой девушке не сопровождать нас? — попробовал возразить барон.
— Нет! Двое против двух — это слишком! Мы не можем рисковать!
Бенедетто поспешил вперед, Данглар нерешительно двинулся за ним, и прежде чем Мирто добралась до двери, прокаженный захлопнул ее и запер на ключ.
Его путь лежал через темный коридор. За спиной прокаженного нередко звучали выстрелы — должно быть, контрабандистам стоило немалых трудов защищать окна и двери от вооруженных людей графа.
Зажженная свеча в руке Бенедетто не гасла, хотя он шагал довольно быстро. Некоторое время он озирался в поисках нужной двери, потом нашел ее, отодвинул задвижку и очутился в комнате, освещенной слабым светом лампы.
Старый Вильфор, по своему обыкновению, сидел, скорчившись, в углу, погруженный в какие-то свои, одному ему известные мысли. Появление постороннего нисколько его не удивило. Только увидев на руках у Бенедетто ребенка, он обеспокоенно поднялся с пола.
— Смотри, старик, я принес тебе твоего Эдуарда! — воскликнул прокаженный. — Ты доволен?
— Эдуарда? — переспросил Вильфор, дрожа всем телом. — Нет, это не мой Эдуард! Мой был больше, старше! Это не он!
— Глупец, это он, он! — сердито настаивал Бенедетто. — Разве тебе не известно, что Эдуард поднялся на небо и превратился в ангела? Вот же он — он сделался ангелом.
— Мой Эдуард — ангел! — возликовал умалишенный. — Мой сын — ангел!
— Беда в том, что они хотят украсть его у тебя! — воскликнул Бенедетто. — Слышишь, как они стреляют? Идем, идем быстрее! Они хотят похитить у тебя твоего Эдуарда! Иди за нами, я понесу его!
— Мой сын — ангел! — никак не мог угомониться Вильфор, пытаясь взять ребенка. Однако Бенедетто увернулся и быстрыми шагами направился к дверям. Вильфор и Гайде устремились за ним.
— Что ты теперь задумал? — спросил Данглар. — Похоже, собираешься ретироваться!
— А ты как думал, болван! Советую тебе держаться меня! Боюсь, никому из банды Тордеро живым отсюда не уйти! Послушай сам — стрельба уже стихла! Кажется, люди графа одолели твоих приятелей! Черт побери, я надеялся, что они продержатся подольше! Нужно торопиться!
Бенедетто выпрыгнул в окно и перебрался с террасы на подступавшую вплотную к ней скалу. Казалось, с каждой минутой сил у него прибывает. Страх словно придавал ему крылья.
На очевидна этой ночной сцены, если бы такой нашелся, она, несомненно, произвела бы жуткое впечатление. Первым торопливо шагал Бенедетто с ребенком на руках, за ним, тесня друг друга, неотступно следовали, словно тени, несчастная Гайде и безумный Вильфор: Гайде — в трепещущем на ветру белом ночном одеянии, Вильфор — не переставая повторять имя своего сына. Замыкал эту зловещую процессию Данглар, которого страх наделил необыкновенным проворством.
Видеть беглецов никто не мог, ибо Бенедетто предусмотрительно выбрал такой путь, который сразу же скрыл их от глаз обитателей разгромленного жилища графа. Вскоре он был уже далеко и растаял в ночном мраке. Удивительно, как ему удавалось в полной темноте безошибочно находить дорогу среди громоздившихся скал — дорогу, какой ему еще ни разу не доводилось ходить в ночную пору.
Наконец они добрались до укромной бухты, где тихо покачивалась на волнах лодка, полностью готовая к отплытию. С берега на борт суденышка была переброшена доска, служившая сходнями. Бенедетто поставил было ногу на эти импровизированные сходни, но, как видно, неудачно: доска перевернулась и соскользнула в воду.
Берег был скалистый, и достать доску, не освободившись от ребенка, нечего было и думать. Бенедетто оглянулся. Гайде бросилась к его ногам, Вильфор опять тянулся к младенцу, Данглар опасливо вглядывался в темноту, опасаясь погони.
— Возьми своего сына, старик! — сказал прокаженный, еле переводя дыхание после стремительного ночного похода. — Только смотри, держи крепче!
Умалишенный с радостным воплем схватил ребенка и принялся так неистово ласкать и тискать малютку, словно собирался задушить его в своих объятиях. Когда Гайде увидела свое дитя в руках безумца, ее охватило отчаяние. Но Вильфор не причинил малышу никакого вреда. Приплясывая и что-то напевая, он кружил с ним по скалистому берегу, рискуя иной раз сорваться в море.
Тем временем Бенедетто благополучно выудил из воды упавшую доску.
— Живее в лодку, Данглар! — крикнул он барону. — Нельзя терять ни минуты!
— Как, без Тордеро? — вскричал барон. — Нужно дождаться его!
— Как ты был болваном, так, верно, им и останешься! — рассердился Бенедетто. — Тордеро со всей его шайкой давно уже на том свете, а если и нет — они знали, на что шли!
Данглар опустил голову и послушно забрался в лодку.
— Ну, Вильфор, теперь давай ребенка! — сказал Бенедетто, приближаясь к старику. — Хватит тебе носить его. Ноги у тебя уже старые, слабые, а нас, того и гляди, догонят.
И он протянул руки, намереваясь взять малютку от безумца, но тот, похоже, не обратил ни малейшего внимания на слова прокаженного, продолжая забавляться с малышом.
— Давай его сюда! — сердито потребовал Бенедетто, хватая старика за руки. — Давай сюда ребенка!
Старик словно не понял обращенных к нему слов и отошел подальше от берега.
— Не делай глупостей, кому говорят! — вскричал прокаженный. — Черт побери, с минуты на минуту могут нагрянуть люди графа! Ступай в лодку или верни ребенка!
— Нет, только не по воде! — заупрямился Вильфор. — Эдуард, мальчик мой, по воде мы не пойдем, мы останемся здесь, не правда ли?
Бенедетто, видимо, сообразил, что убеждать сумасшедшего бессмысленно, и попытался отобрать малыша силой. Но старик оказал бешеное сопротивление. Он и не думал расставаться с ребенком, бушевал и сыпал проклятьями. Борьба приняла нешуточный оборот. Больше всех страдал при этом несчастный младенец, и Гайде с ужасом и трепетом следила за каждым движением безумного отца и преступного сына.
Казалось, верх берет Вильфор. Старик защищал своего мнимого сына отчаянно, с напряжением всех сил, а силы эти, порожденные его безумием, были огромны. Бенедетто весь кипел от ярости. Малютка Эдмон, которого Вильфор в пылу борьбы сильно прижал к себе, громко закричал.
— Проклятье! Если не отдашь ребенка, клянусь Богом, тебе несдобровать! — вскричал прокаженный. — Давай сюда младенца, глупец, или пеняй на себя!
На миг он отпустил старика, чтобы отыскать нож. Воспользовавшись случаем, Вильфор побежал прочь от берега. Бенедетто и Гайде бросились за ним.
Немного погодя Данглар, оставшийся в лодке, услышал крик, а спустя минуту увидел прокаженного с ребенком на руках. Следом, еле держась на ногах от пережитого, появилась Гайде.
— А где старик? — дрожа всем телом, спросил барон.
— Пришлось немного проучить его! Думаю, это пойдет ему на пользу! — пробормотал Бенедетто. — А теперь пошевеливайся! Пора выходить в море!
Он положил на палубу маленького Эдмона, над которым тотчас склонилась несчастная Гайде, убрал ненужную теперь доску и поднял якорь.
— Святая матерь Божья! — завопил Данглар. — Ты собираешься выходить в море, а сам ничего не смыслишь в парусах! Опомнись, Бенедетто! Подождем по крайней мере кого-нибудь из контрабандистов!
— Вот ты и жди, если есть охота, а мне некогда! — вскричал прокаженный. — В детстве мне не раз приходилось переправлять контрабанду, болтаясь взад-вперед между Корсикой и побережьем. Да и ты, надеюсь, кое-чему успел научиться! Лево руля, Данглар! Теперь право руля! Так, отлично. Еще лево руля!
Распуская паруса один за другим, он отдавал команды барону, и лодка медленно двигалась между скалами в открытое море. Там ее подхватил свежий северный ветер. Бенедетто закрепил снасти, сам сел к рулю, поставил паруса по ветру, так что судно немного накренилось на один борт, и взял курс на юг.
— Вот и все, Монте-Кристо! Теперь ищи нас, если можешь! Море следов не оставляет!
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I. ПЕРВЫЙ УДАР
Мы покинули графа Монте-Кристо в ту минуту, когда он, мучимый мрачными предчувствиями, но скрывающий свою озабоченность, стоял перед штурманом, который под его взглядом пришел, казалось, в полнейшее замешательство и смущение.
— Что случилось? — спросил граф. — Ты что же, любезный, говорить разучился?
— Бертуччо и Джакопо ничего не подозревали… ее сиятельство графиня… никто не предполагал ничего подобного… должно быть, это те самые негодяи… — бессвязно лепетал штурман.
— Ладно! Придется подождать возвращения на остров, — коротко заметил граф. — Бертуччо там?
— Да, ваше сиятельство! А Джакопо… Джакопо пустился в погоню за этим… этим… злодеем…
Монте-Кристо сделал ему знак замолчать, взглянул на подавленного, пребывающего в глубокой депрессии Морреля, отдал приказ сниматься с якоря и сам встал к штурвалу. Дул тот же северный ветер, что помог Бенедетто уйти от преследования, но теперь он заметно крепчал, достигая порой ураганной силы.
Время тянулось страшно медленно. Наконец на горизонте показалась небольшая светлая точка. Постепенно она увеличивалась, и вскоре можно было уже различить скалистые берега острова Монте-Кристо.
— Этого больного господина поместите в мою каюту! — распорядился граф и, спустившись в шлюпку, приказал матросам налечь на весла. Через несколько минут он уже сошел на берег и спокойно направился к дому. — Передайте Бертуччо, что я жду его!
Едва граф оказался у себя в кабинете, Али известил о приходе управляющего. Прямо с порога Бертуччо бросился к ногам графа и, протягивая ему пистолет, умолял без промедления лишить его жизни.
— Прекратите ломать комедию, синьор Бертуччо! — холодно произнес граф. — Что это еще за глупости! Ступайте к ее сиятельству и скажите, что я собираюсь прийти к ней!
Управляющий испустил глубокий вздох и понурил голову.
— Графини здесь нет… — с трудом выдавил он.
— Как «нет»? — недоуменно переспросил граф. — Она что же, уехала, не предупредив меня?
— Она исчезла, а с ней и молодой граф… — пробормотал Бертуччо.
— Они оба исчезли? Как это возможно? Что это значит? — Силы изменили графу, и он опустился в кресло.
— Это я, я один во всем виноват, ваше сиятельство! — не помня себя от горя, вскричал управляющий. — Мне следовало быть осторожнее! Но кто мог подумать, что у этих негодяев хватит наглости посягнуть на вашу собственность?
— Синьор Бертуччо, я хочу знать, что здесь произошло!
— Слушаюсь, ваше сиятельство! Позавчера вечером, когда мы с Джакопо уже легли спать, прибежал Пьетро. Он сказал, что в покои графини ворвались какие-то неизвестные. Мы схватили ружья и со всех ног бросились туда. Нас встретили пулями. Но вскоре нам удалось одолеть этих людей — контрабандистов или пиратов, не знаю! Несколько человек мы застрелили, остальных взяли живыми. А когда попытались узнать, что с графиней, не нашли ее. Она пропала — исчезла вместе с вашим сыном и прокаженным!
— Прокаженным? — спросил граф, призывая на помощь все свое самообладание. — Но при чем тут прокаженный, если речь о моей жене и моем сыне?
— Как же! Ведь именно он надоумил этих негодяев напасть на ваш дом! — объяснил Бертуччо. — И знаете, ваше сиятельство, кто это был? Бенедетто! Помните такого?
— Бенедетто? — повторил граф. — Сын Вильфора?
— Он самый! — подтвердил управляющий. — На другое утро мы отправились туда, где стояла лодка этих разбойников, и нашли старого Вильфора. Он лежал в луже крови, раненный ножом в грудь, но был еще жив. Мы принесли его сюда, перевязали, сделали, что смогли. Надеемся, он оправится от раны.
— А с чего ты взял, что тот прокаженный — Бенедетто? — спросил граф.
— Мы захватили главаря шайки. Он и назвал мне это имя. А из всего остального, что он рассказал, я догадался, что это наш старый знакомый Бенедетто.
— Главарь здесь?
— Здесь, ваше сиятельство! Кроме него, мы взяли еще троих, а четверо погибли в перестрелке.
— Немедленно приведи его ко мне! Я хочу говорить с ним!
Бертуччо поспешил исполнить приказ. Монте-Кристо по-прежнему сидел в кресле. Даже оставшись один, он ничуть не изменился в лице. В его чертах застыли нетерпеливое ожидание и решимость. Удар судьбы, поразивший графа в самое сердце, еще не оставил никаких зримых следов.
Вскоре управляющий вернулся, на этот раз в сопровождении нескольких слуг. Они привели с собой Тордеро. Голова у него была обмотана платком, одна рука — на перевязи, на ногах — цепи.
— А теперь оставьте нас одних! — приказал граф. Управляющий и слуги молча повиновались.
Темные глаза Монте-Кристо испытующе впились в лицо контрабандиста, проникая, казалось, в самую его душу. Тордеро, вначале дерзко, с вызовом смотревший на графа, не выдержал его взгляда. От его самоуверенности не осталось и следа.
— Так вот кто напал ночью на это мирное жилище! — с насмешкой и презрением сказал граф. — Вот кто не испугался спящих женщин! Рад познакомиться с таким отчаянным храбрецом!
При каждом слове графа Тордеро невольно вздрагивал.
— Выкрасть у меня жену и сына! — продолжал Монте-Кристо. — Настоящее геройство, что и говорить! Как же ты решился на такое? Разве тебе не известно, глупец, что ни один из твоих собратьев во всей Италии не взглянет теперь в твою сторону, даже если я отпущу тебя? Разве тебе не известно, что я сам, мои близкие и моя собственность находятся под защитой братства? Разве тебе не известно, что любой итальянский разбойник отныне может плюнуть тебе в лицо? Это не только его право — это его долг!
— Я ничего не знал… — побледнев, едва слышно ответил Тордеро. — Да мне и в голову не приходило похищать женщин и детей.
— Вот как? Кто же подбил тебя на подобную низость?
— Дьявол! — в гневе вскричал Тордеро. — Это он, бестия, он, подлый предатель! Этот трус бросил нас и бежал! Видно, я был нужен ему только для того, чтобы отомстить вам!
— Я и сам так думаю! — с горечью заметил Монте-Кристо. — Он что-нибудь говорил об этом?
— Сказал, что хочет во что бы то ни стало отомстить вам, сказал, что от меня требуется совсем немного — развязать ему руки. Да и я тоже хорош: доверился человеку, которого Бог так разукрасил! Правда, он признался, что сам вызвал у себя эту проказу. Да, редкое страшилище, что и говорить! Он называл себя Бенедетто, — ответил контрабандист.
— И ты считаешь, что он намеренно обезобразил себя до неузнаваемости?
— По крайней мере так он сказал. Не знаю, возможно ли такое.
— И он пришел уговаривать тебя напасть на мой дом?
— Он прислал за мной Джакимо.
— Кто такой этот Джакимо?
— Один из наших. Он у нас на все руки: где разнюхать-разузнать, где сварить-поджарить. Мы взяли его из милости. Хвастался, что раньше, в Париже, был богачом, чуть ли не банкиром. Сдается мне, этот Бенедетто знаком с ним. Уж очень по-свойски они болтали.
— Джакимо знал, что встретит здесь Бенедетто?
— Нет, мы остановились тут случайно. Послали Джакимо подальше от берега набрать щавеля. Там он, видно, и встретил Бенедетто.
— Ты, может быть, слышал, как Бенедетто его называл?
— Слышал, да забыл. Вот если бы услышал еще раз…
— Данглар? Он называл его Данглар?
— Верно, Данглар!
— А этого Данглара тоже схватили или, чего доброго, убили в перестрелке?
— Какое там! Говорят, он улизнул вместе с Бенедетто.
— Вот как! — сказал Монте-Кристо, подавляя готовый вырваться из груди тяжелый вздох. — Теперь ты сам убедился, что этот Бенедетто бесстыдно предал тебя!
— Еще бы! Ведь он уверял, что ваших людей всего шестеро, а мы насчитали целую дюжину! Ясно, решил действовать нашими руками! Попадись он мне сейчас — удавил бы не моргнув глазом! — вскричал Тордеро, невольно сжимая в кулак левую, здоровую руку.
— Ну вот что! Теперь слушай меня! — сказал Монте-Кристо. — Тебя толкнули на гнусное преступление, позорное вдвойне. Во-первых, ты нарушил законы братства, которые запрещают причинять вред тому, кто находится под его защитой. Во-вторых, ты, вольно или невольно, помог похитить беззащитную женщину и ее невинное дитя. В моей власти убить тебя или передать в руки правосудия. А может быть, подвергнуть еще более тяжкому наказанию: вернуть тебе свободу, чтобы тебя постигло презрение твоих товарищей! Но ничего этого я делать не буду. Я дам тебе возможность хоть отчасти искупить свою вину. Но сначала ответь, не знаешь ли ты, куда бежал этот Бенедетто?
— Ума не приложу, господин граф! Клянусь спасением души!
— А не согласишься ли ты сопровождать меня, когда я отправлюсь по его следам?
— О чем речь? Если позволите, я готов! С удовольствием прикончил бы этого мерзавца, которому вздумалось дурачить меня!
— Я вижу, ты ранен. У тебя рука на перевязи, — сказал граф.
— Верно! Правую зацепило немного, но левой я владею ничуть не хуже!
— Прекрасно, беру тебя с собой. А теперь ступай! Все остальное тебе скажут.
Отвесив глубокий, почтительный поклон, Тордеро удалился. Он целиком покорился воле графа.
По знаку Монте-Кристо вновь явился Бертуччо. Оставаясь внешне совершенно спокойным, граф расспросил его обо всех подробностях той зловещей ночи. Оказалось, Джакопо, едва дождавшись рассвета, выбрал лучшую парусную лодку среди тех, что были на острове, и отправился на поиски похитителей. В то утро дул северный ветер, и старый моряк взял курс на юг, ибо резонно предполагал, что первым делом беглецы постараются как можно скорее уйти подальше от острова. Куда на самом деле направился Бенедетто, никто толком не знал.
Затем граф приказал, чтобы его оставили одного. Только теперь, уединившись в своем кабинете, куда не имел доступа никто, кроме Али, он дал волю своим чувствам, но не безудержному гневу и не облегчающим душу слезам — он предался той немой, невысказанной скорби, которая мучительнее всех прочих людских страданий. Лишь там, в кабинете, один на один со своим горем, он со всей ясностью представил себе положение Гайде и сына, лишь там мысленно оценил всю опасность, которая им грозила. В том, что Бенедетто жаждал мести, не было сомнений. Но каким образом он намеревался осуществить ее? Убить Гайде и маленького Эдмона? Потребовать за них огромный выкуп? О, если бы речь шла только о деньгах! А вдруг его мщение зашло еще дальше, вдруг он уже погубил малютку? А Гайде, его прекрасная, чистая Гайде… Каково ей оказаться во власти этого убийцы Бенедетто, этого сластолюбца Данглара? При одной мысли об этом граф терял самообладание, кровь закипала в его жилах.
Наконец он взял себя в руки и стал рассуждать трезво. Куда мог бежать Бенедетто, где он рассчитывает спрятать свою добычу? Корсика, Тоскана и Сардиния находятся от острова Монте-Кристо приблизительно на одинаковом расстоянии. Попутный северный ветер вполне мог соблазнить Бенедетто плыть до самой Сицилии или же выбрать южный берег Неаполя, изобилующий всякими укромными местечками. У графа не было ни малейших сомнений в том, что ему удастся обнаружить прокаженного. Он надеялся на помощь Луиджи Вампы, обитавшего в Риме. Если все брави получат приказание выследить Бенедетто, можно быть уверенным, что не пройдет и двух недель, как преступник будет найден. Но тогда, увы, может оказаться слишком поздно!
Нужно действовать без промедления, ибо это решает успех дела.
Граф составил план поисков. Необходимо тотчас же направить гонцов в Геную, на Корсику, в Ливорно, Кальяри, Неаполь и на Сицилию. Особый гонец поедет в Рим. Ему надлежит отыскать Луиджи Вампу и убедить его как можно быстрее приступить к поискам Бенедетто. Что касается самого графа, он решил вместе с Тордеро обследовать на своей паровой яхте побережье Корсики и Сардинии, поскольку многое говорило за то, что Бенедетто не отважится на слишком продолжительное плавание. Для этого у него чересчур трусливый сообщник и ненадежное суденышко.
Но что станет с Моррелем, что будет со всеми этими запутанными делами, невольной причиной которых явился он сам, — делами, которые ему необходимо как можно скорее уладить и довести до благополучного завершения? Как вырвать Валентину из лап Ратура, вернуть рассудок бедному Максу, поддержать павшего духом дона Лотарио?
Душу графа раздирали сомнения. Такого удара судьбы он не ожидал. Как поступить, на что решиться? Пожертвовать женой и сыном во имя спасения тех, кто пострадал по его вине? Спасти Гайде и Эдмона, бросив на произвол судьбы остальных, оказавшихся в нужде и несчастье подчас вопреки их собственным усилиям?
Никогда прежде его разум и его душа не трудились с таким напряжением, как в эти часы лихорадочных раздумий. От него зависели тысячи людей, в его руках была жизнь некоторых из них, и вот подлая месть какого-то Бенедетто грозила расстроить все его замыслы, навсегда погубить его семейное счастье, сделать его, графа Монте-Кристо, виновником несчастья других! «Слишком далеко ты зашел, слишком далеко!» — кричал его внутренний голос. Но, несмотря ни на что, он продолжал надеяться, продолжал верить: еще ничего не потеряно. Но с чего начать? Гайде и Эдмон, Макс и Валентина, дон Лотарио, Вольфрам и Амелия — все они обращали к нему свои взоры в ожидании помощи и поддержки. За судьбу этих людей он отвечал перед Богом и собственной совестью. Спасение одного из них могло обернуться гибелью другого. «Слишком далеко! Ты зашел слишком далеко!» — продолжал терзать графа неумолимый внутренний голос.
Наконец Монте-Кристо принял решение. Сначала он должен выручить тех, кто рядом с ним. Он заглянул к Моррелю, продолжавшему пребывать в полнейшей отрешенности, и объяснил Бертуччо, как ухаживать за больным. Затем отправился к старому Вильфору.
Старик лежал на мягком ложе в своей уединенной комнате. Для его спасения были приняты все меры. Рана оказалась довольно серьезной, но не смертельной. Граф самым тщательным образом осмотрел раненого. Особенно поразил его спокойный, осмысленный взгляд старика. Монте-Кристо принялся расспрашивать Вильфора о некоторых подробностях его злоключений, и старик отвечал ему вполне разумно, даже поинтересовался, где он находится.
Граф покидал старика с чувством некоторого облегчения — судьба Вильфора уже не вызывала у него особой тревоги…
Все было готово к отплытию. Яхта стояла под парами, выбрасывая в воздух клубы густого дыма. Еще до подъема якоря по разным направлениям отправились парусные лодки с гонцами графа.
II. ПОДОЗРЕНИЕ
В доме графа Аренберга в Берлине существовала некая комната, где, кроме него, почти не бывало посторонних, да и сам владелец дома появлялся там не слишком часто. Это была комната Терезы.
Хозяйка комнаты, удобно устроившись у окна, целиком погрузилась в чтение. Спустя некоторое время Тереза оторвалась от книги и взглянула на часы. Скоро ее позовут к обеду — обед у графа подавали в половине четвертого.
Услышав приближающиеся шаги камердинера, Тереза покинула будуар и направилась в столовую.
Если не считать графа, она застала там только господина де Ратура. Он приходил с визитом ежедневно, и граф уже обращался с ним с той фамильярностью, какая позволительна по отношению к старому знакомому. Ратур воспринимал оказанную ему честь с величайшим смирением; он был достаточно хитер, чтобы не злоупотреблять ею. Казалось, он ни на миг не забывал, что Аренберг занимает несравненно более высокое положение в обществе и он, Ратур, обязан относиться к нему с должным почтением.
Сегодня в полдень Ратур явился с очередным визитом и принял приглашение остаться к обеду.
Тереза и Ратур раскланялись как добрые знакомые, однако на теплое приветствие гостя она ответила гораздо более сдержанно. За столом завязался легкий, непринужденный разговор. Ратур — не без содействия графа — уже успел завести в Берлине кое-какие знакомства и теперь рассказывал о них, не позволяя себе, впрочем, никакой развязности.
— В последнее время вам случайно не приходилось видеть дона Лотарио? — поинтересовался граф.
— Увы! — ответил Ратур. — Я ожидал встретить его у вас.
— У нас он теперь бывает редко — реже, чем мне бы хотелось, — заметил граф.
— Вероятно, он с головой ушел в свои занятия, — сказала Тереза.
— Любопытно, какие же науки привлекают этого молодого человека?
— Если не ошибаюсь, он упоминал историю, национальную экономику и прочие науки, изучающие общество, — ответил граф.
— В самом деле? — удивился Ратур, и на его лице мелькнула тень недоверия.
— Вы, кажется, усомнились в этом? — спросила Тереза, заметив перемену в лице гостя. — Отчего же?
— Обычно в его возрасте отдают предпочтение иным вещам, мадемуазель! Если он действительно прилежно постигает науки, остается лишь восхищаться им! Ибо, как я слышал, он не лишает себя радостей бытия, а умение сочетать наслаждение жизнью с усердным изучением наук я считаю немалым искусством!
— Что я слышу? — удивился Аренберг. — Я полагал, дон Лотарио ведет весьма и весьма затворническую жизнь, не желая знать ничего, кроме своих книг. А он, выходит, завзятый бонвиван?
— В Париже, говорят, он был именно таков, — продолжал Ратур. — Там немало поражались его тратам, ведь состояние дона Лотарио считалось не из самых крупных. А теперь оно и того меньше — он сам рассказывал!
— Там, в Париже, я что-то не замечала за ним больших расходов, — возразила Тереза.
— Молодые люди, даже если и выглядят скромниками, проматывают подчас огромные суммы. К примеру, проигрывают в карты или тратят на женщин, — заметил граф.
— Вот как! — невозмутимо сказала Тереза, опуская глаза. — Неужели и дон Лотарио подвержен этим страстям?
— Что до игры, пожалуй, так оно и есть, — ответил Ратур. — Более того, я убежден в этом. А что касается женщин, теперь он, видно, понял, что тратиться на них неразумно, лучше приобретать деньги с их помощью.
— Должна сознаться, что не понимаю вас, — сказала Тереза.
— Я просто хотел сказать, мадемуазель, что выгодный брак не такой уж плохой способ поправить свои расстроенные финансовые дела, — ответил Ратур. — Если тебя одолевают страсти, удовлетворить их можно только с помощью богатства.
— И вы полагаете, что дон Лотарио не прочь жениться, чтобы завладеть богатым приданым?
— Я ничего не утверждаю, мадемуазель, — улыбнулся Ратур. — Но порой приходится восстанавливать свое пошатнувшееся благополучие именно таким способом.
После этих слов Ратура Тереза так пристально поглядела на него, что он не мог не заметить это. Впрочем, француз полностью сохранил самообладание.
— То, что известно нам о прошлом дона Лотарио, кажется, противоречит вашим представлениям, — вмешался граф.
— О его прошлом нам известно чрезвычайно мало, а то, что мы о нем знаем, больше похоже, мягко говоря, на самую заурядную авантюру, — заметил Ратур.
— Вовсе нет, — возразил Аренберг. — Единственное, что тут есть необычного, — это знакомство с лордом Хоупом, или графом Монте-Кристо. Но это можно объяснить.
— А вы уверены, что граф Монте-Кристо существует? — спросил, улыбнувшись, Ратур.
— Несомненно! Лорд Хоуп безусловно существует! — твердо ответил граф.
Вскоре собеседники поднялись из-за стола. Граф предложил гостю остаться на чашку кофе, и француз, у которого не было более никаких дел, согласился. Аренберг спросил, приходилось ли Ратуру бывать в комнате Терезы, и, поскольку тот ответил отрицательно, попросил у Терезы разрешения устроить десерт в ее будуаре. Подчиняясь законам гостеприимства, Тереза скрепя сердце дала согласие.
Граф и Ратур сидели в библиотеке. Тереза покинула их, вернувшись в свою комнату, и оставалась там в одиночестве до тех пор, пока спустя час слуга не доложил ей о приходе хозяина дома и его гостя. Графа позвали, и Ратур с Терезой остались вдвоем, француз сразу же ловко перевел разговор на сердечные дела. По всей вероятности, граф успел посвятить его в кое-какие подробности из прошлого своей подопечной.
— Мир женщины — любовь, — начал Ратур. — Она должна царствовать в этом мире, и нельзя допускать, чтобы престол, воздвигнутый в ее сердце, пустовал. Неужели вы хотите, чтобы ваше сердце навеки оставалось одиноким, с тех пор как тот неверный покинул вас?
— Я этого не хочу, — ответила Тереза с тем равнодушием, какое так убедительно умела напускать на себя, чтобы пресечь всякую доверительность. — Просто я пока не встретила того, кто показался бы мне достойным занять престол, о котором вы говорите.
— Разумеется, вы жаждете бога, героя! — воскликнул Ратур. — Где вы, однако, найдете такого?
— Вы ошибаетесь! — возразила Тереза. — Мне нужен человек. Но серьезностью и силой характера он должен быть похож на того, кого я прежде любила! Не скрою, найти такого не так легко. Но я буду искать. Кстати, как здоровье нашей знакомой, госпожи Моррель? Ее давно не было у нас, надеюсь, вашей вины в этом нет?
— Помилуйте, мадемуазель! — вскричал Ратур. — Напротив, я испробовал все средства, чтобы убедить ее бывать на людях, тем более у вас! Но она непреклонна.
— Вероятно, она тоже не в силах забыть горячо любимого мужа. Видите, сударь, женские сердца хранят верность прошлому.
— Время — лучший лекарь, — заметил Ратур, — а если это окажется не под силу времени, найдутся смелые, достойные молодые люди, готовые взять эту миссию на себя.
— Не хотите ли вы сказать, что госпожа Моррель…
— …найдет кого-нибудь другого и утешится, — смеясь, закончил Ратур. — И очень возможно, что этим другим окажется наш друг дон Лотарио.
— В самом деле? — спросила Тереза, вновь бросив пристальный взгляд на француза. — С чего это вы взяли?
— Дон Лотарио нанес моей подопечной несколько визитов, к которым, кажется, она отнеслась весьма благосклонно. Что ж, между нами говоря, у этого испанца недурной вкус. Я нахожу госпожу Моррель очаровательной, к тому же, насколько я знаю, у нее довольно крупное состояние.
— Они были бы прекрасной парой, — сказала Тереза, возвращаясь к своему рукоделию.
Что касается визитов дона Лотарио к Валентине, Ратур не покривил душой. Молодой человек бывал у нее. Он приходил сказать, что написал Эмманюелю Эрбо, но, как ни странно, все еще не получил ответа. Он никогда не задерживался у Валентины более нескольких минут, не желая вызывать подозрения у Ратура. Его визиты никак нельзя было расценить иначе чем визиты вежливости.
В это время вернулся граф Аренберг, и спустя полчаса Ратур заявил, что ему пора уходить. Когда он уже собирался откланяться, слуга доложил о приходе дона Лотарио. По лицу Ратура было видно, что он жаждет остаться, но, поскольку он уже сказал, что должен уходить, ему не оставалось ничего другого, как бегло поздороваться с доном Лотарио и удалиться.
Дон Лотарио выглядел мрачнее обычного. Граф и Тереза встретили его укорами, что он столь редко навещает их. Испанец оправдывался, ссылаясь на свои занятия и необходимость как можно скорее найти свое место в жизни. Выслушав его резоны, граф с улыбкой заметил, что молодые люди иной раз занимаются больше на словах, чем на деле. Похоже, дон Лотарио пропустил намек графа мимо ушей. Во всяком случае, он ничего не ответил Аренбергу.
Волею случая молодой человек остался с Терезой наедине. К графу приехал какой-то друг юности, который просил принять его. Перед уходом Аренберг взял с дона Лотарио слово, что он останется до вечера.
Сперва молодые люди продолжали начатый разговор, но затем возникла пауза, и дон Лотарио никак не мог решить, о чем говорить дальше.
— Вы у нас такой редкий гость, да к тому же я почти лишена возможности побеседовать с вами наедине, — начала Тереза. — Так что даже не знаю, передали вы мой ответ профессору Веделю или нет.
— Разумеется, передал! — ответил дон Лотарио. — На днях он спрашивал, был ли я у вас. Я воспользовался случаем и уверил профессора, что у него нет более оснований тревожиться о вас, поскольку ваше сердце занято теперь другим.
— Ну, уж это слишком! — Тереза строго посмотрела на него. — Если не ошибаюсь, я тогда сказала только, что во мне вновь зародилась надежда, что я, вероятно, вновь смогу полюбить. И ни словом не обмолвилась, что меня заинтересовал какой-то определенный человек.
— Да ведь это одно и то же, — почти с горечью возразил дон Лотарио. — Уже сама возможность предполагает уверенность. Предчувствие любви и есть любовь.
— Может быть, вы и правы, — согласилась Тереза. — Что же ответил профессор?
— Мне показалось, он обрадовался. Сказал, что желает вам счастья. Потом спросил, кто тот счастливец, которому вы отдали свое сердце.
— Прямо так и спросил? — воскликнула Тереза. — Трудно поверить! Да и сам вопрос он мог задать только в том случае, если вы выдали возможное за действительное. Каков же был ваш ответ?
— Я сказал, что среди тех, кто вас окружает, не вижу никого, кто был бы достоин вашей любви. Еще я ответил, что мне, пожалуй, не понять вас, если вы отдадите сердце одному из тех, кто имеет счастье вас видеть.
— Тут вы оказались ближе к истине, — с некоторой долей иронии заметила Тереза. — Теперь сами убедились в своем заблуждении.
— Я высказал лишь собственное мнение, — ответил дон Лотарио, едва справившись с охватившим его волнением. — Тем не менее у вас всегда есть возможность выбрать одного из этих недостойных!
— Ну, довольно об этом, — улыбнулась Тереза. — Какой-то странный получается разговор!
— Не спорю! — ответил дон Лотарио. — Впрочем, было время, когда мы спокойно рассуждали о таких вещах, — я имею в виду время, когда мы встречались в Париже. Тогда вы относились ко мне с большим доверием, нежели теперь!
— С большим доверием? — почти изумленно переспросила Тереза. — Поверьте, дон Лотарио, я нисколько не переменила своего отношения к вам! Больше ли я доверяла вам — не знаю. Почему я должна сделаться с вами другой? Вы всегда были мне близким другом. Вы первый из молодых людей, кого я стала принимать после знакомства с Паулем, с кем я охотно беседовала обо всем. Скажу вам совершенно искренне, мне жаль, что теперь вы бываете у нас так редко!
— Вам и в самом деле жаль этого? — едва ли не с горечью спросил дон Лотарио, и на его лице появилось еще более безучастное выражение.
— Да, я и не думала шутить!
Испанец промолчал.
— Мадемуазель Тереза! — начал он спустя некоторое время. — Позвольте и мне сказать. В Париже, как вы сами признали, я был единственным, кого вы принимали. Единственным — что может быть приятнее? Здесь же все иначе. Здесь вас окружает другое общество — общество, которое, может быть, вам ближе, а у меня настолько мало свободного времени, что я действительно не уверен, стоит ли идти туда, где я не нужен.
— Какое тщеславие! — полушутя заметила Тереза. — Что вы, собственно, имеете в виду?
— Берлин — ваш родной город, здесь вы встречаете старых знакомых, — ответил дон Лотарио. — Кроме того, к вам часто приходит господин де Ратур. Скажу откровенно, мне гораздо приятнее беседовать с вами наедине, чем в присутствии посторонних. Сама мысль о том, что я встречу здесь Ратура, удерживает меня от визитов к вам.
— Какая дерзость! — шутливо воскликнула Тереза. — Значит, вы требуете, чтобы мы отказали господину де Ратуру от дома только потому, что вам неугодно встречаться с ним. Разве не так?
— Пожалуй, так, — согласился молодой испанец. — Но именно потому, что я не вправе требовать этого — ведь глупо же! — я избегаю бывать у вас.
— Странный вы человек, дон Лотарио! — заметила Тереза. — А что бы вы сказали, если бы я перестала принимать господина де Ратура и принимала только вас, но при этом поставила бы вам условие не бывать нигде, кроме нас?
— Я немедля принял бы ваше условие и был бы счастлив! — вскричал молодой человек.
Тереза, вероятно, поняла, что разговор принял нежелательный оборот и может завести слишком далеко. Улыбка постепенно исчезла с ее лица, уступив место строгости и сдержанности.
— Или вы шутите, дон Лотарио, — сказала она, — или слишком много на себя берете. Даже ради близкого друга нельзя отказываться от всех знакомств. Господин де Ратур — знакомый графа Аренберга, и в этом качестве мне приходится его принимать. Впрочем, Ратур весьма интересный собеседник.
— Никогда в этом не сомневался, — холодно заметил дон Лотарио. — Он лучше знает свет и, наверное, больший знаток женских сердец, нежели я. Он мастер говорить молодым дамам лестные вещи; я этого не умею.
— Так вы полагаете, мне по вкусу подобные развлечения и подобная лесть? — с раздражением спросила Тереза.
— Как знать! — продолжал дон Лотарио. — Даже самые стойкие, самые мудрые из женщин подвержены этой слабости. Они жаждут потешить свое тщеславие и в конце концов бывают недовольны, если им не курят фимиама.
— Я признательна вам за то доброе мнение о женщинах, которое сложилось у вас за столь непродолжительное время ваших занятий, — сказала Тереза с непритворной холодностью. — Если бы это хоть немного касалось меня, я заметила бы вам, что вы, вероятно, водили знакомство лишь с женщинами определенного сорта, ибо только общение с ними могло дать вам повод для таких утверждений. Впрочем, меня это совершенно не касается.
— Если вы так думаете, вы заблуждаетесь, — возразил дон Лотарио. — Не считая вас и жены профессора Веделя, я не видел в Берлине ни одной женщины!
— Неужели ни одной? — с сомнением спросила Тереза. — А как же очаровательная госпожа Моррель?
— Ее, правда, видел, но буквально считанные минуты, — спокойно парировал молодой испанец.
Тереза не спускала с него своих проницательных глаз. Или она не нашла на его лице того выражения, какого ожидала, или подумала, что он притворяется, но по ее лицу пробежала тень смущения и беспокойства.
— Давайте говорить начистоту! — сказал дон Лотарио, наигранно улыбаясь. — Совершенно искренне! Ратура вам видеть приятнее, нежели меня. Так почему я должен жертвовать своими занятиями и своим уединением, если мой приход нагоняет на вас тоску? Или я встречаюсь здесь с Ратуром, и тогда вы сожалеете, что не вдвоем с ним, или я застаю вас одну, и тогда вы только и думаете о том, насколько было бы лучше, если бы на моем месте был Ратур.
— В самом деле? — вспылила Тереза. — Ваша откровенность, дон Лотарио, заходит слишком далеко, и я вынуждена просить вас остановиться. Какие бы чувства ни вызывали во мне визиты господина де Ратура, это только мое дело, и никто не вправе требовать от меня отчета!
— О, ваша горячность только подтверждает мои предположения! — с горечью ответил дон Лотарио.
— Позвольте, какие предположения? — воскликнула Тереза. — Договаривайте все до конца, дон Лотарио!
— Предположение о том, мадемуазель, что ваше сердце завоевал именно Ратур!
— А если и так, дон Лотарио? Если это действительно так? — вскричала Тереза.
— Значит, моя догадка оказалась верна! — ответил молодой человек, принуждая себя улыбнуться.
Тереза встала, отложив вышивание. Дон Лотарио тоже вскочил. Щеки девушки горели; молодой испанец был мертвенно-бледен.
— Должна сознаться, дон Лотарио, — начала Тереза, — что сегодня вы неприятно удивили меня. Я вас не понимаю. Не знаю, насколько важно для вас знать, проявляю я какую бы то ни было благосклонность к господину де Ратуру или нет! Но могу сказать, что от ваших слов веет безграничным тщеславием, какого я прежде за вами не замечала! Из-за того, что к нам вхож другой человек, друг графа, вы разыгрываете из себя обиженного, оскорбленного, однако не делаете ничего, чтобы лишить этого господина преимуществ перед вами — преимуществ, которых он добился, быть может, благодаря своей привязанности к нам! В самом деле, я отказываюсь вас понимать! Вы ведете себя как ребенок! А вот господин де Ратур не сделал и не сказал ничего такого, чтобы заподозрить его в том, будто ваши визиты к нам ему неприятны! Оснований же для недовольства у него не меньше вашего: ведь ему известно, что единственным молодым человеком, которого я принимала в Париже, были именно вы!
— У господина де Ратура нет никаких причин не желать моего присутствия! — дрожащим голосом произнес дон Лотарио. — Впрочем, вы правы, я ребенок, обидчивый, избалованный ребенок, который себе слишком много позволил, за что его и следует одернуть! Больше я не стану докучать вам, мадемуазель Тереза!
— И опять я не понимаю вас, дон Лотарио! — сказала Тереза. — Приходите, приходите когда угодно, ваш приход всегда радует и меня, и, я уверена, графа. Только оставайтесь таким же простодушным, таким же искренним и участливым другом, каким были в Париже. Не доводите дело до крайностей! Согласитесь, будь вы и в самом деле единственным, кто нас посещает, мы вскоре наскучили бы вам.
— Вы правы! — с убийственной холодностью произнес молодой испанец. — Вы так хладнокровны, так рассудительны, что мне просто нечего возразить. Если я и зашел слишком далеко, то, признаюсь, это была всего лишь попытка, которую я осмелился предпринять, — попытка узнать, быстро ли утешится сердце, испытавшее некогда несчастную любовь, едва вновь обретет способность любить. Этот урок пойдет мне на пользу!
Когда он искал шляпу, руки его дрожали.
— Вы обещали графу остаться до вечера! — как ни в чем не бывало напомнила Тереза.
— Пожалуйста, извинитесь за меня, мадемуазель! Скажите графу, что я скверно себя почувствовал! Необходимость остаться тяготила бы меня! Прощайте!
— Не смею вас удерживать, но мне жаль, что вы уходите! Подозреваю, что вернетесь вы не скоро!
— Может быть, и так, мадемуазель! — едва слышно промолвил дон Лотарио и поспешил откланяться.
Тереза ответила на его поклон с непритворной учтивостью. Молодой человек не поднимал глаз. Когда он был уже в дверях, его взгляд задержался на портрете профессора.
— Бедный Ведель! — произнес он вполголоса, сам, возможно, не отдавая себе в том отчета. — И ради кого?
Тереза, вероятно, слышала эти слова молодого испанца, но продолжала хранить спокойствие. Только порывисто шагнула к дону Лотарио, видимо желая что-то сказать ему, но молодой человек уже затворил за собой дверь.
Тереза медленно вернулась и опустилась на софу. Кровь отхлынула от ее щек. На бледном лице появилось выражение безысходной печали.
— Он не такой, совсем не такой, как мне казалось! — прошептала она. — Тщеславный, самонадеянный! Боже мой, возможно ли, чтобы ревность так ослепила человека, что он скорее готов оттолкнуть от себя женщину, нежели попытаться заглянуть в ее сердце? Как он может требовать, чтобы я сказала ему все, что думаю, — я ведь едва его знаю! Я потеряю и его, я чувствую это! Но на этот раз не по своей вине! Впрочем, какая разница — по своей или нет? Потеряла — значит, потеряла, и снова несчастна, как прежде! Ну и пусть! Если Лотарио такой несмышленый ребенок, он недостоин моей любви! Пусть же хоть это послужит мне утешением! Однако… — Не договорив, Тереза судорожно схватилась за сердце. Казалось, еще немного, и она разрыдается. Но ей удалось справиться со своими чувствами. Тут ее взгляд случайно упал на портрет Веделя. — О Пауль, Пауль! — вскричала она. — Знаю, ты досадовал на меня, но не призывал на мою голову проклятий! Даже расставшись со мной, ты желал мне счастья! Исполни же его волю, Боже милосердный, и ниспошли в мою душу мир и покой!
III. ВСТРЕЧА
Тереза еще не закончила свой монолог, а дон Лотарио, закутавшись в плащ, уже шагал по слабо освещенным вечерним улицам. Погода стояла неприветливая. Крупными хлопьями падал снег, но, коснувшись теплой, влажной земли, сразу таял. В душе молодого испанца никогда еще не бывало таких бурь, как в этот вечер, даже смятение, в каком он бежал из Парижа в Лондон, казалось Лотарио сущим пустяком. Все кончено, Терезы ему больше не видать, для него она потеряна! Она сама сказала ему об этом, да еще какими словами! Он добивался объяснения — вот и получил! Объяснение было не в его пользу (так по крайней мере он думал), но ведь он сам жаждал его, этого объяснения! Он сознавал, что поступает как неразумное дитя. Но вести себя иначе не мог. Любовь не рассуждает! Ему не терпелось обидеть Терезу, ибо он ревновал ее, ревновал к человеку, который, как он прекрасно понимал, ревности недостоин. Но Тереза любила этого недостойного! Дону Лотарио достаточно было сказать одно слово, чтобы избавить дом Лренберга от Ратура и принудить негодяя вообще покинуть Берлин. Но теперь уже поздно. Теперь он не имеет права даже заикнуться об этом — ведь Тереза любит этого человека! И дон Лотарио презирал Терезу!
Да, он презирал ее, но каких невыразимых мучений стоило ему это презрение! Чем больше стремишься избавиться от любви, тем сильнее запутываешься в ее сетях, и только теперь, убеждая самого себя, что Тереза потеряна навсегда, потеряна безвозвратно, дон Лотарио ощутил всю силу своей страсти. Когда он бежал в Лондон, ему не давала покоя мысль, что Тереза вообще уже не в состоянии полюбить. Теперь она предпочла ему другого, и к страданиям неразделенной любви добавились муки ревности.
Он брел куда глаза глядят, не замечая, что меряет шагами одни и те же улицы. Было еще довольно рано, около восьми вечера. В городе еще царило оживление, но дон Лотарио ничего не видел и не слышал. Его не оставляла мысль, что жизнь утратила всякий смысл. Последний слабый луч надежды погас, и все его будущее погрузилось в беспросветный мрак.
Будь он слаб духом, наверняка бы решил покончить счеты с жизнью, но еще в Лондоне он отказался от этой затеи. Понял, что жертвовать тем, чему ты не хозяин, недостойно мужчины. Его жизнь принадлежала всему человечеству. Какой бы печальной, мрачной и безнадежной она ни была, эта жизнь являлась всеобщим достоянием. Несмотря ни на что, он хотел жить, хотел увидеть своими глазами, что способен вынести человек и чем все это кончится. Он раздумывал, достаточно ли сильна его натура, чтобы перенести все это, и при мысли, что его настигнет нервная лихорадка или поразит безумие, испытывал какую-то зловещую радость и тихо посмеивался про себя.
А на улицах толпились люди, кое-где, прижавшись друг к другу, о чем-то шептались парочки, мужчины заигрывали с одинокими девушками, тихо падал снег, горели газовые фонари, и шум большого города звучал, не умолкая, у него в ушах; он же брел один, совершенно один в целом мире, и все вокруг было ему безразлично. А она — она тоже томилась одна в своей комнате, хотя могла бы сделать его безмерно счастливым. Но она не хотела или не могла — не все ли равно, в конце концов! Для него она теперь потеряна — потеряна навсегда.
Наконец он очутился на улице Унтер-ден-Линден и принялся бесцельно бродить по ней взад и вперед, машинально поворачивая у Бранденбургских ворот и направляясь обратно к замку. Когда он проходил мимо Оперного театра, до его слуха донеслось знакомое имя. Он невольно остановился и прислушался.
— Кто сегодня поет? — спросила какая-то дама у своего спутника.
— Донна Эухения Ларганд, одна из самых знаменитых певиц нашего времени! — ответил тот.
Это имя дон Лотарио услышал словно сквозь сон, до конца еще не сознавая, о ком идет речь. Но, повинуясь безотчетному желанию, приблизился к афишной тумбе перед зданием театра и прочитал в списке актеров, занятых в опере Моцарта «Дон Жуан»:
«ДОННА АННА — ДОННА ЭУХЕНИЯ ЛАРГАНД, НАХОДЯЩАЯСЯ В БЕРЛИНЕ НА ГАСТРОЛЯХ».
Едва сознавая, что он делает, Лотарио купил билет, взял бинокль, отдал гардеробщику плащ и шляпу и отыскал свое место в зрительном зале. Он оказался в окружении множества нарядных мужчин и женщин, о существовании которых совсем недавно даже не подозревал. А они почти с испугом смотрели на его бледное, растерянное лицо.
Ему досталось место в ложе первого яруса, прямо возле сцены. Звуки оркестра, голоса певцов доносились до него словно сквозь сон, и только когда грянули аплодисменты и на сцене появилось новое действующее лицо, он поднес бинокль к глазам и тотчас узнал донну Эухению. Он следил за ее игрой и пением не без интереса, но все еще будто в полусне. В голове у него не было никаких мыслей, совсем никаких. Казалось, сердце испанца опустошено, а его дух изнемог от чрезмерного напряжения.
Зрители обменивались мнениями. Большинство находили голос и игру донны Эухении превосходными. Многим была известна и необычная судьба певицы, и одно это уже подогревало интерес. Ей много аплодировали и несколько раз вызывали, пока наконец занавес не опустился окончательно. Зрители разошлись, ушел и дон Лотарио.
На улице, вдохнув свежий морозный воздух, он почувствовал себя лучше. К нему вновь вернулась способность трезво мыслить. Крайнее возбуждение, не дававшее дону Лотарио думать ни о чем, кроме Терезы, прошло.
«Вот женщина, которая любит тебя, страстно любит! — сказал он себе. — А ты холодно оттолкнул ее. Признавшись, что любишь другую, ты сделал ее несчастной, а теперь Тереза сделала несчастным тебя самого. Как она, наверно, страдала, если питала ко мне хотя бы половину тех чувств, какие я испытываю к Терезе! Бедная девушка! Какие же мы, люди, глупцы! Готовы отдать жизнь существу, которое холодно нас отвергает, меж тем как рядом с нами живет другое существо, которое было бы счастливо от одного нашего взгляда и благодарно нам до конца своих дней, удели мы ему хотя бы частицу нашей души, нашего сердца! Я еще молод, очень молод, а уже принужден навсегда отказаться от того счастья, что дарят нам жизнь и любовь! Донна Росальба только прикидывалась влюбленной, Тереза отвергла меня, а донна Эухения, более красивая, более талантливая, более пылкая и страстная, чем та и другая, все еще терзается, быть может, тайной тоской обо мне и была бы рада услышать от меня хоть несколько слов утешения. Но разве мне было бы легче, если бы Тереза отнеслась ко мне благосклоннее, если бы оставила мне надежду? Да, я ушел бы от нее не таким несчастным, она могла бы обмануть меня и утешить своей ложью! Идти ли мне к донне Эухении со словами утешения? Если она в самом деле любит меня, теплое, ласковое слово из моих уст будет для нее поистине благодеянием! Какое блаженство испытал бы я, если бы Тереза сказала мне: „Не теряйте надежды! Не уходите! Надейтесь на будущее!“»
Такие мысли теснились у него в голове, а ноги привычно несли его по знакомому пути — вдоль Унтер-ден-Линден. Однако теперь он изменил маршрут и направился снова к Оперному театру. Служитель как раз собирался запирать двери. Расспросив его о приезжей знаменитости, он узнал, что она остановилась в гостинице «Норд».
Дон Лотарио отправился в гостиницу. Портье назвал ему номер, который занимала певица, и сообщил, что она одна.
Молодой испанец поднялся наверх и вручил горничной свою визитную карточку. Ожидая, пока его примут, он был совершенно спокоен. Он не задумывался, какое впечатление произведет на донну Эухению один только звук его имени. Он все еще был рассеян и толком не воспринимал окружающей реальности.
Ожидание затянулось, но он не придал этому никакого значения. Он еще не вполне сознавал, где находится. Наконец горничная вернулась и передала, что его ждут. Он миновал переднюю, потом еще одну комнату и очутился в небольшом салоне. Горевшие на столе свечи освещали хрупкую женскую фигурку. Это была донна Эухения.
Дон Лотарио по-прежнему видел все как в тумане. Точно лунатик он шел навстречу донне Эухении и совершенно не различал ее лица.
— Добрый вечер, донна Эухения, — едва слышно произнес он. — Рад снова видеть вас.
— Это вы, дон Лотарио?.. Я просто не верю своим глазам… Но кто дал вам право… Позвольте, что с вами?
В последних словах певицы слышалась обеспокоенность и даже нежность. Молодой испанец печально взглянул на нее и поцеловал ей руку.
— Что со мной? Вероятно, вид у меня в самом деле неважный и жалкий, — грустно заметил он. — Позвольте хоть немного побыть у вас, донна Эухения! Ведь мы давно знаем друг друга, не правда ли? Если я нарушил ваши планы, можете оставить меня одного. Силы совсем покинули меня!
— Да вы больны, дон Лотарио! — воскликнула певица, когда молодой человек устало опустился на софу. — Вы совершенно больны!
Она позвонила, вышла из комнаты и вскоре опять вернулась. Дон Лотарио и в самом деле был близок к обмороку. Лицо его сделалось белым, как носовой платок, который Эухения смачивала одеколоном, растирая ему виски.
— Мне уже лучше, гораздо лучше, донна Эухения! — прошептал вскоре молодой человек. — Благодарю вас!
Он сидел, откинувшись на спинку софы и закрыв глаза, и, разумеется, не мог видеть удивления, замешательства и смущения певицы, не мог видеть, как порозовели ее щеки, как вздымалась грудь, выдавая овладевшее всем ее существом беспокойство и волнение.
Окончательно убедившись, что молодой человек действительно болен или же до крайности утомлен, она присела рядом и заставила его выпить вина, которое специально заказала. Он безропотно, словно ребенок, повиновался, ни разу не взглянув на нее.
— Не хочу докучать вам расспросами сейчас, когда вы нездоровы, дон Лотарио, — сказала певица. — Но, вероятно, случилось нечто необыкновенное? Иначе бы вас здесь не было!
— Не спрашивайте меня ни о чем, прошу вас! — слабым голосом ответил молодой человек. — Я непременно расскажу вам все. Но только не сейчас. А пока позвольте мне немного прийти в себя! Здесь я по крайней мере не один — я знаю, что рядом женщина, которая меня любит. Или вы больше не любите меня, нисколько не любите?
— Дон Лотарио, я… не понимаю вас!
— Поймете, донна Эухения! Я очень несчастен. Скажите, и вы ощущали то же, когда я покинул вас?
— Но позвольте, дон Лотарио! Я почти готова поверить, что ваш рассудок…
— Вы правы, помутился. Я сам чувствую. Но постепенно ко мне вернется способность трезво мыслить. Дайте мне немного времени. Если вас кто-то ждет, идите, донна Эухения, я вас не держу.
— Никто меня не ждет. Я останусь с вами.
— Благодарю вас, благодарю! — прошептал дон Лотарио, снова целуя ей руку.
Весьма вероятно, что в любой другой ситуации молодой испанец встретил бы у донны Эухении совершенно иной прием. Правда, она все еще любила его, недаром же охотно согласилась снова увидеться с ним. Возможно, она намеревалась лишь отчитать его за дерзость, чтобы затем расстаться с ним навсегда. Но дон Лотарио явился к ней больной, подавленный, почти не помня себя от горя. Он показался ей ребенком или тяжело больным страдальцем, к которому нужно быть снисходительным, и если даже мужчине свойственны предупредительность и сочувствие к слабой, страдающей женщине, то в еще большей степени это свойственно женской натуре, когда она видит сильного и решительного мужчину непривычно слабым и беспомощным. Поэтому донна Эухения забыла обо всем, в чем могла бы упрекнуть дона Лотарио. Она помнила только о своей любви к нему, и ее душа наполнилась нежностью и состраданием.
Некоторое время они сидели молча. Дон Лотарио низко опустил голову, а донна Эухения не отводила озабоченного, испытующего и нежного взгляда от любимых черт, которые после их размолвки впервые увидела вновь.
— А вы не догадываетесь, донна Эухения, — прошептал наконец молодой человек, — где я был, пока судьба не привела меня к вам?
— Откуда мне знать? — ответила певица. — Я даже не подозревала, что вы в Берлине!
— И то верно! — заметил испанец. — Я был у Терезы.
— У Терезы? — с трудом вымолвила донна Эухения. — Не будем говорить об этом!
— Нет, нет, поговорим, — возразил дон Лотарио, — поговорим, чтобы раз и навсегда покончить с этим. Тереза призналась, что любит другого!
Донна Эухения промолчала, а испанец, по-прежнему не поднимавший глаз, не мог видеть, как ее лицо мертвенно побледнело, а потом вдруг запылало жарким румянцем. Какие чувства обуревали донну Эухению, когда человек, которого она так страстно любила, признался, что пришел к ней от другой, дал ей понять, что отказ этой другой сделал его совершенно несчастным? Разве это не глубокое оскорбление? Или же у донны Эухении теплилась надежда, что теперь любимый вернется к ней, будет принадлежать ей одной? Как бы то ни было, дон Лотарио не задумывался, какое действие возымеют его слова. Его мысли еще не приняли какого-то определенного направления. Они метались, подобно ночным птицам над темной бездной.
— Я полагала, что Тереза все еще в Париже, — промолвила наконец донна Эухения.
— Она вернулась вместе с графом в Берлин.
— И вы решили последовать за ней?
— Да… отчасти я здесь из-за нее, — прошептал молодой человек.
— И вы больше не увидите ее?
— Никогда! — ответил юноша, вздрогнув как от удара электрическим током.
Снова воцарилось молчание. Собеседники на какое-то время словно оцепенели.
— Вы в состоянии выслушать меня, дон Лотарио? — спросила певица.
— Теперь, пожалуй, да.
— Я прекрасно сознаю всю опрометчивость своего поступка, — начала донна Эухения. — Я дала себе слово никогда больше не видеть вас и никак не ждала, что вы придете ко мне. Тем не менее вы здесь. Судьба вновь свела нас вместе. Не хочу говорить, какое чувство я испытывала к вам раньше, дон Лотарио. Теперь все это позади. Виной тому ваши собственные слова. Воспоминания о том объяснении, таком унизительном для меня, самые горькие в моей жизни. Явись вы ко мне опять дерзким и самонадеянным, я, возможно, возненавидела бы вас, однако вот вы снова здесь, у меня, но больной, страдающий, жаждущий утешения. Мне нет дела до причины ваших страданий — меня беспокоит только то, что вы страдаете. Вы сказали, вам недостает подруги — любящего сердца, способного окружить вас заботой и вниманием. Я готова стать такой подругой, и если мои дружба и участие смогут утешить вас, недостатка в них у вас никогда не будет. Прошу вас только об одном, прошу как друг: не слишком предавайтесь скорби! Вы молоды… впрочем, что тут говорить, дон Лотарио, вы сами прекрасно знаете, сколько у вас достоинств, способных покорить женское сердце! Не отказывайтесь от своего счастья, оно, может быть, еще ждет вас впереди! Мне трудно поверить, что Тереза была достойна вас, иначе у нее не хватило бы душевных сил так жестоко вас оттолкнуть! Одним словом, дон Лотарио, как бы то ни было, вы молоды, и ваше сердце еще излечится от нанесенной раны! Пришлось же смириться моему! И не отвергайте этого дружеского утешения!
— Благодарю вас, благодарю! — прошептал дон Лотарио, пылко поцеловал ей руку и посмотрел на нее. Она отвела взгляд, казалось робея заглянуть в его прекрасные глаза.
И опять оба умолкли. Да и о чем тут было говорить? Душа дона Лотарио была погружена во мрак, а певица, вероятно, размышляла о превратностях судьбы, которая опять привела к ней любимого, на этот раз надломленного душевно и физически.
В тот вечер им было не до пространных объяснений. К чему слова, когда обстоятельства говорят сами за себя! Донна Эухения давно полюбила молодого испанца и уже успела признаться ему в своих чувствах. Теперь другая сказала, что не любит его, и в поисках утешения он вернулся к донне Эухении. Все было предельно ясно.
Через некоторое время певица отправила молодого человека домой в своем экипаже. Дон Лотарио уснул, вернее, впал в забытье, которое все же помогло ему восстановить душевные и физические силы. Проснувшись на следующее утро бодрым и свежим, он решил, что происшедшее накануне было всего лишь сном, а когда вспомнил, что это не сон, когда в памяти всплыл разговор с Терезой, то снова почувствовал, как сжалось сердце, и едва не потерял самообладание. Не долго думая, он оделся и отправился к певице.
Она встретила его как давняя, близкая подруга, ласково и сердечно. Теперь он, правда, с особой отчетливостью осознал всю необычность их отношений, но Эухения была спокойна и, похоже, совершенно забыла о прошлом, поэтому и он вновь обрел уверенность и взял дружеский тон.
Утро прошло прекрасно, да и погода стояла великолепная. Вместе с певицей дон Лотарио катался по городу и его окрестностям, потом обедал с ней и ее подругой Луизой д’Армильи. Вечером он был с актрисой на спектакле.
На другой день молодой человек сопровождал донну Эухению на репетицию и вновь составил ей компанию за столом. В тот вечер она спела свою партию с огромным успехом. Дон Лотарио ждал певицу в коляске и проводил до гостиницы, где провел вместе с нею еще несколько часов.
Разумеется, свет принял дона Лотарио за любовника певицы, тем более что он единственный сопровождал обеих дам, ибо пожилой господин, под покровительством которого они путешествовали прежде, по причине расстройства здоровья принужден был остаться в Англии. Вскоре об этом поползли слухи, так как красота и талант донны Эухении привлекали всеобщее внимание. Не обошлось, как водится, и без преувеличений. Многие пытались проникнуть в тайну, которой было покрыто прошлое певицы, равно как и теперешняя ее жизнь.
И в скором времени по городу стала гулять история о том, что в первый же вечер в театре, где проходили гастроли певицы, появился смертельно бледный, полубезумный молодой испанец, который после спектакля чуть ли не силой проник в номер гостиницы, где остановилась певица. Наверняка это ее бывший любовник. Затем, как рассказывали, произошла бурная сцена, закончившаяся, должно быть, примирением влюбленных, поскольку с тех пор их всегда видели вместе.
Дон Лотарио и донна Эухения и не подозревали, что сделались центром всеобщего внимания. Каждый день проходил у них так, словно был первым днем их встречи. Где бы они ни появились, они непременно вызывали у всех симпатию. Каждый находил их прекрасной парой. Мужчины восхищались донной Эухенией, женщины — доном Лотарио, и не один завистливый взгляд провожал обоих.
Слух о счастливом воссоединении влюбленных достиг и графа Аренберга, и принес это известие, разумеется, не кто иной, как Ратур, который украсил свой рассказ множеством мелких подробностей, сочиненных легковерной публикой. Ратур поведал своим слушателям, что еще в Лондоне дон Лотарио находился в интимной связи с певицей, но был отвергнут ею за неверность и только теперь получил прощение. По словам Ратура, любовники бесстыдно обнимались и в открытом экипаже, и за кулисами театра. Он сумел столь искусно построить свое повествование, что никому и в голову бы не пришло усомниться в его правдивости. Короче говоря, граф Аренберг пришел к выводу, что дон Лотарио — самый заурядный искатель приключений, общения с которым следует всячески остерегаться, и в первую очередь — дамам. Что подумала обо всем услышанном Тереза, какое впечатление рассказ Ратура произвел на нее, оставалось неизвестным. Во всяком случае, она упорно отказывалась бывать в театре, когда пела донна Эухения, хотя Ратур не скупился на уговоры. С каждым днем она становилась все печальнее, и нежный румянец, что еще совсем недавно так украшал девушку, сошел с ее щек.
IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Прошло некоторое время. Донна Эухения продолжала свои гастроли в Берлине, и ее неизменным спутником по-прежнему оставался дон Лотарио. В один из этих дней граф Аренберг вошел в комнату Терезы.
Было уже за полдень. Тереза сидела у окна. Она глубоко задумалась и не слышала шагов графа, заглушенных пушистым ковром. Тереза заметила Аренберга, только когда он мягко положил руку на ее плечо.
— Вы так задумчивы, дитя мое! — заметил граф. — Что с вами? Что за мрачные мысли вновь нахлынули на вас?
— Так, пустое, дорогой отец! — ответила Тереза, часто, как мы знаем, называвшая Аренберга отцом. Она попробовала улыбнуться, но безуспешно, лицо ее, вопреки желанию, оставалось грустным.
— Пустое? Трудно поверить, глядя, как вы едва сдерживаете слезы. Нет, нет, Тереза, не пробуйте меня убедить, с недавних пор вас что-то беспокоит. Я не хотел бы казаться навязчивым, но знаю, как вы застенчивы и робки. А ведь когда-нибудь нам придется поговорить по душам. И чем раньше, тем лучше.
— Вы ошибаетесь, дорогой отец, это все пустое! — твердила Тереза, стараясь казаться равнодушной и невозмутимой.
— На этот раз вам не удастся ввести меня в заблуждение! — стоял на своем граф. — Именно сегодня я решил выяснить все до конца! Может быть, в вашем сердце вновь ожили прежние воспоминания и вы еще не вполне оправились от своего болезненного состояния, дитя мое?
— Вы имеете в виду Пауля? — спокойно спросила Тереза. — Нет, дорогой отец, решительно нет. Пауля я забыла, если это слово позволительно употребить, когда вспоминаешь о человеке с полнейшим равнодушием. Пауля я забыла навсегда!
— А вы не лукавите? — недоверчиво спросил граф.
— Ничуть, уверяю вас, — ответила Тереза как можно убедительней.
— Хм! — пробормотал граф, покачивая головой. — А я, признаться, был уверен в обратном. Теперь вижу, что ошибался. Что же, тем лучше! Но тогда приходится опасаться, что в ваше сердце вошло какое-то новое чувство.
— Вы сказали «опасаться»? — переспросила Тереза. — А прежде вы, по-моему, надеялись, что рано или поздно это случится.
— Да, надеялся, так как верил, что это доставит вам радость, — заметил граф. — Однако теперь убедился, что вы тем не менее печальны. Вы побледнели, и я замечаю некоторые признаки, прежде вселявшие в меня тревогу за ваше здоровье.
— Поверьте, дорогой отец! — умоляюще произнесла Тереза. — Вы мучаете себя напрасными подозрениями, это все пустое, пустое!
— Нет, нет! — возразил граф. — Я прекрасно вас понимаю. Вы не хотите причинять мне боль, надеетесь справиться сами. Но я не могу смотреть на все это безучастно. Я должен помочь вам, хотя бы попытаться помочь. Ведь годы уходят, дорогая моя. Еще несколько лет, и — если вы не избавитесь от своей меланхолии — общество уже не сможет предложить вам никаких радостей. Неужели вы никогда не решитесь сделать свой выбор?
— Но сейчас я счастлива, вполне счастлива, дорогой отец, — вздохнула Тереза.
— Не говорите мне больше таких слов, дитя мое! Уж я-то знаю, как вы несчастны и как пытаетесь скрыть это! Позвольте мне быть с вами совершенно откровенным и дайте слово, что спокойно выслушаете меня. Речь пойдет о серьезных вещах.
— С радостью! Да и как я могу противиться вашему желанию?
— Прекрасно! Признаться, я и сам думаю, что вы забыли Пауля. Во всяком случае, от меня не укрылись явные признаки того, что душа ваша исцелилась. Это случилось, когда вы познакомились с молодым Лотарио. Скажу прямо, Тереза, я надеялся, что в нем вы нашли человека, который достоин занять в вашем сердце место Пауля. Все как будто подтверждало мои предположения. Вы охотно виделись с этим молодым человеком. С его приходом ваш взор оживал, щеки розовели, с каждым днем здоровье возвращалось к вам, даже здесь, в Берлине, когда вы не видели его. Но когда я заметил, как сдержанно вы его здесь принимали, у меня зародились сомнения. Он сам дал мне повод усомниться в нем, и после того, что мы здесь о нем услышали, я не считаю его достойным любви моей Терезы. Жаль, очень жаль! А я надеялся на этого молодого человека! Но теперь вы убедились, что нам нечего от него ждать, и это, я думаю, делает вас несчастной, дитя мое! Разве я не прав?
— Нет, дорогой отец! — тихо ответила Тереза. — Я никогда не возлагала на дона Лотарио никаких надежд.
Услышав ее ответ, граф некоторое время размышлял. Ему казалось, что она кривит душой.
— Выходит, я ошибался! Тем лучше! — сказал он наконец. — Но тогда я не вижу причин для вашей печали. Ладно, оставим это! Согласитесь, Тереза, я никогда не принуждал вас поступать вопреки вашему желанию. Однако должен напомнить, что для всякой женщины жизнь без любви или, скажем, без брака не имеет смысла. Любая женщина должна исполнить свое предназначение, и вы в том числе. Сам я никогда не был женат, но причиной тому послужили весьма прискорбные обстоятельства. Однако я всегда признавал счастье брачных уз и исключительную важность брачного союза, и мне была бы невыносима сама мысль о том, что ваше сердце уже не способно полюбить вновь. В таком случае вам остается второе условие, необходимое для брака: уважение к будущему супругу. Я твердо убежден: человека, которого уважаешь, со временем полюбишь! Супружество порождает новые узы, вызывает новые чувства, которые становятся более сладостными, более священными, нежели те, что рождены страстной любовью. Поэтому, дорогая Тереза, я сейчас и спрашиваю вас: вам никогда не приходила мысль выйти замуж за человека, которого вы уважаете, если уж вам не встретится человек, которого вы способны полюбить?
— Я никогда об этом не думала!
— Тогда, дитя мое, серьезно подумайте над тем, что я вам сейчас скажу! — мягко продолжал граф. — Господин де Ратур просил у меня вашей руки, и я считаю своим долгом сообщить вам об этом. Мы оба знаем его довольно давно, и, мне кажется, нам не в чем упрекнуть его. Он старался добиться достойного положения здесь, в Германии, ибо у себя на родине потерял все, сохранив верность своим убеждениям. У него благородная душа, чуткая ко всему прекрасному. Сегодня утром он был здесь и все мне рассказал. Сказал, что давно питает к вам искреннюю симпатию и надеется на вашу благосклонность. Он уверял меня, что заметил ваше к нему расположение по многим признакам и это дает ему смелость просить у меня вашей руки. Правда, по его словам, он мало что может вам предложить, но, коль скоро и ваши денежные дела не блестящи, он считает, что ваш брак будет союзом равных. В самое ближайшее время ему обещают место в Швейцарии, и он будет в состоянии привести жену в собственный дом и обеспечить ей достойную, хотя и без особой роскоши, жизнь. Он просил меня узнать ваше мнение, но никак не влиять на вас, чтобы ваше согласие было совершенно добровольным. Итак, я исполнил его просьбу и повторяю вам его предложение руки и сердца.
— Я уже давно ждала чего-то подобного, — заметила Тереза, едва граф кончил говорить. — Но прежде, чем я дам ответ, скажите, дорогой отец, что вы сами думаете о предложении господина де Ратура?
— Я ничего не имею против, и вы могли убедиться в этом из моих слов, — ответил граф. — Ратур мне нравится, он — человек чести. Думаю, любая женщина будет с ним счастлива. Он еще молод, но немало успел повидать в жизни. Кроме того, я убежден, он не преследует каких-либо корыстных целей, поскольку даже не подозревает о моих намерениях в отношении вас, дитя мое.
— Вы правы, дорогой отец, — согласилась Тереза, стараясь сохранять спокойствие. — Я могла бы попросить вас дать мне время подумать, но не сделаю этого. Я отвечу вам тотчас. Не сердитесь на меня, умоляю вас, но господин де Ратур никогда не будет моим мужем, никогда! Я ни за что не соглашусь на это! — вскричала Тереза и закрыла лицо руками.
Между тем в комнате уже стемнело. Наступила пауза — граф медлил с ответом.
— Успокойтесь, Тереза, я и не думаю сердиться! — сказал он наконец. — У вас, разумеется, есть свои причины отказать такому человеку, как Ратур, и вы наверняка откроете их мне — пусть не сейчас, потом. Ну, хватит об этом! Я скажу господину де Ратуру, что проверил ваше сердце и убедился: вы не питаете к нему чувств, которых он ждет. Но прямой ответ, какой вы только что мне дали, чего доброго, обидит его. Я успел привязаться к нему и не хотел бы лишаться его общества. Поэтому прошу и вас быть с ним радушной и приветливой, как прежде. Ратур — человек серьезный, знающий жизнь. Он сумеет достойно выйти из того двусмысленного положения, в котором оказался.
— Благодарю вас, дорогой отец, я сделаю все так, как вы скажете, — тихо промолвила Тереза.
— А теперь, дитя мое, в последний раз прошу вас быть со мной откровенной! — сказал граф. — Что вас так угнетает? Если вы не любите дона Лотарио, не думаете больше о Пауле, если вас не беспокоит робость и нерешительность, с какой Ратур добивается вашей руки, что же в таком случае вас печалит?
Тереза медленно встала, раздираемая противоречивыми чувствами, потом внезапно со слезами бросилась графу на грудь и обвила его шею руками.
— Я люблю дона Лотарио! — вскричала она, не помня себя от горя. — Я люблю его!
С этими словами она вырвалась из объятий ошеломленного графа и опрометью выбежала из комнаты.
— Я чувствовал это, чувствовал! — прошептал граф. — Бедное дитя, когда же ты обретешь покой? Как исцелить твое сердце?
Удрученный и опечаленный, граф вернулся на свою половину и, погрузившись в мрачные размышления, стал ждать Ратура, обещавшего прийти за ответом ровно в семь.
С последним ударом часов появился француз — как всегда, воплощение учтивости и преданности. На этот раз, правда, он выглядел несколько обеспокоенным, поскольку ему предстояло узнать, исполнятся ли его хитроумные планы.
— Дорогой друг, — сказал граф, без промедления подходя к нему и сердечно пожимая руку, — я не стану притворяться. По моему лицу вы поймете, что вас ждет удручающее известие. Я попытался заглянуть в душу моей Терезы. Мне кажется, бедное дитя не испытывает к вам того чувства, которого вы ожидаете.
Ратур ничем себя не выдал. Он понимал, что обязан хранить спокойствие. Молча поклонившись, он опустился на стул.
— Скажите мне всю правду, господин граф! — сказал он наконец. — В ваших словах еще можно уловить проблеск надежды. Однако я знаю: Тереза ответила решительным отказом.
— Сам я по крайней мере не очень надеюсь на благоприятный ответ, и это, не скрою, очень меня печалит! — любезно заметил граф. — Но ведь вы мужчина, вы сумеете примириться со своей судьбой. И прошу вас, не теряйте надежды. У Терезы сильный характер, но она все-таки женщина. Женское сердце изменчиво… Оставайтесь верным другом нашего дома, и, я надеюсь, рано или поздно Тереза поймет, что лучшей партии ей не найти.
Ратур рассыпался в благодарностях графу за его доброту и в конце концов согласился с ним, что не следует придавать большого значения первому отказу Терезы. Употребив всю свою хитрость, он попробовал разузнать, объяснила ли Тереза графу причины своего отказа. Граф не мог выдать тайну Терезы, поэтому ответил уклончиво, сказав, что не видит иных причин, кроме обычного каприза, которому столь подвержены даже самые достойные из женщин.
Ратур отклонил предложение графа провести этот вечер в обществе его и Терезы и распрощался с хозяином дома, твердо пообещав по-прежнему продолжать свои визиты.
— Черт бы побрал эту сумасбродку! — злобно бормотал он, удаляясь от дома графа. — Не получилось так, получится иначе! Но она должна стать моей — и станет ею!
V. ПАВИЛЬОН
Между тем дон Лотарио оставался верным и неутомимым кавалером той, которая в самый печальный момент его жизни подарила ему столько участия и сердечности. Однако никто из тех, кто видел их вместе, даже не подозревал, сколь необычны отношения, сложившиеся между ними. Дело в том, что в привязанности дона Лотарио к донне Эухении не было ни малейшего намека на любовь. Так было в первые дни, так продолжалось и в последующие.
Труднее, правда, описать чувство донны Эухении к молодому испанцу. Казалось, ее связывали с ним только дружба и участие, но так ли было в действительности? Однажды она уже зашла слишком далеко, так что теперь ей следовало быть особенно осмотрительной. И все же всякий, кому случилось бы видеть их наедине, без труда заметил бы, с какой любовью, с какой страстью смотрела певица на такое красивое, но — увы! — грустное лицо дона Лотарио, как часто она беспричинно вдруг заливалась румянцем, как исподволь следила за каждым движением молодого человека. Впрочем, она была так осторожна, что дон Лотарио ничего не замечал.
Имя Терезы никто из них не упоминал. Эухения не испытывала ни малейшего желания выяснять подробности разрыва, а дон Лотарио чувствовал, что рассказывать об этом теперь излишне. Вот так и жили эти трое людей, которых судьба привела в один и тот же город, когда одно происшествие резко все изменило.
Донну Эухению пригласили выступить в концерте при королевском дворе, и в этот вечер дон Лотарио поневоле лишился возможности сопровождать ее. Погода была прекрасная, и молодой человек продлил свою обычную прогулку по Унтер-ден-Линден. Собираясь возвращаться, он вдруг вспомнил у Бранденбургских ворот, что должен сделать кой-какие покупки, но, вероятно, уже слишком поздно. Лавка, куда он собирался тем не менее заглянуть, находилась на Лейпцигер-штрассе.
Он немного постоял в раздумье. Мимо прошли двое рабочих, и один из них предложил другому:
— Давай обогнем эту стену! Здесь самый короткий путь на Лейпцигер-штрассе!
Дон Лотарио уже достаточно освоил немецкий язык, чтобы понять услышанное. Поэтому пошел следом за рабочими.
Неожиданно он услышал отдаленные звуки фортепьяно и негромкое пение. Этот женский голос заставил его замереть. Несмотря на расстояние, отделявшее дона Лотарио от певицы, он тут же его узнал. Пела Тереза.
Как очутилась здесь Тереза? Почему она поет? Может быть, она не одна, может быть, с ней Ратур? Ревность с новой силой вспыхнула в его сердце, и им овладело одно-единственное желание — вновь увидеть Терезу.
Довольно высокая каменная ограда отделяла улицу от парка. Взобраться на стену было невозможно, но, к счастью, молодой испанец увидел калитку. Опершись ногами на засов и петли этой калитки, дон Лотарио ловко влез на ограду и спрыгнул в парк. Прыжок оказался не вполне удачным. Молодой человек упал, и падение даже немного оглушило его. Тем не менее он тут же поднялся и зашагал навстречу звукам музыки, которые слышались теперь все отчетливее и громче.
Вскоре он различил на фоне темного ночного неба очертания небольшого павильона. Дон Лотарио приметил его еще раньше, прогуливаясь как-то зимой в парке с Аренбергом. Помнится, граф заметил, что велел обставить этот павильон для Терезы и она переберется туда, как только установятся теплые дни.
Правда, был еще только март, но в последнее время так потеплело, что можно было, пожалуй, рискнуть и провести несколько дней в этом павильоне. Выходит, неизвестной певицей и в самом деле была Тереза.
Пела она немецкие народные песни, весьма незатейливые, все как одна печальные, жалобные. Некоторые из них Лотарио уже слышал и даже знал их слова. Не очень-то они отвечали тому блаженному состоянию, в каком пребывают влюбленные. Впрочем, иной раз счастье любви выражается именно в грустных мелодиях.
Всего одно окно — как он в конце концов выяснил — позволяло ему заглянуть внутрь павильона, да и то лишь в комнату, где Терезы не было. Оно выходило в прихожую, сюда же вела дверь из комнаты, где была Тереза. Эта дверь была открыта, и дон Лотарио заметил, что комната Терезы слабо освещена. Терезу он не видел, слышал только доносившееся оттуда громкое пение своей возлюбленной.
Не зная, как поступить, он отошел от окна. И тут донесся шум шагов.
Дон Лотарио поспешил спрятаться. Он увидел медленно, осторожно приближавшуюся мужскую фигуру. Неизвестный был явно выше ростом, чем граф. Должно быть, Ратур. И действительно, всем своим обликом незнакомец походил на француза. Сердце молодого испанца учащенно забилось. Значит, Тереза ждет в павильоне Ратура, возможно, даже без ведома графа. Иначе почему Ратур так осторожен?
В дом француз, однако, не вошел. Он остановился у того самого окна, возле которого только что стоял дон Лотарио, затем крадучись обошел вокруг павильона и вернулся на прежнее место. И только потом взялся за дверную ручку. Но дверь, по-видимому, была заперта изнутри.
Следовательно, Ратура не ждали. Так что же ему было здесь нужно? Может быть, он выслеживает Терезу?
Ревность, кольнувшая вначале дона Лотарио, уступила место жгучему любопытству. Ратура он видел плохо — различал только очертания его фигуры. Но что это и в самом деле Ратур, испанец уже успел убедиться.
Теперь Ратур возился с окном: нажал на створки, пытаясь открыть окно, но безуспешно; в конце концов он, как показалось дону Лотарио, вытащил из кармана какой-то инструмент, почти бесшумно вырезал в стекле отверстие, просунул туда руку и открыл шпингалет изнутри.
Все это выглядело так загадочно, так таинственно, что дон Лотарио, затаив дыхание, следил за каждым движением француза. Ратур влез в открытое окно. Тогда дон Лотарио вновь приблизился к окну, намереваясь понаблюдать за его действиями.
Ратур бесшумно миновал прихожую и через открытую дверь заглянул в комнату Терезы, как раз прекратившей музицировать. Лишь временами молодой испанец слышал доносившиеся из ее комнаты приглушенные сбивчивые аккорды, как если бы их брали в мечтательной рассеянности.
Ратур шагнул в комнату Терезы. В следующее мгновение и дон Лотарио проник через открытое окно в прихожую и затаился у порога, где только что стоял француз.
— Ради Бога, не пугайтесь, мадемуазель Тереза! Тысяча извинений! — воскликнул француз.
Дон Лотарио видел, как испуганно отшатнулась Тереза при появлении незваного гостя.
— Вы, господин де Ратур? Вы один? А где же граф? Как вы сюда попали? Ведь дверь заперта!
— Нет, мадемуазель, дверь была открыта! — солгал Ратур. — Я решил, что граф у вас. Еще раз прошу прощения! Если вам будет угодно, я тотчас же удалюсь… я вижу, что вы одни…
— Я вынуждена просить вас оставить меня! — твердо сказала Тереза.
— Дорогая мадемуазель Тереза… милая Тереза, если вы настаиваете, я уйду! — вскричал француз. — Но не может быть, чтобы вы хотели этого! Нет, нет, не верю! Мне так много нужно вам сказать! Я с таким нетерпением ждал случая остаться с вами наедине! О Тереза, как глубоко вы ранили мне сердце, когда отвергли мое предложение!
— Оставьте меня, господин де Ратур! Немедленно оставьте! — воскликнула Тереза. — Здесь не место говорить об этом. Вы просто забываете о приличиях! Уходите… иначе…
От волнения у Терезы подкашивались ноги, и она опустилась на софу.
— О, вам угодно обманывать меня, мой ангел! — вскричал Ратур. — Я ведь вижу, в вас говорит девичья стыдливость! А ваше сердце подсказывает вам другое! Вы не можете отвергнуть меня! Так зачем вы себя мучаете? Почему не признаетесь, что любите меня? Я один услышу ваше признание и буду счастлив.
Он опустился перед девушкой на колени и взял ее за руки. Тереза попыталась встать, но Ратур помешал ей. Она попробовала высвободить руки, но он держал их крепко и не думал отпускать. В этот миг Лотарио заметил, что француз тайком вынимает из кармана флакон. Вероятно, какая-нибудь усыпляющая жидкость. Молодой человек приготовился в любую секунду броситься на негодяя.
— Обожаемая Тереза! Я знаю, что вы любите меня! — торжествующе произнес Ратур. — Знаю, и это наполняет мою душу безграничным счастьем! За одно такое мгновение я не пожалел бы миллионов! Почему вы сказали графу, что равнодушны ко мне? Признаю, я был не прав, мне следовало обратиться прямо к вам. В любви посредники не нужны!
Он привлек ее к себе. Казалось, Тереза уже не в силах защищаться. Ратур сел рядом и обхватил слабую девушку своими крепкими руками.
В отчаянии Тереза все же сумела оттолкнуть его и вырваться. Она попыталась убежать, но француз задержал ее.
— Лотарио, спаси меня! — не помня себя, воскликнула Тереза. — Ах, Лотарио!
На этот раз Ратур обозлился и схватил ее уже по-настоящему. Но в этот миг перед ним вырос дон Лотарио. Его кулак опустился на череп француза с такой силой, что тот с глухим стоном рухнул на софу. Злополучный флакон упал на пол.
— Негодяй! Подлый негодяй! — с трудом подбирая слова, вскричал дон Лотарио. — Прочь отсюда, мерзавец, или я убью тебя!
Но Ратур в самом деле потерял сознание и неподвижно лежал на софе. Тереза тоже была без чувств; дон Лотарио едва успел подхватить ее и осторожно опустил в кресло.
Так и стоял он перед Терезой и Ратуром — стоял, не помня себя от счастья, чувствуя себя на седьмом небе. Одно это мгновение раскрыло ему тайну, которая не давала ему покоя: он понял наконец, что творилось в сердце его любимой. Разве в минуту отчаяния вырвалось бы у нее его имя, если бы она не любила его всей душой, если бы ее сердце не было целиком и полностью отдано ему?
Должно быть, он действительно нанес французу сильный удар, ибо Ратур никак не приходил в сознание. Тереза по-прежнему недвижимо лежала в кресле, куда поместил ее молодой испанец. Воспользовавшись временной передышкой, дон Лотарио распахнул окно, чтобы впустить свежий воздух. Затем поднял с пола флакон, осторожно понюхал и, убедившись, что не ошибся в своих предположениях, сунул в карман.
Первой очнулась Тереза. Она открыла глаза и взглянула на дона Лотарио с выражением радостной неожиданности и совершенно очаровательного смущения. Она попыталась подняться.
— Сидите, сидите! — остановил ее дон Лотарио. — После всего, что вы пережили, вам нужно немного отдохнуть!
Наконец пришел в себя и Ратур. Едва он увидел молодого испанца, как к нему мгновенно вернулись жизненные силы. Он тут же все вспомнил. Через секунду он был на ногах, яростно глядя на юношу. А дон Лотарио смотрел на француза с величайшим хладнокровием.
— Так это были вы! — в бешенстве вскричал Ратур. — Даром вам это не пройдет!
— Вы негодяй! — презрительно бросил дон Лотарио. — Убирайтесь отсюда! Вам известно, почему я молчал. Вы обманули меня. Теперь мое терпение иссякло. Ваше время кончилось!
— И ваше тоже! — прорычал Ратур, вне себя от злости. — Так вот, голубушка, — он обернулся к Терезе, — отчего вы разыгрывали из себя недотрогу! Вы поджидали здесь этого вертопраха! На вашем месте я постыдился бы делить его благосклонность с какой-то певицей!
— Еще одно слово, и я убью вас! — воскликнул дон Лотарио громовым голосом. — Уходите отсюда! Уезжайте из Берлина!
— Хорошо, я уйду, но уезжать из Берлина — как бы не так! — насмешливо сказал Ратур. — Берегитесь, дон Лотарио! Пожалуй, ваше время кончится раньше моего. И остерегайтесь распускать язык. Вы меня знаете…
Он схватил плащ и шляпу и, бросив яростный взгляд на дона Лотарио и Терезу, поспешно вышел из комнаты, а затем, рывком распахнув входную дверь, и из дома.
С его уходом наступила одна из тех минут, которые трудно описать словами — их нужно обязательно пережить самому. В комнате, где только что звучали резкие слова ссорящихся, внезапно повисла полная тишина. В распахнутые окна врывался свежий вечерний воздух. Тереза сидела в кресле, с благодарностью и любовью глядя на дона Лотарио, а он, возбужденный недавним объяснением, все еще смотрел вслед Ратуру. Потом он повернулся к Терезе, прочел в ее глазах любовь и нежность, и выражение его лица мгновенно изменилось. Он невольно опустился перед ней на колени, взял ее за руку и, склонив голову, прикоснулся к ней губами.
— Тереза, — сказал он едва слышно, — вы доставили мне столько мучений, сделали меня таким несчастным!
— Это ваша вина, дон Лотарио, — мягко возразила Тереза. — Вы сами тому причиной!
— Почему же вы не сказали мне ни одного ласкового слова, чтобы вселить в меня надежду? Ведь вы знали, что я люблю вас!
— Нет, дон Лотарио, не знала. Я думала, вы одарили меня мимолетной благосклонностью, намеревались играть с моим чувством, как с чувствами, какие питают к вам госпожа Моррель и некая певица!
— Госпожа Моррель? Донна Эухения? — вскричал пораженный Лотарио. — О чем вы? У меня и в мыслях не было сказать этим дамам хоть одно слово, даже отдаленно намекающее на любовь!
— Не обманывайте меня, дон Лотарио, умоляю вас! — с горечью сказала Тереза. — Второго такого несчастья я не перенесу! Не играйте с моим сердцем! Вашей измены я не переживу! Вы уже обманывали меня, и не раз! Уверяли, что целиком поглощены своими занятиями и якобы поэтому были у нас редким гостем, а сами проводили время за карточным столом и заводили интрижки с другими женщинами. Добивались руки госпожи Моррель и афишировали свою связь с донной Эухенией. И вы еще думаете, что я не была несчастна — я, которая наконец вновь полюбила человека, а потом принуждена была сознаться себе, что мой выбор пал на недостойного?
— Позвольте, Тереза! Я отказываюсь верить своим ушам! — воскликнул дон Лотарио. — Откуда у вас подобные фантазии?
— Все это рассказал нам Ратур! — со слезами ответила девушка.
— Ратур? Снова этот негодяй! Мало того что он обманул меня, так он обманул и вас! Я призвал бы этого мерзавца к ответу, но это дело правосудия. Он подлый лжец, Тереза! А теперь узнайте всю правду и постарайтесь не упустить ни слова из того, что я скажу!
И он красочно описал состояние своей души с тех самых пор, как познакомился с Терезой, свое знакомство с Ратуром, с донной Эухенией, свои отношения с госпожой Моррель. Тереза слушала его с явным нетерпением. С каждой минутой лицо ее все больше прояснялось, изменялось все ее существо. Казалось, это уже совершенно другой человек.
— Как? — вскричала она. — Вы знали, что Ратур преступник, и молчали?
— Я не мог сказать это, Тереза, не смел, и вот почему, — ответил Лотарио. — Он явился ко мне и сказал, что вы его любите, что его долг — исцелить ваше сердце, что своими разоблачениями я сделаю вас обоих несчастными. Я был вынужден молчать — молчать ради вас, Тереза! Отсюда и мое дурное настроение, и мое недовольство!
— О, дон Лотарио, теперь я вижу, что сердце не обмануло меня! Недаром меня влекло к вам! — с восторгом воскликнула Тереза. — Тот, кто сумел до такой степени держать себя в руках, неспособен на низость. Ратур обманывал меня. Ах, дон Лотарио, мы бы давно могли быть счастливы, не будь этого негодяя…
Тем временем Ратур быстрым шагом направился к главному зданию и, подойдя, остановился в раздумье. Стоял он довольно долго, ибо не так легко было найти лазейку из лабиринта опасностей, в который завела его собственная алчность. Наконец решение созрело. Он вошел в дом и поспешил прямо к графу.
— Господин граф, — вскричал Ратур с наигранным негодованием, хотя отчасти он и в самом деле был возбужден и раздражен случившимся, — простите, если я нарушил ваше уединение. Но это мой последний визит в ваш дом. Мы с вами подло обмануты, обмануты девицей, которая ловко разыгрывала добродетельную особу и в то же время не считала зазорным тайно встречаться с неким человеком. Любая другая на ее месте держалась бы от него подальше, чтобы не запятнать своей чести!
Граф вскочил и в ужасе уставился на француза.
— Да, да, именно так! — с горечью продолжал Ратур. — Выслушайте, что я вам сейчас расскажу, и судите сами. Признаюсь, я поступил не совсем правильно. Не удовлетворившись ответом, который вы дали мне со слов Терезы, обеспокоенный и сгорающий от страстной любви, я вознамерился сам объясниться с ней. Я пришел сегодня вечером и услышал, что вы у себя в кабинете, а Тереза — в павильоне. Обстоятельства показались мне благоприятными. Пусть любовь послужит оправданием моей дерзости, но я рискнул направиться прямо в павильон. Двери были закрыты, но внутри слышались голоса, женский и мужской: Терезы и некоего мужчины, как будто бы знакомого. Мучимый беспокойством и ревностью, я решил разобраться во всем, выдавил в окне стекло и проник в павильон. Я увидел Терезу в объятиях дона Лотарио… Дальше я не нахожу слов, господин граф! Вот так эта девушка обманула и вас, и меня. Делала вид, что живет воспоминаниями о прежнем возлюбленном, а сама разделила благосклонность какого-то игрока и авантюриста с обыкновенными девками и певицей, а может быть, и с госпожой Моррель! Предоставляю вам самому судить обо всем этом… Меня заметили и, вероятно, попытаются наговорить вам небылиц, если у этой парочки хватит наглости — в чем я почти уверен — и сейчас еще продолжать свою преступную игру, в надежде, что я скрою свое негодование и удалюсь. Но я не смог так поступить. Вам по крайней мере я хотел сказать всю правду, чтобы вы могли принять меры!
— Это невозможно, невозможно! — вскричал в ужасе старый граф. — Что она любит дона Лотарио, мне было известно, но чтобы она могла зайти так далеко… нет, это невозможно!
— В таком случае убедитесь сами! — воскликнул Ратур. — Мне жаль, весьма жаль, господин граф, но все это я рассказал только ради вас! Я ценю и уважаю вас, люблю вас как отца и глубоко сожалею, что вашей добротой воспользовались, чтобы обмануть вас! В ваш дом я больше не вернусь! Прощайте! Поступайте так, как считаете нужным!
Граф продолжал стоять словно пораженный громом. Казалось, он не в состоянии поверить этому чудовищному обвинению. Его бил озноб, он то садился, то вновь вставал: видимо, пытался взять себя в руки. Наконец он собрался с духом и почти с юношеской энергией и поспешностью направился через парк к павильону.
Ратур прекрасно понимал, какое объяснение последует за той сценой. Он предвидел, что граф застанет влюбленных в ситуации, которая убедит его в правдивости возведенной на них напраслины. Так и случилось. Когда запыхавшийся граф вошел в комнату, дон Лотарио и Тереза держали друг друга в объятьях, забыв обо всем на свете.
— Подлец! — вскричал граф изменившимся голосом. — Подлец, вы обманули меня! Вы втерлись ко мне в доверие, чтобы соблазнить Терезу! Прочь, прочь с моих глаз! И вы тоже хороши, Тереза! От вас я никак не ожидал ничего подобного!
Дон Лотарио и Тереза вскочили с софы, испуганные и смущенные.
— Ратур оклеветал нас! — воскликнул Лотарио. — Выслушайте всю правду, господин граф! Этот Ратур обманул и вас, и меня, и Терезу!
— Он прав, дорогой отец, этот негодяй обманул нас всех! — вмешалась Тереза. Поспешив к графу, она нежно обняла его, но он оттолкнул ее.
— Вам угодно и сейчас дурачить меня? — От обиды и возмущения на глазах у графа выступили слезы. — Стыдитесь, дон Лотарио! Как вы могли решиться соблазнить бедную девушку? А вы, Тереза! Никогда не думал, что вы так легкомысленны!
Последовали торопливые объяснения, Лотарио и Тереза говорили разом, подчас перебивая друг друга. Здесь были и клятвы, и просьбы, и обвинения по адресу Ратура. Разобраться в этой путанице оказалось невозможно. Граф был оглушен всем услышанным, но не убежден.
— Немедленно покиньте этот дом, сударь! — сказал он твердо. — Виновны вы или нет, сейчас неважно. Во всяком случае, я хочу знать наверняка, кто же меня предал. Честь Терезы требует, чтобы ее ни минуты не видели вместе с вами. Оставьте этот дом и не пытайтесь вернуться, пока я вас об этом не попрошу!
Несколько мгновений дон Лотарио боролся с собой, затем все же подавил зарождающуюся неприязнь к графу и с почтительным поклоном удалился. Всего один взгляд бросил он на Терезу, и она ответила ему тем же, однако ее взгляда оказалось достаточно, чтобы на некоторое время сделать его счастливым и сильным.
VI. СОЮЗНИКИ
Уходить Ратур не спешил. Ему не терпелось узнать, чем кончится встреча графа с доном Лотарио, поэтому он вернулся в парк, тайком последовал за графом и подслушал часть его разговора с влюбленными. В целом расчеты француза оправдались. Он видел, как ушел дон Лотарио, и наблюдал за ним, пока не убедился, что молодой испанец отправился домой. Тогда и он убрался восвояси и, несмотря на поздний час, поднялся к госпоже Моррель. Еще по дороге к дому он обратил внимание, что в ее окнах горит свет, и, естественно, заключил, что она еще не спит.
Он не ошибся. Валентина действительно сидела у стола, бледная и печальная. Она, видимо, пыталась чем-нибудь занять себя, но все валилось из рук, а на глаза навертывались слезы. При виде Ратура она в испуге вскочила.
— Успокойтесь, сударыня, и не надо вставать! — сказал француз и, пододвинув стул, бесцеремонно уселся рядом с молодой женщиной. — Мне нужно еще сегодня поговорить с вами по важному делу. Вас оно касается не меньше, чем меня!
— Я слушаю, — не без внутренней дрожи ответила Валентина.
— Французским властям, — начал Ратур, — стало известно, что я нахожусь здесь, в Берлине, причем без их согласия. Поэтому они требуют от правительства Пруссии выслать меня из страны. Утверждают, будто я участвовал в нескольких политических актах — или, как предпочитают выражаться французские власти, преступлениях, — и на этом основании требуют моей выдачи. Вся беда в том, что здесь у меня нет никого, кто мог бы за меня поручиться. Единственная, на кого я могу рассчитывать, — это вы. Надеюсь, вы не откажете мне в поддержке, сударыня?
— Конечно, — робко согласилась Валентина, ожидая, что будет дальше.
— Моего прошлого вы не знаете, — продолжал Ратур, — и знакомить вас с ним излишне. Возможно, однако, прусские власти будут интересоваться мною. Тогда вы скажете, что я еще в Париже был знаком с вашей семьей и мы нередко там виделись. Все дальнейшее, в том числе как мы встретились в тюрьме с вашим мужем, вам известно, так что кривить душой вам не придется. Ложным сведениям французских властей я вынужден противопоставить ложь во спасение, и это справедливо. Итак, мы с вашим мужем знали друг друга еще в Париже — я был тогда врачом — и часто встречались. Вы меня понимаете. Ваши показания не должны расходиться с моими. Вы скажете, как я прошу, если вас спросят?
— Да, господин де Ратур! — несмело ответила Валентина. — Хотя вся эта таинственность и то, как вы со мной обращаетесь, мне не по душе.
— Сейчас речь не об этом! — прервал ее Ратур. — Я знаю, что́ вы имеете ввиду. В том, что родственники вам не пишут, моей вины нет. Уехать сейчас из Берлина, чтобы вернуть вас в Париж, я не могу. И вообще, в последнее время вы стали очень скрытны, очень сдержанны со мной. Мне остается только заподозрить, что вы против меня что-то замышляете. Пусть, однако, эта неприязнь — для которой я, впрочем, не вижу причин — не вводит вас в соблазн пойти против моей воли. Скажу прямо, вам пришлось бы поплатиться за свое непослушание… вам и вашему ребенку. Запомните это!
Ратур поднялся и, не сказав больше ни слова, покинул испуганную женщину.
Он разбудил слуг и приказал не пускать к госпоже Мор-рель никого, кроме правительственных чиновников. Запретил он и выходить ей одной, без сопровождения.
Распорядившись таким образом, Ратур вышел из дому и направился на Унтер-ден-Линден. Было уже одиннадцать вечера, но гостиница «Норд» была еще открыта. Ратур поинтересовался, у себя ли донна Эухения. Ему сообщили, что она только что вернулась с придворного концерта, и назвали номер занимаемых ею апартаментов. Ратур поднялся наверх.
— Мое имя Ратур! — представился он горничной. — Мне необходимо поговорить с донной Эухенией. Передайте, что речь идет о доне Лотарио!
Горничная удалилась, и спустя немного времени Ратур уже находился в номере певицы.
Вероятно, Эухения ожидала увидеть самого дона Лотарио, но когда вошел незнакомый человек, который собирался говорить с ней о доне Лотарио, она не на шутку встревожилась, полагая, что с молодым человеком произошло несчастье.
— Простите меня за столь поздний визит, мадемуазель! — извинился Ратур. — Я должен кое-что сообщить вам, хотя вполне отдаю себе отчет в опрометчивости моего поступка. Буду краток, мадемуазель! Нас с вами обманули самым бесчестным образом! Вас — дон Лотарио, меня — мадемуазель Тереза!
Певица побледнела, однако сумела сохранить самообладание.
— Сударь, — ответила она, — у меня с доном Лотарио не такие отношения, чтобы он мог меня обмануть!
— Возможно, — согласился Ратур. — Но все же выслушайте меня!
И он начал свой рассказ, ни на миг не отрывая взгляда от собеседницы. Без сомнения, его история произвела на певицу сильное впечатление. Впрочем, Эухения еще вполне владела собой.
— Сударь, — сказала она, — даже не знаю, благодарить ли вас за эту новость. Дон Лотарио никогда не клялся мне в любви и не обязан хранить мне верность. Он вправе поступать так, как считает нужным. Странно, однако, что он скрыл от меня правду, ведь он был со мной весьма откровенен. Он признался, что мадемуазель Тереза отвергла его любовь и сделала его несчастным.
— Очень возможно! — опять согласился Ратур. — Недавно я и сам убедился, что мадемуазель Тереза — холодное и расчетливое создание. Вероятно, она отвергла дона Лотарио только затем, чтобы еще крепче привязать его к себе. Настоящая кокетка. Правда, непонятно, что́ заставило дона Лотарио после этого отказа прийти к вам. Впрочем, этот испанец, с вашего позволения, тоже довольно кокетлив. Ему мало, что его любит одна женщина, — он хочет покорить всех женщин, которые встречаются на его пути. Может быть, он и сам не ожидал, что Тереза так быстро пойдет на примирение.
Под внешней сдержанностью донны Эухении таилась натура пламенная и страстная, притом во всех делах, касающихся любви, она была совершенно неискушенной и не умела как следует владеть собой. И на этот раз страсть прорвалась наружу. Ведь в конце концов она действительно поверила, что завоюет сердце дона Лотарио. Она простила ему любовь к Терезе, надеясь, что еще найдет с ним свое счастье. В последнее время эта надежда превратилась почти в уверенность. Мысль о том, что он ответит на ее чувства, уже наполняла ее счастьем, и вдруг кокетство другой женщины вновь отнимает у нее человека, которого она, донна Эухения, так пылко любит.
Однако ненависти к дону Лотарио она не питала. Ведь ревность никогда или почти никогда не обращается против того, кто дал к ней повод. Донна Эухения возненавидела не дона Лотарио, которого считала слепцом и жертвой соблазна, а Терезу. Вероятно, и Ратур не имел иного намерения, как восстановить певицу против Терезы.
— Так или иначе, сударь, — сказала донна Эухения дрожащим голосом, — я должна поблагодарить вас. То, что вы мне рассказали, не позволяет мне более видеть дона Лотарио. Впрочем, мне это и безразлично.
— Как? — вскричал Ратур, который уже убедился, с какой пылкой натурой имеет дело. — Как? Неужели вы способны примириться со страданиями обманутой любви? Что до меня, то я не таков! Я ненавижу Терезу, ненавижу и этого лицемера, дона Лотарио! Я буду мстить! А вы, вы так безразличны к этой коварной кокетке, к той, что отняла у вас человека, на которого вы имели все права?
— Никто не давал вам позволенья копаться в моей душе, сударь! Прощайте! — воскликнула певица. — Какие чувства я испытываю, намерена ли я отомстить — что вам за дело до этого?
— И вы еще спрашиваете? Я ненавижу эту обманщицу Терезу! Я не хочу ее торжества, не хочу, чтобы она взяла верх надо мной, над вами — ведь я так сочувствую вам! Я не уеду из Берлина, пока не увижу ее униженной, осыпаемой насмешками!
— Разве такое возможно? — с горечью спросила певица. — Она не оставит этого безумца Лотарио, пока он ей не надоест, а потом прогонит прочь. Во всей истории он единственный, кого можно пожалеть!
— О, я знаю, как отомстить! — воскликнул Ратур. — Она любит дона Лотарио, вне всякого сомнения. Поэтому нельзя допустить, чтобы он ей наскучил. Нужно, чтобы она потеряла его в тот миг, когда будет считать, что он привязан к ней более всего. Это явится для нее самым чувствительным, самым жестоким ударом!
— Но как этого добиться? — спросила Эухения. — Дон Лотарио всей душой любит эту девицу и по своей воле никогда с ней не расстанется.
— Предоставьте это мне! — сказал Ратур. — Давайте заключим союз для достижения общей цели! Клянусь, мы своего добьемся!
— Только мне не хотелось бы навредить дону Лотарио! — проговорила певица, уступая охватившей ее страсти. — Он никогда не обманывал меня, никогда не объяснялся мне в любви. Мне очень жаль его. Не хотелось бы, чтобы он был несчастлив!
— Для него нет большего счастья, чем расстаться с этой кокеткой, — возразил Ратур. — Сделайте первый шаг, мадемуазель! Пусть Тереза не думает, что Лотарио отдал свое сердце ей одной. Напишите ей, что с удовольствием уступаете ей поклонника, который вам надоел. Это уязвит тщеславие нашей кокетки и еще больше привяжет ее к дону Лотарио, ибо она не будет уверена в нем.
На следующий день Тереза получила письмо такого содержания:
«Мадемуазель! Может быть, Вам кажется, что Вы одержали большую победу, вновь заманив в свои сети дона Лотарио. Между тем Вы оказали мне немалую услугу. Дон Лотарио в меру своих сил лишь помогал мне разгонять скуку и уже успел надоесть. С удовольствием уступаю его Вам.
Эухения Ларганд».
VII. ТАЙНЫЕ ЗАМЫСЛЫ
Хитрый и изворотливый Ратур надеялся по крайней мере на время посеять в душе графа Аренберга недоверие к тем объяснениям, которые тот получил от дона Лотарио, тем более что отношения, сложившиеся между ним, Ратуром, и Аренбергом, не могли не заставить графа усомниться в обвинениях Лотарио против Ратура.
Так и случилось. Душа графа была так же чиста и добра, как душа ребенка, поэтому он не принимал упреков, какими осыпала француза Тереза. У него было много больше причин подозревать дона Лотарио, нежели Ратура.
Отсюда ясно, что, выслушав на следующий день объяснения Терезы, граф встретил их настороженно, чтобы не сказать — недоверчиво. Чем дон Лотарио мог подтвердить свою правоту? Ведь очень может быть, что он обознался и Ратур совсем не тот человек! К тому же, говоря тогда с Терезой, дон Лотарио находился в таком возбуждении, что она с трудом поняла, о чем идет речь.
И вот теперь выяснилось, насколько верен был расчет Ратура, когда он посоветовал певице послать Терезе уже известное нам письмо. В сложившихся обстоятельствах даже это само по себе малозначительное послание сыграло очень важную роль. Оно попало в руки графа, и Тереза прочла его при нем. Выражение лица девушки — удивленное и расстроенное — побудило графа поинтересоваться содержанием письма, и Тереза, обещавшая, как и прежде, ничего от графа не скрывать, протянула ему конверт.
Прочитав, Аренберг покачал головой. Послание говорило не в пользу певицы, показывая ее завистливый и ревнивый нрав. Сомнительной представлялась теперь и искренность дона Лотарио. Он уверял Терезу, что с певицей его связывают чисто дружеские отношения, письмо же убеждало в том, насколько прав был свет, называя молодого испанца ее любовником. В этих условиях граф счел за благо нанести визит Ратуру. Француз, почти не сомневавшийся в подобном исходе, терпеливо ждал у себя дома. Граф выразил ему свое сожаление по поводу случившегося и тут же рассказал, в чем его обвиняет дон Лотарио.
Здесь уж Ратур почувствовал себя в родной стихии. Выслушав обвинения дона Лотарио, он усмехнулся, великодушно согласившись, что молодой испанец мог ошибиться и спутать его с неким преступником, однако сослался на свидетельства целого ряда лиц в Париже, а также на свидетельство госпожи Моррель, которая, к счастью, совсем рядом. Он проводил графа к ней, и под его зорким взглядом, в котором таилась откровенная угроза, молодой женщине не оставалось ничего другого, как подтвердить, что она и ее муж давно знакомы с Ратуром по Парижу.
Затем граф попросил Ратура возобновить свои визиты. Само собой разумеется, заметил он, что с Терезой господин де Ратур видеться не будет. В ответ француз не сказал ничего определенного. Говорить с доном Лотарио Аренберг посчитал излишним. По крайней мере, размышлял он, с этим разговором не следует спешить. Ему казалось, что главное сейчас — оградить Терезу от этого легкомысленного юнца.
Что же до самого дона Лотарио, то все эти дни он хоть и нервничал, однако чувствовал себя скорее счастливым, чем несчастным. Он знал, что Тереза любит его, и эта мысль помогала ему забыть обо всем остальном. Он послал письмо донне Эухении, где сообщал, что недоразумение между ним и Терезой улажено, сожалел, что отныне не сможет видеться с нею, и благодарил за дружеское участие. Это письмо, теплое и искреннее, показалось певице, должно быть, холодным и бессердечным и еще больше восстановило ее против дона Лотарио и ненавистной соперницы.
Молодой испанец написал и графу, подробно объяснив ему все то, о чем довольно бессвязно рассказал Терезе в тот памятный вечер. Он был уверен, что это послание вновь откроет ему двери дома Терезы. С тем большим изумлением прочитал он ответ графа, полученный на следующий день.
Граф писал, что сомневается в справедливости его обвинений против Ратура, которого он, граф Аренберг, столь высоко ценит, тем более что эти обвинения исходят от человека сомнительного происхождения, вдобавок не отличающегося твердостью характера. Если даже допустить, что дон Лотарио прав, нужны веские доказательства, а до тех пор он считает своим долгом не позволять Терезе, которой он, можно сказать, заменил отца, встречаться с легкомысленным юношей.
Письмо графа привело молодого испанца в негодование. Правдивость всегда была в числе первейших его добродетелей, и гордость дона Лотарио была безмерно уязвлена тем, что кто-то осмелился хоть на мгновение усомниться в искренности его слов. Прочитав письмо, он чуть было не послал графу вызов, но быстро одумался и сочинил ответ следующего содержания:
«Господин граф!
Вам угодно сомневаться в правдивости моих слов. Я постараюсь как можно быстрее рассеять Ваши сомнения. Мое происхождение не уступает Вашему, ибо я происхожу из древнего кастильского рода. Со временем, когда я пройду школу жизни, мой характер будет не хуже любого другого, потому что путеводной звездой на моем жизненном пути всегда будут правда и справедливость. Что касается Терезы, до сих пор дружеские чувства и детская привязанность удерживали ее в Вашей власти. Теперь она моя по праву любви и, даю Вам слово, останется моей. Однако в Вашем доме я появлюсь не раньше, чем Вы сами меня об этом попросите.
Дон Лотарио де Толедо».
В иных обстоятельствах граф расценил бы подобное послание как свидетельство большой и благородной души его автора, но теперь воспринял его как ребяческую выходку вспыльчивого юнца и твердо решил оберегать от него Терезу. Однако письмо Терезе показал. Девушка отнеслась к письму по-другому. В каждой строчке перед ней открывалось большое сердце ее возлюбленного — это послание рассеяло часть мучивших ее сомнений и опасений. Впрочем, и она получила от дона Лотарио короткую записку и показала ее графу. Молодой человек опять уверял, что сказал чистую правду, что любит ее, и только ее, и твердо надеется, что Тереза будет ему верна. В заключение он просил ее, уж если он лишен возможности видеться с нею, по крайней мере писать ему.
Ратур задумал вынудить дона Лотарио покинуть Берлин, и по возможности в обстоятельствах, которые не позволят ему вернуться, да еще так опорочить его перед Терезой и графом, чтобы они потеряли всякое к нему доверие. Если этот план увенчается успехом, Ратур спокойно уедет из Берлина вместе с певицей, доверие которой он уже успел завоевать, и заживет беззаботно и беспечно.
Без клеветы здесь было не обойтись, и Ратур пустился во все тяжкие. Вскоре Тереза получила несколько писем от известных дам берлинского полусвета. Эти особы, подобно донне Эухении, намекали ей, что она довольствуется тем, от чего отказались даже они. Не забыл Ратур и графа Аренберга. На его имя также поступило несколько писем, в которых некие лица осведомлялись о состоянии финансовых дел дона Лотарио: им не давала покоя мысль, что они поступили опрометчиво, открыв ему в свое время кредит, ибо он успел задолжать им значительные суммы. Что касается графа, уже настроенного против дона Лотарио, фальшивые письма достигли своей цели. Тереза же, напротив, верила молодому испанцу и сразу догадалась, что все эти послания — дело рук Ратура.
Несмотря на данное графу обещание не поддерживать отношений с доном Лотарио, Тереза была не в силах оставить возлюбленного в полном неведении и тайком писала ему. В первом же письме она горько сокрушалась, что ему не удается разоблачить козни Ратура. Она уверяла молодого человека в своей любви и преданности, просила набраться терпения и надеяться на лучшее, а в заключение спрашивала, не проще ли ему обратиться за помощью к аббату Лагиде или лорду Хоупу.
Ее письмо, словно луч света, озарило безрадостную жизнь дона Лотарио. Мысль об аббате уже приходила ему в голову, и теперь, не видя более причин сердиться на него, он решил открыть ему душу. Он написал аббату длинное письмо, изложив все, что случилось с ним после отъезда из Парижа, не утаив самых сокровенных своих чувств и желаний, и подробно обрисовал свое теперешнее положение.
В этом послании аббату была еще одна любопытная новость. Как уже говорилось, письмо Терезы было ее первым письмом дону Лотарио, и она подписала его своим полным именем: Тереза Бюхтинг.
Дон Лотарио заметил это, только перечитывая письмо в четвертый или пятый раз. Имя показалось ему знакомым, и он вспомнил о поручении лорда Хоупа: во время пребывания в Берлине навести справки о семье человека, носившего эту фамилию. Справиться у самой Терезы он теперь не мог: она предупреждала, что отсылает свое письмо тайно. Тем не менее он тотчас сообщил об этом открытии аббату и попросил уведомить лорда Хоупа.
Так обстояли дела, когда по воле случая им суждено было вновь принять неожиданный поворот.
В своем беспросветном унынии дон Лотарио пытался все же хоть немного смягчить душевную боль, которой терзал его неумолимый рок, и потому с головой ушел в учебные занятия. Он трудился, не вставая, с самого раннего утра до трех часов дня, затем обедал и, прежде чем вновь сесть за рабочий стол, совершал непродолжительную прогулку.
Однажды его прогулка несколько затянулась. Уже вечерело. Дон Лотарио хотел как раз свернуть на Шарлоттенштрассе и направиться к себе домой, когда мимо него прошла дама в шляпе с вуалью.
Они узнали друг друга и невольно остановились.
— Тереза! — воскликнул дон Лотарио. — Неужели я снова вижу вас?
— Лотарио! — отозвалась девушка. — Уходите, прошу вас, у меня совершенно нет времени! Сейчас придет мой провожатый, слуга графа. Он ненадолго зашел в этот дом с каким-то поручением. Ведь я дала слово графу ни минуты не быть с вами наедине!
— Это невозможно, Тереза! Вы не вправе требовать этого от меня! — порывисто вскричал дон Лотарио, не помня себя от счастья, дарованного неожиданным свиданием. — Я так давно не видел вас, и расстаться с вами теперь, когда я знаю, что вы любите меня, что я могу быть счастлив!.. Дайте мне хотя бы несколько минут! Мне нужно так много, так бесконечно много сказать вам! Разве недовольство графа значит для вас больше, чем наше счастье?!
— Тогда вам придется немного пройтись одному! — прошептала Тереза, охотно повинуясь велению своего сердца. — Я дождусь слугу и пошлю его вперед, а сама пойду следом за вами по Шарлоттенштрассе. Ждите меня у театра.
— Благодарю вас, благодарю! — шепнул Лотарио и направился на условленное место.
Спустя несколько минут появилась Тереза. Теперь они шли рядом, торопливо перебрасываясь словами, но чем стремительнее развивался их разговор, тем отчетливее они сознавали, что должны сказать друг другу еще очень многое.
— Сколько у нас остается времени? — спросил дон Лотарио.
— Не больше получаса. Я сказала слуге, что иду к модистке, и велела зайти за мной туда. Только бы нас не узнали!
— А вот и мой дом, Тереза! — прошептал испанец. — Вы совершенно правы: нельзя, чтобы нас видели вместе; поднимемся ко мне. Клянусь, что вас никто не увидит!
Тереза сначала отказывалась, но в конце концов уступила. Любовь, как известно, не рассуждает, обычные резоны для нее не существуют.
В квартире дона Лотарио разговор влюбленных продолжался, они спешили описать друг другу свои страдания, жаловались на вероломство Ратура и подозрительность графа. Затем заговорили о будущем. Четверть часа пролетели как одно мгновение.
У дверей позвонили. Дон Лотарио сперва не хотел открывать, но потом вспомнил, что заказывал книги для своих занятий. Вероятно, как раз их-то и принесли.
Тереза бросила взгляд на часы, а молодой человек пошел открывать. На пороге стоял граф Аренберг.
Дон Лотарио похолодел. Что это — случайность? Разумно ли скрывать от графа, что Тереза здесь, у него? Как-никак прихожую и комнату, где находилась Тереза, разделяет еще одна комната. Однако по решительному и мрачному виду старика Лотарио понял, что приход графа не случаен.
Дело в том, что Ратур нанял соглядатая следить за каждым шагом молодого испанца. Он подозревал, что Тереза и дон Лотарио будут искать тайного свидания, и не сомневался, что сумеет извлечь для себя огромную выгоду, если убедит графа в обоснованности своих предположений.
Соглядатай не замедлил известить хозяина, что дон Лотарио поднялся к себе в сопровождении некой дамы, которую и описал, как умел. Этой неизвестной дамой могла быть только Тереза, поэтому Ратур немедля поспешил к графу.
— Господин граф, — начал он, — я вновь вынужден сообщить вам не самую приятную новость. Но мне настоятельно необходимо сделать все, чтобы снять с себя ваши подозрения. Я говорил вам, что дон Лотарио ветреник и Терезу следует оберегать от него. Говорил и что ради него Тереза пожертвовала своей честью. Теперь вы можете убедиться в этом собственными глазами. Тереза у дона Лотарио, в его квартире!
Граф побледнел, но не сказал ни слова. Затем позвонил и вызвал слугу, который сопровождал Терезу. Выяснилось, что Тереза просила слугу зайти за ней к модистке.
— Благодарю вас, господин де Ратур! — сказал граф. — Теперь я буду действовать!
Он надел шляпу и вышел из дому. Ратур, о котором граф тут же и забыл, следовал за ним на некотором удалении…
— Сударь, — невозмутимо обратился граф к молодому испанцу, — Тереза у вас?
— У меня, господин граф… Но, клянусь вам, это произошло совершенно случайно…
— Можете клясться, сколько вам заблагорассудится. На этот счет у меня свое мнение! — сердито воскликнул граф. — Я хочу видеть ее!
Тереза уже шла ему навстречу, но, встретившись с ним взглядом, в испуге застыла на месте.
— Так это правда! — вскричал граф. — Вы обманывали меня! Что ж, прекрасно! Я не желаю, чтобы вы возвращались ко мне! Будь вы моей родной дочерью, я обошелся бы с вами еще строже. Я оставлю вам все то, что уже дал. Свою дочь я лишил бы наследства. С вами я так не поступлю, но больше не хочу видеть вас! Оставайтесь у этого человека, пока он вас не покинет!
Тереза стояла перед почтенным старцем ни жива ни мертва. Между тем дон Лотарио заметно помрачнел.
— Господин граф, — сказал он, — когда я написал вам, что Тереза принадлежит теперь мне — принадлежит по праву любви, — я сообщил вам лишь о том, о чем мечтаю и теперь. Что ж, пусть лжецы и впредь обводят вас вокруг пальца, если вам так угодно! Меня это отныне не интересует. Тереза — моя. Она останется здесь, со мной! От ее имени и я отвергаю всякую помощь с вашей стороны. Я сам сумею позаботиться о своей жене! А теперь, коль скоро вы отказали мне от дома, я, пожалуй, возьму на себя смелость и попрошу вас покинуть и мой дом! Выслушивать подобные речи о своей невесте я не намерен! Скоро вы убедитесь, что вас обманули! А сейчас нам не о чем больше говорить.
— Лотарио! Отец! — в отчаянии воскликнула Тереза.
— Прекрасно, прекрасно! — пробормотал Аренберг. — Ведель был прав, когда оставил ее. Это у нее в крови. Мне следовало бы знать! Над этим семейством тяготеет проклятье!
Потрясенный случившимся, граф покинул жилище дона Лотарио.
Некоторое время молодой испанец глядел ему вслед, потом подошел к Терезе — она была неподвижна, словно мраморная статуя, без кровинки в лице — и заключил ее в объятия.
— Дорогая Тереза! — пылко вскричал он. — Теперь ты моя, моя навек! Благодарение Богу! Весь мир отвернулся от нас с тобой! Отныне нам предстоит идти по жизни одним! Ты больше никогда не покинешь меня — ни на день, ни на час! Я не отдам тебя никому на свете! Не печалься, любовь моя! Графа обманули, и рано или поздно он убедится, что был не прав, однако до тех пор друзьями нам с ним не бывать!
Если бы в последние годы удары судьбы не укрепили дух Терезы, этот совершенно неожиданный жизненный поворот глубоко потряс бы ее, а может быть, и надломил. Хотя случившееся и оставило в ее душе неизгладимый след, а слова графа задели и ее гордость, все же мысль о том, что рядом любимый человек, не могла не утешить ее.
Еще больше успокоил ее разговор с доном Лотарио, который открыл ей свое сердце и посвятил в свои планы. Она убедилась, что нисколько не ошиблась в нем, что он действительно такой, каким она его считала, и поняла, что ему безусловно можно доверять.
Дон Лотарио намеревался уехать из Берлина, вернуться на родину и восстановить свою гасиенду или приобрести новое владение. Правда, его занятия не были пока завершены, но в нем уже пробудился интерес к наукам и искусствам, и он надеялся, что в Калифорнии сможет заниматься самостоятельно, тем более что присутствие Терезы сулило превратить его одинокое существование в настоящий рай.
В тот же вечер он отправился к профессору и все ему рассказал. Ведель был просто поражен и вызвался помочь примирению, но дон Лотарио отсоветовал и повторил, что тверд в своем решении вернуться в Мексику. Затем молодой человек снял номер в гостинице, поскольку между влюбленными было решено, что эту ночь Тереза проведет в его доме одна.
На другой день он забрал из банка все свои деньги и распорядился собирать чемоданы. Между тем граф прислал гардероб Терезы и все, что ей принадлежало, присовокупив немалую сумму в банкнотах. Эти деньги Лотарио отправил обратно, написал друзьям прощальные открытки, нанес последний визит профессору, а вечером вместе с Терезой уже ехал в почтовой карете в Париж.
Три дня спустя граф Аренберг получил из Парижа пространное письмо от аббата Лагиде. Должно быть, в письме содержались удивительные новости, потому что прислуга никогда не видела графа столь растерянным и смущенным. Он велел позвать полицейских и вместе с ними поспешил к дому Ратура.
Там он узнал, что француза не видели со вчерашнего дня, а поскольку его чемоданов на месте не оказалось, предположили, что он тайком уехал. Так оно и оказалось, Ратура нигде не нашли.
Накануне покинула Берлин и донна Эухения, однако никому не было известно, сопровождал ли ее Ратур.
Счастливой в тот день чувствовала себя только одна женщина — Валентина Моррель. Граф сообщил ей, опять-таки узнав все это из письма аббата, что она стала жертвой грязной интриги и что — самое главное — ее Макс жив. Она не помнила себя от радости и рвалась немедленно вернуться в Париж, но граф сказал ей, что едет туда же и уже заказал почтовых лошадей.
На следующий день вместе с графом она отправилась в Париж.
VIII. ДВОЕ СЧАСТЛИВЫХ
Примерно в то же время, когда в Берлине происходили описанные события, однажды вечером, незадолго до полуночи, в дверь небольшого домика на окраине Нового Орлеана — того самого домика, куда, направляясь в Европу, ненадолго заглянул граф Монте-Кристо, — негромко постучали.
На стук вышла та самая пожилая женщина, которая в свое время встречала графа, и поинтересовалась, что это за поздний гость пожаловал к ней.
— Скажите Амелии, что это я, Вольфрам! — ответил знакомый голос.
Хозяйка отворила дверь и, увидев бледное, словно у призрака, лицо молодого человека, внезапно появившегося перед ней, едва не выронила свечу.
— Боже милостивый… что у вас за вид! — в испуге воскликнула она.
— Что ж тут удивительного? — коротко ответил Вольфрам. — Амелия еще не спит?
— Наверняка нет, она никогда не ложится раньше полуночи.
Из комнаты Амелии донесся удивленный возглас, и молодой человек поспешил войти. Амелия ждала его, бросив вышивку.
— Вольфрам! Дорогой мой! Как ты решился встать с постели? — испуганно спросила она. — Такая опрометчивость только повредит тебе!
— Пустяки, — отозвался Вольфрам, беря ее за руку. — Я не мог больше выдержать. Впрочем, я чувствую себя достаточно крепким.
Похоже, он не кривил душой. И хотя был очень бледен и двигался не вполне уверенно, его лицо, его глаза говорили о том, что прежняя сила постепенно возвращается к нему.
— Слушай, Амелия, я скажу тебе, что заставляет меня торопиться. Мое положение здесь невыносимо. Я хочу уехать этой ночью, немедленно! Не знаю, что произошло со мной с тех пор, как негодяй мастер всадил в меня пулю, знаю только, что снова оказался под покровительством банкира Натана, а я ничем не желаю быть обязанным этому человеку!
— Не горячись, Вольфрам, пожалуйста! — увещевала его Амелия. — Тебе это вредно!
— Да нет же, я спокоен, — возразил Вольфрам. — Этот банкир связан с лордом. Одному Богу известно, что они замышляют. Но я не собираюсь быть игрушкой в руках этих людей!
— Лорд желал тебе только добра, несмотря на то, как ты с ним обошелся! — тихо заметила Амелия.
— Может быть, и так! Готов признать, что вел себя с ним тогда как мальчишка. Теперь бы я так не поступил. Я стал другим. Но судьба развела нас. И пусть он не попадается больше на моем пути — ни с добром, ни со злом! А что до той истории с моим отцом, так это наверняка выдумки. Нет, Амелия, как только ко мне вернулось сознание, я решил бежать от этих людей. Я хочу быть свободным, самостоятельным! Буду зарабатывать на жизнь собственными руками и головой, а если уж мне суждено быть у кого-то в долгу, так только у тебя!
— Не говори так, Вольфрам! — сказала Амелия, когда молодой человек поцеловал у нее руку. — Можно ли говорить об этом! Люди живут друг для друга.
— Я еще раньше врача почувствовал, что силы возвращаются ко мне, — продолжал Вольфрам. — Теперь я убедился, что здоровьем природа меня не обделила. А потеря крови, пожалуй, сделала меня даже спокойнее и осмотрительнее. И вот сегодня вечером, заметив, что остался один, я немедля решил бежать. Я встал с кровати, отыскал в соседней комнате одежду — и вот я здесь! Я пришел спросить тебя, Амелия, согласна ли ты уехать со мной?
— Еще бы, Вольфрам! Но твое здоровье, твоя рана! Едва ли…
— Не волнуйся, дорогая, я здоров! — перебил Вольфрам. — Правда, сил пока маловато, но на свежем воздухе я быстро окрепну. Теперь самое время ехать. В дороге все мигом пройдет, я уверен. Только вот денег нету. Тебе удалось что-нибудь скопить? Помню, ты что-то говорила.
— Да, дорогой, я все время работала, и мне казалось, что с того несчастья, которое тебя постигло, Фортуна стала ко мне более благосклонной. Я получила сперва несколько заказов, а потом еще и еще, причем так много, что я просто была не в состоянии все их выполнить. Сначала я думала, это оттого, что тебя нет в городе (ведь мне сказали, что ты уехал) и что этими заказами меня всего лишь хотят поддержать. Но когда я получила радостную весть, что ты в Новом Орлеане, что тебя спасли от смерти, я стала трудиться день и ночь. Я знала, как ты обрадуешься, когда увидишь, сколько мне удалось скопить. Платили мне лучше, чем я могла ожидать. Представь себе, Вольфрам, у меня собралось четыреста долларов!
— Благодарю тебя, дорогая женушка! — обнял ее молодой человек. — Надеюсь, ты не связала себя обязательствами на длительный срок?
— К счастью, нет. То, чем я сейчас занимаюсь, я делаю для собственного удовольствия. Последние готовые заказы я отправила сегодня днем, так что теперь я совершенно свободна.
— Слава Богу! — облегченно вздохнул Вольфрам. — Эх, если бы не этот долг лорду!
— Пусть это тебя не тревожит, — сказала Амелия. — Долг мы вернем при первой же возможности. Прошу тебя, Вольфрам, дорогой мой, стань опять таким же веселым, таким же беззаботным, как прежде! Ведь у нас впереди вся жизнь! Ты вновь здоров, мы оба молоды. Будем работать не покладая рук, и Господь воздаст нам! Не надо отчаиваться, милый Вольфрам!
— Ты — мой добрый ангел! — проникновенно заметил молодой человек. — И ты не будешь сердиться на меня за то, что я опять сманиваю тебя в далекий путь?
— Нет, дорогой, я сердилась бы только в том случае, если бы это путешествие причинило вред твоему здоровью.
— Этого можешь не опасаться. А теперь слушай внимательно, Амелия! Сегодняшней ночью мы должны исчезнуть отсюда. Если банкир обнаружит, что меня нет, он, чего доброго, станет чинить нам всяческие препятствия. Так что с рассветом нам нужно быть уже за пределами Нового Орлеана. Ты готова?
— Готова, Вольфрам!
— Тогда переоденься в дорогу, милая! Когда я шел мимо порта, то обратил внимание на пароход, который уже стоял под парами. Мне сказали, что он направляется в Сент-Луис. Давай на нем и уедем!
Вольфрам прошел в комнату хозяйки, которая была весьма удручена, узнав, что Амелия покидает ее навсегда. Он попытался, как умел, утешить ее и несколько раз принимался благодарить за любовь и привязанность к его невесте. Потом сел к столу и написал прощальное письмо банкиру, поблагодарил его за участие и заверил, что при первой возможности непременно вернет долг лорду Хоупу, но ни словом не обмолвился о цели своей поездки. Старуха хозяйка вызвалась утром отнести письмо Вольфрама мистеру Натану.
Покончив с этим, Вольфрам вернулся к Амелии, которая ждала его, готовая к отъезду. В скромной одежде, с дорожным узелком в руках, с нежным бледным лицом, которое теперь окрасилось легким румянцем, она была необыкновенно хороша. Вольфрам совершенно растрогался. Он поцеловал у нее руки, а на глаза ему навернулись слезы. Амелия простилась с плачущей старухой и вместе с Вольфрамом покинула гостеприимный домик на окраине города.
Ночь стояла тихая. Хорошо знакомыми улицами и переулками наши герои направились к порту. Вольфрам оказался прав: пароход был готов отвалить от пристани и взять курс на Сент-Луис. Вольфрам купил два билета до ближайшего крупного города. Амелия спустилась в каюту для дам, а Вольфрам, несмотря на ее просьбы, остался на палубе.
Вслушиваясь в плеск воды под колесами парохода, в то, как шумит среди ночного мрака могучая Миссисипи, он погрузился в размышления о настоящем и прошлом. Вспомнил свою первую любовь к Амелии, первые ее радости, путешествие в Америку, разлуку у мормонов, вспомнил свои страдания и бегство. Все, что было пережито, освещалось любовью — любовью Амелии к нему, гордому, упрямому, своенравному. Лишь теперь он мог оценить всю глубину и силу ее чувства. Он стоял на безлюдной палубе, и в его душе зрела твердая, непреклонная решимость сделать все для счастья этой женщины, которая пожертвовала ради него всем и без которой он сгинул бы в водовороте жизни. Ради нее он будет отныне трудиться, ради нее он станет теперь жить. Он готов был носить ее на руках, и — впервые за многие-многие годы — его глаза обратились к небу, а губы прошептали молитву, прося Всевышнего дать ему силы исполнить этот обет.
Затем он спустился в каюту для мужчин и заснул таким крепким и спокойным сном, что проснулся на другой день ближе к полудню. Амелия с нетерпением ожидала его на палубе. При появлении Вольфрама она озабоченно впилась глазами в его лицо. Но беспокоилась она напрасно. Если не считать бледности и некоторой скованности в движениях, ее возлюбленный и в самом деле выглядел вполне здоровым.
Молодой человек отказался от первоначального намерения остановиться в ближайшем мало-мальски крупном городе и решил плыть до Сент-Луиса. Там он снял скромную квартирку и дал объявление в местную газету.
Оно извещало читателей, что некий архитектор из Парижа находится на стажировке в Америке и намерен воспользоваться этой возможностью, чтобы подготовить проекты домов для всех желающих. К этому сообщению он присовокупил подробный прейскурант, указал свой адрес и пригласил заинтересованных лиц обращаться к нему с заказами.
Это газетное объявление, развеселившее самих авторов — Вольфрама и Амелию, — было выдержано вполне в американском духе, в частности, именно так был составлен прейскурант. Американцы ценят практицизм, им нравится, что некий архитектор просит за проект одноэтажного дома столько-то долларов, двухэтажного — столько-то и так далее. В первый же день Вольфрам получил заказы, а поскольку разработка проектов не особенно обременительное занятие, он посвящал ей почти весь день. Вскоре он уже приобрел известность, тем более что трудился за вполне умеренную плату. Ему предлагали взяться и за сооружение домов по его собственным проектам, но на это он не соглашался из-за отсутствия времени. Казалось, после столь длительных испытаний судьба наконец-то улыбнулась влюбленным. Вольфрам едва справлялся с наплывом заказов, а так как большинство из них очень походили друг на друга, работать он мог почти по шаблону. Спустя месяц у него уже собралось две тысячи долларов, и влюбленные отправились дальше на восток.
В любом более или менее крупном городе Вольфрам действовал по тому же принципу. Поскольку нигде не строят так много, как в Америке, а из всех городов, где Вольфраму приходилось работать, он привез с собой самые похвальные отзывы, от заказчиков буквально отбою не было. Все стремились воспользоваться услугами искусного парижского архитектора. В конце концов Вольфрам стал браться только за крупные заказы, хотя бы только потому, что не собирался приобретать в Америке капитал, а намерен был отложить определенную сумму на первое время. Из Цинциннати он выслал банкиру Натану для лорда Хоупа тысячу долларов, ни словом не обмолвившись, однако, куда поедет дальше.
Так повторялось в каждом городе. Слава о талантливом архитекторе достигла уже Нью-Йорка и Бостона, где он получил весьма выгодные предложения остаться. Он пока не принимал этих соблазнительных предложений, но и категорически их не отвергал.
На здоровье он тоже не мог пожаловаться. На его щеках играл прежний румянец, движения не причиняли ему ни малейшей боли. Что касается Амелии, то она похорошела и расцвела как никогда. Ее лицо, ее глаза, ее улыбка лучились счастьем: она любила и была любима. Когда их видели вместе с Вольфрамом, мало кто оставался равнодушным и не любовался этой прекрасной парой. Их считали мужем и женой, хотя они еще не были связаны узами супружества. Как-то раз Вольфрам завел об этом разговор и сказал Амелии, что они поженятся, как только он выберет подходящее место, чтобы там поселиться навсегда.
Однажды вечером, закончив работу, Вольфрам пришел к Амелии.
— Ну вот, еще один проект готов! — сказал он с улыбкой. — Еще один крупный проект — на этот раз общественного здания. Это будет, пожалуй, последний заказ, который я выполнил в Америке.
— Последний? — спросила Амелия, приятно удивленная. — Последний в Америке?
— Да, дорогая, ты не ослышалась! — ответил Вольфрам. — Неужели ты думаешь, что я не знаю самого сокровенного твоего желания? Не знаю, что ты мечтаешь вернуться на родину, во Францию?
— Ах, Вольфрам! Ты просто читаешь мои мысли! Но, прости, меня настораживает только одно. Здесь, в Америке, ты приобрел имя, в Париже тебе предстоит вступить в борьбу со многими конкурентами. Я знаю: тебя будет угнетать мысль, что придется все начинать сначала.
— Не думай об этом, дорогая, — с улыбкой успокоил ее Вольфрам. — С тщеславием теперь покончено — а ведь именно его ты имела в виду. Да и начинать с азов мне больше нет необходимости. В Америке я скопил немного денег — больше, однако, чем надеялся. Как ты думаешь, сколько?
— Откуда же мне знать? Тысячи две?
— Смотри! — сказал Вольфрам, радостно глядя на нее. — Каждый из этих банкнотов — по тысяче долларов. Пересчитай их, не бойся, их всего пятьдесят!
— Невероятно, Вольфрам! Скажи, как тебе это удалось? Пятьдесят тысяч долларов! Это же целое состояние!
— Ты права. Небольшое, но состояние, — ответил счастливый Вольфрам. — Это приблизительно двести пятьдесят тысяч франков. На одни проценты с этой суммы можно прекрасно прожить вдвоем даже в таком дорогом городе, как Париж. Но, думаю, мы на этом не остановимся. Теперь я буду стремиться достичь вершин в своей профессии. Здесь, в Америке, я устал от однообразия заказов, и эти деньги помогут мне со временем добиться признания. Мы будем счастливы, Амелия, вот увидишь! В Париже мы и повенчаемся.
Теперь Амелия была по-настоящему счастлива и не скрывала слез радости. Вольфрам заключил ее в объятия. Это был самый радостный миг с их первой встречи в Париже.
Через два дня они сели на пароход, следующий в Гавр. Путь до Гавра, а оттуда до Парижа они проделали без всяких приключений. Первые восемь дней во французской столице они прожили в отеле. Тем временем Вольфрам купил небольшой дом и распорядился обставить его по своему вкусу. На девятый день они повенчались в Нотр-Дам (ибо Вольфрам также принадлежал к католической вере), и новобрачный ввел супругу в собственный дом. На дверях висела табличка, на которой были выбиты слова: «Вольфрам Бюхтинг, архитектор».
На следующий день он отправил письмо в Берлин, чтобы навести справки о судьбе своей сестры, так как о смерти матери ему уже было известно. Ответа он не получил: знакомых его родителей, которым он писал, уже не было в живых.
IX. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Клубы дыма поднимались в воздух и мгновенно рассеивались порывистым ветром. Шум винтов смешивался с рокотом волн, которые, казалось, безуспешно пытались сбить красавицу яхту с выбранного курса. Граф расположился на юте возле подзорной трубы. Рядом, на столике, были разложены подробные карты средиземноморских островов — Корсики, Сардинии и Сицилии, — целиком приковавшие к себе его внимание.
Поодаль от графа устроился уже знакомый нам контрабандист, с рукой на перевязи. Его лицо хранило угрюмое выражение, он подолгу смотрел в одну точку, лишь изредка поднимая глаза и пристально вглядываясь в морскую даль. Иногда он все же набирался смелости и украдкой поглядывал на графа, после чего на его физиономии всякий раз отражалось робкое восхищение.
Монте-Кристо был занят необычным делом. Он тщательно изучал лежащие перед ним карты и время от времени что-то записывал на листке бумаги. Иногда это было название города, иногда бухты или горной вершины. Покончив с картой Корсики, он перешел к карте Сардинии и наконец взялся за карту Сицилии. Тем временем яхта на всех парах спешила к недалекой уже Корсике. С палубы отчетливо были видны отдельные горные пики и прибрежные скалы острова.
— Тордеро! — позвал граф.
Контрабандист вскочил и почтительно приблизился к графу.
— Ты сумеешь опознать свою посудину, если мы ее встретим?
— Нет ничего проще, ваше сиятельство! — ответил Тордеро.
— У нее есть какая-нибудь особенность, которая отличала бы ее от всех остальных?
— Нет, ваше сиятельство! Мы, контрабандисты, остерегаемся плавать на приметных лодках. Если бы их хоть раз запомнили, нам пришлось бы их бросить. Эти бестии таможенники непременно узнали бы их снова. Лодка у меня самая обычная, каботажная, не для плавания в открытом море.
— Так ты, значит, не веришь, чтобы Бенедетто решился обогнуть Корсику и двинуться дальше?
— Чтобы рискнуть миновать и Сардинию, нужно быть или очень смелым, или очень напуганным, ваше сиятельство! Плыть на Сицилию при свежем ветре опасно.
— Лоран! — крикнул граф не слишком громко, но с таким расчетом, чтобы тот, кто был ему нужен, услышал его. — Лоран!
Один из членов команды, человек лет тридцати с умными живыми глазами, поспешил к графу.
— Возьми этот листок и этот кошелек, Лоран, — сказал граф. — Мы высадим тебя на побережье. Ты должен разузнать, не приставала ли к острову лодка с двумя мужчинами, женщиной и ребенком. Я указал места, где она вероятнее всего могла причалить к берегу. Расспрашивай в первую очередь там, но не забывай и обо всех остальных местах. Даю тебе два дня сроку. Это не много, но и не так уж мало. Держись южной части острова. Бежать к северу Бенедетто не мог — там он не чувствовал бы себя в безопасности. Спустя два дня в это же время я буду ждать тебя здесь. Спать тебе особенно не придется, наверстаешь потом. Если удастся напасть хоть на какой-то след, получишь сто тысяч франков, а потом и право поселиться где пожелаешь. А теперь собирайся!
Лоран отвесил графу поклон, взял бумагу и кошелек и исчез. Шум винтов вскоре стих, и от яхты отвалила небольшая лодка. Она благополучно добралась до берега и высадила Лорана, затем вернулась на судно. Паровая машина опять была пущена в ход, и яхта продолжила свой путь, держа курс к югу.
Пока она приближалась к северо-восточному побережью Сардинии, граф успел подготовить еще два листка бумаги с перечнем названий.
— Бертэн! Фило! — позвал он, и двое мужчин, видом и одеждой похожие на Лорана, незамедлительно явились на его зов. — Я распорядился высадить вас здесь, на побережье Сардинии, — обратился к ним Монте-Кристо. — Ты, Бертэн, направишься к югу. Основные места, где следует искать, я тебе перечислил. Ты, Фило, обогнешь северное побережье и продвинешься как можно дальше в западном направлении. Даю вам обоим полтора суток. За это время вам предстоит выяснить, не высаживались ли где-то на берегу двое мужчин и женщина с ребенком. Вот вам деньги. Обращайтесь первым делом к контрабандистам и бандитам — они знают все укромные места. Через полтора суток будьте на том же месте, где вас высадят. Тот из вас, кто нападет на след беглецов, получит сто тысяч франков и должен будет решить, останется у меня или отправится куда пожелает.
После благополучного возвращения лодки, доставившей на берег Бертэна и Фило, яхта с удвоенной скоростью двинулась дальше и обследовала все побережье острова, но никаких следов лодки Тордеро обнаружить не удалось.
В условленное время все трое, высаженные на берег по распоряжению графа, были опять подняты на борт судна. Они сделали все, что было в человеческих силах, чтобы выполнить поручение, но результаты оказались плачевными: они ничего не узнали, поэтому чувствовали себя несчастными не меньше графа.
Монте-Кристо испытывал невыносимые душевные муки.
— Боже! Боже правый! За что ты так караешь меня? В чем мое прегрешение? Верни мне их, и весь остаток жизни я проведу в раскаянии и смирении. Боже, почему кара за мою вину должна обрушиться на мою жену и моего сына?
Сраженный бесконечными неудачами, граф вдруг зашатался и опустился на стул. Неожиданная слабость вынудила его склонить голову на стоящий рядом стол с географическими картами. В такой позе, лицом вниз, он и сидел некоторое время, пока яхта медленно продолжала свой путь под шум волн и свист ветра.
— Тордеро! — позвал он наконец, подняв голову от стола. Лицо его опять было спокойным и невозмутимым. — Скажи штурману, чтобы подошел ко мне!
Тут же явился штурман. Граф поинтересовался, нет ли на судне кого-нибудь, кому был бы хорошо известен фарватер пролива Бонифачио и кто был бы достаточно знаком с побережьем. Штурман чуть было не дал отрицательный ответ, но в последний момент решил все же удостовериться еще раз. Вернувшись, он доложил, что таких людей на яхте нет.
— Вели приготовить большую шлюпку на шесть гребцов! — распорядился граф. — Пусть в нее загрузят паруса, оружие и провиант. Ты будешь ждать меня на яхте именно на этом месте! Если через три дня я не вернусь, разузнаешь, что со мной случилось, и в случае моей гибели отправишь в Париж это письмо.
С этими словами он положил на стол запечатанный конверт. Глубоко потрясенный всем увиденным и услышанным, штурман отправился выполнять приказание графа.
Вскоре большая шлюпка была спущена на воду, и гребцы заняли свои места. Граф тем временем скрылся в своей каюте и вышел оттуда совершенно преобразившимся — костюм корсиканца сделал его неузнаваемым. Даже Тордеро, которого граф окликнул, вначале опешил при виде незнакомца, которого узнал только по голосу.
— Возьми эти вещи и переоденься, — сказал ему Монте-Кристо. — Нельзя, чтобы Бенедетто разоблачил тебя. И поторапливайся! До наступления ночи нам предстоит пройти достаточно длинный путь по берегу. Как только будешь готов, спускайся в шлюпку!
Сам он спустился в суденышко и проверил, все ли в порядке. Вскоре появился и Тордеро, также облаченный в наряд корсиканца. Рука у него была уже не на перевязи, хотя рана еще не зажила. Он рассудил, что так будет надежнее, ибо повязка могла привлечь внимание Бенедетто и тем самым нарушить все планы графа.
Гребцы налегли на весла, и лодка направилась к берегу. Граф приказал держать курс на запад и двигаться как можно медленнее, чтобы он мог рассмотреть каждый уголок побережья. Наконец шлюпка графа поравнялась с какой-то рыбацкой лодкой. Сидевший в ней старик невозмутимо забрасывал в море свою сеть, вновь и вновь терпеливо повторяя незамысловатую операцию, хотя обычно она оканчивалась безрезультатно.
— Послушай, старик, — обратился к рыбаку граф. — Ты, верно, знаешь каждую лодку в округе?
— Пожалуй, знаю, ваша милость. Они все похожи одна на другую, и все же я умею их различать!
— Тогда, быть может, несколько дней назад ты заметил незнакомую тебе лодку, а в ней двух мужчин и женщину?
— Хм! Пожалуй что так, — ответил после некоторого раздумья рыбак. — Она пришла оттуда, — он указал на восток, — а ветер был, помню, свежий. Я как раз не мог рыбачить. И вот к вечеру появилась такая лодка. Я еще подумал, что эти люди рискуют головой — море-то штормит не на шутку.
— Куда же они направлялись?
— Туда, ваша милость, на запад. Скоро я потерял их из виду. Как бы они не отдали Богу душу, место здесь дурное.
— И давно это было? Два, три, четыре дня назад?
— Может быть, и пять, — ответил, подумав, старик.
— А до тебя не доходило никаких слухов, что этим людям все же удалось высадиться на берег?
— Никаких, ваша милость! — ответил рыбак. — Думаю, все они — на дне моря.
— И тем не менее они могли спастись — один из них был опытным моряком, — заметил граф. — Может быть, они пристали к берегу тайком, в укромном месте. У одного из них были причины опасаться таможенников и жандармов. Жаль, мне так хотелось найти их как можно скорее. Разве здесь, на побережье, нет укромных мест, где может причалить тот, кто избегает лишних свидетелей?
— Сколько угодно, ваша милость! — ответил старик. — Да только чужакам они неизвестны.
— Мне кажется, тот, о ком я веду речь, здесь не совсем чужой.
— Это другое дело. Только он должен хорошо знать наши места, если собирается иметь дело с камерами. Это штука опасная!
— Камеры? Что это такое? — спросил, насторожившись, граф.
— Как, разве ваша милость этого не знает? — удивился старик. — Их еще называют гротами… Говорят, они — порождение моря. От сотворения мира морские волны подмывают скалы. Вот и получаются в них пещеры, да такие хитрые, что и вход в них не всегда отыщешь. А бывает, со стороны моря и вовсе нет входа, и попасть в них можно только сверху, со скал. Вот они какие, наши камеры!
Граф некоторое время молчал. Казалось, рассказ старика подал ему какую-то новую мысль.
— А сам ты, верно, знаешь эти гроты как свои пять пальцев?
— Входы знаю, а внутри бывал не часто.
— Ну, старик, твой промысел — дело нелегкое и малоприбыльное. Хочешь заработать золотой?
— Еще бы не хотеть, ваша милость!
— Тогда отправляйся с нами — покажешь нам входы в эти ваши камеры, — сказал граф. — В день я буду платить тебе по луидору. Думаю, это возместит твои труды.
— С лихвой, ваша милость! Вы, верно, иностранец и хотите осмотреть наш остров?
— Ты не угадал. Но у меня есть основания предполагать, что в одной из камер находятся мои знакомые, — объяснил Монте-Кристо. — Если ты готов сопровождать нас, садись в нашу шлюпку.
— Сколько времени я буду нужен вашей милости?
— Думаю, сегодня и завтра, не больше.
— Я готов, ваша милость.
Он сделал знак находившейся вдалеке рыбачьей лодке, и та без промедления приблизилась. Старик передал ее владельцу свою лодку и снасть и велел предупредить жену, после чего перебрался в шлюпку графа.
— Так ты говоришь, эти камеры недоступны? — спросил Монте-Кристо.
— Не все… Они такие разные… Одна очень большая и открыта сверху. Другие то больше, то меньше. В одних можно причалить, в других — нет.
— А далеко до них? — продолжал нетерпеливо спрашивать граф.
— Да нет. Они начинаются у Сан-Бонифачио и тянутся вдоль берега.
Граф глубоко задумался и даже забыл о своей подзорной трубе. Может быть, он думал о том, что близок к цели своего путешествия, а может быть, именно это его и беспокоило. Между тем лодка плыла на некотором расстоянии от скал. Сан-Бонифачио и некоторые другие селения были как на ладони.
— Черт побери! — внезапно вскричал Тордеро, направив свою подзорную трубу на небольшой островок, возвышавшийся прямо посередине пролива. — Я что-то заметил!
Граф вскочил и тотчас схватился за свою трубу.
— Ну, что случилось? Я вижу выброшенную на берег лодку…
— Да, да, и эта лодка — моя! — вопил Тордеро. — Моя, моя лодка!
Повинуясь знаку графа, шлюпка тут же взяла курс на загадочный островок. Гребцы удвоили свои усилия, и шлюпка заскользила по волнам вдвое быстрее. Не прошло и получаса, как она подошла к таинственному клочку суши.
На пологой отмели островка лежала лодка. Казалось, она попала в шторм: мачты были сломаны, руль разбит, а то, что пощадил шторм, окончательно разрушил прибой. Одним словом, от лодки остались обломки.
Осмотрев эти обломки, Тордеро глубоко вздохнул.
— Это моя лодка! — повторил он снова.
— Но как она сюда попала? — спросил граф, лицо которого покрыла смертельная бледность. — Вероятно, ее выбросили волны!
— Может быть, — согласился старый рыбак. — Уж не та ли это лодка, о которой ваша милость меня спрашивала?
— Та самая, и она попала в шторм… Но где же люди?
— Или спаслись и высадились на остров, — предположил старик, — или море взяло их раньше. Я так думаю.
— Сойди на берег и проверь, нет ли там кого! — приказал граф одному из матросов.
Тот поспешил исполнить распоряжение. Взгляд графа скользил по морской глади, словно именно там была скрыта тайна исчезнувших людей.
— Они могли спастись, — проговорил он. — Какая-нибудь лодка могла доставить их на берег.
— И такое бывает! — осторожно заметил старик. — Только во время шторма лодка могла перевернуться и в проливе, а все, кто в ней был, утонуть.
— Но тогда и лодка лежала бы на дне! — возразил Тордеро.
— Вовсе не обязательно, — не согласился старик. — Лодка могла накрениться, да так сильно, что люди упали в воду, после чего она снова могла выровняться.
Тем временем вернулся посланный на разведку матрос.
— Никаких следов, ваше сиятельство! — доложил он. — На острове ни души!
— В таком случае есть еще одна возможность, — не сдавался граф, обращаясь более к самому себе, чем к своим спутникам. — Обследуем камеры! Вперед!
Лодка вновь направилась к берегам Корсики.
— Первые, маленькие камеры начинаются отсюда, — показал рыбак. — Потом доберемся до большого грота, а там и до настоящих камер. Вы хотите попасть в них?
— Я хочу видеть их все! — сказал граф. — Но мне кажется, входы в них слишком узки и наша шлюпка в них не пройдет. Нам потребуется что-нибудь поменьше.
— Верно, об этом я и не подумал, — согласился старый рыбак. — Ну да не беда. Таких лодок на берегу хватает. Пожалуй, можно взять одну.
Эти первые камеры, о которых упоминал старик, вряд ли могли служить надежным укрытием. Морские волны сделали в скалах углубления, напоминающие сводчатые галереи. Они не были ни высокими, ни глубокими и не имели другого выхода, кроме как в море. Входы в них оказались настолько широкими, что прекрасно просматривались с моря.
И все же граф обследовал каждое из этих творений природы с присущей ему тщательностью. На это ушло часа два. Чтобы добраться до очередных камер, преследователям пришлось обогнуть выступающую в море скалу.
— Вон он, вход! — крикнул старик, указывая на небольшое отверстие у подножия скалы, которое временами почти полностью скрывали набегавшие волны, ибо с утра поднялся легкий ветер. — Теперь без маленькой лодки не обойтись.
Ее вскоре принесли. На отмели оказалось несколько рыбачьих лодок. Владелец одной из них случайно встретился нашим героям и за небольшое вознаграждение охотно уступил им на несколько дней свою лодку. Места в ней заняли граф, Тордеро и старик рыбак, севший на весла.
Шлюпку оставили у входа. Нанятая лодка, повинуясь ловким, сноровистым рукам старого рыбака, мягко скользнула под своды полутемного грота, залитого неярким светом.
В одно мгновенье граф окинул взглядом внутренность грота. Он был невелик. Игра света, проникавшего снаружи через небольшое отверстие, создавала своеобразное, захватывающее зрелище, освещая поверхность воды и скалистые стены, сверкая и переливаясь на них разными цветами. Вода в гроте стояла неподвижно и отличалась такой прозрачностью, что отчетливо просматривалось дно.
Впрочем, высадиться в таком гроте было невозможно. Скалистые стены оказались совершенно отвесными: даже ногу некуда поставить. Граф все обследовал самым внимательным образом, после чего дал знак рыбаку вновь вывести лодку в море.
— Это и есть большой грот, о котором ты говорил? — спросил он.
— Нет, ваша милость. Этот из тех, что поменьше. До большого грота надо еще плыть, да и попасть в него можно только во время отлива. Вам угодно поглядеть некоторые из тех маленьких камер, что находятся на пути к большому гроту?
— Конечно! Я же сказал, что должен осмотреть их все, — твердо ответил Монте-Кристо.
Поиски возобновились. Все камеры, которые они теперь осматривали, напоминали грот, описанный выше. Граф методично обследовал их одну за другой с прежней тщательностью. С наступлением сумерек поиски, однако, пришлось прервать. Они пристали к берегу недалеко от маленькой рыбацкой деревушки. Трое матросов остались в лодке, прочие устроились на ночлег на берегу. Тордеро и старый рыбак последовали их примеру. Граф опустился на большой камень и просидел на нем до утра, не сомкнув глаз.
С рассветом поиски были продолжены.
— Это мыс Пертусато? — спросил граф, указывая на невысокий, увенчанный маяком утес — южную оконечность Корсики.
— Да, ваша милость, — подтвердил рыбак. — Скоро доберемся до большого грота.
Монте-Кристо потребовал бутылку вина, специально для него припасенную на шлюпке, откупорил ее, но налил себе совсем небольшой бокал и выпил его, после чего съел немного сухарей. Шлюпка меж тем огибала мыс Пертусато.
— Глядите, ваша милость, вон вход в большой грот, о котором я вам рассказывал! — воскликнул рыбак.
Граф увидел почти правильных очертаний нишу, наподобие портала. Доносился глухой шум волн, устремлявшихся в недра скалы.
— В этот грот можно проникнуть и сверху? — спросил Монте-Кристо.
— Может быть, — ответил старик. — Точно не скажу.
— На шлюпке нам внутрь не попасть?
— Нет, ваша милость, — ответил рыбак, измерив на глаз ширину шлюпки, в которой они находились. — Придется брать маленькую. Да и на ней пробраться будет не так просто. Плавать ваша милость умеет?
— Разумеется. А ты что скажешь, Тордеро? Пойдешь со мной? Надеюсь, ты умеешь плавать?
— Умею, ваше сиятельство, и пойду с вами. Только берегите оружие от воды!
Они пересели в маленькую лодку и скоро оказались у входа в грот. Как еще раньше заметил граф, вход представлял собой узкую продолговатую нишу, где, разбиваясь о скалы, шумели и пенились морские волны. Граф поднял свое ружье и пистолеты, оберегая их от пенных брызг. Тордеро последовал его примеру.
Они благополучно проникли в пещеру, которую старик рыбак называл большим гротом. Стены представляли собой сталактитовые образования. Однако здесь они не приняли тех причудливых форм, что обычно встречаются в подобных пещерах, а сплошь покрывали скальную породу массивными наплывами. Стены не были отвесными — от воды их отделял широкий круговой уступ, как бы специально созданный для удобства высадки. Через отверстие в куполообразном потолке в грот попадал солнечный свет, свешивались ветви растущих наверху кустов. В этих ветвях порой порхали и щебетали птицы. Одним словом, большой грот являл собой настоящее чудо природы.
Некоторое время граф, казалось, любовался прелестью этого укромного уголка, медленно обводя взглядом стены пещеры. Наконец он потянулся за подзорной трубой. Вдруг по его телу пробежала дрожь.
— Что с вами, ваше сиятельство? — спросил Тордеро. — Вы что-то заметили?
— Нет, нет, ничего, — ответил Монте-Кристо. — Просто устал. Нервы сдают!
И он сделал рыбаку знак грести к выходу. Когда они добрались до шлюпки, он велел двигаться в обратный путь, а вскоре приказал укрыться в скалистой бухте, которая не позволяла обнаружить шлюпку ни с моря, ни с суши.
— У вас нет желания смотреть остальные камеры, ваша милость? — поинтересовался старый рыбак.
— Сейчас нет, — ответил Монте-Кристо. — Пусть кто-нибудь даст мне на время свою полотняную робу.
Эти слова графа были обращены к матросам. Каждый из них кроме суконного костюма имел полотняную робу, на случай сильной жары. Граф выбрал себе робу по фигуре, сошел на берег и вскоре вернулся уже переодетым.
— Ждите меня здесь, — приказал он матросам. — Как только услышите сигнал, — он указал на свисток, которым пользовался на яхте, — плывите на свист. Если я свистну один раз — вдоль берега в том направлении, если два раза — к входу в грот, который мы осматривали последним.
— Вы напали на след, ваше сиятельство? — прошептал Тордеро. — Мне пойти с вами?
— Потом. Сейчас еще не время. Пока это лишь разведка!
Продвигался граф очень осторожно, стараясь, чтобы его ни в коем случае не заметили с берега, некоторые отрезки пути ему приходилось даже преодолевать ползком. Наконец он добрался до отверстия, венчавшего купол большого грота, который он осматривал совсем недавно. Он был прямо над этим отверстием — на скалах, что служили потолком манившей его пещеры.
Он не увидел ничего, кроме широкого круглого проема с отвесными стенками, тут и там поросшими кустарником, покрытыми мхом и травой. Попасть отсюда в грот не было никакой возможности, разве что спуститься по канату.
Убедившись наконец в безуспешности этих усилий, граф прекратил свои попытки, осторожно спустился по скалам и зашагал вдоль берега. Потом прыгнул в море и поплыл к входу в грот. Уже у самого входа его накрыло приливной волной, так что ему пришлось уцепиться за скалистый выступ. Дождавшись очередной волны, он вместе с нею проник в грот.
Времени это заняло немного, и он тут же выбрался на узкий круговой уступ, отделявший водную гладь от сталактитовых стен. Безмолвный, зловещий, словно горный дух, к тому же почти невидимый в своем промокшем костюме, который сливался цветом со сталактитовыми глыбами, он принялся карабкаться по стенке грота.
В некоторых местах она была не просто отвесной, но даже нависала над его головой. Временами графу приходилось вновь спускаться ниже, чтобы миновать неприступные участки. Продвижение затруднялось и тем, что камень был скользкий от влаги. Казалось, без посторонней помощи человеку не подняться даже и на десять футов, но тем не менее граф поднимался все выше, пока наконец не добрался до места, которое, видимо, заранее себе наметил.
Это был небольшой выступ, словно специально приготовленный, чтобы перевести дух во время столь трудного восхождения. На нем и расположился граф, скорчившись и плотно прижавшись к стене. В таком положении он провел минут десять, отдыхая и одновременно прислушиваясь, а затем попробовал взобраться еще выше. Скоро ему опять встретилось препятствие — выступ, преодолеть который не было никакой возможности. Однако граф не думал сдаваться и в конце концов сумел вскарабкаться еще выше, хотя и немного в стороне от неприступного выступа. Дотянувшись до сталактитовой глыбы, горизонтально выступавшей из стены, граф сцепил пальцы и подтянулся на руках… В этот миг его взору открылась картина, наполнившая трепетом даже этого мужественного человека.
Он увидел погруженное в сумрак углубление примерно шести футов высотой и немного поменьше шириной. У входа спал толстенький, коренастый человек. Граф узнал Данглара. В глубине пещеры сидел прокаженный с младенцем — сыном графа — на руках. Перед ним, не отрывая взгляд от лица Бенедетто, устроилась Гайде.
Не мог отвести глаза от увиденного и граф. Ребенок на руках Бенедетто, вероятно, спал. Сам прокаженный выглядел еще безобразнее, чем прежде. Признаки начинающейся сыпи граф с ужасом заметил и на нежной, чистой коже своего сына. Гайде, красавица Гайде походила на высохшую мумию. Щеки ее ввалились, глаза запали. Она хоть и не была связана, но находилась под неусыпным надзором прокаженного.
Графу показалось, прошла целая вечность. Он по-прежнему висел на руках, уцепившись за сталактитовую глыбу. Она была недостаточно велика, чтобы дать ему дополнительную точку опоры. Подняться выше граф не мог: стена в этом месте оказалась такой гладкой, словно была специально отполирована чьей-то заботливой рукой. Теперь Монте-Кристо видел свою жену и ребенка, но был лишен возможности прийти к ним на помощь.
В том, что из пещеры, где прятались беглецы, можно выбраться наружу, граф уже не сомневался. Должно быть, выход весьма хитроумно замаскирован, иначе бы он его обнаружил. Да и сейчас найдет, было бы только время.
Данглар меж тем вдруг глубоко вздохнул и проснулся. Он беспокойно поерзал на жестком каменном ложе и наконец повернулся лицом к Бенедетто.
— Ну что, выспался, приятель? — спросил тот. — Поосторожней, не крутись так, а то свалишься в воду!
— Да, положение — хуже не придумаешь! Даже во сне приходится быть начеку! — пробурчал банкир. — Сколько же это будет продолжаться? Что толку от драгоценностей графа, если ими нельзя воспользоваться?
— Дай срок — скоро мы выберемся из этой конуры! — ответил Бенедетто. — Граф наверняка бродит поблизости, разыскивает нас! Если не найдет — отправится дальше, а мы подадимся в Испанию или еще куда-нибудь! Хорошо, когда у человека цепкая память! Я и был-то здесь, в пещере, один-единственный раз, когда жандармы гнались за нами по пятам. Совсем еще был желторотым птенцом! Правда, в этот раз я отыскал вход чисто случайно.
— И все-таки я чертовски боюсь, что граф нас найдет! — заметил Данглар.
— Ну, когда-нибудь, конечно, найдет. Да будет уже поздно! Ему предстоит испытать все муки ада!
— Когда там, внизу, появилась шлюпка, мне показалось, я узнал Тордеро! Даже в дрожь бросило! Подумать только, если бы Монте-Кристо разыскал нас здесь!
— Ну и что? Ему ничего не оставалось бы, как уплатить нам выкуп! — засмеялся Бенедетто. — Впрочем, для этого еще не пришло время. Сначала пусть его месяцами, годами терзают смертные муки! Терзают до тех пор, пока у нас не кончатся драгоценности. А потом — выкуп! Даже если он вошел в пролив Сан-Бонифачио, он должен был наткнуться на обломки лодки и поверить, что мы погибли. Неплохо придумано, верно, приятель?
— Так-то оно так, да только вряд ли это заставит его прекратить поиски! — возразил Данглар.
— И пусть себе ищет! Я не собираюсь задерживаться здесь надолго — дней на восемь, не больше. Черт бы меня побрал! Угораздило же потерять склянку со снадобьем. Придется, чего доброго, до конца своих дней ходить таким страшилищем. Ну да ладно! Только бы попасть на материк, там, пожалуй, найдется толковый лекарь и избавит меня от этой мерзкой сыпи. Хуже всего, что эта хворь подействовала на мои глаза. Я в самом деле не различил, кто был в шлюпке. Но раз они были одеты на корсиканский манер — ведь так? — это наверняка рыбаки или бандиты. Своего благоверного наша пленница узнала бы — будьте уверены! — и подняла бы крик.
— Конечно, да только ей ничего не было видно! — уточнил барон. — Я мешал ей смотреть!
— Ладно, как бы то ни было, нас он не нашел! — самодовольно заметил прокаженный.
— Гляди-ка, мальчишка тоже покрылся сыпью! — воскликнул Данглар.
— Пройдет, словно ничего и не было! — ответил Бенедетто. — Видел бы граф своего наследника, когда я держу его на руках, от которых меня самого воротит! И уж конечно, он думает, что я нет-нет да и приласкаю его благоверную! Ха-ха! Ох и тошно ему от таких мыслей!
— И как ты допустил, чтобы она отняла у тебя нож? Черт знает что! Теперь мы у нее в руках, — пробурчал Данглар. — Нужно было получше присматривать за ней.
— Вот ты бы и присматривал! — отрезал Бенедетто. — Ну да ладно, чего теперь говорить. Скоро у нее не хватит сил и пальцем шевельнуть. Тогда и отберем нож. А право приручить эту голубку я уступаю тебе, Данглар.
Услышав эти слова Бенедетто, граф задрожал от гнева. Бедная Гайде! Что ей приходится выслушивать! И все же у нее еще хватало сил сопротивляться. Со слов прокаженного Монте-Кристо уже знал, что ей удалось освободить руки и отнять у прокаженного нож. Самого страшного пока не произошло.
— Капля камень точит! — глубокомысленно изрек барон. — Со временем она станет уступчивей. Не так ли, моя куколка?
Он протянул руку к Гайде — и тотчас перед глазами банкира сверкнуло лезвие ножа. Он в страхе отшатнулся.
— Черт бы побрал эту сумасшедшую! — проворчал он. — Чего доброго, еще заколет меня!
— Можешь не сомневаться! — решительно сказала Гайде. — Вы оба — подлые негодяи. Вас постигнет Божья кара, и мой муж непременно отыщет вас!
— Ну-ну, не стоит так спешить! — со смехом ответил Бенедетто. — Со временем ты убедишься, что поймать двух таких пташек, как мы с Дангларом, не очень-то просто. Тогда от угроз перейдешь к мольбам! Дай только срок!
— Чего же ты хочешь? Зачем ты похитил нас? — вскричала Гайде, заставляя сердце графа обливаться кровью. — Если просьбы еще способны тронуть твою душу, я прошу, я умоляю тебя! Проси что хочешь. Граф пойдет на все. Требуй миллионы, требуй чего пожелаешь.
— Так я и сделаю, но не сразу — еще время не пришло! — расхохотался прокаженный. — Прежде пусть помучается, так и быть, дам ему такую возможность. А что в конце концов он нас найдет, я не сомневаюсь!
— И тогда он уничтожит тебя одним ударом, негодяй! — воскликнула Гайде.
— О, это легко сказать! Мальчишку я не выпущу из рук, сколько бы ты за мной ни следила и ни ждала удобного момента. Пока он у меня, и ты, и граф в моих руках. Поэтому он для меня дороже жизни. А что с ним будет дальше, я пока не решил. Эй, Данглар, кажется, тебе пора собираться. Нужно раздобыть что-нибудь съестное. Одной местью сыт не будешь.
— Опять мне рисковать! Снова выбираться на этот проклятый берег, — сердито буркнул банкир. — А вдруг я наткнусь на графа? Что тогда? Что я ему скажу?
— Ничего не говори! Думаю, он вообще не догадывается, что ты был со мной. Ведь Тордеро, скорей всего, на том свете. Хочешь не хочешь, а ты должен нам чего-нибудь принести. По доброй воле ты наверняка не вернешься, я тебя знаю! Поэтому драгоценности я оставлю при себе. А теперь за дело, лежебока! Голод не тетка.
— Не могу простить себе, что поддался на твои уговоры! — пробурчал Данглар. — Я уже совсем было решил тогда отстать от контрабандистов и разыскать дочь. А тут, как на грех, ты, и вот теперь изволь прятаться с тобой по этим норам. Хуже и быть не может.
— Ворчи не ворчи, а деваться тебе некуда! — ответил Бенедетто. — Да и мне ты нужен. Сам посуди, не могу же я показаться на людях с этим ребенком на руках и с его матерью, которая следует за мной по пятам! Это сразу бросится в глаза… Ха-ха-ха! Кто бы мог подумать, что мне придется сделаться нянькой… и у кого? У сына графа Монте-Кристо. Вот потеха-то, Данглар!
Но банкиру было не до смеха.
— Опять ты за свое. Ну что за манера — считать каждый шаг! — воскликнул Бенедетто. — Ну, погоди, сейчас я тебя обрадую. Вот деньги. Принесешь мяса и хлеба. А вот еще — на вино и фрукты. Можешь прихватить и сыра.
Монте-Кристо лихорадочно соображал, что предпринять. Воспользоваться отсутствием Данглара и напасть на Бенедетто? Как бы то ни было, сначала требовалось отыскать вход в пещеру. Карабкаться вверх по скалистой стене стало невозможно. Но чтобы спуститься, выбраться из грота и добежать до вершины скалы, нужно никак не меньше десяти минут. А Данглар вот-вот уйдет. В таком случае придется проследить за его возвращением. Или, может быть, до его возвращения удастся обнаружить вход в пещеру? Или стоит поговорить с банкиром, склонить его на свою сторону и с его помощью заманить Бенедетто в ловушку?
Но тут непредвиденный случай положил конец размышлениям графа.
Каменная глыба, служившая опорой для его рук, онемевших от нечеловеческого напряжения, оказалась, подобно всем известняковым образованиям, не слишком прочной. При первом же движении графа она неожиданно обломилась, и Монте-Кристо рухнул вниз. К счастью, упал он не на острые камни, а в воду.
Там было достаточно глубоко, и это смягчило удар. Мгновенье граф пробыл под водой, слегка оглушенный падением, но тут же вынырнул на поверхность. Лишь здесь он окончательно оправился от неожиданности и, полностью овладев собой, вновь нырнул и поплыл к выходу из грота.
Там он на миг задержался и осторожно высунул голову из воды, оглянувшись на то место, где находились Бенедетто и Данглар.
— Говорю тебе, это граф, больше некому! — услышал он вопли Данглара. — Мы пропали! Бежим отсюда! Я успел увидеть его лицо!
Графу показалось, будто он видит, как Бенедетто поднимается на ноги. Теперь нельзя было терять ни минуты. Пожалуй, бегство предоставляло ему наилучшую возможность схватить похитителя. Не думая об опасности, граф бесстрашно бросился навстречу волнам и вскоре выбрался на первый попавшийся камень.
Он достал из кармана свисток, вытряхнул из него воду и, приложив его к губам, свистнул. Как помнит читатель, это был условный сигнал, предписывавший матросам вместе с Тордеро высаживаться на берег. Затем он стал поспешно пробираться через нагромождения скал и спустя минуту-другую повторил свой сигнал. Наконец ему удалось взобраться на ту самую скалу, в недрах которой таился уже знакомый нам большой грот.
Он не ошибся. Отсюда он увидел убегавших Бенедетто и Данглара, за которыми бежала и Гайде. Беглецы направлялись в глубь острова. Они успели преодолеть немалое расстояние. Впрочем, их уже преследовали матросы, сумевшие заметно опередить графа. Первым мчался Тордеро.
Проворству, с каким граф стал наверстывать упущенное, могла бы позавидовать быстроногая серна. Вскоре он уже догнал матросов, а затем опередил и самого Тордеро. Надо сказать, что страх придал необыкновенные силы и беглецам. Бенедетто в скорости не уступал графу, и даже Данглар забыл о свойственной ему лености и медлительности. Труднее всего приходилось Гайде. Она стремилась не отставать от обоих похитителей; материнская любовь и страх за жизнь ребенка толкали ее вперед вопреки безмерной усталости. Чувствовалось, однако, что силы ее на исходе.
Бенедетто опережал Данглара и Гайде на несколько сотен шагов. Чтобы ребенок не мешал ему бежать, он поднял его высоко над головой. Со стороны казалось, он готов в любую минуту швырнуть малютку в пропасть или разбить о камни.
Граф между тем пошел на хитрость. Он рассудил, что быстрее настигнет прокаженного, если бросится ему наперерез. Для вида он начал отставать от Бенедетто и взял немного в сторону, чтобы потом, неожиданно изменив направление, преградить ему путь. Их отделяло друг от друга приблизительно восемьсот шагов.
Обернувшись, граф увидел, что матросы уже догнали Данглара и Гайде. Его жена лежала на земле — вероятно, без чувств от чрезмерной усталости. Он обратил внимание, что матросы делают ему какие-то знаки, но смысл их жестикуляции до него не дошел. Лишь Тордеро продолжал преследовать Бенедетто, держась от него в нескольких сотнях шагов, но и его силы были, похоже, на пределе: расстояние между преследуемым и преследователем неуклонно увеличивалось.
Добравшись до возвышенного места, Бенедетто огляделся по сторонам, секунду помедлил, затем сделал еще несколько шагов, вновь бросил взгляд по сторонам и направился навстречу графу.
Граф кинулся к нему. Он не понял намерений Бенедетто, заподозрив какой-то подвох, но никак не мог догадаться, что́ задумал прокаженный.
Внезапно путь ему преградило неодолимое препятствие: у его ног зияла пропасть глубиной не менее двухсот футов с совершенно отвесными стенами. Издали граф ее не заметил, а Бенедетто, видимо, усмотрел со своего возвышенного места.
Граф остановился — теперь он разгадал замысел врага. Длинная и узкая — шириной не более двенадцати футов — расселина тянулась влево на несколько тысяч футов. Если же смотреть вправо, она вообще терялась вдали. Вероятно, матросы пытались сообщить графу об этой пропасти, отделяющей его от Бенедетто, — пропасти, начало которой прокаженный обогнул в то самое время, когда графу пришла идея продолжать преследование в другом направлении.
Между тем Бенедетто с ребенком на руках спокойно расположился у края расселины. От графа его отделяли всего двенадцать шагов. Они смотрели в глаза друг другу, словно находились в одной комнате, и в то же время их разделяла эта неожиданная преграда!
Тем временем к прокаженному приблизился запыхавшийся Тордеро. В тот же миг Бенедетто заметил его.
— Велите этому человеку отойти! — крикнул он графу. — Если он сделает еще хоть шаг, я швырну мальчишку в пропасть!
— Стой, Тордеро! — приказал граф. Он тоже опустился наземь напротив Бенедетто.
Вероятно, оба обдумывали, как поступить, время от времени поглядывая друг на друга. Так прошло четверть часа. Уже успели подойти матросы и, сбившись в кучу, ждали распоряжений графа. Несколько членов команды оказались по одну сторону расселины, остальные — по другую. Повинуясь знаку графа, они не приближались ни к преследователю, ни к преследуемому. Ребенок меж тем узнал отца и с плачем потянулся к нему. Один из матросов помог Гайде подойти к графу.
Она не проронила ни слова, лишь молча взглянула на мужа, и тот ответил ей не менее красноречивым взглядом. Потом он протянул ей руку и усадил рядом с собой. Бенедетто делал вид, что ни Монте-Кристо, ни Гайде его ничуть не интересуют, и занимался только ребенком, то насмехаясь над ним, то браня его.
— Отдай ему все, что он потребует, Эдмон! — прошептала наконец Гайде.
— Я готов, дорогая! — едва слышно ответил тот. — Чего ты хочешь? — крикнул он прокаженному.
— Чего я хочу? — повторил Бенедетто, разразившись наглым смехом. — Вот послушай! Ты сделаешь меня своим приемным сыном, я буду носить имя Монте-Кристо, и каждый год ты будешь платить мне миллион франков! Согласен?
— Допустим, я выполню твои условия, но какой тебе от этого прок? — спросил граф. — Ты только привлечешь к себе внимание окружающих. Скоро они узнают, что ты всего-навсего убийца Бенедетто, тебя отдадут в руки правосудия и казнят!
— Ты уверен? Ошибаешься, можно найти средство помешать этому! — возразил Бенедетто и, словно погрузившись в размышления, ненароком сдавил горло несчастному малютке. Ребенок зашелся от крика, а его личико начало наливаться кровью.
— Обещай ему все что угодно! — дрожа всем телом, прошептала Гайде. — Только спаси сына!
— Хорошо, я согласен на твои условия! — пообещал граф. — Только скажи, что мне предпринять, чтобы оградить тебя от правосудия!
— Это уж твоя забота, — ответил Бенедетто. — Первые пять лет ребенок останется у меня в залог того, что ты исполнишь свое обещание и с моей головы не упадет ни один волос.
— Это невозможно! — вскричал Монте-Кристо. — На пять лет оставить в твоих руках сына, чтобы ты погубил его душу и тело! Лучше пусть он умрет! Нет, Бенедетто, до тебя, верно, не дошел смысл моих слов! Я готов дать тебе столько денег, сколько ты назовешь. Отправляйся в Америку или Австралию, возьми другое имя и попытайся стать порядочным человеком. Тогда я соглашусь держать ответ перед Богом за то, что ради своего сына спас жизнь убийце!
— Держать ответ перед Богом? Ты? — вскипел Бенедетто. — Глупец, кто дал тебе право становиться на пути Всевышнего и перечить воле Провидения?! Теперь я знаю, для чего ты велел привезти меня в Париж! Ты хотел отомстить Вильфору и Данглару! Кто дал тебе право на такую месть? Я знаю, ты возомнил себя Богом, непогрешимым и всесильным! Но взгляни, эта безобразная рука сразила тебя, показала тебе, что ты — всего-навсего жалкий червь. Не ты был орудием в руках Божьих — я Его орудие.
И он захохотал как безумный, сотрясаясь всем телом. У несчастного ребенка уже не было сил кричать, он лишь едва слышно всхлипывал.
Монте-Кристо не отрывал глаз от прокаженного. Трудно сказать, что выражал его взгляд. Признавал ли граф правоту Бенедетто или воспринял его слова как насмешку и дерзкий вызов, как их, вероятно, и следовало расценивать? Он медленно поднялся с земли и в задумчивости сделал несколько шагов взад и вперед. Бенедетто следил за каждым его движением.
— Послушай, — сказал граф, приблизившись к краю расселины. — Кое в чем ты, возможно, и прав, но в одном не прав определенно. Ты должен был мстить мне, слышишь — мне, а не моему сыну. Мой сын невиновен.
— Разве были виновны госпожа де Вильфор и ее сын Эдуард? — с издевкой спросил прокаженный. — И разве не ты посвятил ее в тайну составления ядов и благодаря этому отправил и мать, и невинное дитя на тот свет?
— Зато я спас от смерти Валентину! А что касается тех, кого ты назвал, я всю жизнь раскаиваюсь в содеянном и буду раскаиваться до конца своих дней! — ответил Монте-Кристо и, повернувшись к прокаженному спиной, направился к Гайде. Впрочем, слова, сказанные прокаженным, заставили его остановиться на полпути.
— Раскаиваешься? Как бы не так! — кричал Бенедетто. — Разве ты не купаешься в роскоши, разве не выбрасываешь каждый год миллионы? Разве ты не живешь в свое удовольствие с красавицей женой? И это ты, ханжа и лицемер, называешь раскаянием?
Из груди графа вырвался крик — крик отчаяния, крик безумия. Не помня себя от ярости, он с бешеной скоростью, словно выпущенный из пращи камень, ринулся назад и одним прыжком преодолел казавшееся неодолимым препятствие.
Все произошло так стремительно, что Бенедетто растерялся. Едва он успел вскочить, как граф уже стоял в трех шагах от него.
— Отдай мне сына! — вскричал Монте-Кристо. — Отдай сына!
В следующий миг между ними завязалась борьба. Увидев такой оборот, матросы и Тордеро, до сих пор державшиеся в некотором отдалении, поспешили на помощь графу. Бенедетто защищался от обладавшего недюжинной силой графа с таким упорством и такой бешеной энергией, какие в нем трудно было заподозрить. При этом он так крепко прижимал к груди ребенка, что мог невольно задушить его. Ребенок мешал прокаженному сопротивляться, вынуждая действовать всего одной рукой, и под натиском графа ему приходилось отступать к краю расселины. Когда подоспевшие матросы собирались всадить в него кинжалы, Бенедетто отчаянным, нечеловеческим напряжением всех своих сил вырвался из железных объятий графа и вместе с ребенком бросился в пропасть…
Гайде первой оказалась на дне расселины у трупа Бенедетто, так и не выпустившего из рук ребенка. Малютка был мертв. Потрясенная смертью сына, несчастная мать лишилась чувств.
Вскоре матросы вынесли на берег носилки с бесчувственной Гайде и погибшим ребенком. За носилками неотступно следовал убитый горем граф.
Носилки перенесли в шлюпку, и матросы взялись за весла. Лодка двинулась к выходу из пролива Сан-Бонифачио. Старого рыбака щедро наградили и высадили на родном побережье, где он спокойно прожил более шестидесяти лет, размышляя об удивительных событиях, очевидцем которых ему довелось быть. Когда вдали заметили яхту, уже настала ночь. По сигналу со шлюпки яхта приблизилась. Гайде к этому времени уже пришла в себя и настолько оправилась, что при поддержке двух матросов смогла самостоятельно подняться на палубу, держа на руках погибшего Эдмона.
Все, кто при свете корабельных огней увидел теперь графа, были поражены разительными переменами. Его было не узнать. Лицо приобрело землисто-серый оттенок, движения сделались неуверенными, всем своим видом он походил на дряхлого старика. В считанные часы крепкий, сильный человек превратился в сущую развалину.
Вслед за Гайде он удалился в каюту. Данглара поместили в лазарет, где совсем недавно находился Бенедетто. Он выглядел совершенно подавленным и испуганно озирался по сторонам, словно опасаясь за свою жизнь. Впрочем, Тордеро все же ухитрился отвесить ему оплеуху. Контрабандист попросил разрешения вернуться на яхту. Штурман, не осмелившись беспокоить Монте-Кристо, на свой страх и риск позволил ему это сделать.
К утру яхта пристала к острову. Поддерживая друг друга, граф и Гайде сошли на берег. Гайде так и не расставалась со своей скорбной ношей. Убитые горем родители скрылись в своих покоях.
Больше их никто не видел, не считая Бертуччо и Али, которые, однако, ни словом, ни жестом не выдавали, в каком состоянии находятся их господа. Временами только уходили письма в Париж. Спустя несколько недель на остров прибыл респектабельный немолодой господин. Он пробыл два дня, после чего снова покинул остров вместе с Моррелем и Вильфором. Яхта графа доставила всех троих в Марсель и вернулась обратно.
X. ПИСЬМО АЛЬБЕРА ДЕ МОРСЕРА ГРАФУ МОНТЕ-КРИСТО
«Дорогой граф!
Не удивляйтесь, что Вам пришлось долго ждать ответа, ибо Ваше письмо попало ко мне в руки с большим опозданием. Да иначе и быть не могло. Там, где я нахожусь, нет дорог в привычном для нас смысле слова; нет и королевской почты, отвечающей за своевременную доставку корреспонденции. Каждый раз мне приходится снаряжать собственный караван, чтобы мои письма попали в Мурзук, откуда их переправляют французскому консулу в Триполи.
Я не раз внимательно прочел все, что Вы написали о судьбе моего отца, и вынужден признать Вашу правоту. Правда, еще раньше я убедился, что для мести у Вас были причины, судить о которых не вправе ни один человек. Но тот, кому Вы отомстили, был моим отцом. Долгое время я был убежден, что не смогу простить его врага. Впрочем, Вы оказались правы, время берет свое. Душа успокаивается, и разум принимает многое из того, что прежде отвергало сердце. Тем не менее я откладывал свое последнее и окончательное слово до прибытия своей матушки.
Я просил ее добраться только до Триполи, куда отрядил самых преданных своих слуг. Сам я не мог оставить Массенья, поскольку границам моей страны угрожал неприятель. Одновременно я написал в Париж и просил французское правительство, равно как и некоторых своих друзей, направить ко мне сюда толковых, дельных людей. Пятеро французов изъявили готовность принять мое приглашение. Отплыть они должны были из Марселя, и там, в Марселе, к ним присоединилась моя матушка. Таким образом, ей не пришлось по крайней мере находиться одной среди африканцев, которых я послал встретить ее. Французский консул в Триполи помог моим соотечественникам и моей матушке встретиться с африканцами, и вот уже полтора месяца, как она со мной.
Перебирая в памяти прошлое, мы провели с ней немало времени вдвоем. Как-то я спросил у нее совета, и она сказала, чтобы я забыл неприязнь к Вам и прислушался к Вашим дружеским, отеческим словам. Итак, она одобрила мое собственное решение, и теперь перед Вами мое письмо, которое, надеюсь, положит начало длительной и содержательной переписке.
Я принимаю Ваши предложения, хотя и не полностью. Если Вы согласны оказать мне помощь, пришлите некоторую сумму денег и побольше ружей, пистолетов, сабель, пороха и пуль, сельскохозяйственных орудий, астрономических инструментов и несложной домашней утвари. А также книг, которые позволят мне восполнить пробелы в образовании, ибо только сейчас я осознал, сколь много упустил в юности. Направьте ко мне и толковых людей: ремесленников, солдат, знатоков техники и сельского хозяйства.
Нужны мне и миссионеры — один, два или столько, сколько согласятся нести местным жителям слово Божье. Наверное, Вы правы, говоря, что именно христианская религия благодаря присущей ей терпимости более всего способна цивилизовать этих людей.
Первые недели моего правления оказались весьма неспокойными, и, не будь Мулея, я бы пропал. Однако в конце концов самые большие сложности удалось преодолеть. Оставалось уладить один серьезный вопрос, касающийся раздела Багирми на два государства. Предполагалось, что одно из них станет мусульманским, а второе — на востоке Багирми — останется под моей властью. Во главе первого должен был стать султан, который поддерживал Мулея в борьбе против прежнего тирана Багирми. Таким способом мы намеревались отблагодарить его за помощь. Мне же было важно сохранить за собой государство, состоящее из негров, ибо я не смог бы долго противостоять мусульманской общине в Багирми и Массенья.
Наконец раздел состоялся, и я с большинством негров, захватив с собой часть сокровищ бывшего султана, его стад и прочей собственности, перебрался на восток Багирми, где и устроил свою постоянную резиденцию.
Разумеется, наша деятельность здесь только разворачивается, и мне остается лишь поражаться успехам, которые уже достигнуты. Я начал с того, что на месте бедной деревни, которой предстояло сделаться моей резиденцией, велел возвести добротные дома. Ежедневно на этих работах было занято четыре тысячи негров. Я распорядился проложить дороги в те места, откуда мы получаем все необходимое. Не забыл и о военном обучении населения. Каждый день половина всех работников занимается военным делом, и люди по очереди учатся обращаться с огнестрельным оружием, которого нам очень не хватает. Если бы у нас было его побольше!
Теперь немного о Юдифи и моей матушке. Не могу описать Вам, граф, как я счастлив, имея такую жену! Я уже не мыслю без нее своей жизни! Мне кажется, она справляется со своими общественными обязанностями лучше, чем я — со своими делами. Особенно с тех пор, как ей стала помогать моя матушка. Юдифь можно встретить всюду — в семьях, у постели больных, в окружении работниц. Наблюдать, как ее все обожают, — истинное наслаждение! То же можно сказать о моей матушке. Они не расстаются друг с другом. И как часто матушка в шутку говорит мне, что я не заслуживаю такой жены! Я и сам так думаю, но это нисколько не омрачает моего незаслуженного счастья!
Первое время мы с Юдифью жили отдельно. Большее проявление близости не отвечало бы нашим взглядам на то положение, в каком мы оказались. И перед тем как соединить наши судьбы, Юдифь следовало принять христианство. По счастью, почти в то самое время, как я перебрался в свою теперешнюю резиденцию, к нам прибыл из Абиссинии христианский миссионер. Он познакомил Юдифь и Мулея с христианским учением. После приезда моей матушки Юдифь и Мулей в один день приняли крещение, а наутро состоялось наше бракосочетание. К сожалению, местный климат оказался для миссионера неподходящим, и вскоре ему пришлось опять покинуть нас. Но он обещал мне вернуться.
Итак, теперь я счастливый супруг и не менее счастливый сын. Я правлю добрым, славным народом. Не знаю, чего еще может желать человек на этом свете? Мне по крайней мере желать нечего! Хотелось бы знать, жив ли отец Юдифи? Я поручил навести на этот счет справки в Алжире и Оране. Думаю, однако, что он задохнулся в пещере Дахры.
На этом позвольте проститься с Вами, дорогой граф! И, пожалуйста, не забудьте о просьбах, которые упомянуты в начале моего письма. И еще одно! Не могли бы Вы сообщить мне что-нибудь о Франце д’Эпине? Он всегда был мне самым близким другом. Я почти уверен, что жизнь здесь, у меня, пришлась бы ему по вкусу. Я сам напишу ему. Может быть, он приедет. Правда, ему придется привезти с собой жену.
Я позволю себе передать Вам самые сердечные приветы от матушки и от Юдифи. Нет ли у Вас желания навестить меня? Ваш приезд доставил бы мне большую радость, какая только возможна после прибытия матушки и моей женитьбы на Юдифи.
Этими словами я и хочу закончить свое послание.
Альбер де Морсер».
XI. СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ
Еще раз пригласим читателя в ту небольшую, освещенную газовыми светильниками комнату в Пале-Рояле, где мы впервые встретили приехавшего в Париж дона Лотарио. Все здесь оставалось по-прежнему: та же комната и то же общество. Да и время года было тем же самым — стояли первые дни осени.
Вернемся к уже знакомым нам завсегдатаям Пале-Рояля. Люсьен Дебрэ, секретарь министерства, в последнее время заметно постарел и, как утверждают, столкнулся с трудностями по службе. Журналист Бошан остался таким же весельчаком и насмешником. Граф Шато-Рено недавно возвратился из путешествия, чтобы не пропустить начало сезона в Париже. Что касается также присутствовавшего здесь Франца д’Эпине, он сделался еще серьезнее, еще сдержаннее.
— Кого я вижу! Старина д’Эпине! — воскликнул Бошан, фамильярно похлопывая барона по плечу. — Чем на этот раз заняты ваши мысли? Исправлением рода человеческого?
— Увы, Бошан, — ответил д’Эпине, невесело улыбнувшись. — Род человеческий настолько испорчен, что все попытки исправить его бессмысленны.
— Наш старый приятель де Морсер придерживается на сей счет другого мнения, — возразил Бошан. — Он взялся за воспитание целого негритянского народа. Ни много ни мало! У вас нет желания съездить к нему?
— Я как раз думал об этом, когда вы обратились ко мне.
— В самом деле? Забавно! И главное, так похоже на вас! — ответил журналист. — Ведь в Центральной Африке вы еще не бывали, а при вашей любви к путешествиям, которые сулят преодоление всяческих трудностей, такое предприятие было бы совершенно в вашем вкусе!
— Тем более что сам де Морсер написал мне об этом. Приглашает побывать у него и даже обосноваться там надолго.
— Выходит, он вас не забыл! Помнит, что вы большой любитель необычного! Так в чем же дело? Почему бы вам не принять это соблазнительное предложение?
— Есть здесь один момент, который меня удерживает. Морсер настаивает, чтобы я привез с собой жену. А это невозможно.
— Почему? — удивился Бошан. — Разумеется, какая-нибудь графиня, баронесса, признанная красавица с вами не поедет. Да и что им делать среди этих черных детей природы? Женитесь на девице незнатного происхождения! На своей любовнице, например! Есть же у вас любовница?
— Нет, дорогой Бошан, это не для меня!
— Должен сознаться, д’Эпине, вы меня удивили! Не иметь даже любовницы! Вы все еще не можете забыть Валентину?
— Может быть, вы и правы, Бошан.
— Вот это, я понимаю, верность! — вмешался в разговор Дебрэ. — А вам известно, д’Эпине, что еще немного, и Валентина могла бы стать вашей женой?
— До меня доходили какие-то неясные слухи о смерти ее мужа. Но совсем недавно я узнал, что он жив и даже находится в Париже.
— Да, мне говорили то же самое, — поддакнул Дебрэ. — Попробуй разберись во всех этих слухах о судьбе капитана Морреля. Сначала болтали, что его осудили за участие в Булонском деле, потом — что его тайно казнили в тюрьме. Затем прошел слух, что его спутали с неким убийцей, по имени Рабласи, и вынесли смертный приговор, но, поскольку он сошел с ума, поместили в психиатрическую лечебницу. Оттуда он якобы бежал или был похищен. А на днях мне рассказали, что теперь он в Париже, что его оправдали и ему покровительствует некое высокопоставленное лицо. А Валентина все это время была в Берлине…
— …куда ее увез тот самый Рабласи, совершенно верно! — закончил Бошан. — Оказалось, этот убийца воспользовался именем Морреля, чтобы ввести в заблуждение его жену. Дело открылось совсем недавно, и когда негодяя хотели схватить в Берлине, он успел улизнуть. А Валентина вместе с графом Аренбергом, близким другом аббата Лагиде, вернулась в Париж.
— Для меня она, во всяком случае, потеряна! — сказал д’Эпине. — Но раз уж вы упомянули графа Аренберга, мне вспомнился дон Лотарио — тот молодой мексиканец, которого мы встречали здесь. Он бывал тогда в доме графа. Что с ним стало?
— Совершенно случайно узнал, что он опять в Париже. Недавно мне попалось объявление в одной парижской газете. Некий Лотарио де Толедо предлагал свои услуги в качестве учителя испанского языка. Был указан и адрес, из него можно заключить, что живет учитель на весьма непрезентабельной улице, правда, в довольно оживленном районе. Меня заинтересовало, не наш ли это старый знакомый, и я отправился по указанному адресу. Оказалось, квартира учителя находится на пятом этаже. Когда я это выяснил, я, право, начал сомневаться, стоит ли тратить силы на подъем, потому что был почти уверен, что встречу однофамильца. В конце концов все же поднялся и, едва открылась дверь, тотчас узнал его. Он тоже узнал меня, но не выказал никакого удивления по поводу моего визита. Он настоял, чтобы я вошел, и, не обмолвившись ни словом о прошлом, спросил, не помогу ли я ему подыскать выгодных учеников. Разумеется, я не удержался от вопроса, как могло случиться, что он, кого мы считали довольно состоятельным молодым человеком, дает частные уроки. Он ответил, что его покровитель, лорд Хоуп, разорился и выплатил ему лишь незначительную сумму. С оставшимися деньгами он вернулся в Париж и намерен уехать к себе в Мексику. Однако обстоятельства пока вынуждают его задержаться в Париже, и, чтобы не потерять остатки и без того мизерного состояния, он решил давать уроки испанского языка. Держался он весьма непринужденно, и манеры по-прежнему выдавали в нем вполне светского человека. Правда, выглядел он более озабоченным и серьезным. Я обещал ему сделать все, что смогу.
— Где же он поселился? — спросил Франц д’Эпине. Бошан назвал адрес, и барон занес его в свою записную книжку.
— Что ни говорите, а он человек незаурядный! — заметил граф Шато-Рено. — Один знакомый писал мне из Берлина, что, когда там гастролировала певица Эухения Ларганд, а точнее, наша Эжени Данглар, ее другом и постоянным спутником был молодой испанец, некий Лотарио де Толедо. Несомненно, это тоже был он!
— Вполне возможно, — вставил Дебрэ. — Вероятно, они познакомились в Лондоне, откуда он последовал за ней в Берлин. Но их дружба продолжалась, похоже, недолго. По крайней мере сейчас Эжени Данглар проводит время с другим.
— Это ни для кого не секрет! — воскликнул Бошан. — Я случайно узнал, что сегодня вечером мы именно здесь увидим этого нового друга нашей старой знакомой. Это некий господин де Вирей.
— Кстати, а что стало с тем Лупером, или Бенедетто, бывшим князем Кавальканти? О нем нет известий?
— В Лондоне полиция напала на его след, а потом он исчез, — ответил Бошан. — Скорее всего, получил где-нибудь по заслугам.
— А что слышно о старом Дангларе? — спросил Дебрэ. — Ничего?
— Напротив! — возразил Бошан. — Говорят, несколько недель назад его видели в Париже. Должно быть, он встречался с дочерью и она дала ему немного денег, ведь он совершенно разорен. Поселится, видно, в какой-нибудь ночлежке. О Боже! Что стало с этими людьми! Эта история началась с появлением в Париже графа Монте-Кристо. Данглар разорен, его жена убита, дочь стала певицей… де Морсер — король африканской страны… Вильфор исчез — все это связано с Монте-Кристо! Любопытная история, ничего не скажешь!
— А о самом Монте-Кристо есть известия? — спросил д’Эпине.
— Разумеется! — Дебрэ понизил голос и сделал знак друзьям подойти ближе. — Могу сказать вам, только по секрету. Из Америки он вернулся к себе на остров, и правительство отдало распоряжение задержать его, принимая за бонапартистского агента. Здесь, в Париже, у него состоялся неприятный разговор с премьер-министром, а потом с королем. Ходят слухи, что он сказал тому и другому все, что думает. Потом он снова исчез, но правительство перестало чинить ему препятствия. Говорят, он опять на своем острове Монте-Кристо.
— Я по-прежнему склонен считать все это выдумкой! — заметил Шато-Рено.
— Напрасно! — возразил д’Эпине. — Монте-Кристо действительно существует. Я просто не знал, где он сейчас, и потому спросил. Морсер написал, что в письмо ко мне вложит письмо для Монте-Кристо.
Упоминание о де Морсере вызвало новые вопросы Дебрэ и Шато-Рено, и д’Эпине рассказал им все, что ему известно, об Альбере.
— А вот и господин де Вирей! — прервал вдруг разговор Бошан.
И он представил друзьям высокого, хорошо сложенного и элегантно одетого господина, отрекомендовав его как близкого знакомого донны Эухении.
Господин де Вирей чувствовал себя в новом для него обществе как рыба в воде и вскоре подошел к игорному столу. Играл он довольно крупно. Однако ему не везло, и он немало проигрывал, но проигрыш только разжигал его азарт.
Когда де Вирей появился на пороге, барон д’Эпине взглянул на него чуть удивленно и с тех пор следил за ним с тем вниманием, которое говорило, что барон выказывает к вновь пришедшему явный интерес. Пока де Вирей играл, д’Эпине стоял у него за спиной и, делая вид, что всецело поглощен игрой, пристально за ним наблюдал. Дважды на лице его мелькало откровенное изумление. Затем он отошел от стола и, усевшись в углу, погрузился в раздумья.
Де Вирей тем временем успел проиграть все деньги, что у него были, однако, умело скрывая досаду, оживленно болтал со знакомыми. Бошан представил его Дебрэ и графу Шато-Рено.
В игре де Вирей больше не участвовал. Денег у него не было, а занимать у присутствующих, которых знал слишком мало, он, видимо, не решался. В конце концов де Вирей с одним знакомым собрались уходить; и д’Эпине, не попрощавшись с друзьями, отправился следом.
Должно быть, у него были основания украдкой идти за этими людьми. Так они добрались до улицы вблизи Итальянской оперы. Д’Эпине предполагал, что певица поселилась именно здесь, а де Вирей — неподалеку от нее. Возле какого-то красивого здания Вирей распрощался со своим спутником и вошел в дом. Д’Эпине последовал за ним.
— В этом доме остановилась донна Эухения Ларганд? — спросил он у консьержа.
— Да, сударь, на втором этаже. Вам угодно пройти к ней?
— Нет, я просто хотел узнать, у нее ли господин де Вирей.
— Да, сударь, только что пришел.
— А когда он обычно покидает донну Эухению? Мне необходимо с ним поговорить.
— Сегодня он, пожалуй, долго не задержится. Я слышал, донна Эухения не совсем здорова.
Поблагодарив консьержа, барон вышел на улицу и поспешил в собственную квартиру, которая находилась буквально в двух шагах, а вскоре вышел оттуда, запасшись небольшой, но весьма своеобразной вещицей — пистолетом.
Он вернулся к жилищу певицы и устроился напротив ее дома с таким расчетом, чтобы видеть каждого выходящего, и всего через несколько минут увидел господина де Вирея.
При свете фонаря д’Эпине пристально вгляделся в де Вирея. Лицо у него было раздосадованное и недовольное, вовсе не такое дружелюбное, как в Пале-Рояле. Оно производило крайне неприятное впечатление. Казалось, это совершенно другой де Вирей, совсем не тот, что в Пале-Рояле.
— Простите, сударь, — сказал д’Эпине, приблизившись к де Вирею. — Я имею честь видеть господина де Вирея?
— Да, это я! — ответил Вирей, словно очнувшись от глубокой задумчивости. — Что вам угодно?
— Я барон д’Эпине, — представился Франц. — Я только что имел удовольствие быть вместе с вами в Пале-Рояле и хотел, чтобы меня представили вам. Но в эту минуту вы как раз вышли из комнаты.
— Помнится, я действительно видел вас там, — довольно учтиво ответил Вирей.
— Волею случая мы, однако, встретились вновь. Мне необходимо поговорить с вами об одном деле, которое очень меня интересует, поэтому прошу вас уделить мне несколько минут. Мы могли бы побеседовать у вас или у меня на квартире.
— Ничего не имею против, господин барон! — согласился Вирей. — Но почему на квартире? Может быть, в другом месте? В ресторане, например.
— То, что я собираюсь вам сказать, не предназначено для посторонних ушей, — ответил барон. — Впрочем, вы правы. В ресторане можно заказать отдельный кабинет.
— Прекрасно. Я к вашим услугам, — сказал де Вирей, и они зашагали по улице.
— Когда я обратился к вам, мне показалось, что вы чем-то огорчены, — заметил д’Эпине.
— К чему скрывать, вы угадали, — кивнул Вирей. — Откровенно говоря, сегодня вечером я не ожидал проигрыша и тем не менее потерял порядочную сумму. А по векселям я получу только в первых числах. Фатальное невезение!
— Вам следовало бы удовольствоваться счастьем в любви и не садиться играть!
— Увы, счастье в любви подчас не вызывает ничего, кроме скуки! — ответил Вирей.
Эти слова вырвались у него, похоже, непроизвольно. Он действительно был очень расстроен.
— Но разве у вас нет в Париже друзей, знакомых?
— О, вполне достаточно. Но обращаться при денежных затруднениях к друзьям всегда неприятно. Я делаю это крайне неохотно и, к счастью, еще ни разу не попадал в подобное положение. Такое со мной впервые!
— Мне кажется, вы слишком преувеличиваете. Это с каждым может случиться! И если бы я мог предложить вам свой кошелек…
— Вы очень любезны. От души благодарю вас. Однако мы пришли. Это очень неплохой ресторан, наверняка он знаком и вам.
— Вы угадали. Я здесь частый гость. Войдем!
Барон заказал отдельный кабинет, велел подать бордо и шампанское. Несколько минут спустя они расположились друг против друга в небольшой, элегантно обставленной комнате. Что касается де Вирея, заинтригованный, он старался скрыть нетерпение. Барон, напротив, держался спокойно и уверенно.
Пока не принесли заказ, разговор шел на отвлеченные темы. С уходом официанта д’Эпине закурил сигару и устроился поудобнее.
— Господин де Вирей, — начал он, — прошу вас терпеливо выслушать меня. Я не собираюсь утомлять вас долгим рассказом, но просьба, которой я закончу свое повествование, возможно, покажется вам странной. Однако я призываю вас сохранять спокойствие.
— Любопытно, — сказал, улыбаясь, Вирей, — говорите же, прошу вас!
— Прекрасно, — ответил барон. — Так вот, года два назад я путешествовал по югу Франции, по обыкновению пешком, с рюкзаком за спиной и посохом в руках. Я добрался до одной очаровательной долины Прованса и задержался там на неделю, решив затем подняться вверх по долине Дюранс. Меня пытались отговорить, ссылаясь на слухи, что где-то в окрестностях промышляет шайка разбойников. Но я пренебрег предостережениями и двинулся в путь. Помню как сейчас, был чудесный солнечный осенний день. В прекрасном настроении я шел гористым правым берегом Дюранс. Место было безлюдное — ни городка, ни деревушки, ни крестьянской хижины поблизости. Прелестная картина, открывшаяся моему взору, заставила меня остановиться. Я замер, опираясь на свой посох и любуясь раскинувшейся внизу долиной.
Прошло, наверное, минут пять… И тут я почувствовал, что на мое плечо легла чья-то рука. Я обернулся. У меня за спиной, расположившись полукругом, стояло человек шесть. Все они были вооружены и видом своим походили на разбойников.
Я лихорадочно соображал, как поступить. Воспользоваться пистолетами было невозможно, бежать — поздно. Оставалось спокойно ждать, что будет…
«Сударь, — обратился ко мне один из бандитов, крепкий и рослый, — мы просим вас сделать нам одолжение и отдать свой кошелек».
«Как? — спросил я весело. — Вы хотите взять его на хранение?»
«Да, сударь, — так же весело подтвердил бандит. — Мы собираемся избавить вас от лишних хлопот. По нашим местам гораздо удобнее путешествовать без денег».
«Но у меня их вообще немного, — возразил я, пытаясь, насколько позволяли обстоятельства, воспротивиться. — У того, кто, как я, путешествует пешком…»
«…иной раз больше денег, чем у того, кто предпочитает путешествовать в экипаже, — парировал находчивый разбойник. — Мы навели о вас подробные справки и, хотя не знаем вашего сословия и вашего имени, не сомневаемся, что вы богаты. Достаточно взглянуть на это великолепное кольцо на вашем пальце».
«Ну так что же вам от меня угодно? — спросил я. — Денег? Я отдам вам все, что у меня есть. Оставьте мне только на дорогу до Гренобля. А что до этого кольца, оно — семейная реликвия. Мой отец получил его в дар от императора Наполеона и носил, не снимая, до самой смерти. Это память об отце».
«О, я бы не отказался владеть кольцом, которое подарил одному из своих друзей сам император! — заметил любезный бандит. — Пожалуйста, покажите его мне!»
«Говорю вам, я готов отдать все свои деньги! — повторил я, на этот раз по-настоящему раздосадованный. — Оставьте мне только кольцо!»
«Бог мой! К чему такие церемонии!» — ответил бандит и сделал знак своим товарищам. Меня схватили за руки и сняли с пальца кольцо.
Разбойник осмотрел его, полюбовался изображением императора и надел на правую руку.
«А теперь давайте кошелек!» — сказал, он с неистощимой веселостью.
Мне ничего не оставалось, как последовать его дружескому совету. Я вытащил кошелек и протянул ему. Он стал пересчитывать содержимое и уронил несколько банкнотов наземь. Когда он нагнулся поднять их, я заметил у него на шее, у самого ее основания, небольшую красную родинку, формой и размером похожую на ягоду земляники.
«Сударь, — вновь обратился он ко мне, — если вы не станете сорить деньгами, этих пяти луидоров вам хватит, чтобы добраться до Гренобля. Они обеспечат вам вполне приличное существование. А теперь прощайте, и если кто-нибудь спросит вас, с кем вы сегодня повстречались, скажите только, что вам выпала честь завязать знакомство с Этьеном Рабласи». — Он улыбнулся и удалился в сопровождении своих товарищей…
— Удивительная история! — через силу улыбнулся де Вирей. — Чем же она кончилась? Надеюсь, это происшествие не имело для вас неприятных последствий?
— Нет, нет. Мне просто было жаль лишиться кольца, памяти о покойном отце. Со своими пятью луидорами я отправился в Гренобль и больше никогда не слышал о человеке по имени Рабласи.
— Так! А для чего вы все это мне рассказали, позвольте спросить?
— Слушайте дальше! Иногда случаются удивительные вещи. Сегодня вечером, когда вы сидели за игорным столом, я случайно очутился за вашей спиной. Случайно мой взгляд упал на вашу шею, и я с некоторым удивлением обнаружил на ней родинку, напоминающую формой и размером ягоду земляники, причем на том же месте, что и у известного вам теперь Рабласи. Мое удивление заметно возросло, когда на вашей правой руке я заметил кольцо, удивительно похожее на кольцо моего отца. Не откажите в любезности, дайте мне посмотреть на это кольцо — так, шутки ради!
— Что за странная просьба, господин барон! — сдавленным голосом заметил де Вирей.
— Если помните, я предупреждал, что моя просьба может показаться вам странной! Больше того, мне придется настоятельно просить вас вернуть мне мое кольцо, господин Рабласи!
— Как это понимать, сударь? Как шутку или как оскорбление? — вскричал Вирей, вставая.
— Ни то ни другое! — ответил барон. — Понимайте так, как есть! Хватит притворяться, господин Рабласи, верните мне кольцо!
— И не подумаю, сударь! Что касается этого кольца, я купил его в антикварной лавке в Лионе, а что до всех ваших прочих предположений, вашего странного подозрения относительно моей персоны, к этому разговору мы еще вернемся.
— О нет, я намерен покончить с этим делом именно здесь! — энергично возразил д’Эпине.
— Ну, это переходит уже всякие границы! — сердито вскричал Вирей. — Разумеется, завтра мы поговорим с вами по-другому! А на сегодня с меня достаточно!
— Нет, завтра вас, пожалуй, и след простынет!
— Ну, даже будь я тем самым Рабласи, — сказал Вирей, сверкая глазами и сжимая большой серебряный нож, лежавший на столе, — даже будь я тем самым Рабласи, разбойником и убийцей, неужели вы думаете, что я позволю вам диктовать мне ваши условия?
— А почему бы и нет? Тогда я был перед вами беззащитен, а сегодня я на всякий случай принял меры предосторожности.
С этими словами он вытащил из кармана пистолет и любовно оглядел его.
Рабласи не сводил с него глаз, едва сдерживая ярость. Наконец он взял себя в руки.
— Господин барон, — как ни в чем не бывало начал он, — жизнь некоторых людей не укладывается в привычные рамки. Известны случаи, когда волею обстоятельств честные люди становились разбойниками и убийцами, не роняя при этом своей чести, а затем вновь возвращались на путь добродетели и оказывали окружающим немалые услуги. Может быть — не поймите меня превратно, — может быть, перед вами именно такой человек. Неужели вы станете чинить ему препятствия, которые вынудят его бежать в лесную глушь и взяться за старое?
— Я не стану отвечать на этот вопрос, потому что мне нет до него дела! — сказал д’Эпине с нескрываемым презрением. — Мне нужно только, чтобы вы вернули мне кольцо!
— Ну, если это доставит вам удовольствие — извольте! — сказал де Вирей, протягивая барону кольцо. Тот, не спуская с Вирея глаз, сунул его в карман.
— А то, что вы пытались убить капитана Морреля железным прутом, поменялись с ним одеждой и выдали себя за него и по меньшей мере хотели погубить его и соблазнить его жену, — это тоже от жажды стать на праведный путь и вернуться в приличное общество, господин Рабласи? — насмешливо спросил д’Эпине.
Вирей свирепо взглянул на барона и что-то пробормотал себе под нос.
— Бред какой-то! — произнес он затем в полный голос.
— Увы, не бред, — невозмутимо возразил д’Эпине. — Недавно я познакомился с неким господином, который покровительствует господину и госпоже Моррель. Ваш план, к счастью, не удался. Правда, на вашей совести пошатнувшееся здоровье капитана Морреля. Но что вам до этого — вам, хладнокровно погубившему стольких людей!
Барону в самом деле было известно о злоключениях Морреля больше, чем друзьям капитана. В последнее время он свел знакомство с герцогом*** и узнал от него о судьбе Валентины и ее мужа.
— Я вижу, что имею дело с безумцем, сударь! — сказал Вирей, поднимаясь из-за стола.
— Вероятно, вы лучше знаете, как вам быть! — презрительно заметил д’Эпине. — Впрочем, самое лучшее в вашем положении — немедленно сдаться полиции.
— Вы собираетесь донести на меня? — спросил Вирей, сверкая глазами.
— Что я намерен предпринять — мое дело! — ответил барон, также поднимаясь и держа пистолет наготове. Другой рукой он позвонил в колокольчик, вызывая официанта.
Мгновенье Рабласи — назовем его теперь настоящим именем — глядел на д’Эпине словно тигр, готовый броситься на свою жертву. Однако время было упущено — он уже слышал шаги официанта.
— Идите, я расплачусь по счету! — сказал барон.
Рабласи пробормотал проклятье и вышел. Барон даже не взглянул на принесенный счет, дал официанту золотой и последовал за Рабласи на улицу.
На миг Рабласи остановился и обернулся, ища глазами барона. Не заметив д’Эпине, замешкавшегося в дверях, он зашагал прочь. Д’Эпине двинулся следом. По пути он встретил полицейского комиссара, которого немного знал, и сообщил, что преследует опасного преступника. Комиссар был в штатском и не вызвал подозрений у спешащего по улице Рабласи. Он присоединился к барону и велел нескольким полицейским держаться поблизости.
— Мне кажется, он направляется к донне Эухении! — сказал д’Эпине, видя, что Рабласи вошел в дом, где жила певица. — Подождем его здесь. Долго он там не задержится.
Он расположился в тени напротив дома. Комиссар зашел в подъезд разузнать, нет ли в доме других выходов, и, получив отрицательный ответ, вернулся назад. Полицейских он расставил с таким расчетом, чтобы никто не мог покинуть дом незамеченным.
Последуем за Рабласи и послушаем его разговор с донной Эухенией.
После отъезда из Берлина его отношения с певицей сложились совсем не так, как он ожидал. На союз с Рабласи Эухения решилась из ревности к Терезе, но быстро раскаялась, что зашла так далеко. Ее чистая и гордая натура была способна, пожалуй, поддаться этому чувству, но ненадолго; проникнуть в глубины ее сердца, овладеть всем ее существом яду ревности было не дано. То первое, лживое письмо, которое она послала Терезе, мучило ее совесть, и никакие усилия Рабласи не могли избавить ее от ощущения низости этого поступка. Сюда примешивалось и тревожное, пугающее чувство, что она приблизила к себе человека, к которому не питала ни любви, ни уважения, и позволила себе целиком подчиниться его воле. Ни в какое сравнение с доном Лотарио Рабласи не шел. К тому же он довольно скоро дал понять, что добивается благосклонности певицы. Насколько же несерьезны должны были быть его чувства к Терезе, если он уже теперь искал расположения другой женщины! Донна Эухения отчетливо ощущала это. Рабласи был человеком двуличным, и, что самое неприятное, познакомиться с ним было гораздо легче, чем отделаться от него.
Обуреваемая этими сомнениями, певица решила покинуть Берлин. Что до Рабласи, он поставил на карту все. Спасти его могла только донна Эухения: лишь разъезжая вместе с ней, выдавая себя за ее любовника, он мог жить так, как того желал, — играть, делать долги, ускользая от полиции. Довольно скоро он убедился, что донна Эухения его не любит. Впрочем, это было ему безразлично. Он не собирался оставаться с ней вечно, тем более что она вознамерилась поехать с гастролями в Париж, свой родной город. Рабласи выжидал лишь удобного случая, чтобы или овладеть певицей — столь же недостойным способом, каким пытался овладеть Терезой, — или же скрыться, похитив ее состояние.
К несчастью для него, донна Эухения вела себя очень осторожно. День ото дня она испытывала к нему все большую неприязнь. Возможно, ей уже стало известно, что он игрок и совсем не тот, за кого выдает себя. Она никогда не оставалась с ним наедине. Когда Рабласи бывал у нее, ее близкой подруге, Луизе д’Армильи, не разрешалось покидать ее, в крайнем случае Луизе надлежало находиться в соседней комнате. Тайком певица даже написала дону Лотарио, прося еще раз дать ей разъяснения и сообщить всю правду. Но это письмо уже не застало молодого испанца в Берлине. Он уехал оттуда раньше донны Эухении. Певица этого, правда, не знала. Все ее мысли были заняты тем, как отделаться от Рабласи, который стал для нее сущей обузой.
Еще в конце дня, когда он заглянул к ней всего на несколько минут, она встретила его очень холодно, и Рабласи заподозрил, что певица что-то замышляет, и решил поторопиться с осуществлением своих планов. А тут еще неприятный инцидент с бароном. Рабласи понял, что медлить больше нельзя. И на этот раз он по своему обыкновению рассчитывал на великодушие и отходчивость, свойственные всякому честному человеку. Он надеялся, что д’Эпине не обратится сразу в полицию. Он был уверен, что впереди у него целая ночь, и не собирался упускать свой шанс.
Был поздний вечер, впрочем, не настолько поздний, чтобы его повторный визит выглядел непростительной дерзостью. Он велел доложить донне Эухении, что его привели к ней обстоятельства чрезвычайной важности.
Певицу он застал в салоне. Встретила она его крайне сдержанно. На предложение сесть он ответил отказом.
— Простите, мадемуазель, что я опять явился к вам… — начал он.
— Напротив, я даже рада, — ответила донна Эухения. — То, что я собиралась сообщить только завтра, я смогу сказать вам уже сейчас. Луиза как раз у Терезы…
— Как? — с притворным, а может быть, и искренним удивлением спросил Рабласи. — Разве мадемуазель Тереза в Париже? Я не знал!
— Для меня это тоже новость, — сухо ответила донна Эухения. — Я случайно узнала об этом сегодня утром и сразу же послала к ней подругу. Разговор у них получился долгий, и Луиза подробно передала мне все, о чем они говорили. Удивление, вызванное ее рассказом, оказалось настолько велико, что мне трудно его с чем-нибудь сравнить, разве только с презрением, какое я испытываю к вам. Вы обманывали меня, господин де Ратур! Использовали меня, чтобы отомстить Терезе! Что еще заставило вас добиваться моего расположения — не знаю, но то, что рассказала о вас Тереза, не слишком лестного свойства, и если хотя бы половина этого правда…
— Простите, а нельзя ли мне услышать этот рассказ целиком? — насмешливо поинтересовался Рабласи.
— Оставьте ваши остроты и подумайте лучше о собственной безопасности! — заметила донна Эухения. — Тереза передаст дону Лотарио, что вы в Париже, и этот молодой испанец…
— …попытается очернить меня, где только сможет! — закончил Рабласи. — Вполне естественно. К сожалению, я не в силах помешать ему. Завтра на рассвете, а если успею, то еще этой ночью мне придется покинуть Париж.
— Так спешно? — с явным облегчением спросила певица.
— Увы, мадемуазель. Вернувшись домой, я обнаружил письмо своего родственника. Он пишет, что мой брат, офицер в Марселе, проиграл крупную сумму и вообще так запутался в долгах, что есть опасение, как бы он не застрелился, тем более что шансов вернуть долги чести у него нет. Поэтому я должен раздобыть здесь, в Париже, как можно больше денег и спешить к нему. А у меня самого — ни гроша! К кому мне обратиться? Мои парижские друзья небогаты, кое-кто из них в отъезде, а завтра утром мне уезжать!
Жалобный тон, каким были сказаны эти слова, призван был тронуть сердце певицы. И донна Эухения не устояла.
— Сколько денег вам нужно для брата, господин де Ратур? — сочувственно спросила она.
— Родственник написал о восьмидесяти тысячах франков. По его мнению, чтобы немного привести в порядок дела брата, на первое время хватит и этой суммы. Я, разумеется, подумал о вас, мадемуазель, и если бы вы смогли…
— Восемьдесят тысяч франков! Такой суммы у меня нет. Но, может быть, для спасения вашего брата достаточно и пятидесяти тысяч? Я готова одолжить их вам!
— О, донна Эухения, вы ангел! — воскликнул Рабласи. — Уже недалеко то время, когда я смогу все чистосердечно объяснить и одолеть своих врагов. Тогда и вам станет ясно, что обманул вас не я. Впрочем, оставим это! Что толку говорить, если я не в силах ничего доказать!
Он говорил это с единственной целью — заполнить томительную паузу, которая непременно возникла бы, когда донна Эухения отошла к своему секретеру. При этом он следил за каждым ее движением. Певица отперла секретер, выдвинула потайной ящик и достала пачку банкнотов и ценных бумаг.
В тот же миг Рабласи подскочил к донне Эухении и, обхватив ее за талию, крепко прижал к себе; ладонью он зажал ей рот, а свободной рукой сгреб деньги.
Все произошло настолько быстро, что певица не успела даже крикнуть. Впрочем, будучи женщиной сильной, она сумела вырваться и подбежала к окну. Разбила стекло и начала звать на помощь.
— Дьявольщина! Не хватало еще поднять переполох! — в бешенстве вскричал Рабласи, продолжая лихорадочно обшаривать ящик в поисках банковских билетов. — Ну, наконец-то!
И он торопливо рассовал по карманам свою добычу.
Между тем на донну Эухению от неожиданности и страха словно оцепенение нашло, она не могла издать больше ни звука. Все, что проделывал Рабласи, казалось ей тяжелым, мучительным сном. Лишь когда негодяй с довольным видом задвинул опустевший потайной ящик, она, опомнившись, заступила ему дорогу.
— Вы обокрали меня, сударь! — воскликнула она. — Да вы просто вор!
— Хватит! Думайте что хотите — мне безразлично! У меня нет времени болтать с вами! Прочь с дороги!
Однако певица как будто вновь обрела все свои физические и душевные силы и не двинулась с места.
— Отсюда вам не выйти! — вскричала она с угрозой. — Тереза права! А я все никак не могла поверить. Теперь вижу: вы самый заурядный грабитель, а может, и того хуже — убийца! Я передам вас полиции!
Рабласи резким движением оттолкнул певицу. Казалось, борьбы не избежать, но в этот миг дверь распахнулась.
— Именем закона, вы арестованы, Этьен Рабласи! — раздался голос полицейского комиссара, а затем появился и он сам в сопровождении своих подчиненных и Франца д’Эпине. — Так и есть! Это он, Рабласи!
Изрыгая проклятья, Рабласи оставил певицу и мрачно уставился на вошедших.
— Он обокрал меня! Забрал все мое состояние! — вырвалось у донны Эухении.
— Ложь! — возразил Рабласи. — Когда я вошел в этот дом, при мне было триста тысяч франков!
— А мне известно, что у него в карманах не было ни франка! — вмешался барон. — Все, что будет у него обнаружено, он украл. Готов поклясться!
Полицейские увели Рабласи в соседнюю комнату.
В салоне остались только двое — певица и Франц д’Эпине. Теперь, когда все было позади, донна Эухения внезапно побледнела и в изнеможении опустилась в кресло. Барон подал ей воды.
— Сколько же времени мы не виделись, мадемуазель! — сказал он. — Не знаю, помните ли вы меня, но…
— Разумеется, помню! Вы барон д’Эпине!
— Значит, вы узнали меня… Как же вы не побоялись в столь поздний час остаться наедине с этим типом? И поблизости никого не было?
— Никого! Моя подруга, Луиза д’Армильи, уехала в гости. Прислуге я сказала, что хочу побыть одна, и девушка, вероятно, ушла спать. В прихожей, правда, горничная, но она, наверное, по своему обыкновению, заснула.
— Вы правы, она спала. Нам пришлось будить ее. Воспользоваться звонком мы не решились, предпочли стучать, — ответил барон. — Впрочем, вы не ожидали ничего дурного, ведь этот человек бывал здесь не раз…
— Господин барон! — воскликнула певица, и ее бледное лицо окрасилось ярким румянцем. — Конечно, я заслуживаю этих слов! Но клянусь вам, этот человек впервые оказался со мной один на один в такое время и приняла я его лишь затем, чтобы никогда больше не видеть! Боже мой! Никто этому не поверит! Грабитель, убийца!.. Пропало мое доброе имя!
Она закрыла лицо руками. В ее словах было столько искренности, столько простодушия, что барон понял всю опрометчивость своих предположений и почувствовал, что зашел слишком далеко.
— Простите меня, мадемуазель Данглар! Вам, вероятно, хочется побыть одной. Доброй ночи! Надеюсь, этот неприятный инцидент исчерпан.
— О, как не хватает мне сейчас Луизы! — вздохнула певица.
— А где она? Может быть, я сумею вернуть ее вам.
Эжени назвала фамилию некоего парижского семейства.
— Да, там действительно сегодня званый вечер. Кстати, я тоже в числе приглашенных, — вспомнил д’Эпине. — Я попытаюсь уговорить вашу подругу вернуться домой.
— Благодарю вас, — сказала Эжени. — Однако, дорогой барон, как получилось, что в нужный момент вы оказались здесь вместе с полицейскими?
— Не сейчас, мадемуазель! — ответил д’Эпине. — Может быть, вы позволите нанести вам визит в другой раз, и я объясню вам суть дела. Это было стечение обстоятельств…
— …которое спасло мое состояние, а возможно, и жизнь! — продолжила Эжени. — Я должна отблагодарить вас, но не так, как сегодня. Сегодня я не в силах. Прошу вас прийти завтра, если найдете возможным. Обещаю, что вы застанете меня в совсем другом настроении!
— С удовольствием! — поблагодарил барон и откланялся.
В эту минуту в салон вновь вошел комиссар с банкнотами и ценными бумагами, так недолго находившимися в карманах Рабласи, и аккуратно сложил их на столе. Эжени взяла один банкнот и протянула комиссару, а остальные деньги, не считая, убрала в секретер.
— Наконец-то он в наших руках! — с удовлетворением сказал комиссар, выходя вместе с бароном из комнаты. — Неплохая добыча! И все это ваша заслуга, господин д’Эпине! Ну, уж теперь мы так пристроим голубчика, что ему не улизнуть!
XII. СЕМЕЙСТВО МОРРЕЛЬ
Перенесемся теперь в предместье Парижа — Сен-Жермен, во дворец герцога***, уже знакомого нам друга графа Монте-Кристо, и аббата Лагиде, очевидца и участника злополучного побега из тюрьмы капитана Морреля.
Слуга только что доложил герцогу о прибытии доктора Било, одного из лучших парижских врачей, занимавшегося главным образом врачеванием душевных болезней и творившего в этом деле чудеса.
Герцог встретил его с непритворным радушием, которое свидетельствовало о давних дружеских отношениях.
— Итак, сегодня решающий день? — спросил он врача.
— Я считаю, что капитан совершенно здоров и вполне в состоянии вынести все, что ему предстоит увидеть и услышать.
— Тем лучше! — заметил герцог. — А старый Вильфор?
— По моему мнению, этот господин, насколько я успел понаблюдать за ним, никогда не был душевнобольным. Он страдал, скорее всего, сильным нервным расстройством. Когда я увидел его впервые, то сразу понял, что с ним произошло. Из-за сильного душевного потрясения он впал в прострацию. Вывела его из этого состояния столь же сильная встряска, которой, по-видимому, способствовала и физическая боль. Думаю, теперь и ему можно рассказать все.
— В таком случае, я могу быть откровенен и с одним, и с другим? Могу ничего не скрывать от них?
— Несомненно! Обращайтесь с ними как со здоровыми людьми, у которых, правда, слабые нервы, поэтому всякую ошеломляющую новость им нужно сообщать с осторожностью.
— Прекрасно! Вас я пригласил, чтобы иметь кого-то поблизости на тот случай, если вдруг потребуется врачебная помощь. Не могли бы вы, доктор, подождать в этой комнате, пока все не закончится?
— С удовольствием! Я захватил с собой книгу. Так что не беспокойтесь обо мне. Только дайте знать, когда надобность в моем присутствии отпадет, чтобы я мог уйти.
Герцог отправился на другую половину своего огромного дома и спросил у слуги, где капитан Моррель. После прогулки по саду Моррель, как выяснилось, опять вернулся в свою комнату.
Герцог постучал и вошел к Моррелю.
Он застал капитана за чтением газет. Как все, кому пришлось долгое время провести в закрытом помещении, Моррель был довольно бледен, однако никто не смог бы обнаружить на его лице следы душевной или какой-либо иной болезни.
— А-а, это вы, доктор! — сказал он, не поднимая глаз от газеты, затем отложил ее в сторону и поднялся навстречу вошедшему. — О-о, простите, я ошибся! — воскликнул он, увидев герцога. — Вас, сударь, я не знаю!
— Не узнаете, капитан Моррель? — спросил, улыбаясь, герцог. — А мне помнится, однажды мы уже виделись с вами. Разве вы меня забыли?
— Нет, как угодно, сударь, я не могу припомнить ваше лицо, — ответил Моррель. — Голос, правда, мне знаком, но воспоминания словно покрыты мраком…
— Иначе и быть не может, — улыбнулся герцог, — ведь мы виделись ночью!
— Ночью? — задумчиво переспросил Моррель.
— Той злополучной ночью, когда вы пытались бежать из тюрьмы! — пояснил герцог.
Моррель закрыл лицо руками, словно пытаясь избавиться от печальных воспоминаний. Герцог с тревогой наблюдал за ним. От этой минуты зависело очень многое.
— Да, — сказал наконец Моррель с глубоким вздохом, — теперь я вспомнил! Вы — тот самый человек, который приходил от графа Монте-Кристо обсудить план моего побега.
— Совершенно верно! — просиял герцог. — Вы, я вижу, отчетливо помните ту роковую ночь. А теперь я готов назвать вам свое имя! Я — герцог***.
Моррель почтительно поклонился собеседнику. Имя, которое тот назвал, было известно всему Парижу.
— Может быть, вы присядете, сударь? — предложил он герцогу.
— Охотно! — ответил тот. — Тем более что мне необходимо кое-что сказать вам. — И он расположился напротив капитана с таким расчетом, чтобы отчетливо видеть его лицо. — Первым делом я хочу сообщить, что вы сейчас находитесь в моем доме.
— Так это ваш дом, сударь? В таком случае мне остается поблагодарить вас за гостеприимство! — воскликнул Моррель. — Отчего я не знал этого раньше? Я бы успокоился и чувствовал себя счастливым! Я бы знал, что нахожусь под защитой друга!
— Доктор сказал вам, что вы были тяжело больны, когда удалось освободить вас из заключения?
— Да, сударь. Он сообщил мне также, что теперь наконец выяснилось: я никакой не Рабласи, и от обвинений, предъявленных мне правительством, осталось только обвинение по политическим мотивам. По этой причине и во избежание новых конфликтов с правительством мне разрешено находиться в этом доме. Но должен сознаться, сударь, мне кажется, время для меня просто остановилось.
— Правительство разыскивало вас в связи с Булонским делом. Так что воссоединиться со своей женой во Франции вам бы не удалось. Ваша поездка в Германию, к жене, расстроилась из-за вашего нездоровья. Поэтому я счел за благо оказать вам свое гостеприимство до тех пор, пока не добьюсь вашего помилования…
— Помилования? — воскликнул Моррель. — Но позвольте, сударь, я не желаю этого! Я хочу только справедливости и буду бороться за нее.
— В таком случае, мой друг, вы рискуете навсегда или по крайней мере на долгие годы лишить себя семейного счастья! Вы собираетесь жить в разлуке с женой и сыном?
— О нет, при одной только мысли об этом меня бросает в дрожь! Бедная моя Валентина — я не виделся с ней больше года! Бедный мой Эдмон! Теперь он, должно быть, уже бегает! Но помилование… нет, не хочу!
— Прошу вас, капитан, предоставьте все хлопоты вашим друзьям!
— Но мои друзья не могут желать, чтобы я покрыл свое имя позором!
— Разумеется, это никому не приходит в голову! Но послушайте! Ведь сторону принца вы приняли по совету графа Монте-Кристо?
— Да, его совет укрепил меня в стремлении последовать моим политическим симпатиям.
— Вот и прекрасно! А теперь граф хочет, чтобы вы приняли эту свободу без каких бы то ни было дополнительных условий. А что до французского правительства, ему, как вы знаете, важно было лишь узнать от вас некое имя. Возможно, оно достигло своей цели каким-либо иным способом. Как бы то ни было, теперь правительство не имеет к вам никаких претензий.
— Ну что же, пусть так! Я не буду противиться желанию графа! Меня никогда не покидала надежда, что в один прекрасный день он войдет в мою комнату. Но…
— Вы увидите графа. И очень скоро, — ответил герцог, и на его лице промелькнуло выражение печали. — Однако к делу. Я пришел сказать вам, что врач нашел вас совершенно здоровым.
— Слава Богу! — вскричал Моррель, вскакивая с места. — Тогда мне нужно спешить к Валентине!
— Постойте! — остановил его герцог. — Прежде я хочу напомнить вам еще кой о ком, кто состоит с вами в родстве. О человеке, который на пороге старости оказался один в целом свете…
— Кого вы имеете в виду? — обеспокоенно спросил капитан.
— Старого де Вильфора, отца вашей жены.
— Как? Разве он жив? Ведь ходили слухи, что он сошел с ума и исчез. Так он жив? Боже мой, где же он?
— Гораздо ближе, чем вы можете себе представить! — И герцог рассказал Моррелю уже известную читателям историю старика Вильфора, добавив: — Только случай вернул ему рассудок. Сейчас он, как и вы, находится в моем доме. Бедняга не знает, что у него есть дочь, сын, внук. Прежде чем встретиться с Валентиной, пойдемте к этому несчастному!
И капитан вместе с герцогом вышли из комнаты. Они прошли длинным коридором и поднялись по лестнице. У одной из дверей герцог остановился и постучал.
— Войдите! — донесся до них старческий голос, и они открыли дверь.
Старик сидел, устроившись у окна. Подобно Моррелю, он сперва решил, что явился врач.
— Доброе утро, доктор! — произнес он, вставая, и направился к двери.
— Подождите немного! — шепнул герцог капитану, и тот остался за дверью, не спуская, впрочем, глаз со своего столь неожиданно обретенного вновь тестя.
— Позвольте! — заметил тот, убедившись, что обознался. — Ведь вы не доктор!
— Вы правы, господин королевский прокурор! — согласился герцог. — Я — владелец этого дома, герцог***!
Вильфор был, казалось, поражен, он никак не ожидал услышать столь громкое имя. Затем отвесил хозяину дома почтительный поклон. Ничто в его облике не говорило о былой болезни. Он ничем не отличался от любого старика, согнувшегося под бременем прожитых лет и перенесенных невзгод.
— Удивительное дело, сударь, — сказал Вильфор. — Я полагал, что пользуюсь гостеприимством доктора. Если бы я знал, кто дал мне приют, я взял бы на себя смелость разыскать и поблагодарить вас! Простите, что…
— Полноте! Это я должен просить у вас прощения, что не зашел раньше! — смутился герцог. — Но врач уверял меня, что вы все еще слабы и нуждаетесь в покое!
— Вовсе нет! Я совершенно здоров. Но я злоупотребляю вашей добротой.
— Не будем говорить об этом. Да и куда вам идти!
— Это верно, — согласился Вильфор, тяжело вздохнув. — Куда? Некуда!
— Мне бы не хотелось будить в вашей душе мрачные воспоминания! — мягко заметил герцог. — Но все-таки есть место, где вам будет тепло и уютно.
— Тепло и уютно? — с горечью воскликнул старик. — Нет! В целом свете не найдется больше уголка, где я мог бы почувствовать себя счастливым. Да у меня и нет на это права. Я не заслуживаю его.
— Не говорите таких слов! Да, вы совершили проступки, которые вызывают угрызения совести. Но вы раскаялись в содеянном и понесли суровое наказание. А впереди у вас — счастливая старость. В окружении собственных детей…
— Сударь! — горестно вскричал Вильфор. — Ваши речи убивают меня! Мои дети мертвы… все… а этому ублюдку, этому проклятому Бенедетто, если он еще жив, я желаю смерти. Эдуард погиб… Валентина…
— Валентина жива! — Герцог взял старика за руку. — Вы этого не знали?
— Я ничего не знаю! Ради Бога… я заклинаю вас, сударь… не шутите со мной так… это слишком жестоко. Позвольте, как вы сказали?.. Валентина жива? Значит, у меня есть дочь?
— И к тому же счастливая дочь! Валентина замужем за славным человеком, капитаном Моррелем. Она — мать семейства. Слышите, господин де Вильфор, вы — дедушка.
Ошеломленный услышанным, старик медленно опустился в кресло. Герцог вытащил флакончик с нюхательной солью, который захватил с собой, и брызнул несколько капель в лицо близкого к обмороку Вильфора. Потом обернулся, собираясь дать знак Моррелю. Но в этом уже не было необходимости, капитан стоял перед стариком на коленях.
— Отец! — воскликнул он. — Все, что вы сейчас узнали, — истинная правда! Валентина жива, а я — ее муж! Вы не помните меня? Я тоже считал Валентину умершей, я тоже шел за ее гробом. Но граф Монте-Кристо спас ее, потому что это была мнимая смерть. Граф соединил меня с ней. Вы были тогда больны, тяжко больны, и мы не могли вам это сказать!
Казалось, Вильфор пытается собрать свои душевные силы. Испытание и в самом деле было суровым, но он выдержал его с честью. Он в полной мере осознал, какое счастье подарила ему судьба, и невольно произнес вполголоса:
— Благослови, Боже, графа Монте-Кристо!
— Аминь! — добавил герцог. — А теперь пойдемте со мной. У меня есть для вас еще сюрпризы!
Капитан протянул руку своему тестю. Вильфора била дрожь. Он словно все еще пытался осмыслить нечто непостижимое. И при том горел желанием вновь увидеть свою дочь. Однако силы изменили ему, Моррелю пришлось помочь старику спуститься по лестнице.
Когда они проходили мимо комнаты, где ожидал врач, герцог открыл дверь.
— Благодарю вас, доктор, — сказал он. — Все именно так, как вы предсказывали. Все хорошо!
Затем он вместе с Моррелем и Вильфором двинулся дальше. Наконец они очутились в великолепной приемной, а оттуда прошли в более скромно обставленный кабинет. Там в большом и удобном кресле на колесиках неподвижно сидел древний старец. Вильфор замер от неожиданности, а потом бросился к его ногам.
— Отец! Вы ли это? Боже мой! Отец! Раз вы здесь, то и Валентина, должно быть, где-то поблизости!
Это и в самом деле был почтенный Нуартье де Вильфор, отец королевского прокурора, теперь уже бывшего, который в эту минуту, заливаясь слезами, обнимал колени недвижимого старца. Как мы знаем, Нуартье был парализован. О теплившейся в нем жизни говорили только глаза, с непередаваемым выражением глядевшие на вновь обретенного сына, припавшего к его ногам.
Тем временем в кабинет вошел некий господин с дамой и двумя детьми.
— Жюли! Эмманюель! — воскликнул капитан и бросился в объятия сестры и ее мужа. Дети радостно прыгали вокруг, не зная, как выразить свой восторг.
Счастье этих людей можно было бы назвать полным, если бы не отсутствие еще одной особы, а между тем она, не замеченная покуда ни Вильфором, ни Моррелем, уже стояла в дверях. Это была Валентина, а с нею маленький Эдмон.
Первым ее увидел Макс.
— Валентина! Любовь моя! Эдмон, мальчик мой! — вскричал он, а в следующий миг прижал жену и сына к своему сердцу. Все свидетели этой долгожданной встречи были взволнованы до глубины души.
Услышав слова Морреля, Вильфор, омывший слезами радости иссохшие руки старика Нуартье, повернул голову и тоже увидел Валентину. При виде дочери, умершей и погребенной на его глазах, он не удержался от возгласа, в котором соединились и восторг, и изумление. Он не мог отвести от нее глаз — вероятно, она все еще казалась ему чудесным видением. Наконец лицо его прояснилось и засияло безмерным счастьем.
В первые минуты все мысли Валентины были только о муже, да и Моррель думал лишь о жене и сыне. Но внезапно она заметила отца, которого считала умершим, вскрикнула и лишилась чувств. Макс, угадавший причину ее обморока, едва успел подхватить ее.
— Отец? Это в самом деле мой отец? — промолвила она, очнувшись.
— Да, дорогая! — ответил Моррель. — Ты видишь, он жив! Я тоже узнал об этом только сегодня!
Валентина бросилась к отцу. Отец и дочь заключили друг друга в объятия и залились радостными слезами.
— Пойдемте, Моррель! — сказал герцог, налюбовавшись этой сценой. — Оставим их, они прекрасно обойдутся без нас. Пойдемте! Пусть наговорятся вдоволь — им есть что сказать друг другу.
Капитан согласился и вместе с герцогом вышел в соседнюю комнату. Их примеру последовал и Эмманюель со всем своим семейством. Валентина осталась с отцом и дедом.
Не будем даже пытаться описать, о чем они там говорили и что чувствовали. Пусть пылкая фантазия каждого читателя нарисует картину того, какие чувства испытывают люди, которые считали друг друга умершими, а теперь неожиданно встретились!
— Как мне благодарить вас, сударь? — воскликнул Моррель, с жаром пожимая руку герцогу. — Как мне выразить свои чувства? Вы сделали меня бесконечно счастливым!
— Благодарите не меня — благодарите графа Монте-Кристо! — ответил герцог. — Я действовал по его просьбе!
— Но как мне высказать ему свою благодарность? Где найти его? — вскричал Макс.
— Скоро он будет в Париже, — успокоил его герцог. — Тогда и скажете ему все. Может быть, ваша благодарность принесет ему облегчение, ибо он пережил невосполнимую утрату. Но не будем об этом. Скоро вы все узнаете.
XIII. БРАТ И СЕСТРА
Дон Лотарио надел шляпу, собираясь уходить. Еще раз окинув взглядом свою небольшую приветливую комнату, он закрыл дверь и стал спускаться по лестнице.
Ему предстояло преодолеть пять лестничных маршей. Молодому человеку, который владел в Калифорнии обширной гасиендой, занимал элегантную квартиру в Париже, снимал в Лондоне целый коттедж, а в Берлине — шикарные апартаменты, — этому молодому человеку приходилось теперь довольствоваться скромной комнатой на пятом этаже, и на улице он очутился лишь через несколько минут.
Впрочем, никогда прежде он не выглядел так хорошо и не чувствовал себя так спокойно. Путь его лежал на одну из довольно далеких от центра улиц; он бодро шагал, временами посматривая на номера домов, и наконец остановился перед тем, который искал.
Это был скромный чистенький домик, особенно привлекательный благодаря палисадничку, невольно расположившему дона Лотарио к здешним обитателям. На фасаде дома он обнаружил табличку, но, прежде чем успел ее прочитать, к нему подошел хозяин. Он, видимо, трудился в саду, когда заметил незнакомца. Одет он был просто, но держался самоуверенно. Лицо его отличалось мужественной красотой. Длинные темные волосы создавали великолепный контраст с нежной кожей лица, энергичное выражение которого подчеркивали небольшие черные усы. Учтиво поклонившись, он спросил:
— Что вам угодно, сударь?
— Я пришел по письму, которое получил сегодня утром, — ответил дон Лотарио. — Номер дома совпадает. Речь идет об уроках испанского языка.
— В таком случае вы — господин де Толедо! — воскликнул хозяин дома. — Все верно! Прошу вас!
Дон Лотарио очутился в прихожей, обставленной очень просто, но со вкусом. Хозяин распахнул дверь, и молодой испанец вошел в приветливую комнату, где у стола с книгой в руках сидела молодая женщина. При виде вошедших она встала.
Красота женщины поразила испанца. Он невольно залюбовался ее прекрасными золотистыми волосами, свободно падавшими на плечи. Ее изящная фигура отчетливо обрисовывалась на темном фоне обоев, делая ее более похожей на статуэтку, созданную рукой искусного мастера, чем на существо из плоти и крови.
— Не думал, что ты здесь, Амелия, — удивился хозяин дома, — иначе не стал бы тебе мешать. Моя жена — дон Лотарио! — добавил он, представляя их друг другу. — Не угодно ли вам пройти сюда?
С этими словами он открыл другую дверь и пригласил дона Лотарио. Молодой испанец оказался в кабинете. Первое, что привлекло его внимание, был большой чертежный стол. По стенам были развешаны прекрасные гравюры и уменьшенная гипсовая копия фриза Парфенона, из чего дон Лотарио заключил, что его новый знакомый, скорее всего, архитектор.
Хозяин предложил гостю стул, и они уселись друг против друга.
— Вчера, дон Лотарио, я прочитал в газете объявление, в котором вы предлагали свои услуги в обучении испанскому языку. Не могу сказать, что я совершенно незнаком с испанским, но хотел бы пополнить свои знания. Весной я намерен вместе с женой совершить путешествие в Испанию и пробыть там несколько месяцев, а возможно, и полгода. Как вы считаете, хватит ли нам с женой времени до отъезда, чтобы с вашей помощью вполне овладеть этим языком и таким образом сделать это путешествие особенно приятным?
— Разумеется, времени вполне достаточно! — уверил собеседника Лотарио. — Впрочем, для подобной поездки вам вряд ли потребуется испанский, потому что многие там говорят по-французски. Но коли уж вы относитесь к этому предприятию так серьезно, буду с вами откровенен. Испанский — мой родной язык, однако я говорю с мексиканским акцентом.
— О, так вы мексиканец! — удивился архитектор. — Ну, разница будет, по-видимому, не слишком велика! Из какой же части Мексики вы родом, позвольте узнать?
— Из Калифорнии.
— Выходит, некоторое время назад я был совсем близко от ваших родных мест, — заметил архитектор. — Да, именно тогда я свел знакомство с неким суровым лордом с горы Желаний…
— С горы Желаний? — с удивлением перебил его дон Лотарио. — Вы имеете в виду лорда Хоупа?
— Совершенно верно, так вы его знаете? В таком случае нам есть о чем поговорить! Стоит только вспомнить то время! Боже, что я был тогда за человек! Так вы сказали, что знаете лорда?
— К сожалению, знаю! — ответил дон Лотарио. — Если бы не он, я был бы счастлив на своей гасиенде. Хотя что я говорю? Именно благодаря ему я нашел свое счастье! Если бы не он, я не оказался бы в Берлине, не встретил бы Терезу…
— Понимаю! — улыбнулся архитектор. — Вы имеете в виду даму сердца! Выходит, вы были и в Берлине?
— Я совсем недавно оттуда, — ответил мексиканец.
— А за кого вы принимаете меня? Уверен, что за француза! — продолжал архитектор. — А между тем я родом из Берлина. Впрочем, уже моя фамилия могла бы сказать вам, что я не француз.
— Простите, сударь, — заметил с улыбкой дон Лотарио, — но она была написана так неразборчиво, что я при всем желании не сумел ее прочесть.
— Да, да, охотно верю, — рассмеялся архитектор. — В таком случае позвольте представиться — Вольфрам Бюхтинг!
— Как вы сказали? Ваша фамилия Бюхтинг? — вскричал Лотарио, чрезвычайно удивленный. — Вольфрам Бюхтинг из Берлина?
— Ну да, — сказал Вольфрам, не понимая, что́ так поразило его нового знакомого. — Но откуда вам известна моя фамилия? Ведь я покинул Берлин очень давно…
— Но у вас есть сестра, Тереза Бюхтинг! — воскликнул дон Лотарио.
— Есть, клянусь Богом! — вскричал Вольфрам, в свою очередь чрезвычайно удивленный тем, что́ ему довелось услышать. — Что вам известно о ней? Вы знакомы с ней? Где она?
— Она здесь, в Париже! — ответил дон Лотарио. — Скажу вам больше: она и есть та самая Тереза, о которой я говорил! Она моя невеста и скоро станет моей женой!
— Боже, неужели такое возможно? А вы не ошибаетесь? Это действительно Тереза Бюхтинг, моя сестра, круглая сирота?
— Именно она! Она рассказывала мне, что ее брата зовут Вольфрам, что шесть лет назад он уехал в Париж, а оттуда, вероятно, отправился в Америку.
— Тогда это она! Слава Богу! — вскричал Вольфрам и прижал молодого испанца к своей груди. — Благодарю вас, благодарю, дон Лотарио! Вы возвращаете мне единственное, чего мне недоставало, чтобы чувствовать себя на вершине счастья! Вы возвращаете мне сестру, которую я считал пропавшей без вести, ибо все мои попытки отыскать ее были тщетны!
Дон Лотарио чрезвычайно обрадовался, узнав, что этот человек, расположивший его к себе с первых же минут знакомства, — брат его Терезы. С присущей ему живостью он принялся рассказывать Вольфраму о том, как покинул родную Калифорнию. Тот внимательно слушал, особенно когда речь заходила о лорде Хоупе. Затаив дыхание, он ловил каждое слово, когда молодой человек заговорил о своей первой встрече с Терезой. Глубоко тронула его и история отношений сестры с Паулем Веделем. С негодованием узнал он от дона Лотарио о кознях, которые строил злосчастной чете Моррель Ратур-Рабласи. Но когда молодой испанец поведал ему о последнем разговоре с графом Аренбергом, о последней фразе, брошенной графом, Вольфрам помрачнел.
— Нет, над нашей семьей не тяготеет проклятье — пробормотал он. — За прегрешения отца дети не отвечают! Впрочем, рассказывайте дальше!
— Итак, мы с Терезой покинули Берлин, — продолжал дон Лотарио. — Тереза не могла жить там одна, у меня тоже пропало всякое желание оставаться в этом городе. Мы приехали в Париж. Себе я снял скромное жилище и подыскал немолодую почтенную даму, которая согласилась сдать Терезе квартиру, где она могла бы жить до дня нашей свадьбы.
Мой первый визит был к аббату Лагиде. Он был поражен, увидев меня. Оказывается, он написал графу Аренбергу и открыл ему глаза на происки Ратура. Аббат надеялся, что ему удастся примирить Терезу с графом. Меня же это примирение нимало не беспокоило. Недоверие графа оскорбило меня. Слова, сказанные им Терезе во время последней нашей встречи, я расценил как унижение и твердо решил не идти с ним так просто на мировую.
— Благодарю вас! Вы — настоящий мужчина! — воскликнул Вольфрам, в котором проснулось прежнее своенравие и упрямство.
— Аббат оказался прав, — возобновил дон Лотарио свой рассказ, прерванный восклицаниями Вольфрама. — Не прошло и двух дней, как в Париже объявился граф Аренберг с Валентиной Моррель. Граф сразу же разыскал меня. Должен сознаться, поведение старика потрясло меня. Он был глубоко взволнован, со слезами на глазах просил у меня прощения. Граф уверял, что не мог даже предположить, что существуют такие негодяи, как Ратур. Он умолял проводить его к Терезе в надежде, что она простит его. По его словам, мысль удочерить Терезу никогда не покидала его. Он собирался приступить к этому незамедлительно, поскольку разрешение властей было уже им получено. Тем больнее ранило его душу предательство Терезы — как он теперь узнал, мнимое.
Я не мог не исполнить его желание видеть Терезу. Впрочем, уже при первом их свидании я убедился, что женщина не прощает обид так легко, как мужчина. Тереза отнеслась к просьбе графа холоднее, чем я ожидал. Она не могла простить ему тех несправедливых обвинений.
— Это у нас в характере! — прошептал Вольфрам. — Мы все упрямы!
— Несмотря на самые страстные, самые настойчивые просьбы, графу удалось добиться от Терезы только одного: разрешения навещать ее дважды в неделю. Речи об удочерении больше не было, тем более что вскоре Терезе предстояло взять фамилию, которая, конечно, представляется ей самой желанной, — мою фамилию. О нашем пребывании в Париже тогда ничего еще не было решено. Я намеревался задержаться здесь лишь ненадолго, узнать, что происходит на родине, завязать отношения с несколькими французами, написать письмо лорду Хоупу, а затем вернуться в Калифорнию.
Однако настоятельные просьбы аббата Лагиде побудили меня задержаться в Париже. Аббат сообщил мне, что на горе Желаний лорда Хоупа уже нет и вскоре он приедет в Париж. Аббат сказал также, что финансовые дела лорда поправились и, по всей вероятности, он сможет выплатить мне полную стоимость моей гасиенды. Во всяком случае, заверил аббат, мне следовало ожидать лорда в Париже, а кроме того, есть еще одно важное обстоятельство: моя невеста носит фамилию Бюхтинг, то есть принадлежит к некоему семейству, к которому лорд испытывает живейший интерес и которое долго и безуспешно разыскивал.
— Непостижимо! Что же угодно от нас этому человеку? — опять прервал повествование молодого испанца Вольфрам.
— Не знаю! — ответил дон Лотарио. — Но лорд Хоуп, или граф Монте-Кристо — потому что это один и тот же человек, — личность настолько необыкновенная, что ради него можно ждать и не один месяц. А поскольку я рассчитывал получить от лорда весьма значительную для меня теперь сумму, я согласился и решил остаться в Париже до его приезда. В то же время я хотел сохранить полную независимость. С другой стороны, жизнь научила меня видеть всю иллюзорность сиюминутного богатства. Поэтому я решил не прикасаться к остаткам своего небольшого состояния, а жить здесь, в Париже, на доходы от уроков. Так я и поступил и нахожу, что труд приносит гораздо больше радости, чем принято думать, и избавляет нас от многих хворей, которыми страдает тот, кто ведет праздную жизнь.
— Вы человек в моем вкусе! — с неподдельной радостью воскликнул Вольфрам, пожимая ему руку. — Терезе невероятно повезло, что она встретила такого человека, как вы! Я должен видеть сестру, дорогой Лотарио, видеть сегодня же!.. Амелия, Амелия!
Он открыл дверь и позвал жену, которая поспешила на его зов. Она выглядела немного испуганной, так как, вероятно, опасалась, что произошла какая-то неприятность.
— Послушай, Амелия! — обратился к ней Вольфрам, весь искрясь радостью. — Этот господин — избранник моей сестры, жених моей Терезы!
— В самом деле? Возможно ли такое? И ты знал об этом, Вольфрам? Ты был знаком с этим господином?
— Ничего я не знал, ровным счетом ничего! Представь себе, Тереза здесь, в Париже, а дон Лотарио — замечательный человек! Честное слово, никто мне еще так не нравился, как он!
Амелия протянула молодому испанцу руку, которую тот почтительно поцеловал.
— Вели Жанне нанять экипаж! — продолжал Вольфрам. — Мы поедем к Терезе. Ты согласна, Амелия?
— Ну конечно, дорогой! И мы привезем ее сюда, к нам?
— Разумеется, теперь она будет жить у нас, это само собой понятно!
Амелия отправилась переодеться к предстоящему визиту. В ожидании экипажа молодые люди вели оживленный разговор. Вольфрам тут же начал строить планы предстоящей жизни Лотарио и Терезы в Париже. Зарабатывает он достаточно, работы у него больше, чем требуется, поэтому будущие супруги должны жить у него. Или пусть дон Лотарио купит поместье под Парижем… Планы были один грандиознее другого. Слушая увлеченный монолог Вольфрама, молодой испанец улыбался, с удовлетворением убеждаясь в том, что судьба свела его с бескорыстным, простодушным человеком.
Наконец появилась Амелия, одетая так просто, но с таким тонким, изысканным вкусом, что дон Лотарио едва сумел скрыть свое восхищение. Что же до Вольфрама, то при виде жены на его лице появилось выражение такого счастья, что ему мог позавидовать любой смертный. Все трое разместились в подъехавшем экипаже, и дон Лотарио назвал кучеру адрес Терезы.
Тереза жила на третьем этаже. Дон Лотарио позаботился, чтобы ее квартира была лучше и удобнее его жилища, хотя Тереза с неохотой согласилась на эту привилегию.
Ее квартира состояла из прихожей, гостиной и еще одной комнаты, которую она делила с пожилой дамой, хозяйкой квартиры. Служанке, открывшей входную дверь, докладывать о неожиданных визитерах запретили. Дон Лотарио провел Вольфрама и Амелию в гостиную и попросил подождать.
Сам он постучал в другую дверь и, дождавшись ответа, вошел.
— О, Лотарио! — воскликнула Тереза, устремляясь навстречу жениху. — Ты сегодня так рано! Вот замечательно! Благодарю тебя!
От былой болезненности на ее лице не осталось и следа. Щеки горели свежим румянцем, глаза лучились счастьем, движения были мягки и грациозны, голос звучал чисто и звонко. Казалось, она даже помолодела. Терезу можно было сравнить с нежной, благоухающей розой, вынужденной под порывами холодного, пронизывающего ветра закрыть свои развернувшиеся было лепестки, а теперь снова распустившейся и представшей во всем своем великолепии. День ото дня дон Лотарио все больше восхищался ею.
По глазам жениха Тереза угадала, что он горит желанием поделиться с ней радостной вестью.
— По-моему, тебе не терпится что-то сказать мне! Что же это за новость?
— Лучше и быть не может! — ответил дон Лотарио. — Я так счастлив! И ты обрадуешься, когда узнаешь… Сегодня я совершенно случайно отыскал в Париже близких и дорогих для нас людей. Хочешь увидеть их?
— И ты еще спрашиваешь? — воскликнула Тереза и мельком глянула на себя в зеркало, чтобы проверить, удобно ли в таком виде показаться гостям. — А ты что же, не знал, что они живут в Париже?
— Не имел ни малейшего представления! А теперь, если ты готова, прошу… они в гостиной.
Он распахнул дверь и пропустил Терезу вперед.
Вольфрам и Амелия стояли посреди комнаты. При виде сестры Вольфрам не удержался от радостного возгласа.
Тереза, приблизившаяся было к нашим героям, вдруг застыла в нерешительности. Неизвестно, что заставило ее сделать это — красота Амелии или какая-либо иная причина. Как бы то ни было, она внезапно обернулась к дону Лотарио и почти с испугом спросила:
— Кто этот господин? Кажется, я уже где-то видела его! Кто это?
— Ну-ка, постарайся припомнить, Тереза! — ответил Вольфрам по-немецки.
— Вольфрам! Милый Вольфрам! — вскричала, не помня себя от радости, Тереза и бросилась в объятья брата.
XIV. ВЛАСТЕЛИН МИРА
Спустя неделю у дворца герцога*** в предместье Сен-Жермен приблизительно в одно время остановилось несколько экипажей. Гости группами поднимались по парадной лестнице дворца, где их встречали слуги герцога и провожали в большую залу. Все прибывшие явились по настоятельному приглашению герцога. Герцог упомянул, что будет присутствовать граф Монте-Кристо, и этого оказалось достаточно, чтобы никто не отклонил приглашение.
Большие люстры не были зажжены, горели только маленькие бра, свет которых едва рассеивал полутьму просторной залы. Гости молча рассаживались в кресла, расставленные в несколько рядов посередине.
Первый ряд заняли дон Лотарио, Тереза, Вольфрам и Амелия, второй — капитан Моррель, Валентина, де Вильфор и старик Нуартье де Вильфор, которого доставили прямо в его собственном кресле на колесиках. В третьем ряду расположились аббат Лагиде и граф Аренберг.
Как только приглашенные заняли отведенные им места, появился хозяин дома. Герцог приветствовал собравшихся, после чего уселся рядом с аббатом и графом. И почти сразу же в конце залы, где возвышалось покрытое черным сукном сооружение, напоминающее кафедру, открылась дверь и пропустила неизвестного господина и даму. Они были в черном. Лицо женщины скрывала вуаль, столь густая, что не оставалось ни малейшей надежды узнать таинственную незнакомку.
Спутник помог ей устроиться в кресле позади своеобразной кафедры, а сам поднялся на кафедру. Увидев незнакомца, собравшиеся в зале испытали глубокое потрясение. Его лицо выглядело мертвенно-бледным и безжизненным и походило, скорее, на лик смерти, а ниспадавшие на плечи длинные темные волосы только подчеркивали эту необычайную бледность. Глаза запали, щеки ввалились, губы казались бескровными.
Дон Лотарио и Вольфрам, Моррель, Валентина и Амелия безуспешно искали в этом человеке черты того графа Монте-Кристо, или лорда Хоупа, который еще недавно был в расцвете сил, удивляя всех, кто его знал, прямо-таки юношеской ловкостью и неутомимостью. Он выглядел непривычно еще и потому, что был гладко выбрит. Но не это столь разительно изменило облик графа. С первого же взгляда было видно, что в его судьбе произошли ужасные перемены, они-то за считанные месяцы и превратили графа в старика, перевернув всю его прежнюю жизнь.
Граф долгим взглядом обвел хорошо знакомых ему людей, собравшихся по его просьбе.
— Благодарю вас, что вы все пришли, — произнес он своим звучным низким голосом. — Рад видеть дорогих мне людей. Это большое утешение для меня. Я просил герцога пригласить вас сегодня, потому что хочу поговорить со всеми вами, но у меня слишком мало времени, чтобы побеседовать с каждым в отдельности. Пусть то, что я скажу, вы услышите все вместе — я хочу, чтобы каждый из вас принял участие в судьбе другого. А теперь выслушайте человека, раскаяние которого столь же велико, сколь честолюбивы и дерзки были его планы.
Я не собираюсь говорить о том, известна ли вам та жизнь, которую я прожил, и если известна, то насколько подробно. Обреченный в ранней молодости на пожизненное заточение из-за предательства завистливых друзей, лишенный самого дорогого для меня на этом свете, я выбрался из своей тюрьмы с единственной целью — отомстить. В том, что случай сделал меня обладателем несметных богатств, я усматривал волю Всевышнего. Мне казалось, сам Бог благословил мои замыслы и сделал меня орудием исполнения своей воли. Мои враги обрели могущество, но я превзошел их. Мне удалось отомстить за себя, и отомстить сурово. Но месть моя зашла слишком далеко. Она настигла Альбера де Морсера, затронула жену и детей де Вильфора, не обошла стороной даже Морреля! Еще когда я покидал Европу, у меня была мысль, что я превысил положенный человеку предел. Я попытался исправить то, что еще можно было исправить. Взял с собой Вильфора, чтобы избавить его от безумия, соединил Морреля с Валентиной. Я стремился помочь Альберу де Морсеру, но все мои попытки оказались тщетными из-за твердости характера этого юноши.
Я отправился в Америку, в Калифорнию. Случай свел меня там с умирающим, который рассказал, что сумел найти в этих краях золото. Этот несчастный — отец Вольфрама и Терезы. Добравшись до указанного им места, я обнаружил, что эти сокровища значительно превосходят самые смелые мои предположения. Разработка этих золотых жил сделала меня самым богатым человеком в мире.
Месть, которая удалась мне, богатство, которое я обрел, несметные сокровища, случайно доставшиеся мне в Калифорнии, умение разбираться в людях, которым я овладел, влияние, которое, как я сам убедился, я оказывал даже на выдающиеся умы, — все это постепенно привело к тому, что у меня созрел замысел, какой, пожалуй, никогда еще не рождался в голове простого смертного. Я вознамерился, не покидая своей тайной резиденции в Калифорнии, переделать человеческую природу. У меня было достаточно возможностей вскрыть ее пороки. Итак, мною овладела мысль: используя огромные богатства, дарованные мне Провидением, самому выступить в роли Провидения, чтобы переделать род человеческий. Как я осуществил свой план, какие пути и средства использовал, говорить не буду. Но мне казалось, что я достиг своей цели, что смертный действительно способен совершить то, что до сих пор удавалось только Всевышнему.
Не стану отрицать, это мое намерение было, пожалуй, кощунством. Но в то время я считал себя безгрешным, свободным от всяческой скверны. Я считал себя вправе вершить то, для чего, как мне представлялось, сам Всевышний наделил меня всем необходимым.
Для осуществления этих планов мне требовались необыкновенные люди — люди, прошедшие очищение перенесенными страданиями и несчастьями и достаточно зрелые духовно, чтобы разделить мои воззрения. Таких людей я нашел в аббате Лагиде, герцоге*** и профессоре Веделе. Но мне нужно было привлечь на свою сторону и более молодых, чтобы сделать их носителями моих идей. Для этого я решил сформировать характер этих молодых людей на свой лад, заставив их пройти суровую школу испытаний и невзгод, — словом, организовать их жизнь согласно моим замыслам, а самому выступить в роли Провидения.
Сначала о вас, дон Лотарио. Я быстро убедился, что у вас доброе сердце, энергичный характер, благородная душа. Мне стало ясно, что, пройдя надлежащую жизненную школу в чужих краях, которые более всего для этого подходят, вы добьетесь больших успехов, а в Калифорнии, на собственной гасиенде, останетесь заурядным провинциалом. Следовательно, нужно было удалить вас оттуда. Впервые увидев донну Росальбу, я понял, почему эта сеньорита так стремится стать вашей женой. Я приказал разорить вашу гасиенду, я убедил донну Росальбу, что не прочь занять ваше место, — и вы покинули Калифорнию. Но это было только начало уготованных вам испытаний. Я намеревался бросить вас в безбрежное море, именуемое обществом, и постепенно лишить всякой поддержки, чтобы в конце концов вам пришлось рассчитывать исключительно на собственные силы. Я предвидел, что некоторые обстоятельства будут благоприятствовать осуществлению моих планов. И когда мне стало известно о ваших отношениях с Терезой, не было для меня ничего желаннее этой любви, начало которой неизбежно должно было оказаться неудачным. В Париже я еще позволил вам тешиться мыслью, что вы богаты. В Лондоне я уже начал лишать вас основы вашего богатства. В Берлине я намеревался отнять у вас последние крохи вашего состояния. Но тут произошел некий случай, о котором я еще скажу, и мое влияние на вас прекратилось — к вашему счастью, как я теперь считаю.
Примерно так же я поступил с вами, Вольфрам Бюхтинг. Увидев вас впервые, я не знал, что вы сын человека, которому я обязан большею частью своих богатств. Но я почувствовал в вас энергичную натуру, которую требуется только наставить на истинный путь, чтобы она творила чудеса. В том, что тою же ночью ко мне попала Амелия де Морсер, что она оказалась с вами в столь близких отношениях, я снова усмотрел волю Провидения, благосклонного к моим намерениям, и решил впредь направлять судьбы вас обоих. Я просил Амелию остаться у мормонов, ибо ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы ваши с ней отношения расстроились. Что было дальше, вы знаете сами. Я устроил так, чтобы Амелию пытались вынудить к замужеству с доктором Уипки, не без оснований надеясь ускорить этим ваше бегство. Но наша встреча в пустыне послужила дополнительным доказательством, что мне следует продолжать вмешиваться в вашу судьбу. Я направил вас в Новый Орлеан и велел мистеру Натану сделать так, чтобы вы столкнулись с крайней нуждой. Затем вы были ранены, и это послужило мне первым предупреждением. Я почувствовал, что Провидение повелевает мне прекратить осуществление моего замысла, и я до сих пор возношу хвалу Всевышнему за то, что вы остались живы. Иначе я считал бы себя вашим убийцей, и ничто не искупило бы этого греха. Впоследствии вы самостоятельно выбрали верный путь в жизни. Вы оправдали мои надежды. Вы стали дельным человеком и останетесь им впредь. Я знаю это.
Что касается вас, Максимилиан Моррель, вы тоже были выбраны мною для воплощения моих замыслов, и я занялся устройством вашей судьбы. Того, что она сложится столь драматично, я предположить не мог — моего дара предвидения для этого не хватило. Я лишь намеревался вывести вас из бездеятельности, пассивности, сделать вас активным приверженцем некой идеи, а поскольку ваше семейство традиционно исповедовало бонапартизм, эта идея иной быть не могла. Вам надлежало пострадать за нее, вы должны были посвятить ей всего себя без остатка, должны были покинуть Францию, еще раз испытать с Валентиной превратности судьбы. Осуществлению этого помешали случайности, которых я не мог предугадать, — вы впали в меланхолию, а Валентине только благодаря вмешательству Всевышнего удалось вырваться из лап отъявленного негодяя. Я признаю, дорогой Макс, что обошелся с вами крайне легкомысленно. Простите меня и знайте, что остаток своих дней я проведу в молитвах за ваше счастье и в раскаянии за собственные ошибки.
Не могу не сказать о человеке, которого нет среди нас сегодня, — об Альбере де Морсере. Его я тоже собирался привлечь к исполнению моих замыслов, и он должен был войти в число тех, на кого пал мой выбор. Но только он один смог противостоять моим намерениям, а его твердость и непреклонность расстроили мои планы. Мне пришлось отступить. И тем не менее именно он, Альбер, повинуясь воле Провидения и полагаясь только на собственные силы, осуществил самый сокровенный из моих замыслов. Он проник в Центральную Африку и занялся там распространением благ цивилизации. Да, история Альбера де Морсера весьма поучительна. Здесь божественное Провидение явило мне один из своих путей и показало всю тщету человеческих помыслов.
Скажу откровенно, судьба Вольфрама, душевная болезнь Морреля, успехи де Морсера, сумевшего воспротивиться моей воле, — все эти проявления Божьего гнева, может быть, и не заставили бы меня отказаться от этих планов, свернуть с избранного пути, если бы не одно событие, открывшее мне глаза на всю низменность моих поступков.
Когда я решил мстить Вильфору и Данглару, мне потребовался исполнитель моих замыслов. Случайно я узнал, что бывший приемный сын моего управляющего Бертуччо — внебрачный ребенок королевского прокурора и баронессы Данглар. Этого человека я и намеревался использовать в своих целях. К тому времен он уже стал закоренелым преступником и отбывал каторгу на галерах. Когда он совершил побег, я распорядился доставить его в Париж. Я выдал его за князя Кавальканти, свел с семейством Данглар и, дождавшись момента, когда он должен был связать себя узами брака с мадемуазель Эжени, велел арестовать его как убийцу, но лишь для того, чтобы раньше или позже он предстал перед королевским прокурором и публично заявил ему, что является его родным сыном.
Именно этому человеку — да, именно ему, в чью жизнь я вмешался самым решительным образом, — суждено было открыть мне глаза на безмерную греховность моей самонадеянности. За все, что он совершил впоследствии, отвечаю один только я. Ведь именно я освободил его с каторги, где он закончил бы свои дни, не представляя никакой угрозы для порядочных людей. Я ввел его в светское общество, я дал ему возможность губить других. Правда, в то время я считал, что правосудие воздаст ему по заслугам, но не удосужился обеспечить доказательства совершенного им убийства. Вскоре он убил свою мать. И это преступление тоже целиком на моей совести. Без меня он бы никогда больше не встретился с этой женщиной. Но этот человек вскоре осознал, что я вел с ним преступную игру, и у него зародилась мысль о мести, которую он и осуществил с поистине дьявольской хитростью и ловкостью. Тот, кого я некогда сделал игрушкой в своих руках, причинил мне неизбывную боль — отнял жизнь у моего сына. Сам того не ведая, он стал причиной моего прозренья, и, вместо того чтобы слать ему проклятья, я должен благословлять его. Он дал мне возможность осознать все мои ошибки, все мои заблуждения. Он заставил меня вновь вступить на путь смирения и покорности…
Граф опустил голову. В зале царила мертвая тишина. Справившись с охватившим его волнением, он продолжил свою исповедь:
— Друзья мои, наверное, вы больше не увидите меня. То, что я скажу сейчас, вероятно, последние слова, какие вы слышите из моих уст. Простите меня и молитесь за спасение моей души! Единственное, что мне осталось, и самое трудное — умиротворить небесные силы, те самые силы, которые я так прогневил. Присоедините свои молитвы к моим! Ваши души чисты — Всевышний услышит вас. Графа Монте-Кристо больше не существует, а Эдмон Дантес начнет новую жизнь, посвятив ее умиротворению Небесного Отца и раскаянию.
Граф умолк и, склонив голову, начал молиться. Все присутствующие последовали его примеру. Женщина в черном, которой, как уже давно догадался читатель, была Гайде, разразилась рыданиями.
Когда молящиеся вновь подняли глаза, ни Монте-Кристо, ни Гайде в зале уже не было.
XV. ЗАВЕЩАНИЕ
Чтобы окончательно прийти в себя после всего услышанного, собравшимся потребовалось несколько минут. Первым поднялся герцог, держа в руке какую-то бумагу, он вышел вперед и обратился к присутствующим:
— Наш общий друг, граф Монте-Кристо, поручил мне, пока вы не разъехались, познакомить вас с одним документом. Это завещание графа.
И он огласил текст завещания:
— «Я, нижеподписавшийся Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо, лорд Уилмор и лорд Хоуп, в присутствии нижеподписавшихся нотариусов, аббата Лагиде и герцога*** составил следующее завещание.
Вольфрам Бюхтинг и Тереза Бюхтинг, дети покойного Теодора Бюхтинга, получают двадцать пять миллионов франков каждый в английских, французских и североамериканских ценных бумагах. Хотя эта сумма не покрывает всей прибыли, которую я извлек за счет эксплуатации золотых рудников в Калифорнии, при ее назначении я исходил из того, что у их отца, господина Теодора Бюхтинга, при его ограниченных средствах не было бы возможности получить большую прибыль от разработки названных рудников со времени их открытия, поэтому я надеюсь, что господин Вольфрам Бюхтинг и госпожа Тереза Бюхтинг удовлетворятся вышеназванной суммой. Если госпожа Тереза Бюхтинг выйдет замуж за дона Лотарио де Толедо, она получит дополнительно пять миллионов франков в приданое.
Дон Лотарио де Толедо получает полную стоимость своей гасиенды в сумме триста восемьдесят тысяч долларов (поскольку двадцать тысяч долларов ему уже выплачены), а также десять миллионов франков в ценных бумагах. Кроме того, я завещаю ему свои владения на горе Желаний, но при условии, что он будет проводить там не менее трех месяцев в году и продолжит начатую мною деятельность. Мои соображения на этот счет изложены в документе, который передаст дону Лотарио герцог***.
Амелия де Морсер получает пять миллионов франков в ценных бумагах.
Такую же сумму получает капитан Максимилиан Мор-рель, во владении которого остаются, само собой разумеется, остров Монте-Кристо, замок в Трепоре и особняк на Елисейских Полях.
Такую же сумму, в пять миллионов франков, я завещаю мадемуазель Данглар. Герцог*** взял на себя труд от моего имени попросить ее простить меня за все страдания, какие я причинил ей ранее.
Двадцать пять миллионов франков я передаю в полное распоряжение Альбера де Морсера. Герцог*** и аббат Лагиде выплатят ему названную сумму полностью или частями, наличными или в ценных бумагах. Далее, эти лица изъявили готовность выполнить взятые мною ранее перед Альбером де Морсером обязательства, касающиеся поставок в Центральную Африку оружия, снаряжения и инструментов, а также подбора людей.
Сорок миллионов франков следует поделить между моими слугами. Бертуччо предназначается три части, Бертуа, Лорану и штурману яхты — по две части, приходящиеся на каждого из слуг в отдельности. Я решил, однако, что наличными каждый из них получит лишь пятую часть своей доли, да и то если пожелает. С оставшейся суммы, доверив ее надежному банкиру, они будут получать проценты. Если же они совершат заведомо дурной поступок, то лишатся как названных процентов, так и состояния в целом. Надеюсь, впрочем, что подобного не случится. Уверен, что они станут полезными членами общества. Герцог***, аббат Лагиде, Вольфрам Бюхтинг, дон Лотарио и Максимилиан Моррель должны опекать этих людей, помогая им занять достойное положение в обществе.
Остаток моего состояния, который приблизительно равен сумме всего отказанного по данному завещанию и в настоящее время не может быть исчислен с требуемой точностью, я передаю на те цели, к которым стремился всю жизнь, а именно на укрепление нравственности и утверждение основных заповедей христианства. Для этого аббату Лагиде, герцогу***, дону Лотарио, Вольфраму Бюхтингу, графу Аренбергу, капитану Моррелю и профессору Веделю надлежит учредить особый комитет, который должен собираться не реже одного раза в три года в Париже, Берлине и Лондоне. Этот комитет вправе распоряжаться доверенными ему суммами лишь при достижении полного единства мнений его членов и не должен выделять на достижение той или иной цели более двадцати миллионов. Управление означенными деньгами остается в руках герцога***, аббата Лагиде, а также банкира Натана из Нового Орлеана, которому следует открыть для этого филиал своего банка в Париже.
На этом я прощаюсь с моими друзьями. Пусть они сохранят обо мне добрую память и не забывают: я искренне верил, что творю добро, мои побуждения изначально были благими, и только потом, со временем их сменила преступная самонадеянность, граничащая со святотатством!
Да благословит Всевышний эту мою последнюю волю!
Эдмон Дантес.
Свидетели: герцог***, аббат Лагиде, Карро, нотариус, Виллар, нотариус».
Итак, господа, вы ознакомились с содержанием этого документа, — добавил герцог. — Каждого, кто упомянут в завещании, в самые ближайшие дни я жду у себя, чтобы обсудить подробности волеизъявления графа. Разумеется, вы вольны отказаться от его дара. Но в таком случае, смею вас уверить, вы поступите вопреки желанию графа и глубоко его огорчите. Он все детально обдумал. Не причиняйте же ему страданий, отвергая то, что предпринято им с самыми лучшими намерениями.
Герцог слегка наклонил голову, давая понять, что он закончил. Слушатели расходились медленно, не проронив ни слова. Да и кто из них был способен так быстро оценить все то, что ему довелось здесь услышать?
XVI. ЭПИЛОГ
Ратур Рабласи, он же господин де Вирей, напрасно пытался обелить себя с помощью очередных хитросплетений лжи и, оклеветав других, спасти свою жизнь. Улики против него были слишком весомы: для дачи показаний по его делу в суд были вызваны граф Аренберг, Тереза, дон Лотарио, барон д’Эпине, Эжени Данглар и прежде всего капитан Моррель и Валентина. В результате его вина, точнее, его тождество с разбойником и убийцей Этьеном Рабласи стало настолько очевидным, что присяжные единогласно вынесли ему смертный приговор.
Старый Данглар, по слухам, находился в Париже. Он и в самом деле был разыскан и привлечен к суду за мнимое банкротство и присвоение капиталов. Однако за душой у него не оказалось ни су, поэтому судебный процесс прекратили, а Данглара поместили в долговую тюрьму, где он вскоре и умер. Дочь его к этому времени уже успела покинуть Европу.
Впрочем, Эжени Данглар уехала не одна. Удивительная встреча с бароном д’Эпине положила начало все более крепнущей взаимной привязанности молодых людей. Эжени открыла барону свою душу, и он убедился, что она несравненно лучше, чем гласила молва, а ее отношения с Ратуром носили совершенно не тот характер, какой приписывало им общество. Эжени нашла во Франце достойнейшего человека. Что же касается барона, он вскоре обнаружил, что сердце Эжени — поистине кладезь сокровищ, способный сделать счастливым того, кто сумеет добиться ее благосклонности.
Барон принял решение оставить Европу и отправиться к своему приятелю Альберу де Морсеру. Он попросил руки Эжени и поинтересовался, не согласится ли она сопровождать его в Африку. Эжени была счастлива. Она и сама уже тяготилась сценической карьерой и собиралась вести уединенную жизнь. Предложение барона пришлось как нельзя более кстати, и она дала согласие со смешанным чувством благодарности и любви. В это время пришло известие, что граф Монте-Кристо завещал ей пять миллионов. Она приняла этот щедрый дар уже из одного только желания принести будущему супругу достойное приданое. Свадьба прошла скромно, и, после того как Франц завершил все приготовления, молодая чета выехала в Центральную Африку.
Семейство Моррель наслаждалось размеренной и счастливой жизнью в Париже и в своих прекрасных владениях на острове Монте-Кристо и в Трепоре. Вслед за маленьким Эдмоном у них родилась малютка Гайде, а потом крошка Эдуард, к которому был особенно привязан старый де Вильфор. Между этим семейством и семьями Вольфрама и дона Лотарио установились самые теплые, самые дружеские отношения. Когда все три семьи оказывались в Париже одновременно — что, надо сказать, случалось нечасто, — их встречи превращались в настоящие праздники, в которых, разумеется, принимали участие и Эмманюель и Жюли Эрбо.
Что до Вольфрама, неожиданно ставшего одним из самых богатых людей, его будущее было предметом длительных и обстоятельных обсуждений между доном Лотарио, графом Аренбергом, Амелией и Терезой, с участием, разумеется, самого Вольфрама. Оставаться ли ему с Амелией в Париже, когда дон Лотарио отправится в Америку? Разлучаться ли ему на такой долгий срок с сестрой и ее мужем, который стал его лучшим и единственным другом? Такое даже помыслить невозможно! В конце концов сошлись на том, что разлучаться не стоит.
Дон Лотарио и Тереза сыграли свадьбу. Свидетелями были граф Аренберг, герцог***, аббат Лагиде и Моррель. Затем обе молодые пары уехали на три месяца в Испанию. Было решено, что граф Аренберг тоже останется с ними навсегда. Он продал свои владения в Пруссии, но прежде усыновил дона Лотарио и, несмотря на его отговорки, настоял, чтобы приемный сын носил фамилию де Толедо-Аренберг. Настойчивость графа нетрудно было понять: он не имел детей и не мог допустить исчезновения своей фамилии. Дочь, родившуюся у дона Лотарио, граф сделал своей наследницей.
Каждый февраль семейства Бюхтинг и де Толедо, увеличившиеся со временем за счет появления новых членов, ездили в Калифорнию. Восстанавливать свою гасиенду дон Лотарио не стал, он отдал ее в аренду, а сам вместе с домочадцами поселился на горе Желаний.
Свою бывшую возлюбленную, донну Росальбу, он больше не видел. Он написал ее отцу, старику Рамиресу, и предложил за сто тысяч долларов купить его земли, но с условием, что Рамирес покинет эти края. Не долго думая, старик принял выгодное предложение и вместе с дочерью навсегда уехал из Калифорнии.
Все лето Лотарио и Вольфрам трудились над осуществлением планов, которые изложил в своем завещании граф Монте-Кристо. Они скупали плодородные земли и отдавали их в аренду, привлекали в эти места колонистов из Северной Америки, расширили колонию на горе Желаний и подняли развитие этого края до необычайно высокого уровня. Они также способствовали присоединению Калифорнии к Северной Америке, и дон Лотарио получил место и право голоса в сенате Соединенных Штатов.
Восстановили они и связи с мормонами. И тут нужно сказать, что доктора Уипки настигло наконец возмездие. Его застали с поличным, когда он пытался отравить Фортери, и едва не линчевали. Однако ему удалось избежать казни: он повесился в тюрьме.
В первые дни августа обе семьи возвращались в Европу; путешествие длилось недолго и проходило без приключений. В Париже они занимали прекрасные особняки на Бульварах, но больших приемов зимой не устраивали, вообще старались держаться подальше от денежных тузов, среди которых, если бы захотели, могли занять самые видные места. Вольфрам строил дома по собственным проектам, а дон Лотарио с головой ушел в изучение наук.
Кроме того, Вольфрам чрезвычайно увлекся политикой, но в отличие от своего друга Морреля не исповедовал бонапартизма — как и следовало ожидать, он сделался ярым республиканцем. Во время Февральской революции все уже было подготовлено к отъезду в Калифорнию, однако на этот раз Бюхтинг отпустил дона Лотарио и Терезу одних, сам же с Амелией остался в Париже. Он принял сторону генерала Кавеньяка, а когда президентом стал Луи Наполеон, не испытал такого удовлетворения, как Моррель. Вольфрам даже принадлежал к оппозиции, и только его богатство и, в сущности, ничтожное участие в практической политике спасли его во время государственного переворота от участи, которая постигла его друга Кавеньяка.
А что же Эдмон Дантес? Даже самые близкие его друзья, герцог*** и аббат Лагиде, почти ничего больше о нем не слышали и никогда его не видели. Вместе с Гайде он покинул Париж, облачившись в одеяние пилигрима.
Из своих сокровищ он оставил себе только ежегодную ренту в двадцать тысяч франков. Иначе говоря, стал беднее последнего из своих бывших слуг.
Он уехал в Триполи и оставил там Гайде. Сам же отправился в Центральную Африку к Морсеру и пробыл у него целый год, вернее сказать, предпринял за это время несколько продолжительных путешествий в глубинные районы, проповедуя идеи истинного христианства. Он был проповедником Божьей милостью в полном смысле этого слова, провозвестником изначального христианства. Тем более опечалило его неожиданное крушение созданной Альбером империи, которая вселяла такие радужные надежды. Тщеславный султан Али из рода Вадаи напал на нее со своим несметным войском. После победы коварного владыки Альберу с женой и матерью удалось бежать, а остальные находившиеся там европейцы были убиты. Не меньше огорчений пришлось испытать Эдмону Дантесу, когда он убедился, что и надежды, которые он возлагал на мормонов, оказались напрасными.
Позже о нем слышали на мысе Доброй Надежды и в Юго-Восточной Африке, а также в Новой Голландии и в Азии.
Спустя несколько лет некий французский капитан, прибывший из Сиднея, привез в Париж к старому герцогу*** мальчика лет двенадцати и письмо. Мальчик оказался сыном графа Монте-Кристо. Это был красивый, смышленый, чуткий ребенок, которому предстояло получить под присмотром герцога обычное европейское воспитание. Мальчик отличался редкой сообразительностью, но врачи опасались за его здоровье, поскольку он постоянно прихварывал. Он быстро подружился с юным Эдуардом Моррелем, и все друзья графа относились к нему с такой заботливостью и вниманием, словно он был гостем из другого мира. Мальчик рассказывал, что у него есть еще младшая сестра, которая осталась с матерью, и очень тосковал по обеим. Отца он видел редко, описывал его как очень серьезного, но чрезвычайно доброго человека. Отец был уже седой, его лицо избороздили глубокие морщины. О матери он отзывался как о воплощении красоты и нежности.
Аббат Лагиде вскоре умер. После его смерти герцог***, который вследствие этой утраты чувствовал себя очень одиноким, написал профессору Веделю, приглашая его переехать в Париж и предлагая ему почетную и прибыльную должность. Пауль Ведель ответил согласием и счастливо зажил со своей женой в Париже. Там Мария подарила ему первого ребенка.