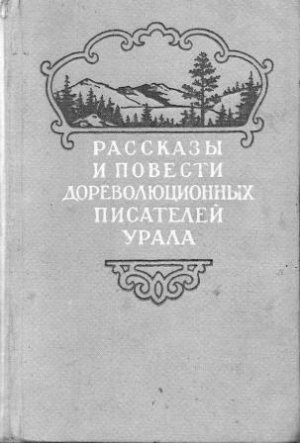
I
Славный весенний вечер. Солнце уже низко, и его теплые золотые лучи, пронизав густые ветви лип и берез, еще покрытых цветом, уперлись в стену большого бревенчатого здания, называемого конным двором. Лицевая сторона этого здания симметрично прорезана тремя широкими дверями, запиравшимися толстыми железными полосами и большими висячими замками. Одна из этих дверей была отворена, и перед ней, на рундуке из толстых брусьев, сидел старик и починял сапог.
Лицо старика все было покрыто множеством мелких морщинок, сильнее сгущавшихся у углов рта и глаз, и носило на себе отпечаток трудовой жизни, сопровождаемой заботами и лишениями. Небольшая курчавая бородка, в которой еще виднелись кой-где темные волоски, соединялась на висках с такими же волосами и резко отделялась от его открытой коричневой шеи. Глаза у него были небольшие, белесоватые, будто выцветшие от времени, но не совсем еще утратившие свою подвижность и выразительность. Кротко и любовно смотрели эти старческие глаза из-под седых бровей; терпение и благодушие выражалось в них и во всей фигуре небольшого, но крепкого и бодрого старика.
Он был в белой холщовой рубахе и таких же штанах, из-под которых высовывались широкие ступни пожелтевших и растрескавшихся ног. Какими-то безобразными наростами торчали ногти на пальцах ног, да и сами пальцы имели странную форму искривленных четырехугольников, несколько суженных у основания. Видно было, что не знавали эти мозолистые ноги другой обуви, кроме лаптей с баклушами, да разве изредка, в праздники только, обувались они в жесткие, точно из железа выкованные сапоги, подбитые чуть не вершковыми гвоздями, от которых остались глубокие знаки на толстых, покрытых мозолистыми наростами пятках.
И не один год служили эти сапоги своему хозяину, но, наконец, износились же и они. Сначала у одного сапога распоролся боковой сшивок. Помочил его старик, зашил и думал носить еще долгое время, как у другого сапога отпала подошва. Опять старик положил в воду свой сапог, приготовил крепкую дратву, выбрал острое шило и, вытащив сапог из воды, попробовал подошву шилом. Жестко, точно железный пласт. Уж, кажется бы, и острое шило, а не берет. Пришлось оставить сапог в воде до вечера, и только вечером мог он наконец приняться за свою работу. Приколачивая подошву, он плотно сжимает губы и наморщивает брови, точно думает прибавить этим силы своим неуклюжим, выпачканным в дегте пальцам, и щурит глаза, продевая дратву, и кряхтит, и стискивает зубы, стараясь продернуть ее с быстротою и ловкостью, свойственными коренным сапожникам.
Весь погружен он в свое занятие, и ничто не может отвлечь его внимания, кроме разве ржания застоявшихся жеребцов, смотреть за которыми была его обязанность. Уж несколько времени из лесу, с левой стороны от конного двора, слышна заунывная песня и потрескивание сухих веток, но старик не слышит их и не видит, как вышел из лесу молодой двадцатилетний парень в таком же наряде, какой был на старике, с тою только разницей, что голова парня была покрыта истасканной фуражкой, а ноги обуты в дырявые коты, привязанные у лодыжек толстыми шерстяными шнурками. Он подошел к старику и несколько времени молча стоял возле рундука, где сидел старик.
— Что, починил? — спросил парень, когда старик продернул дратву в последний раз, завязал ее узлом и отрезал.
— Починил, Гришенька, починил, — весело отозвался старик, поднимая голову и самодовольно поглядывая на парня, появление которого, повидимому, нисколько не удивило старика.
— Починил, — продолжал он, разглядывая свою работу, — теперь крепко будет, ни вовеки не отпорется, потому дратва во какая здоровенная!
И он показал концы своей здоровенной дратвы парню.
— У тебя что это коты-то, не распоролись ли? — добавил он, поглядывая на ноги парню. — Давай подошью, во и дратва осталась.
— Не, это дыра; лопнули, значит. Не стоит починять, потому худы очень. Так только в лес надел, чтобы ног не кололо.
Говоря это, парень поднял свою ногу и подставил ее чуть ли не к самому носу старика. Тот посмотрел и, увидев, что действительно починять не стоит, стал убирать шило и дратву.
— А где серуха ходит? — спросил старик, вставая и подходя к отворенной двери.
— Здесь, недалеко, — ответил парень, — слышь, побрякивает? Это она.
— Ты разве брякунцы на нее навязал?
— Навязал, потому больно она лукава, без брякунцов ее и не сыщешь; затянется в самую глушь, да и стоит — не ворохнётся, только ушами прядёт; я это сколько места оббегал, искал ее, а она тут и есть — у Лысой горы ходит.
— А игренько где? — продолжал спрашивать старик.
— Игренько, во тут, у озерка.
И парень показал рукой, где ходит игренько.
Старик опять уселся на прежнее место и снова принялся рассматривать и разглаживать рукой починенный сапог. Налюбовавшись своей работой, старик поставил сапог возле себя, поглядел искоса на парня, как-то особенно сжал губы, будто собираясь заговорить, и опять искоса взглянул на своего собеседника. Тот упорно глядел в землю; его молодое красивое лицо было озабочено какой-то неприятной думой, густые прямые брови нахмурились, широкий лоб наморщился. Он глубоко вздохнул, тряхнул головой, снял свою истасканную фуражку и сильно почесал свои густые русые волосы.
— Что вздыхаешь тяжело? — спросил старик опять, с участием поглядывая на парня. — Скажи-ка, об чем?.
— Да что сказать-то? Все я о том думаю, как бы мне из подконюшенников отпроситься; больно уж это мне не по нутру.
— Ну, ты потерпи маленько.
— И рад бы потерпеть, да коли терпенья нет, так что ты пособишь, — с досадой сказал парень, сердито тряхнув головой. — И ты сам посуди, дедушка Савелий, — продолжал он, оборачиваясь к старику, — что сколько я здесь ни живи, ничего путного не выживу. Вот пятый месяц пошел, как я здесь, а котов купить не на что: плата больно малая; опять же и от работы я здесь отвыкну. А мне теперича во как робить надо, я теперь только в силу вхожу и должен учиться робить. Ведь как бы я хорошенько-то начал робить, может, скоро бы подмастерьем стал, а здесь что я выживу? Одежды завести не на что. Коло дому что поладить — время нет, потому завсегда при тебе должен быть, дома почти что и не бываю.
— Ты бы к Василью Миколаичу сходил, отпросился бы, — сказал ему на это старик и поглядел на него искоса.
Парня будто передернуло при этом имени; он насупился пуще прежнего. Кулаки его здоровых хорошо сложенных рук сжались; он обернулся к дедушке Савелию и поглядел ему в лицо.
— Гостинцу бы ему снес, — прибавил дедушка Савелий, спокойно встретив его сверкающий взгляд.
— Ты подумай, дедушка Савелий, что ты говоришь, — тихо заговорил парень, опуская глаза и, видимо, стараясь побороть в себе мгновенно вспыхнувшее чувство раздражения и злобы. — Рассуди ты, что я ему снесу? Ежели нести какой гостинец, так надо нести хороший, а я где возьму? Опять же и то посуди, что он меня не любит, и, значит, все едино, хошь неси, хошь не неси.
— Не любит за дело, — сказал на это дедушка Савелий. — Зачем ты согрубил ему? Не знаешь ты того, что тебе за это, может, всю жизнь терпеть причтется? Я Василья Миколаича знаю: он грубости ни в ком стерпеть не может — такой уж у него нрав крутой; он и своему брату не спустит, а ты что против него? Щенок, углан, а туда же, начальству грубость оказывать смеешь. Ты должен это завсегда помнить, что начальству грубить нельзя; хоша бы он и пьяный был тогда, а ты все должен себя от грубости удержать. Потому с пьяным и со своим братом связываться не надо, а ты, вишь, с начальством спорить стал! Как это можно? И добро бы ты за сестру свою заступился, а то за чужую девку. Да он тебе этого и вовек не забудет — вот помяни мое слово; я его всю природу знаю, и отца его, и брата, все они такие злопамятные.
Старик покачал головой, сострадательно и вместе с тем укоризненно поглядывая на парня. У того попрежнему был наморщен лоб, сжаты кулаки и стиснуты зубы; в глазах сверкала непримиримая, упорная ненависть. Он молчал.
— Покорись, парень, — заговорил опять старик, — послушайся меня, я те не на худо учу, пади в ноги, может, и простил бы. Эка штука, что хмельной приказчик к вам на вечорку заехал да стал с девками заигрывать. Это и завсегда так бывало, чего тут есть худого? Ничего нету. Потому, коли какая девка себя смирно ведет, так тут что хошь делай, ничем не возьмешь.
— А зачем он рукам больно много воли давал? — процедил парень сквозь зубы.
— Какую же такую волю он рукам давал? Разве похлопал девок маленько, на колени к себе посадил? Так что ж тут такого худого? Разве они с вашим братом не дурят? Не так еще дурят!
— Ты, дедушка, на вечорке этой не был и про дело это, стало быть, не знаешь, — сердито сказал парень, еще более рассерженный укорами старика.
— Ну, как не знать, знаю тоже; Грунька-то, кажись, мне внучкой доводится, — сказал старик, медленно поднимаясь с места, и, поглаживая поясницу, пошел в конюшню. В дверях он остановился и прибавил:
— Ведь хмель его всему причиной был! Кабы не хмелен он был, так поехал ли бы к мастеровому мужику на вечорку? Ты посуди, голова.
И старик опять сострадательно покачал головой, глядя на парня.
— Пойдем-ка, брат, время уж лошадей на водопой выводить, — прибавил он, видя, что парень молчит и не трогается с места.
— Ишь, хмелен был, так и спускай ему все! — с сердцем молвил парень. — Тешатся они нами, кровопивцы, вот словно мы и не люди.
II
Но дедушка Савелий уже ушел в конюшню и не слыхал этих слов. Из лесу послышался свист, затрещали сухие сучья, и к конюшне подошел другой парень, несколько моложе первого; он вел в поводу славную вороную кобылу.
— Где поймал? — спросил старик, выглядывая из конюшни.
— Да уж за изгородью поймал, почитай что около однодворки был, там и поймал.
— Ишь, куда ее унесло! — удивился старик. — Ставь в стойло.
Парень завел лошадь в конюшню.
— А ты с чего туда кинулся искать-то ее? — продолжал расспрашивать старик. — Я думал, что ты к Круглому пойдешь.
— Я к Круглому и пошел, да мужик в лесу дрова рубил, так сказал, что видел ее около однодворки. Я туда и кинулся. Кабы не мужик этот, ни за что бы не найти, понапрасну пробегал бы только.
— Около однодворки, бают, медведица ходит страшенная, — продолжал рассказывать парень, поставив лошадь и помогая старику обуздать рыжего жеребца, ржавшего и скакавшего в стойле. — Тереха бает, что у Луки Веселого телушку задрала третьего дня.
— А ты где Тереху видел? — спросил старик.
— А я по верхней дороге шел, мимо кирпичного сарая, там и видел. Приказчик там верхом приехал; надо быть, сюда будет.
— Будет, так стану мужика из поторжных просить себе в подмогу, — сказал старик, — потому с вами мне не справиться, коли за грехи медведь к нам пожалует. Гляди, третьего дня у нас этот сокол-от в лесу ночевал, — прибавил он, хлопнув рыжего по холке, — да и игренько тоже.
— Беда! Уж мы судили это с Терехой. Помнишь, в запрошлом году карька медведь заел? Какая лошадь была сильнеющая, а вот не могла же убежать! — судил парень, накидывая веревочную петлю на шею рыжку и помогая старику выпятить его из стойла.
Кое-как удалось им вывести храпевшего жеребца из стойла; тот из дверей вскачь бросился к пруду. Старик и парень крепко ухватились — один за веревку, другой за узду — и поволоклись за ним, едва успевая перебирать ногами. Первый парень между тем вывел других двух, более смирных жеребцов и тоже пошел вслед за ними. Едва успел старик напоить и привести обратно в стойло своего рыжего соколика, как из лесу, справа от конюшни, послышался конский топот, и скоро к конюшне подъехал верхом на сивой лошади мужчина лет тридцати с небольшим, очень смуглый, с черными глазами и волосами. На нем был коричневый сюртук и круглая поярковая шляпа. В руке он держал крепкую казацкую нагайку. Завидев его, дедушка Савелий поспешно выскочил из конюшни и низко поклонился.
— Ну что, старик, все ли в порядке? — спросил приехавший.
— Все в порядке, батюшка Василий Миколаич, — заговорил старик, складывая руки на груди и подходя поближе к лошади. — Вот только вороная кобыла сегодня из поскотины выскочила, да Тимка поймал; мужики его наткнули, он и нашел. Теперь в стойло поставили.
Василий Николаевич вынул из кармана папироску и закурил.
— Не будет ли вашей милости, — заговорил старик робко, — нарядить к нам мужика из поторжных на подмогу, потому я один с конями справиться не могу, стар стал, а ребята — подконюшенники молоды, опять же и не свычны. Тимка еще-таки попривычнее, потому сызмальства в подконюшенниках живет, а вот Гришка — так совсем не свычен к этому делу.
— А ты приучай, — пропустил Василий Николаевич с клубом дыма и как-то подозрительно взглянул на старика.
Тот переступил с ноги на ногу и опять заговорил: — Я стараюсь, батюшка Василий Миколаич, сколько сил моих есть, одначе все мне одному с ними боязно здесь, потому, сказывают, медведь около однодворки ходит. Беда, коли до нас доберется.
— А вы к ночи лошадей в конюшню загоняйте, — ответил на это Василий Николаевич, бросая докуренную папироску. — А работника с поторжной я вам дать не могу. И так вас тут трое, этого довольно.
— Ваша воля, Василий Миколаич, как угодно. Я потому молвил, что как теперича у меня сила худая, годы мои старые, да окромя того я и увечья от этих лошадей много принял, не одинова у смерти бывал, так теперь желательно бы помощника себе поопытнее иметь. Нельзя ли, батюшка Василий Миколаич?
И старик поклонился низко, придавая глазам и лицу просящее, чуть не слезливое выражение.
— Полно врать! Какого тебе помощника надо? — сказал Василий Николаевич, поворачивая лошадь. — Вот Гришку и приучай: парень бойкий; слушает ли он тебя?
— Как не слушать, батюшка Василий Миколаич, завсегда слушает, — торопливо заговорил старик, идя рядом с лошадью приказчика, который шажком поехал к лесу.
— Ну, то-то, смотри за ними, чтобы они даром не жили, — говорил приказчик, похлестывая нагайкой по ветвям лип, отчего его сивая лошадь вздрагивала и пугливо косила по сторонам. — Да я вот пошлю завтра жердей, так ты вели изгородь, где низка, поправить, поднять повыше, чтоб лошади из поскотины не выскакивали, да подконюшеиников ночевать домой не отпускай — пусть при тебе будут безотлучно.
— Слушаю, батюшка Василий Миколаич, слушаю, — говорил старик, пускаясь бежать вприпрыжку за побежавшей рысью лошадью.
— А работника я вам дать не могу, — добавил Василий Николаевич, делая старику знак, чтобы он возвратился к конюшне.
Пока старик объяснялся с приказчиком, парни разговорились.
— Дунька сказывала мне, — говорил младший парень, — что Груньку на работу выписали кирпич делать, тысячи две, бает, написали на нее.
— Неужели? — встревоженно удивился Гриша.
— Право, я Дуньку видел, мимо сарая шел. Сказывает, что и нарядчик уже сегодня ездил наряжать, да она не пошла; отпрашиваться, надо быть, хочет.
Гриша молчал.
— Ну, ребята, теперь надо игренька и серуху загонять на ночь в конюшню, в лесу-то боязно оставлять их, — сказал старик, подходя к парням. — Пойдемте-ка вместе, я только лапти обую.
— Я, дедушка Савелий, хотел было домой бежать, — заговорил Гриша недовольным тоном. — Ты ведь сулился меня ночевать отпустить.
— Не, брат, ночевать нельзя; приказчик не велел вас домой отпускать на ночь, бает, здесь чтобы всем спать. Я было зачинал ему баять, что ты около лошадей не свычен, чтобы кого ни на есть другого мне дали в подмогу, кто поопытнее, да он и думать не велел — тебя велит приучать. Значит, тебе уж отсель не вырваться, — говорил Савелий, глядя на сердитое лицо Гриши с участием и сожалением.
Тот плюнул, накинул пониток[1] и пошел в лес выгонять игренька и серуху. При входе в лес, однако, он остановился и подождал Савелия.
— Ты хоша ненадолго меня отпусти домой сбегать по хлеб, — сказал он, когда старик подошел к нему.
— Ну, ступай, по хлеб сбегай, да и мне принеси хлеба: у меня тоже мало; да вели молодушке бурак браги налить.
— Ладно, я живо слетаю, а ты с Тимкой загонишь игренька-то, он тут недалеко ходит.
И Гриша быстро поворотил на тропинку, по которой недавно уехал приказчик. Старик поглядел ему вослед с грустной улыбкой.
III
Описанные сценки, как уже сказано, происходили около конного двора, построенного в трех верстах от завода Кумора, в том самом месте, где глубокий куморский пруд значительно суживается и становится похожим более на речку, чем на пруд. И конный двор, и завод Кумор, построенный на реке Куморке, и богатая лесом куморская дача с громадными сосновыми борами, тянувшимися на многие десятки верст, принадлежали одному богачу-помещику, владевшему в разных уездах П-ской губернии еще несколькими другими заводами с железными рудниками, лесными дачами и двадцатью тысячами крестьян, из которых половина была приписана к заводам и работала на чугуноплавильных и железоделательных фабриках помещика. Главное управление всеми заводами было поручено вольноотпущенному того же помещика, бывшему дворовому человеку, который жил в самом большом по производительности и населению заводе, называемом Кужгортом и отстоявшем от Кумора верстах в шестидесяти. Сам помещик никогда не жил в своем имении, хотя и посещал его раз в тридцать лет на короткое время, а жил в Петербурге или в Москве, где у него были свои дома и при них особые конторы, которыми заведовал другой управляющий, тоже из его бывших крепостных дворовых людей. Управляющий этот, уже давно отпущенный на волю, хотя и записался в купцы, попрежнему оставался на службе у своего бывшего барина, был его правой рукой и служил посредником между ним и управляющим заводами. От управляющего заводами он принимал донесения, рапорты и отчеты о делах заводов и докладывал их на рассмотрение помещику.
Управляющий имением хотя и был до некоторой степени в зависимости от московского управляющего, но все-таки имел много власти и, почти бесконтрольно распоряжаясь на заводах своего доверителя, имел огромный вес в губернии, был хороший знакомый губернатора и оказывал даже некоторое влияние на дела губернии. Например, на места исправников и становых назначались только те лица, которых управляющий надеялся иметь у себя в вассальных отношениях. Что же касается помещичьих людей, состоявших под его непосредственным ведением, то все они вполне находились в его власти, трепетали и дрожали перед управляющим больше, чем перед самим помещиком. Заведование всеми другими заводами поручено было приказчикам из дворовых людей того же помещика, называвшихся служителями и состоявших в ведении управляющего. Обязанности приказчиков состояли в надзоре за исправным действием фабрик, за порядком и повиновением работающих на фабрике мастеровых, за выделкой железа возможно лучшего качества и в возможно большем количестве, а также в заведовании делами контор, которые были во всех заводах. Они же обязаны были наблюдать за правильной рубкой дров и своевременным выжигом и доставкой необходимого для действия фабрик количества угля. За исполнение всех этих обязанностей приказчики получали значительные по-тогдашнему денежные жалованья, жили в господских домах, ездили на господских лошадях, держали при себе большую прислугу и имели так много власти, что подчиненный им народ относился к ним с таким же раболепием и страхом, как и к управляющему. Некоторые из приказчиков сверх курса приходского училища, содержимого помещиком в заводе Кужгорте, были посылаемы им для окончательного образования в Петербург, в горнозаводскую школу графини С-вой, где обучались геогнозии, минералогии, геометрии, алгебре и лесоводству.
Приказчик завода Кумора, Василий Николаевич Чижов, с которым читатель уже несколько знаком, принадлежал к числу обучавшихся в горнозаводской школе и хотя давно уже кончил в ней курс, но приказчиком в Кумор поступил только за два года до начала этого рассказа. Чижов не пользовался расположением бывшего в то время старика-управляющего за свободный по-тогдашнему образ мыслей и за суровый, неуступчивый характер, в котором было слишком мало раболепства и низкопоклонничества. Чижов не умел ни льстить там, где это было нужно, ни кланяться с выражением подобострастия на лице, ни наушничать на своих сослуживцев, и если иногда унижался до подобных дел, то делал их так неискусно и с таким нехорошим выражением лица, что за одно уж это выражение состоял на счету людей подозрительных, недостойных доверия начальства. Кроме того, еще за Василием Николаевичем водился порок, строго преследуемый стариком-управляющим, ведшим весьма воздержанную жизнь: он пил запоем. Запивал он обыкновенно после каких-нибудь неприятностей по службе, после сделанной подлости, на которую был вынужден обстоятельствами, после ссоры с своим товарищем по службе, вторым куморским приказчиком Ермаковым, стремившимся захватить в свои руки всю власть, которую они до сих пор делили пополам, и после резких выговоров из управления, которые Чижов в последнее время получал все чаще и чаще.
В семейной жизни Василий Николаевич тоже не был счастлив. Женился он на дочери бывшей горничной помещика, проживавшей на пенсии в одном из заводов, по приезде своем из Петербурга, и скоро увидел свою ошибку. Анна Васильевна, его жена, была пустая, бесхарактерная женщина, не получившая никакого образования и чванившаяся перед другими своими изящными манерами и уменьем к лицу одеваться. Горько пожалел Василий Николаевич о том, что связал свою судьбу с такой женщиной, и часто, особенно после вспышек гнева, чувствовал себя до того несчастным, что впадал в хандру и уныние, продолжавшиеся иногда целые недели и кончавшиеся обыкновенно сильнейшим кутежом. Случалось также, что Василий Николаевич искал развлечения и в интрижках с заводскими девками и женами служащих в конторе. В гневе Василий Николаевич часто не помнил себя, и много народу плакалось на него за наносимые им в сердитый час увечья. Несмотря на все это, Василий Николаевич был самый умный, самый развитый по-тогдашнему и даже самый честный человек из всех своих товарищей, и несправедливое предпочтение, которое оказывал им управляющий, жестоко оскорбляло и возмущало его строптивую душу.
Долгое время добивался он места приказчика, подчиняясь людям, стоявшим гораздо ниже его по умственному и нравственному развитию, наконец, достиг этого места, но держался на нем на волоске. Лишиться места приказчика считалось и было в самом деле большим несчастьем. Кроме страха лишиться места, строптивость Василия Николаевича укрощало еще и то обстоятельство, что он не имел ни наследственного, ни благоприобретенного, а жить любил на широкую барскую ногу и не только проживал все свое жалованье, но даже состоял всегда в долгу у помещика на довольно значительную по-тогдашнему сумму. К распложению долгов Василия Николаевича много способствовали затеи его жены, ее незнание практической жизни и неумение ни за что взяться, кроме вышивания по канве затейливых узоров.
Тяжело жилось Василию Николаевичу всегда, но в 185…. году ему жилось особенно тяжело. Замечания и выговоры от управляющего получались беспрестанно, а в последнем предписании, полученном Василием Николаевичем в тот день, по вечеру которого он был на конном дворе, грозили даже донести на него заводовладельцу, а такое донесение влекло за собою непременное лишение места, и хорошо если только лишение места, а то могли быть и другие, гораздо худшие последствия. Все благосостояние крепостного, как известно, вполне зависело от воли и усмотрения помещика. Он мог отдать его в солдаты, сослать на поселение, заставить работать в своих рудниках. Самая меньшая мера наказания состояла в разжаловании из приказчиков в рядовые служители, обязанности которых состояли в развозе почты между заводами и оказании услуг всякого рода управляющему, его помощникам, приказчикам и всем начальствующим лицам. Содержание, получаемое рядовыми, было самое ничтожное. Всем этим наказаниям Чижов мог подвергнуться по одному донесению управляющего, хотя бы и самому несправедливому, и не мог на него никуда апеллировать, так как апелляция считалась только усугубляющим обстоятельством. Обо всех этих наказаниях Чижов думал в тот вечер, когда возвращался с конного двора, и ни одному из них не хотела подчиниться его строптивая натура; он порешил избежать их всех непременно, избежать во что бы то ни стало. На первый раз он решился выразить смирение и написать управляющему письмо в самых униженных и льстивых выражениях, просить у него прощения и обещать быть вперед более исправным и преданным слугой.
«Хорошо бы было послать ему при письме живого осетра или пудик свежего меду, да негде взять теперь, — думал Чижов. — Напишу так, а взятку пошлю после», — решил он, принуждая свою лошадь перескочить высокую изгородь, которой была обнесена поскотина при конном дворе, и пуская ее галопом по дорожке, огибавшей косогор над прудом, к самой куморской конторе, помещавшейся вместе с больницей в большом каменном доме. У конторы он слез с лошади и, сдав ее рассыльному мальчику, ушел в контору, заперся в особенной комнатке, называвшейся присутствием, и стал сочинять свое просительное письмо.
Когда через час после этого он вышел из конторы, лицо его было мрачно и пасмурно, но не сердито, а скорее печально.
— Пошлите сказать служителю, чтобы готовился ехать в Кужгорт, да скажите Ермакову, что я посылаю нарочного, так, не имеет ли он чего-нибудь отправить, — сказал Василий Николаевич, проходя через контору.
— Слушаю-с, — было почтительным ответом конторщика, вскочившего на ноги при входе Чижова.
— Рапорты прикажете отправить? — сказал он уже вслед уходившему Чижову.
— Отправляйте да спросите у Ермакова, нет ли у него к отправке нужных бумаг, — еще раз повторил Чижов и вышел.
IV
Было уже часов десять вечера, когда Гриша подбежал к конторе и, вместо того чтобы идти вправо от нее, в верхнюю улицу к своему дому, повернул налево, миновав дом Чижова, спустился к плотине и, оставляя влево фабрики, побежал по берегу речки, по-за огородам, примыкавшим к домам обывателей. У одного из таких огородов он остановился и заглянул в отворенную калиточку, выходившую на реку: молодая красивая девка с русой косой торопливо поливала капусту. Увидев ее, Гриша осмотрелся кругом и, удостоверившись, что никого нет около, вошел в огород.
— Бог в помочь, Грунюшка, — сказал он, остановившись перед девкой и снимая шапку.
Та вздрогнула и подняла на него ясные серые глаза, в которых выразилось радостное изумление.
— Ах ты, окаянный! Почему ты сюда полез? — заговорила она, весело улыбаясь. — Как это ты подкрался, вор? Я и не слыхала.
— Задумавшись больно была. О чем это ты так задумалась? — спросил Гриша.
— Известно о чем, все об тебе да об твоих речах, — оказала девка, оставляя ведро с водой и подходя к Грише.
— А что об моих речах думать? Худого в них ничего нету, — ответил тот, устремив на нее свои серьезные, умные глаза с выражением какой-то грустной нежности.
— Потому-то и думаю об них, что худого в них ничего нету, — ответила на это девка. — Стала бы я об них думать, кабы в них что худое было!
— А я думал, ты о том задумалась, что на работу тебя выписали?
— А ты от кого слышал, что меня на работу выписали?
— От Тимки. Он бает, что и нарядчик уж был к вам наряжать тебя.
— Был сегодня, да я не пошла. Завтра мать хочет идти отпрашивать к Чижову, гостинцы хочет нести.
— Не примет ведь, варнак этакой. Это он по насердке тебя написал в регис[2], беспременно по насердке, — сказал Гриша угрюмо.
— Не доймет он меня этим, — сказала Груня с энергическим жестом. — Невелика беда, две тысячи кирпичей вытоптать. Все другие девки такие же, как я, да робят тоже; пойду и я.
— Так-то так, да все жалко мне тебя, Грунюшка, — заговорил Гриша, придвигаясь к Груне поближе и ласково заглядывая ей в глаза. — Кабы моя была воля да сила, откупил бы я тебя от всякой работы, посадил бы за стеклышко да только поглядывал, и то еще не каждый день, а только по праздникам.
Груня засмеялась.
— Ты бы спросил прежде, еще сяду ли я? — сказала она. — Не из таких я, кои за стеклами-то сидят.
— А все мне тебя жалко, — продолжал Гриша тем же ласковым и грустным тоном. — Ноги ты свои должна в глину до колен увязить, и целый день должна ты месить ее. Вот попробуешь, узнаешь, каково это легко. У меня мать прежде каждый год по две тысячи вытаптывала. Бывало, голосом завоет, как придет домой-то, ногам-то места избрать не может.
— Ну, мне легче будет, потому я девка, — ответила на это Груня. — Бабам, известно, завсегда уж робить тяжелее, чем девкам.
— Это все едино: что девкам, что бабам робить, потому, тут нужна сила, а у вас какая сила? Вот как увязишь ноги-то в глине да не сможешь вытащить, тогда что будет? — пошутил Гриша.
— Эк что выдумал! Ног не смогу вытащить! Да ты с чего меня за такую худосильную считаешь? Хошь, я те на землю брошу?
И Груня, неожиданно обхватив своего собеседника обеими руками, старалась побороть его, но Гриша устоял и сам, обняв ее за талию, крепко прижал к сердцу.
— Пусти, пусти, — ветревоженно заговорила Груня, отбиваясь от него и отворачивая лицо, на которое сыпались горячие поцелуи. — Что ты делаешь? Ну беда ведь, коли кто увидит, ночи светлые.
— Полно, не бойся, кому видеть, все уж давно спят, и чего ты боишься? Ведь я-то поцелую только, не убудет ведь тебя. Во как я люблю тебя, Грунюшка, во как!
И он все крепче жал ее к своей груди, все горячее целовал.
За огородом послышалось хихиканье; Гриша поспешно выпустил свою подругу и присел на межу, а она подбежала к плетню и выглянула в калитку. За огородом скакал на одной ноге кудрявый мальчишка лет девяти и смеялся.
— Ты чего по-за огородами-то шныряешь, постреленок? — закричала на него Груня. — Разве не слыхал, что мать ужинать звала?
— Слыхал.
— А слыхал, так что ж нейдешь?
— А ты что нейдешь? — переспросил мальчик.
— Да видишь, капусту поливаю, полью, так и пойду.
Мальчик опять громко засмеялся и, показав Груне кукиш, убежал на берег и стал бросать гальки в воду.
— Вишь, постреленок, напужал до смерти! — говорила Груня, возвратясь к Грише, все еще сидевшему на меже. — Я думала, и нивесть кто идет, а то Митька-углан шныряет, как заяц.
— Смотри, он скажет твоим-то!
— Не, не скажет, не велю. А ты чего тут сидишь? Убирайся-ка домой, пора уж.
— Рано еще, Грунюшка, сядь, посидим маленько, побаем, еще ничего не баяли. Может, долго не видаться, потому мне безотлучно велено на конюшне быть.
— Ну ладно, ино сяду. Только, чур, не озорничать, рукам воли не давать, — уговаривалась Груня, садясь возле него на межу.
— Да ведь сама же ты зачин сделала, — сказал ей на это Гриша, улыбаясь. — Я бы сам собой не смел.
— Вишь, какой несмелый! А тебе кто сказал, что меня на работу выписали? — круто поворотила Груня разговор.
— Сказал я, что от Тимки слышал.
— А Тимка от кого?
— Ему Дунька сказала. Он ее под сараем видел.
— А она тоже робит?
— Робит, третий день уж робит.
— Ну вот, видишь, она со мной одногодка, а ее тоже робить выгнали, значит, и меня уж не ослободят.
— Тебя бы ослободить можно, потому ты одна дочь, а у Дуньки две сестры уж с нее же. Не ослободит он тебя разе по насердке только, — сказал на это Гриша задумчиво.
Несколько времени они оба молчали.
— Станет он ездить там — смотреть, как ты в глине-то топтаться будешь, — заговорил опять Гриша, — будет на тебя кричать, командовать над тобой.
— А что ему надо мной командовать, коли я во всем буду исправна? Небось, я в обиду не дамся.
— Охо-хо, Грунюшка, больно мне тебя жалко. Когда уж это осень-то придет: по осени я тебя беспременно сватать буду. Вот разве не отдадут тебя за меня.
— Отдадут, беспременно отдадут, — отвечала на это Груня уверенным тоном.
Заскрипела верхняя дверь, которая вела в огород из двора, и испуганная Груня поспешно вскочила и схватила ведра, а Гриша шмыгнул в калитку и бегом пустился по тропинке под огородом. В огород вошла сырая, приземистая баба с простоватым широким лицом. Это была мать Груни.
— Грунька! — крикнула она, остановившись у дверей. — Что ты долго домой-то не идешь? Вот уж ночь на дворе-то, отец ругается.
— Я капусту поливала, — отвечала Груня, — сейчас буду, вот только Митьку позову, он под огородом бегает.
— Ах он, постреленок! А я его на улице смекаю. Тащи его, углана, домой, давно уж спать пора.
И баба вышла из огорода.
— Митька! Ступай домой! — крикнула Груня, перегнувшись через плетень и встревоженно оглядывая берег.
Никого не было видно, Гриша уж успел повернуть в переулок; в соседних огородах тоже все было тихо. Только Митька рылся в песке, собирая раковины, занесенные в большую воду с Камы. Груня успокоилась и опять закричала:
— Бежи скорее, постреленок! Мать зовет.
— Иду, — отозвался, наконец, мальчишка и, высыпав раковины, вприпрыжку пустился к огороду.
— Что ты долго бегаешь, полуночник? Давно уж спать пора, — ворчала Груня, запирая за братишкой калитку.
— А ты не ворчи, не то я мамке нажалуюсь, — огрызнулся Митька.
— Чего нажалуешься? Чего? Ну-ка, скажи!
— А то и нажалуюсь, что у тебя Гришка Косатченок был.
И Митька, отскочив от сестры, подразнил ее языком и пустился бежать к дому.
— Ах ты, утлая, вострошарый! — вскрикнула Груня, бросаясь за ним. У ворот во двор ей удалось схватить его в руки, и она проговорила, запыхавшись:
— Только смей матери сказать! Я тебе такую волосянку дам, что вовеки не забудешь.
— Пусти! — вырывался Митька. — Пусти, не то мамке нажалуюсь, задень только, беспременно нажалуюсь.
И в голосе Митьки послышались слезы, он начал хныкать.
— Полно, дурак! Я тебя не трону, только ты мамке не смей пикнуть, я тебе за это пряник дам.
Лицо мальчика просияло.
— Когда дашь?
— Завтра дам.
— А не обманешь?
— Зачем обманывать? Беспременно дам.
— Ну, ладно, я ино не скажу.
— Не сказывай, Митька, пойдем домой, я тебе молочка похлебать принесу.
И сестра и брат, примирившись, ушли из огорода.
V
В тот же вечер у себя в доме мастер куморской кричной фабрики[3] Сергей Ларионов Набатов, коренастый сорокапятилетний мужчина с суровым, загорелым лицом, обложенным густой, уже наполовину поседелой бородой, производил расправу над своей дочерью, молодой семнадцатилетней девкой Натальей: колотил ее своими тяжелыми мозолистыми кулаками по спине и голове, таскал за косу и приговаривал, задыхаясь от ярости:
— Я тебя выучу, подлая рожа, развратничать! Я тебя в гроб вколочу! С живой шкуру сдеру, а стыда терпеть через твои поганые шары не буду!
В азарт вошел Сергей Ларионов. Глаза у него налились кровью, стиснутые зубы скрипели, на посиневших губах выступила пена.
Девка только стонала тяжелыми грудными стонами и даже не пробовала отбиваться. Лицо у нее было в крови, кровавые пятна виднелись на полу. Не слыхал Набатов торопливых шагов в сенях и не видал, как отворилась дверь в избу и сосед его, Тимофей Рясов, высокий русобородый мужик, торопливо вошел в избу и остановился у дверей, пораженный ужасом. Сергей Ларионов только тогда почувствовал присутствие третьего лица в своей избе, когда пришедший захватил ему руки и сказал, стараясь оттащить его от полумертвой девки:
— Полно, Сергей Ларивоныч, перестань, ведь ты ее изуродуешь.
— Не тронь! — заревел Набатов, вырываясь из сильных рук Тимофея Рясова. — Я ее убью, я ее живую из избы не выпущу!
— Ну, убить ты ее не убьешь, а изуродовать можешь. Только не дам я тебе этого греха на душу взять, — говорил Рясов, обхватив Сергея Ларионова и стараясь посадить его на лавку, что и удалось ему после недолгой борьбы.
Девка между тем, пользуясь свободой и руководимая чувством самосохранения, поползла к двери.
— Куда ты, бесстыжая? — закричал Сергей Ларионов и опять рванулся к двери.
Но Тимофей Рясов удержал его, и девка выползла в сени. Когда предмет гнева Сергея Ларионова скрылся от него с глаз, самый гнев его стал утихать. Он сидел на лавке, опустив голову, и тяжело дышал. На нем был накинут пониток сверх пестрой холщовой рубахи и кожаного запона[4]; порыжелая поярковая шапка валялась на полу. Видно было, что Набатов или только что пришел с работы, или собирался идти на работу.
— Не дело ты делаешь, Сергей Ларивоныч, — заговорил мужик, притворив дверь за уползшей девкой и не спуская глаз с Набатова. — Этак родителю поступать не след.
— А ты что за судья такой? — с сердцем спросил Набатов, отирая рукавом свой широкий морщинистый лоб. — Кто тебя спрашивал не в свое дело соваться?
— А что бы ты думал, кабы убил ее? — сказал Рясов тоже сердитым и строгим тоном.
— Не вдруг их, поганых, убьешь, живучи они, как кошки, — ответил на это Набатов, подвигаясь к окну и отворяя его.
Ему было душно; лицо его было сине-багрово; он расстегнул ворот своей рубахи и, высунув голову за окно, несколько раз глубоко вздохнул.
— Неладно ты делаешь, Сергей Ларивоныч, — опять укоризненно заговорил Рясов. — Ведь ты за нее под суд попасть можешь!
— Кто сказал? Под какой такой суд? Дела никому до меня нету, потому я свою дочь учу, свою плоть наказую, значит, и знать никого не хочу, — все еще гневно отвечал Набатов.
— Учить-то ты ее должен, это точно, что должен, да не этак, по-зверски, а тихонько, да не после время, а спервоначалу, когда она в разум входила.
— А разве я ее не учил? Разве не наставлял я ее добром? Ведь она одна у меня только и есть. У, убью я ее негодную! Осрамила она меня, стыд мне теперича, стыд!
И Сергей Ларионов зачыл воем, похожим на рычание дикого зверя. Тимофею стало жаль его; он сел на лавку неподалеку от дверей и, оглядывая пол, испещренный кровавыми пятнами, придумывал, что бы сказать ему в утешение.
— Охо-хо! — стонал Набатов, закрывая лицо руками. — Стыд моей голове, стыд! Никуда мне теперь глаз показать нельзя, стыд да и только!
Рясов только крякнул и молчал, повесив голову.
— И ведь какая девка была разумная, смирёная, воды не замутит! Думано ли, гадано ли, что ей такая беда приключится? Покарал меня бог за мою гордость: охоч я был над людьми смеяться да мудрять — вот за то меня бог и нашел! — сокрушался Набатов, продолжая стонать.
— Что делать! — промолвил Рясов, вздыхая. — Теперь уж ничего не поделаешь, пролито — полно не живет.
— Веришь ли, Тимофеюшко, что кабы я бога не боялся, так взял бы вот да голову в петлю и сунул, таково мне тяжело.
— Как не тяжело! Известное дело, хотя до кого коснись, всякому тяжело! — задумчиво молвил Рясов и потом прибавил, желая переменить разговор:- Ты разве не знал до сегодня, что она брюхата?
— Где знать-то? Ничего не знал.
— Кто же тебе сказал?
— А Кучко, вот кто и сказал. Кроме Кучка, разве мне смеет кто такие речи говорить? Никто не смеет.
— Когда он тебе сказал?
— А вот сейчас. Иду я на работу, в фабрику, значит, а он и попади мне ввстречу, — стал рассказывать Набатов медленным, глухим голосом, точно насильно выдавливая слова. — Остановился, шапку снял, кланяется. Я иду, будто не вижу, — знаешь ведь, что мы сыздавна во вражде с ним. — Что, брат, Сергей Ларивоныч, не кланяешься аль загордел больно? Что с приказчиком породнился, так нашим братом уж брезговать стал? — А сам хохочет, рыло в сторону своротил. Меня точно обухом треснуло, я так и стал. — Говори, баю ему, к чему ты такую речь завел? — А к тому, бает, что скоро-де у тебя внучек будет, приказчицкий сынок, вари пиво, бает, я проздравить буду. — Я более и слушать не стал; хотел было ему в рожу дать, да рука не поднялась, заворотился и побежал домой. А она сидит вот тут на лавке, голову повесила. Стал я напротив и гляжу, еще слова единого не вымолвил, а она бух в ноги: «Батюшка, прости! Не погуби! Виновата!» Тут уж я себя и не вспомнил.
И Набатов опять тяжело застонал. Рясов молчал, качал головой и поплевывал в сторону.
— Замечал я давно, — заговорил Набатов, — что с девкой что-то неладно: прямо она тебе в глаза не взглянет, идет мимо тебя — сторонится, вот словно боится завсегда, одначе все я этого в ней не думал… Охо-хо! Горе мне, горе!..
— Однако и зол же ты, Сергей Ларивоныч, ведь ты ее изуродовать мог, — заметил Рясов.
— Какое изуродовать, до смерти убить хотел. Кабы ты не пришел, беспременно бы ее убил, потому я как в злость войду, то себя не помню. Ты скажи ей, Тимофей, чтобы она мне теперь на глаза не казалась, потому я в себе не властен, — добавил Набатов тихо.
— Да куда ж она денется? — спросил Рясов, озадаченный этими словами.
— А хошь куда, хошь в омут головой, и то не пожалею. Не дочь она мне теперь, и я ей не отец, так ей и скажи, — проговорил Набатов, опять вспыхнув гневом.
— Нет, это ты не дело говоришь, — ответил на это Рясов озабоченным тоном. — Право слово, не дело. Ну, что ты думаешь, как она на себя руки наложит? Ведь ты тогда в ответе будешь. Ты то посуди, что теперь ведь не пособишь, назад не воротишь. Что ее понапрасну увечить? Брось, скажи, что не тронешь больше.
— А ты думаешь, легко мне ее бить? — сказал Набатов в порыве опять сильно подступившего чувства. — Ведь моя плоть она, сам знаешь, как я ее любил, души не чаял. Сорок пять лет я на свете прожил, а экой муки до сегодняшнего дня не принимал. Было горе, как жену хоронил, да и то не столько было тяжело. Другое горе — погорел; помнишь, как я в полымя-то бросился по Натальку, на руках ее вытащил чуть живую, сам чуть в дыму не задох. Изба обнялась пламенем, приступу нет никому, все мое добро погорело, а я стою да молитву творю над Наташкой: «Слава те, господи, слава тебе, девка-то у меня жива осталась!» И то горе, значит, было не горе, лишь теперь оно меня, настоящее-то горе, постигло. Охо-хо! Легче бы мне ее мертвую видеть!
Застонал опять Сергей Ларионов и, стиснув кулаки, заскрежетал зубами.
— Всякий над ней теперь в глаза насмеется, надругается всячески, а она знай, молчи да принимай все! — сокрушался Набатов, ломая руки. — Мастера-то Набатова дочь непотребной девкой стала, за худыми делами пошла! И хошь бы со своим братом связалась, а то…
И он, не договорив, вскочил с лавки, как раненный зверь, и кинулся на улицу. Рясов бросился за ним и настиг его уже в другой улице.
— Куда ты, Сергей Ларивоныч? — спросил он, хватая его за плечо.
— Не тронь меня, я робить пошел, — ответил Набатов глухим голосом и, сердито высвободив свое плечо, ускорил шаги.
— Без шапки, без рукавиц! — промолвил Тимофей, разводя руками.
Дойдя до фабрики, он послал мальчика к Набатову за рукавицами и наказал ему сказать Наташке, чтоб не боялась, что отец больше ее бить не будет.
— Да забеги, скажи моей бабе, чтобы она сходила Наташку проведала, — добавил Рясов вслед убегающему мальчику.
Всю ночь Рясов следил за Набатовым. Горны были у них рядом, так же, как и дома, и следить ему было удобно. Набатов же ни разу не поглядел в сторону, ни с кем не промолвил слова, да, правда, никто и не заговаривал с ним. Градом катился пот с его загорелого лица и тут же высыхал от жара; с лихорадочной энергией работал Набатов эту ночь у своего горна, ни разу не присел отдохнуть и только воды выпил несколько ковшей. Подмастерью Набатова принесли из дому пива, хотел было он попотчевать мастера, да робость напала — не посмел: очень уж злое было лицо у Набатова в эту ночь.
VI
На другой день жена Василия Наумова Галкина, дочь старика Савелья и мать Груни, наложила в лукошечко сотню яиц, покрыла их тонким узорчатым полотенцем и пошла к Чижову отпрашивать дочь от работы, но не застала его дома. Велели ей подождать. Села баба на крыльцо, поставив подле себя лукошко с яйцами, и ждала с час, задумалась и не слыхала, как Чижов подошел к самому крыльцу.
— Что тут сидишь? — спросил ее Василий Николаевич.
Галчиха поспешно встала.
— Батюшка Василий Миколаич, не побрезгуй, чем богата, прошу покорно, — и она, кланяясь, подавала ему лукошко.
— Что это? Зачем это? — будто удивился Чижов.
— Да вашей милости, Василий Миколаич, нельзя ли девку от кирпича уволить? — пояснила Галчиха, продолжая кланяться и подавать ему свой подарок.
— Нет, матушка, не надо, ведь знаешь, что я ничего не беру, а для вас же я и сделать ничего не могу, — сказал Чижов, всходя на крыльцо.
— Сделай милость, родимый, уволь. Девка молодая, не в силах еще, где ей две тысячи вытоптать, — умоляла Галчиха слезливым тоном.
— Ступай сама, коли дочери жалко, ты еще сама работать можешь, — ейн, а это Чижов и пошел в комнаты.
Галчиха направилась было за ним. Чижов остановился в дверях и сказал, полуобернувшись и несколько возвысив голос:
— Не ходи напрасно: сказано — не могу уволить. Ступай-ка лучше домой да скажи ей, чтобы завтра непременно на работу шла.
И он ушел, сильно хлопнув дверью.
Постояла Галчиха с своей ношей в руках, потерла сухие глаза кулаками, покачала головой и пошла домой, повторяя в уме: «Не откупишься уж! Ничем не откупишься! Видно, не миновать!»
У ворот своего дома она встретилась с Груней.
— Не принял? — спросила та, взглянув на лукошко с яйцами.
— Нет, дитёнок, не принял, — грустно ответила Галчиха. — Велит завтра беспременно на работу выходить.
Груня сердито хлопнула воротами.
«Ишь, подлец, чем донять хочет, — подумала она, сверкнув глазами, — да не доймет, не на ту напал!»
И она так сильно затопала, поднимаясь по лестнице, что лестница задрожала.
Вошли в избу; Галчиха поставила на стол лукошко и, вздыхая, села на лавку.
— Что делать, мати, пойду робить. За тысячу нешто по полтине платят? — обратилась Груня к своей опечаленной матери.
— По полтине, дитёнок, — ответила та.
— Ну что же, по крайности, не даром; и полтина, — деньги, с полу не подымешь, — утешала Груня свою мать и принялась чинить старый сарафан для завтрашней грязной работы.
Галчиха между тем сидела, повесив голову; и жаль ей было отпускать свою молоденькую Груню на тяжелую работу, но еще больше боялась она, чтоб не прошла про ее дочь худая слава, чтоб не загуляла девка.
«Завсегда она там с мужиками будет, — думала Галчиха, — с девками всякими гулящими, не усмотришь там за ней, не укараулишь. Девка она резвая, ну куда я с ней денусь, как она понесет? Беда, отец тогда меня со свету сживет: зачем худо смотрела, а где за ними усмотришь! Лукавы они, шельмы, шибко лукавы».
И Галчиха вздохнула и тут же почему-то припомнила, как сама она, будучи девкой, бегала в Косой переулок повидаться с молодым соседом и как на вопросы своей матери всегда отвечала, что ходила телушку загонять, что телушка у них совсем от рук отбилась: как только выпустишь ее из двора, она учнет скакать по переулкам. И верила ей мать, и дивилась, что это с телушкой такое сделалось… «Быть бы беде, — думала Галчиха, вспоминая свое прошлое, — кабы меня той осени замуж не отдали. Горе мне с Грунькой будет, как никто ее ныне сватать не будет, не усмотреть мне за ней, ни за что не усмотреть. Вон у Набатова дочь загуляла, а какая девка смирная, степенная, отец-то на нее синь пороху сесть не давал, а теперича что случилось!»
Надумалась Галчиха и заговорила:
— Грунька, ты смотри у меня, с гулящими девками не связывайся, тары-бары не разводи с мужиками, они мигом тебя на смех подымут. Им верить вот на столько нельзя, — и Галчиха показала дочери кончик мизинца, — только и смотрят они, кабы вас обдуть. А ты тараторить да дурить лютая: как раз тебя по пустякам обнести могут.
— Я, мати, коли дурю или играю с кем, так у тебя же на глазах, а по-за глазами я смирная, — ответила на это Груня, не поднимая головы от работы.
— Как бы не так! — вздохнула Галчиха. — Знаю я, какие вы смирные по-за глазами-то. Вон у Сергея Набатова девка, уж какая смирная была, да и та вот смыслила же, а отец-то теперя и примай стыд из-за нее. Ты с ней не баяла: правда, не правда?
— Баяла еще о пасхе, отпирается, говорит, враки. А с той поры я ее не видала, — ответила Груня.
Галчиха вздохнула и помолчала.
— А уж отец-то любил ее, страсть, во всем ей верил, поил-кормил сладко, одевал хорошо, словно служительскую водил. А вот и вышло, что вам, козам, на грош верить ни в чем нельзя. Правду, видно, старики бают, что бить вас за все надо.
И Галчиха опять вздохнула, думая о том, что не поднимаются у нее руки бить ее красивую, чернобровую Груню.
— Что же ты не бьешь меня? — рассмеялась Груня в ответ на ее вздох. — И била бы.
— Да нечего зубы-то скалить, — сказала Галчиха, стараясь придать своему голосу сердитый тон. — Вот заслужишь, так и побью, поубавлю косу-то, ишь, отрастила какую! Смотри, девка, берегись, добром тебе говорю, что коли что худое замечу али от людей услышу, то беда тебе будет: отцу скажу, а он знаешь какой, он тебе шкуру-то сдерет.
— Да ты с чего на меня напустилась сегодня? — спросила Груня, поднимая на мать вопрошающий взгляд. — Наплел тебе про меня кто али что?
— Никто мне про тебя ничего не плел, а так я говорю, тебе же добра желаючи, — сказала Галчиха ласково.
— Ну и пустяки говоришь. Поди-ка, я без тебя не знаю.
И Груня опять принялась за работу, Галчиха замолчала, вздохнув о том, что она и пригрозить-то своей дочери не умеет как следует.
— Вечерком отпусти-ка меня, мати, к Оринке сбегать на часок, узоры на полотенцах посмотреть, — попросилась Груня после нескольких минут молчания.
— Ладно, сбегай, — согласилась Галчиха.
Когда Василий Галкин пришел домой с работы, жена сказала ему:
— Не могла отпросить Груньку, сотню яиц носила да полотенце браное, ничего не принимает. Нельзя, бает, отпустить, завтра на работу велел выходить.
— Я ведь тебе баял, что не отпустит, — сказал на это Василий угрюмо, — так не поверила; не по чего и ходить было. Собирай-ка скорее на стол, смерть есть хочу, — добавил он, умывая руки и садясь за стол.
Василий Галкин был высокий сухощавый мужик с болезненным лицом и угрюмым, но не злым взглядом.
— А где Грунька? — спросил он, сидя у стола и окидывая избу взглядом.
— К Оринке ушла, узоры смотреть, — покорно, как будто даже робко ответила Галчиха, торопливо собирая на стол.
— Что она больно часто к Оринке-то ходит?
— Коли же часто? В запрошлой неделе была да с тех пор не бывала, — сказала Галчиха, ставя щи на стол.
— Смотри, баба, гляди за девкой в оба, — сказал Галкин, принимаясь за еду. — Я сперва за тебя примусь, коли девка избалуется. Вон у Сергея Набатова девка ребенка принесла, срам ведь отцу-то!
— Неужели принесла? Да коли это случилось? — удивилась Галчиха, выпуская из рук ложку, за которую она было взялась.
— Принесла, бают, сегодня — ночью ли, поутру ли — не знаю, бают, в худых душах ребенок-от, да и самое-то-де отец избил так, что едва дышит.
— Что это, что это! — дивилась Галчиха, качая головой. — Я ведь слышала, что она брюхата, да все не верила, думала, понапрасну про девку толкуют, а вот теперь и вышло, что правда.
Прибежал Митька с улицы и тоже было полез за стол.
— Умой руки, да перекрести образину-то сперва, да тогда за стол-от лезь! — крикнул на него отец.
Митька поспешно плеснул воды на руки, обтер их синей тряпицей, служившей вместо полотенца, помолился на иконы и, пугливо косясь на отца, сел за стол.
— Ты, пострел, ешь скорее, да ступай к Оринке по сестру, скажи, мамка домой звала, — обратился к нему отец.
— Полно, Васильюшко, что такое пришло уж посылать, сама придет, — сказала Галчиха.
— Да я ее по другой вечер дома не вижу, — возразил Василий, вставая из-за стола.
— Она вчерась… — заикнулся было Митька, но тотчас же умолк, почувствовав, что мать толкает его коленкой.
— Что вчерась? — спросил Галкин.
— Да в огороде капусту поливала, ведь я тебе сказывала, — договорила Галчиха за Митьку.
— Ой, рученьки болят! — застонал Василий, растягиваясь на лавке. — Спинушку всю разломило, хотя бы баню про меня истопила завтра!
— А почему не сказал? — заговорила Галчиха, ободрившись. — Я бы и сегодня истопила, кабы сказал,
— Ну, живет уж сегодня, истопи завтра… Ой, спинушка болит, ой, ноженьки ноют! — стонал Василий, ворочаясь на лавке.
— А пошто ты тут ложишься? Ложись сюда вот на голбчик, я тебе постелю постель, — ухаживала Галчиха за мужем.
Она знала, что если Василий начнет стонать и жаловаться на болезнь, то все другое уже потеряет для него всяческий интерес. Уложив мужа, все продолжавшего стонать и охать, и прибрав со стола, Галчиха вышла за ворота и тревожно поглядывала вдоль по улице, поджидая свою дочь.
«Что она долго, где она? С кем она там засиделась?» — тревожно думала Галчиха.
Митька выбежал вслед за матерью и вертелся около нее, видимо, жедая и не решаясь заговорить.
— Мамка! — сказал он, наконец. — А Грушка-то вчера ведь не одна в огороде-то была.
Галчиха встрепенулась.
— Кто с ней был? — спросила она.
— Да Гришка Косатченок был.
— Врешь ты, углан! — испуганно удивилась Галчиха.
— Вот те бог, не вру, право, был, я сам видел.
— У меня молчи, пострел, никому не бай, а то я тебе такую волосянку дам, что страсть! Зачем мне вчера не сказал?..
— Да Грушка не велела, хотела пряник дать, да и не дала.
— Ишь, лукавая, вот я ей ужо полкосы-то выдеру, пусть только домой придет. А ты молчи, постреленок, отцу не пикни.
— Я не скажу, мне что? — ответил Митька, обидевшись тем, что мать на него же и взъелась.
Однако ж, когда вскоре после этого Груня подошла к воротам дома, Галчиха не выдрала ей полкосы, даже и не поругала как следует, а только велела скорее спать ложиться.
VII
На другой день Груня вышла на работу. Надсмотрщик указал ей яму, в которой она должна была топтать глину, дал ведро и рассказал, сколько следует принести воды, сколько прибавить песку. Сделав все, как было сказано, Груня сняла свои худые порыжелые башмаки, заткнула за пояс подол, соскочила в яму и принялась месить глину ногами. На краю ее ямы стояли две девки и давали ей советы и наставления, как лучше и легче работать.
— Ты тихонько, не торопись, — говорила одна из них, — ногу-то не вдруг выдергивай, а сысподтиха, а то устанешь скоро.
— Вот этак? — спрашивала Груня, начиная медленнее переступать с ноги на ногу.
— Вот так, — ответила девка. — Дай-ка я тебе укажу.
И она, соскочив к ней в яму, принялась показывать, как следовало топтать глину. Груня старалась подражать ее движениям.
— Эки у тебя ноге-то белые, — говорила ей девка, — не жаль тебе их?
— Жаль, не жаль, да ведь не пособишь, — сердито ответила Груня.
— Исцарапаешь ты их, исседаются они у тебя все, — продолжала сокрушаться девка. — Ты свечку купи да к ночи-то их мажь салом.
— Ладно, — угрюмо ответила Груня.
Ей начала надоедать ее новая подруга, тем более, что Груня начинала догадываться, что значат все эти сожаления.
Прошло два дня. Груня вытоптала не одну яму глины и выносила ее в сарай, где, сидя верхом на скамьях, девки и бабы-резчицы накладывали глину в станки и проворно хлопали ими, вынимая готовые кирпичи. На второй день к яме Груни подошел Чижов, приезжавший к кирпичному сараю через день, молча постоял, глядя на Груню, и потом отошел к соседней яме, из нее торчала любопытная голова той самой девки, которая учила Груню. Чижов сказал ей несколько слов, но так тихо, что Груня не слыхала. Вскоре после отъезда Чижова к яме Груни подбежал Митька с синим узлом в руках.
— Вылезай! — крикнул он весело. — Мамка тебе шанег послала.
Груня вылезла и, сев на краю ямы, принялась уплетать принесенные шаньги. Митька убежал побегать около сарая и поглядеть, как режут кирпич. Соседка Груни тоже вылезла из ямы и, пообчистив глину с ног, подошла к ней.
— Хлеб-соль, Грунюшка! — сказала она заискивающим тоном.
— Спасибо, Марянушка, — ответила Груня и подала ей парочку шанег.
Марянка уселась возле Груни и, съевши шаньги, несколько времени сидела молча, желая и не решаясь заговорить.
— Я ведь с тобой, Грунюшка, баять хочу, — проговорила она, наконец, поглядывая на Груню.
— Что ж, бай! — ответила та, продолжая уплетать шаньги.
— Видела ты Василья-то Миколаевича, как он стоял у твоей-то ямы?
— Не видала я. А тебе что за дело до этого? — сердито сказала Груня, переставая есть.
— А то и дело, что от тебя он ко мне перешел, да и бает, что жалко ему тебя, велел тебе сказать, что завтра же от работы уволит, коли ты сегодня к нему ночевать будешь.
Груня молчала; брови у ней нахмурились; решительно очеркнутые губы сжались; она торопливо связывала в узел оставшиеся шаньги и искала глазами убежавшего Митьку. Марянка приняла ее молчание за колебание и продолжала уже смелее и настойчивее.
— Согласись, Грунюшка, он те подарить хочет, он дарит помногу, не скупится, вон Таньке Ларьковой что надарил, на всю жизнь будет, опять же и ласковый, бают, не то, что наш брат, мужик…
— Пошла к своей работе, сволочь! — грозно крикнула Груня, вскочив на ноги. — Эк с чем подъехала! Проваливай-ка дальше! Не на ту напала!
— Да ты чего заругалась? — обиделась Марянка, тоже вставая. — Я тебе же ладила на пользу, потому подарков тебе от него не переносить будет.
— Ты и поди сама к нему, и пусть тебе дарит, — огрызнулась Груня. — Чего других-то травишь?
— И пошла бы, да не меня ему надо, — ответила на это Марянка.
Груня между тем подозвала Митьку и, отдав ему узел, велела идти домой, а сама пошла к ручью напиться. Возвратившись, она увидела, что Марянка все еще стоит у ее ямы.
— Что стоишь здесь? — спросила она сердито. — Сказано: ступай в свою яму.
— А ты так и не сдашься, Грунюшка? — опять заискивающим тоном спросила Марянка.
— Пошла ты от меня к лешему! — выругалась вспылившая Груня. — Сказано тебе, что не на таковскую напала. Убирайся, чтобы и духу твоего не было, и не смей со мной говорить больше.
И Груня сердито соскочила в яму. Марянка отошла, обиженная и злая.
«Ишь, ломается тоже, тварь! — думала она. — Пусть-ка-де походит за мною да покланяется. Беспременно она кого ни на есть да имеет полюбовника, потому без этого ни одна девка не обойдется. Вон Наташка Набатова — уж на что богомольная да чванная была, а и та ребенка принесла… Как ни на есть, да уж заведен приятель», — продолжала думать Марянка, спускаясь в свою яму и злобно поглядывая на Груню. — «Ужо подкараулю я тебя, не проминуешь ты меня, выведу я тебя на чистую воду!»
VIII
У дочери Набатова действительно родился сын; он родился преждевременно вследствие побоев, нанесенных Наталье отцом, пожил всего часа три и умер. Наталья тоже была чуть жива; приглашенная женою Тимофея Рясова старуха-повитушка ухаживала за ней, как умела, в то же время ругая Набатова и дивясь, за что он так озлился.
— Ну, мало ли бывает, что носят девки ребят, и бьют их отцы за это, да все не так же зверски, — рассуждала старуха, перетаскивая Наталью из сеней в избу и укладывая ее в куть на лавку.
Наталья только тяжело стонала, вздрагивая каждый раз, как отворялась дверь в избу, и ожидая, что войдет отец и опять начнет бить ее. Но она напрасно боялась: Набатов не приходил домой.
Возвращаясь с работы, он зашел к Рясову и узнал от его жены, что младенец родился чуть живой, что бабушка, не будь плоха, завернула его в лоскутину и тотчас же понесла к попу, где его и окрестили, пока еще был жив, что после крещения он дышал еще с полчаса, что теперь он уж обряжен и лежит на столе, что Наталья очень плоха и все боится, что отец придет и станет бить ее. В заключение Григорьевна, так звали жену Рясова, предложила Набатову пообедать у них и отдохнуть.
В ответ на это Набатов только тяжело вздохнул, сел на лавку и долго сидел молча, погруженный в глубокую думу.
Только когда Григорьевна стала собирать на стол для Набатова, он как будто очнулся.
— Не надо, — сказал он, вставая, — я есть не хочу, — и пошел из избы, нахлобучив шапку на глаза.
В ограде он встретился с Рясовым, тот опять стал его звать в избу, но Набатов отказался и пошел домой. Дома он в избу не пошел, а сел на нижних ступеньках лестницы и задумался. Он не заметил поклона старухи-повитушки, хлопотавшей по хозяйству и уже несколько раз прошедшей мимо него. Тяжело налегло горе на гордую душу Набатова, и не видел он возможности освободиться от него. Кроме того, что Набатов крепко любил свою дочь, он страдал еще и от других причин. Недаром он слыл гордецом, и во всем Куморе не имел ни одного искренне расположенного к нему человека, кроме добродушного силача Рясова. Набатов действительно был и самолюбив, и горд. Презирая в душе класс служителей[5], пользовавшийся такими громадными преимуществами перед мастеровыми, он отдал бы полжизни, чтобы самому попасть в этот класс, и если уж это было невозможно, то хоть выдать дочь за служителя. Но этому его желанию теперь не было никакой возможности осуществиться. Примеры, когда кто-либо из класса служителей женился на дочери мастерового, бывали очень редки, да и то только в таком случае, если за невестой давались в приданое деньги. Правда, у Набатова в сундучке под лавкой хранилось рублей триста ассигнациями — сумма по тогдашнему курсу на деньги довольно значительная, но все же этого было бы достаточно в том только случае, если бы Наталья не опозорила себя и отца. После же этого позора не было никакой возможности рассчитывать на жениха для Натальи из служительского класса, и Набатов горько вздыхал и проклинал свою злую долю.
Бабушка-повитушка, несколько раз проходившая мимо Набатова, все поглядывала на него, желая, но не решаясь заговорить с ним. Наконец, она не вытерпела и сказала:
— Грех тебе, Сергей Ларионыч, девку ты свою уходил до полусмерти, уродом сделал.
Набатов молчал. Его гнев на Наталью прошел, и место его заступило чувство жалости, страха и угрызений совести за безвинно пострадавшего младенца.
— Ну да, что об этом убиваться, прошлого не воротишь, — заговорила опять старуха. — Ступай-ка лучше в избу да поешь и отдохни маленько. Надо ведь заказать гроб, ребенка-то завтра хоронить надо.
На этот раз Набатов поднял голову и поглядел на старуху.
— Гроб делать? — спросил он. Старуха рассердилась.
— Да ведь не без гроба же ты его в могилу-то свалишь! Хоша и найденыш он, одначе не щенок же, душа, поди, в нем такая же, как и у тебя! — сердито заговорила старуха.
Набатов быстро встал.
— Я пойду закажу гроб делать, — сказал он и пошел к воротам.
Старуха озлилась еще пуще и плюнула ему вслед.
— Да хоша бы пообедал, хоша бы слово какое путное сказал, — ворчала она, поднимаясь на лестницу. — То словно дерево какое, — не расспросил, не рассказал, так и ушел, тут хошь что без него делай.
Перед вечером уж воротился Набатов домой и принес подмышкой крошечный гробик. Он не вошел в избу, а поставил гробик на крыльце и, постояв тут с минуту, повернулся и опять вышел из дому. На этот раз он пошел к Рясову, где и просидел до вечера, а вечером, поужинав вместе с Рясовым и не заходя домой, ушел в кричную работать. Но эту ночь Набатов работал уже далеко не с таким усердием, как прошлую, он чувствовал сильное утомление, часто садился отдыхать и тяжело вздыхал. Утром, только сменившись с очереди, Набатов торопливо пошел домой; ему предстояла тяжелая обязанность хоронить своего внучка. Но как он ни торопился, а шел медленной, неровной походкой, ноги отказывались идти с прежней скоростью.
Войдя в свою избу, он изнеможенно опустился на лавку, стараясь не глядеть на крошечное мертвое тело, лежавшее на столе.
— Что, милый, пристал? — обратилась к нему старуха, на этот раз с участием. — Отдохнуть бы надо тебе, да некогда: вишь, поп уж в церковь пошел, надо и тебе идти.
— Что ж, ладь младенца, а я сейчас, — сказал Набатов и стал вынимать из ящика медные деньги.
Старуха принялась приготовлять гробик, устилая дно его белыми тряпицами и продолжая выражать Набатову свое сожаление о том, что ему некогда отдохнуть. Она положила младенца в гробик, закрыла его крышкой и, сказав:- Теперь совсем готово, неси в церковь, — подошла к Набатову и, посмотрев на него, прибавила:
— Хошь бы умылся ты, ведь лица-то у тебя совсем не знать, — весь ты в саже. Ужо после в баню сходи помойся, я про Наталью баню истопила, хочу ее попарить, не даст ли бог лучше.
Набатов заторопился, засунул деньги за пазуху и взял гробик подмышку.
— Да ты хоть запон-то сними, да накинь зипун, — все бы лучше было, а то так и пошел весь в саже, — опять заговорила старуха, идя вслед за Набатовым, выходившим из избы.
Он остановился, поглядел на свою покрытую сажей одежду, сказал: «Ладно и так», — и торопливо сошел с крыльца.
По дороге в церковь ему встретился Савелий, шедший домой с конюшни.
— Чьего это ты хоронишь? — спросил он, здороваясь с Набатовым.
— Своего, — пробормотал тот, не глядя на него и не останавливаясь.
Савелий удивился и, остановившись на дороге, глядел ему вслед.
Поравнявшись с домом Рясова и увидев выходящую Григорьевну, Савелий указал рукой на удаляющегося Набатова и спросил:
— Чьего это он хоронит?
— Да Наташкина, — ответила она, остановившись. — Вчера утром бог дал, а сегодня, вишь, он уж и хоронить поспел. Сама-то Наташка в худых душах. Иду к ним пособить бабушке-то, хочу стаскать ее в баню.
— Эка напасть какая! — дивился Савелий, хлопая руками. — Девка была смирная, ничего худого не слыхать было, а вот что случилось. Чать, Набатов зол на нее?
— И не приведи бог, избил до полусмерти, оттого, надо быть, и младенец-то помер, — ответила Григорьевна.
— Ну и слава богу, что помер, по крайности на глазах нету, — рассудил Савелий и пошел своей дорогой.
Схоронив ребенка, Набатов возвратился домой и сел на крыльцо. Когда в церкви поп велел ему поцеловать маленькое посиневшее личико, Набатов почувствовал припадок сильнейшего горя, смешанного с каким-то невольным страхом, и, застонав, опустился на колени возле гробика. Крупные слезы покатились по его лицу. И теперь он опять плакал, утирая слезы кулаками и размазывая сажу на лице. Он снял свой кожаный запон и лапти с баклушами и сидел в одной рубахе, облокотившись руками на колени и положив на них свою голову, в которой за две последние ночи заметно прибыло седых волос. Пока он сидел на крыльце, Наталью мыли в бане. Там она страшно ослабела и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. В баню Григорьевна стащила ее за плечами, но назад она могла донести только до крыльца.
— Не поднять ведь мне ее одной-то! — проговорила она, задыхаясь и опуская Наталью на пол.
Набатов быстро встал.
— Не умерла ли она? — спросил он, испугавшись и поспешно сходя с лестницы.
— Нет, жива, угорела только, — ответила ему старуха. — Пособи-ка бабе-то. Да подымите ее на крыльцо, — добавила она, махнув рукой на Григорьевну, наклонившуюся к Наталье.
Набатов взял Наталью на руки и унес в избу. Когда он положил ее на постель, платок, закрывавший ей голову, упал, и Набатов увидел мертвенно-бледное лицо своей дочери. Губы у нее посинели, растрескались и чуть пропускали слабые, едва заметные вздохи; у угла губ с левой стороны и под правым глазом были большие синяки. Жалость и страх заставили Набатова задрожать всем телом, ноги под ним подогнулись, он опустил голову и громко зарыдал.
— Взяла же тебя жалость-то, — заговорила старуха, подходя к постели и укрывая Наталью. — Вишь, как ты ее хорошо устряпал, небось, самому страшно стало. А еще то ли будет, как и ее в могилку свалим! Ведь два душегубства на твоей совести будет. Ох, грехи наши тяжкие; — ворчала старуха без всякого сострадания к Набатову.
— Зверь я, а не человек, — проговорил он, тяжело поднимаясь с коленей. — Не мог совладать со своим сердцем.
И медленно, шатаясь, вышел он из избы и без сил свалился в углу сеней.
IX
Прошло с неделю. Марянка все ждала случая подкараулить Груню, зорко следя за ней, и случай этот скоро представился. Однажды к яме Груни подбежал Гриша; заметив, что Марянка смотрит на него из своей ямы, обошел кругом и стал к ней спиной. Что они говорили с Груней, Марянка, к великой досаде своей, не могла услышать, но зато весь день она не спускала глаз с Груни. Вечером, когда пришло время возвращаться домой, Груня заметно стала отставать от других девок. Марянка сделала вид, что уходит вместе со всеми, но, отошедши несколько шагов, тихонько возвратилась под сарай. Груни уже не было там. Марянка обошла кругом всего сарая и, уверившись, что Груни нигде нет, хотела было перелезть через плетень в поскотину, подходящую сзади к самому сараю, как послышавшийся конский топот привлек ее внимание и остановил ее. Она оглянулась: к сараю подъезжал Чижов.
Марянка отошла от плетня и, поклонившись Чижову, ждала, пока он разговаривал с надсмотрщиком. Скоро Чижов подъехал к ней и спросил вполголоса:
— А где Грунька? Я не видал ее там с девками.
— Она, надо быть, на конюшню пошла дедушку попроведать, — лукаво улыбнувшись, ответила Марянка.
— А ты не видала, никто не приходил к ней? — спросил Чижов.
— Гришка Косатченок приходил, он тут каждый день бегает, потому из поскотины близко.
Чижов ничего не сказал на это и только ударил лошадь нагайкой, заставляя ее перескочить через изгородь в поскотину. Марянка поглядела ему вслед с довольным видом и побежала догонять девок, песни которых все еще неслись с дороги. Отъехав несколько сажен от изгороди, Чижов слез с лошади, привязал ее к стволу березы и пошел по узенькой, извивающейся между лесом тропинке. Скоро он увидел впереди на тропинке Груню. Она была одна и шла неторопливо, не оглядываясь. Чижов ускорил шаги и скоро настиг ее. Груня вздрогнула всем телом и быстро обернулась. Выражение испуга и неудовольствия, быстро омрачившее ее спокойное лицо, не ускользнуло от внимательного взгляда Чижова, и его лицо, прояснившееся за минуту перед тем, как он увидел, что Груня одна, опять омрачилось. К чести Чижова нужно сказать, что он не любил прямого насилия в любовных делах, в подкупах же и подговорах, к которым он прибегал в таких случаях, он себя оправдывал тем, что на них могли не согласиться. Кроме того, ему почти не случалось получать отказа на свои предложения, и потому-то сопротивление Груни волновало и раздражало его особенно сильно — он порешил добиться ее согласия во что бы то ни стало. «Одно из двух, — думал он, — или она хочет взять, дороже, или она в связи с Гришкой. Недаром он, щенок, в прошлый раз так заступался за нее».
— Здравствуй, Груша! — сказал он, поравнявшись с ней и слегка хлопнув ее по плечу.
Груня поклонилась и молча посторонилась, давая Чижову дорогу.
— Пойдем рядком, — сказал он, замедляя шаги. — Что ты меня боишься? Ведь я тебя не укушу.
— Знамо дело, — отвечала Груня, не глядя на него и пускаясь шагать так, что Чижов едва поспевал за ней.
— Да что же ты заторопилась так? — сказал он, наконец, с неудовольствием. — Иди потише, мне еще поговорить с тобой надо.
— Об чем тебе со мной говорить? — сердито ответила Груня. — Сказала я тебе еще в прошлый раз, что не об чем нам с тобой разговаривать.
— Ишь ты, какая сердитая! — рассмеялся Чижов и, обхватив ее за талию, нагнулся к ней, чтобы поцеловать.
— Пусти, Василий Миколаич! Добром тебе говорю: пусти! — отбивалась Груня от непрошенных объятий. — Не то я закричу, дедушку звать стану.
— Закричи, попробуй! — говорил Чижов, все крепче сжимая Груню в своих объятиях и покрывая поцелуями ее лицо.
Тщетно старалась Груня высвободить свои руки и уклониться от поцелуев. Чижов был очень сильный мужчина, и тягаться с ним в силе мог разве только один Тимофей Рясов. Груня, наконец, закричала.
— Полно, не ори! — говорил Чижов, закрывая ей рот рукой и стараясь отвести ее с тропинки в лес. — Послушай меня, я тебя не трону больше, только не кричи, я только поговорю с тобой.
Но Груня не слушала и, продолжая отбиваться, громко звала дедушку. В противоположной от тропинки стороне послышался треск сухих сучьев, и из-за толстого ствола березы показался суровый, рассерженный Гриша. В руках у него была толстая палка длиной с него же. Увидев его, Чижов стиснул зубы со злости, но Груню не выпустил из объятий, а только закричал гневно:
— Пошел вон! Какого лешего тебе надо?
— Не, Василий Миколаич, я не уйду, а вот тебе уйти следует, потому ты тут не на своем месте, — ответил Гриша сдержанным тоном и, сделав еще несколько шагов, спокойно остановился перед Чижовым и устремил на него смелый, пристальный взгляд.
— Ах ты, щенок! — вспылил Чижов и, выпустив Груню, с поднятым кулаком бросился к Грише, но тот ловко увернулся, заслонившись палкой, за которую схватился Чижов. Гриша выпустил палку и бегом бросился в лес за убегающей Груней, которая опять начала звать дедушку. Чижов сгоряча пустился было преследовать бегущих; но скоро одумался и остановился, отыскал уроненную им нагайку и быстро пошел к лошади. И поплатился бедный сивко своими боками в этот вечер за все обиды, какие вынес его хозяин.
X
Убегая от Чижова, Груня не заметила, что Гриша бежал вслед за ней. Она ни разу не оглянулась и не перевела духу, пока не увидала, наконец, сквозь редеющий лес крыши конного двора. Тут она пошла несколько тише и скоро увидела Савелия, ловившего лошадь. Груня подошла к нему.
— Отколь ты взялась? — удивился Савелий, увидя ее.
— Из-под сараю, — ответила Груня. — Мамка велела забежать по тебя, созвать тебя в бане мыться. Она сегодня баню топила.
— Ладно, ладно, — заговорил Савелий, видимо, довольный приглашением внучки. — А ты, что ты так шибко запыхалась? Разве бегом бежала?
— Бегом, потому в лесу одной-то страшно, — ответила Груня. — А ты не слыхал, я тебя кликала?
— Нет, не слыхал. А ты Гришку видела?
— Не видела.
— Где он, пострел? Вот бы только рыжка напоить, да и пошли бы мы с тобой, — хлопотал Савелий.
— Кличь его, дедушка, может, он и недалеко где-нибудь, — сказала Груня, подходя к конюшне и садясь на рундук. — А я подожду тебя здесь, да пойдем вместе, одна-то я боюсь лесом идти.
— Хе-хе, — рассмеялся Савелий, — да какой это лес? Вот там, — добавил он, указывая рукой вверх по пруду, — вот там лес, так лес, не то, что здесь.
И он стал накидывать зипун и снимать со стены аркан, подтрунивая над страхом Груни. На опушке леса показался Гриша.
— Где ты гулял, соколик? — обратился к нему Савелий. — Давай-ка напоим рыжка, да мне идти надо.
И Савелий ушел в конюшню.
— Что, чать, досталось тебе от подлеца-то? — спросила Груня вполголоса, когда Гриша проходил мимо нее.
— Нет, ни единого не досталось, я убежал, — также тихо ответил Гриша.
Скоро рыжка был напоен, и Савелий, заперши конюшню на замок, пошел рядком с своей внучкой, успевшей между тем отдохнуть и оправиться от испуга и волнения.
Проводив их глазами, Гриша сел на то место, где сидела Груня, и задумался.
«Теперь мне от Чижова житья не будет, — думал он, — во всем как есть начнет он меня сугонять. Беда мне будет от него. И ведь уродился же я такой бессчастный! С самого, значит, сызмальства мне во всем несчастье. Отца у меня деревом пришибло, как я еще мальчонком был маленьким, мать — старуха хворая, робить не может; покос, что от отца остался, сосед чуть не оттягал[6], спасибо Ермакову — заступился, а то бы совсем разорили. И так достатку никакого не имею, а тут еще Чижова лешак подсунул в этаком деле».
Гриша вздохнул и, порывисто встав с места, пошел бродить около конного двора.
«Хотя бы с кем посоветоваться, — думал он опять, — да и тоже, с кем. Один я, как палец; с матерью баять не стоит, потому у нее на все один ответ: терпи да богу молись, а известна пословица, что коли сам плох, так не поможет и бог».
И опять Гриша вздохнул. Вдруг его точно подтолкнул кто; он остановился и развел руками с довольным видом человека, внезапно осененного счастливой мыслью.
«Что же это я дядю Набатова-то забыл? Ведь хоша он мне и не родной дядя, однако все родня же. Хоша он мать мою и не любит, однако, может, меня-то ничего, — а он человек умнеющий. Вот к нему-то мне и надо бы сходить побаять, авось бы, он что мне и посоветовал. Дурак я, дурак, что раньше не сходил к нему! Может быть, давно б уж не было меня на этой проклятой конюшне. Завтра же схожу», — решил Гриша в свеем уме, опять усаживаясь на рундуке с целью дождаться тут дедушку Савелья и еще с вечера отпроситься у него домой. Но дождаться дедушку Савелья он не мог, потому что старик, разопревши в бане и плотно поужинав пельменями, не захотел идти ночевать на конюшню, а улегся на полатях рядком со своим зятем и проспал тут до утра, вопреки приказанию Чижова не отлучаться с конюшни по ночам. Было уже часа три утра, когда Савелий пришел на конюшню и отпустил Гришу домой, заставив прежде выпустить лошадей.
XI
Придя домой, Гриша нашел дом запертым, матери его не было дома, и он в ожидании ее принялся прибирать и подметать двор. Прибравши и без того чистый двор, Гриша вытащил засунутый в поленницу топор и стал заколачивать ступеньки лестницы, вываливающиеся из покосившихся брусьев. Он любил заниматься хозяйством и улаживать свой дом, но, несмотря на все его старания, дом и все надворные строения, требовавшие радикальной поправки, разваливались и явно клонились к упадку. Не успевал Гриша подпереть одно прясло изгороди, как падало другое, и ему то и дело приходилось починять то то, то другое. Когда он сколачивал ступеньки и оглядывал крыльцо, окно соседнего дома, выходившего в ограду к Грише, отворилось, и в нем показалась всклокоченная рыжая голова его соседа, Семена Шестова, прозванного Жбаном. Гриша не заметил его и продолжал свое дело.
— Ай да сосед у меня молодец! — насмешливо заговорил Семен Жбан. — Как ни погляжу — все-то он по дворику похаживает да топориком поколачивает. Такой-то себе дворец сколотил, что просто на поди! Экова, знать, и в Москве нету.
И Жбан рассмеялся неприятным смехом.
Гриша только оглянулся и, не сказав ни слова, продолжал свое дело.
— А вот что, соседушко дорогой, я тебе посоветую, — заговорил опять Жбан все тем же насмешливым тоном. — Ты шибко-то топором не стукай, пожалуй, еще и уронишь крыльцо-то: вишь, оно у тебя словно живое, так ходенем и ходит. — И Жбан опять засмеялся.
Гриша все молчал; он положил топор иа прежнее место, взошел на крыльцо и, вынув верхний косяк над дверью в сени, просунул туда руку и отворил дверь с защелки.
— Ишь, загордел как, — продолжал подзадоривать Жбан, — с нашим братом и говорить не хочет. Да побай, соседушко, пожалуйста, ответь хоть словечко.
Гриша обернулся и, показав ему кукиш, ушел в избу. Он злобно швырнул на лавку свою шапку и стал глядеть в окно на дом Жбана. Увидев, что Жбан затворил свое окно, Гриша несколько успокоился и стал искать, чего бы поесть. Не найдя ничего в избе, он сходил в погреб и, принесши оттуда каравай хлеба и крынку молока, усердно принялся за завтрак. За этим занятием застала его мать.
— Ты что это трескаешь? — вскричала она, всплеснув руками. — Ведь сегодня пятница!
Гриша положил ложку и обтер губы.
— Неужели? — удивился он. — Как же это я позабыл?
— То-то, позабыл! Бот жалобишься, что бог счастья не дает, а сам что делаешь? Среду и пятницу почитать должно, потому что богом указано, — ворчала старуха, убирая горшок с молоком и ложку.
Мать Гриши была худенькая, тщедушная старушка с очень строгими понятиями относительно соблюдения постов и числа земных поклонов. Всякий день утром и вечером она простаивала перед иконами около часу, усердно отсчитывая по лестовке земные и поясные поклоны и повторяя множество раз иисусову молитву, которую она только одну и знала. Любила она ходить в церковь, и хотя по слабости слуха и потому, что стаивала в церкви около входных дверей, иногда не слышала, что там пелось и читалось, — все-таки молилась усердно, нашептывая все одну и ту же иисусову молитву. Никогда не пропускала она случая поцеловать крест, а также и руку попа.
Все ее земные привязанности сосредоточились на Грише, единственном сыне, которого ей удалось вырастить. Мужа она лишилась рано и с тех пор вынесла много всякого горя и страдания, отбывая тяжелой работой господские повинности вплоть до того времени, когда Гришу, наконец, зачислили в действительные работники, а мать его избавили от господских работ. Рада-радехонька была этому старуха, потому что силы ее уже очень ослабели в последнее время, да и кашель начинал жестоко душить по зимам.
«Хошь бы еще мне годок на другой дал бог веку, — вздыхая, думала старуха, — хошь бы я парня-то женила да поглядела бы, как он жить будет».
Убрав со стола молоко, Егоровна спросила у сына ласковым тоном:
— Хочешь кваску с лучком похлебать? Я принесу.
— Нет, мать, не хочу, — ответил Гриша, угрюмо уставившись в окно, оттого что забыл день и наелся скоромного.
— Я, мать, хочу к дяде Набатову сбегать, — сказал он немного погодя.
— Пошто?
— Да побаять насчет того, как бы мне в кричную робить перепроситься.
Егоровна вздохнула: она не жаловала работы в кричной как потому, что там человек легко подвергался разным опасностям, так и потому, что не под силу ей было стирать пропитанные сажей рубахи Гриши.
— Сам знаешь, дитёнок, — ответила она, — а по-моему, так лучше бы ты себя пожалел, потому работа в кричной тяжкая, огненная, а сила твоя молодая, некрепкая, лучше бы ты силы еще покопил.
— Да ты посуди, мать, — с жаром заговорил Гриша, — что в подконюшенниках-то платят — как мы жить будем? Надо избу перестраивать, гляди, вся она развалилась, а перестраивать не на что — денег ни гроша нету.
— Ну, год-другой перестоит еще, — ответила на это Егоровна, окинув избу глазами.
Гриша нахмурился и почесал голову.
— Всего лучше к дяде Набатову сходить, — решил он, вздохнув, и встал с лавки.
— Что же, сходи, побай, может, он что и пособит, — согласилась Егоровна.
XII
Набатова Гриша застал за обедом. Доходила другая неделя со времени несчастных родов Натальи, а она все еще не вставала с постели, и старуха-повитушка все еще жила у Набатова, заправляя его хозяйством, стряпая ему обед и надоедая своим ворчаньем. Суровый и гордый Набатов присмирел настолько, что не смел даже прикрикнуть на ворчливую старуху, покорно вынося ее каждодневное брюзжанье, и только старался как можно меньше быть в избе. С Натальей он не говорил ни слова и, видимо, избегал смотреть на нее. Правда, она и сама не показывалась отцу и, лежа за занавеской, не подавала признаков жизни, пока отец был в избе. Приход Гриши заметно удивил Набатова.
— Садись, гость будешь, — сказал он в ответ на его поклон. — Бабушка, дай-ка ложку, — добавил он, отодвигая стол и указывая Грише место за столом. — Садись, похлебай ухи-то.
— Я уже ел сегодня, — отказался Гриша, однако сел за стол.
Пообедав, Набатов тотчас же вышел на крыльцо. Гриша вышел за ним.
— Я, дядя, к тебе пришел об деле побаять, — сказал он, остановившись перед Набатовым, севшим на лавку.
— Какое же твое дело? — опросил тот, несколько удивившись и внимательно поглядев в лицо Гриши. Оно было озабочено и печально.
— Садись, — добавил Набатов, — что стоишь? В ногах правды нету, садись да расскажи, какое твое дело.
Гриша сел и подробно рассказал Набатову свое горе, не утаив и того, за что особенно невзлюбил его Чижов. Нахмуренное и печальное лицо Набатова оживилось при этом рассказе, глаза засверкали злостью. Он отвернул лицо, стараясь скрыть от племянника свое волнение.
Кончив свой рассказ просьбой помочь ему перепроситься в кричную, Гриша уж давно ждал ответа, а Набатов все молчал, отвернувшись от него.
— Знаешь пословицу? — спросил он, наконец, обернув к Грише свое изменившееся лицо.
— Какую? — спросил тот, удивившись и растерявшись от неожиданного вопроса.
— А вот какую: кобыла с медведем тягалась, один хвост да грива остались, — сказал Набатов, мрачно устремив глаза на Гришу.
Тот понурил голову и молчал. Последняя надежда начинала покидать его. На глазах у него навертывались слезы, губы судорожно передергивались.
Набатов тоже опустил голову.
— Этот Чижов хуже мне ножа острого, — проговорил он вполголоса, не глядя на племянника и будто рассуждая про себя. — Легче бы мне с лютым зверем в лесу сойтись, чем с ним проклятым. Он всему злу причиной.
Гриша удивился и слушал внимательно. Он не знал, кто был причиной позора Натальи, а потому не мог понять злобы Набатова. А Набатов, облокотившись руками на колена и положив на них свою голову, думал. Гриша ждал с замирающим сердцем, что еще скажет ему дядя.
— Вот разве что мы сделаем, — проговорил, наконец, тот, подняв голову. — На Чижова нам надеяться нечего: его не проймешь ни крестом, ни пестом, а вот разве Ермакову Степану Ефимовичу мы поклонимся. Он с Чижовым не в ладах, а потому, может, и примет нашу сторону.
— Да еще у меня поклониться-то нечем, — тоскливо проговорил Гриша.
— Ну, на это я тебя ссужу, на это немного надо, — сказал Набатов. — Сегодня у тебя день свободный?
— Свободный, — ответил Гриша, несколько приободрившись. — До вечера свободен буду.
— Вот и ладно, — оказал Набатов, вставая. — Дам я тебе целковый, и ступай ты сию минуту на Усть-Кумор, спроси там старика Пантелея, он рыбак, у него в садке завсегда живая рыба сидит. Скажи ты ему, что послал, мол, меня мастер Набатов и велел-де тебе самолучших стерлядей отвесить — на целковый сколько причтется. Он мне старинный приятель и по приятству уступит. Этой рыбой мы и поклонимся Ермакову.
С этими словами Набатов ушел в избу и вскоре вынес оттуда засаленную рублевую бумажку и подал ее Грише. Тот завернул ее в обрывок платка и засунул за пазуху.
— Спасибо, дядя, — проговорил он повеселевшим голосом. — Даст бог, доживем до страды, так я отслужу за все это.
— Ладно, ладно, мне твоя служба не надобна, — ответил на это Набатов. — Ступай-ка лучше скорей на Усть-Куморку, а я тем временем лягу сосну.
Гриша стал спускаться с лестницы.
— Смотри же, чтобы рыба была хорошая, живая, а не дохлая, — наказывал вслед ему Набатов, — потому я с тобой сам пойду, так чтобы не стыдно было.
Гриша ушел, а Набатов, спустившись вслед за ним с крыльца, лег в сани, стоявшие на дворе под навесом, но не мог заснуть вплоть до прихода Гриши — так сильно расходился в нем гнев на Чижова.
— Чтобы ему ни дна, ни покрышки, кровопивец! — мысленно ругался Набатов, ворочаясь в санях. — Не во всяком же разе ему уступать, найдем и на него управу.
И сильно кипела кровь в Набатове, и сжимались его здоровые мускулистые кулаки.
До Усть-Кумора было всего версты две, и Гриша скоро воротился, неся на лычке трех больших и еще живых стерлядей. Услышав, что стукнули ворота, Набатов поднял голову и, увидев племянника, подозвал его к себе. Гриша подошел и показал рыбу.
— Ну, брат, рыба важная, экую рыбу не стыдно и управляющему поднести, — похвалил Набатов, вылезая из саней. — Садись отдохни, а я пойду накину кафтан, да и пойдем, благословись.
И Набатов ушел в избу, а Гриша сел на нижней ступеньке лестницы и ждал. Скоро Набатов вышел в нанковом кафтане и шапке. Гриша, перехватив рыбу из правой руки в левую, перекрестился, и они вышли. Придя к Ермакову, Набатов и Гриша прошли прямо в переднюю, не заходя в кухню, и остановились у дверей. Ермаков, мужчина высокий, плотный и красный, как рак, только что встал от послеобеденного сна и, сидя перед своей красной конторкой, допивал уж вторую кружку холодной браги. Услышав, что скрипнула дверь в передней, он громко спросил:
— Кто тут?
Набатов сделал несколько шагов вперед и, остановившись у дверей в кабинет, поклонился.
— До вашей милости, Степан Ефимович, — заговорил он, — с покорной просьбой.
— Что надо? — пробурчал Ермаков, опять принимаясь за недопитую кружку и не глядя на Набатова.
— Да вот племянника охота бы в кричную перевести, — заговорил Набатов, опять кланяясь. — Покорно прошу, Степан Ефимович, нельзя как-нибудь, не будет ли вашей милости, потому парень-то сирота, охота бы при себе к работе приспособить.
— Какого племянника? — спросил Ермаков.
— Да вот Гришу Косаткина, сына Андрея Косаткина, которого деревом-то в лесу зашибло, может, изволите помнить.
— Забыл я, — пробурчал Ермаков, отдуваясь. — Где он?
— Здесь, со мной пришел, — ответил Набатов. — Гриша, покажись.
Гриша несмело выступил вперед и неловко поклонился, причем стерляди махнули хвостами по полу.
— А, знаю, — на этот раз внятно протянул Ермаков и встал со стула.
— Примите, батюшка Степан Ефимович, — заговорил Набатов, взяв стерлядей из рук Гриши и подавая их Ермакову. — Не побрезгуйте: чем богаты, тем и рады.
Тот не спеша взял стерлядей за лычко и, взвесив их на руке, с довольной улыбкой спросил у Набатова:
— Сам заловил?
— Нет, батюшка Степан Ефимович, я не рыбак, купил у приятеля.
— Хозяйка, а хозяйка! — крикнул Ермаков. — Степанида Матвеевна!
— Иду, — послышалось из других комнат, и маленькая, сутулая и некрасивая женщина в пестром платье и коленкоровом чепчике на голове вошла в переднюю.
— Возьми-ка вот, мужик стерлядок принес да вели заколоть поскорее, а ему, — Ермаков указал на Набатова, — подай водки рюмку.
— Ладно, — ответила Ермачиха, взяла стерлядей и ушла.
— Так в кричную тебя перевести? — спросил Ермаков у Гриши.
— Уж сделайте милость, — заговорил тот, кланяясь, — заставьте за себя бога молить.
— Да ведь ты уж начинал в кричной робить, зачем перестал? — спросил Ермаков.
— Василий Миколаич приказали на конюшне быть, — ответил Гриша.
Ермаков не сказал на это ни слова, а пошел к конторке и, вынув из бокового ящика лоскуток бумаги, написал на нем несколько строчек, засыпал их песком и, стряхнув песок, подал записку Грише.
— Ступай ты с этой запиской к распометчику, он завтра с переклички пошлет на конюшню вместо тебя другого, а ты выходи робить в кричную. Вот с Набатовым и работай в одной смене.
Гриша низко поклонился, радостным голосом бормоча благодарность. Набатов тоже поблагодарил, выпил рюмку водки, вынесенную Ермачихой, поблагодарил еще раз и вышел.
XIII
На другой день узнал Чижов о переводе Гриши в кричную и страшно разозлился на Ермакова. Злость его увеличилась еще более, когда он увидел, что Гриша работает с Набатовым, а Набатов был один из исправнейших мастеров в куморской кричной фабрике, стало быть, притеснять его было бы большой несправедливостью. Да и кроме того были еще причины, по которым Чижову не хотелось явно ссориться с Набатовым, и он поневоле должен был на время затаить свою злость на Гришу. Преследование Груни тоже остановилось на время, потому что Чижову вскоре понадобилось ехать в курени осматривать заготовленные там крестьянами дрова для выжига угля. Эта поездка отняла у него более недели и привела к весьма неутешительным результатам. Готового и оставшегося от прошлого года угля не было ни в одном из ближайших к заводу куреней; в куренях же более отдаленных уголь хотя и был, но не было возможности провезти его в завод летом, а имевшегося в запасе угля не могло достать до зимы, и, стало быть, фабрики приходилось остановить по недостатку угля. Мысли одна неприятнее другой теснились в его голове, когда он пробирался верхом на крестьянской лошадке по едва заметным лесным тропинкам, проложенным дровосеками. Куренной надзиратель и несколько человек крестьян, тоже верхом, тянулись за ним гуськом. На привалах и ночлегах крестьяне угощали Чижова водкой и ромом. Он пил, чтобы затушить тоску и не думать о последствиях своей оплошности, которая могла переполнить меру гнева управляющего и приблизить тучу, и так уже недалекую. Пьяный в недовольный собой и всеми, вернулся он из этой поездки.
Анна Васильевна, увидав в окно подъехавшего к воротам мужа, с радостным криком бросилась к нему навстречу.
— Васенька, голубчик ты мой! — кричала она, подбегая к телеге, из которой Чижов не имел сил вылезти без посторонней помощи. Он вылез с помощью курешлика, приехавшего вместе с ним. Шатаясь, пошел он в комнаты. Анна Васильевна хотела взять его за руку, но он грубо оттолкнул ее, чем, впрочем, Анна Васильевна нимало не обиделась, и, проговорив только, что Васеньку сильно растрясло и что пора ставить самовар, пошла велел за мужем.
Войдя в комнату, Чижов тяжело опустился на диван и, отпустив куренщика, попросил чаю.
— А ты, верно, мне к чаю-то медку привез на гостинец? — спросила Анна Васильевна, подсаживаясь к мужу.
— Как же, привез полну телегу, — насмешливо отвечал Чижов. — Ты что же без ложки навстречу-то выбежала?
— Ах, Васенька, что же смеяться-то? — заговорила Анна Васильевна обиженным тоном. — Мне Степанида Матвеевна сказывала, что когда ее муж ездит по куреням, то крестьяне дарят ему и меду, и денег…
Но Чижов прервал речь своей супруги, послав ее к черту вместе со Степанидой Матвеевной, и велел наливать чай.
Вошел служитель с пакетом только что привезенных из Кужгорта бумаг. Чижов, не читая, положил их на стол. Расспросив служителя о том, сколько часов он ехал, здоров ли управляющий и нет ли чего нового в Кужгорте, Чижов отпустил его и принялся за чай, приготовленный Анной Васильевной. Обиженная и приунывшая, сидела она у самовара, отвернувшись от мужа и украдкой утирая слезы. Чижов пил чай, не обращая на нее внимания и тупо смотря на запечатанный конверт. Хмель начинал разбирать его все сильнее и сильнее. Он не допил второго стакана и, отложив чтение бумаг до вечера, пошел и лег спать.
Анна Васильевна убрала чай и села за пяльцы дошивать целующихся голубков, утирая то и дело набегавшие на глаза слезы. Ей было скучно, она сердилась на мужа и кляла свою горькую участь. «Не любит он меня, ничего для меня сделать не хочет, никакого удовольствия мне доставить не хочет, — думала она. — Вон Ермачиха сшила себе новое платье с оборками, сегодня обновила его к обедне, а мне и думать об этом нечего. У Васеньки денег нет, жалованье вперед забрано чуть не за год. — И Анна Васильевна тяжело вздохнула. — А уж как бы мне хотелось на лето кисейное-то платье иметь! Вот скоро семинаристы приедут на вакацию, стали бы у нас собираться, танцевать бы стали, в поле бы с чаем ездить». Но тут Анна Васильевна, вспомнив, что у нее не только на платье, но и на чай денег не станет, расплакалась так, что не могла более шить, и ушла в сад. Но и там не могла отвязаться от своих печальных мыслей и, вспомнив, что ее приглашала к себе Ермачиха, отправилась к ней.
XIV
Соснув часок-другой, Чижов встал и, вспомнив о полученных из главного правления бумагах, пошел прочитать их. В одной из этих бумаг был строгий запрос, отчего выделка железа на куморской кричной фабрике не только не увеличилась, как того следовало ожидать вследствие перестроек и поправок, произведенных на фабрике, но даже уменьшилась. Затем следовал строгий выговор Чижову за нерадение к пользам владельца, за пьянство, за поблажки мастеровым. Оканчивалась эта бумага приказанием начинать в фабриках работу с десяти часов вечера в воскресенье, чтоб не пропадала даром ночь на понедельник. Крепко выругался Чижов, прочитав эту бумагу, и, закурив папироску, крикнул Алешку. Вбежал парень с всклокоченными волосами и заспанным лицом, одетый в сюртук, как видно, с плеч Василия Николаевича.
— Уставщика[7] ко мне! — сказал Чижов, не оборачиваясь и принимаясь читать другие бумаги.
Скоро пришел уставщик. Он был навеселе по случаю воскресного дня и немножко струсил; однако ж, подождав немного, слегка кашлянул, докладывая тем Чижову о своем прибытии.
— Кто тут? — спросил Чижов, не оборачиваясь.
— Уставщик. Изволили требовать…
Чижов обернулся к уставщику вместе со стулом и сказал, ткнув пальцем в лежавшие перед ним бумаги:
— Сейчас получил предписание: велят пускать кричную в действие с десяти часов вечера сегодня. Теперь уже восемь; ступай и вели сейчас наряжать мужиков на работу.
Уставщик выступил на шаг вперед и, переминаясь с ноги на ногу, чесал голову.
— Нельзя ли, Василий Миколаевич, уволить сегодня? — заговорил он несмело. — Сами знаете, день сегодня воскресный, народ весь пьян, посылать его сегодня на работу на одно увечье.
Чижов, рассерженный и без того, рассердился еще пуще и, вскочив со стула, закричал:
— Знать ничего не хочу! Мне, что ли, за вас робить-то? И то вот тут пишут, что даю вам поблажку. Вон! И чтоб сейчас выходить на работу.
Уставщик струсил и проговорил только:
— Воля ваша, как угодно.
Он вышел от Чижова и торопливо направился к старому деревянному зданию, где помещалась заводская полиция; он спешил послать оттуда десятника собирать народ на работу. А Чижов, просмотрев бумаги, выкурил несколько папирос и принялся за «Московские ведомости», которых накопилось в его отсутствие несколько номеров. Он отворил окно и, читая газеты, время от времени посматривал, не задымились ли видневшиеся в окно трубы фабрики, расположенной под горой, недалеко от его дома. Скоро, однако же, он так занялся газетами, что забыл посматривать в окно и был отвлечен от чтения только появлением Алешки, доложившего, что пришли мастера, стоят на крыльце и просят Чижова выйти к ним. Чижов нахмурил брови и скорыми шагами вышел на крыльцо, где толпой стояли кричные мастера, почти все пьяные. В числе их не было только Набатова. Он, тоже подкутивший для праздника, стоял за воротами с опущенной головой и угрюмым взглядом. Ему не хотелось идти с просьбой к Чижову, да не хотелось и отстать от товарищей, решившихся сообща просить Чижова не начинать сегодня работы.
— Зачем? — сердито спросил Чижов.
— Да что, батюшка Василий Миколаич, — заговорил колосс Рясов, выступив из толпы и пошатываясь из стороны в сторону всем своим длинным корпусом. — Показаться пришли твоей милости, каковы мы есть для праздника.
И он обвел глазами своих товарищей, улыбнувшись широкой, добродушной улыбкой. Чижов рассердился.
— На работу вам приказано идти, а не ко мне! — закричал он, топая ногой. — Ведь я не от себя выдумал заставлять вас сегодня робить. Ведь сказано, что я предписание получил. Слышали али нет? Из правления, от управляющего предписание. Понимаете али нет?
— Да помилуй, Василий Миколаич, — заговорил один из мастеров, который был потрезвее других, — ведь мы не знали, что предписание это сегодня придет. Как бы знали, так и не напились бы. А теперь ты что хошь делай, а мы робить не можем, потому все пьяны: и подмастерья, и работники, и мы.
— Вон! — закричал на это Чижов, топая ногами. — Знать ничего не хочу. Пьяницы! Стельки кабацкие! Вон! И чтоб сейчас за работу!
И, заворотив Тимофея Рясова, стоявшего к нему ближе других, Чижов ударил его в спину так, что тот одним прыжком соскочил с лестницы. За Рясовым посыпались, толчки и брань на других, и все испуганной толпой побежали к воротам.
— Что? — спросил Набатов, увидав их.
— Да и слышать не хочет, в толчки прогнал, — отвечали ему.
— Мне такого здоровенного поддал, что инда искры посыпались, — сказал Рясов, опять добродушно оскалиа зубы.
Великан и силач Рясов, хладнокровный и рассудительный в трезвом виде, в пьяном становился кротким и добродушным, как ребенок.
Выслушав, что сказали, Набатов еще пуще понурил голову.
— Что делать? — спрашивали мужики, с недоумением поглядывая друг на друга.
Один из них, не в силах будучи держаться на ногах, сел на подворотню, двое других прислонились к стене, а Рясов стоял перед Набатовым и, качаясь во все стороны, тупо смотрел на него.
— Надо еще просить, — сказал Набатов, помолчав, — не зверь же он, может, и уймется. Ступай, уставщик, проси до утра отложить, скажи, что все пьяны и робить не можем. Пусть только до утра дадут проспаться.
— Вестимо, только до утра, а там мы уж знать будем и будем исправны.
Уставщик почесал голову и нехотя пошел на крыльцо. Вслед за ним пошли еще двое из мастеров. Все другие стояли у ворот и ждали. Скоро послышалась хриплая брань Чижова, и уставщик и мастера опять быстро сбегали с крыльца и шли к воротам. Постояли мужики у ворот еще несколько времени и, толкуя, перешли через улицу к полиции, где и уселись на ступеньках лестницы. Некоторые прилегли и захрапели; другие, потрезвее, все еще советовались между собою и придумывали, что делать. Сидели, сидели мужики на крыльце полиции и решили еще раз сходить к Чижову всей толпой.
— Набатов, иди и ты с нами, тебя еще он не видал, — обратился кто-то из них к Набатову. Тот молча встал и пошел впереди всех. На этот раз мужики не остановились на крыльце и прошли в переднюю. Чижов, еще не успевший успокоиться, скорыми шагами ходил по комнате. При виде толпы мужиков, вошедших в переднюю, гнев его вскипел с новой силой, и он с поднятыми кулаками бросился на них, не дав им произнести ни слова. Набатов, стоявший впереди всех, схватил Чижова за руки и удержал его.
— Уймись, Василий Миколаевич, — сказал он глухим голосом, — молод еще ты толчками-то нас кормить, мы не за тем пришли.
Чижова точно обдало холодной водой от прикосновения Набатова. Он, отдернув руки, спятился назад и сказал, стараясь сдерживать свою ярость:
— Говорят вам, что не от себя я выдумал заставлять вас сегодня робить, понимаете или нет, что предписано мне это из правления? Ведь я за вас отвечать буду.
— Это точно, что ты за нас отвечать будешь, — сказал ему на это Набатов. — А коли кто под колесо попадет или другомя как изувечится, тогда кто отвечать будет? Ведь ты же, Василий Миколаевич. Ну, рассуди ты сам, что за работник пьяный человек? Кои здесь, так те еще потрезвее, а ты вот на тех погляди-ка, кои без чувства-то валяются. Ну что ты с ними станешь делать? Переувечатся все в одну ночь, да и только.
Чижов, казалось, убедился этими словами. Он отошел к окну и, повернувшись к мужикам спиной, молчал.
— Помилуй, батюшка Василий Миколаевич, — заговорили другие мужики, ободренные его молчанием, — делай ты завтра с нами что хошь, а сегодня мы тебе не работники,
— Ну, ступайте, спите до двух часов, а с двух чтоб робить, — сказал Чижов, не оборачиваясь.
— Нет, Василий Миколаевич, не проспаться нам до двух часов, — сказал уставщик, — увольте уж до утра.
Чижов опять не мог совладать со своим гневом.
— Вон! — заревел он, бросившись на уставщика и толкая его в шею. — Сказал, чтоб в два часа выходили на работу. Вон!
Все поспешно пошли из передней вслед за вытолкнутым уставщиком. Пошел и Набатов, крепко стиснув зубы и стараясь спрятать от Чижова свои сжатые кулаки.
Пробило уже десять часов, когда мастеровые вышли от Чижова и разошлись по домам, порешив спать до утра.
— Ведь не станет же он нас всех драть, — рассудили они. — Сегодня он сердит, а завтра ведь уходится же его сердце.
XV
«Злодей! — думал Набатов, сердито шагая к своему дому. — Попадешься ты мне в темную ночь в каком переулке».
Упреки эти относились к Чижову, на которого Набатов перенес свою злобу во время болезни Наташки. Вид ее страданий, которых единственною причиною Набатов считал Чижова, забыв, что сам он своей жестокостью много увеличил их, постоянно поддерживал и разжигал в нем упорную ненависть. С сердцем, полным злобы, весь погруженный в свои мрачные думы, подходил Набатов к своему дому и вздрогнул всем телом, когда увидел, что у ворот его дома кто-то стоял, прислонившись к ним. Скоро он разглядел, что это был Гриша, и сплюнул в сторону.
— Что, дядя, робить? — спросил его Гриша.
— Нет, уволил, — процедил Набатов и, войдя в ограду, сел на нижней ступеньке лестницы.
— Так я ино домой пойду? — сказал Гриша, все стоявший у ворот.
— Зайди, побаем, — пригласил его Набатов.
Гриша вошел и сел рядом с дядей. Несколько минут они оба молчали.
— Что за приказ такой вышел? — спросил Гриша. — Как этого прежде не было?
— А лешак их знает, что они там делают. Приказанье, сказывают, такое пришло, чтобы с вечера в воскресенье фабрику в действие пускать, — сердито проговорил Набатов. — Ишь, варнаки, хомутаются над нами всячески, готовы из нас и жилы-те вытянуть, не то ли что чего.
— Однако! — произнес Гриша в раздумье и потом прибавил, поглядев на дядю: — Что, небось, Чижов ягал на вас во все горло, как вы отпрашиваться пришли?
— Уж ты бы лучше не поминал его, — с гневом сказал Набатов, оборачиваясь к Грише. — Уж так тому не быть, чтобы я с ним за все как есть не рассчитался! Поплатится он мне своими боками за все мое горе и за весь мой срам.
Гриша поглядел на него с удивлением.
— Да что он тебе сделал? — спросил он.
— Как что? А ты думаешь, не срам это моей голове, что Наташка ребенка принесла? Разве это мне не обида? Да повесить его за эти дела мало! — горячился Набатов, вставая с места.
Гриша только теперь понял, в чем дело, и в душе согласился с дядей, что Чижов и в самом деле стоит виселицы.
— Кровь ведь они нашу пьют, — говорил Набатов, стоя перед Гришей, — в работе нас морят, вот словно скотину, да еще и девкам-то нашим житья от них нету. Ведь сам ты видишь, на чего теперь у меня Наташка-то похожа стала. Тень одна осталась от нее. Ох-х! — простонал Набатов, садясь на прежнее место и подпирая голову рукой.
Гриша молчал, не зная, что отвечать на это. Молчал и Набатов. В избе что-то стукнуло; он вздрогнул и, подняв голову, слушал… Но стук не повторился, и все стало тихо попрежнему.
— Не поверишь ты, — сказал Набатов, не переставая слушать, — что я вот только того и жду, что Наташка умрет… хоть и зачала она ходить по избе, а все видно, что через силу. А коли она умрет, — добавил он глухо, — я ему голову сверну, потому всему злу он причиной.
— Полно, дядя, что ты! — сказал Гриша, поглядев на Набатова, и потом прибавил тихонько: — Ведь не силой же он взял?
— А я почём это знаю, может, и силой; от нее ведь теперь ничего не узнаешь. Сперва, может, и силой, а после уж что? После уж и сама пошла… Дурак я был, что бабьему уму поверил, одну девку оставлял по-ночам, вот оно что и вышло, — сокрушался Набатов.
— Почему ты не женился, дядя? Ведь ты еще молодой овдовел?
— Жениться я спервоначалу и думал было, да все боялся, что баба попадет недобрая, Наташку жалел.
И вдруг Набатов замолк, увидев, что в избе отворилась дверь. На крыльцо вышла Наталья и спросила у отца, станет ли он ужинать. Было уж с неделю, как бабушка ушла от них, и Наталья сама принялась за хозяйство, хотя еще и не чувствовала себя совершенно здоровой.
— Пожалуй, изладь на стол, — сказал ей Набатов, — мы вот с Гришей поедим.
— Ты разве не ужинал еще? — удивился Гриша.
— Нет, только было хотел, как прибежали наряжать на работу, я так и ушел.
И Набатов встал и, умыв на крыльце руки, пошел в избу, пригласив с собой Гришу. Перед ужином Набатов выпил сначала сам рюмку водки, потом подал Грише. Тот стал было отнекиваться.
— Пей! — сказал ему Набатов. — У меня выпить можно, ты у другого кого не пей, а у меня завсегда можно.
После ужина дядя и племянник еще посидели на крыльце, толкуя о подступающей страде. Во всех домашних делах Гриши Набатов стал принимать живейшее участие с тех пор, как он обратился к нему с просьбой помочь ему, и советовал, как и что лучше сделать.
— Вот даст бог, женишься на осень, а заведешь хозяйку в доме, так жить тогда тебе не в пример лучше будет, — сказал Набатов Грише на прощанье.
— Как я и женюсь? — печалился Гриша. — Ничего-то у меня нету, ни одежды, ни скота, ни живота.
— Не тужи, это все дело наживное, — отвечал Набатов, сходя с крыльца и направляясь к своим саням под навесом.
Но долго не могли уснуть в эту ночь дядя и племянник, думая каждый о своем.
XVI
Наступила сенокосная страда, и после Петрова дня мастеровым дали две недели времени на страду. Все они пользовались сенокосной землей и спешили, сколько могли, кончить все свои работы в эти две недели. Перестали дымиться фабричные трубы, и Кумор опустел и затих на это время, и только по вечерам он несколько оживлялся песнями возвращавшихся с покосов баб и девок с граблями и косами на плечах. У некоторых из мастеровых делались помочи, и тогда песни и пляски продолжались всю ночь. Груня, давно уже кончившая свою тысячу кирпичей, тоже выпросила у матери помочь и накануне назначенного дня, собираясь идти сзывать на помочь своих подруг, сказала матери, что она зайдет по Наталью Набатову, что Наталья выздоровела и уж сама носит воду.
— Что же, позови, — согласилась Галчиха, — оно хотя и не след бы тебе с ребятницами знаться, да уж грех ее бей, пусть придет. Отца у нее жалко.
Груня в прежнее время была очень дружна с Натальей. Когда же дошли до нее слухи, что Наталья загуляла, и когда Груня, увидавшись с нею, сама стала подозревать, что слухи эти справедливы, она спросила у Натальи, правду ли говорят про нее.
— Пустяки, напраслина одна, — ответила Наталья, отворачиваясь от пытливых глаз Груни. — Мало ли что бают!
— То-то пустяки, а коли правда это, то я тебе больше не подружка, так и знай! — горячо сказала Груня.
После этого разговора Наталья заметно стала удаляться от Груни, не звала ее к себе и сама перестала ходить к ней. Груня же оскорблялась в поведении Натальи не тем, что Наталья загуляла, — девки, уж дело известное, завсегда гуляют, надо же, чтоб было чем помянуть свою девичью волю, — а тем, что загуляла она не со своим братом, да еще и с женатым человеком. Между классом мастеровых и служителей всегда существовал упорный и непримиримый антагонизм, особенно сильный между мужчинами и поддерживаемый кичливостью служителей, получавших большее вознаграждение за свой несравненно более легкий труд, которое давало возможность иметь и лучшие дома, и лучшую одежду, чем могли иметь мастеровые. Предпочтение, оказываемое помещиком служителям, заставляло их думать, что они более полезны, чем мастеровые, и давало им повод гордиться и кичиться перед ними своим мнимым превосходством. Мастеровые же, завидуя в душе огромным, по их понятиям, привилегиям, какими пользовались служители, платили им за их пренебрежение и кичливость затаенной, но тем не менее упорной ненавистью. Антагонизм этот был отчасти присущ и Груне и еще более усилился вследствие наглых требований Чижова. Все это имело влияние на ее отношение к Наталье в последнее время.
Наталья сидела у окна, выходившего на двор, и глядела на воробьев, скакавших под окном по навесу над крыльцом, куда она выбросила несколько хлебных крошек. При входе Груни она вздрогнула всем телом, и кровь на мгновение обожгла ее бледные щеки. Машинально взялась она за чулок, отодвинувшись от окна, и не поднимала глаз на свою сердитую подружку. А та до того была поражена худобой и страдальческим видом Натальи, что забыла даже помолиться на иконы, и, совершенно растерявшись, глядела на нее с выражением участия и сожаления, не зная, как начать разговор. Наконец, она села возле нее на лавку и спросила тихонько:
— Никак все еще хвораешь?
— Все, — ответила Наталья. — Грудь болит, кашель, дышать не могу.
И она опять повернулась к окну и, подпершись рукой, стала глядеть на него. Две слезы медленно покатились по ее лицу; навернулись слезы и у Груни.
— Не плачь, будет уж убиваться-то, — сказала она ласково, — и то уж вся высохла, только кожа да кости остались.
В ответ на это Наталья громко зарыдала и припала головой на колени своей подруги. Та не вытерпела и сама заплакала.
— И что с тобой сделалось? — дивилась Груня, утирая слезы и гладя Наталью по голове. — Ни в речах у тебя, ни в чем ничего такого незаметно было. Как он, варнак, и подошел к тебе, чем тебя и улестил! Задарил-он тебя или что?
— Не брала я от него никаких подарков, — проговорила Наталья, немножко успокоившись и утирая лицо передником. — Так уж я и сама не знаю, что со мной сделалось.
— Да как же так, да с чего же? — дивилась и допытывалась Груня. — Полюбила ты его, что ли?
— И не то, чтоб полюбила, а так вот словно обошел кто меня, увижу где, так даже задрожу вся и слова не могу вымолвить. Вот словно страх меня ошибет, — тихо сквозь слезы припоминала Наталья, припав к плечу своей подруги. — Ходила я к нему в дом полы мыть, ну, он со мной заигрывал все, то по плечу потреплет, то по щеке, а я так и трясусь, так и трясусь. Осенью уж как-то, когда меня от поломоек уволили, сижу я вечером одна, слышу, вдруг кто-то по сеням идет, я так и обмерла, а он вошел в избу, сел подле меня да и говорит: «Здравствуй, Наташа! Я, говорит, вечеровать к тебе пришел».
— А ты бы его в шею! — горячилась Груня. — Да поленом бы!
Наталья только вздохнула.
— Обнял он меня, — продолжала она полушепотом и вздрагивая всем телом при одном воспоминании, — и точно по мне струя горячая пробежала. Отпали у меня и руки и ноги.
На это Груня уж не нашлась что сказать и только покачивала головой, с укором и состраданием глядя на свою подругу. Посидели подруги молча несколько времени, Наталья — глядя в окно, а Груня — оглядывая избу и думая про себя, что она уж слишком долго засиделась.
— А я ведь пришла тебя на помочь звать, — сказала, наконец, она. — Пойдем!
— Нет, какая уж я работница: воды принесу, да и то отдохнуть не могу, силы у меня совсем не стало.
— Ну, хоть не робь, а так походи с нами по лугу-то, хоть траву потопчи. Ягод поберешь, там у нас, на лугу, смородины много, — уговаривала Груня Наталью.
— Нет, и не зови, — ответила та грустно, — у меня и охоты нет. Я бы и на свет не глядела. Умереть бы мне.
— Ну вот, выдумала умирать! Не тужи: все перемелется, мука будет, — сказала Груня, вставая и собираясь уходить.
— Прощай, Наталья, выздоравливай скорее.
— Прощай, Грунюшка, спасибо тебе — зашла, заходи еще, когда удосужишься.
— Ладно, зайду.
И Груня ушла; у ворот она встретилась с Гришей, который шел к Набатову, и велела ему приходить на помочь. В три часа утра уж все помочане были в сборе и веселой толпой отправились на луг.
XVII
В ту ночь в куморской фабрике случилась пропажа: из припасного амбара потерялись медные подшипники. О пропаже их узнали только в полдень, и тотчас же было арестовано несколько мастеровых, которых было, хоть маленькое основание подозревать в краже. В числе арестованных был и сосед Гриши, Семен Жбан. Подозрение на него было очень сильно; все говорили, что это его дело, хотя при обыске, произведенном у него в доме, ничего не было найдено. При допросе он твердил одно, что знать ничего не знает и ведать не ведает, что ночью он не бывал вон из двора. То же показали и все его семейщики. Тщетно кричал Чижов, угрожая рекрутами и Сибирью; Жбан упорно стоял на своем. Чижов решился, наконец, сам ехать к Жбану и произвести вторичный обыск. Жбану он приказал связать руки и отправился в дом к нему с понятыми и полицейскими. Перевернули все вверх дном, обшарили все мышиные норки и опять не нашли ничего. Чижов выходил из себя от злости и несколько раз принимался допрашивать Жбана, не щадя кулаков, как самого убедительного при допросе средства. Жбан стоял на своем — знать не знаю, ведать не ведаю. «Не я один роблю на заводе, — прибавил он, когда Чижов после бесполезных розысков стал опять его спрашивать. — Вот и соседи тоже робят, прикажите и их обыскать, коли так».
— А кто твои соседи? — спросил Чижов.
— Справа Гришка Косатченок, а слева Степан Онучин.
Чижов, не сказав ни слова, пошел из избы. У ворот он остановился и думал, ехать ли ему домой или отправиться с обыском в дом к Грише. Не было причины подозревать его в краже, но злость Чижова на Гришу была еще очень сильна, и он, садясь на дрожки, приказал тщательно обыскать его дом, а сам поехал домой.
Дома он не успел еще выкурить папироски, как к нему, запыхавшись, вбежал полицейский.
— Нашли! — доложил он.
Чижов встрепенулся.
— Где нашли? У кого?
— У Гришки Косатченка в огороде.
— А-а… — протянул Чижов и скорыми шагами заходил по комнате.
— Прикажете его арестовать? — спросил полицейский.
— А разве не арестовали его? — удивился Чижов.
— Да. его дома нет, обыскивали без него, а он на помочь ушел к Василию Галкину.
Чижов помолчал.
— Уж дело под вечер, — сказал он, поглядев в окно, — скоро будут возвращаться с покосов, тогда и взять Гришку.
— Слушаю-с. — И полицейский вышел.
Вечером Гриша, не подозревая грозившей ему беды, весело возвращался с покоса в компании парней и девок, распевавших песни. Поравнявшись с полицией, мимо которой они должны были проходить, Гриша был окрикнут полицейским, караулившим его на крыльце. Он бегом подбежал к крыльцу и, поклонившись, спросил, на что его требовали.
— Дело есть до тебя, войди, — сказал ему полицейский, указывая на дверь полиции.
Гриша вошел.
— Садись-ка, брат, да побеседуй, — пошутил полицейский. — Ты у нас не гащивал, так вот погости, ночуй ночку-другую, клопиков с нами покорми.
Гриша думал, что он шутит, и, отшучиваясь сам, хотел было выйти из полиции. Но его остановили и, объявив ему, в чем дело, заперли в арестантскую. Гриша был до того поражен возведенным на него обвинением и тем, что подшипники нашлись у него в огороде, что даже не заметил, что сосед его Жбан тоже сидит в арестантской. «Это дело Жбана, — думал он, — однако мне беды не миновать: Чижов мне не поверит, потому он рад, случая дождался».
Он сел на лавку и заплакал с горя и досады.
— Ну, чего ревешь? — крикнул на него полицейский. — Умел воровать, так умей и ответ держать.
— Видит бог, не я, и дело не мое! — побожился Гриша, утирая слезы кулаком. — Без вины погибаю.
— Подшипники сами зашли в огород, соседушка! — ядовито подшутил Жбан из своего угла.
Гриша вскочил, как ужаленный, при звуках ненавистного шипящего голоса и, подойдя к Жбану, сказал, сдерживая свою ярость:
— Твое это дело, Жбан, попомни ты мое слово, что я тебе отплачу.
— Что же, я от платы не отпираюсь, — шипел Жбан, скаля зубы. — Я возьму, коли милость твоя будет заплатить мне рублишек десяток, пожалуй, и больше возьму, сколько дашь.
— Так на же, возьми! — крикнул Гриша и, размахнувшись, ударил Жбана по щеке, да так, что тот свалился с лавки и закричал караул.
Гришу схватили, связали ему руки назад и отвели в другой угол.
— Что ты наделал? — говорили ему полицейские. — Беда ведь тебе будет, за две вины тебя тожно судить будут. — Полицейские жалели его и были убеждены, что Гриша не виноват и что кража подшипников — дело Жбана.
— Братцы вы мои милые! — взмолился им Гриша. — Пошлите Христа ради сказать дяде Набатову, чтоб сюда пришел.
От Чижова не было приказа, чтоб никого из родных не допускать к Грише, и потому его просьба была исполнена. Через четверть часа Набатов, встревоженный, торопливо входил в полицию.
Увидав его, Гриша взвыл голосом.
— Что воешь? — спросил тот, пристально глядя на племянника.
— Да вот без вины пропадаю, — заговорил Гриша, насилу сдержав свои рыдания. — Поклёп на меня сделан: бают, я подшипники украл, а я и сном-то своим ничего не знаю.
— А не знаешь, так и выть не о чем, — сказал Набатов уже ласковее и сел на лавку возле Гриши.
— Что это у тебя, никак руки связаны? — удивился Набатов, увидев, что у Гриши связаны руки. — Кто велел связать?
Гриша молчал, полицейские объяснили ему, в чем дело. Тот подробно расспросил их об обыске, о том, где нашли подшипники, в каких местах была примята трава в огороде, и, выслушав рассказ, обратился к племяннику:
— Слепой разве не увидит, что твое дело правое, — сказал он ему. — А вот что ты на Жбана кинулся, так это плохо. Не надо рукам волю давать… Ох, не надо!
Набатов понурился и помолчал несколько времени. Гриша тоже молчал.
— Развяжите ему руки, братцы, — обратился он к сторожам, — он больше драться не станет.
— Не станешь, что ли? — спросил сторож, подходя к Грише.
— Не стану, — уныло ответил тот. И сторож развязал ему руки.
— Ты бы, дядя, к Ермакову сходил, обсказал бы ему все дело, как есть, может, он за меня и заступился бы, — сказал Гриша, тихонько подвигаясь к дяде.
— Схожу беспременно, ты не тужи много, я Чижову ни в жизнь не поддамся, — горячо сказал Набатов. — Ты Жбана не слушай, плюнь на него, да и только, а уж я за тебя постою.
И Набатов встал с лавки. Уговаривая племянника не слушать Жбана, Набатов сам насилу удерживался от того, чтобы не броситься на Жбана и не исколотить его тут же до полусмерти.
— Прощай, утро вечера мудренее, — прибавил Набатов и вышел из арестантской. Он был сильно взволнован и раздражен, и попадись ему Чижов в этот сердитый час, — Набатов вряд ли бы совладал с своим сердцем. Он зашел было к Ермакову, но было уже поздно, и Ермаков спал.
XVIII
Утром Гришу повели на допрос в контору, где его ждал Чижов; повели и Жбана, и тот тотчас по приходе сказал Чижову, что Гришка его избил ночью. Чижов спросил сторожей. Те показали, как было.
— Так ты еще буянить! — закричал Чижов на Гришу. — Мало того, что ты вор, так ты еще бунтовать, в полиции драться? Под арестом? А-а?
И Чижов с сжатыми кулаками подошел к Грише, У того засверкали глаза. Он не спятился ни на шаг, но, смело устремив свои глаза на Чижова, заговорил дрожащим от волнения голосом:
— Я коли Жбана ударил, так ударил за дело, потому что он подшипники украл и ко мне в огород подкинул, да еще стал смеяться надо мной, ну, я и не мог стерпеть. Хотя бы до кого коснись такая напраслина…
— Ты еще разговаривать смеешь? — закричал на него Чижов, топая ногами. — Молчать, подлец!
— Нет, я молчать не стану, Василий Миколаич, — за говорил опять Гриша, — потому я ни в чем ни на волос не виноват…
— Так ты молчать не станешь? — крикнул Чижов и ударил Гришу по щеке. — Так ты сознаваться не хочешь? — И он хотел его ударить по другой щеке, но Гриша схватил его за руки повыше кистей и так крепко стиснул их в своих руках, что кяк ни был силен Чижов, а не мог высвободить своих рук без помощи полицейских.
А Гриша, задыхаясь от волнения и борьбы с полицейскими, говорил:
— Ты меня не бей, Василий Миколаич, ты рассуди сперва, виноват я али нет, а бить я тебе не поддамся.
— Так ты не поддашься? — закричал на него Чижов, когда его руки были высвобождены из рук Гриши. — Розог! Драть его, да так, чтобы он и с места встать не мог!
Полицейские бросились исполнять его приказание.
В то время, как Чижов тешился над своим слабейшим противником, в контору вошел Ермаков. Следом за ним шел Набатов. По просьбе Набатова, Ермаков хотел было заступиться за Гришу, но, узнав в конторе, в чем дело, раздумал. Он понимал, что не должен поощрять в мастеровых буйство и неповиновение властям ни в каком случае, потому, во-первых, что сам был власть, а во-вторых, что был довольно труслив и, несмотря на свою вражду к Чижову, не хотел на этот раз противоречить ему. Чижов, думал он, напишет управляющему, и кто знает, как там взглянут на это дело; лучше подождать, что дальше будет.
А Чижов, насытив свою злость, велел Гришу заковать в кандалы и увести в полицию, угрожая ему ссылкой на поселение.
В это время в контору ворвалась Егоровна и с воплем повисла на шее у Гриши. Истерзанный стыдом, болью и злобой, Гриша сурово оттолкнул ее и пошел из конторы, побрякивая кандалами. Егоровну тоже хотели вывести вслед за ним, но она бросилась в присутствие, куда ушел Чижов писать донесение, и плача ползала у него в ногах, прося за своего любимца, но дождалась только того, что ее велели вывести и не впускать больше. Она села на конторском крыльце и предалась сильнейшему отчаянию. Смотрел на все это Набатов и только кусал до крови свои посиневшие от душившей его злости губы. Выходя из конторы, он сказал Егоровне:
— Полно выть, старуха, вставай-ка лучше да пойдем ко мне.
И, не дожидаясь ответа, он быстро сошел с крыльца и пошел домой. Егоровна встала и покорно последовала за ним.
Придя домой, Набатов сказал дочери:
— Наташка, не отпускай тетку, покуда я домой не ворочусь.
И стал одеваться по-дорожному, ожидая, что Наталья спросит его, куда он. Но Наталья молчала. Вынул он из сундука бумажник с деньгами, привязал его к шнурку, на котором носил большой медный крест, и, взяв шапку, готовился выйти из избы.
— Я пойду в Кужгорт, — сказал он, не глядя ни на Наталью, ни на Егоровну и не обращаясь ни к той, ни к другой в особенности.
— Будь отец родной, — взвыла Егоровна, — заступись за сироту, бог тебе за это заплатит. — И она хотела поклониться Набатову в ноги. Тот нетерпеливо удержал ее рукой и сказал с сердцем:
— Сказано, что иду, так чего тебе еще надо? Что могу, то и сделаю без просьбы. — И он, перекрестившись, пошел к двери.
— Сходи в полицию, скажи Грише, что я ушел начальство за него просить, — прибавил Набатов, взявшись за скобу, — да поживи до меня с Наташкой, пособи ей.
И Набатов вышел. У ворот он встретился с Груней, которая шла к ним с узелком подмышкой. Поклонившись ему, Груня с минуту смотрела ему вслед, спрашивая себя, зачем это он такой сердитый и куда пошел. И потом бегом бросилась на лестницу. Она знала, что Гриша арестован по подозрению в краже подшипников, но и только. Войдя в избу и поздоровавшись с Натальей, она тотчас обратилась к Егоровне с расспросами и узнала от нее все остальные подробности дела.
— В кандалы заковали! — плача, закончила Егоровна свой рассказ. — На поселенье хочет его Чижов в Сибирь послать.
— Да разве он душегуб какой, что его в Сибирь на поселенье? Да за что? Да как он смеет, — горячилась Груня. — У, чтоб ему, проклятому, ни на том свете, ни на этом. Сквозь землю бы ему, в самые тартары провалиться, собаке!
И долго еще она злилась и кляла Чижова, призывая на его голову всевозможные бедствия. А Набатов между тем усердно шагал по дороге в Кужгорт, обливаясь потом. Он снял с себя свой суконный бешмет, связал его опояской и повесил за плечи. Снял и поярковую шляпу и нес ее в руке, подставив свою голову под яркие лучи июльского солнца. Не отошел он еще и пяти верст, как его обогнала ямская телега парой. В ней ехал нарочный служитель, посланный Чижовым с донесением к управляющему.
XIX
Прошло два томительных, длинных для Гриши дня. Вечером второго дня в Кумор привезли почту, а с ней и решение Гришиной участи.
О том, что почта пришла, Гриша узнал в тот же вечер, но решение о себе узнал только на другой день в десять часов утра в конторе. «Сослать на шесть месяцев в работу в Алакшинские рудники» — предписало правление, и Гриша вздохнул несколько свободнее. Он боялся, чтоб не было чего хуже, да и не он один боялся этого. В конторе говорили, что такое милостивое решение по делу Гриши сделано, вероятно, только по просьбе, его дяди, а что иначе Грише не миновать бы солдатчины. Чижов заметно был недоволен таким решением и говорил в конторе, что Гришу следовало бы, по крайней мере, отдать в работу на рудники года на три. Отправить его в Алакшинский завод, отстоявший в двухстах верстах от Кумора далее к северу, Чижов приказал на другой день поутру. Кандалов снимать не велел. Весь день Гриша с величайшей тревогой ждал возвращения Набатова из Кужгорта; и уж начинал думать, что ему не придется увидеться с дядей до отправки, как вечером пришла Егоровна и сказала, что Набатов пришел домой и скоро будет в полицию. Через полчаса Набатов действительно пришел в полицию; он был очень угрюм и очень утомлен и, войдя в арестантскую, тотчас же сел и несколько времени сидел молча.
— Что, милый, — спросил он, наконец, Гришу, — все еще в кандалах?
— Так и везти приказано, — ответил Гриша. — Неужли их и там с меня не снимут?
— Как не снять, снимут! — сказал Набатов. — Просил я за тебя, Григорий, всех, и управляющего, и членов, и все сказали, что нельзя тебя простить за буйство, — стал рассказывать Набатов. — Для примеру других, говорят, наказать надо. Один только Углов сказал, что он напишет в Алакшу, чтоб тебя в рудниках не морили, а заставили бы робить в кричной, как и здесь робил, а больше этого ничего не мог выпросить.
Набатов понурил голову и замолчал; молчал и Гриша; только его мать, вздыхая, шептала иисусову молитву и терла рукавом рубахи свои распухшие глаза. Она уж выплакала все свои слезы и теперь только стонала и вздыхала, наглядываясь на своего милого сына, возвращения которого она не надеялась дождаться.
— Что делать, — заговорил опять Набатов, — надо потерпеть. И жалко мне тебя, парень, а пособить нечем; кабы можно было деньгами откупиться, так я бы уж и денег не пожалел, да управляющий спервоначалу сказал, что нельзя простить: «Другим, говорит, будет повадно, и то уж народ весь извольничался — начальство ни во что не ставит». Я было стал ему обсказывать, как и что было: безвинный, мол, поклёп на парня взвел сосед по насердке, а он на это: «После, бает, я это дело разберу, а теперь и просить нечего». Так с тем и ушел.
И Набатов опять понурил голову и задумался. Видно было, что сознание своего бессилия и полнейшей зависимости от начальства тяжело давило его. Он несколько раз поглядывал на Егоровну, уныло слушавшую его рассказ, как будто она мешала ему, но не сказал ей ни слова. Егоровна, наконец, встала и спросила у Набатова, вместе ли пойдет он с ней или останется.
— Ступай одна да ложись спать. Утром ведь надо раньше вставать да стряпать подорожники Грише, — сказал ей Набатов. И когда она вышла из арестантской, он встал и выглянул вслед за нею в другую комнату. Там никого не было, кроме сторожа и рассыльного мальчишки, спавшего на лавке. Было уж часов двенадцать ночи, и все из полиции ушли. Арестантов только и был один Гриша. Набатов возвратился и сел опять на прежнее место.
— Слышал я в Кужгорте, что Чижову смена будет в этом году, — заговорил Набатов, не глядя на Гришу и стараясь придать своему голосу совсем равнодушный и спокойный тон. — Провинность, говорят, за ним есть большая. Углов все у меня про него расспрашивал: каков-де он с народом, да как к нему народ, да как дела в заводе идут.
— Дай-то бы бог, чтоб его поскорее убрали! — вздохнул Гриша. — А кого на его-то место изладят — не слыхать?
— А есть ведь у них там, небось, недостатка не будет. Недостаток у нас в рабочих бывает, а в начальниках никогда, — злобно сказал Набатов, вставая с лавки и выпрямляясь во весь рост. — Только не бывать этому так и обиды своей я не прощу Чижову. Он от меня не уйдет.
Гриша, вполне сочувствуя дяде в его ненависти к Чижову, хоть и желал, чтоб его постигли всевозможные напасти, однако же не желал, чтобы они постигли его через Набатова. Мысль о том, что Набатов при своей горячей, неукротимой натуре легко может решиться на убийство, уже не раз приходила ему в голову с того вечера, как между дядей и племянником произошел первый откровенный разговор, из которого Грише выяснились все причины ненависти Набатова к Чижову. И теперь, взглянув на Набатова и встретив его сверкающий злобный взгляд, он опять подумал то же и испугался.
— Полно, дядя, — сказал он ему тихонько, — не говори таких речей. Пусть его бог накажет за нас.
— А что, разве у тебя уж зажила спина-то, что ты его на божью волю предавать стал? — мрачно спросил Набатов. — Не слыхал разве пословицы, что до бога высоко?.. Эх ты! Постегали тебя, так ты и укротился.
И в голосе Набатова слышалось что-то вроде укора. Гриша отвернулся и молчал. Он только крепко стиснул зубы и нахмурил брови, стараясь побороть свое волнение, вызванное этими словами.
— Нет моей возможности терпеть больше, — заговорил опять Набатов. — Ты только то рассуди, что какова теперь моя жизнь будет. Вот словно у нас в дому покойник лежит — так оно тихо да пусто.
И Набатов с тяжелым вздохом опять сел на прежнее место и задумался. Грише стало жаль дядю, и он придумывал было сказать ему что-то в утешение, но ничего не мог придумать.
— А коли, даст бог, воротишься домой, — заговорил Набатов после нескольких минут молчания, — да со мной без тебя какая ни на есть беда приключится, умру али что, так ты мою Наташку не брось, у нее только и есть родни, что ты: одна как перст останется.
И Набатов замолк опять, сильно взволнованный, и, помолчав, добавил глухим голосом:
— Она на ладан дышит, долго хлебом кормить не придется… Ну да и деньжонок я накопил немножко, на ее век достанет, да еще и тебе останется.
— Полно, дядя, что ты? Зачем тебе умирать? — прервал его Гриша. — Не бай об этом, мне и без того тяжко.
— Зачем не баять? Это не в нашей власти, и должны мы об этом завсегда помнить, — грустно сказал Набатов.
И долго еще, почти вплоть до рассвета, раздавались в арестантской голоса дяди и племянника. Прислушивался к ним дремлющий сторож и терпеливо ждал, когда они наговорятся и Набатов уйдет домой. Торопить же его уходить сторожу и не приходило в голову. Он и знал, что это было бы бесполезно. «Да и нельзя же в самом деле родным не покалякать промеж себя на прощанье. Ведь Алакшинские рудники не свой брат, и работа в них тяжкая, да и мало ли что человеку может приключиться», — думал сторож под неясные звуки голосов, доносившихся из арестантской. Уж на рассвете Набатов ушел домой и лег на свое обычное место — в санях под навесом, но заснуть не мог. Часов в шесть утра он и Егоровна уже опять были в полиции. У крыльца уже стояла пара лошадей с ямщиком на козлах и еще другим мужиком, который должен был проводить арестанта до места ссылки. Егоровна с таким безнадежным отчаянием причитала над своим сыном, что можно было подумать, что она расстается с ним не на полгода, а на всю жизнь. Набатов молчал, и только лицо его конвульсивно передергивалось всякий раз, как звенели цепи на ногах Григория, одевавшегося в дорогу. Скоро он был готов и, поклонившись в ноги матери и дяде, пошел садиться в телегу. Набатов дал ему на дорогу два целковых. Все время Гриша был спокоен и бодр, но, севши в телегу и оглянувшись на свою хилую старуху-мать, он не выдержал и заплакал.
— Поезжай мимо моего дому, — сказал Набатов ямщику, влезая на козлы, — пусть он с моей девкой простится — она его ждет у ворот.
Егоровну тоже посадили на край телеги и поехали. У дома Набатова остановились. У ворот вместе с Натальей, державшей узел с пирогами, стояла и Груня. Она еще накануне узнала о времени отъезда Гриши и пришла проститься с ним. Когда телега остановилась, обе девушки подошли к ней, и Наталья молча поцеловалась с Гришей и положила узел с пирогами в телегу. Поцеловалась и Груня и, вынув из-за пазухи шерстяные чулки, подала их Грише. Тот слегка отстранил их рукой и сказал:
— На что даешь, Аграфена Васильевна, не надо.
— Полно, Гришенька, возьми, зимой-то сгодятся, — убеждала покрасневшая Груня.
Григорий не отговаривался больше и, взяв чулки, положил их в узел с бельем, приготовленный матерью, и перецеловался еще раз со всеми. Затем провожавший его мужик сел в телегу и велел ехать. Егоровна кинулась было вслед за телегой, но Набатов удержал ее и повел в избу. А Наталья и Груня долго еще стояли среди улицы, глядя на удалявшуюся телегу и отвечая прощальными знаками на поклоны Григория.
XX
Алакшинский чугуноплавильный и железоделательный завод, построенный на речке Алакше, протекающей между двумя высокими горами, обильными железной рудой, имеет весьма непривлекательный вид. Покрытые тощим ельником высокие горы, с обнаженными, изрытыми боками, вздымаются по обеим сторонам Алакши; по склонам их, изрезанным логами и угорами, расположены бедные невзрачные дома заводских мастеровых.
В одном из этих бедных домов нашел себе пристанище наш ссыльный. С него по приезде в Алакшу сняли кандалы и, выдержав его еще с неделю под арестом в заводской полиции, наконец, отпустили в квартиру с строгим наказом не бегать.
— Убежишь — хуже будет, — сказал ему приказчик, — потому что поймают и опять сюда же пришлют. А тогда уж кандалов не снимем да и из полиции не выпустим.
Но эти увещания были бесполезны, Гриша и не думал бежать. Затаив глубоко в сердце всю свою ненависть и злобу, он решил терпеливо вынести время ссылки. Сначала его заставили работать наверху, и работа не казалась ему особенно тяжела. Но когда пришлось опуститься в шахты глубиной сажен на шестнадцать, то Григорий сильно приуныл. Несносен был ему спертый, удушливый воздух в рудниках, и он с все возрастающим нетерпением ждал распоряжения из Кужгорта об освобождении его от работы в руднике. Но Углов или обманул Набатова, или забыл об обещании, данном ему, только никакого распоряжения в Алакшу не получалось, и Гриша, прождав его до октября месяца, надумал сходить к алакшинским приказчикам, попросить их о переводе его из рудников в кричную или хоть на какую-нибудь другую работу.
Мысль эта пришла ему в голову в одно холодное и туманное утро, когда Гриша, проработав в руднике ночь, вылез из шахты усталый и покрытый грязью и шел по дороге, где была его квартира. Туман в это утро был до того густ, что не было возможности видеть на два шага вперед, и как ни было холодно Грише в его мокром, облепленном жидкой красной грязью тяжелке, он поневоле должен был идти тихо. Кое-как, чуть не ощупью доплелся он до своей квартиры и, сняв мокрую одежду, развесил ее на печи для просушки, а сам сел на лавку и ждал завтрака, который только что начала приготовлять его хозяйка.
Он был очень голоден, очень утомлен и уныл, и его выразительные и умные глаза как будто потеряли свой блеск и как-то тупо следили за движениями хозяйки, стряпавшей лапшу. Скоро лапша сварилась, и хозяйка, перелив ее из котелка в чашку, поставила на непокрытый стол, положила возле нее ложку и краюху хлеба и пригласила Гришу за стол. Пока он ел, хозяйка его стояла у лубочной люльки и печально глядела на спавшего в ней больного ребенка. Она была еще молодая женщина с некрасивым и бледным лицом, на котором суровая бедность наложила свой тяжелый отпечаток, как будто застыло на ее лице выражение покорного, тупого страдания. Она доживала замужем четвертый год и собиралась хоронить своего третьего ребенка. Двое первых точно так же, как и этот, томились по нескольку недель в лубочной люльке и потом умирали.
«Умрет и этот», — думалось бедной женщине, и щемило и ныло ее материнское сердце, когда она смотрела на худенькое, бледное личико, выглядывающее из-под грубых синих тряпиц, служивших ребенку постелью и одеялом. Тяжело вздохнув, отошла она от люльки и, поглядев в окно, сказала:
— Зачинает уже туман-от подыматься, можно уж тожно носить воду.
— Пустили постояльцев-то? — спросил у нее Гриша.
— Пустили еще троих, — отвечала ему хозяйка, выходя из избы.
Гриша вышел из-за стола и, влезши на полати, хотел было заснуть, но не мог, несмотря на свою сильную усталость. Ему все думалось, что будет он говорить приказчику и что скажет ему приказчик. Потом его мысль перешла на тяжелые рудничные работы, на работы в фабриках, более легкие, чем в рудниках, и еще более легкие поденные, или так называемые поторжные[8] работы.
«Вот бы хорошо, кабы мне хотя с недельку в поторжной поробить, — думалось Грише, — отдохнул бы я, а то уж совсем замучили в этих рудниках; силы у меня даже не стало». И он стал слезать с полатей и собираться идти к приказчику.
В избу вошла старуха в зеленой китайчатой шубе[9], с берестяным бураком в руках.
— Где Орина? — спросила она у Гриши.
— За водой ушла, — отвечал он.
Старуха заглянула в люльку и, промолвив: «все еще жив», села на лавку, поставив возле себя бурак.
— А Игнат на работе? — спросила она опять. Игнатом звали хозяина Гришиной квартиры, Ориной — хозяйку.
— На работе, надо быть, — сказал Гриша. — Я недавно пришел, никого уж не застал.
Вошла Орина с водой и, вылив ее в кадку, поздоровалась со старухой.
— Я тебе молока принесла, — сказала старуха, — ребенка-то покормить.
— Спасибо, — сказала Орина и прибавила, подойдя к люльке:- Нежилец он у меня, Степановна, почитай что ничего не ест.
Старуха тоже подошла к люльке.
— Пошто ты грудью-то перестала кормить? — спросила она.
— Да сам не стал брать. Молока-то у меня в грудях не было — так, малость самая, ну, он сосет-сосет, не попадает ничего — так и перестал.
— Ну и на что тебе ребят-то? Дело ваше бедное да нужное; умирают, так и пусть умирают с богом, — рассудила старуха.
— А мне вот жаль, — сказала Орина грустно. — Хотя бы один-от ожил, намедни в церкви была, свечку богородице поставила, не даст ли, мол, здоровья.
— А какой богородице-то? — спросила старуха.
Орина затруднилась и не знала, что отвечать на такой вопрос.
— Да известно, какой — богородице, да и только: одна ведь богородица-то, — отвечал за нее Гриша.
Старуха живо обернулась к нему.
— Как одна? — горячо заговорила она. — Что ты суешься, коли не знаешь? Молчал бы уж, — и потом прибавила внушительно: — Не одна, а двенадцать богородиц-то.
Гриша удивился, но так как его сведения по этой части были весьма ограничены, то он счел за лучшее промолчать.
— Вот я тебе скажу какие: перво-наперво смоленская, затем иверская, затем тихвинская, — принялась считать старуха. Считала да считала и, действительно, насчитала двенадцать.
На это Гриша уж совершенно не нашелся ничего сказать, и так как он уж оделся, то взял шапку и вышел из избы, оставив женщин рассуждать на свободе. Дойдя до угла, он остановился в нерешимости, к которому из приказчиков идти с просьбой. «Пойду к главному, — порешил он, наконец, — бают, он добрее до нас».
Но главного он не застал дома: сказали, что уехал в контору. Гриша пошел туда. В конторе было много народу. Судили каких-то мужиков за кражу чугуна. Приказчики оба были сердиты и сильно ругались. Гриша прижался к двери и ждал. Скоро подсудимых увели, и один из приказчиков обратился к Грише с вопросом, что ему нужно.
Гриша, сильно приунывший и потерявший надежду выпросить что-нибудь у сердитых приказчиков, высказал свою просьбу. Но, к удивлению и радости Гриши, просьба его была уважена, и ему на другой же день велели выходить на перекличку. Он поблагодарил приказчика и вышел из конторы весьма довольный таким результатом своей просьбы. Правда, если бы он знал, что просьба его только напомнила приказчику о распоряжении, полученном из правления уже с месяц тому назад и по забывчивости не приведенном в исполнение, то удовольствие Гриши, может быть, и поубавилось бы, но он не знал об этом и, придя на квартиру, лег на полати и заснул спокойным, крепким сном. Проснулся он уж вечером, когда, возвратившись с работы, крестьяне, новые постояльцы Игната, громко заговорили в избе, снимая мокрую обувь и раскладывая ее на печи. Гриша свесил голову с полатей и поглядел, нет ли между ними кого знакомых. Но знакомых никого не было.
«Что это, — думал Гриша, перевертываясь на другой бок, — хотя кого-нибудь из знакомых встретить, про дядю бы спросил, про мать, а то как есть никого не встречал, и как из дому уехал, так и не слыхал про них ничего». И, тяжело вздохнув, он принялся высчитывать, сколько еще ему осталось жить в Алакше.
«Груне меня, знать, не дождаться, — думалось Грише, когда он сосчитал, сколько прожил в Алакше. — Теперь ее непременно кто-нибудь сватает, станут ее неволить отец и мать, вся родня начнет уговаривать, вот она и выйдет. Вот тебе и любовь наша, тут ей и конец». И Гриша опять вздохнул. «Разве дедушка Савелий постоит за нее, он ее любит». Но в это время до слуха Гриши долетело имя, заставившее его вздрогнуть и внимательно прислушаться.
— Чижов, — говорил один из крестьян, — он и есть самый. Застрелился, бают, ружьем.
Гриша быстро слез с полатей и спросил, о ком говорят.
— Да вот в Куморе приказчик, бают, застрелился, — сказали ему в ответ.
— Сам застрелился? — спросил Гриша встревоженным тоном.
— Не знаем, надо быть, сам, мы вот на работе чули, — ответили ему крестьяне.
— А который — не знаете? — продолжал расспрашивать Гриша.
— Да Чижов, бают: тот-де самый, коей смолоду-то тут жил.
— Да правда ли это?
— А кто знает! Мы чули на работе от мастеровых, они промеж себя толкуют, так мы тут же подслушали.
— А тебе что до приказчика этого? — спросили мужики у Григория.
— Да так; я вот, видишь ты, куморский, так хотелось бы узнать-то — правда, не правда.
Посудили, потолковали еще и стали ужинать. После ужина двое мужиков полезли на полати, а третий сел возле Гриши и стал его расспрашивать, кто он, откуда и зачем. Гриша отвечал вяло и неохотно. Слух о смерти Чижова ошеломил его, и он не знал, что делать. Страх, не замешался ли тут дядя Набатов, спутывал его мысли и тревожил его все сильнее и сильнее.
Позднее всех пришел Игнат; это был сухощавый, невысокого роста мужик. Он работал на фабрике. Сняв свои лапти с баклушами и кожаный запон, Игнат молча сел за стол, и Орина, только что убравшая со стола, опять засуетилась, спеша подать мужу ужин.
Пока он ужинал, Гриша спросил у него, не слыхал ли он чего про куморского приказчика Чижова.
— Чул, — ответил Игнат, — убился, бают, он.
— Как убился?
— Да из ружья, так и убился до смерти.
— Сам?
— Надо быть, сам, потому, бают, убился.
— Эко диво какое? — говорил Гриша, хлопая руками. — И что ему сделалось такое? Как он так?
— А кто знает, как? Попритчилось, надо быть: на притчу ведь мастера нет.
Скоро все улеглись и заснули. Не спалось только Грише, взволнованному неожиданной новостью, да Орине, укачивавшей на руках свое больное, расплакавшееся дитя. На полу было холодно, и Орина полезла с ребенком на печь и сидела тут, качаясь из стороны в сторону и шепотом творя молитву. Старуха, приходившая утром, сказала ей, что самая милостивая богородица — иверская и что к ней следует обращаться за помощью, и вот Орина терпеливо сидит всю ночь над своим ребенком и шепчет с надеждой в душе:
— Мать пресвятая богородица иверская, помоги нам, грешным: исцели моего младенца от болезни!
XXI
Рано утром вместе с крестьянами Гриша вышел на перекличку. Всю ночь шел снег и засыпал все дороги так, что приходилось брести в снегу по колено. Когда они подошли к распометочной, довольно просторной избе, где делалась перекличка работникам и распределение их по работам, — было еще совершенно темно, но у избы уж стояла толпа мужчин. Все это были крестьяне, высланные для работ в Алакшинском заводе из разных сел и деревень помещика. Некоторые из этих деревень отстояли от Алакшинокого завода верст на двести и более. Высылка крестьян на работы в Алакшу разделялась на три: осеннюю, зимнюю и весеннюю. Весенняя, как бывающая в такое время года, когда крестьянину необходимо быть дома, считалась за тяжелейшую. Богатые крестьяне от высылки в Алакшу откупались взносом известной суммы денег или наймом работника вместо себя, но таких было весьма немного, и большая часть крестьян отбывала господские повинности лично.
Все крестьяне во все время высылки кормились в Алакше взятым из дома хлебом и только в крайних случаях получали от помещика вспоможения. Правда, все они получали за свою работу поденную плату, но она была до такой степени ничтожна, да к тому же еще большая часть крестьян забирала в счет этой платы разные припасы, так что к концу высылки приходилось чистых денег не более полтинника, а часто и менее. С этими скудными средствами мужикам приходилось возвращаться домой, и хорошо еще, если дорога не дальняя — тогда денег доставало; жившим же в более отдаленных от Алакшинского завода деревнях часто во время обратного путешествия приходилось пропитываться христовым именем. Дома у крестьян оставались женщины и малолетние дети, и семьи тех из них, у которых было достаточно земли, пропитывались без особенной нужды. Имеющие же слишком мало пашни большею частью целыми семьями отправлялись за осором милостыни по окрестным селам и заводам.
В ту осень, которую довелось Грише провести в Алакшинском заводе, крестьян нагнали, как выражались они сами, чересчур много, и алакшинские приказчики не знали, что с ними делать. Вместо того, чтобы посылать на некоторые легкие работы одного и двух человек, посылалось пять-шесть, и за всем тем еще оставались не занятые работники и жили даром по целым дням. Оставить же Алакшинский завод прежде окончания срока высылки никто не смел. Такая самовольная отлучка называлась бегством и строго преследовалась. Само собой, что такое положение дел вовсе не способствовало увеличению благосостояния в народе, да и для самого помещика оно не было бы особенно прибыльно, если б рабочие силы ценились им хоть во что-нибудь. Но тогда рабочие силы помещику вовсе ничего не стоили, и, разумеется, было выгодно заставлять десятерых плохих рабочих делать то, что при других условиях могли бы сделать двое.
Скоро к распометочной избе подошел распометчик, и толпа, молчаливо ожидавшая его, пришла в некоторое движение. Распометчик вошел в избу, и вместе с ним вошло столько мужиков, сколько могло поместиться.
Было еще совершенно темно, и потому сторож вздул огня, зажег свечку и поставил ее на стол. Распометчик, приземистый, коренастый мужчина, с бритым подбородком и тупым взглядом, сел за стол и стал перекликать народ по книге. Из работающих в самом заводе не досчиталось только трех: одного придавило в руднике оторвавшейся глыбой земли; другой заболел горячкой — и оба были отправлены в больницу, третий просто пропал без вести. Против имен заболевшего и изувеченного распометчик отметил карандашом: «больной», против пропавшего без вести — «донести» и стал распределять народ по работам. Прежде всего послано было по три человека к приказчикам, по стольку же к смотрителям, надзирателям и другим начальствующим лицам для исправления у них разных домашних работ, и затем уже остальных распределили по текущим господским работам.
Гриша, как вновь прибывший, был внесен в книгу и послан вместе с другими пятью мужиками перекрывать крышу на каком-то господском здании. Тут он проработал до обеда, а после обеда распометчик, обходя по работам, нашел, что тут и без него достаточно людей, и послал его к себе домой истопить баню. Там он не только истопил баню, но вычистил еще в хлеву, поправил у него плохо притворявшуюся дверь и сделал много других домашних работ. Отдыхать и постаивать, как это можно было на господских работах, ему не давали. Жена распометчика то и дело выходила в ограду и покрикивала Грише, чтобы он не ленился и не стоял даром. И Гриша работал до поту и так усердно, что обратил на себя внимание распометчиковой жены, привыкшей иметь дело с ленивыми и неповоротливыми крестьянами. Она вступила с ним в разговор и, узнав, что он мастеровой из Кумора, разговорилась еще более. Между куморскими служителями у нее были знакомые и родные, и она стала расспрашивать Гришу про них, потом расспросила его, зачем он в Алакшинском заводе и давно ли, и после всех этих расспросов раздобрилась до того, что велела ему зайти на кухню и накормила ужином, состоявшим из щей с говядиной и кислого молока — ужином, какого Гриша не едал с самого приезда в Алакшу. Гриша сказал ей за это искреннее спасибо и ушел домой, весьма довольный проведенным днем. Всего более он был доволен тем, что распометчица подтвердила слух о смерти Чижова, сказав, что она слышала об этом от родственников Чижова, получивших вернейшие известия. Теперь только, из ее рассказов, убедился Гриша, что Чижов застрелился сам, что никого не подозревают в убийстве, и успокоился насчет своих опасений за Набатова. Отчего застрелился Чижов и застрелился ли он намеренно или нечаянно, распометчица не знала, да и Гришу мало интересовало это. Довольный и покойный, крепко он заснул в эту ночь, и хорошо спалось ему, несмотря на духоту, стоявшую по ночам в тесной избе Игната, увеличившуюся в эту ночь потому, что постояльцев прибавилось еще на три человека.
Рано утром мужики пошли опять на перекличку, и вчерашний день повторился с самыми незначительными изменениями. Для Гриши была разница только в том, что ему не довелось работать у распометчика, говорить с его женой и поужинать вкусными щами с говядиной, о которых он вспоминал, принимаясь за неизменную капусту с квасом, которой постоянно кормили у Игната постояльцев.
Так прошло время до половины декабря, а с половины декабря Гришу совсем уволили с Алакшинского завода, предоставив ему возвратиться в Кумор, как знает. В тот же день, в который Грише объявили увольнение, распростился он со своими хозяевами и отправился из Алакши пешком вместе с двумя другими крестьянами, которые отработали свое урочное время. Дорогой Грише приходилось питаться одним хлебом, так как из денег, данных ему Набатовым, оставалось у него уж весьма немного, а работая в Алакше, он не получал, кроме двух пудов хлеба в месяц, никакой платы. Но, несмотря на все трудности обратного пути из Алакшинского завода, Гриша совершил его с большой бодростью, поддерживаемый чувством радости, что наконец кончилась его ссылка и он возвращается домой здоровый и невредимый.
XXI
Подойдя к своему дому, Гриша удивился, увидя сугроб снега у ворот. «Неужели мать-то умерла, — подумал о», тревожно оглядываясь. — Никакого даже следу нет, словно и не живали тут всю зиму.
И он старался заглянуть в ограду, не решаясь забрести в снег, которого набило к воротам аршина на два в вышину. Из соседнего дома вышла женщина с ведрами, узнала Гришу, поздоровалась с ним и сказала ему, что мать его живет у Набатова уже другой месяц, что перешла она туда после смерти Натальи совсем, перевела с собой корову и кур и заправляет у Набатова хозяйством.
— Так неужели Наталья умерла?.. — спросил Гриша, и удивившись, и опечалившись.
— Умерла, милый, до заговенья еще умерла задолго, — ответила ему женщина. — Да ты неужели ничего не слыхал про своих-то?
— Где слыхать-то? Ничего не слыхал. — И Гриша торопливо зашагал к Набатову.
Начинало уже смеркаться, когда Гриша пришел в Кумор, и Егоровна, плохо видевшая и днем, кое-как разглядела своего любимца, вошедшего в избу. С радостным криком обняла она своего сына и целый вечер повторяла с видом полнейшего удовольствия:
— Ну, слава богу, вышел, слава господу богу!
Обрадовался Грише и Набатов. Он совсем поседел в последнее время и как будто постарел вдруг на несколько годов. Сам он затопил для племянника баню и дал ему надеть после бани свое белье, так как у Гриши белья не оказалось — он износил в Алакше все, что у него было, и пришел домой в лоскутьях. Очень не хотелось Набатову идти в эту ночь на работу, но делать было нечего, надо было идти, и он, отложив все разговоры с племянником до следующего дня, поужинал и ушел, подвязав свой кожаный запон и накинувшись сверху шубой. Гриша проводил его за ворота и поглядел ему вслед. Набатов ничего не говорил о смерти Натальи, но видно было по его унылому, потухшему взгляду и всей постаревшей и опустившейся фигуре, как глубоко поразила его эта смерть. И Гриша в душе крепко жалел старика. По уходе Набатова Гриша с удовольствием растянулся на чистых просторных полатях и стал расспрашивать у матери о куморских новостях: о том, кто из молодежи поженился в эту осень, какие девки вышли замуж, и Егоровна принялась рассказывать сыну все, что знала, и рассказывала чуть ли не всю ночь, не замечая, что он давно заснул под ее рассказы.
На другой день Набатов разговаривал с Гришей.
— Застрелился ведь ворог-от наш, — сказал он. — Осенью еще это было, в сентябре.
— Как он застрелился, пошто, расскажи-ка, дядя, я ведь ничего не знаю, ни от кого не слыхал, как что было, — сказал Гриша и не мог удержаться от пытливого взгляда на дядю.
— А так и было, что застрелился, и только. Утром это случилось, часов в десять, услышали в кабинете-то. его выстрел, хозяйка-то его и пошла к нему в кабинет посмотреть, чего, мол, он там палит; пришла, а у него уж и дух вон. Лежит, сказывают, на диване, череп-от с головы сорвало и мозг-от вышибло, да на стену и ляпнуло. Ну, известно, испугалась она, заревела, послала по Ермакова — тот пришел, поглядел, видит, мертвый; кабинет заперли, караул поставили и послали нарочного с донесением в правление и к исправнику.
— А отчего он застрелился, так неизвестно и осталось?
— Нет, неизвестно. Это уж богу судить — не нам. Толковали в народе-то, что нашли у него на груди пакет, тремя печатями запечатан, и на самого владельца подпись та написана, чтобы то есть к нему отправили, да Ермаков, бают, взял да к управляющему и отправил. Может, тут что и было написано про то, отчего он застрелился; а кроме этого ничего неизвестно. Отпевать его не велели: самоубийцев-де не отпевают. Вот, не помнишь ли, может, годов пять тому причетчикова дочь утопилась? Так ее тоже схоронили без отпеву.
— Как не помнить, помню, — ее натомили еще.
— Ну и Чижова-то тоже ведь натомили, не без того. Лекарь был это, и исправник, и все дня три жили. Хоронили его в воскресенье. Я пошел поглядеть — не то, чтоб я рад был, хотя он и ворог мой лютой был, и сам я на него зуб грыз, а как учул, что он застрелился, так меня словно обухом треснуло — испужался я, вот сам не знаю, чего: лом у меня был в руках, даже лом этот выпал. Ну и пошел я поглядеть, в гробу уж увидел. До этого я все на него злобу имел, говорил даже Рясову: ну, мол, туда ему и дорога, собаке — собачья и смерть. А тут как увидал его в гробу-то — черный, вот словно уголь, лежит, и лоб черным обвязан, так словно меня страх какой взял, глядеть даже не мог долго, отвернулся скорее. Хозяйка его опять ревела шибко, вот словно кожу с тела сдирают, как она закричит: «А Васенька, пошто ты меня оставил?» Я не мог тут и быть, ушел домой и не проводил. Закопали, бают, где-то по-за кладбищу — там в лесу, и не знаю, где.
— Правду я говорил, дядя, что бог его покарает за нас, — сказал Гриша, выслушав этот рассказ.
Набатов отвечал глубоким вздохом и долго молчал, задумавшись.
— Не приведи бог никому такой смертью умирать, — сказал он, наконец. — Хотя он и много мне зла наделал, одначе что тожно об этом говорить. Самоубийце, бают, на том свете прощения уж не будет, молиться даже за них не велят.
— Одначе хозяйка его молится, — сказала Егоровна, пришедшая в избу с холстом в руках и слышавшая только конец разговора. — Наняла, бают, какого-то нездешнего попа поминать сорок дней, даже, бают, и отпевали потихоньку на могиле-то.
Набатов не сказал на это ни слова и, помолчав, спросил у Егоровны, желая переменить разговор:
— Что это ты с холстом делать хочешь?
— Да вот хочу парню-то рубаху скроить: ведь совсем он обносился, — сказала Егоровна, подходя к Грише и примеривая по нем длину рубахи.
— А шить кто станет: ведь ты шить не видишь? — спросил Набатов.
— А уж и не знаю кто, найму кого.
— Ты бы уж и скроить заставила кого другого, сама-то, пожалуй, только добро изведешь попусту, — посоветовал ей Набатов и потом прибавил, обернувшись к Грише:
— Жениться тебе надо, парень, старуха у тебя совсем плохая стала, еле ноги волочит, по хозяйству управлять уже не может; ее дело тожно с ребятами водиться.
Гриша вздохнул.
— И рад бы жениться, — сказал он, — да ведь, сам знаешь, дядя, на свадьбу деньги нужны, а у меня что — ничего нету, одежды даже никакой нету, стыдно на улицу выйти.
— Ну, одежду завести недолго, — сказал Набатов ласково, — вот к празднику торговые наедут, так и купим; на свадьбу денег тоже не бог знает что надо, я дам, не тужи; мне теперича копить не про кого — родни у меня только ты и есть.
И он тяжело вздохнул, грустно поглядев на племянника. А тот только беззвучно шевелил губами, стараясь выразить дяде свою благодарность, и не мог сказать ни слова — радость захватила ему дух.
— Будь ты вместо отца родного, пособи ты нам, сиротам убогим, — слезливо заговорила Егоровна, подходя к Набатову.
— Ну да полно, чего ты канючишь. Смерть этого не люблю, — сказал Набатов, но в голосе его не было обычной строгости, и потому Егоровна не унялась.
— Будь отец родной, не покинь нас, сам уж и сосватай по своему разуму, где найдешь лучше, — заговорила она.
— Ну, ладно, ладно, об этом еще речь впереди будет. А ты вот давай-ка собирать на стол — обедать пора, — нетерпеливо перебил Набатов.
Пока Егоровна накрывала на стол, Гриша спросил у Набатова:
— А ты, дядя, помнишь, об чем я с тобой летом говорил?
— Как не помнить — помню, — отвечал Набатов, — а что?
— Да так, ты уж того, у Галкина-то и посватался бы, — сказал Гриша, поглядывая на дядю.
— У кого? — сказал на это Набатов. — Тебе жить-то — ты и выбирай, у Галкина, так у Галкина: Аграфена — девка славная, бойкая, работящая.
— Кто это? Про кого баите? — спросила Егоровна, внимательно прислушиваясь к разговору.
— Да про Аграфену Галкину, ее хочет сватать.
— Чу кого! Что же, с богом — девка хорошая.
Пообедали. Набатов лег спать, а Гриша оделся и вышел из дому. Ему хотелось повидаться с Груней, но он не знал, где и как.
«Пройду мимо их, авось, не выйдет ли за ворота», — подумал он, направляясь в улицу, где жил Галкин.
И точно, Груня вышла за ворота тотчас, как увидала его. Она еще накануне слышала, что Гриша пришел домой, и с самого утра поглядывала в окно, ожидая, что он пойдет мимо. Увидав ее у ворот, Гриша подошел к ней и молча поклонился.
— Здравствуй, Гришенька! — сказала она, зарумянившись и кланяясь ему.
— Сколько времечка не видались — без малого полгодика, — сказал Гриша, глядя на ее раскрасневшееся лицо.
— Долго не видались, даже и слуху-то про тебя никакого не было, — заговорила Груня, несколько оправляясь от смущения. — Что ты там делал?
— Известно что — робил: сперва в рудниках, после в поторжной, а тут и совсем уволили; недели три еще до срока не дошло, да так уж по милости уволили.
— Ну, и слава богу; мать-то, поди, рада?
— Как не рада, один ведь я у нее только и есть. А вы как жили-поживали, все ли благополучно, все ли здоровы?
— Ничего, живем помаленьку, все здоровы. А вот у вас в родне-то беда стряслась — Наталья умерла.
— Умерла бедняга, что делать!
Гриша вздохнул и прибавил:
— Мне вот дядю жалко, он хотя и ничего не бает, а видно, что тоскует по ней шибко.
— Как не тосковать-то! Одна ведь только и была; ну, опять, может, и об том тоскует, что сам неправ: от побоев ведь ей болезнь приключилась.
Гриша молчал.
— А вы все у него живете, а?
— Все, до праздников тут будем жить, а после праздников, как жениться стану, перейдем в свой дом, — сказал Гриша, улыбнувшись.
— Что делает Егоровна? — спросила Груня.
— Рубахи мне кроит, шить-то не видит — не знаю вот, кому бы шить отдать.
— Мне одну принеси, я сошью, — вызвалась Груня.
— Грунька, а Грунька! — раздалось из дому.
— Иду, — отозвалась Груня, взявшись за кольцо. — Прощай, Гришенька, принеси рубаху-то.
— Ладно, принесу, прощай, Грушенька, — и Гриша поспешно отошел от ворот, заслышав на крыльце тяжелые шаги Груниной матери.
— С кем ты тут тараторила? — взъелась на Груню мать, когда та взошла на крыльцо. — Смотри, вот я скажу отцу-то!
Груня, не сказав ничего, шмыгнула мимо нее в избу.
«С кем это она? Ишь, лукавка, молчит ведь», — думала Галчиха, сходя с лестницы, и, отворив ворота, выглянула на улицу. Гриша уже поворачивал в переулок, и Галчиха не могла его узнать издали.
А Груня между тем принялась за прялку с какой-то лихорадочной поспешностью, у нее сильно билось сердце и дрожали руки.
«Какой он баской стал, — думалось Груне, — словно вырос еще, борода зачалась у него… Жениться хочет… Неужели он меня не возьмет?» — И сердце у нее как будто упало при этой мысли.
XXIII
Наступили святки; заперли фабрики в Куморе, и загуляли мастеровые. Грише купил Набатов перед праздником кафтан, сапоги и ситцу на рубаху. Слух о том, что Набатов накупил племяннику обнов и после праздника хочет его женить и свадьбу сделать от себя, то есть на свой счет, скоро распространился между куморскими невестами. У кого будет сватать Набатов за племянника — никто не знал наверно, и те из невест, которым Гриша представлялся приличной партией, наперерыв старались ему понравиться, зазывая его на вечорки; чаще других припевали его в песнях, где следовало целоваться, и крепко хлопали по спине в святочной игре в жмурки. Никто не думал ставить ему в вину ссылку в Алакшинские рудники, напротив, все жалели его и говорили, что он пострадал безвинно. Молодежь наперерыв зазывала Гришу в гости, а Андрюша Ипатов, первый щеголь из куморских мастеровых, даже предлагал поставить его, Андрюшу, в дружки, когда Гриша будет венчаться, и всячески старался выведать, у кого он хочет сватать невесту. Но Гриша или отмалчивался или отшучивался до времени, простодушно удивляясь, отчего это все так ласковы и так льнут к нему и заискивают его дружбы даже те парни, которые прежде ему и не кланялись. А дело объяснялось очень просто: Гриша жил у Набатова — у богатого, вдового и бездетного Набатова, и говорили все, что Набатов души не чает в племяннике.
— На моду попал Косатченок, — толковали бабы между собой. — У девок только и разговору, что про Гришку…
— Все до единой замуж за него собираются, — смеялись бабы. — Вот бы нашутил да взял нездешнюю! Уж по-цыганили бы мы над нашими девками…
— А он парень баской, — тараторила одна молоденькая баба. — Ему надо и невесту брать баскую, за богачеством гнаться нечего — богатства и у Набатова много: умрет — все ему оставит.
— Когда еще умрет, — говорили другие.
— Ну, когда! Когда-нибудь да умрет же, а тогда Гришка, пожалуй, первый богач в Куморе будет.
Молва, разумеется, баснословно преувеличивала богатство Набатова.
Прошли праздники, и в первое же воскресенье после крещенья Набатов нарядился в свой суконный бешмет и, помолившись на иконы, поклонился Егоровне и сказал:
— Благослови, старуха, иду сватать.
— С богом! С богом! — заговорила Егоровна. — Дай бог счастливо, — и перекрестила его вслед.
Гриша хотел было проводить дядю, но Егоровна удержала его, потому что видела в этом нехорошую примету.
— Не ходи, что провожать-то! Не на век ведь пошел, — сказала она.
Гриша опустил голову на руку и, задумавшись, сидел у окна.
— Не тужи, отдадут ведь, — успокаивала его Егоровна.
— Отдадут ли, нет ли, еще неизвестно, — задумчиво сказал Гриша. — Знают ведь, что я нужной да бедный, может, и не захочут за бедного-то отдать.
— Ну, какой же такой бедный — есть и беднее тебя, — заговорила Егоровна с неудовольствием. — У тебя еще, слава богу, изба есть своя, покос, корова, робить станешь — хлеб станут давать, чего тебе еще надо?
Гриша не отвечал и, только вздохнув глубоко, с тревогой ждал возвращения Набатова.
«Господи, как он долго, что он так долго?» — думал Гриша, поглядывая в окно.
— Долго засиделся наш сватовщик, — проговорила Егоровна, как будто в ответ на Гришину мысль. — Надо быть, дело на лад идет.
Но вот часа через три, показавшиеся Грише целым веком, он завидел, наконец, дядю на улице. Набатов шел не торопясь; в последнее время он привык ходить с опущенной головой, и Грише из-под нахлобученной на дяде мохнатой шапки не было видно его лица. Вошел Набатов в избу, снял шапку, повесил ее на гвоздь и весело поглядел на племянника. У того отлегло от сердца.
— Что? — спросил он.
— Да то, что через два дня велел Василий за ответом быть, — сказал Набатов, садясь на лавку. — С родней хотят посоветоваться — с дедушкой, с бабушкой, со всеми.
— Неужели они не посоветуют? — встревожился Гриша.
— Почему не посоветуют; да и сказано это было так — для порядку только: по всему видно, что хотят отдать, — сказал Набатов.
— Невесту-то видел? — спросила Егоровна.
— Видел, как зашел, она в избе сидела, стал говорить-то — она соскочила да и вон из избы.
— Застыдилась, девка молоденькая! — с ласковой старушечьей улыбкой молвила Егоровна.
Прошло два дня, опять пошел Набатов к Галкину, — и на этот раз уж вернулся с решительным ответом. Велели на другой день на рукобитье приходить, а через неделю и свадьбу назначили. И всю неделю Гриша хлопотал около своего дома, убирал снег из ограды, белил в избе печь и потолок, перевез от дяди дров — возов до пяти — и старался из всех сил все привести в порядок ко дню своей свадьбы. Набатов помогал ему во всем словом и делом.
Наконец, наступил этот день, так долго ожидаемый, повенчался Гриша и привез в свою старую, но чистую и прибранную избу, похожую на веселую, принарядившуюся старушку, свою молодую жену.
Набатов — с блестящей фольговой иконой в руках, а Егоровна — с большой ковригой пшеничного хлеба чинно встретили молодых в сенях, благословили иконой и хлебом, дали укусить от него новобрачным и повели их в избу. Там Груне свахи тотчас же заплели распущенные по плечам волосы на две косы, обвили их вокруг головы, и Егоровна надела ей на голову шашмуру — убор замужних женщин.
Пировали на свадьбе весело, подпили все, но разгульных песен и плясок не было. Набатов и смолоду не любил буйного веселья, и гости из уважения к нему сдерживали свои чересчур веселые порывы. Даже в большой стол, бывающий на другой день после свадьбы и справляемый с особым шумом и весельем, не было ни пляски, ни музыки, ни битья посуды, обыкновенно сопровождающих свадебные празднества. После ужина разрумянившиеся от выпитого вина гости чинно уселись по лавкам и затянули песню про молодых, которые то и дело обносили их пивом и брагой, низко кланялись и просили кушать по всей.
«Горько! Горько!» — слышалось беспрестанно, и молодых заставляли целоваться по нескольку раз за каждым стаканом.
— Ну вот и живите с богом, — говорил дедушка Савелий на прощанье. — Дай вам бог совет да любовь да долгий век. Ты, Груня, слушай мужа во всем, потому он глава, и свекровь почитай — старушку почитать следует, а про свата Сергея Ларивоныча я уж и не говорю, за него оба вы вовеки должны бога молить.
— Это точно, что должны они за него бога молить, — вмешался Василий Галкин. — И почитать его должны во всем паче отца родного, потому много он им добра сделал.
— Какое добро! — сказал Набатов. — Полноте об этом толковать! Вот выпейте-ка лучше на дорожку. — И он налил в рюмки вина и велел Груне подать собравшимся уходить гостям. Но, взявшись за рюмку, Савелий еще долго разглагольствовал о доброте Набатова и о том, что его следует почитать, и о том, что начальство надо уважать и слушать во всем. Галкин вторил своему тестю, соглашаясь с ним вполне.
Наконец, выпив вино, все перецеловались с Набатовым, Егоровной и с молодыми, которым еще раз пожелали совет да любовь и долгий век, и разошлись по домам.
— Слава богу, пристроили девку, — говорила Галчиха дорогой, поддерживая своего пошатывающегося мужа. — Что нужды, что дело их небогатое: поживут — наживут. Парень он работящий, старательный.
Галкин произнес какие-то неясные звуки в ответ на слова своей жены. Он сильно раскис и кое-как шел, опираясь на ее руку.
— Ладно, пусть с богом живут, — заговорила опять Галчиха, не обращая внимания на мычание мужа, — все лучше, чем в девках сидеть, по крайности заботы теперь у меня не будет. — И всю дорогу громко рассуждала она на эту тему, помахивая свободной рукой и выписывая разные фигуры по дороге вместе со своим мужем.
Простился с молодыми и Набатов и ушел в свою опустелую избу; и долго не спалось ему в эту ночь. Сел он под окно и, облокотившись на руку, уныло глядел на тихую белую улицу.
«Не воротишь, не воротишь, — шептал он по временам, глубоко вздыхая. — Все прожито, и худое и доброе — все прожито, и ничего впереди нету. Сызнова жить начинать — охоты нету, да и стар уж я стал, поседел совсем, и не пристало мне с седой головой да под венец ставать. Не женился смолоду, так теперь уж думать нечего… Стану век доживать бобылем бессемейным, а под старость к Григорию уйду либо его в свой дом переведу.
И долго еще думалось Набатову о предстоящей одинокой, невеселой жизни; вспоминалась Наталья, вспоминалось ее красивое бледное лицо, ее грустные, тихие глаза, и медленно скатывались слезы по морщинистым щекам Набатова и падали на рукава его суконного бешмета.
Не вспоминались ли ему в эту тихую, темную ночь тяжелые, жалобные стоны? Не выступали ли на чистом полу его избы кровавые пятна? Кто знает!
XXIV
Прошла неделя после свадьбы, и жизнь Гриши, ставшая на время рядом праздников, приняла опять свой будничный, серенький колорит. Попрежнему стал он работать в кричной, подвязав свой кожаный запон и обувшись в лапти с баклушами. Толстым слоем сажи покрылось его молодое, красивое лицо, и только весело блестели глаза да белели зубы, когда он, возвратившись домой, улыбался на веселые шутки и заигрывания своей молодой жены. Все было как по-старому, но чувствовалась во всем перемена — и перемена к лучшему. Парнишкой Гришей он остался только для своей старухи-матери, а для всех прочих стал Григорием Касаткиным — рабочим, семейным человеком. Мастера снимали ему шапки в ответ на его поклоны, знакомые бабы называли Григорьюшком, а мало знакомые называли по имени и отчеству. Чувствовать себя стал Григорий — будем уж и мы его называть так — лучше, будто сильнее физически и гораздо смелее и спокойнее. Усердно работал он, и скоро старики-мастера стали поговаривать про Григория:
— Славный работник вышел из него, толковый, сметливый, весь в дядю пошел. Пожалуй, годиков через пяток сам мастером работать зачнет.
И с удовольствием прислушивался к этим толкам Василий Галкин, любо ему было, что зятя хвалят. «Ладно, значит, сделали, что девку-то за него отдали; не ошиблись, значит», — думалось старику Галкину после таких толков.
— Советно ли, хорошо ли живут молодые? — спрашивали бабы у Галчихи. — Почитает ли тебя зятек-то?
— Слава богу, что бога гневить! Всем довольна, — крестясь и отплевываясь, чтоб не сглазить молодых, отвечала Галчиха.
А Груня между тем весело хозяйничала в своей старенькой избе, и, не умолкая, жужжало веретено в ее проворных, привычных к труду руках. Торопилась она выпрясть лен поскорее, чтоб успеть соткать до весны холст наравне с другими бойкими бабами, чтоб не сказали про нее, что она тихоня, не умеет ни прясть, ни ткать. Но еще больше заставлял ее спешить недостаток белья у Григория, которое, несмотря на то, что делалось из крепкого домашнего холста, изгорало и изнашивалось на работе очень скоро. Много было забот у молодой хозяйки, и всегда полны руки работы, но ни уныние, ни недовольства своей участью не смущали ее. Весело, с надеждой на свои молодые силы начинала она свою трудную семейную жизнь и чувствовала, что только упорным трудом можно отбиться от суровой бедности, и все ее помыслы устремились к нему.
— Только было бы над чем робить, а уж мы бы стали, — говорила Груня мужу, когда он отдыхал дома после работы. — Вот вытку я холст. Наступит весна — стану садить огород; одна беда — огород у нас мал. Кабы дозволил приказчик загородить там, по-за огороду-то, место пустое, вот бы хорошо-то было.
— Что же, попросить сходить можно, — ответил Григорий, — может, и дозволят.
— Сходи-ка, право, попроси. Как только снег растает, так и сходи.
— Ладно, схожу.
— Да на что тебе, большая ты сыть, огород-от? — заговорила Егоровна, — слушавшая с не совсем довольным видом этот разговор. — Ты думаешь, мало с ним работы? Ведь надо вскопать, посадить, поливать, полоть! И в этом, дитёнок, досыта наробишься, а коли бог уродит, так ведь нам с этого овощи-то девать некуда. Я вон веснусь сколько ведер картови свиньям скормила.
— Ну зачем же свиньям кормить? Осталось бы, так продавать бы стали, — сказала на это Груня.
— Продавать, да кто купит? Ведь у каждого здесь свой огород.
— Ну, здесь не купит никто, так в город бы повезла; ведь город недалеко, всего сорок верст.
Егоровна всплеснула руками при такой смелой, по ее мнению, мысли. Ей, никогда не бывавшей дальше своего покоса и ближайших лесов, куда она хаживала за грибами и ягодами, расстояние в сорок верст казалось громадным. Да и мысль о том, что в городе все чужой, незнакомый народ, что между этим народом много сердитых и важных господ и чиновников, которые, пожалуй, и даром отнимут товар у заезжей бабы, страшила трусливую, хилую старуху.
— Полно врать-то, молодушка! — сердито сказала она. — Эку штуку выдумала — за сорок верст овощи возить! Да и на ком ты повезешь! На себе, что ли?
— Зачем на себе? — рассмеялась Груня. — Да ты не сердись, мати, ведь я еще не поехала, еще собираюсь только.
— И собираться-то нечего по пустякам, — говорила Егоровна. — Ведь хлеб у тебя есть, коровушка есть, денег, хоть и немного, да все же заробит хозяин, ну и слава богу, чего тебе еще надо? Сиди-ка да сиди в избе-то; будет с тебя и домашней работы.
— В избе-то сидя, мати, ведь ничего не высидишь, — не утерпев, опять сказала Груня. — Да изба-то у нас погляди-ка какая худая: ведь развалится скоро, надо новую строить.
Григорий глубоко вздохнул при этих словах. Мысль, что надо строить новую избу, заботила его крепко. Набежали тучки и на веселое, румяное лицо Груни, задумалась и она.
— Не тужите, дети, — кротко заговорила Егоровна, — надейтесь на бога да на добрых людей. Эта изба-то ведь простоит еще год-другой; ну, а там приказчик лесу даст, да добрые люди пособят — вот и построитесь.
— Не шибко добрые-то люди нашему брату пособляют, — заговорил Григорий. — Все-то норовят, чтобы из тебя чего вытянуть, а не тебе дать; только и надежды, что на отца — пособит, не пособит он, а окромя его кому нужно.
Отцом Григорий и Груня стали звать Набатова после того, как он благословил их иконой, и на его помощь они рассчитывали больше всего.
— Как не пособит — беспременно пособит, — заговорила Егоровна, с радостью ухватившись за эту мысль. — Свадьбу ведь пособил же сделать, ну, пособит и построиться. Ему ведь денег-то девать некуды. Намедни отпер при мне ящик, так я даже сдивилась, сколько у него денег накоплено: поди, рублев со сто есть.
Егоровна не знала счету больше ста рублей и не могла себе представить суммы больше этого. Григорий и Груня переглянулись и засмеялись.
— А ты думаешь, сто рублей — бог знает, какая сумма несметная, — сказал ей на это Григорий. — Молчала бы ты уж, коли толку у тебя нету, — прибавил он, вздохнув, и потом сказал, обращаясь к жене:
— Весной нам надо помочь сделать да покос расчистить: все же, может, возик-другой лишка сенца поставили бы; вот бы, глядишь, на овечку-то и было.
— Беспременно надо, вот корова отелится, телушку бы растить стали, кабы сено-то было на улишке, — сказала
Груня и прибавила, взглянув на мужа: — Что бы отцу нам хотя один покосик отдать, у него покосов много, и страдовать некому.
— А вы попросите, может, и отдаст, ведь он и в самом деле один теперь, на что ему! — сказала Егоровна.
— А смерть я люблю, у кого земли много; хорошо тому жить, у кого покосы большие, да как еще пашня есть: скота держи, сколько хочешь — коров, овец, лошадь бы завели — то-то бы жизнь-то была, — мечтала Груня и, воспламенившись нарисовавшейся в ее воображении картиной такого довольства, прибавила с решительным видом:
— Нет, уж ты хотя чего говори, мати, а выпрошу я земли под огород; сама к приказчице схожу — снесу ей хоть ниток моток да выпрошу земли. Стану наперво овощами торговать; у Ипатовых вон овощами-то торгуют, так уж сколько чего завели, рублей на тридцать, бают, в осень продают, а ведь тридцать рублей — не шутка, сидя в избе-то не высидишь.
— Известное дело! — задумчиво сказал Гриша. — Кабы на осень да рублей хоть двадцать заработать, так и то бы куды хорошо было.
— Что же, и заробим — неужели не заробим? — сказала Груня весело. — Вот лето будет, страдовать станем: свои покосы расчистим, у отца попросим — ему за то страдовать пособим. Он мне еще телушку посулил дать — вот выкормим ее, продадим, овощи вырастут — продадим, вот и деньги будут и станем избу строить.
— Ой, молодушка, ребячий еще умок-от у тебя! — сказала на это Егоровна. — Еще медведь-то в лесу ходит, а ты уж шкуру дерешь; не загадывай далеко, дитёнок, грешно!
— Вот опять грешно! Да что за грех? Ведь я не воровать собираюсь, — горячилась Груня, — я все, как у добрых же людей, лажу. Говори-ка лучше, мати, что твои-то бы, мол, речи да богу в уши.
— Что ее слушать, — сказал на это Григорий, — ее дело старое, хилое — ей бы только на лечке сидеть, а тебе уж надо самой всем делом править. Вот у отца спросить можно, потому он на все наставить может.
И часто повторялись в избе такие речи, и крепко надеялись молодые работники на свои силы и на лучшие будущие дни. Насколько сбылись их надежды и ожидания — покажет время.
1867
ПРИМЕЧАНИЯ
A. A. КИРПИЩИКОВА
Анна Александровна Кирпищикова родилась 2 февраля 1838 года в Полазнинском заводе на Каме. Ее отец, Александр Григорьевич Быдарин был крепостным служителем заводовладельцев Абамелек-Лазаревых.
Ей не удалось получить систематического образования. Грамоте она научилась у матери да в возрасте двенадцати лет брала уроки у пятнадцатилетнего ученика заводского училища.
Подлинными учителями будущей писательницы были книги и живая жизнь народа. С детства она прониклась глубоким чувством уважения к людям труда. Она видела тяжелую «огненную» работу, трудовой ритм большого завода, любовалась силой и ловкостью мастеровых, ворочающих в огне тяжелые крицы. Для нее это были близкие люди. Их беды и радости волновали девушку.
В феврале 1854 года А. А. Кирпищикова вышла замуж за крепостного же учителя заводской школы в Чермозе, человека демократических взглядов. Помощь, которую оказывал ее муж рабочим в борьбе против заводовладельца после реформы 1861 года, привела к увольнению его с работы.
А. А. Кирпищикова тоже хотела помочь народу. Именно этим желанием было определено начало ее творчества.
В 1864 году она направила в передовой революционно-демократический журнал «Современник» первый рассказ «Антип Григорьич Мережин». В письме Некрасову она писала: «Все мои симпатии находятся на стороне народа». Рассказ был напечатан в январском номере журнала за 1865 год.
В том же году Кирпищиковы переехали в Пермь. Отсюда писательница послала в «Современник» второй рассказ «Порченая» и начала работу над повестью «Как жили в Куморе», предназначенною для того же журнала. Но наступление реакции привело к закрытию боевого органа революционной демократии, и повесть была напечатана в майской и июньской книжках «Отечественных записок» А. Краевского за 1867 год.
Материальное положение семьи было тяжелым. А. А. Кирпищикова вынуждена заниматься шитьем. Писать она не могла. Только в середине 70-х годов А. А. Кирпищикова снова вернулась к литературной деятельности. К 1876 году ею была написана большая автобиографическая трилогия, состоящая из очерков «Прошлое», «Недавнее» и «Двадцать пять лет назад», и послана M. E. Салтыкову-Щедрину в «Отечественные записки». В 1876 году в декабрьской книжке «Отечественных записок» было напечатано «Прошлое», а в августе 1877 года — вторая часть — «Недавнее». Третья часть трилогии не могла быть принята по цензурным условиям и опубликована только в 1889 году в «Екатеринбургской неделе». Салтыков-Щедрин напечатал в своем журнале следующую повесть Кирпищиковой «Петрушка Рудометов».
С 1879 года писательница часто помещает свои произведения в газете «Екатеринбургская неделя». Здесь был опубликован рассказ «Луховский мельник», в 1880 году «Искатели», в 1888–1892 годах — рассказы «Горькая доля», «Из-за куска хлеба», «Катерина Алексеевна» и повесть «К свету и жизни».
Неопубликованная при жизни писательницы повесть «Фельдшер Крапивин», повидимому, также относится к 90-м годам. После этого творческая деятельность Кирпищиковой почти совсем прекращается.
В 1902 году вышел первый том ее «Повестей и рассказов». Второй том издан не был.
А. А. Кирпищикова умерла на девяностом году жизни 17 июня 1927 года в Молотове. В мае 1926 года шестидесятилетие ее творческой деятельности было отмечено общественностью города. Перед концом жизни престарелая писательница, основной темой творчества которой был народ, увидела, с какой теплотой и любовью относится к ее заслугам перед литературой и общественным движением новый советский читатель.
Борьба за крестьянскую демократическую революцию определяет содержание той эпохи, когда развернулось творчество Кирпищиковой.
Борьба за передовую идейность, глубокую безусловную правду в искусстве, его народность обусловили направление развития демократической литературы. Писатели этого толка — Н. Успенский, Левитов, Слепцов, Решетников и другие — стремились раскрыть жизнь трудящихся масс, сказать о народе «правду без всяких прикрас» (Н. Г. Чернышевский). Революционно-демократическая критика требовала от беллетристов, изображавших народ, отказа от либерально-снисходительного отношения к нему. Чернышевский и Добролюбов выступили с требованием «прямого воззрения» на народ, что предполагало правдивое раскрытие быта, включая все неприглядные его стороны, глубокое проникновение в мировоззрение народа, понимание его скованных сил.
Анализ социального и политического положения народа, выяснение заложенных в нем возможностей давали ответ на основной волнующий вопрос эпохи о качествах главной движущей силы общественного развития.
Большое внимание передового демократического лагеря привлекала проблема героя, руководителя массы. Общее решение этой темы предполагало также глубокое раскрытие истоков, процессов формирования разночинной интеллигенции, связанной с народом.
Эти идейно-тематические особенности демократической литературы нашли выражение в творчестве А. А. Кирпищиковой. Рядовой боец литературного фронта 60-70-х годов, она была зорким, чутким и душевным художником.
В первых же рассказах А. А. Кирпищиковой «Антип Григорьич Мержин» и «Порченая» ярко выразилась демократическая точка зрения автора. Любовь к народу заставляла говорить о темных сторонах его рыта, об «очень тяжелых событиях его жизни». Оба рассказа, посвящены положению женщины в крестьянской семье.
Сказовая форма рассказа «Антип Григорьич Мережин» (повествование ведется от лица деревенской старухи) позволила автору естественно передать не только события жизни народа, но и характер отношения народа к этим событиям.
В рассказе освещается одно из самых отвратительных явлений жизни — снохачество. Трагическая судьба простой русской женщины Варвары, подвергающейся преследованию свекра, кулака и деспота в семье, рисуется как закономерно вытекающая из общего бесправного положения народа. Но Кирпищикова изображает не только темноту, невежество, бесправие. Она показывает, что в Варваре живо чувство достоинства, чести. Стойкость ее, нежелание подчиниться насилию должны были дать читателю представление о том роднике «живых сил», который был в народе.
Этот рассказ построен на материале жизни деревни лазаревского имения, где выросла Кирпищикова. Тема жизни собственно заводских мастеровых воплощена в следующих произведениях писательницы: повестях «Как жили в Куморе» и «Петрушка Рудометов».
Большая повесть из заводской жизни «Как жили в Куморе» вводила в литературу новые типы — рабочих крепостного завода. В ней подвергалась анализу крепостническая система общественных отношений. Актуальность повести определялась тем, что реформа 1861 года не отменила полностью прежней системы эксплуатации. События, развертывающиеся в повести, относятся к 40-50-м годам, но они характерны и для более позднего времени.
Герои повести — рабочие еще не поднимаются до сознания единства классовых интересов и понимания угнетения как системы, но ненависть к насилию, безответственности, произволу управителей и приказчиков отмечена чутким автором-реалистом.
Заглавие повести определяет ее композицию. Автор свободно вводит отдельные эпизоды «жизни в Куморе», связывая их в нескольких сюжетах, имеющих самостоятельное значение, объединенных лишь единством героев.
В самой форме повести Кирпищикова следует своим современникам, писателям демократического лагеря, стремящимся воспроизвести жизнь в зарисовках, эскизах, очерках, где вымысел занимает минимальное место.
В повести наиболее интересен и содержателен образ кричного мастера Набатова, переживающего сложную душевную драму. Он поднимается от ненависти к приказчику Чижову, как виновнику его личного несчастья, до осознания несправедливости царящих на заводе социальных порядков, до отрицания такой системы отношений, при которой «они», хозяева, «пьют кровь рабочих».
Набатов выступает защитником общих интересов рабочих в их столкновении с Чижовым из-за введения работы по воскресеньям. Кирпищикова в 60-х годах еще не видела иных, развернутых форм протеста, но, раскрывая психологию рабочего, она весьма убедительно нарисовала процесс постепенного формирования сознания рабочих, еще не сложившихся в класс. Этот процесс не был прямолинейным, он осложнялся особенностями капиталистического развития на Урале, где рабочие были и после 1861 года привязаны к заводу крошечными участками земли, что создавало иллюзию некоторой независимости, возможности жить не одним только заводским трудом. На самом же деле, давая рабочим земельный участок, заводовладельцы, пользуясь привязанностью рабочих к заводу, снижали им заработную плату. Кирпищикова, не понимая характер этого и отражая сознание самых патриархальных рабочих масс, вместе с своими героями Гришей и Груней мечтает о соединении заводского труда с работой «на своей земле».
Рисуя рабочую молодежь, Кирпищикова не романтизирует своих героев, как это делали народники в 70-е годы; она неизменно остается реалистом как в описании быта, так и в раскрытии характеров людей.
Тема жизни рабочих разработана Кирпищиковой в 70-е годы в повести «Петрушка Рудометов».
Рудничный рабочий Петр Рудометов показан вначале одаренным, мягким, добрым человеком. Он тонко чувствует природу, его влечет искусство. Он талантлив в труде, если его вдохновляет цель. Но работа неосмысленная, подневольная вызывает в нем тоску, желание уйти в мир природы, отвлекающий от тяжелых мыслей о неудачной, полуголодной жизни. Постоянное чувство обиды, вызываемое несправедливостью, толкает Рудометова на стихийный бунт в одиночку. Он бессмысленно растрачивает силы, опускается, начинает пить.
Типические явления тяжелой, безрадостной жизни, уродующей человека, правдиво раскрыты писательницей.
Если народническая беллетристика 70-х годов видела лучшее выражение народных черт только в крестьянине, а к образу рабочего обращалась только затем, чтобы показать «растлевающее» влияние фабричной жизни, то Кирпищикова сумела увидеть и показать положительные черты в человеке из рабочей среды.
В 1876 году писательница начала печатать цикл очерков под общим заголовком «Из записок управительской дочери». В них много автобиографического, живых воспоминаний детства и юности. Здесь Кирпищикова развивает две основные темы: тему зарождения и развития разночинной интеллигенции из крепостных и тему положения рабочих, где она обращает внимание не только на их угнетение, но и пробуждение в них чувства протеста. Глубокой симпатией и уважением к рабочим, преданностью их интересам овеяны образы «Прошлого» и «Недавнего».
В последней части трилогии писательница рисует дальнейший рост и формирование провинциальной интеллигенции, воспитывающейся на идеях революционной демократии. Кажется, она единственная в русской литературе дала такую яркую картину отражения великого движения 60-х годов в глухой провинции, в заводском уральском, округе. Прекрасно зная эту среду, сама пройдя такой же путь формирования трудовой демократической идеологии, Кирпищикова раскрывала не только внешние проявления процесса, но и живые человеческие эмоции, психологию честных демократических деятелей второго этапа русского освободительного движения.
Рассказы «Из-за куска хлеба», «Горькая доля» и «Катерина Алексеевна» посвящены судьбе женщины в тяжелых условиях буржуазно-крепостнического общества. Из-за куска хлеба гнет спину на кулака батрачка Федосья, получая «благодеяния» в виде рваной кофточки или стоптанных башмаков. Встреча с таким же одиноким, когда-то изувеченным на работе Степаном изменяет ее дальнейшую судьбу. Чувствуя его поддержку, она смело выступает против кулацкой эксплуатации, отказывается безмолвно повиноваться тем, кто грабил ее. Выйдя замуж за Степана, Федосья уходит в город.
Эта супружеская пара пополняет ряды городского пролетариата. Рост возмущения даже самой забитой части населения — женщин отмечает в рассказе писательница. Она правильно раскрывает один из источников пополнения пролетариата России полумастеровыми-полукрестьянами, порывающими с прежними местами крепостнического прикрепления и уходящими в широкий коллектив рабочих, не знающих территориальной замкнутости.
Рассказ «Горькая доля», социально менее значительный, интересен острым психологическим конфликтом. Писательница рисует душевную драму простой женщины, которая, защищая своих детей, свое человеческое достоинство, вынуждена пойти на преступление — убийство мужа.
Психологическая задача выдвинута на первый план и в другом произведении Кирпищиковой — повести «К жизни и свету», рассказывающем о сложном пути женщины, стремящейся к свету, знаниям, жизни на благо людей. Ложная народническая идея о «малых делах», как единственном долге интеллигенции, утверждение мысли о возможности изменения жизни путем просвещения помешали писательнице в этой повести отразить жизнь правдиво и глубоко.
Рассказ «Горькая доля» и повесть «К жизни и свету» в художественном отношении значительно слабее других произведений Кирпищиковой. Но это еще не говорит об угасании таланта писательницы. В 90-х годах ею были созданы превосходные вещи — глубокие по мысли и интересные по мастерству.
Таков, например, рассказ «Катерина Алексеевна», написанный как и «Антип Григорьич Мережин», в сказовой форме.
Здесь Кирпищикова создает сильный, четко очерченный в социальном смысле характер властной и своевольной дочери управляющего вотчинами. Губительное влияние крепостнических отношений на судьбу человека показано в событиях, полных драматизма.
Из не напечатанных при жизни писательницы произведений сохранилась повесть «Фельдшер Крапивин», посвященная, как и ряд других повестей ее, формированию революционно-демократической интеллигенции в практической борьбе за интересы рабочих. Особенно ценно в повести изображение борьбы рабочих за свои права, борьбы, в которой уже проявляется рост сознания и организованность рабочей массы еще в ту крепостническую эпоху.
Кирпищикова в 90-е годы не смогла подняться до понимания исторической роли рабочего класса, но она отразила постепенный рост его сознания на втором, революционно-демократическом этапе освободительного движения.
Чуткий художник-реалист, серьезно относящийся к жизни, она старалась воспроизвести ее в развитии, в тенденциях движения.
Внимательные читатели обнаружат в рассказах и повестях Кирпищиковой отдельные несовершенства: иной раз вялое развитие сюжета, длинноты, элементы натурализма в языке, отсутствие яркой поэтической детали. И при всем этом они не могут не почувствовать в ней своеобразного художника, умевшего создавать запоминающиеся человеческие характеры, отражать важные явления современной ей действительности.
Отошла в прошлое тяжелая жизнь русского народа, изнывавшего в условиях крепостничества и капитализма. Но демократическая литература, одной из представительниц которой является А. А. Кирпищикова, ярко и правдиво выразившая стремление народных масс к истинной свободе, боровшаяся с антинародными и антигуманными формами социального бытия, остается живой и близкой советскому народу.
Первоначально напечатано в журнале «Отечественные записки», 1867, май-июнь. Печатается по сборнику «Повести и рассказы», изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, книга 1. М. 1902.
Текст при переиздании подвергся правке со стороны языка, В журнальной публикации отражались все фонетические особенности речи героев.
Под Кумором здесь подразумевается — Полазна, родина писательницы. Упоминающиеся в повести Кужгорт — Чермоз, Алакшинские рудники — Кизеловские рудники.