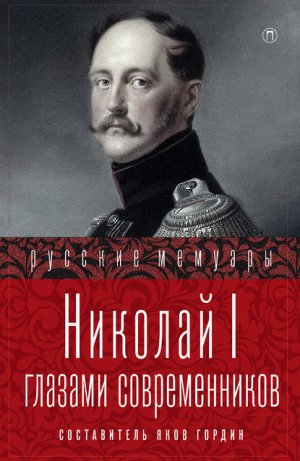
© Гордин Я. А., составление, предисловие, комментарии, указатель, 2013
© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2013
Он всегда следовал по тому пути, который казался ему предначертанным. Немногие понимали его в его простоте, и многие этим злоупотребляли. Но история оправдает его.
Великая княжна Ольга Николаевна, королева Вюртембергская
Мы 30 лет ошибались…
Эти 30 лет мы будем не раз поминать.
Великий князь Константин Николаевич
Умри Николай Павлович в 1850 году, он не дожил бы до пагубной войны с французами и англичанами, которая прекратила его жизнь и набросила на его царствование мрачную тень. Но тень эта существует только для современников. При свете беспристрастной истории она исчезнет, и Николай станет в ряд самых знаменитых и доблестных царей в истории.
Н. И. Греч
Будь проклято царствование Николая I.
А. Герцен
Предисловие
В этой книге читатель найдет отнюдь не все из того, что он привык ассоциировать с именем Николая I. Здесь нет истории взаимоотношений императора с Пушкиным, гонений на Лермонтова, шельмования Чаадаева и так далее. Об этом написано достаточно.
Из сюжетов не менее известных рассматриваются только допросы молодым императором мятежников 14 декабря, ибо они необходимы для понимания характера нашего героя.
Книга не претендует на всестороннее изображение николаевской эпохи. Свою цель составитель видит в другом – дать по возможности ясное представление о человеке, от которого зависела судьба огромной страны и миллионов граждан, ее населяющих.
Великий князь Николай Павлович, а затем император Николай I, был личностью глубоко незаурядной в своем роде, и это существенно усложняет нашу задачу.
Когда пытаешься определить для себя характерные черты этой личности, то неизбежно вспоминаешь знаменитую фразу из «Братьев Карамазовых»: «Широк человек, я бы сузил». И в самом деле – Николай Павлович был искренним патриотом, жаждавшим осчастливить Россию и весь ее народ без изъятия, но в то же время принесший России и ее народу немалые беды. Нежный муж и отец, способный на самые высокие чувства в семейном кругу, он мог быть изуверски безжалостен к тем, кого считал нарушителями установленных им правил существования. Истово верующий христианин, он был совершенно лишен главной христианской добродетели – умения прощать. Он гордился своей прямотой и рыцарственностью и в то же время не гнушался коварства и лицемерия.
Пожалуй, ни один из русских государей не внушал по отношению к себе столь полярные чувства – от благоговейного восхищения до яростной ненависти. И те и другие чувства были совершенно искренними.
Резкое неприятие личности Николая Павловича и, соответственно, его политики поражало после смерти императора его приверженцев. В качестве некоего камертона по отношению ко всей книге попробуем использовать фрагмент из мемуаров фрейлины Марии Фредерикс, любившей императора преданно и бескорыстно.
Из воспоминаний фрейлины императрицы Александры Федоровны баронессы Марии Петровны Фредерикс
В настоящую минуту [1883] я сижу перед портретом нашего незабвенного императора Николая Павловича, и много дум родится в голове моей. Как много несправедливого и ложного было пущено в свет о нем после смерти этого исполина могущества и славы, который так любил Россию!
Ненависть к памяти императора Николая была особенно ощутительна в первые годы царствования его сына. Преданным покойному государю людям нельзя было назвать его без того, чтобы не вызвать тяжелых для преданности слов. Против него кричали, его бранили всячески, выставляя каким-то страшилищем, о котором будущие поколения и история могут вообразить себе, что действительно он был какое-то грозное, нечеловечное явление. Теперь эта злоба начинает укрощаться, а со временем можно быть вполне уверенным, что императору Николаю I отдадут полную справедливость; иначе и не может быть. Но тогда, при восходящем солнце, думали понравиться, услужить этой ненавистью к закатившемуся навек великому, могущественному светилу! Сильно ошибались люди, высказывавшие подобные мысли. Наш добрый, кроткий царь-мученик любил своего отца, умел ему отдавать справедливость и свято чтил его память. К несчастью, слабость его характера не давала ему той силы и могущества, которые так нужны были при всех великих преобразованиях России, выпавших на его долю…
…Император Николай был жестоко обманут своими окружающими. Это тоже один из упреков, возводимый на его память. Но если эти окружающие его, доверенные люди, несмотря на его суровость и твердую волю, не хотели исполнять то, что он повелевал, – виноват ли в этом он?..
В начале царствования Николая I Пушкин, чьих «друзей, товарищей, братьев» молодой император отправил на каторгу – многих без должных на то оснований, – а пятерых повесил, тем не менее приветствовал его восторженными стихами:
А другой великий русский поэт – Федор Иванович Тютчев – подвел горький итог тридцатилетнему правлению усопшего императора:
Заметим: и тот и другой писали прежде всего о человеке.
Разумеется, в значительной степени Николай реализовался как личность в своей государственной деятельности, что подтверждают многие приводимые в книге свидетельства и документы. Но его государственные деяния как во внутренней, так и во внешней политике ярчайше окрашивались особенностями его характера. Именно то, что частный человек со своими симпатиями и антипатиями, своими пристрастиями и фобиями нередко подменял человека государственного, и привело несокрушимого, казалось бы, императора, к трагическому – прежде всего именно чисто человеческому – финалу.
Так кем же был Николай Павлович Романов?
Посмотрим, что говорили о нем близко знавшие его люди и наблюдавшие его современники, что говорил о себе он сам, и попробуем сделать выводы.
Великий князь Николай Павлович
Формирование личности
Из «Воспоминаний о младенческих годах императора Николая Павловича, записанных им собственноручно»
Отец мой нас нежно любил; однажды, когда мы приехали к нему в Павловск, к малому саду, я увидел его, идущего ко мне навстречу со знаменем у пояса, как тогда его носили, он мне его подарил; другой раз обер-шталмейстер граф Ростопчин, от имени отца, подарил мне маленькую золоченую коляску с парою шотландских вороных лошадок и жокеем…
…Мы очень любили отца, и обращение его с нами было крайне доброе и ласковое…
Как ни странно, речь идет о Павле I, которого мы отнюдь не без оснований воспринимаем как деспота и самодура. Но для мальчиков Николая и Михаила это был ласковый и нежный отец. Таким его и запомнил на всю жизнь император Николай Павлович.
Из «Воспоминаний о младенческих годах императора Николая Павловича, записанных им собственноручно»
Я не помню времени переезда моего отца в Михайловский дворец, отъезд же нас, детей, последовал несколькими неделями позже. Отец часто приходил нас проведать, и я очень хорошо помню, что он был чрезвычайно весел. Сестры мои жили рядом с нами, и мы то и дело играли и катались по всем комнатам и лестницам «в санях», т. е. на опрокинутых креслах… Наше помещение находилось над апартаментами отца, рядом с церковью… моя спальня соответствовала спальне отца и находилась непосредственно над нею… за моей спальней находилась темная витая лестница, спускавшаяся в помещение отца… Мы спускались регулярно к отцу в то время, когда он причесывался; это происходило в собственной его опочивальне; он тогда был в белом шлафроке и сидел в простенке между окнами… Нас, т. е. меня, Михаила и Анну, впускали в комнату с нашими англичанками, и отец с удовольствием нами любовался, когда мы играли на ковре, покрывавшем пол этой комнаты…
Воспоминания эти сочинялись через много лет после марта 1801 года, но Николай, которому было около пяти лет, помнит, как мы видим, все детали.
Можно было бы усомниться в точности этих сентиментальных воспоминаний, если бы они не подтверждались другими источниками.
Из воспоминаний великой княжны Анны Павловны
Мой отец любил окружать себя своими младшими детьми и заставлял нас, Николая, Михаила и меня, являться к нему в комнату играть, пока его причесывали, в единственный свободный момент, который у него был. В особенности это случалось в последнее время его жизни. Он был нежен и так добр с нами, что мы любили ходить к нему.
Из записей барона Модеста Андреевича Корфа «Материалы и черты к биографии императора Николая I»
Великих князей Николая и Михаила Павловичей он [Павел I] обыкновенно называл «мои барашки», «мои овечки» и ласкал их весьма нежно, чего никогда не делала их мать. Точно так же, в то время как императрица обходилась довольно высокомерно и холодно с лицами, находящимися при ее младших детях, строго заставляя их соблюдать в своем присутствии придворный этикет, который вообще столько любила, император совсем иначе обращался с этими людьми, значительно ослабляя в их пользу этот придворный этикет, во всех остальных случаях им строго наблюдавшийся. Таким образом, он дозволял нянюшке не только при себе садиться, держа великого князя на руках, но весьма свободно с собою разговаривать…
Когда мы думаем о характере и стиле правления императора Николая Павловича, то странным образом забываем о той страшной травме, которую пятилетний Николай получил утром 12 марта 1801 года, – убийстве любимого отца.
Если старших сыновей Александра и Константина Павел подозревал в мятежных умыслах, не доверял им и обращался с ними весьма жестко, то невинные младшие были предметом его нежности и надежды. И не только в смысле чисто человеческом.
Из книги Николая Карловича Шильдера «Император Николай Первый: Его жизнь и царствование»
Существуют указания… что Павел Петрович предполагал будто бы избрать своим преемником великого князя Николая Павловича, который был любимцем отца. К этому намерению относятся слова, сказанные государем, что он вскоре помолодеет на двадцать пять лет. «Подожди еще пять дней, и ты увидишь великие дела!» – с этими словами император Павел обратился к графу Кутайсову, намекая на какую-то предстоящую таинственную перемену.
Вечером 11 марта 1801 года, в последний день своей жизни, император Павел посетил великого князя Николая Павловича. При этом свидании великий князь, которому уже шел пятый год, обратился к своему родителю с странным вопросом, отчего его называют Павлом Первым. «Потому что не было другого государя, который носил бы это имя до меня», – отвечал ему император. «Тогда, – продолжал великий князь, – меня будут называть Николаем Первым». «Если ты вступишь на престол», – заметил ему государь. Погрузившись затем в раздумье и устремив долгое время свои взоры на великого князя, Павел крепко поцеловал сына и быстро удалился из его комнат.
Есть основания предполагать, что мысль о престоле родилась у Николая еще в детстве и связана была с благоволением любимого отца. И тем страшнее было для него то, что произошло в ночь на 12 марта.
Из «Воспоминаний о младенческих годах императора Николая Павловича, записанных им собственноручно»
Однажды вечером был концерт в большой столовой; мы находились у матушки; мой отец уже ушел, и мы смотрели в замочную скважину, потом поднялись к себе и принялись за обычные игры. Михаил, которому было тогда три года, играл в углу один в стороне от нас; англичанки, удивленные тем, что он не принимает участия в наших играх, обратили на это внимание и задали ему вопрос: что он делает? Он не колеблясь отвечал: «Я хороню своего отца!» Как ни малозначащи должны были казаться такие слова в устах ребенка, они тем не менее испугали нянек. Ему, само собой разумеется, запретили эту игру, но он тем не менее продолжал ее… На следующее утро моего отца не стало… События этого печального дня сохранились в моей памяти как смутный сон… Когда меня одели, мы заметили в окно, на подъемном мосту под церковью, караулы, которых не было накануне; тут был весь Семеновский полк, в крайне небрежном виде. Никто из нас не подозревал, что мы лишились отца; нас повели вниз к матушке… Матушка моя лежала в глубине комнаты, когда вошел император Александр в сопровождении Константина и князя Николая Ивановича Салтыкова; он бросился перед матушкой на колени, и я до сих пор еще слышу его рыдания. Ему принесли воды, а нас увели.
Не так уж смутно запомнил маленький Николай этот день, если в памяти его остались такие подробности.
Через три десятка лет в ушах у него звучали рыдания Александра, давшего согласие на убийство собственного отца.
Конечно же, Николай, любимый сын Павла I, не простил случившегося ни Александру – что бы он о нем впоследствии ни говорил, – ни придворной элите, которой не верил после этого ни на грош.
Он недаром так точно описал топографию Михайловского дворца: он не мог забыть, что его отца убивали совсем близко от детской, где он, пятилетний мальчик, спал сладким сном, – в комнате, расположенной ниже этажом.
Со временем он наверняка узнал имена убийц и регулярно видел их в окружении старшего брата – императора.
И в канун 14 декабря 1825 года Николай слишком хорошо помнил, что Павла убили его приближенные, а во главе их стоял тот, кому он больше всего доверял, – генерал-губернатор столицы граф Пален.
Из дневника сенатора Павла Гавриловича Дивова, 11 марта 1827 года
По прошествии 25 лет впервые назначена заупокойная литургия по императоре Павле. Это прекрасный поступок со стороны императора Николая.
Правда, в это самое время генерал-губернатором Петербурга был генерал Павел Васильевич Голенищев-Кутузов – один из убийц Павла…
Ни император Александр, ни император Николай никогда не забывали своего царственного родителя. Но чувства при этом они испытывали разные.
В 1796 году, взойдя на престол, Павел устроил торжественное перезахоронение останков Петра III, также погибшего в результате заговора. Николай по сути дела символически повторил его поступок по отношению к нему самому…
Однако, будучи нежным отцом, Павел оставался самим собой, что сказалось в выборе главного воспитателя младших сыновей. Им стал генерал-лейтенант Матвей Иванович Ламсдорф, суровый служака, не слишком образованный, но фанатик дисциплины. Главная установка, которая дана была Павлом Ламсдорфу, – чтобы великие князья «не были похожи на шалопаев немецких принцев».
Из «Записок» Николая I
Лишившись отца, остался я невступно пяти лет; покойная моя родительница, как нежнейшая мать, пеклась об нас двух с братом Михаилом Павловичем, не щадя ничего, дабы дать нам воспитание, по ее убеждению, совершенное.
Николай существенно идеализирует отношение Марии Федоровны к детям. Не говоря о том, что «главный наставник» избран был убитым супругом.
И дальше Николай рисует достаточно ужасающую картину воспитания великих князей, категорически опровергающую миф о «нежнейшей матери».
Из «Записок» Николая I
Мы поручены были как главному нашему наставнику генералу графу Ламсдорфу, человеку, пользовавшемуся всем доверием матушки… Граф Ламсдорф умел вселить в нас одно чувство – страх, и такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастия сыновнего доверия к родительнице, к которой допущаемы мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нужно было, и должно признаться, что не без успеха.
Генерал-адъютант Ушаков был тот, кого мы более всех любили, ибо он с нами никогда сурово не обходился, тогда как граф Ламсдорф и другие, ему подражая, употребляли строгость с запальчивостью, которая отнимала у нас и чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Одним словом – страх и искание, как избегнуть от наказания, более всего занимали мой ум.
В учении видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и, я думаю, не без причины, обвиняли в лености и рассеянности, и нередко граф Ламсдорф меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков.
Таким было мое воспитание до 1809 года, где приняли другую методу…
Таким образом, великого князя, будущего императора, подвергали телесным наказаниям до тринадцати лет!
Поскольку именно в эти годы формируется в значительной степени характер человека, то стоит обратиться к более подробному рассказу об этом периоде.
Из записей барона Модеста Андреевича Корфа «Материалы и черты к биографии императора Николая I»
Неизвестно, на чем основывалось то высокое уважение к педагогическим способностям генерала Ламсдорфа, которое могло решить выбор императора Павла, но достоверно то, что ни Россия, ни великие князья, в особенности же Николай Павлович, не выиграли от этого избрания. Ламсдорф, как по всему заключить можно, не обладал не только же ни одною из способностей, необходимых для воспитания особы царственного дома, призванной иметь влияние на судьбы своих соотечественников и на историю своего народа, но даже был чужд и всего того, что нужно для человека, посвящающего себя воспитанию частного лица. Вовсе не понимая воспитания в истинном, высшем его смысле, он вместо того, чтобы дать возможно лучшее направление тем моральным и интеллектуальным силам, которые уже жили в ребенке, приложил все свои старания единственно к тому, чтоб переломить его на свой лад и идти прямо наперекор всем наклонностям, желаниям и способностям порученного ему воспитанника. Великие князья были постоянно как бы в тисках. Они не могли свободно и непринужденно ни встать, ни сесть, ни ходить, ни говорить, ни предаваться обычной детской резвости и шумливости; их на каждом шагу останавливали, исправляли, делали замечания, преследовали моралью или угрозами. Императрица Мария Федоровна, кажется, точно так же ошибалась в задаче воспитания и только побуждала Ламсдорфа действовать по той несчастной системе, которую он одну и разумел: системе холодных приказаний, выговоров и наказаний, доходящих до жестокости. Николай Павлович в особенности не пользовался расположением своего воспитателя, всегда предпочитавшего ему младшего брата. Он действительно был характера строптивого, вспыльчивого, а Ламсдорф, вместо того чтобы умерить этот характер мерами кротости, обратился к строгости, почти бесчеловечной, позволяя себе даже бить великого князя линейками, ружейными шомполами и пр. Не раз случалось, что в ярости своей он хватал мальчика за грудь или за воротник и ударял его об стену так, что тот почти лишался чувств. В ежедневных журналах почти на каждых страницах встречаются следы жестокого обращения, вовсе не скрываемого и ничем не маскируемого. Везде являются угрозы наказания, жалобы кавалеров генералу Ламсдорфу (всегдашнему карателю) и самой императрице за проступки весьма неважные, самые обыкновенные, которые со всяким ребенком случаются, но не бывают рассматриваемы с преувеличением как бы через микроскоп. Императрица из повседневных рапортов могла очень ясно видеть, какое жестокое, часто без всякой нужды, обращение было с ее младшими сыновьями, в журналах упоминалось даже об ударах шомполом, но, вероятно, она так же полагала, что все это хорошо и необходимо для воспитания, потому что ей осмеливались прямо и открыто докладывать о подобных подробностях.
Контраст между тем положением, в котором находились Николай и Михаил при жизни Павла, и холодной бессмысленной жестокостью, с которой они столкнулись после его смерти – в самом чувствительном возрасте, – бесспорно, еще усилил горечь в душе Николая при воспоминании о страшном утре 12 марта 1801 года.
Такое детство бесследно не проходит. Многолетнее унижение – при том, что Николай хорошо представлял себе, кто он такой, – неизбежно требует психологической компенсации.
Из записей барона Модеста Андреевича Корфа «Материалы и черты к биографии императора Николая I»
Великие князья едва вставали утром с постели, как почти сейчас же принимались за военные игры. У них были (в большом количестве) оловянные солдатики, которых, если нельзя было выходить со двора за дурной погодой или в зимнее время, они расставляли в комнатах по столам; летом же они играли этими солдатиками в саду, строили редуты, крепости и атаковали их. Кроме оловянных солдатиков команда их комплектовалась фарфоровыми. Из прочих игрушек военных у них были еще: ружья, алебарды, гренадерские шапки, деревянные лошади, барабаны, трубы, зарядные ящики и проч. […]
Несмотря, однако же, на эту приверженность к военным внешностям, великий князь Николай Павлович в детстве вовсе не имел настоящего воинственного духа и во многих случаях был труслив.
Так, например, он, будучи 5-ти и даже 6-ти лет, чрезвычайно еще боялся стрельбы. В первый раз ему случилось самому стрелять через два дня после того, как ему исполнилось 6 лет, т. е. 27 июня 1802 года; это было в Гатчине. Оба великих князя за несколько времени перед тем сами просили, чтобы им позволили эту забаву; но когда дело дошло до исполнения, то Николай Павлович испугался, стал плакать и спрятался в беседке… Заметив в детях такую трусость, их стали часто водить на стрельбу, но они довольно долго продолжали бояться ее. Иногда перед окнами их, в Гатчине, проходило военное учение, причем некоторые пехотные полки стреляли: Николай Павлович и тут всегда трусил, плакал, затыкал себе уши и прятался. Только в 1806 году он полюбил сам стрелять.
Точно так же он сперва долго очень боялся грозы и фейерверков: когда наступала гроза, раздавался гром и начинала блистать молния, великий князь усердно просил, чтобы закрывали все трубы и принимали другие предосторожности. Грозы он боялся даже в 1808 году…
С самого детства также он не мог смотреть ни с какой высоты или стоять на узком пространстве, не подвергаясь сильным головокружениям, и, между тем как боязнь грома и стрельбы у него со временем прошла, ему никогда, даже и до позднейших лет, не удавалось превозмочь неприятного физического ощущения, сейчас описанного.
Внешне крепкий, рослый, здоровый мальчик, великий князь был, очевидно, весьма неврастеничен. И его позднейшая подчеркнутая брутальность, его солдатская повадка явились, скорее всего, реакцией на эти детские и подростковые страхи. Вряд ли он мог забыть о них, и ему необходимо было противопоставить этим мучительным для него воспоминаниям репутацию человека сурово мужественного.
В утрированной форме все это сказалось в бытность его гвардейским генералом. А пока что проявлялось в жестокости по отношению к своим товарищам по играм, прежде всего к младшему брату.
Из записей барона Модеста Андреевича Корфа «Материалы и черты к биографии императора Николая I»
Игры эти редко бывали миролюбивы, почти всякий день случались или ссора, или даже драка. Николай Павлович был до крайности вспыльчив и неугомонен, когда что-нибудь или кто-нибудь его сердили; что бы с ним ни случалось, падал ли он или ушибался, или считал свои желания неисполненными, а себя обиженным, он тотчас же произносил бранные слова (например, иногда называл своего брата дураком), рубил своим топориком барабан, игрушки, ломал их, бил палкой или чем попало товарищей игр своих, несмотря на то что очень любил их, а к младшему брату был страстно привязан; иногда же вспыльчивость свою простирал до того, что плевал в лицо великой княжне Анне Павловне…
Другим любимым занятием Николая Павловича была игра в шахматы. Здесь также выказывалась совершенная разность натур обоих братьев: старший все только нападал и действовал натиском, младший хитрил и озадачивал его неожиданными, остроумными ходами.
Кроме шахмат великие князья (с 1808 года) играли еще в бостон, но Николай Павлович не умел оставаться хладнокровным, когда проигрывал, выходил из себя и даже рвал карты.
Облик, манера поведения
Во время своего визита в Англию двадцатилетний великий князь произвел на английское общество самое благоприятное, хотя и своеобразное впечатление.
Из памятных записок барона Кристиана Фридриха Стокмара, лейб-медика принца Леопольда Саксен-Кобургского. Англия, 1816
Это необыкновенно обворожительный юноша; он не очень худ и прям как сосна. Его лицо юношеской белизны с необыкновенно правильными чертами, красивым открытым лбом, красивыми изогнутыми бровями, необыкновенно красивым носом, изящным маленьким ртом и выточенным подбородком. Его манера держать себя полна оживления, без принужденности и натянутости, и тем не менее исполнена достоинства. Он говорит по-французски свободно и хорошо, сопровождая слова свои грациозными жестами. Если все сказанное им не отличалось изысканностью, зато он во всяком случае был чрезвычайно занимателен и, по-видимому, обладал несомненным талантом ухаживать за женщинами. В нем проглядывает большая самонадеянность при совершенном отсутствии претенциозности.
Из разговора леди Кемпбелл с бароном Кристианом Фридрихом Стокмаром. Англия, 1816
Что за милое создание! Он дьявольски хорош собою! Он будет красивейшим мужчиной в Европе!
Из книги Сергея Спиридоновича Татищева «Император Николай I и иностранные дворы»
Англичан видимо поразили спартанские привычки великого князя, его умеренность в пище, воздержанность в питье. Действительно, он пил только воду, а вечером слуги его внесли в приготовленную для него в Клармонте спальню набитый сеном мешок, заменявший ему постель. Англичанам показалось это аффектациею…
Из «Записок» известного мемуариста Филиппа Филипповича Вигеля. 1816
Рядом с прусским принцем ехал государь с видом чрезвычайно довольным. За ним следовал великий князь Николай Павлович. Русские тогда еще мало знали его; едва вышед из отрочества, два года провел он в походах за границей, в третьем проскакивал он всю Европу и Россию, и, возвратясь, начал командовать Измайловским полком. Он был несообщителен и холоден, весь преданный чувству долга своего; в исполнении его он стал слишком строг к себе и к другим. В правильных чертах его белого, бледного лица была какая-то неподвижность, какая-то безотчетная суровость. Тучи, которые в первой молодости облегли чело его, были как будто предвестием всех напастей, которые посетят Россию во время его правления… Никто не знал, никто не думал о его предназначении; но в неблагосклонных взорах его, как в неясно писанных страницах, как будто читали историю будущих зол. Сие чувство не могло привлекать к нему сердец. Скажем всю правду: он совсем не был любим.
В 1817 году состоялась свадьба Николая Павловича и прусской принцессы Шарлотты.
Из книги Михаила Александровича Полиевктова «Николай I. Биография и обзор царствования»
8 июня 1817 года принцесса приехала в Мемель, а на другой день прибыл сюда Николай Павлович. В этот же день состоялся переход принцессы через границу. По обеим сторонам границы были выстроены русские и прусские войска. Николай Павлович, поздоровавшись с пруссаками, сказал: «Мои друзья, помните, что я наполовину ваш соотечественник и, как вы, вхожу в состав армии вашего короля». Принцесса перешла границу пешком. Представляя ее русским войскам, Николай Павлович сказал офицерам: «Это не чужая, господа, это дочь вернейшего союзника и лучшего друга нашего государя». Все это не было лишено большого политического значения. Мечты об упрочении династической связи между Россией и Пруссией, которые лелеял в свое время император Павел и которые, как его завет, сберегла для его детей императрица Мария Федоровна, теперь были близки к осуществлению. Дружба с Пруссией надолго с этого времени становится заветом русской правительственной политики, как бы одним из официально санкционированных устоев русской государственности.
Когда великий князь называл себя «наполовину соотечественником» прусских офицеров, он имел в виду происхождение его матери – дочери герцога Вюртембергского, генерала на прусской службе.
Эта романтическая идея кровного родства как залога политического союза была одной из тех ложных доктрин императора Николая I, которая привела его к катастрофе.
Из «Воспоминаний первого камер-пажа великой княгини Александры Федоровны» Петра Михайловича Дарагана. 1817–1819
Выдающаяся черта характера великого князя Николая была любовь к правде и неодобрение всего поддельного, напускного. В то время император Александр Павлович был в апогее своей славы, величия и красоты. Он был идеалом совершенства… Не только гвардейские генералы и офицеры старались перенять что-либо из манер императора, но даже и великие князья Константин и Михаил поддавались общей моде и подражали Александру в походке и манерах… По врожденной самостоятельности характера не увлекался этой модой только один великий князь Николай Павлович. В то время великий князь Николай Павлович не походил еще на ту величественную, могучую, статную личность, которая теперь представляется всякому при имени императора. Он был очень худощав и оттого казался еще выше. Облик и черты лица его не имели еще той округлости, законченности красоты, которая в императоре так невольно поражала каждого и напоминала изображения героев на античных камеях. Осанка и манеры великого князя были свободны, но без малейшей кокетливости или желания нравиться; даже натуральная веселость его, смех, как-то не гармонировали со строго классическими, прекрасными чертами его лица… А веселость эта была увлекательна, это было проявление того счастья, которое, наполняя душу юноши, просится наружу. В павловском придворном кружке он был всегда весел до шалости. Я помню, как в один летний день императрица, великий князь с супругою и камер-фрейлина Нелидова вышли на террасу павловского сада. Великий князь шутил с Нелидовой, это была сухощавая, небольшая старушка, весьма умная, добрая и веселая. Вдруг великий князь берет ее на руки, как ребенка, несет в караульную будку, оставляет в ней и строгим голосом приказывает стоящему на часах гусару не выпускать арестантку. Нелидова просит о прощении, императрица и великая княгиня смеются, а великий князь бросается снова к будке, выносит Нелидову и, опустив ее на то место, откуда взял, становится на колени и целует ей руки.
Из записей Василия Андреевича Жуковского
Ничего не могло быть трогательнее великого князя в домашнем быту. Лишь только переступал он к себе за порог, как угрюмость вдруг исчезала, уступая место не улыбкам, а громкому радостному смеху, откровенным речам и самому ласковому обращению с окружающими… Счастливый юноша с доброю, верною прекрасною подругой, с которой жил душа в душу, имея занятия, согласные с его склонностями, без забот, без ответственности, без честолюбивых помыслов, с чистою совестью, чего недоставало ему на земле?
Нет оснований не верить Василию Андреевичу, человеку честному и доброжелательному. Его наблюдения над частной жизнью великого князя, над его поведением в кругу семьи наверняка соответствуют действительности. Он не скрывает, что за пределами этого счастливого оазиса – Аничкова дворца, – великому князю свойственна была «угрюмость» как отличительная черта. И это было павловское наследие. Как мы помним, грозный для окружающих император в другой обстановке превращался в нежного, трогательного отца. И в том и в другом случае это, скорее всего, не было врожденной двойственностью. Это было фанатическим представлением о своем долге.
Василий Андреевич был не только добр, но и доверчив. И если бы он мог заглянуть в наглухо закрытую душу Николая Павловича, то ответ на вопрос «чего недоставало ему на земле?» оказался бы один: великому князю недоставало русского трона.
Гвардейский генерал
В 1808 году, двенадцати лет от роду, великий князь Николай Павлович получил право носить генеральский мундир.
Из книги Николая Карловича Шильдера «Император Николай I»
Что касается характера Николая Павловича в период его отрочества и ранней юности, то черты, проявлявшиеся у него уже с детства, за это время лишь развились. Он сделался еще более строптивым, самонадеянным и своевольным. Желание повелевать, развившееся в нем, вызывало неоднократные жалобы со стороны воспитателей.
Из «Записок» Николая I
До 1818 года не был я занят ничем; все мое знакомство со светом ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате… От нечего делать вошло в привычку, что в сем собрании делались дела по гвардии, но большею частью время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего; бывали и интриги. В то время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя ни начальство, ни правительство.
Долго я видел и не понимал, сперва родилось удивление, наконец, и я смеялся, потом начал замечать, многое видел, многое понял; многих узнал и в редком обманулся. Время сие было потерей времени и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался.
Осенью 1818 года государю было угодно сделать мне милость, назначив командиром 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии, т. е. Измайловским и Егерским полками. За несколько месяцев перед тем вступил я в управление Инженерною частию.
Из книги Михаила Александровича Полиевктова «Николай I. Биография и обзор царствования»
21 августа 1818 года великим князем был представлен доклад об устройстве инженерного корпуса на новых основаниях, чему и была посвящена его дальнейшая деятельность… Сосредоточив в своих руках управление инженерными войсками, Николай Павлович поставил себе двоякую цель: создать русский военно-инженерный корпус и тем избегнуть необходимости обращаться к иностранным силам и развить военно-инженерное строительство – крепостное и казарменное.
Из «Записок о вступлении на престол» Николая I
Я начал знакомиться с своей командою и не замедлил убедиться, что служба шла везде совершенно иначе, чем слышал волю моего государя, чем сам полагал, разумел ее, ибо правила оной были в нас твердо влиты. Я начал взыскивать, но взыскивал один, ибо что я по долгу совести порочил, дозволялось везде даже моими начальниками. Положение было самое трудное; действовать иначе было противно моей совести; но сим я явно ставил и начальников и подчиненных против себя, тем более что меня не знали и многие или не понимали, или не хотели понимать.
Корпусом начальствовал тогда генерал-адъютант Васильчиков; к нему я прибег, ибо ему поручен был как начальнику покойной матушкой. Часто изъяснял я ему свое затруднение, он входил в мое положение, во многом соглашался и советами исправлял мои понятия. Но сего не доставало, чтобы поправить дело; даже решительно сказать можно – не зависело более от генерал-адъютанта Васильчикова исправить порядок службы, распущенный, испорченный до невероятности с самого 1814 года, когда, по возвращении из Франции, гвардия оставалась в продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича. В сие-то время и без того расстроенный трехгодичным походом порядок совершенно разрушился; и в довершение всего дозволена была офицерам носка фраков. Было время (поверит ли кто сему), что офицеры езжали на учение во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу. Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день.
Смысл всего этого пассажа понятен: записки сочинялись после 14 декабря, и Николай старался объяснить нелюбовь к нему гвардии – нелюбовь, которая стала одной из причин мятежа. Он, конечно же, сильно преувеличивает беспорядок в гвардейском корпусе. Ему, не нюхавшему пороха, были непонятны отношения между офицерами и генералами – ветеранами недавно окончившейся жесточайшей войны, отношения между боевыми товарищами.
Что же до нелюбви к нему и солдат, и офицеров, и части генералитета, то дело было не столько в его требовательности, сколько в той форме, в которой эта требовательность проявлялась.
Резкость, нетерпимость и грубость великого князя были внятны всем, кто его знал. В этом отношении очень характерны наставления, которые императрица Мария Федоровна дала сыну перед его поездкой по России в 1816 году. При всей мягкости и осторожности выражений суть их ясна.
Из письма императрицы Марии Федоровны великому князю Николаю Павловичу
…Если Вы говорите чересчур громко, Ваш голос звучит резко и может показаться грубым, чего всячески следует избегать.
Из «Записок о вступлении на престол» Николая I
По мере того как начинал я знакомиться со своими подчиненными и видеть происходившее в прочих полках, я возымел мысль, что под сим, т. е. военным распутством, крылось что-то важное; и мысль сия постоянно у меня осталась источником строгих наблюдений. Вскоре заметил я, что офицеры делятся на три разбора; на искренно усердных и знающих; на добрых малых, но запущенных и оттого не знающих; и на решительно дурных, т. е. говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных: на сих-то последних налег я без милосердия и всячески старался оных избавиться, что мне и удавалось. Но дело сие было нелегкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь через все полки и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние оказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось.
Из записок современника
Обыкновенное выражение его лица имеет в себе нечто строгое и неприветливое. Его улыбка есть улыбка снисходительности, а не результат веселого настроения или увлечения. Привычка господствовать над этими чувствами сроднилась с его существом до того, что вы не замечаете в нем никакой принужденности, ничего неуместного, ничего заученного, а между тем все его слова, как и все его движения, размеренны, словно перед ним лежат музыкальные ноты. В великом князе есть нечто необычное: он говорит живо, просто, кстати: все, что он говорит, умно, ни одной пошлой шутки, ни одного забавного или непристойного слова. Ни в тоне его голоса, ни в составе его речи нет ничего, что обличало бы гордость или скрытность. Но вы чувствуете, что сердце его закрыто, что преграда недоступна и что безумно было бы надеяться проникнуть вглубь его мысли или обладать полным доверием.
В 1814 году к великим князьям был приставлен в качестве воспитателя по военной части генерал Петр Петрович Коновницын, знаменитый герой 1812 года.
Это был выбор удачный во всех отношениях, но, к сожалению, результат его воздействия на воспитанников оказался весьма незначителен. Разумеется, он мог им многое рассказать и объяснить касательно военного дела, но прошедший кровавую эпопею наполеоновских войн Коновницын отнюдь не только в этом видел свое предназначение.
Когда в 1816 году его миссия завершилась, Коновницын обратился к своим питомцам с удивительным посланием.
Из послания Петра Петровича Коновницына великим князьям
Умеряйте честолюбивые желания, буде они в вас вкрались. Они могут привести к желанию пролития крови ваших ближних, за которую никто вознаградить не в силах. Помните непрестанно, что вступать в войну надобно всегда с сожалением крайним, производить оную как можно короче и в единственных видах продолжительного мира; что и самая обязанность командования армиями есть и должна быть обязанностью начальственною, временною и даже неприятною для добрых государей. Что блаженство народное не заключается в бранях, а в положении мирном; что положение мирное доставляет счастие, свободу, изобилие посредством законов, следовательно, изучение оных, наблюдение за оными есть настоящее, соответственное и неразлучное с званием вашим дело. В прочих же бранях, могущих касаться до спасения отечества, славы и независимости его, идите с твердостью, как славный род предков ваших подвизался.
Из этого текста следует, что в 1816 году Коновницын, близкий ко двору, не исключал воцарения одного из великих князей. Разумеется, старшего – Николая.
Но это было делом неопределенного будущего. Гораздо актуальнее было другое его наставление.
Из послания Петра Петровича Коновницына великим князьям
Если придет время командовать вам частями войск, сколько бы велики или малы оне ни были, да будет первейшее ваше старание о содержании их вообще и о призрении больных и страждущих. Старайтесь улучшить положение каждого, не требуйте от людей невозможного. Доставьте им прежде нужный и необходимый покой, а потом уже требуйте точного и строгого исполнения истинной службы. Крик и угрозы только что раздражают, а пользы вам не принесут.
Однако, став гвардейским генералом, вскоре после расставания с Коновницыным, великий князь Николай Павлович немедленно начал действовать вопреки его заветам.
Постепенно Николай Павлович пришел к выводу, что именно армия является идеальным вариантом жизнеустройства.
Великий князь Николай Павлович (из разговора)
Здесь порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого; никто не приказывает, прежде чем не научится повиноваться; никто без законного основания не становится вперед другого; все подчиняется одной определенной цели, все имеет свое назначение.
Поскольку армия представлялась великому князю идеалом, он стал прилагать все усилия, чтобы она его представлениям соответствовала. Но методы его категорически расходились с тем, что советовал ему опытнейший Коновницын.
Из воспоминаний инженера путей сообщения Виктора Михайловича Шимана
Изумительная деятельность, крайняя строгость и выдающаяся память, которыми отличался император Николай Павлович, проявилась в нем уже в ранней молодости, одновременно со вступлением в должность генерал-инспектора по инженерной части и началом сопряженной с нею службы. Некто Кулибанов, служивший в то время в гвардейском саперном батальоне, передавал мне, что великий князь Николай Павлович, часто навещая этот батальон, знал поименно не только офицеров, но и всех нижних чинов; а что касалось его неутомимости в занятиях, то она просто всех поражала. Летом, во время лагерного сбора, он уже рано утром являлся на линейное и ружейное учение своих сапер; уезжал в 12 часов в Петергоф, предоставляя жаркое время дня на отдых офицерам и солдатам, а затем, в 4 часа, скакал вновь 12 верст до лагеря и оставался там до вечерней зари, лично руководя работами по сооружению полевых укреплений, проложению траншей, заложению мин и фугасов и прочими саперными занятиями военного времени. Образцово подготовленный и до совершенства знавший свое дело, он требовал того же от порученных его заведованию частей войск и до крайности строго взыскивал не только за промахи в работах, но и за фронтовым учением и проделыванием ружейных приемов. Наказанных по его приказанию солдат часто уносили на носилках в лазарет; но в оправдание такой жестокости следует заметить, что в этом случае великий князь придерживался только воинского устава того времени, требовавшего беспощадного вколачивания ума и памяти в недостаточно сообразительного солдата, а за исполнением строгих правил устава наблюдал приснопамятный по своей бесчеловечности всесильный Аракчеев, которого побаивались даже великие князья. Чтобы не подвергнуться замечаниям зазнавшегося временщика, требования его исполнялись буквально, а в числе этих требований одно из главных заключалось в наказании солдат за всякую провинность палками, розгами, шпицрутенами до потери сознания.
При таких условиях начиналась служба Николая Павловича, и, конечно, не могли эти условия не оставить следов на нем. Ученья, смотры, парады и разводы он любил неизменно до самой смерти.
Из «Записок» декабриста Андрея Евгеньевича Розена
В конце мая полки выступили в лагерь в Красном Селе. Служба была строгая; палатка его высочества была в шестнадцати шагах от моей палатки. Его высочество был взыскателен по правилам дисциплины и потому, что сам не щадил себя; особенно доставалось офицерам. В жаркий день, когда мы были уже утомлены от учения, а его высочество был не в духе, раздосадован, он протяжно запел штаб-горнисту сигнал беглого шага. Мы побежали, а он звонким голосом кричит: «Кирасиры! что вы топчетесь на одном месте? Подымайте ноги!» – и, провожая нас галопом, начал угощать до того времени еще не вводившимися любезностями и ругательствами. Наконец велел трубить отбой, мы остановились; он подъехал к нашим колоннам бледный, сам измученный зубною болью, и, как выражались тогда, пошел писать и выговаривать: скверно! мерзко! гадко! и то дурно, и то не хорошо, и того не знаете, и того не умеете, – наконец, когда досада переполнилась, он прибавил: «Все, что в финляндском мундире, все свиньи! Слышите ли, все свиньи!» – повернул коня и уехал. В лагере собрались мы у батальонных командиров и объявили, что после такой выходки нельзя оставаться в этом полку; но как время к поданию просьб в отставку было назначено с сентября по январь, следовательно, такое прошение или требование всею массою офицеров о переводе в армейские полки будет принято за бунт, то положено было от каждого чина по жребию выходить из полка. Толковали до вечерней зари, толки перешли в другие полки и, разумеется, дошли и до его высочества. Приехал бывший командир наш, Шеншин, в финляндском мундире, уговаривал, упрашивал, обижался, если мы подумаем только, что в нем меньше чести, нежели в офицерах, но все это были промахи; наконец нашелся и переубедил, сказав: «Господа, я вам докажу ясно и непреложно, что его высочество даже в пылу гнева и досады не думал о вас и не мог вас обидеть, зная хорошо, что государь император, августейший брат его, через каждые семь дней носит наш мундир». На другой день его высочество после учения подошел к нашему офицерскому кругу и слегка коснулся вчерашнего дня и слегка извинился. Но через две недели нам опять досталось после того, как полковник П. Я. Куприянов, по близорукости или забывчивости на батальонном учении, удалив взводного офицера и не заметив, что за этим взводом замыкал подпоручик Белич, приказал командовать унтер-офицеру. Пошли объяснения, вызовы на поединок, но он действительно этого не знал и не видел, был, напротив, особенно хорошо расположен к Беличу, извинился вполне удовлетворительно, и дело кончилось по-семейному, но не понравилось его высочеству. На первом учении после этого случая он выказал свое неудовольствие: он видел в вызове нарушение дисциплины и после учения, изложив сделанные ошибки, прибавил: «Господа офицеры, займитесь службою, а не философией: я философов терпеть не могу, я всех философов в чахотку вгоню!»
Из «Записок о вступлении на престол» Николая I
Государь возвратился из Ахена в конце года, и тогда в первый раз удостоился я доброго отзыва моего начальства и милостивого слова моего благодетеля, которого один благосклонный взгляд вселял бодрость и счастие. С новым усердием я принялся за дело, но продолжал видеть то же округ себя, что меня изумляло и чему я тщетно искал причину.
Из «Записок» декабриста Андрея Евгеньевича Розена
Однажды в Аничковом дворце представлял я ординарцев его высочеству; там собраны были полковые и батальонные командиры; его высочество рассуждал о введении нового ружейного приема, стоял с ружьем в руках и объявил свое намерение – представить на разрешение государя перемену одного приема, чтобы при первом темпе на караул! ружье было бы спущено во всю левую руку, потому что это представляет более удобства, а когда скомандуют на руку! – то прием по новому темпу будет также легче и по дороге. Все слушали с благоговением и одобрили мнение, когда вдруг полковник Люце заметил: «Ваше императорское высочество, когда скомандуют товсь! (изготовиться к стрельбе), то прием такой, по-новому, будет не по дороге». Его высочество отступил на шаг назад, приложил ружье прямо штыком к носу Люце и сказал: «Ах ты нос! проклятый нос! мне это в голову не приходило». У Люце был весьма широкий нос, тавлинкой.
Саперный полковник Люце, надо заметить, был пожилой и заслуженный офицер, годившийся великому князю в отцы…
Из «Записок декабриста» Николая Ивановича Лорера
Служба мирного времени шла своим порядком без излишнего педантизма, но, к сожалению, этот порядок вещей скоро стал изменяться. Оба великие князя, Николай и Михаил, получили бригады и тут же стали прилагать к делу вошедший в моду педантизм. В городе они ловили офицеров; за малейшее отступление от формы одежды, за надетую не по форме шляпу сажали на гауптвахты; по ночам посещали караульни и, если находили офицеров спящими, строго с них взыскивали… Приятности военного звания были отравлены, служба стала всем делаться невыносимой! По целым дням по всему Петербургу шагали полки то на учение, то с учения, барабанный бой раздавался с раннего утра до поздней ночи. Манежи были переполнены, и начальники часто спорили между собой, кому из них первому владеть ими, так что принуждены были составить правильную очередь.
Оба великие князя друг перед другом соперничали в ученье и мученье солдат. Великий князь Николай даже по вечерам требовал к себе во дворец команды человек по сорок старых ефрейторов; там зажигались свечи, люстры, лампы, и его высочество изволил заниматься ружейными приемами и маршировкой по гладко натертому паркету. Не раз случалось, что великая княгиня Александра Федоровна, тогда еще в цвете лет, в угоду своему супругу становилась на правый фланг сбоку какого-нибудь 13-вершкового усача-гренадера и маршировала, вытягивая носки.
Старые полковые командиры получили новые назначения; а с ними корпус офицеров потерял своих защитников, потому что они одни изредка успевали сдерживать ретивость великих князей, представляя им, как вредно для духа корпуса подобное обращение с служащим людом; молодые полковые командиры, действуя в духе великих князей, напротив, лезли из кожи, чтобы им угодить, и таким образом мало-помалу довели до того, что большое число офицеров стало переходить в армию.
Надо иметь в виду, что офицеры и солдаты, которых фанатически муштровали и оскорбляли молодые великие князья, были ветеранами наполеоновских войн и для них, израненных, награжденных боевыми орденами, эта игра в оловянные солдатики живыми людьми была глубоко чуждой. Их самопредставление – самопредставление спасителей Отечества и Европы – категорически не совпадало со взглядом на них великих князей.
Из «Записок декабриста» Николая Ивановича Лорера
Капнист прежде служил в Измайловском полку и был одним из отличнейших офицеров, могущих всегда принести честь полку, и вышел только из гвардии по мстительности и преследованиям бригадного начальника – великого князя Николая Павловича.
Всем известно, что его высочество, увлекаясь часто фрунтовой службой, дозволял себе более того, что может снести всякий порядочный человек, а потому эти-то порядочные люди и останавливали его. Так однажды, желая поправить какую-то ошибку, направился он и к Капнисту, но сей остановил его словами: «Ваше высочество, не троньте меня, я щекотлив». Николай Павлович не мог ему этого простить.
Из «Записок» декабриста Андрея Евгеньевича Розена
В лейб-гвардии Егерском полку в Вильне разжалован был полковник Н. Н. Пущин. В. С. Норов переведен был в армию, когда бригадный командир, великий князь Николай Павлович, сказал ему: «Я вас в бараний рог согну!» Грубые выходки вошли в моду…
Из «Записки» офицера Алексея Александровича Челищева
Вот что сохранилось в моей памяти о норовской истории в л. – гв. Егерском полку.
Капитан Василий Сергеевич Норов, командир 3-й гренадерской роты, был одним из уважаемых и любимых товарищами офицеров полка. Известный как один из храбрейших офицеров этого славного полка, с которым он участвовал в кампании 1812 и 1813 годов до Кульмского сражения, где был тяжело ранен пулей в пах. Он был офицер весьма образованный и сведущий в военном деле, которому был горячо предан, товарищи в шутку называли его Жомини (по имени военного теоретика генерала Жомини. – Я. Г.).
На одном из смотров при разводе его роты, не помню, в Вильне, в конце февраля 1822 года покойный государь Николай Павлович, тогда еще великий князь и командир 2-й гвардейской дивизии пехотной бригады, остался очень недоволен его ротой и сделал ему очень резкий выговор… Норов, оскорбленный словами великого князя, решился подать просьбу о переводе в армию. В отставку можно было подавать только от сентября до января. Это взволновало всех уважавших его товарищей, и мы по зрелому обсуждению незрелых и очень либеральных наших молодых голов решили последовать его примеру. Человек около двадцати из нас согласились по очереди подавать по две просьбы в день, через каждые два дня, о переводе в армию, что шесть из нас и успели сделать, бросить жребий – кому начинать. По прибытии в полк бывшего тогда в кратковременном отпуску командира полка генерала Головина все дело было прекращено арестованием нас, подавшим просьбы…
Известный литератор и мемуарист Александр Васильевич Никитенко записал рассказ младшего брата Норова – Авраама Сергеевича, героя Бородина, ставшего крупным николаевским сановником.
Из записей Александра Васильевича Никитенко
У Норова, Авраама Сергеевича, был старший брат Василий, человек очень умный, как о том свидетельствуют находившиеся у меня письма его к родным, история 1812 и 1813 годов… и многие его литературные заметки, находившиеся у меня в рукописи. Этот Василий Норов служил в гвардии, в полку, которым командовал Николай Павлович, в то время великий князь. Был смотр полка. Великий князь приехал в дурном расположении духа. Обходя ряды солдат, он остановился против одного офицера, возле Норова.
Физиономия ли этого офицера не понравилась великому князю или он неловко, как-нибудь не по темпу, пристукнул ногою, только его высочество сильно разгневался на него, ухватил за руку и ущипнул. Затем он направился к Норову, но тот, не допустя его к себе на два шага, сказал: «Ваше высочество, я щекотлив». Через два или три месяца случился новый смотр. Был день ненастный, и как раз у места, где стоял Норов со своим взводом, образовалась огромная лужа. Великий князь был на коне; приблизясь к луже, он дал шпоры лошади, которая, прянув в лужу, окатила Норова с ног до головы. По окончании смотра Норов явился к своему полковнику и подал просьбу об отставке. Его любили все товарищи в полку и тоже объявили, что и они подают в отставку. Полковник не знал, что делать, и довел обо всем до сведения государя. Его величество сделал выговор его высочеству, и дело на этом закончилось.
Как видим, «норовская история» со временем обросла своеобразной мифологией. Но история эта, весьма сильно повлиявшая на отношение великого князя, а затем и императора к офицерам, демонстрирующим высокое самоуважение, наиболее полно обрисована была самим Николаем Павловичем.
От этого эпизода остался целый комплекс писем, дающих наиболее ясное представление о происшедшем.
Письмо великого князя Николая Павловича исполняющему обязанности командующего гвардией генералу Ивану Федоровичу Паскевичу от 3 марта 1822 года
Милостивый государь мой Иван Федорович!
Поставив себе долгом иметь к Вам всегда полную откровенность не только как к начальнику моему, но и как к человеку, коего дружбой и советами я умею ценить, обязанностию своею считаю довести до партикулярного а не начальничаго сведения происшествие, ныне здесь случившееся в л.-г. Егерском полку.
На другой день приезда моего был развод л.-г. Егерского полку рот 2-й карабинерной и 4-й егерской; я был ими вовсе недоволен, ибо не нашел исправленным то, что должно было ротным командирам привести в порядок в те два месяца, кои роты провели в деревне.
Объяснив сие сильно, но без всякого пристрастия бат[альонному] ком[андиру] Толмачеву, сделал выговор и рот[ным] командирам, кап[итану] Норову караб[инерской] роты и Мандерштерну, показав на месте то, что упущено было, и прибавя, что ежели в скором времени не будет исполнено то, что должно, принужден я буду отнять у обоих роты.
После развода, призвав всех трех к себе, повторил я все сии замечания, прибавив, что тем более сии упущения в моих глазах непростительны, что оба были всегда отличными ротными командирами.
Поутру на другой день полк[овник] Толмачев пришел ко мне и объявил, что к[апитан] Норов просится в армию. Спросив о причине, получил ответ от Толмачева, что Норов считает себя обиженным тем, что я ему выговаривал и обещал отнять роту. Сие показалось мне весьма странным; подумав немного, отвечал я Толмачеву, чтоб он остерег Норова, что, если подаст просьбу, не дождавшись случая показать мне роту в порядке, лишит меня возможности аттестовать его к чину; и что притом подобная поспешность со всякой стороны не у места, ибо я могу взять ее за личную дерзость ко мне.
На другой день, поутру, полковник Толмачев принес мне просьбу Норова в армию по домашним обстоятельствам с прибавкою, что он готов выйти хотя и капитаном. Я принял ее и оставил у себя до приезда Головина; но между тем г[оспода] офицеры почти все собрались поутру к Толмачеву с требованием, чтоб я отдал сатисфакцию Норову. Толмачев прогнал их, прибавив, что как они смели без своих батальонных командиров к нему явиться, а еще более без их ведома; они поехали к Арбузову (один из старших офицеров л. – гв. Егерского полка. – Я. Г.); офицеры же второго батальона остались у Толмачева, который уже как батальонный командир им все пропел, что они заслуживали, и еще прибавил, что был свидетелем того, что я говорил ему самому и ротным командирам, находит, что я поступил с ними по всей строгой справедливости и обидного им не говорил. То же сделал и Арбузов, прогнав от себя офицера третьего батальона, ко мне приехавший полковник Каменский объявил то же самое.
К счастию моему, приехал сюда Карл Иванович (генерал Бистром, командир 2-й гвардейской дивизии, в которую входила бригада Николая Павловича, во время наполеоновских войн командир л. – гв. Егерского полка. – Я. Г.); поговорив с ним обо всем, согласился он со мною мне в это вовсе не вмешиваться, ибо дело остановилось до приезда Головина; до меня же официально оно не дошло…. Вы посудите, сколь я терплю от сего несчастного приключения; одно меня утешает, что я не виноват ни в чем. Как сожалею, что Вас здесь нет, чтоб быть всему свидетелем и мне наставником своими советами.
Я повторю Вам, что все сие есть дело совершенно приватное; я его по службе не знаю; прошу и Вас принять оное так же. Дай бог, чтоб Головин скорее приехал и чтоб все кончилось к чести и пользе службы. Не премину со своей стороны Вас уведомить о последствиях. Почтите меня Вашим ответом и советом; но опять осмеливаюсь просить не разглашать про все сие.
Вам искренне доброжелательный
Николай
Из письма этого ясно, что великий князь был в паническом состоянии. Главное было не в демонстративных просьбах офицеров прославленного полка о переводе из-под начальства Николая, а в требовании сатисфакции. Офицеры лейб-гвардии Егерского полка требовали, чтобы великий князь шел на поединок с оскорбленным Норовым. Ни больше ни меньше.
Николай оказался в весьма щекотливом положении. Он был не только великий князь, но и русский дворянин и прекрасно знал, что отказ от дуэли компрометирует человека. Отсюда его надежда, что Головину удастся тихо уладить конфликт и мольбы «не разглашать» случившееся.
Волновало Николая и то, как отнесется к случившемуся император Александр.
Маловероятно, что его поведение было строго, но не оскорбительно.
В этом случае не было бы и столь резкой реакции большинства офицеров всех трех батальонов полка. Они считали, что задета честь их товарища, а не просто сделано дисциплинарное внушение.
Скорее всего, нечто вроде «Я вас в бараний рог скручу!» и было сказано. В этом можно было бы усомниться, если бы не свидетельство Розена об оскорблениях, которыми Николай осыпал офицеров лейб-гвардии Финляндского полка.
Замять дело, однако, не удалось. Норов был приговорен к шести месяцам содержания в крепости и отправлен в армейский егерский полк без полагавшегося в таких случаях повышения в чине. Наказаны были и другие участники демонстрации.
Но, судя по всему, и Паскевич, и Головин, и тем более Бистром, не любивший Николая, прекрасно понимали, на чьей стороне правота. Понимал это и Александр, ибо на следующий год Норов был «всемилостивейше прощен», произведен в подполковники и переведен в привилегированный пехотный полк принца Вильгельма Прусского.
Николай с тех пор стал резко отрицательно относиться к дуэльной традиции. «Я ненавижу дуэли, – говорил он, уже будучи императором, – в них нет ничего рыцарского».
Тяжелый осадок от истории 1822 года остался у него надолго. И когда Норов был арестован по делу декабристов, то молодой император жестко припомнил ему их столкновение.
Когда императрица Елизавета Алексеевна, как мы увидим, в письме матери утверждала, что Николай демонстрирует свою независимость, то она была совершенно права. И проявлялось это не только в отсутствии подражания брату-императору – в отличие от Константина и Михаила, – но и в попытках настоять на своем даже вопреки приказам начальников. Он пытался использовать свой статус великого князя, чтобы явно выделиться из среды других гвардейских генералов.
В начале 1824 года генерал Ф. П. Уваров стал замечать, что усердие некоторых начальников отдельных частей войск через меру утомляет солдат. Вследствие чего Уваровым были определены дни, когда воспрещалось производить «домашния» учения. За исполнением этого распоряжения было особое и, кажется, весьма деятельное и строгое наблюдение. 13 мая 1824 года, за несколько дней перед назначенным учением в высочайшем присутствии, были именно воспрещены все «домашния» учения. Тем не менее великий князь Николай Павлович просил генерала Паскевича разрешить ему утром, в течение не более часу, выведя людей в фуражках, без аммуниции, подготовить свою бригаду к предстоящему учению. Генерал Паскевич, переговорив с генералом Уваровым, на просьбу великого князя отвечал решительным отказом. Учение, однако, состоялось, и в тот же день Паскевич получил от Уварова предписание.
Предписание, полученное генералом Паскевичем от генерала Федора Петровича Уварова. 13 мая 1824 года
Дошло до сведения моего, что полки 2-й бригады вверенной Вам дивизии, лейб-гвардии Измайловский и Егерский, вопреки приказания моего сего числа были на учении. Упущение или ослушание в службе нетерпимо, а потому и предписываю Вашему превосходительству с получения сего сие исследовать, и ежели оное окажется справедливым, то я на первый раз столь неожиданного случая делаю мое замечание, но с тем вместе предваряю Ваше превосходительство, что впредь, при малейшем случае сему подобном, с виновных строго будет взыскано.
Ваше превосходительство, служа столь долгое время всегда и везде с известным отличием, легко себе представить можете, сколь много меня удивило дошедшее до меня сведение.
Генерал от кавалерии Уваров
Генерал Паскевич на этот раз вовсе не хлопотал выгородить великого князя от заслуженной им неприятности и послал ему рапорт.
Рапорт генерала Паскевича великому князю Николаю Павловичу
Командиру 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии его императорскому высочеству великому князю Николаю Павловичу
генерал-лейтенанта Паскевича
Получив предписание от г. командующего корпусом… в котором извещает, что л.-г. Измайловский и л.-г. Егерский полк, вопреки приказанию его высокопревосходительства, были на учении. Упущение или ослушание по службе нетерпимо; а поэтому и предписывает мне сделать следствие, и ежели оное окажется справедливо, то на первый раз столь неожиданного случая делает замечание; но с тем вместе предваряет, что впредь при малейшем упущении с виновных будет взыскано строго.
Препровождая при сем копию предписания г. командующего корпусом… покорнейше прошу по оному исполнить.
Великий князь сознавал свою виновность; следующий собственноручно написанный им рапорт Паскевичу это доказывает.
Рапорт великого князя Николая Павловича генералу Паскевичу. 13 мая 1824 года
Командиру 1-й гвардейской пехотной дивизии господину генерал-лейтенанту и кавалеру Паскевичу
От командира 2-й бригады оной же дивизии генерал-инспектора великого князя Николая Павловича
На предписание Вашего превосходительства… в котором изъясняете неудовольствие господина командующего корпусом, что вопреки отданного приказания лейб-гвардии Измайловский и лейб-гвардии Егерский полки сегодня были выведены на учение, честь имею донести следующее.
Получив вчерашнего числа личное предписание государя императора насчет назначения на завтрашнее число батальонного учения в высочайшем присутствии и не знав еще запрещения господина командующего корпусом, я сам назначил быть во всей бригаде сего числа поутру в 6 часов учению в фуражках, без амуниции и не более как до семи часов; что я почитал необходимым для уравнения шага, еще нетвердого, и дабы с большею верностию быть в состоянии вывести бригаду. Ввечеру, получив записку Вашего превосходительства, я остановился, и в том винюсь пред Вашим же превосходительством, и, не отменив учение, на которое надеялся еще получить разрешение, осмелился просить Вашего ходатайства для получения сего дозволения. Не получив же ответа, я не отменил и учения, которое воспоследовало от шести часов утра до семи часов, побатальонно обоим полкам на Семеновском парадном месте, а Саперному батальону на Преображенском.
Я надеюсь, что в сем изложении простой истины Ваше превосходительство не найдете другого, кроме искреннего, признания в ошибке, в которой я сам винюсь, тем более что никто более меня не чувствует всю важность военного послушания, быть образцом которого я всегда старался и буду стараться ревностно быть.
Генерал-инспектор
Николай
На этот раз Николаю не удалось переупрямить командующего гвардией Уварова, но сама попытка – характерна.
Наследник престола
Из дневника Григория Ивановича Вилламова, личного секретаря императрицы Марии Федоровны. 1807
Она [императрица-мать] видит, что престол все-таки со временем перейдет к великому князю Николаю, и по этой причине его воспитание особенно близко ее сердцу.
Из записок Николая Ивановича Греча «Воспоминания старика»
В цвете лет мужества он [Александр I] скучал жизнию, не находил отрады ни в чем, искал чего-то и не находил, опасался верить честным и умным людям и доверял хитрому льстецу, не дорожил своим саном и между тем ревновал к совместникам… Он, быв наследником, внушил общую к себе любовь всей России, как она обрадовалась, когда он вступил на престол. Это воспоминание, отрадное для частного человека, тяготило царя. Он боялся иметь наследника, который заменил бы его в глазах и мыслях народа, как он, конечно без всякого умысла, затмил своего отца. Соперничества Константина Павловича он не боялся: цесаревич не был ни любим, ни уважаем и давно уже говорил, что царствовать не хочет и не будет. Он опасался превосходства Николая и заставлял его играть жалкую и тяжелую роль бригадного и дивизионного командира, начальника инженерной части, не важной в России. Вообразите, каков был бы Николай с своим благородным твердым характером, с трудолюбием и любовью к изящному, если б его приготовляли к трону хотя бы так, как приготовляли Александра. Но того воспитывала Екатерина Алексеевна, а этого Мария Федоровна, женщина почтенная и добродетельная, но ограниченная в своих взглядах и суждениях, трудолюбивая и неусыпная нянька и хозяйка, но весьма недальновидная в политике и истории. Немка в душе…
В этом пассаже главное и, скорее всего, справедливое – недоверие Александра к младшему брату и боязнь придворных интриг в его пользу. Что до остального, то мемуарист заблуждается – командование гвардейской дивизией было естественным для молодого великого князя, а инженерную часть он фактически сам и создал, обожая инженерное дело.
И маловероятно, чтобы какое бы то ни было воспитание принципиально изменило характер Николая Павловича.
Из письма императрицы Елизаветы Алексеевны матери. Март 1820 года
Суть дела такова: уже несколько лет великий князь Константин имел любовницу, которая успела надоесть ему, да к тому же была еще неверна. В конце концов он положил переменить свой образ жизни и жениться, но не на особе равного с ним положения, а на одной польской даме. Я бы не поклялась, что во всем этом нет польской интриги, и полагаю сие даже более вероятным. Он уже давно просил у императора разрешения на развод, еще когда хотел жениться на княжне Четвертинской, но в это время сему воспротивилась императрица-мать своим обычным непреклонным ответом: «Выбирайте особу вашего ранга, и я соглашусь». Тогда она и не допустила сего таковым разумным решением. Теперь же дела переменились, все приняло совершенно иной оборот: она уже видит Николая и его потомство слишком близко к престолу, чтобы способствовать их удалению от сего вследствие законного брака Константина, и потому уже согласна на мезальянс, при котором все возможные отпрыски оного будут отстранены от престолонаследия посредством официального акта. Это всех устраивает. Императора, могущего таким образом способствовать участию нежно любимого брата; вдовствующую императрицу, поскольку это обеспечивает трон тем, кого она называет своими истинными детьми; Николая, для которого корона уже давно привлекательна; наконец, самого Константина, совершенно не амбициозного и с польскими вкусами, он даже готов еще при жизни императора отказаться от своих прав на престол… В моей душе что-то столь сильно противится сему нарушению престолонаследия и связанным с этим побуждениям, что я не могу без боли думать и говорить об этом.
Из «Записок» Николая I
В лето 1819 года находился я в свою очередь с командуемою мной тогда гвардейской бригадой в лагере под Красным Селом. Перед выступлением из оного было в моей бригаде линейное учение, кончившееся малым маневром в присутствии императора. Государь был доволен и милостив до крайности. После учения пожаловал он к жене моей обедать; за столом мы были только трое. Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту нашей спокойной будущности. Вот в коротких словах смысл сего достопамятного разговора.
Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременная старшей дочерью Мариею); что он счастья сего никогда не знал, виня себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтобы уметь ценить с молодости сие счастье; что последствия для обоих были те, что ни тот ни другой не имели детей, которых бы могли признать, и что сие чувство для него самое тяжелое. Что он чувствует, что силы его ослабевают, что в нашем веке государям кроме других качеств нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтобы по совести исполнять свой долг, как он его разумеет, и что потому он решился, ибо сие считает своим долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно говорил о том брату Константину Павловичу, который, быв с ним одних почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более что оба видят в нас знак благодати Божией, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство.
Мы были поражены как громом. В слезах, в рыдании от сей ужасной неожиданной вести мы молчали! Наконец государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельскою, ему одному свойственною ласкою начал нас успокаивать и утешать, начав с того, что минута сему ужасному для нас перевороту еще не настала и не так скоро настанет, что может быть лет десять еще до оной, но что мы должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной.
Тут я осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе ни сил, ни духу на столь великое дело; что одна мысль, одно желание было – служить ему изо всей души, и сил, и разумения моего в кругу поручаемых мне должностей, что мысли мои даже дальше не достигают.
Дружески отвечал мне он, что, когда вступил на престол, он в том же был положении; что ему было еще труднее, что нашел дела в совершенном запущении от совершенного отсутствия всякого основного правила и порядка и хода правительственных дел, ибо хотя при императрице Екатерине в последние годы порядку было мало, но все держалось еще привычками; но при восшествии на престол родителя нашего совершенное изменение прежнего вошло в правило: весь прежний порядок нарушался, не заменяясь ничем. Что с восшествия на престол государя по сей части много сделано к улучшению и всему дано законное течение; и что потому я найду все в порядке, который мне останется только удерживать.
Кончился сей разговор; государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами и с которой открываются приятные виды, как вдруг разверзается под ногами пропасть…
В этом тексте немало лицемерия. Николай декларирует свое обожание старшего брата, но вряд ли он забыл, что Александр санкционировал убийство их отца, которого Николай и в самом деле обожал.
Что до порядка, установившегося при Александре, то мы помним, что писал великий князь о положении в гвардии.
И крайне маловероятно, чтобы перспектива восшествия на престол приводила его в такой ужас. Вспомним опять-таки наблюдение императрицы Елизаветы Алексеевны о безусловных надеждах Николая на воцарение и позицию вдовствующей императрицы Марии Федоровны, мечтавшей о троне для Николая.
Все они не могли простить Александру смерти императора Павла.
Эти разговоры о своем ужасе перед будущей властью должны были ретроспективно оправдать поведение Николая за несколько лет до того – в ноябре 1825 года, в период междуцарствия. О чем речь впереди.
Из письма императрицы Елизаветы Алексеевны матери. 1820
Любезная и добрейшая маменька, посылаю Вам злополучный манифест о разводе великого князя Константина (с первой женой Анной Федоровной. – Я. Г.)… Как и следовало ожидать, он наделал здесь много шума. По большей части порицают вдовствующую императрицу, вспоминая, что пятнадцать лет назад она сказала императору и великому князю Константину при таких же обстоятельствах, что согласится на развод только в том случае, если великий князь Константин изберет себе жену своего ранга. Спрашивают, почему теперь, в подобном же случае, она изменила свое мнение, и на это вполне резонно отвечают: из предрасположения к Николаю и его потомству! Не обходится и без таких преувеличений, будто она сама требовала сего развода, что, конечно, совсем не так. Все это доставило мне немало неприятных минут… Вдовствующая императрица под влиянием своей склонности к Николаю и его жене (только которых она и называет своими детьми) часто позволяет им принимать совершенно неуместный тон и вести себя самым неподобающим образом. Александрина (жена Николая Павловича. – Я. Г.), получившая самое дурное воспитание, не знает, что такое обходительность, и менее всего по отношению к императору и ко мне, а Николай поставил себе за принцип изображать независимость!
Таким образом, отношения в августейшем семействе вопреки картине, нарисованной Николаем, были отнюдь не идиллическими.
При жизни Александра вдовствующая императрица Мария Федоровна, после убийства ее мужа сама претендовавшая на власть, интриговала в пользу Николая, очевидно рассчитывая при нем влиять на дела государства.
Из «Записок о восстании» декабриста Владимира Ивановича Штейнгеля
Константин в 1823 году в бытность в Петербурге подписал отречение. Кстати упомянуть об одном рассказе покойного профессора Мерзлякова… «Когда разнесся слух [о воцарении Николая I] по Москве, – говорил Алексей Федорович, – случилось у меня быть Жуковскому; я его спросил: „Скажи, пожалуй, ты близкой человек – чего нам ждать от этой перемены?“ „Суди сам, – отвечал Василий Андреевич, – я никогда не видел книги в его [Николая Павловича] руках; единственное занятие – фрунт да солдаты“».
Что бы ни писал Николай позже в своих воспоминаниях, он настойчиво думал о возможности своего воцарения.
В 1813 году семнадцатилетний великий князь представил своему «профессору морали» Федору Павловичу Аделунгу пересказ сочинения одного из историков античности об императоре-философе Марке Аврелии.
Для человека, мечтавшего о престоле, это весьма многозначительный текст.
Учебное сочинение великого князя Николая Павловича
24 января 1813 г.
Милостивый государь! Вы доставили мне удовольствие прочесть на одном из Ваших дополнительных уроков похвальное слово Марку Аврелию, соч[инение] Том́а, этот образчик возвышенного красноречия принес мне величайшее наслаждение, раскрыв предо мною все добродетели великого человека и показав мне в то же время, сколько блага может сотворить добродетельный государь с твердым характером. Позвольте мне, милостивый государь, возобновить перед Вами уверения в моей благодарности и за то, что Вы пожелали познакомить меня с этим интересным и прекрасным произведением французского красноречия. Вы были так добры, что предложили мне написать сочинение по поводу прекрасного произведения Тома; я чувствую всю трудность этой работы, но буду вполне счастлив, если удастся преодолеть ее.
Тома изображает нам тот момент, когда пышная и торжественная процессия со смертными останками Марка Аврелия, умершего в Виенне, приближается к Риму в невозмутимой тиши и в мертвом молчании. Коммод, во главе населения всемирной столицы, выходит на встречу тела – своего отца и отца народа. В той толпе находился и воспитатель Марка Аврелия, Аполлоний, человек редкой добродетели, безупречный по своей жизни. Остановив погребальное шествие, к удивлению всех присутствующих, почтенный старец, обладавший величественной наружностью, произнес речь в честь Марка Аврелия, в которой он, чтобы дать сильнее почувствовать всю горечь утраты, только что причиненной смертью необыкновенного государя, указал в беглом обзоре главнейшие черты его общественной и частной жизни. Самым замечательным в этой речи мне кажется то место, где Аполлоний, описывая физическое и нравственное воспитание Марка Аврелия, говорит: «Он был деятелен и ловок во всех телесных упражнениях, что дало ему возможность впоследствии выносить все тягости войны; учился он также весьма старательно, так как понимал всю пользу этих занятий для своего будущего». Далее Аполлоний повествует о мудрости Марка Аврелия как частного человека и в доказательство того, что этот государь чувствовал всю трудность управления своей обширной империей, сообщает, что в ту минуту, когда он получил известие о своем избрании на престол, он впал в задумчивость, а потом, бросившись на шею к своему учителю, просил у него советов, чтобы сделаться достойным выбора римлян. Затем автор, приводя размышления Марка Аврелия об его двояких обязанностях, как человека и как члена общества, влагает в уста его следующую речь:
«Я пришел к мысли, что люди смыкаются в общества по велению самой природы. С этой минуты я смотрел на себя с двух точек зрения: прежде всего я видел, что составляю лишь ничтожную частицу вселенной, поглощенную целым, увлеченную общим движением, которое охватывает собой все живущее; затем я представлял себя как бы отделенным от этого безмерного целого и соединенным с человечеством посредством особого союза. Как частица вселенной, ты обязан, Марк Аврелий, принимать безропотно все, что предписывает мировой порядок; отсюда рождается твердость в перенесении зол и мужество, которое есть не что иное, как покорность сильной души. Как член общества, ты должен приносить пользу человечеству: отсюда возникают обязанности друга, мужа, отца, гражданина. Переносить то, что предписывается законами естества, исполнять то, что требуется от человека по существу его природы: вот два руководящих правила в твоей жизни. Тогда я уразумел, что называется добродетелью, и уже не боялся более сбиться с прямого пути».
Далее, сообразив свои обязанности как государя и изумившись тяжести их, Марк Аврелий говорит о себе:
«Испуганный моими обязанностями, я захотел познать средства к их выполнению – и мой ужас удвоился. Я видел, что мой долг превышал силы одного человека, а мои способности не выходили из размера этих сил.
Для выполнения таких обязанностей нужно было бы, чтобы взор государя мог обнять все, что совершается на огромнейших расстояниях от него, чтобы все его государство было сосредоточено в одном пункте пред его мысленным оком. Нужно было бы, чтобы до его слуха достигали все стоны, все жалобы и вопли его подданных; чтобы его сила действовала так же быстро, как и его воля, для подавления и истребления всех врагов общественного блага. Но государь так же слаб в своей человеческой природе, как и последний из его подданных. Между правдою и тобою, Марк Аврелий, воздвигнутся горы, создадутся моря и реки; часто от этой правды ты будешь отделен только стенами твоего дворца – и она все-таки не пробьется сквозь них. Помощь, тебе оказанная, не слишком пособит твоей слабости. Дело, доверенное чужим рукам, или идет медленно, или уторопляется, или извращается в самой своей задаче. Ничто не исполняется согласно с замыслом государя; ничто не доходит до него в надлежащем виде: добро преувеличивается, зло – прикрывается, преступление – оправдывается, и государь, всегда слабый или обманутый, всегда подверженный влиянию заблуждений или измены тех лиц, которые поставлены им затем, чтобы все видеть и слышать, – постоянно колеблется между невозможностью знать и необходимостью действовать».
Правление этого государя вполне подтверждает, что он не говорил пустых фраз, но действовал по плану, глубоко и мудро обдуманному, никогда не отступая от принятого пути. Я предполагал было, милостивый государь, поговорить об ораторской отделке этой речи; но, опасаясь растянутости и думая, что для моей цели достаточно двух приведенных отрывков, скажу в заключение этого сочинения, что я писал его с величайшим сочувствием к личности государя, вполне достойного удивления и подражания.
Свидетельствуя Вам еще раз мою признательность, остаюсь, милостивый государь, с особенным к Вам почтением и пр.
Если вчитаться в этот текст, то ясно, что великий князь пытался трезво осознать меру ответственности и тяжести, которая ложится на плечи августейшей особы…
Из «Воспоминаний о событиях 14 декабря 1825 года» великого князя Михаила Павловича
…Во второй половине ноября 1825 года, когда государь был в Таганроге, он (великий князь Михаил Павлович говорит о себе в третьем лице. – Я. Г.) жил… в Бельведере (резиденция великого князя Константина Павловича в Варшаве. – Я. Г.), в покоях, которые отделялись от половины хозяина только одною комнатою. В цесаревиче в это время происходило что-то странное. И брат его, и все приближенные видели, что он совсем не во всегдашнем расположении духа и необыкновенно пасмурен. Он даже часто не выходил к столу и на вопросы брата своего отвечал только отрывисто, что ему нездоровится… […] 25-го числа цесаревич, все погруженный в то же расстройство, опять не выходил к столу, и брат его, отобедав один с княгинею Лович, прилег потом отдохнуть. Вдруг отворяется его дверь; цесаревич, пройдя в ту комнату, которая разделяла их половины, зовет его к себе для сообщения чего-то очень нужного.
– Michel, – сказал он, когда великий князь, накинув наскоро сюртук, к нему вбежал: – Приготовься услышать страшную весть, нас постигло ужаснейшее несчастие.
– Что такое? – вскричал великий князь в смертельном беспокойстве. – Не случилось ли чего с матушкой?
– Нет, благодаря Бога, но над нами, над всею Россиею разразилось то грозное бедствие, которого я всегда так страшился: мы потеряли нашего благодетеля: не стало государя! […] Теперь, – сказал он Михаилу Павловичу, – настала торжественная минута доказать, что весь прежний мой образ действий был не какою-нибудь личиною… […] В намерениях моих, в моей решимости ничего не переменилось, и воля моя – отречься от престола – более чем когда-либо непреложна.
Восшествие на престол
Вопрос о престолонаследии
Возведение в сан русского императора, о чем много лет мечтал великий князь Николай Павлович, произошло, как известно, при весьма драматических обстоятельствах. Чтобы представить себе все своеобразие ситуации, предшествующей кровавой драме 14 декабря, стоит сделать некоторое усилие и прочитать комплекс документов, сопутствующих смене наследника и спровоцировавших катаклизм.
Грамота Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА к покойному Государю Императору АЛЕКСАНДРУ I об отречении Его Высочества от наследия Престола[1]
Всемилостивейший Государь!
Обнадежен опытами неограниченного благосклонного расположения Вашего Императорского Величества ко Мне, осмеливаюсь еще раз прибегнуть к оному и изложить у ног Ваших, Всемилостивейший Государь! всенижайшую просьбу Мою.
Не чувствуя в Себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы быть когда бы то ни было возведену на то достоинство, к которому по рождению Моему могу иметь право, осмеливаюсь просить Вашего Императорского Величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение Нашего Государства. Сим могу Я прибавить еще новый залог и новую силу тому обязательству, которое дал Я непринужденно и торжественно при случае развода Моего с первою Моею женою. Все обстоятельства Моего нынешнего положения Меня наиболее к сему убеждают и будут пред Государством Нашим и всем светом новым доказательством Моих искренних чувств.
Всемилостивейший Государь! Примите просьбу Мою благосклонно и испросите на оную согласие Всеавгустейшей Родительницы Нашей и утвердите оную Вашим Императорским Словом. Я же потщусь всегда, поступая в партикулярную жизнь, быть примером Ваших верноподданных и верных сынов любезнейшего Государства Нашего.
Есмь с глубочайшим высокопочитанием,
Всемилостивейший Государь!
Вашего Императорского Величества
Вернейший подданный и Брат
На подлинном, собственною рукою писанном, письме подписано тако:
КОНСТАНТИН ЦЕСАРЕВИЧ
С.-Петербурга
Генваря 14 дня 1822 года
На копии написано собственною Его Императорского Величества рукою тако:
С подлинным верно.
АЛЕКСАНДР
Ответная Грамота покойного Императора АЛЕКСАНДРА I о согласии Его Величества на отречение от Престола Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА
Любезнейший Брат!
С должным вниманием читал Я письмо Ваше. Умев ценить всегда возвышенные чувства Вашей души, сие письмо Меня не удивило. Оно Мне дало новое доказательство искренней любви Вашей к Государству и попечения о непоколебимом спокойствии оного.
По Вашему желанию предъявил Я письмо сие Любезнейшей Родительнице Нашей. Она его читала с тем же, как и Я, чувством признательности к почтенным побуждениям, Вас руководствовавшим.
Нам Обоим остается, уважив причины, Вами изъясненные, дать полную свободу Вам, следовать непоколебимому решению Вашему, прося Всемогущего Бога, дабы Он благословил последствия столь чистейших намерений.
Пребываю навек душевно Вас любящий Брат
На подлинном подписано Его Императорского Величества рукою тако:
АЛЕКСАНДР
На копии написано:
Верно.
КОНСТАНТИН ЦЕСАРЕВИЧ
С.-Петербург.
Февраля 2 дня
1822 года
Манифест покойного Государя Императора АЛЕКСАНДРА I, утверждающий отречение от наследия Престола Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА и утверждающий Наследником Его Императорское Величество Великого Князя НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА
Божиею милостию Мы, АЛЕКСАНДР Первый, Император и Самодержец Всероссийский, и проч. и проч. и проч. объявляем всем Нашим верным подданным. С самого вступления Нашего на Всероссийский Престол непрестанно Мы чувствуем Себя обязанными пред Вседержителем Богом, чтобы не только во дни Наши охранять и возвышать благоденствие возлюбленного Нам Отечества и народа, но также предуготовить и обеспечить их спокойствие и благосостояние после Нас, чрез ясное и точное указание Преемника Нашего, сообразно с правами Нашего Императорского Дома и с пользами Империи. Мы не могли, подобно предшественникам Нашим, рано провозгласить Его по имени, оставаясь в ожидании, будет ли благоугодно недоведомым судьбам Божиим даровать Нам Наследника Престола в прямой линии. Но чем далее протекают дни Наши, тем более поспешаем Мы поставить Престол Наш в такое положение, чтобы он ни на мгновение не мог остаться праздным.
Между тем как Мы носили в сердце Нашем сию священную заботу, Возлюбленный Брат Наш, Цесаревич и Великий Князь КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, по собственному внутреннему побуждению, принес Нам просьбу, чтобы право на то достоинство, на которое Он мог бы некогда быть возведен по рождению Своему, передано было тому, кому оное принадлежит после Него, Он изъяснил при сем намерение, чтобы таким образом дать новую силу дополнительному Акту о наследовании Престола, постановленному Нами в 1820 году, и Им, поколику то до Него касается, непринужденно и торжественно признанному.
Глубоко тронуты Мы сею жертвою, которую Наш Возлюбленный Брат, с таким забвением Своей личности, решился принести для утверждения родовых постановлений Нашего Императорского Дома и для непоколебимого спокойствия Всероссийской Империи.
Призвав Бога в помощь, размыслив зрело о предмете, столь близком к Нашему сердцу и столь важном для Государства, и находя, что существующие постановления о порядке наследования Престола у имеющих на него право не отъемлют свободы отрещись от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании Престола, – с согласия Августейшей Родительницы Нашей, по дошедшему до Нас наследственно Верховному праву Главы Императорской Фамилии и по врученной Нам от Бога Самодержавной власти, Мы определили: во-первых: свободному отречению первого Брата Нашего, Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА от права на Всероссийский Престол быть твердым и неизменным; акт же сего отречения, ради достоверной известности, хранить в Московском Большом Успенском Соборе и в трех высших Правительственных местах Империи Нашей: в Святейшем Синоде, Государственном Совете и Правительствующем Сенате. Во-вторых: вследствие того, на точном основании акта о наследовании Престола, Наследником Нашим быть второму Брату Нашему, Великому Князю НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ.
После сего Мы остаемся в спокойном уповании, что в день, когда Царь Царствующих, по общему для земнородных закону, воззовет Нас от сего временного Царствия в вечность, Государственные сословия, которым настоящая непреложная воля Наша и сие законное постановление Наше, в надлежащее время, по распоряжению Нашему, должно быть известно, немедленно принесут верноподданническую преданность свою назначенному Нами Наследственному Императору единого нераздельного Престола Всероссийския Империи, Царства Польского и Княжества Финляндского. О Нас же просим всех верноподданных Наших, да они с тою любовью, по которой Мы в попечении о них непоколебимом благосостоянии полагали Высочайшее на земле благо, принесли сердечные мольбы к Господу и Спасителю Нашему Иисусу Христу о принятии души Нашей, по неизреченному Его милосердию, в Царствие Его вечное.
Дан в Царском Селе 16 Августа, в лето от Рождества Христова 1823, Царствования же Нашего в двадесять третие.
На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою тако:
Александр
Как и многое в нашей новейшей истории, парадоксальная ситуация, породившая все эти документы, восходит ко временам Петра I.
В последние годы жизни Петр, не желая, чтобы престол унаследовал его внук, сын убитого им царевича Алексея, отменил традиционный порядок престолонаследия. С этого времени император получал право назначать наследника по своему усмотрению, а не по старшинству в роде.
Это привело к большой путанице в русской политике. Петр умер, не успев назвать имя будущего государя, и выбор естественным образом перешел в руки гвардии – единственной организованной политической силы.
Екатерина I, Анна Иоанновна, Екатерина II именно гвардии обязаны были своим воцарением.
Павел I отменил петровский закон и восстановил прежний традиционный порядок. Александр I, как видим, фактически пошел по пути Петра.
По существу, ни один из кандидатов, имена которых звучали в декабре 1825 года, не имел юридического права на русский престол. Константин – в силу своего отречения и женитьбы на особе не августейшего рода. Николай – потому что в русском законодательстве не было нормы, позволяющей передать престол по завещанию.
Но главное – роковой манифест от 16 августа 1823 года был скрыт от общества. О нем знали лишь несколько доверенных лиц императора, а миллионы жителей продолжали считать будущим своим государем великого князя Константина, чье имя в торжественных молебнах произносилось непосредственно после имен царствующей четы и императрицы-матери, как и подобало упоминать наследника престола.
Именно эта неизвестность, эта уверенность Александра в своем праве распорядиться престолом внутри августейшей семьи, игнорируя как закон, так и общественное мнение, и привели к трагедии 14 декабря.
Из «Записок» декабриста Сергея Петровича Трубецкого
При всех своих недостатках Александр почитался несравненно лучше своих братьев. Его озарял блеск славы, приобретенной борьбой с Наполеоном, величайшим гением своего времени… Великодушие его к победе, кротость к побежденным, отсутствие тщеславия не изгладились в памяти людей, хотя доверенность к нему народов была поколеблена… Хотя он был привязан крепко к мысли о своем самодержавии и, казалось, довольный приобретенной славою, не радел о благоденствии своих подданных, словом сказать, обленился; хотя ко всему этому должно прибавить черты деспотизма против многих лиц и гонения на те идеи совершенствования, которые сам прежде старался распространять, и хотя даже он подвергся обвинению в чувстве презрения к народу, но при всем том смерть его почиталась истинным несчастием. Может быть, всякая перемена владетельного лица в деспотическом правлении наводит страх: к недостаткам деспота, когда они не великие пороки, привыкаешь, и перемена самовластительного правителя наводит невольную боязнь. Как бы то ни было, но страх господствовал в сердцах всех тех, кто не был приближен к тому или другому из двух лиц, которые могли наследовать престол. Константин не оставил по себе хорошей памяти в столице; надеялись, однако ж, что лета изменили его, и эта надежда подкреплялась вестями из Царства Польского. Николай известен был только грубым обхождением с офицерами и жестокостью с солдатами вверенной ему гвардейской дивизии. Двор хотел Николая, и придворные говорили, что с ним ничего не переменится, все останется как было, только будет император 25 годами моложе. Константину же неприлично потому быть императором русским, что он женат на польке; и как допустить, чтоб простая польская поставлена была саном выше великих княгинь из домов королевских.
Николай I. Из «Замечаний на книгу М. Корфа „Восшествие на престол Николая I“»
25 ноября вечером, часов в 6, я играл с детьми, у которых были гости. Как вдруг пришли мне сказать, что военный генерал-губернатор гр. Милорадович ко мне приехал. Я сейчас пошел к нему и застал его в приемной комнате живо ходящим по комнате с платком в руке и в слезах; взглянув на него, я ужаснулся и спросил:
– Что это, Михаил Андреевич, что случилось?
Он мне отвечал:
– Ужасные известия.
Я ввел его в кабинет, и тут он, зарыдав, отдал мне письмо от кн. Волконского и Дибича, говоря:
– Государь умирает, остается самая слабая надежда.
У меня ноги подкосились; я сел и прочел письмо, где говорилось, что хотя не потеряна всякая надежда, но что государь очень плох.
С этого момента в Петербурге стали развиваться события, которые привели к тихому дворцовому перевороту.
О манифесте Александра I знали и сам Николай, чтобы он ни говорил, и императрица Мария Федоровна, и ряд сановников. Скорее всего и Милорадович. Но, в отличие от придворной группировки, Милорадовича и верхушку гвардейского генералитета воцарение Николая отнюдь не устраивало.
Из «Записок» Сергея Петровича Трубецкого
Великий князь Николай Павлович в тот день, когда узнал об опасной болезни государя, собрал к себе вечером князей Лопухина и Куракина и графа Милорадовича, представил им возможность упразднения престола и свои на оный права. Граф Милорадович решительно отказал ему в содействии, опираясь на невозможность заставить присягнуть войско и народ иначе как законному наследнику.
Еще до совещания у великого князя Милорадович, обладавший в отсутствие императора почти неограниченной властью в столице, совещался с генералами – командующим гвардией А. Л. Воиновым, командующим гвардейской пехотой К. И. Бистромом, дежурным генералом Главного штаба А. Н. Потаповым и начальником штаба гвардии А. И. Нейдгартом.
Милорадович и Потапов были личными друзьями великого князя Константина – Потапов служил его адъютантом во время наполеоновских войн, – у Бистрома имелись свои счеты с Николаем.
Было решено ни в коем случае не допускать присяги Николаю. Волей покойного или умирающего императора можно было пренебречь. Тем более что она была юридически некорректна.
Судьбу престола снова решала гвардия. В этот раз в лице своего высшего генералитета…
Из воспоминаний литератора Рафаила Михайловича Зотова
Я сидел у [драматурга] Шаховского. Вдруг в комнату вошел граф Милорадович. Он был во всех орденах и приехал прямо из дворца, рассказ его о случившемся там был вполне исторический.
Рассказав о привезенном известии о кончине Александра I, он – как главнокомандующий столицею и начальник всего гвардейского корпуса – обратился к великим князьям Николаю и Михаилу (ошибка мемуариста: Михаил в это время был в Варшаве. – Я. Г.), чтоб тотчас же присягнуть императору Константину. Николай Павлович несколько поколебался и сказал, что, по словам его матери императрицы Марии Федоровны в Государственном совете, в Сенате и в московском Успенском соборе есть запечатанные пакеты, которые в случае смерти Александра повелено было распечатать, прочесть и исполнить прежде всякого другого распоряжения.
«Все это прекрасно, – сказал я (так говорил граф Милорадович), – но прежде всего приглашаю ваше императорское высочество исполнить свой долг верноподданного. По государственному закону преемником престола является император Константин, и мы сперва исполним свой долг, присягнем ему в верности, а потом будем читать, что благоугодно было повелеть нам императору Александру». Сказав это, я взял великого князя под руку, и мы произнесли присягу, какой от нас требовал закон.
Министр внутренних дел князь Д. И. Лобанов-Ростовский на обсуждении возникшей ситуации на Государственном совете произнес знаменательную фразу: «Покойные государи воли не имеют!»
Из «Записок» Сергея Петровича Трубецкого
Молодые великие князья… не имели дара поселить к себе любовь, их особенно не любили военные. Однако же большая часть высшего круга желали иметь императором Николая. Надеялись, что при нем двор возвысится, что придворная служба получит опять прежний почет и выйдет из того ничтожества, в котором была при покойном государе и в которое еще бы более погрузилась при Константине.
После страшной смерти любимого отца это грубое отстранение от престола, о котором он мечтал с юности, было вторым катастрофическим потрясением, выпавшим на долю Николая Павловича, безусловно сказавшимся на его характере – он перестал доверять кому бы то ни было. Когда через пять лет он получил донос на преданного ему А. Х. Бенкендорфа – обвиняли шефа жандармов не более не менее как в том, что он участник страшного заговора иллюминатов (неканоническое ответвление масонства), – то Николай отстранил главу политической полиции от расследования и поручил разбирательство по этому делу гвардейским генералам…
С Константином у генералов ничего не вышло. Своей акцией они спровоцировали междуцарствие и дали повод для мятежа 14 декабря.
Константин категорически отказался менять свое решение.
Во-первых, его раз и навсегда ужаснула судьба отца. Во-вторых, он вообще не чувствовал в себе сил для подобной гигантской ответственности.
Николай умолял его приехать в Петербург в качестве императора, которому присягнула вся страна, и официально отречься в пользу младшего брата, чтобы он, Николай, не выглядел узурпатором. Он хорошо знал, на что способна гвардия в критические моменты…
Но для Константина такой поворот событий означал крушение всей его привычной и любимой им жизни. Бывший император – такого еще в русской истории не бывало! – уже не мог командовать польской армией и вообще занимать любой государственный пост. Единственным вариантом была вечная эмиграция. Константин этого не желал… Он ограничился полуофициальными письмами…
Письмо Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА к Государыне Императрице Марии Федоровне, подтверждающее отречение от наследия Престола Его Высочества
Всемилостивейшая Государыня,
Вселюбезнейшая Родительница!
С сокрушенным сердцем получив вчерашнего числа в 7-м часов вечера поразившее Меня глубочайшею горестию от Начальника Главного Штаба Его Императорского Величества Генерал-Адъютанта Барона Дибича и Генерал-Адъютанта Князя Волконского уведомление и акт, при сем в оригиналах прилагаемые, о кончине обожаемого Нами Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, Моего Благодетеля, спешу разделить с Вашим Императорским Величеством постигшую Нас скорбь, прося Всевышнего, дабы Он Всемогущею Благодатью Своею подкрепил силы Наши к перенесению столь жестоко постигшего Нас рока.
Степень, на которую Меня возводит сие поразившее Нас несчастие, поставляет Меня в обязанность излить пред Вашим Императорским Величеством со всею откровенностью истинные чувствования Мои по сему важному предмету.
Небезызвестно Вашему Императорскому Величеству, что по собственному Моему побуждению просил Я блаженной памяти Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА об устранении Меня от права наследия Императорского Престола, на что и удостоился получить от 2 Февраля 1822 года собственноручный Высочайший Рескрипт, у сего в засвидетельствованной копии прилагаемый, в коем Его Императорское Величество изъявил на то Высочайшее Свое соизволение, объявя, что и Ваше Императорское Величество на то согласны, что самое и лично изволили Мне подтвердить. Притом воля покойного Государя Императора была, дабы помянутый Высочайший Рескрипт хранился у Меня в тайне до кончины Его Величества.
Обыкши с младенчества исполнять свято волю как покойного Родителя Моего, так и скончавшегося Государя Императора, а равно Вашего Императорского Величества, Я, не выходя и ныне из пределов оной, почитаю обязанностью Моею право Мое на наследие, согласно установленному Государственному акту о наследии Императорской Фамилии, уступить Его Императорскому Высочеству Великому Князю НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ и Наследникам Его.
С теми же чувствами откровенности вменяю в долг изъявить: что Я, не простирая ни до чего более Моих желаний, единственно сочту Себя счастливейшим, если удостоюсь продолжать выше тридцатилетнее Мое Служение блаженной памяти Государям Императорам, Родителю и Брату, ныне же Его Императорскому Величеству НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, с таким же глубочайшим благоговением, живейшим усердием и беспредельною преданностью, которые во всех случаях Меня одушевляли и одушевлять будут до конца дней Моих.
Изъяснив таким образом истинные и непоколебимые чувствования Мои и повергая Себя к стопам Вашего Императорского Величества, всенижайше прошу, удостоив благосклонным Вашим принятием сие письмо, оказать Мне милость объявлением оного где следует для приведения в надлежащее исполнение; чем совершится в полной мере и силе соизволение Его Императорского Величества, покойного Государя и Благодетеля Моего, и вместе с тем согласие на оное Вашего Императорского Величества.
При сем осмеливаюсь также всенижайше представить Вашему Императорскому Величеству копию с письма Моего Его Императорскому Величеству Государю Императору НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, вместе с сим посланного.
Есмь с глубочайшим благоговением,
Всемилостивейшая Государыня!
Вашего Императорского Величества
На подлинном собственною Его Императорского Высочества рукою подписано тако:
Всенижайший и всепокорнейший сын
КОНСТАНТИН ЦЕСАРЕВИЧ
Варшава
26 Ноября 1825 г.
Грамота Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА к Его Императорскому Величеству НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, подтверждающая отречение от наследия Престола Его Императорского Высочества
Любезнейший Брат!
С неизъяснимым сокрушением сердца получил Я вчерашнего числа вечером в 7 часов горестное уведомление о последовавшей кончине обожаемого Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, Моего Благодетеля.
Спеша разделить с Вами таковую постигшую Нас тягчайшую скорбь, Я поставляю долгом Вас уведомить, что вместе с сим отправил Я письмо к Ея Императорскому Величеству, Вселюбезнейшей Родительнице Нашей, с изъявлением непоколебимой Моей воли в том, что по силе Высочайшего собственноручного Рескрипта покойного Государя Императора, от 2 Февраля 1822 года ко Мне последовавшего на письмо Мое к Его Императорскому Величеству об устранении Меня от наследия Императорского Престола, которое было предъявлено Родительнице Нашей, удостоилось как согласия, так и личного Ея Величества Мне о том подтверждения, уступаю Вам право Мое на наследие Императорского Всероссийского Престола и прошу Любезнейшую Родительницу Нашу о всем том объявить где следует, для приведения сей непоколебимой Моей воли в надлежащее исполнение.
Изложив сие, непременною за тем обязанностию поставляю всеподданнейше просить Вашего Императорского Величества удостоить принять от Меня первого верноподданническую МОЮ присягу и, дозволив Мне изъяснить, что, не простирая никакого желания к новым званиям и титулам, ограничиться тем титулом Цесаревича, коим удостоен Я за службу покойным Нашим Родителем.
Единственным Себе счастием навсегда поставляю, ежели Ваше Императорское Величество удостоите принять чувства глубочайшего Моего благоговения и беспредельной преданности, в удостоверение коих представляю залогом свыше 30-летнюю Мою верную службу и живейшее усердие, блаженной памяти Государям Императорам Родителю и Брату оказанные, с коими до последних дней Моих не престану продолжать Вашему Императорскому Величеству и Потомству Вашему Мое служение при настоящей Моей обязанности и месте.
Есмь с глубочайшим благоговением,
Всемилостивейший Государь!
Вашего Императорского Величества
На подлинном рукою Его Императорского Высочества подписано тако:
Вернейший подданный
КОНСТАНТИН ЦЕСАРЕВИЧ
Варшава
26 Ноября 1825 г.
Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, Самодержцу Всероссийскому, и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику, Его Императорскому Высочеству, Великому Князю АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и все к высокому Его Императорского Величества Самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и оборонять, и притом но крайней мере старатися споспешествовать все, что к Его Императорского Величества верной службе и пользе Государственной во всяких случаях касаться может. О ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне чин, как по сей (генеральной, так и по особливой) определенной и от времени до времени Его Императорского Величества Именем от предуставленных надо мною Начальников, определяемым Инструкциям и Регламентам, и указам, надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды, противно должности своей и присяги не поступать, и таким образом себя весть и поступать, как верному Его Императорского Величества подданному благопристойно есть и надлежит, и как я пред Богом и судом Его страшным в том всегда ответ дать могу, как суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь.
14 декабря
Пока кандидаты на престол обменивались бесконечными посланиями, Северное тайное общество собирало силы, привлекало офицеров гвардейских полков и агитировало солдат против новой присяги.
Для русского солдата это было дело неслыханное – присяга была священной клятвой, принесенной не только перед императором, но и перед Богом. Двумя неделями ранее гвардия присягнула Константину, поклявшись в вечной и безусловной верности, а тут пошли слухи, что через какие-нибудь две недели надо принимать новую присягу. А как же прежняя? Освободить от нее мог только сам император Константин, серебряные рубли с профилем которого уже чеканили на Монетном дворе. Но, как мы знаем, Константин категорически отверг этот вариант.
Гвардия роптала. Этим и воспользовались члены тайного общества.
А Николай понимал, что он выглядит узурпатором и попытка занять престол может стоить ему жизни. К этому времени в России уже убили трех законных императоров – Иоанна Антоновича, Петра III и Павла I. Чего же ждать претенденту на престол, чье право сомнительно. Тень любимого отца, убитого своими приближенными, не раз вставала в эти дни перед внутренним взором Николая.
Из «Записок» Николая I
Город казался тих; так, по крайней мере, уверял граф Милорадович, уверяли и те немногие, которые ко мне хаживали, ибо я не считал приличным показываться и почти не выходил из комнат. Но в то же время бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел. Оболенский, бывший тогда адъютантом у генерала Бистрома, командовавшего всею пехотой гвардии, один из злейших заговорщиков, ежедневно бывал во дворце, где тогда обычай был сбираться после развода в так называемой Конногвардейской комнате. Там, в шуме сборища разных чинов офицеров и других, ежедневно приезжавших во дворец узнавать о здоровье матушки, но еще более приезжавших за новостями, с жадностью Оболенский подхватывал все, что могло быть полезным к успеху заговора, и сообщал соумышленникам узнанное. Сборища их бывали у Рылеева. Другое лицо, изверг во всем смысле слова, Якубовский[2], в то же время умел хитростью своей и некоторою наружностью смельчака втереться в дом графа Милорадовича и, уловив доброе сердце графа, снискать даже некоторую его в себе доверенность. Чего Оболенский не успевал узнать во дворце, то Якубовский изведывал от графа, у которого, как говорится, часто сердце было на языке.
Мы были в ожидании ответа Константина Павловича на присягу, и иные ожидали со страхом, другие – и я смело ставлю себя в число последних – со спокойным духом, что он велит. В сие время прибыл Михаил Павлович. Ему вручил Константин Павлович свой ответ в письме к матушке и несколько слов ко мне. Первое движение всех – а справедливое нетерпение сие извиняло – было броситься во дворец; всякий спрашивал, присягнул ли Михаил Павлович.
– Нет, – отвечали приехавшие с ним.
Матушка заперлась с Михаилом Павловичем; я ожидал в другом покое – и тонко ожидал решения своей участи. Минута неизъяснимая. Наконец дверь отперлась, и матушка мне сказала:
– En bien, Nicolas, prosterner vous devant votre frère, саr il respectable et sublime dans son inalt́erable d́etermination de vous abandoner le trône[3].
Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву: тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, – или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче.
Я отвечал матушке:
– Аvant que de me prosterner, maman, veuillez me permettre de savoir pourquoi je devrais le faire, car je ne sais lequel des sacrifices est le plus grand: de celui qui refuse ou de celui qui accepte en pareilles circonstances![4]
Нетерпение всех возрастало и дошло до крайности, когда догадывались по продолжительности нашего присутствия у матушки, что дело еще не решилось. Действительно, брат Константин Павлович прислал ответ на письмо матушки хотя и официально, но на присягу, ему данную, не было ответа, ни манифеста, словом ничего, что бы в лице народа могло служить актом удостоверения, что воля его непременна, и отречение, оставшееся при жизни императора Александра тайною для всех, есть и ныне непременной его волей. Надо было решить, что делать, как выйти из затруднения, опаснейшего в своих последствиях и которым, как увидим ниже, заговорщики весьма хитро воспользовались.
После долгих прений я остался при том мнении, что брату должно было объявить манифестом, что, оставаясь непреклонным в решимости, им уже освященной отречением, утвержденным духовной императора Александра, он повторяет оное и ныне, не принимая данной ему присяги. Сим, казалось мне, торжественно утверждалась воля его и отымалась всякая возможность к усумлению.
Но брат избрал иной способ: он прислал письмо официальное к матушке, другое – ко мне, и, наконец, род выговора князю Лопухину как председателю Государственного совета. Содержание двух первых актов известно; вкратце содержали они удостоверение в неизменной его решимости, и в письме к матушке упоминалось, что решение сие в свое время получило ее согласие. В письме, ко мне писанном как к императору, упоминалось только в особенности о том, что его высочество просил оставить его при прежде занимаемом им месте и звании.
Однако удалось мне убедить матушку, что одних сих актов без явной опасности публиковать нельзя и что должно непременно стараться убедить брата прибавить к тому другой в виде манифеста, с изъяснением таким, которое было развязывало от присяги, ему данной. Матушка и я, мы убедительно о том писали к брату; и фельдъегерский офицер Белоусов отправлен с сим. Между тем решено было нами акты сии хранить у нас в тайне.
Но как было изъяснить наше молчание пред публикой? Нетерпение и неудовольствие были велики и весьма извинительны. Пошли догадки, и в особенности обстоятельство неприсяги Михаила Павловича навело на всех сомнение, что скрывают отречение Константина Павловича. Заговорщики решили сие же самое употребить орудием для своих замыслов. Время сего ожидания можно считать настоящим междуцарствием, ибо повелений от императора, которому присяга принесена была, по расчету времени должно было получать – но их не приходило; дела останавливались совершенно; все было в недоумении, и к довершению всего известно было, что Михаил Павлович отъехал уже тогда из Варшавы, когда и кончина императора Александра, и присяга Константину Павловичу там уже известны были. Каждый извлекал из сего, что какое-то особенно важное обстоятельство препятствовало к восприятию законного течения дел, но никто не догадывался настоящей причины.
Однако дальнейшее присутствие Михаила Павловича становилось тягостным и для него, и для нас всех, и потому решено было ему выехать будто в Варшаву, под предлогом успокоения брата Константина Павловича насчет здоровья матушки, и остановиться на станции Неннале, дабы удалиться от беспрестанного принуждения и вместе с тем для остановления по дороге всех тех, кои, возвращаясь из Варшавы, могли повестить в Петербурге настоящее положение дел. Сия же предосторожность принудила останавливать все письма, приходившие из Варшавы; и эстафет, еженедельно приходивший с бумагами, из канцелярии Константина Павловича приносим был ко мне. Бумаги, не терпящие отлагательства, должен был я лично вручать у себя тем, к коим адресовались, и просить их вскрывать в моем присутствии. Положение самое несносное!
Так прошло 8 или 9 дней. В одно утро, часов в 6, был я разбужен внезапным приездом из Таганрога лейб-гвардии Измайловского полка полковника барона Фредерикса с пакетом «о самонужнейшем» от генерала Дибича, начальника Главного штаба, и адресованным в собственные руки императору!
Спросив полковника Фредерикса, знает ли он содержание пакета, получил в ответ, что ничего ему неизвестно, но что такой же пакет послан в Варшаву, по неизвестности в Таганроге, где находился государь. Заключив из сего, что пакет содержит обстоятельство особой важности, я был в крайнем недоумении, на что мне решиться. Вскрыть пакет на имя императора был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последнею крайностию, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и – пакет вскрыт!
Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю империю, от Петербурга на Москву и до Второй армии в Бессарабии.
Тогда только почувствовал я в полной мере всю тягость своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властью, с опытностью, с решимостью – я не имел ни власти, ни права на оную; мог только действовать чрез других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют; и притом чувствовал, что тайну подобной важности должно было наитщательнейше скрывать от всех, даже от матушки, дабы ее не испугать или преждевременно заговорщикам не открыть, что замыслы их уже не скрыты от правительства. К кому мне было обратиться – одному, совершенно одному без совета!
Граф Милорадович казался мне, по долгу его звания, первым, до сведения которого содержание сих известий довести должно было; князь Голицын, как начальник почтовой части и доверенное лицо императора Александра, казался мне вторым. Я их обоих пригласил к себе, и втроем принялись мы за чтение приложений к письму. Писанные рукою генерал-адъютанта графа Чернышева для большей тайны, в них заключалось изложение открытого обширного заговора чрез два разных источника: показаниями юнкера Шервуда, служившего в Чугуевском военном поселении, и открытием капитана Майбороды, служившего в тогдашнем 3-м пехотном корпусе. Известно было, что заговор касается многих лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку, но в особенности в Москве, в главной квартире 2-й армии и в части войск, ей принадлежащих, а также в войсках 3-го корпуса. Показания были весьма неясны, неопределительны; но, однако, еще за несколько дней до кончины своей покойный император велел генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Измайловского полка Николаева (Николаев был полковником лейб-гвардии Казачьего полка. – Я. Г.) взять известного Вадковского, за год выписанного из Кавалергардского полка. Еще более ясны были подозрения на главную квартиру 2-й армии, и генерал Дибич уведомлял, что вслед за сим решился послать графа Чернышева в Тульчин, дабы уведомить генерала Витгенштейна о происходящем и арестовать князя С. Волконского, командовавшего бригадой, и полковника Пестеля, в оной бригаде командовавшего Вятским полком.
Подобное извещение, в столь затруднительное и важное время, требовало величайшего внимания, и решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и немедля их арестовать; а как о капитане Майбороде ничего не упоминалось, а должно было полагать, что чрез него получатся еще важнейшие сведения, то решился граф Милорадович послать адъютанта своего генерала Мантейфеля к генералу Роту, дабы, приняв Майбороду, доставить в Петербург. Из петербургских заговорщиков по справке никого не оказалось налицо: все были в отпуску, а именно Свистунов, Захар Чернышев и Никита Муравьев, что более еще утверждало справедливость подозрений, что они были в отсутствии для съезда, как в показаниях упоминалось. Граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии и других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратить все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности.
Наконец наступил роковой для меня день. По обыкновению, обедали мы вдвоем с женой, как приехал Белоусов. Вскрыв письмо брата, удостоверился я с первых строк, что участь моя решена, но что единому Богу известно, как воля Константина Павловича исполнится, ибо вопреки всем нашим убеждениям решительно отказывал в новом акте, упираясь на то, что, не признавая себя императором, отвергая присягу, ему данную, как такую, которая неправильно ему принесена была, не считает себя вправе и не хочет другого изречения непреклонной своей воли, как обнародование духовной императора Александра и приложен[ного] к оному акта отречения своего от престола. Я предчувствовал, что, повинуясь воле братней, иду на гибель, но нельзя было иначе, и долг повелевал сообразить единственно, как исполнить сие с меньшею опасностью недоразумений и ложных наветов. Я пошел к матушке и нашел ее в том же убеждении, но довольною, что наступил конец нерешимости.
Изготовив вскорости проект манифеста, призвал я к себе М. М. Сперанского и ему поручил написать таковой, придерживаясь моих мыслей; положено было притом публиковать духовную императора Александра, письмо к нему Константина Павловича с отречением и два его же письма – к матушке и ко мне как к императору…
Письмо Николая Павловича министру двора генерал-адъютанту Петру Михайловичу Волконскому. 12 декабря 1825 года
Воля Божия и приговор братний надо мной совершается! 14-го числа я буду государь или мертв. Что во мне происходит, описать нельзя; вы, вероятно, надо мной сжалитесь – да, мы все несчастные, – но нет несчастливее меня! Да будет воля Божия!
Повторим еще раз – великий князь слишком хорошо помнил судьбу своих деда и отца.
Он ясно представлял себе, что может произойти, если гвардия не поверит отречению Константина и в глазах солдат и офицеров он, Николай, предстанет узурпатором, вынуждающим их нарушить присягу…
Декабря 12. Манифест «О вступлении на Престол Государя Императора НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА»
Объявляем всех верным Нашим подданным. В сокрушении сердца, смиряясь пред неисповедимыми судьбами Всевышнего, среди всеобщей горести, Нас, Императорский Наш Дом и любезное Отечество Наше объявшей, в едином Боге Мы ищем твердости и утешения. Кончиною в Бозе почившего Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, Любезнейшего Брата Нашего, Мы лишилися Отца и Государя, двадесять пять лет России и Нам благотворившего.
Когда известие о сем плачевном событии, в 27-й день Ноября месяца, до Нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий, Мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного и следуя движению сердца, принесли присягу верности Старейшему Брату Нашему, Государю, Цесаревичу и Великому Князю КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ, яко законному, по праву первородства, Наследнику Престола Всероссийского.
По совершении сего священного долга известились Мы от Государственного Совета, что в 15-й день Октября 1825 года предъявлен оному, за печатью покойного Государя Императора, конверт с таковою на оном Собственноручною Его Величества надписью: Хранить в Государственном Совете до Моего востребования, а в случае Моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия в чрезвычайном Собрании; что сие Высочайшее Повеление Государственным Советом исполнено, и в оном конверте найдено: 1) Письмо Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА к покойному Государю Императору от 14 Генваря 1822 года, в коем Его Высочество отрекается от наследия Престола, по праву первородства Ему принадлежащего. 2) Манифест, в 16-й день Августа 1823 года Собственноручным Его Императорского Величества подписанием утвержденный, в коем Государь Император, изъявляя Свое согласие на отречение Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА, признает Наследником Нас, яко по Нем старейшего и по коренному закону к наследию ближайшего. Вместе с сим донесено Нам было, что таковые же акты и с тою же надписью хранятся в Правительствующем Сенате, Святейшем Синоде и в Московском Успенском Соборе.
Сведения сии не могли переменить принятой Нами меры. Мы в актах сих видели отречение Его Высочества, при жизни Государя Императора учиненное и согласием Его Величества утвержденное; но не желали и не имели права сие отречение, в свое время всенародно не объявленное и в закон не объявленное, признавать навсегда невозвратным. Сим желали Мы утвердить уважение Наше к первому коренному Отечественному закону, о непоколебимости в порядке наследия Престола. И вследствие того, пребывая верными присяге, Нами данной, Мы настояли, чтобы и все Государство последовало Нашему примеру; и сие учинили Мы не в пререкание действительности воли, изъявленной Его Высочеством, и еще менее в преслушание воли покойного Государя Императора, Общего Нашего Отца и Благодетеля, воли, для Нас всегда священной, но дабы оградить коренный закон о порядке наследия Престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений Наших и дабы предохранить любезное Отечество Наше от малейшей, даже и мгновенной неизвестности о Законном его Государе. Сие решение, в чистой совести, пред Богом Сердцеведцем Нами принятое, удостоено и личного Государыни Императрицы МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ, Любезнейшей Родительницы Нашей, Благословения.
Между тем горестное известие о кончине Государя Императора достигло в Варшаву, прямо из Таганрога 25 Ноября, двумя днями прежде, нежели сюда. Пребывая непоколебимо в намерении Своем, Государь, Цесаревич и Великий Князь КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, на другой же день, от 26 Ноября, признал за благо снова утвердить оное двумя актами, Любезнейшему Брату Нашему Великому Князю МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ для доставления сюда врученными. Акты сии суть следующие: 1) Письмо к Государыне Императрице, Любезнейшей Родительнице Нашей, в коей Его Высочество, возобновляя прежнее Его решение и укрепляя силу оного Грамотою покойного Государя Императора, в ответ на письмо Его Высочества, во 2-й день Февраля 1822 года состоявшеюся и в списке притом приложенною, снова и торжественно отрекается от наследия Престола, присвояя оное в порядке, коренным законом установленном, уже Нам и Потомству Нашему. 2) Грамота Его Высочества к Нам; в оной, повторяя те же самые изъявления воли, Его Высочество дает Нам Титул Императорского Величества; Себе же предоставляет прежний и именует Себя вернейшим Нашим подданным.
Сколь ни положительны сии Акты, сколь ни ясно в них представляется отречение Его Высочества непоколебимым и невозвратным; Мы признали, однако же, чувствам Нашим и самому положению дела сходственным приостановиться возвещением оных, доколе не будет получено окончательное изъявление воли Его Высочества на присягу, Нами и всем Государством принесенную.
Ныне, получив и сие окончательное изъявление непоколебимой и невозвратной Его Высочества воли, возвещаем о том всенародно, прилагая при сем: 1) Грамоту Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА к покойному Государю Императору АЛЕКСАНДРУ Первому. 2) Ответную Грамоту Его Императорского Величества. 3) Манифест покойного Государя Императора, отречение Его Высочества, утверждающий и Нас Наследником признавающий. 4) Письмо Его Высочества к Государыне Императрице, Любезнейшей Родительнице Нашей. 5) Грамоту Его Высочества к Нам.
В последствие всех сих Актов и по коренному закону Империи, о порядке наследия, с сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым судьбам Промысла, Нас ведущего, вступая на Прародительский Наш Престол Всероссийской Империи и на нераздельные с ним Престолы Царства Польского и Великого Княжества Финляндского, повелеваем: 1) Присягу в верности подданства учинить Нам и Наследнику Нашему, Его Императорскому Высочеству Великому Князю АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, Любезнейшему Сыну Нашему. 2) Время вступления Нашего на Престол считать с 19 Ноября 1825 года.
Наконец Мы призываем всех Наших верных подданных соединить с Нами теплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлет Нам силы к понесению бремени, Святым Промыслом Его на Нас возложенного; да укрепит благие намерения Наши жить единственно для любезного Отечества, следовать примеру оплакиваемого Нами Государя; да будет Царствование Наше токмо продолжением Царствования Его, и да исполнится все, чего для блага России желал Тот, Коего священная память будет питать в Нас и ревность и надежду, стяжать благословенье Божие и любовь народов Наших. Дан в Царствующем граде Санкт-Петербурге, в дванадесятый день Декабря месяца, в 1825 лето от Рождества Христова, Царствования же Нашего в первое.
Из «Записок» Николая I
…Прошел вечер 12 декабря; послано было к Михаилу Павловичу, дабы его воротить, и надежда оставалась, что он успеет воротиться на другой день, т. е. в воскресенье 13-го числа. Между тем весть о приехавшем фельдъегере распространилась по городу, и всякий убедился в том, что подозрения обратились в истину.
Гвардией командовал генерал Воинов, человек почтенный и храбрый, но ограниченных способностей и не успевший приобресть никакого веса в своем корпусе. Призвав его к себе, поставил его в известность воли Константина Павловича и условился, что на другой же день, т. е. в понедельник, соберет ко мне всех генералов и полковых командиров гвардии, дабы лично мне им объяснить весь ход происходившего в нашей семье и поручить им растолковать сие ясным образом своим подчиненным, дабы не было предлога к беспорядку. Требован был также ко мне митрополит Серафим для нужного предварения и, наконец, князь Лопухин, с которым условлено было собрать Совет к 8 часам вечера, куда я намерен был явиться вместе с братом Михаилом Павловичем как личным свидетелем и вестником братней воли.
Но Богу угодно было повелеть иначе. Мы ждали Михаила Павловича до половины одиннадцатого ночи, и его не было. Между тем весь город знал, что Государственный совет собран, и всякий подозревал, что настала решительная минута, где томительная неизвестность должна кончиться. Нечего было делать, и я должен был следовать один.
Тогда Государственный совет сбирался в большом покое, который ныне служит гостиной младшим моим дочерям. Подойдя к столу, я сел на первое место, сказав:
– Я выполняю волю брата Константина Павловича.
И вслед за тем начал читать манифест о моем восшествии на престол. Все встали, и я также. Все слушали в глубоком молчании и по окончании чтения глубоко мне поклонились, при чем отличился Н. С. Мордвинов, против меня бывший, всех первый вскочивший и ниже прочих отвесивший поклон, так что оно мне странным показалось.
Засим должен был я прочесть отношение Константина Павловича к князю Лопухину, в котором он самым сильным образом выговаривал ему, что ослушался будто воли покойного императора Александра, отослав к нему духовную и акт отречения и принеся ему присягу, тогда как на сие права никто не имел.
Кончив чтение, возвратился я в занимаемые мною комнаты, где ожидали меня матушка и жена. Был 1-й час и понедельник, что многие считали дурным началом. Мы проводили матушку на ее половину, и хотя не было еще объявлено о моем вступлении, комнатные люди матушки, с ее разрешения, нас поздравляли.
Во внутреннем конногвардейском карауле стоял в то время князь Одоевский, самый бешеный заговорщик, но никто сего не знал; после только вспомнили, что он беспрестанно расспрашивал придворных служителей о происходящем. Мы легли спать и спали спокойно, ибо у каждого совесть была чиста, и мы от глубины души предались Богу.
Николай Павлович – Александре Федоровне в ночь с 13 на 14 декабря
Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество и, если придется умереть, – умереть с честью.
Из «Записок» Николая Ивановича Греча
Ненависть к великому князю Николаю Павловичу была так велика, что ему предпочли бестолкового, взбалмошного Константина. Когда утром 14 декабря на ектенье у обедни в церкви Симеона и Анны провозгласили императора Николая, многие люди, и образованные и простые, со страхом побежали из храма.
Из «Записок» Николая I
Наконец наступило 14 декабря, роковой день! Я встал рано и, одевшись, принял генерала Воинова; потом вышел в залу нынешних покоев Александра Николаевича, где собраны были все генералы и полковые командиры гвардии. Объяснив им словесно, каким образом, по непременной воле Константина Павловича, которому незадолго вместе с ними я присягал, нахожусь ныне вынужденным покориться его воле и принять престол, к которому, за его отречением, нахожусь ближайшим в роде; засим прочитал им духовную покойного императора Александра и акт отречения Константина Павловича. Засим, получив от каждого уверение в преданности и готовности жертвовать собой, приказал ехать по своим командам и привесть к присяге.
От двора повелено было всем имеющим право на приезд собраться во дворец к 11 часам. В то же время Синод и Сенат собирались в своем месте для присяги.
Вскоре за сим прибыл ко мне граф Милорадович с новыми уверениями совершенного спокойствия. Засим был я у матушки, где его снова видел, и воротился к себе. Приехал генерал Орлов, командовавший конной гвардией, с известием, что полк принял присягу; поговорив с ним довольно долго, я его отпустил. Вскоре за ним явился ко мне командовавший гвардейской артиллерией генерал-майор Сухозанет, с известием, что артиллерия присягнула, но что в гвардейской конной артиллерии офицеры оказали сомнение в справедливости присяги, желая сперва слышать удостоверение сего от Михаила Павловича, которого считали удаленным из Петербурга, как будто из несогласия его на мое вступление. Многие из сих офицеров до того вышли из повиновения, что генерал Сухозанет должен был их всех арестовать. Но почти в сие же время прибыл наконец Михаил Павлович, которого я просил сейчас же отправиться в артиллерию для приведения заблудших в порядок.
Спустя несколько минут после сего явился ко мне генерал-майор Нейдгарт, начальник штаба гвардейского корпуса и, взойдя ко мне совершенно в расстройстве, сказал:
– Sire, le ŕegiment de Moscou est en plein insurrection; Chenchin et Frederichs (тогдашний бригадный и полковой командиры) sont grièvement blesśes, et les mutins marchent vers le Śenat, j’аi à peine pu les d́evancer pour vous le dire. Ordonnez, de gràсе, au l-er bataillon Рŕeobrajensky еt à lа gardeà – cheval de marcher contre[5].
Меня весть сия поразила, как громом, ибо с первой минуты я не видел в сем первом ослушании действие одного сомнения, которого всегда опасался, но, зная существование заговора, узнал в сем первое его доказательство.
Разрешив первому батальону Преображенскому выходить, дозволил конной гвардии седлать, но не выезжать; и к сим отправил генерала Нейдгарта, послав в то же время генерал-майора Стрекалова, дежурного при мне, в Преображенский батальон для скорейшего исполнения. Оставшись один, я спросил себя, что мне делать, и, перекрестясь, отдался в руки Божии, решил сам идти туда, где опасность угрожала.
Но должно было от всех скрыть настоящее положение наше, и в особенности от матушки, и, зайдя к жене, сказал:
– Il y a du bruit au regiment de Moscou: je veux y aller[6].
С сим пошел я на Салтыковскую лестницу; в передней найдя командира Кавалергардского полка флигель-адъютанта генерала Апраксина, велел ему ехать в полк и сейчас его вести ко мне. На лестнице встретил я Воинова в совершенном расстройстве. Я строго припомнил ему, что место его не здесь, а там, где войска, ему вверенные, вышли из повиновения. За мной шел генерал-адъютант Кутузов; с ним пришел я на дворцовую главную гауптвахту, в которую только что вступила 9-я егерская рота лейб-гвардии Финляндского полка под командой капитана Прибыткова. Полк сей был в моей дивизии. Вызвав караул под ружье и приказав себе отдать честь, прошел по фронту, испросив людей, присягали ль мне и знают ли, отчего сие было и что по точной воле сие брата Константина Павловича, получил в ответ, что знают и присягнули. Засим сказал я им:
– Ребята, московские шалят; не перенимать у них и свое дело делать молодцами!
Велел зарядить ружья и, сам скомандовав: «Дивизия вперед, скорым шагом марш!» – повел караул левым плечом вперед к главным воротам дворца. В сие время разводили еще часовых, и налицо была только остальная часть людей.
Съезд ко дворцу уже начинался, и вся площадь усеяна была народом и перекрещавшимися экипажами. Многие из любопытства заглядывали на двор и, увидя меня, вошли и кланялись мне в ноги. Поставя караул поперек ворот, обратился я к народу, который, меня увидя, начал сбегаться ко мне и кричать ура. Махнув рукой, я просил, чтобы мне дали говорить. В то же время пришел ко мне граф Милорадович и, сказав:
– Cela va mal; ils marchent au Śenat, mais je vais leur parler[7], – ушел, и я более его не видал, как отдавая ему последний долг.
Надо было мне выигрывать время, дабы дать войскам собраться, нужно было отвлечь внимание народа чем-нибудь необыкновенным – все эти мысли пришли мне как бы вдохновением, и я начал говорить народу, спрашивая, читали ль мой манифест. Все говорили, что нет; пришло мне на мысль самому его читать. У кого-то в толпе нашелся экземпляр; я взял его и начал читать тихо и протяжно, толкуя каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и единый Бог меня поддержал…
Наконец Стрекалов повестил меня, что Преображенский 1-й батальон готов. Приказав коменданту генерал-лейтенанту Башуцкому остаться при гауптвахте и не трогаться с места без моего приказания, сам пошел сквозь толпу прямо к батальону, ставшему линией спиной к комендантскому подъезду, левым флангом к экзерциргаузу. Батальоном командовал полковник Микулин, и полковой командир полковник Исленьев был при батальоне. Батальон мне отдал честь; я прошел по фронту и, спросив, готовы ли идти за мною, куда велю, получил в ответ громкое молодецкое:
– Рады стараться!
Минуты единственные в моей жизни! Никакая кисть не изобразит геройскую, почтенную и спокойную наружность сего истинно первого батальона в свете, в столь критическую минуту.
Скомандовав по-тогдашнему: «К атаке в колонну, первый и осьмой взводы, вполоборота налево и направо!» – повел я батальон левым плечом вперед мимо заборов тогда достраивавшегося дома Министерства финансов и иностранных дел к углу Адмиралтейского бульвара. Тут, узнав, что ружья не заряжены, велел батальону остановиться и зарядить ружья. Тогда же привели мне лошадь, но все прочие были пеши. В то же время заметил я [у] угла дома Главного штаба полковника князя Трубецкого; ниже увидим, какую он тогда играл ролю.
Зарядив ружья, пошли мы вперед. Тогда со мною были генерал-адъютанты Кутузов, Стрекалов, флигель-адъютант Дурново и адъютанты мои – Перовский и Адлерберг. Адъютанта моего Кавелина послал я к себе в Аничкин дом, перевесть детей в Зимний дворец. Перовского послал я в конную гвардию с приказанием выезжать ко мне на площадь. В сие самое время услышали мы выстрелы, и вслед за сим прибежал ко мне флигель-адъютант князь Голицын Генерального штаба с известием, что граф Милорадович смертельно ранен.
Народ прибавлялся со всех сторон; я вызвал стрелков на фланги батальона и дошел таким образом до угла Вознесенской. Не видя еще конной гвардии, я остановился и послал за нею одного бывшего при мне конным старого рейткнехта из конной гвардии Лондыря с тем, чтобы полк скорее шел. Тогда же слышали мы ясно «Ура, Константин!» на площади против Сената, и видна была стрелковая цепь, которая никого не подпускала.
В сие время заметил я слева против себя офицера Нижегородского драгунского полка, которого черным обвязанная голова, огромные черные глаза и усы и вся наружность имели что-то особенно отвратительное. Подозвав его к себе, узнал, что он Якубовский, но не знав, с какой целью он тут был, спросил его, чего он желает. На сие он мне дерзко сказал:
– Я был с ними, но, услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам.
Я взял его за руку и сказал:
– Спасибо, вы ваш долг знаете.
От него узнали мы, что Московский полк почти весь участвует в бунте и что с ними следовал он по Гороховой, где от них отстал. Но после уже узнато было, что настоящее намерение его было под сей личиной узнавать, что среди нас делалось, и действовать по удобности.
В это время генерал-адъютант Орлов привел конную гвардию, обогнув Исаакиевский собор и выехав на площадь между оным и зданием военного министерства, [ч]то тогда было домом князя Лобанова; полк шел в галоп и строился спиной к сему дому. Сейчас я поехал к нему и, поздоровавшись с людьми, сказал им, что ежели искренно мне присягнули, то настало время сие мне доказать на деле. Генералу Орлову велел я с полком идти на Сенатскую площадь и выстроиться так, чтобы пресечь елико возможно мятежникам сообщение с тех сторон, где их окружить было можно. Площадь тогда была весьма стеснена заборами от стороны собора, простиравшимися до угла нынешнего синодского здания; угол, образуемый бульваром и берегом Невы, служил складом выгружаемых камней для собора, и оставалось между сими материалами и монументом Петра Великого не более как шагов 50. На сем тесном пространстве, идя по шести, полк выстроился в две линии, правым флангом к монументу, левым достигая почти заборов.
Мятежники выстроены были в густой неправильной колонне спиной к старому Сенату. Тогда был еще один Московский полк. В сие самое время раздалось несколько выстрелов: стреляли по генерале Воинове, но не успели ранить тогда, когда он, подъехав, хотел уговаривать людей. Флигель-адъютант Бибиков, директор канцелярии Главного штаба, был ими схвачен и, жестоко избитый, от них вырвался и пришел ко мне; от него узнали мы, что Оболенский предводительствует толпой.
Тогда отрядил я роту его величества Преображенского полка с полковником Исленьевым, младшим полковником Титовым и под командой капитана Игнатьева чрез бульвар занять Исаакиевский мост, дабы отрезать сообщение с сей стороны с Васильевским островом и прикрыть фланг конной гвардии; сам же с прибывшим ко мне генерал-адъютантом Бенкендорфом выехал на площадь, чтоб рассмотреть положение мятежников. Меня встретили выстрелами.
В то же время послал я приказание всем войскам сбираться ко мне на Адмиралтейскую площадь и, воротясь на оную, нашел уже остальную часть Московского полка с большею частию офицеров, которых ко мне привел Михаил Павлович. Офицеры бросились мне целовать руки и ноги. В доказательство моей к ним доверенности поставил я их на самом углу у забора, против мятежников. Кавалергардский полк, 2-й батальон Преображенского стояли уже на площади; сей батальон послал я вместе с первым рядами направо примкнуть к конной гвардии. Кавалергарды оставлены были мной в резерве у дома Лобанова. Семеновскому полку велено было идти прямо вокруг Исаакиевского собора к манежу конной гвардии и занять мост. Я вручил команду с сей стороны Михаилу Павловичу. Павловского полка воротившиеся люди из караула, составлявшие малый батальон, посланы были по Почтовой улице и мимо конногвардейских казарм на мост у Крюкова канала и в Галерную улицу.
В сие время узнал я, что в Измайловском полку происходил беспорядок и нерешительность при присяге. Сколь мне сие ни больно было, но я решительно не полагал сего справедливым, а относил сие к тем же замыслам и потому велел генерал-адъютанту Левашову, ко мне явившемуся, ехать в полк и, буде есть какая-либо возможность, двинуть его, хотя бы против меня, непременно его вывесть из казарм. Между тем, видя, что дело становится весьма важным, и не предвидя еще, чем кончится, послал я Адлерберга с приказанием шталмейстеру князю Долгорукову приготовить загородные экипажи для матушки и жены и намерен был в крайности выпроводить их с детьми под прикрытием кавалергардов в Царское Село. Сам же, послав за артиллерией, поехал на Дворцовую площадь, дабы обеспечить дворец, куда велено было следовать прямо обоим саперным батальонам – гвардейскому и учебному. Не доехав еще до дома Главного штаба, увидел я в совершенном беспорядке со знаменами без офицеров Лейб-гранадерский полк, идущий толпой. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить; но на мое «Стой!» отвечали мне:
– Мы – за Константина!
Я указал им на Сенатскую площадь и сказал:
– Когда так – то вот вам дорога.
И вся сия толпа прошла мимо меня, сквозь все войска, и присоединилась без препятствия к своим одинако заблужденным товарищам. К счастию, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца и участь бы наша была более чем сомнительна. Но подобные рассуждения делаются после; тогда же один Бог меня наставил на сию мысль.
Милосердие Божие оказалось еще разительнее при сем же случае, когда толпа лейб-гранадер, предводимая офицером Пановым, шла с намерением овладеть дворцом и в случае сопротивления истребить все наше семейство. Они дошли до главных ворот дворца в некотором устройстве, так что комендант почел их за присланный мною отряд для занятия дворца. Но вдруг Панов, шедший в голове, заметил лейб-гвардии саперный батальон, только что успевший прибежать и выстроившийся в колонне на дворе, и, закричав:
– Да это не наши! –
начал ворочать входящие отделения кругом и бросился бежать с ними обратно на площадь. Ежели б саперный батальон опоздал только несколькими минутами, дворец и все наше семейство были б в руках мятежников, тогда как, занятый происходившим на Сенатской площади и вовсе безызвестный об угрожавшей с тылу оной важнейшей опасности, я бы лишен был всякой возможности сему воспрепятствовать. Из сего видно самым разительным образом, что ни я, ни кто не могли бы дела благополучно кончить, ежели б самому милосердию Божию не угодно было всем править к лучшему.
Здесь должен я упомянуть о славном поступке капитана лейб-гвардии Гренадерского полка князя Мещерского. Он командовал тогда ротою его величества, и когда полк, завлеченный в бунт ловкостью Панова и других соумышленников, отказался в повиновении своему полковнику Стюрлеру из опасения нарушить присягу своему законному государю Константину Павловичу, Мещерский догнал свою роту на дороге и убеждением и доверием, которое вселял в людей, успел остановить большую часть своей роты и несколько других и привел их ко мне. Я поставил его с саперами на почетное место – к защите дворца.
Воротившись к войскам, нашел я прибывшую артиллерию, но, к несчастию, без зарядов, хранившихся в лаборатории. Доколь послано было за ними, мятеж усиливался; к начальной массе Московского полка прибыл весь гвардейский экипаж и примкнул со стороны Галерной; а толпа гренадер стала с другой стороны. Шум и крик делались беспрестанны, и частые выстрелы перелетали чрез голову. Наконец народ начал также колебаться, и многие перебегали к мятежникам, пред которыми видны были люди невоенные. Одним словом, ясно становилось, что не сомнение в присяге было истинной причиной бунта, но существование другого важнейшего заговора делалось очевидным. «Ура Конституция!» – раздавалось и принималось чернию за ура, произносимое в честь супруги Константина Павловича!
Воротился генерал-адъютант Левашов с известием, что Измайловский полк прибыл в порядке и ждет меня у Синего моста. Я поехал к нему; полк отдал мне честь и встретил с радостными лицами, которые рассеяли во мне всякое подозрение. Я сказал людям, что хотели мне их очернить, что я сему не верю, что, впрочем, ежели среди их есть такие, которые хотят против меня идти, то я им не препятствую и дозволяю присоединиться к мятежникам. Громкое ура было мне ответом. Я при себе велел зарядить ружья и послал полк с генерал-майором Мартыновым, командиром бригады, на площадь, велев поставить в резерв спиной к дому Лобанова. Сам же поехал к Семеновскому полку, уже стоявшему на своем месте.
Полк, под начальством полковника Шипова, прибыл в величайшей исправности и стоял у самого моста на канале, батальон за батальоном. Михаил Павлович был уже тут. С этого места было еще ближе видно, что с гвардейским экипажем, стоявшим на правом фланге мятежников, было много офицеров экипажа сего и других, но видны были и другие во фраках, расхаживавшие между солдат и уговаривавшие стоять твердо.
В то время как я ездил к Измайловскому полку, прибыл требованный мною митрополит Серафим из Зимнего дворца, в полном облачении и с крестом. Почтенный пастырь с одним поддиаконом вышел из кареты и, положа крест на голову, пошел прямо к толпе; он хотел говорить, но Оболенский и другие сей шайки ему воспрепятствовали, угрожая стрелять, ежели не удалится.
Михаил Павлович предложил мне подъехать к толпе в надежде присутствием своим разуверить заблужденных и полагавших быть верными присяге Константину Павловичу, ибо привязанность Михаила Павловича к брату была всем известна. Хотя страшился я для брата изменнической руки, ибо видно было, что бунт более и более усиливался, но, желая испытать все способы, я согласился и на сию меру и отпустил брата, придав ему генерал-адъютанта Левашова. Но и его увещания не помогли; хотя матросы начали было слушать, мятежники им мешали, и Кюхельбекер взвел курок пистолета и начал целить в брата, что, однако, три матроса ему не дали совершить.
Брат воротился к своему месту, а я, объехав вокруг собора, прибыл снова к войскам, с той стороны бывшим, и нашел прибывшим лейб-гвардии Егерский полк, который оставил на площади против Гороховой за пешей гвардейской артиллер[ийской] бригадой.
Погода из довольно сырой становилась холоднее; снегу было весьма мало, и оттого – весьма скользко; начинало смеркаться, ибо был уже 3-й час пополудни. Шум и крик делались настойчивее, и частые ружейные выстрелы ранили многих в конной гвардии и перелетали через войска; большая часть солдат на стороне мятежников стреляли вверх.
Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп; пули просвистали мне чрез голову и, к счастию, никого из нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были б в самом трудном положении.
Я согласился испробовать атаковать кавалериею. Конная гвардия первая атаковала поэскадронно, но ничего не могла произвести и по тесноте, и от гололедицы, но в особенности не имея отпущенных палашей. Противники в сомкнутой колонне имели всю выгоду на своей стороне и многих тяжело ранили, в том числе ротмистр Велио (ошибка Николая: Велио (Вельо) был полковником. – Я. Г.) лишился руки. Кавалергардский полк равномерно ходил в атаку, но без большого успеха.
Тогда генерал-адъютант Васильчиков, обратившись ко мне, сказал:
– Sier, il n’у а pas un moment à perdre; l’on n’y peut rien maintenant; il faut de la mitraille![8]
Я предчувствовал сию необходимость, но, признаюсь, когда настало время, не мог решиться на подобную меру, и меня ужас объял.
– Vous voulez que je verse le sang de mes sujets le premier jour de mon ŕenge?[9] – отвечал я Васильчикову.
– Pour sauver votre Empire[10], – сказал он мне.
Эти слова меня снова привели в себя; опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверно все; или, пощадив себя, жертвовать решительно государством.
Послав одно орудие 1-й легкой пешей батареи к Михаилу Павловичу с тем, чтобы усилить сию сторону, как единственное отступление мятежникам, взял другие три орудия и поставил их пред Преображенским полком, велев зарядить картечью; орудиями командовал штабс-капитан Бакунин.
Вся во мне надежда была, что мятежники устрашатся таких приготовлений и сдадутся, не видя себе иного спасения. Но они оставались тверды; крик продолжался еще упорнее. Наконец послал я генерал-майора Сухозанета объявить им, что, ежели сейчас не положат оружия, велю стрелять. Ура и прежние восклицания были ответом и вслед за тем – залп.
Тогда, не видя иного способа, скомандовал: пали! Первый выстрел ударил высоко в Сенатское здание, и мятежники отвечали неистовым криком и беглым огнем. Второй и третий выстрел от нас и с другой стороны из орудия у Семеновского полка ударили в самую середину толпы, и мгновенно все рассыпалось, спасаясь Англинской набережной на Неву, по Галерной и даже навстречу выстрелов из орудия при Семеновском полку, дабы достичь берега Крюкова канала.
Велев артиллерии взяться на передки, мы двинули Преображенский и Измайловский полки через площадь, тогда как гвардейский Коннопионерный эскадрон и часть конной гвардии преследовали бегущих по Англинской набережной. Одна толпа начала было выстраиваться на Неве, но два выстрела картечью их рассеяли – и осталось сбирать спрятанных и разбежавшихся, что возложено было на генерал-адъютанта Бенкендорфа с 4 эскадронами Конной гвардии и гвардейским Коннопионерным эскадроном под командою генерал-адъютанта Орлова на Васильевском острову и 2 эскадронами конной гвардии на сей стороне Невы. Вслед за сим вручил я команду сей части города генерал-адъютанту Васильчикову, назначив ему оставаться у Сената и отдав ему в команду Семеновский полк, 2 батальона Измайловского, сводный батальон Московского и Павловского полков, 2 эскадрона конной гвардии и 4 орудия конной артиллерии. Васильевский остров поручил в команду генерал-адъютанту Бенкендорфу, оставя у него прежние 6 эскадронов и придав лейб-гвардии Финляндского полка 1 батальон и 4 орудия пешей артиллерии. Сам отправился ко дворцу. У Гороховой, в виде авангарда, оставил на Адмиралтейской площади 2 батальона лейб-гвардии Егерского полка и за ними 4 эскадрона Кавалергардского полка. Остальной батальон лейб-гвардии Егерского полка держал пикеты у Малой Миллионной, у Большой Миллионной, у казарм 1-го батальона Преображенского полка и на Большой набережной у театра. К сим постам придано было по 2 пеших орудия. Батареи о 8 орудиях поставлены были у Эрмитажного съезда на Неву, а другая о 4 орудиях против угла Зимнего дворца на Неву. 1 батальон Измайловского полка стоял на набережной у парадного подъезда, 2 эскадрона кавалергардов – левее, против угла дворца. Преображенский полк и при нем 4 орудия роты его величества стоял на Дворцовой площади спиной к дворцу, у главных ворот в резерве, а на дворе оставались оба саперных батальона и рота гренадерская лейб-гвардии Гренадерского полка.
Из «Записок» Дениса Васильевича Давыдова
Я всегда полагал, что император Николай одарен мужеством, но слова, сказанные мне бывшим моим подчиненным, вполне бесстрашным генералом Чеченским, и некоторые другие обстоятельства поколебали во мне это убеждение. Чеченский сказал мне однажды: «Вы знаете, я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь в день 14 декабря близ государя, я во все время наблюдал за ним. Я могу вас уверить честным словом, у императора, бывшего во все время весьма бледным, душа была в пятках. Не сомневайтесь в моих словах, я не привык врать».
Из воспоминаний принца Евгения Вюртембергского
Сам государь однажды в разговоре со мной об этих происшествиях выразился: «Что непонятно во всем этом, Евгений, так это то, что нас обоих тут же не пристрелили».
Ночь с 14 на 15 декабря 1825 года явила нам совершенно неожиданные стороны личности Николая Павловича.
Надо представить себе, что значила для Николая эта ночь, – ему предстояло выяснить и осознать масштабы заговора и степень опасности, которой подвергался он сам, вся августейшая фамилия и государственная система. Психологическая нагрузка была громадна. Неудивительно, что он часто срывался. Тем более что не был уверен в окончании дела – недаром город напоминал военный лагерь.
Не говоря уже о том, что он ждал известий из второй армии – главного гнезда армейских заговорщиков. И они не замедлили явиться в виде страшного сообщения о мятеже Черниговского полка, который, по представлениям молодого императора, имел все шансы разрастись в гражданскую войну…
Допросы первых арестованных превратились в мрачный театр.
Из «Записок» Сергея Петровича Трубецкого
Везде около дворца и по улицам, к нему ведущим, стояло войско и были разведены большие огни. Меня позвали; император пришел ко мне навстречу в полной форме и ленте и, подняв указательный палец правой руки прямо против моего лба, сказал: «Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник! Князь Трубецкой!.. как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью? Ваша участь будет ужасная», – и, оборотившись к генералу Толю, который один был в комнате, сказал: «Прочтите». Толь выбрал из бумаг, лежащих на столе, один лист и прочел в нем показание, что бывшее происшествие есть дело общества, которое кроме членов в Петербурге имеет большую отрасль в 4-м корпусе и что дежурный штаб-офицер этого корпуса лейб-гвардии Преображенского полка полковник Трубецкой может дать полное сведение о помянутом обществе. Когда он прочел, император спросил: «Это Пущин?»
Толь: – Пущин.
Я: – Государь, Пущин ошибается…
Толь: – А! Вы думаете, это Пущин? А где Пущин живет?
Я видел, что почерк не Пущина, но думал, что, повторяя его имя, может быть, назовут мне показателя. На вопрос Толя я отвечал: «Не знаю».
Толь: – У отца ли он теперь?
Я: – Не знаю.
Толь: – Я всегда говорил покойному государю, ваше величество, что 4-й корпус – гнездо тайного общества и почти все полковые командиры к нему принадлежат, но государю было не угодно верить.
Я: – Вы, ваше превосходительство, имеете очень неверные сведения.
Толь: – Уж вы не говорите, я это знаю.
Я: – Последствия докажут, что ваше превосходительство ошибаетесь. В 4-м корпусе нет никакого тайного общества, я за это отвечаю.
Император прервал наш спор, подав мне лист бумаги, и сказал: – Пишите показание, – и показал мне место на диване, на котором сидел и с которого теперь встал. Прежде нежели я сел, император начал опять разговор: – Какая фамилия! Князь Трубецкой! Гвардии полковник! И в таком деле! Какая милая жена! Вы погубили жену. Есть у вас дети?
Я: – Нет.
Император, прерывая:
– Вы счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасная, ужасная! – и, продолжав некоторое время в этом тоне, заключил: – Пишите все, что знаете, – и ушел в другой кабинет… Несколько погодя Толь позвал меня в другой кабинет.
Я едва переступил за дверь – император навстречу в сильном гневе: – Эк! что на себя нагородили, а того, что надобно, не сказали. – И скорыми шагами подойдя к столу, взял на нем четвертку листа, поспешно подошел ко мне и показал: – Это что? Это ваша рука?
Я: – Моя.
Император, крича: – Вы знаете, что я могу вас сейчас расстрелять!
Я, сжав руки и тоже громко: – Расстреляйте, государь, вы имеете право.
Император, так же громко: – Не хочу. Я хочу, чтобы судьба ваша была ужасная.
Выпихав меня своим подходом в передний кабинет, повторил то же несколько раз, понижая голос. Отдал Толю бумаги и велел приложить к делу, а мне опять начал говорить о моем роде, о достоинствах моей жены, о ужасной судьбе, которая меня ожидает, и уже все это жалобным голосом. Наконец, подведя меня к тому столу, на котором я писал, подав мне лоскуток бумаги, сказал: – Пишите к вашей жене. – Я сел. Он стоял. Я начал писать: «Друг мой, будь спокойна и молись Богу…» – император прервал: – Что тут много писать, напишите только: «Я буду жив и здоров». Я написал: «Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров». Я подал ему, он прочел и сказал: – Я жив и здоров буду, припишите «буду» вверху.
Я исполнил. Он взял и велел мне идти за Толем.
«Четвертка листа», по поводу которой Николай грозил Трубецкому расстрелом, был листок из блокнота, на котором Трубецкой – в неустановленное время – набросал весьма радикальный план переустройства российской жизни после победы будущего восстания. Это и в самом деле была убийственная улика, ибо «манифест» этот начинался словами «Уничтожение бывшего правления».
Крайне любопытна та игра, которую ведет Николай с лидером провалившегося мятежа, то угрожая ему немедленным расстрелом, то давая гарантию жизни.
Николай был в крайне щекотливом положении. Он не мог не понимать, что жестокость по отношению к арестованным будет тяжело воспринята родственниками и друзьями. А эти родственные и дружеские связи пронизывали все общество.
Полковник князь Трубецкой не только принадлежал к одной из самых знатных аристократических фамилий, но и был зятем графа Лаваля, камергера и церемониймейстера императорского двора, человека с широкими связями. Отсюда и неожиданный жест Николая, некий знак, адресованный придворному кругу и петербургскому обществу вообще.
Надо помнить, что дело происходило в ночь после восстания, когда молодой император чувствовал себя отнюдь не уверенно…
Сам Николай в записках рисует сцену допроса Трубецкого существенно иначе.
Из «Записок» Николая I
Призвав генерала Толя в свидетели нашего свидания, я велел привести Трубецкого и приветствовал его словами:
– Вы должны быть известны о происходившем вчера. С тех пор многое объяснилось, и, к удивлению и сожалению моему, важные улики на вас существуют, что вы не только участником заговора, но должны были им предводительствовать. Хочу дать вам возможность хоть несколько уменьшить степень вашего преступления добровольным признанием всего вам известного; тем вы дадите возможность пощадить вас, сколько возможно будет. Скажите, что вы знаете?
– Я невинен, я ничего не знаю, – отвечал он.
– Князь, опомнитесь и войдите в ваше положение; вы – преступник; я ваш судья; улики на вас – положительные, ужасные и у меня в руках. Ваше отрицание не спасет вас; вы себя погубите – отвечайте, что вам известно?
– Повторяю, я не виновен, я ничего не знаю.
Показывая ему конверт, сказал я:
– В последний раз, князь, скажите, что вы знаете, ничего не скрывая, или – вы невозвратно погибли. Отвечайте.
Он еще дерзче мне ответил:
– Я уже сказал, что ничего не знаю.
– Ежели так, – возразил я, показывая ему развернутый его руки лист, – так смотрите же, что это?
Тогда он, как громом пораженный, упал к моим ногам в самом постыдном виде.
Хотя Трубецкой писал свои воспоминания значительно позже, чем его августейший следователь, но картина, им предложенная, кажется правдоподобнее из-за живых психологических деталей, о которых у нас шла речь. Тем более что Николай запамятовал принципиально важные вещи, например содержание документа, сразившего Трубецкого.
Из «Записок» Николая I
…Нашлась черновая бумага на оторванном листе, писанная рукою Трубецкого, особой важности: это была программа на весь ход действий мятежников на 14-е число, с означением лиц участвующих и разделением обязанностей каждому.
Ничего подобного на этом листе не было. Он хорошо известен историкам – это, как уже говорилось, программа переустройства государства после победы восстания. Никакого писаного плана действий у лидеров тайного общества не было и никакого «разделения обязанностей» тем более.
Подобная ошибка ставит под сомнение и остальные утверждения Николая.
Из «Записок» декабриста Андрея Евгеньевича Розена
На главной гауптвахте Зимнего дворца ожидал я моей очереди. В 10 часов вечера с конвоем отвели меня во внутренние покои царские… В начале допроса отворились другие двери, вошел император, я сделал несколько шагов вперед, чтобы ему поклониться, он повелительно и грозно сказал: «Стой!» Подошел ко мне, положил свою руку под эполет моего плеча и повторял «Назад, назад, назад», подвигая меня и следуя за мной, пока не ступил я на прежнее место к письменному столу и восковые свечи, горевшие на столе, пришлись прямо против моих глаз. Тогда более минуты пристально смотрел он мне в глаза и, не заметив ни малейшего смущения, вспомнил, как всегда доволен был моей службою, как он меня отличал, и прибавил, что теперь лежат на мне важные обвинения, что я грозил заколоть первого солдата, который вздумал бы двинуться за карабинерным взводом, и что он требует от меня чистосердечных сознаний, обещая мне сделать все, что возможно будет, чтобы спасти меня, и ушел. Допрос продолжался, я не мог сказать всю правду, не хотел назвать никого из членов тайного общества и из зачинщиков 14 декабря. Через полчаса опять вошел государь, взял у Левашова ответные пункты, искал чего-то: имен собственных никаких не было в моих показаниях, – еще раз взглянул на меня с благоволением, уговаривая быть откровенным. Император одет был в своем старом сюртуке Измайловского полка без эполет, бледность на лице, воспаление в глазах показывали ясно, что он много трудился и беспокоился, во все вникал лично, все хотел слышать сам, все сам читать. Когда он ушел в свой кабинет, то еще в третий раз отворил дверь и в дверях произнес последние слова, мною слышанные из уст его: «Тебя, Розен, охотно спасу!»
Розен был осужден на 10 лет каторги, которые Николай сократил до шести. В эту ночь окружающие наблюдали совершенно иного человека – не того сдержанного, замкнутого гвардейского красавца, каким привыкли видеть на людях, на службе великого князя. Смертельно уставший от нервного напряжения страшного дня, изнуренный непрерывными допросами, он искусно и точно вел свою игру с захваченными мятежниками, меняясь от допроса к допросу.
Император был грозен и резок с Трубецким: его нужно было немедленно сломать, и Николай надеялся подавить его внезапным милосердием. Но Розена, молодого блестящего фрунтовика, он и в самом деле высоко ценил, и тот, в свою очередь, несмотря на оскорбительную царскую грубость, тоже отдавал государю должное как знатоку фрунта. Поэтому во время допроса Розена Николай демонстрировал печальную суровость.
С юным поручиком Александром Гангебловым, которого знал с его отрочества, император выбрал безошибочный тон – отеческий.
Скорее всего, бессознательно Николай Павлович в эту фантасмагорическую ночь проигрывал весь регистр своего будущего поведения с подданными, открывая для самого себя возможности своей отнюдь не примитивной натуры.
Из воспоминаний декабриста Александра Семеновича Гангеблова
Я вдруг очутился лицом к лицу с Николаем Павловичем. Он был один в комнате, в сюртуке без эполет. Я не видел его в таком простом наряде с тех пор, как в бытность камер-пажом бывал на воскресных дежурствах в его Аничковом дворце. Он стоял, подбоченясь одной левой рукой, лицом к двери, как бы ожидая моего появления.
– Подойдите ближе ко мне, – сказал государь, – Еще ближе, – и, дав приблизиться менее чем на два шага, произнес: – Вот так.
Николай Павлович был бледен; в чертах его исхудалого лица выражалось сдерживаемое волнение. Вперив мне в глаза свой проницательный взор, он, почти ласковым голосом, начал так:
– Что вы, батюшка, наделали?.. Что вы это только наделали?.. Вы знаете, за что вы арестованы?
– Никак нет, ваше величество, не знаю… Ваше величество, мне не было даже известно о существовании общества с политическою целью; я знал, что есть общества религиозные, но ни в одно из них я не вступал.
Говоря это, я горел от стыда, так как ложью я всегда гнушался.
Тут Николай Павлович, не сводя с моих глаз пристального взора, взял меня под руку и стал водить из угла в угол залы.
– Послушайте, – начал он, понизив голос, – послушайте, вы играете в крупную игру и ставите ва-банк. Заметьте, что я не напоминаю вам о присяге, которую вы давали на верность вашему государю и вашему Отечеству; это дело вашей совести перед Богом. Но вы должны были не забывать, что вы дали под-пис-ку, что не вступите ни в какое тайное общество. Такими вещами шутить нельзя. Вы не могли не заметить, что я вас всегда отличал: вы служили при жене, и т. д и т. п.
Государь не задавал уже мне вопросов, а непрерывно говорил одним тоном, где слышались не то упрек, не то сожаление… Между прочим он сказал: «…Видите, как я с вами откровенен. Платите и вы мне тем же… вы у меня были на особом отличном счету»… Наконец, не слыша с моей стороны никакого отзыва, государь, видимо, терял терпение, и, когда мы дошли до того места, с которого начали ходить и где Мартынов все время стоял навытяжку, государь остановился и, повернув меня лицом к себе: «Ну, – сказал он, – теперь вы на меня не пеняйте; я для вас сделал все, что мог сделать… Так вы не хотите признаться? Смотрите мне прямо в глаза! Так вы не хотите признаться? В последний раз вас спрашиваю: кому вы дали слово?»
– Ваше величество, я не знаю за собой никакой вины.
– Поймите, в последний раз вас спрашиваю: никому слова не давали?
– Никому, – произнес я решительно.
– И вы скажете, что не дали слово Свистунову?
– Н-н-е-т.
– И вы это говорите как благородный офицер?
Я совершенно растерялся. Я не мог двинуть языком…
Нельзя не изумляться неутомимости и терпению Николая Павловича. Он не пренебрегал ничем: не разбирая чинов, снисходил, можно сказать, беседования с арестованными, старался уловить истину в самом выражении глаз, в самой интонации слов ответчика. Успешности этих попыток много помогала и самая наружность государя, его величавая осанка, его античные черты лица, особливо его взгляд: когда Николай Павлович находился в спокойном, милостивом расположении духа, его глаза выражали обаятельную доброту и ласковость; но когда он был в гневе, те же глаза метали молнии.
Обратим внимание, что во всех случаях Николай ставит арестованного вплотную к себе, рассчитывая на гипнотическое воздействие своего взгляда. Этой своей особенностью, которую он, очевидно, обнаружил во время допросов, он затем широко пользовался.
Допросы не ограничились страшной ночью с 14 на 15 декабря. И молодой император считал своим долгом принимать в них самое деятельное участие.
Из «Записок» декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина
Возле ломберного стола стоял новый император. Он сказал мне, чтобы я подошел ближе, и начал таким образом:
– Вы нарушили вашу присягу?
– Виноват, государь.
– Что ожидает вас на том свете? Проклятие. Мнение людей вы можете презирать, но что ожидает вас на том свете должно вас ужаснуть. Впрочем, я не хочу вас окончательно губить – я пришлю к вам священника. Что же вы мне ничего не говорите?
– Что вам угодно, государь, от меня?
– Я, кажется, говорю вам довольно ясно; если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы с вами обращались как с свиньей, то вы должны во всем признаться.
– Я дал слово не называть никого; все же, что знал про себя, я уже сказал его превосходительству, – отвечал я, указывал на Левашова, стоявшего поодаль в почтительном положении.
– Что вы мне с его превосходительством и с вашим мерзким честным словом.
– Назвать, государь, я никого не могу.
Новый император отскочил на три шага назад, протянул ко мне руку и сказал: «Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог!»
Надо иметь в виду, что декабристы в мемуарах иногда представляли свое поведение на допросах в более выгодном свете, чем оно было в реальности. Но Якушкин и в самом деле был одним из наиболее стойких, мужественных узников….
В смятенном и подавленном ужасом обществе многие ожидали от молодого императора благородного жеста – демонстрации великодушия и милосердия. Даже в его ближайшем окружении были люди, которые считали, что прощение мятежников принесет будущему царствованию куда больше пользы, чем самая суровая расправа.
Из воспоминаний принца Евгения Вюртембергского
Решился я доверить моей тетушке (императрице-матери Марии Федоровне. – Я. Г.) сокровенные желания моего сердца и просил ее поддержать их как бы ее собственные… Здесь в первый раз я был в отношении к ней смел и неделикатен. Я сказал:
– Указывая на гроб Александра, Николай должен сказать заговорщикам: «Вот кого вы хотели умертвить! Я знаю, что бы сделал он: я прощаю вас! Вы недостойны России! Вы не останетесь в ее пределах!»
Императрица хотела возражать, но я прервал ее и продолжал:
– Положив руку на сердце, сознаемся, что вполне невиновного нет ни одного смертного и русская империя небезупречна, в особенности в своей истории. Лучше миловать, чем карать, и при всяком восшествии на престол милость гораздо благоразумнее строгости.
Тетушка поняла меня и обещала употребить все возможное для достижения этой цели; но ее старания и мои ожидания оказались по-видимому бесплодны.
Императрица Мария Федоровна прекрасно поняла «неделикатный» намек своего племянника… Среди тех, кто подавлял мятеж 14 декабря и заседал в следственной комиссии, были убийцы ее мужа императора Павла.
Принц Евгений, как-никак европеец, полагал, что, имея подобное наследие, русскому императору не пристало быть бескомпромиссно суровым. Он считал, что традицию надо переломить…
Николай Павлович рассудил по-иному.
Из письма Николая I великому князю Константину. 6 июля 1826 года
В четверг начался суд, со всей подобающей торжественностью. Заседание идет без перерыва с 10 утра до 3 часов дня, и, несмотря на это, я еще не знаю, приблизительно к какому числу может кончиться. Затем последует казнь – ужасный день, о котором я не могу думать без содрогания. Предполагаю: провести ее на эспланаде крепости.
Из письма Николая I императрице Марии Федоровне. 10 июля 1826 года
Я отстраняю от себя всякий смертный приговор, и участь этих пяти наиболее презренных предоставляю решению Суда; эти пятеро: Пестель, Рылеев, Каховский, Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин.
То есть, что бы ни декларировал Николай Павлович, задолго до окончания суда он уже предопределил участь подсудимых.
Вокруг решения о смертной казни ходило множество слухов.
Из записок Александры Осиповны Смирновой-Россет
К концу поста государь пошел с собакой Гусаром его купать и бросил ему свой носовой платок (августейшая семья жила в это время в Царском Селе. – Я. Г.); в эту секунду его камердинер, запыхавшись, прибежал и сказал: «Светлейший князь Лопухин ожидает ваше величество». Государь, взволнованный, скорым шагом пошел во дворец, и Гусар за ним; я вытянула носовой платок и после отдала его камердинеру. После я узнала, что Лопухин принес лист осужденных на смерть, их было 20 (на самом деле Верховный уголовный суд приговорил к смерти 31 человека. – Я. Г.). Государь сказал: «Князь, это странно – начать царство с смертной казни 20 молодых людей. Что говорит брат Михаил?» – «Ваше величество, великий князь и граф Бенкендорф были совсем против смертной казни». – «Я этому рад». – «Но генерал Левашов более всех настаивал на смертной казни Каховского, потому что думал – он убил графа Милорадовича».
Известно, что повесили Пестеля, самого опасного, потому что самого умного из общества во Второй армии… Рылеева, Бестужева, Каховского и Муравьева-Апостола. Так как в числе заговорщиков многие принадлежали к высшему кругу, то их родственники были очень недоброжелательны и рассказывали, что когда старый Лопухин подал государю лист в 20 человек, приговоренных на смертную казнь, что он хотел подписать, и будто Лопухин сказал ему: «Государь, вы начинаете царствовать», – и затрясся. Это чистая ложь – при мне он сказал императрице: «Дорогой друг, смертная казнь в России отменена со времен императрицы Елизаветы, которая была гуманна, и, по несчастию, я первый с того времени должен подписать этот ужасный указ». Императрица заплакала.
Из дневника императрицы Александры Федоровны
Воскресенье, 12 [24] июля, ночью
Сегодня канун ужасных казней. 5 виновных будут повешены; остальные разжалованы и сосланы в Сибирь.
Я так взволнована! Господь видит это. Еще бы? Столица и такие казни – это вдвойне опасно… Да сохранит Господь священную жизнь моего Николая! Я бы хотела, чтобы эти ужасные два дня уже прошли… Это так тяжело. И я должна переживать подобные минуты… О, если б кто знал, как колебался Николай! Я молюсь за спасение душ тех, кто будет повешен.
Понедельник, 13 [25] июля
Что это была за ночь! Мне все время мерещились мертвецы. Я просыпалась от каждого шороха. В 7 часов Николая разбудили. Двумя письмами Кутузов и Дибич доносили, что все прошло без каких-либо беспорядков; виновные вели себя трусливо и недостойно, солдаты же соблюдали тишину и порядок. Те, которые не подлежали повешению, были выведены, разжалованы, с них были сорваны мундиры и брошены в огонь, над их головами ломали оружие; это должно быть для мужчин так же ужасно, как сама смерть. Затем пятеро остальных были выведены и повешены, при этом трое из них упали. Это ужасно, это приводит в содрогание!.. Присутствовавшая при этом толпа приблизилась к виселице и глумилась над трупами; говорили, что они заслужили это наказание и умерли так же, как жили. Сопровождавшие преступников солдаты держали себя с большим достоинством. Мой бедный Николай так много перестрадал за эти дни! К счастью, ему не пришлось самому подписывать смертный приговор.
Я благодарю Бога за то, что этот день прошел, и прошу его защиты на завтра.
Молодая императрица видела эту страшную картину так, как ей хотелось ее видеть. Смертники вели себя отнюдь не трусливо. Потерял присутствие духа только юный Бестужев-Рюмин, человек вообще неврастеничный. Постоянное повторение фразы о спокойствии солдат – знаменательно. Власти не были уверены, как встретят солдаты казнь, позорную казнь офицеров, из которых двое были героями наполеоновских войн. И утверждение о том, что толпа глумилась над трупами повешенных, вызывает большое сомнение. Тела были немедленно увезены, а виселица окружена рядами солдат.
История с подписанием смертного приговора – чистое лицемерие, которое станет одной из определяющих черт поведения Николая Павловича в подобных ситуациях.
Смертный приговор действительно вынес назначенный императором Верховный уголовный суд, но у Николая было право помилования, которым он не воспользовался. Он воспользовался другим правом.
Из письма начальника Главного штаба Ивана Ивановича Дибича председателю Верховного уголовного суда князю Петру Васильевичу Лопухину
На случай сомнения о виде казни, какая сим преступникам судом определена быть может, государь император повелеть мне соизволил предварить вашу светлость, что его величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы, и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную.
Император оставлял Верховному уголовному суду только один вид казни – повешение. Он не подписал приговор, но утвердил его специальным обращением к суду.
Из протокола Верховного уголовного суда от 11 июля 1826 года
Сообразуясь с высокомонаршим милосердием, в сем деле явленном, Верховный уголовный суд по высочайше предоставленной ему власти приговорил вместо мучительной смертной казни четвертованием Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной, – сих преступников за их тяжкие злодеяния – повесить.
И сам Николай, и Александра Федоровна утверждали, что молодому императору тяжело далось это жестокое решение.
В это можно было бы поверить, если бы в распоряжении историков не было специальной записки, в которой Николай подробно расписал обряд, по которому должна была совершиться казнь и экзекуция над осужденными.
Командовал экзекуцией, апофеозом которой была казнь потенциальных цареубийц, генерал П. В. Голенищев-Кутузов – один из участников реального цареубийства 11 марта 1801 года…
Из записки Николая I, адресованной Павлу Васильевичу Голенищеву-Кутузову
В кронверке занять караул. Войскам быть в три часа. Сначала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом против знамени. Конвойным оставаться за ними, считая по два на одного. Когда все будет на месте, то командовать на караул и пробить одно колено похода, потом господам генералам, командующим эскадронами и кавалерией, прочесть приговор, после чего пробить два колена похода и скомандовать на плечо, тогда профосам сорвать мундир, кресты и переломить шпаги, что потом и бросить в приготовленный костер. Когда приговор исполнится, то ввести их тем же порядком в кронверк, тогда взвести осужденных к смерти на вал, при коих быть священнику с крестом. Тогда ударить тот же бой, как для гонения сквозь строй, докуда все не кончится, после сего зайти по отделениям направо и пройти мимо и распустить по домам.
Из книги Михаила Николаевича Покровского «Русская история в самом сжатом очерке». 1933
Лицемерием было пропитано все николаевское общество сверху донизу. Лицемерие самого Николая воплотилось всецело в одном факте: когда в Сибири поймали шайку разбойников, долго наводившую ужас на целую губернию, губернатор предложил их казнить. Николай написал на донесении губернатора: «В России, слава Богу, нет смертной казни, и не мне ее восстанавливать, а дать каждому из разбойников по 12 тыс. палок». Здесь все было ложью. Во-первых, смертная в казнь в России по приговору военных, чрезвычайных и т. д. судов существовала, и Николай начал свое царствование с подписания смертного приговора пяти вождям декабристов, а во-вторых, больше 3 тысяч палок никто, самый здоровый человек, выдержать не мог – 12 тысяч означало верную смерть задолго до окончания наказания. Николай это прекрасно понимал.
Документ, воспроизведенный Покровским, был не единственным подобным в практике Николая Павловича. Когда Лев Николаевич Толстой собирал материал для повести «Хаджи-Мурат», Владимир Васильевич Стасов, служивший в Публичной библиотеке и помогавший ее директору Корфу собирать материалы для биографии Николая I, передал писателю сходную резолюцию императора, на которой Толстой построил одну из сцен повести. Это была резолюция на судном деле студента-поляка, который в истерическом припадке бросился с перочинным ножиком на профессора, явно над ним издевавшегося. Профессор фактически не пострадал, но дело дошло до государя.
Здесь мы забежали вперед. Но слишком многое в царствовании Николая Павловича завязалось в то время, когда он допрашивал схваченных мятежников, а затем обрекал пятерых на позорную казнь.
Из записных книжек Петра Андреевича Вяземского
19 июля 1826 года
…13-е число (день казни пятерых декабристов. – Я. Г.) жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го. По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оного. Одна совесть, одно всезрящее Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные. Правительство должно обеспечить государственную безопасность от исполнения подобных покушений, но права его не идут далее. Я защищаю жизнь против убийцы, уже подъявшего на меня нож, и защищаю ее, отъемля жизнь у противника, но если по одному сознанию намерений его спешу обеспечить свою жизнь от опасности еще только возможной лишением жизни его самого, то выходит, что убийца настоящий не он, а я. Личная безопасность, государственная безопасность, слова многозначительные, и потому не нужно придавать им смысл еще обширнейший и безграничный, а не то безопасность одного члена или целого общества будет опасностью каждого и всех…
22 июля 1826 года
Помышление о перемене в нашем политическом быту роковою волною прибивало к бедственной необходимости цареубийства и с такою же силою отбивало, а доказательство тому: цареубийство не было совершено. Все осталось на словах и на бумаге, потому что в заговоре не было ни одного цареубийцы. Я не вижу их и на Сенатской площади 14 декабря, точно так, как не вижу героя в каждом воине на поле сражения. Вы не даете Георгиевских крестов за одно намерение в надежде будущих подвигов: зачем же казните преждевременно и за одну убийственную болтовню… ставите вы на одних весах с убийством, уже совершенным. Что за Верховный суд, который, как Немезида, хотя и поздно, но вырывает из глубины души тайные и давно отложенные помышления и карает их как преступление налицо!
Из книги Александра Ивановича Герцена «Былое и думы»
Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.
Все ожидали облегчения в судьбе осужденных, – коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха. Николай уехал из Петербурга и, не въезжая в Москву, остановился в Петровском дворце…. Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля.
Народ русский отвык от смертных казней: после Мировича, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь de jure[11] не существовала. Рассказывают, что при Павле па Дону было какое-то частное возмущение казаков, в котором замешались два офицера. Павел велел их судить военным судом и дал полную власть гетману или генералу. Суд приговорил их к смерти, но никто не осмелился утвердить приговор; гетман представил дело государю. «Все они бабы, – сказал Павел, – они хотят свалить казнь на меня, очень благодарен», – и заменил ее каторжной работой.
Николай ввел смертную казнь в наше уголовное законодательство сначала беззаконно, а потом привенчал ее к своему своду.
Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле. (Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил Бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля. Никогда виселицы не имели такого торжества; Николай понял важность победы!..) Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное – глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены; он «пребывал к ним благосклонен», не больше.
Коронация
Из «Записок» Модеста Андреевича Корфа
Одним из пламеннейших, весьма естественных желаний императора Николая при вступлении его на престол было – чтобы при коронации в Москве присутствовал и великий князь Константин Павлович; но, давая только угадывать это желание, он не решался облечь его в форму просьбы и тем менее положительной воли. Князь Любецкий, в то время министр финансов Царства Польского, отважился сделать это за него.
«Отъезжая тогда в Варшаву, – рассказывал он мне впоследствии, – я при прощании с государем и при выраженном им желании увидаться скорее с братом осмелился сказать:
– Государь! Нужно, чтобы он приехал к коронации в Москву; надобно, чтобы тот, кто уступил вам корону, приехал возложить ее на вас в глазах России и Европы.
– Это вещь невозможная и невероятная.
– Она будет, государь!
– Во всяком случае, приехав в Варшаву, сходите поцеловать от меня ручки княгине Лович.
Я понял этот намек, – продолжал князь Любецкий, – и по приезде в Варшаву обратился прямо к княгине Лович. Сильное ее влияние убедило великого князя неожиданным своим приездом в Москву обрадовать государя и успокоить Россию».
Из воспоминаний очевидца коронации Николая I
Москва, 22 августа 1826 года
В пять часов утра, тихого и уже светлого от пышной розовой зари, спешили мы встать, одеться и ехать. Безветренный воздух дышал свежестию; ни малейшее облако не оттеняло чистого небесного свода, и скоро солнце присутствием своим украсило день достопамятный. Казалось, вся природа безмолвно ожидала торжества земли Русской. Но Москва радостным шумом представляла разительную противоположность с тишиною неба: на улицах, на площадях теснились несчетные толпы народа, гремели экипажи. На Ильинке уже нельзя было проехать: кареты спирались, одна за другою, и кто не хотел или не мог ждать, должен был пешком пробираться между людьми, лошадьми и колесами. Так пришлось и нам. Обширная Красная площадь подобилась волнующему морю: не сотни, а тысячи валили к стенам величественного Кремля. Входим внутрь его: и там уже, от Спасских ворот до Троицких и от Никольских до Тайницких, все наполнено, все кипит народом. Спешим к местам, назначенным для зрителей: полиция не успевает отбирать билеты; прилив увеличивается с минуты на минуту.
Мы достигнули одного из амфитеатров. Их можно было уподобить горам, усеянным цветами, бесконечно разнообразными: тут были наряды Европы и Азии, обоего пола, разного возраста и всяких званий. Часы длились в нетерпеливом ожидании. Наконец пушечные выстрелы возвестили приближение вожделенного времени. Площадь между церквами и амфитеатрами покрылась отрядами всех полков гвардии: движение бесчисленных шляп, киверов, касок подобилось то легкому колебанию колосьев от тихого ветерка, то быстрому течению речных струй; разноцветные мундиры являлись в полном блеске при лучах солнца, которые играли на золотом убранстве военачальников и скользили по светлой стали густого леса ружей. Все переходило, строилось по обеим сторонам помоста, устланного алым сукном для высочайшего шествия; позади, за рядами воинства, толпился народ в беспрерывном движении: всяк желал найти для себя лучшее место, искал и часто возвращался на прежнее.
Разделяя свои мысли и чувства с моим товарищем, я заметил сильное движение у Красного крыльца; но Успенский собор заслонял от меня большую его половину, и я видел только, как богатый балдахин из золотой и серебряной парчи двинулся от крыльца к собору. Мне сказали, что под ним шествует императрица Мария Федоровна. Еще несколько минут, и с появлением другого великолепнейшего балдахина, при всеобщем колокольном звоне, я узнал о шествии императора с августейшею супругою. Оно скрылось также вдалеке за стенами собора. Как завидовал я счастливцам, которые имели возможность быть внутри самого храма свидетелями таинственных минут наития Святого Духа на российского самодержца, где ангельские хоры повторяли усердную молитву верноподданных да силою Господнею возвеселится царь, и где наш венценосец, помазуясь миром всеосвящающей благодати и моля Вышнего, да управит царство его в преподобии и правде, вручал Ему и сердце свое, и народ свой.
Загремели колокола и пушки в знамение, что свершился обряд священный и с ним желание необъятной России. Затем снова наступила всеобщая тишина: в соборе свершалась божественная литургия. Она окончилась… и какое опять волнение везде! какое нетерпение увидеть царя своего в венце предков Его! Самые отдаленные толпы закипели, нахлынули рекою, стеснились к амфитеатрам… но скоро порядок восстановлен, и тут мы насладились зрелищем несравненным: торжественный выход из Успенского храма был прямо виден с того места, где мы стояли. С амфитеатров и отовсюду неслись восклицания радости, заглушая собою пение церковное, и скоро потом, за всею необозримою великолепною свитою, за духовенством, вельможами воинскими и гражданскими, явился государь в блистательной алмазной короне, в порфире царской, со скипетром и державою. Взоры всех были устремлены с жадностию на помазанника Господня; а в светлых взорах его блистало смиренное величие христианского владыки. И не нужно было угадывать его чувств при виде бесчисленного множества детей, Промыслом врученных его сердцу. Сопровождаемый августейшими братьями, он тихо упреждал балдахин, под которым шла государыня императрица Александра Федоровна, в меньшей короне. Шестнадцать генерал-майоров несли балдахин и столько же генерал-лейтенантов придерживали его за золотые кисти. Звук музыки военной, гром пушек, колокольный гул с Ивана Великого и со всех церквей столицы и непрерывное, радостное ура! производили в душе невыразимое чувство. И столь роскошная картина озарялась полным сиянием солнца, еще умножавшего собою блеск золота, серебра, драгоценных камней и особенно венца императорского.
Их величества шествовали в Архангельский собор приложиться к почиющим в нем святым мощам и поклониться праху своих предков; потом в Благовещенский. На время их моления там прекращались восклицанья, колокольный звон и гром артиллерии – только военная музыка играла гимн Боже, Царя храни!, а по выходе их оттуда пальба и звон и ура возобновлялись, сопровождая венценосную чету на Красное крыльцо. С сего возвышенного места, почтенного воспоминаниями, сладостными для сердца русского, их величества кланялись восторженным зрителям, принимая от них громкие приветствия, которые долго, долго потом раздавались в воздухе. Древний Кремль жил новою жизнию при новом торжестве своем и, в сей лучезарный полдень красуясь жаром золотых куполов своих, еще более сиял радостию доброго русского народа. Быстро пронеслась она до крайних пределов Отечества. Ей откликнулось эхо Кавказа, Урала, Алтая; ей соплескали волны осьми нам послушных морей.
Император
Император как государственный человек
Из книги Николая Ивановича Тургенева «Россия и русские»
Известно, что в России существует абсолютная монархия, но, на мой взгляд, недостаточно известно, что русский царь – это самодержец в полном, нелепом и ужасном смысле этого слова. Ни один из более или менее упорядоченных видов правления, которое принято называть неограниченным, не может сравниться с Россией, где всю власть воплощает в своей особе император. Во всех подобных странах было и есть какое-нибудь сословие, какие-нибудь традиционные учреждения, заставляющие государя в известных случаях поступать так, а не иначе и ограничивающие его причуды; в России ничего подобного нет.
Из дневника сенатора Павла Гавриловича Дивова. 1826
14 июля. Нам было объявлено приказание собраться к 6½ часам утра в Адмиралтейскую церковь, чтобы отправиться оттуда, с духовенством, на Сенатскую площадь, где должны были отслужить благодарственный молебен о спасении отечества от гибели, которою ей угрожал заговор 14 декабря. Я приехал к назначенному часу; нас было немного. Войска окружали походную церковь, поставленную возле статуи Петра Великого. Императрица подъехала к церкви Адмиралтейства в экипаже. Оттуда мы двинулись пешком, предшествуемые духовенством, к походной церкви, которая была приподнята над мостовой на шесть ступеней. Отслужили литургию, в которую была вставлена лития по жертвам 14 декабря. По окончании богослужения митрополит, в сопровождении духовенства, обошел ряды войска, окропляя его святою водою. Император следовал за митрополитом верхом, а императрица проехала перед фронтом в экипаже. Вся церемония совершилась в величайшем порядке; молитва с коленопреклонением произвела большое впечатление. […]
Император Николай вступил на престол в тот момент, когда разразилась буря, усмиренная его умом. Благодаря Бога, он энергичнее своего предшественника, но, продолжая до известной степени ошибки, сделанные его братом, он может все более и более запутаться в пагубных последствиях, какие они повлекут за собою. Последствия эти будут неизбежны по самой силе вещей, и побороть их не в силах одного человека. […]
С другой стороны, бросив взгляд на внутреннее управление империей, сердце сжимается, когда видишь в нем полное отсутствие единодушия. Какие лица пользуются доверием императора? именно те, которые виновны во всех бывших беспорядках. Князь Александр Голицын развратил всю Россию своей шайкой иллюминатов, коих он является послушным орудием. Молодые адъютанты смотрят на все через известную призму и действуют в духе тех лиц, которые готовы все разрушить и ниспровергнуть. Император горячо желает добра; об этом свидетельствуют все меры, принятые им по гражданскому и военному ведомствам; они доказывают в то же время, что государь убежден в том, что зло существует, и что он желает искоренить его, но как-то он возьмется за это? Он, видимо, старается узнать истину и убежден в том, что необходимо усилить надзор тайной полиции. Поэтому он и присоединил ее к своей собственной канцелярии, изъяв ее из ведомства Министерства внутренних дел.
Несмотря на всю свою самодержавность, Николай Павлович понимал, что действия надо сообразовывать с реальными обстоятельствами. Все зависело от того, как он воспринимал эти обстоятельства.
Существует устойчивое мнение, что деспотический характер николаевского царствования был спровоцирован мятежом 14 декабря, который тяжело травмировал сознание молодого императора и приучил его к мысли, что только неколебимая неизменность государственного устройства и опоpa на силу могут дать России спокойствие и порядок.
Это – ложное убеждение.
События декабря 1825 – января 1826 года, когда после мятежа в Петербурге на Юге восстал Черниговский полк, действительно потрясли его, напомнив о страшной судьбе деда и отца, о сокрушительных выступлениях гвардии, решавшей судьбу престола.
Но события эти сыграли и еще одну, не менее важную роль – они показали вчерашнему дивизионному генералу, что в государстве все совсем не так благополучно, как ему казалось, и что для подлинной стабильности нужны какие-то реформы.
Он приказал правителю дел Следственной комиссии А. Д. Боровкову составить выборку из показаний мятежников – свод их мнений, как критических соображений, так и предложений конструктивных. Один экземпляр этого свода он держал у себя на столе, а другой передал председателю созданного им секретного «Комитета 6 декабря 1826 года» графу В. П. Кочубею, участнику конституционных замыслов первых лет александровского царствования.
Из книги Модеста Андреевича Корфа «Жизнь графа Сперанского»
Оставшимся в живых из числа сподвижников первых лет царствования императора Николая I еще памятен особый комитет, которому потом, в его собственных актах и сношениях с ним государя… было дано название комитета 6 декабря 1826 года, по дню его учреждения. Этому комитету, составленному первоначально из графа Кочубея, князя А. Н. Голицына, графа Петра Александровича Толстого, Иллариона Васильевича Васильчикова и Сперанского, государь, в собственноручной записке, поручил: «1) Пересмотреть бумаги, найденные в кабинете императора Александра; 2) пересмотреть нынешнее государственное управление; 3) изложить мнение: а) что предполагалось, б) что есть, в) что оставалось бы еще кончить; 4) изложить мнение: что нынче хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить; 5) материалы к сему употребить: а) то, что найдено в кабинете, б) что Балашову[12] поручено было, в) то, что члены сами предложат».
Уже из одной этой краткой инструкции видно, к какому огромному, почти необъятному кругу соображений призывался новый комитет. Но ни в бумагах, найденных в кабинете императора Александра, ни в предположениях Балашова не открылось почти ничего, чем можно было бы воспользоваться. Поэтому членам оставалось обратиться только к третьему разряду материалов из числа указанных государем, т. е. сообразить самим, что могло бы представиться полезным и нужным исправить или ввести.
Здесь Сперанский, с обыкновенною своею уклончивостью и с своим даром владеть людьми, умел не только сделаться главною пружиною комитета, но и направить его к некоторым из прежних своих организационных идей, разумеется, насколько они могли соответствовать переменившимся обстоятельствам, в особенности же характеру и намерениям нового монарха. С свойственною ему энергетическою неутомимостью он нашел в себе достаточно сил рядом с огромными работами по II отделению государевой канцелярии нести и эту.
«Не уновлениями, – писал он в одной из своих записок, сделавшейся потом программою всех дальнейших действий комитета 6 декабря, – но непрерывностию видов, постоянством правил, постепенным исполнением одного и того же плана устрояются государства и совершаются все части управления. Следовательно, продолжать начатое, довершать неоконченное, раскрывать преднамеренное, исправлять то, что временем, обстоятельствами, попущением исполнителей или их злоупотреблениями совратилось с своего пути, – в сем состоит все дело, вся мудрость самодержавного законодателя, когда он ищет прочной славы себе и твердого благосостояния государству. Но продолжать начатое, довершать неоконченное нельзя без точного удостоверения в том, что именно начато и не окончено, где и почему остановилось, какие встретились препятствия, чем отвратить их можно». Выведя отсюда, что комитет должен иметь главною целью пересмотреть предположения, возникавшие, по разным частям управления, в прежнее время, Сперанский так означил сущность и ход предлежавших занятий: Предметы комитета: 1) обозрение учреждений государственных (совета, сената и министерств) и губернских, со стороны их истории, перемен в последние двадцать пять лет, настоящего положения, коренных свойств и мер усовершения; 2) обозрение разных частей управления, и именно: а) дел финансовых: податей, земских повинностей, пошлин, государственных имуществ, движения внутренней и внешней торговли и фабрик и кредитных установлений, и б) законов земских, или о частной собственности, о правах различных состояний, о праве вещественном и личном и о порядке судопроизводства. Образ действия: 1) собрание полных сведений о всех предметах, подлежащих рассмотрению; 2) составление исторических изложений, с замечаниями о неудобствах и о мерах исправления; 3) разбор прежних проектов; 4) постановление главных начал исправления в журналах комитета, подносимых на высочайшее усмотрение; 5) изготовление, по одобренным государем началам, подробных положений; 6) сообщение последних подлежащим начальствам и исправление по их замечаниям; 7) внесение исправленных положений в Государственный совет. Порядок исполнения: соединение всех пройденных предметов в кабинете государя, с тем чтобы все новые положения были обращены к исполнению не иначе, как в общей их совокупности и в одну определенную эпоху, когда своды законов для каждой части будут готовы. «Сим только образом, – заключал автор записки, – можно удостоверить полное их действие. Из сего правила, по настоятельности нужд, могут быть допущены некоторые изъятия; но чем менее будет сих изъятий, тем будет лучше и надежнее».
На этих основаниях, в которых так сильно отражалась часть мыслей прежнего государственного секретаря, приспособленных, впрочем, к новым обстоятельствам, но в которых, к сожалению, не довольно обращалось внимания на контроль практики и на образ и средства исполнения посредством местных властей, были составлены Сперанским и потом обсуждены в комитете 6 декабря проекты новых образований для разных частей и степеней управления; но окончательное утверждение получил из них только один новый закон о выборах и собраниях дворянства, который, по рассмотрении его в Государственном совете, был обнародован при манифесте 6 декабря 1831 года.
Из письма Александра Сергеевича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому. 16 марта 1830 года
Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции революции Петра… Правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных – вот великие предметы.
Казалось, Николай на пороге умеренных, но благотворных реформ. Надеждам Пушкина не суждено было сбыться. Против реформ решительно выступил великий князь Константин. Произошла революция в Париже. Начался мятеж в Польше. Проекты комитета 6 декабря 1826 года, душой которого был Сперанский, положены были под сукно.
Из «Записок» офицера, участника русско-турецкой войны 1828–1829 годов Иосифа Петровича Дубецкого
Император Николай Павлович был тогда 32-х лет. Высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью. В физическом отношении он превосходил всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии.
Николаю не пришлось принять участие в боевых действиях 1813–1815 годов, хотя он мечтал об этом и рвался в действующую армию.
Генерал, не нюхавший пороху, он чувствовал свою ущербность по сравнению со своими генералами и офицерами – ветеранами наполеоновских и турецких войн.
Ему нужна была война, чтобы как-то компенсировать собственную воинскую неполноценность.
Персидская война 1826–1827 годов в Закавказье была войной специфической, вязкой, требующей особых – не европейских – приемов. А он только что вступил на престол и осваивался в новом положении.
Но зато когда стала неизбежна очередная турецкая война, он твердо решил использовать ситуацию для того, чтобы реализовать полководческие амбиции и создать себе соответствующую репутацию в глазах армии.
Из воспоминаний Виктора Михайловича Шимана
Военных и все военное государь отличал и любил по преимуществу; войска в строю, мундир и воротник, застегнутые на все крючки и пуговицы, военная выправка и руки по швам тешили его глаз… Николай Павлович любил окружать себя военными и всегда и во всем отдавал им предпочтение. Ни у одного из русских императоров не было столько флигель-адъютантов, свиты генерал-майоров и генерал-адъютантов, сколько у него, и ни у кого не было так много министров в военном мундире. Несомненно, что трех своих министров, носивших гражданские чины, он с удовольствием заменил бы военными, если бы нашел между сими последними специалистов, способных принять их портфели.
Но в отличие от своих отца и старшего брата, фанатиков фрунта и парада, Николай и в самом деле был военным профессионалом. Во всяком случае, знающим и дельным военным инженером, мечтавшим испытать себя в боевой обстановке.
Из записки Александра Христофоровича Бенкендорфа «Император Николай I в 1828–1831 годах»
Еще император Александр в последние минуты своей жизни предусматривал печальную необходимость войны с Портою, которая уклонялась под разными предлогами от исполнения трактата 1812 года. Наша борьба насмерть с Наполеоном… образование нового Царства Польского по необходимости отвлекли императора и его кабинет от восточных дел. […]
В таком переходном положении нашел император Николай это дело при вступлении своем на престол. Торговля России подвергалась разным препятствиям и даже стеснениям. Нельзя было оставаться в подобной, уничижительной для России нерешимости, тем более что притязания Дивана все возрастали соразмерно с нашей медленностью в отстранении их.
С другой стороны, государь, обремененный разными трудами и заботами, наследованными от своего предшественника, отвращался от мысли увеличить трудность нового царствования войною. […] Вследствие того он, еще в 1825 году, предложил разобрать возникшие между обеими державами недоразумения полюбовно, в дипломатической конференции. Турция согласилась на то, в надежде еще оттянуть дело или достигнуть каких-либо изменений в трактате. Конференции происходили в Аккермане… […] После разных проволочек и ухищрений со стороны Порты положили наконец то, что, казалось, обещало сохранению мира или, по крайней мере, удалению разрыва. Но […] сущность дела оставалась по-прежнему неразрешенною, и весь ход переговоров явно обнаруживал неискренность Дивана и чаяние им лучшей будущности. Греческие дела раздражали против нас Порту. […] Порта продолжала считать Россию возбудительницей бунта в Дунайских княжествах и пособницей греческого восстания.
Посреди стечения взаимных неудовольствий и недоверчивости Европу вдруг поразило неожиданное известие о кровавой Наваринской битве. Наш флот, вместе с английским и французским, сражался против оттоманского, сжег его, захватил турецкие суда и матросов. Как было изъяснить, что этот лютый бой, истребивший соединенные морские силы Турции и Египта, произошел единственно от недоразумения и не должен иметь никакого влияния на прервание доброго согласия между сказанными кабинетами и константинопольским двором? Нужно ли прибавлять, что такое странное изъяснение трудно было Порте понять и еще труднее с ним согласиться.
С этого времени отношения к нам Турции стали еще хуже; наша торговля подверглась новым притеснениям, данные в Аккермане обещания остались неисполненными, и, наконец, явный разрыв был неминуем.
Начались приготовления к войне, и в конце зимы с 1827 на 1828 год гвардия, за исключением кирасирской дивизии и по одному батальону с каждого полка, выступила из Петербурга. […]
Император Николай, пожелав лично участвовать в этой войне, оставил Петербург в последних числах апреля. […]
…Свиту составляли только генерал Адлерберг и врач. Обер-церемониймейстер граф Станислав Потоцкий, назначенный исправлять во время похода должность гофмаршала военного двора, уехал уже прежде. Точно так же отправлены были вперед весь багаж, с палатками, конюшнею и кухнею, а равно флигель-адъютанты и вся государева главная квартира, с приказанием ожидать дальнейших распоряжений в Измаиле.
Сверх того, следовали к армии, по высочайшему соизволению, министр иностранных дел граф Нессельроде с нужным числом высших чиновников; Васильчиков, Ланжерон и несколько других почетнейших генералов, французский посол герцог Мортемар, с многочисленною свитою; генерал австрийской службы принц Гессен-Гомбургский с несколькими офицерами; прусский генерал Ностиц и, наконец, посланники: ганноверский – Дёрнберг и датский – Блум.
Государь ехал день и ночь и остановился только на двое суток в Елисаветграде для осмотра уланской дивизии, принадлежавшей к военным поселениям под начальством графа Витта. Отсюда мы продолжали путь через Бендеры к Водули-Исакчи на границе империи. Тут ожидали нас граф Потоцкий, приехавший нарочно из Измаила, с прекрасным обедом, и мой брат[13], который, едва возвратясь из персидской кампании, готовился уже начать новую. Мы задыхались от жары, несмотря на то, что было только 7 мая. Государь ступил на турецкую землю при ярко сиявшем солнце и без всякого конвоя, имея в свите только меня и фельдъегеря, и прибыл поздно вечером в лагерь под осажденный великим князем Михаилом Павловичем Браилов.
На другое утро государь объехал верхом все войска, к живой радости солдат, которые впервые видели своего молодого царя, явившегося ободрять их и разделить с ними труды и опасности. Со времен Петра Великого император Николай был первым из русских монархов внутри владений Оттоманской Порты.
Под Браиловым же государь сильно занемог горячкою, опасность и упорность которой в этих краях довольно известна. Благодаря, однако же, его крепкому сложению и чрезвычайной умеренности в пище он скоро встал с постели, и наши опасения рассеялись.
Государь осмотрел все начатые осадные работы и торопил их окончанием. Когда главная батарея (№ 2), вооруженная 12 осадными и 12 батарейными орудиями, представлявшая, по близости ее к стенам крепости, почти брешь-батарею, была совсем кончена, государь на рассвете пришел на нее, чтобы лично удостовериться в ее действии. Огонь с этой батареи был так силен, что неприятель несколько времени не отвечал на него; но когда, опомнясь от первого испуга, он заметил на ближайшем кургане множество людей, в числе которых находился государь со свитою, то направил туда свои выстрелы и стрелял так метко, что многие ядра ударялись в основание возвышения, а некоторые даже перелетали через него и попадали в стоявших тут верховых наших лошадей. Это были первые ядра, летавшие вокруг государя. Нам стоило продолжительных усилий и многих трудов уговорить его оставить это место, сделавшееся целью неприятельского огня. Оттуда он пошел в лагерь 7-го корпуса и лично раздавал георгиевские кресты отличившимся при подступе к крепости, предместия которой были заняты штыками. Он заботливо обходил раненых и больных, приказывал раздавать им деньги, вникал в малейшие подробности касательно пищи солдат и попечения о них. Добрый и приветливый со всеми, он оставил по себе в войсках благоговейную память благодарности, которую потом они выразили на деле самым блестящим образом.
Пробыв несколько дней среди осадного браиловского лагеря, государь возвратился к границе.
В Водули-Исакчи он вышел из коляски и, показывая собою пример повиновения законам, подвергся всем окуркам и очищениям, установленным для прибывающих из княжеств. Потом мы отправились в Бендеры, куда приехала императрица. […]
Браилов сдался со всем своим военным имуществом, и великий князь (Михаил Павлович. – Я. Г.), с частию бывших у него войск, присоединился к главной армии, действовавшей под начальством государя.
Жары начинали сильно утомлять солдат; мало было воды, и та дурная; заросшие камышом болота распространяли вредное зловоние; трава погорела; для огромной массы лошадей уже оказывался недостаток в фураже; многие тысячи волов, перевозивших провиант и резервные парки, за неимением достаточных пастбищ, худали, делались неспособными к извозу и издыхали в пути, еще более заражая воздух.
Государь съездил в Кистенджи, в сопровождении лишь нескольких казаков, и отдал приказание об устроении там госпиталей, как и о выгрузке провианта, привезенного на купеческих судах.
Спустя несколько дней сняли лагерь при Карасу, и армия отправилась к Базарджику.
Этот маленький городок, брошенный жителями и окруженный множеством кладбищ, представлял наглядный образ опустошения и смерти. Неприятель перед уходом испортил там все фонтаны и колодцы, завалив их сором и мешками с мылом, так что не было возможности брать из них воду без крайнего вреда для здоровья. […]
Войска двинулись к избранному пунктом переправы местечку Сатунову, лежащему напротив маленькой турецкой крепости Исакчи, чтобы там выждать время, когда Дунай войдет в берега. На дороге, в Белграде, государь осмотрел 3-й корпус, состоявший под командою генерала Рудзевича.
В Сатунове мы впервые раскинули императорский лагерь, который сам по себе походил на целый городок. Сверх всей свиты и иностранных послов и генералов, в нем находились, для его охранения и вместе как резерв, два пехотных полка, десять артиллерийских рот, три эскадрона жандармов, столько же гвардейских казаков, сотня казаков Атаманского полка и целый армейский казачий полк.
Маркитанты, рестораторы и торговцы всякого рода увеличивали еще его многолюдство. Вся эта команда, с которою нелегко было управляться, состояла под моим начальством. В первые дни часто приходилось сердиться и браниться; потом все обошлось, и дело устроилось к удовольствию государя и всех жителей этой кочевой столицы.
Между тем производились исполинские работы для отвращения препятствий, представлявшихся к переправе разливом Дуная, который в этом году, от чрезвычайно дождливой весны, был необыкновенно полноводен. Чтобы добраться до его берега, принуждены были возвести плотину на протяжении нескольких верст, посреди воды и в топком, илистом грунте; на оконечности этой плотины, для охранения ее и вместе для расположения батареи, долженствовавшей защищать нашу переправу, вывели вал. […]
Государь все деятельно ускорял минуту переправы. Понтоны и большие барки, приготовленные для плавучего моста, ждали у устья маленькой речки сигнала ко входу в Дунай. Гребные флотилии, наша и новых наших подданных запорожцев, приблизились, против течения, к месту переправы. Батарея на берегу была вооружена орудиями; полки, которым следовало идти в головах колонн, подошли к плотине, и все меньшие суда находились между камышами и кустами, покрывавшими наш берег.
Наконец 27 мая, на рассвете, государь со всею своею свитою отправился на оконечность плотины. Два Егерских полка из корпуса генерала Рудзевича первые взошли на транспортные суда. Турки не замедлили отвечать на выстрелы, которые, для прикрытия переправы, вдруг посыпались и с нашей флотилии, и с батареи. Запорожские лодки, более легкие, чем наши, пристали к неприятельскому берегу прежде всех других. Кустарник и глубокая топь, вследствие разлива реки, чрезвычайно затрудняли и высадку, и всякое движение вперед; начальник штаба 2-й армии генерал-адъютант Киселев, генерал князь Горчаков и командиры полковые и баталионные первые вошли в воду по пояс; за егерями следовали другие полки, и вскоре кусты и болота были пройдены под убийственным огнем; после чего наши войска выстроились на открытой местности, напротив гораздо многочисленнейшего неприятеля, которого сила еще увеличивалась возвышенными его укреплениями.
Государь хотел сам бежать на батарею и уже дошел до такого пункта, который обстреливали неприятельские ядра; граф Дибич едва мог склонить его удалиться оттуда на возвышение, на котором он прежде стоял и с которого видны были все движения наших войск, флотилии и турок. […]
Государь, в нетерпеливости своей, побежал к берегу и, пока суда продолжали подвозить подкрепление отрядам, уже овладевшим высотами, велел наводить мост. Поощряемые его присутствием, пионеры принялись за дело с беспримерным жаром. Но он не дождался наведения моста и, в виду еще не сдавшейся и защищаемой сильным гарнизоном крепости, сел в шлюпку запорожского атамана. Последний сам стоял у руля, а двенадцать его казаков гребли. Этим людям, так недавно еще нашим смертельным врагам и едва за три недели перед тем оставившим неприятельский стан, стоило лишь ударить несколько лишних раз веслами, чтобы сдать туркам, под стенами Исакчи, русского самодержца, вверившегося им в сопровождении всего только двух генералов. Но атаман и его казаки были в восторге от такого знака доверия. […]
Близ Енибазара, где уже стоял наш авангард, государь поднялся на высокий пригорок, откуда явственно открывались высоты Шумлы, линия ее укреплений, которые, быв выведены из известкового камня, казались длинною белою лентою, наконец – неприятельские лагери, расположенные на двух высотах, фланкирующих эту обширную и важную крепость.
Его величество приказал раскинуть свою палатку у подошвы этого пригорка; на широкой долине, расстилавшейся перед ним, разместилась наша армия, а впереди ее – казачьи аванпосты, а против них – турецкие, за которыми тянулся их лагерь, прикрывавший Шумлу. Государь имел, наконец, перед собою главные неприятельские силы и лично распоряжал приготовлениями к бою.
В этом, статься может, была сделана ошибка, за которую ответственность лежала единственно на начальнике Главного штаба графе Дибиче, – ошибка, состоявшая в том, что военную репутацию молодого нашего монарха, его первые опыты полководческих дарований подвергали всем случайностям неровного состязания. Турки, обильно всем снабженные, находясь на собственной земле, вблизи от необходимых пособий, имея повсюду открытые для себя сообщения, насчитывали в рядах своих с лишком 80 000 человек и занимали укрепленную позицию. Наша же армия, напротив, отделенная реками и значительным пространством от всех своих источников снабжения, ослабленная в численности после занятия Молдавии и Валахии, оставлением гарнизонов в завоеванных крепостях и отрядов для блокирования других, утомленная переходами, – считала под ружьем, за исключением больных, менее 30 000 и стояла на позиции не слишком выгодной. Туркам предстояло выдержать здесь последнюю борьбу с нашими орлами, и легко могло случиться, что русскому царю, как некогда Петру Великому на Пруте, придется уступить числу и преклониться пред султаном. Несмотря на все это, решено было атаковать неприятеля.
8 июля с утра граф Дибич пошел с несколькими дивизиями в обход правого неприятельского крыла, а остаток армии, под личным предводительством государя, двинулся, в нескольких каре, прямо на Шумлу. Турки, оттянувшись до высот, образующих как бы занавес перед городом, развернули тут свою артиллерию. В этой позиции, с гребня возвышенности, до которой нам надо было добираться по длинной отлогости, турецкая артиллерия могла действовать с несравненным превосходством против нашей.
Государь, с необыкновенным хладнокровием и всею выдержкою старого воина, управлял движениями и отдавал приказания с такою же точностию, как бы на маневрах. […] С нашего пригорка видны были каждая атака с той и другой стороны, каждый пистолетный выстрел. Государь покойно выжидал благоприятной минуты для нападения на центр. После стычки у небольшой речки, защищавшей подступы к позиции, наши егеря рассыпались в стрелковый строй по ту ее сторону, и государь двинул массу пехоты для окончания дела. Мужественно атакованный на всех пунктах, неприятель начал отступать; пользуясь, однако же, местностью, находившейся под огнем артиллерии, он исполнил свое движение довольно в порядке и, неторопливо оставляя нам поле сражения, возвратился к своей превосходной укрепленной позиции, за стенами и крутыми горами Шумлы. […]
Государь отблагодарил всех, велел заняться ранеными и, наряду с солдатами, провел эту ночь на бивуаках.
Трудно сказать, насколько характеристика, данная Бенкендорфом Николаю-полководцу, соответствует действительности. Это был первый и последний опыт руководства войсками в практике императора. Но совершенно очевидно, что для самоуважения, для того, чтобы почувствовать себя не просто «генералом мирного времени», но военным человеком в точном смысле этого слова, Николаю этот опыт был необходим.
Вообще, есть подозрение, что его форсированная брутальность, его военно-спартанский стиль жизни призваны были подавить некоторую неуверенность в себе, которая скрывалась за этим грозным фасадом…
Постепенно он уверовал в свою избранность, свою непогрешимость, но в первые годы царствования рискованные решения давались ему с трудом.
Император и Ермолов
Еще до турецкой войны ему пришлось решить весьма непростую задачу – убрать с Кавказа и вообще с политической сцены едва ли не самого популярного в то время генерала – Алексея Петровича Ермолова.
Из воспоминаний адъютанта Ермолова, Павла Христофоровича Граббе
Он [Ермолов] отправился… главнокомандующим на Кавказ и послом в Персию. Взоры целой России обратились туда. Все, что излетало из уст его, стекало с быстрого и резкого пера его, повторялось и списывалось во всех концах России. Никто в России в то время не обращал на себя такого общего и сильного внимания… Преданность, которую он внушал, была беспредельна.
Николай не любил Ермолова еще с юности. Ермолов, единственный из высшего генералитета, позволял себе перечить императору Александру. Было у него столкновение в Париже и с великим князем Николаем Павловичем.
Императора Николая раздражала популярность Ермолова. Но главное было не в этом – он всерьез подозревал «проконсула Кавказа» в связях с заговорщиками из тайных обществ.
Из письма великого князя Николая Павловича начальнику Главного штаба Ивану Ивановичу Дибичу. 12 декабря 1925 года (в ответ на известия о заговоре)
Что будет в России? Что будет в армии?
…Я вам послезавтра, если жив буду, пришлю, – сам еще не знаю кого, – с уведомлением, как все сошло; вы тоже не оставьте меня уведомить о всем, что у вас или вокруг вас происходить будет, особливо у Ермолова… Я, виноват, ему менее всего верю.
Николаю чрезвычайно помогла в этом отношении персидская война. Несмотря на постоянную напряженность между Россией и Персией, о которой неоднократно доносил в Петербург Ермолов, Кавказский корпус, разбросанный на большом и сложном пространстве, оказался не готов к немедленному отпору. Первоначальные успехи персидской армии дали Николаю право выразить Ермолову свое недоверие и послать на Кавказ любимого своего генерала, под началом которого он служил великим князем, – Ивана Федоровича Паскевича. Формально Паскевич должен был находиться в подчинении Еpмолова, но в перспективе Николай твердо решил заменить им Алексея Петровича.
Паскевич, генерал профессиональный и решительный, получив от Ермолова в подчинение двух лучших кавказских генералов – Мадатова и Вельяминова, – и закаленные батальоны, в тяжелом сражении разгромил персов под Елизаветполем.
Ермолов понимал, с какой целью прислан был Паскевич, и отношения двух генералов категорически не сложились.
Тогда Николай отправил на Кавказ со специальной миссией начальника Главного штаба Дибича. Когда-то они трое – Ермолов как старший, Паскевич и Дибич – разгромили в знаменитой битве при Кульме (1813) корпус маршала Вандама, что и решило судьбу Наполеона…
Из письма Николая I генералу Ивану Федоровичу Паскевичу. 31 января 1827 года
Давно я к Вам не писал, любезный Иван Федорович; я ждал случая к Вам писать совершенно на свободе, что времени мне не было исполнить досель.
Я с большим любопытством и вниманием читал все Ваши донесения, часто разделял Ваше мнение и с сожалением видел, что часто с наилучшими намерениями не всегда можно вести к цели желаемой предпринятое дело, Вы меня верно понимаете, Вы все исполнили, чего требовать я мог, и, поверьте, ценю Ваше усердие и желание пользы; прочее не в Ваших силах было. Чрез Вас узнал я настоящее положение вещей и поэтому должен принять решительные меры. Вслед за Опперманом будет к Вам г. Дибич, что я вам одним даю знать. Его приезд должен быть неожидан, и потому я прошу Вас хранить сие в тайне и не показывать по приезде его, чтоб Вы об том прежде знали. Он мной совершенно уполномочен действовать, как обстоятельства потребуют; я все надеюсь, что с Вашим усердием и опытностью может все придти в должное положение, быв настроено начальником моего штаба. Прочее он Вам сам объяснит. Если же иные меры нужны будут, моя воля решительна, и ничто ее не остановит. Но крайность избегать есть долг мой…
Прощайте, любезный Иван Федорович, моя старая дружба Вам известна, она неизменна так, как и моя благодарность.
Ваш искренний
Н.
Жена моя Вам кланяется.
Из письма этого ясна степень близости между императором и его «отцом-командиром», как называл Николай Паскевича. Отношение к Ермолову было принципиально иное…
Из письма Николая I Ивану Ивановичу Дибичу. 8 марта 1827 года
4-го числа сего месяца получил я Ваше первое письмо из Тифлиса, мой дорогой друг, и Вы легко представите себе, с каким нетерпением и с каким удовольствием я его читал. Мне приятно, признаюсь Вам, знать, что Вы находитесь на месте и имеете возможность смотреть Вашим оком на этот лабиринт интриг; надеюсь, что Вы не дадите ослепить себя этому человеку, для которого ложь – добродетель, когда она может быть ему полезна, и который потешается над приказами, которые ему отдают. Словом, да сопутствует Вам Бог и вдохновит Вас быть праведным. Я с нетерпением жду известий…
Из письма Николая I Ивану Ивановичу Дибичу. 10 марта 1827 года
У меня нет от Вас известий, хотя рапорт от 23-го до меня дошел, может быть, они будут у меня завтра. Письмо К. Бенкендорфа говорит об ужасе, который произвело Ваше прибытие, и о радости многих честных людей Вас там видеть; он, похоже, весьма убежден в прошлых и теперешних дурных намерениях Ермолова: было бы чрезвычайно важно, если бы Вы постарались в особенности выявить суть зла в этом лабиринте интриг… во всяком случае, чтобы знали, что сия порода людей не может быть терпима после того, как они разоблачены.
Из этих текстов ясно, что Николай не просто не доверял Ермолову – он его ненавидел, ибо ощущал в нем тот уровень независимости, который считал смертельно опасным для системы, представлявшейся ему идеальной.
Николай безусловно доверял Паскевичу, обвинявшему Ермолова во всех смертных грехах, и не верил ни единому слову Ермолова.
Когда он писал, что Ермолов «потешается над приказами, которые ему отдают», то имел в виду свои требования «наступательных действий» с первых дней войны. Но Ермолов, знающий местные условия, дислокацию войск, враждебность населения тех областей, где предстояло оперировать малочисленным русским войскам, сложность снабжения войск продовольствием, не пошел на явную авантюру. Чем и вызвал гнев императора, составлявшего в Петербурге военные планы.
Из письма Николая I Ивану Ивановичу Дибичу. 12 марта 1827 года
Я ясно вижу, что дела не могут идти подобным образом. Когда Вы и Паскевич уедете, этот человек, предоставленный самому себе, поставит нас в то же положение относительно знания дела и уверенности, что он будет действовать в нашем духе, как было до отъезда Паскевича из Москвы, – такую ответственность я не могу принять на себя. Поэтому, зрело взвесив все и продолжая ожидать Вашего второго курьера, если он не доставит мне иных данных, чем те, которые Вы мне уже дали возможность предвидеть, я не усматриваю иного выхода, как поручить Вам воспользоваться полномочием, предоставленным Вам для смещения Ермолова. Его преемником я предназначаю Паскевича, потому что из Ваших донесений я не усматриваю, чтоб он хоть в чем-либо нарушил обязанности, налагаемые самой строжайшей дисциплиной. Опозорить же этого человека отозванием его при подобных обстоятельствах было бы несогласно с моей совестью. Прежде всего поставьте Паскевича на должную ногу и дайте ему понять всю важность поста, на который я призываю его в данном случае, и внушите ему всю цену моего доверия. Он человек чести и мой прежний начальник, он сумеет, я отвечаю за него, выполнить мои желания.
Последняя фраза полна смысла для понимания не только конкретной ситуации, но и стремительно складывающейся системы взаимоотношения Николая с подданными. «Он сумеет… выполнить мои желания».
Ермолов пытался вести войну по-своему, исходя из огромного кавказского опыта. Он недостаточно учитывал «желания» императора. Он вообще был человеком со своей логикой поведения. Александр с этим мирился ради его талантов и заслуг. У Николая были иные критерии.
Ермолов это понимал.
Из письма Алексея Петровича Ермолова Николаю I. 3 марта 1827 года
Не имев счастия заслужить доверенность Вашего императорского величества, должен я чувствовать, сколько может беспокоить Ваше величество мысль, что при теперешних обстоятельствах дело здешнего края поручено человеку, не имеющему ни довольно способностей, ни деятельности, ни доброй воли. Сей недостаток доверенности Вашего императорского величества поставляет меня в положение чрезвычайно затруднительное. Не могу я иметь нужной в военных делах решительности, хотя бы природа не совсем отказала мне в оной. Деятельность моя охлаждается только мыслию, что не буду я уметь исполнить волю Вашу, всемилостивейший государь!
В сем положении, не видя возможности быть полезным для службы, не смею, однако же, просить об увольнении меня от командования Кавказским корпусом, ибо в теперешних обстоятельствах может это быть приписано желанию уклониться от трудностей войны, которые я совсем не почитаю непреодолимыми, но, устраняя все виды личных выгод, всеподданнейше осмеливаюсь представить Вашему императорскому величеству меру сию, как согласную с пользой общею, которая всегда была главною целью всех моих действий.
29 марта Паскевич вступил в командование Кавказским корпусом.
Карьера пятидесятилетнего Ермолова закончилась навсегда…
История со смещением Ермолова характерна для начала царствования Николая Павловича в двух отношениях.
С одной стороны, молодой император твердой рукой расчищал поле деятельности для тех, кого он считал своими послушными орудиями.
С другой же стороны, он далеко не всегда был уверен в благоприятной реакции влиятельных групп на его действия.
Именно поэтому в начале апреля он поручил Бенкендорфу, тогда уже шефу жандармов, выяснить настроения в офицерской среде по поводу смещения Ермолова.
Из письма Александра Христофоровича Бенкендорфа начальнику штаба Второй армии генералу Павлу Дмитриевичу Киселеву
Скажите мне, какое впечатление произвела в вашей армии перемена главнокомандующего в Грузии? Вы понимаете, что государь не легко решился на увольнение Ермолова. В течение 15 месяцев он терпел всех, начиная с некоторых старых и неспособных париков министров. Надо было иметь в руках сильные доказательства, чтобы решиться на смещение с столь важного поста, и особенно во время войны, человека, пользующегося огромною репутациею и который в течение 12 лет управлял делами лучшего проконсульства в империи.
Киселев успокоил императора. И был прав. Военные, как и все общество, были слишком потрясены событиями декабря 1825 – января 1826 года, чтобы активно проявлять свое недовольство.
Смещение Ермолова было принципиально важным для Николая экспериментом. Он понял безграничность своей власти.
Император и Польша
Драматическая история отношений между Россией и Польшей при Николае I – это история взаимных разочарований и кровавого крушения иллюзий.
Из записки Александра Христофоровича Бенкендорфа «Император Николай I в 1828–1831 годах»
В это же время интересы, хотя совсем иного рода, но не менее важные, обращали внимание государя на Варшаву.
Цесаревич Константин Павлович, командовавший русскими и польскими войсками в Царстве Польском и мало-помалу сосредоточивший в своих руках управление и гражданскою частью, не умел стяжать народной любви. Под его начальством состоял также и корпус, квартировавший в Литве и носивший, как бы в отличие от всех прочих, означавшихся нумерами, именование Литовского. Все возвращенные от Польши губернии: Виленская, Гродненская, Минская, Волынская и Подольская и область Белостокская – состояли равномерно под управлением цесаревича и ведались им на военную ногу. Эта централизация всего принадлежавшего некогда Польше; либеральная конституция, пожалованная Царству; польские малиновые воротники, вместо красных, на мундирах Литовского корпуса – все это, вместе взятое, было, конечно, большою политическою ошибкою со стороны императора Александра, который дал полякам, в противоположность намерениям и действиям императрицы Екатерины, надежду на восстановление их самостоятельности и огорчил чрез то русских.
Император Николай ясно понимал неудобство такого порядка вещей, но в то же время чувствовал и все трудности выйти из него. Первая заключалась в необходимости изменить личное положение старшего его брата, имевшего в супружестве польку, влюбленного во вверенные его начальству войска и благоприятствовавшего желанию поляков присоединить к Царству Польскому прочие одноплеменные с ними губернии, уже столь давно находившиеся под русскою державою. Второю трудностью представлялось ниспровержение устройства, созданного императором Александром. Преемник отказался бы чрез то от наследственного имени освободителя и благодетеля Польши, вооружил бы против себя миллионы поляков, еще более напугал бы Европу, уже без того устрашенную его могуществом, и, наконец, жестоко огорчил бы цесаревича, который, относя всю вверенную ему власть к воле покойного императора, почел бы вопиющим неправосудием отнятие у него этой власти братом, которому он уступил престол.
Поляки, крайне недовольные управлением цесаревича и уже начинавшие постепенно забывать благодеяния Александра, с нетерпением и беспокойством ждали решения своей судьбы от нового императора. Носились слухи, что он не жалует поляков и негодует на данные им привилегии; что в характере его преобладает строгость и что он никогда не согласится на присоединение к Царству прежних польских областей. Никто почти еще не знал его, и все колебались между страхом и надеждою.
Государь долгое время зрело соображал и обдумывал все трудности своего положения в отношении к цесаревичу, к многочисленным польским своим подданным, к обязанностям своим касательно России и к той дани уважения, которую налагала на него память его предшественника.
Он признал необходимым удостовериться во всем лично и, пользуясь одною из статей конституционной хартии, решился ехать в Варшаву для коронования себя там царем польским.
Слух о том оживил новыми надеждами жителей возвращенных от Польши губерний и не порадовал русских. […]
Все было готово к нашей поездке. 22 апреля [1829] государь отправился сперва в Динабург, куда два дня спустя приехала и императрица.
Работы по возведению динабургских укреплений значительно подвинулись вперед и производились с совершенством, заслужившим полное одобрение государя.
Оттуда императрица продолжала свой путь прямо на Варшаву, а мы поехали в Вильну, куда прибыли ночью, при свете нескольких плошек, догоравших от иллюминации, зажженной жителями вечером, для встречи нового их монарха.
Государь остановился во дворце, который с раннего утра обступила многолюдная толпа. Посетив сначала русский собор, его величество присутствовал потом на разводе одного из батальонов Литовского корпуса. Вся площадь и все ведущие к ней улицы были полны народом, жаждавшим, казалось, его видеть, и на всех лицах сияли радость и доверие. Государь осмотрел в подробности университет и больницы и везде остался доволен найденным порядком. […]
К ночи мы приехали в Белосток и остановились в прекрасном дворце, бывшем некогда жилищем сестры последнего короля польского, где ожидал государя командир Литовского корпуса барон Розен. Переночевав здесь, еще впервые с Динабурга не в коляске, мы утром пустились к Тыкочину, лежащему на границе империи с Царством Польским.
Хотя я не видал этих мест с войны 1806 и 1807 годов, однако не сомневался, что тотчас узнаю местности, изъезженные мною верхом с небольшим за 20 лет [до того] во всех направлениях, и даже уверял государя, что объясню ему по дороге все позиции, сражения и марши наших войск. Каково же было мое удивление, когда с самого выезда из Белостока нас, вместо тогдашних сыпучих песков и бездонных болот, повезли по чудесному шоссе! Точно так же изменилась местность перед Тыкочином. Движущегося моста, топкой плотины уже не было; самое местечко приняло вид опрятности и довольства; все преобразилось: край, самый бедный и самый грязный в мире, чуждый всякой промышленности, был превращен, как бы волшебством, в страну богатую, чистую и просвещенную. Роскошные почтовые дороги, опрятные города, обработанные поля, фабрики, наполненные чужеземными мастеровыми, общее благосостояние, наконец, все, чего мудрое и отеческое правительство может достигнуть разве с усилием в полвека, было сделано императором Александром в 15 лет. Самая закоренелая неблагодарность молодых польских патриотов вынуждена была очевидностью воздать дань истине и сознаться, что покойный император пересоздал эту часть Польши. […]
В Яблоне, хорошеньком имении князя Понятовского за 14 верст от Варшавы, ожидали нас обед и – цесаревич Константин Павлович с почетным рапортом. Княгиня Лович прибыла вслед за тем, и оба брата с своими супругами провели вместе остаток дня с видом самой сердечной друг к другу приязни.
Я в тот же вечер отправился в Варшаву для некоторых распоряжений к торжеству следующего дня.
Все войска, русские и польские, стали под ружье уже с раннего утра: кавалерия по ту сторону Вислы, а пехота – вдоль тех улиц, по которым должна была следовать императорская чета. Чтобы показать город на большем протяжении и вместе для избежания крутого подъема с Прагского моста, ниже его был устроен, нарочно для этой церемонии, еще другой. Все население польской столицы и множество прибывших к этому дню иностранцев и поселян заняло все окна, балконы и улицы. […]
Перед въездом на мост цесаревич и вся государева свита сели на лошадей. Мне впервые случилось тут увидеть войска, состоявшие под начальством великого князя Константина Павловича. Их выправка, обмундировка и выбор людей и лошадей были истинно великолепны. Русские полки – два пехотные и три кавалерийские – находились в одних и тех же дивизиях с польскими. Вид их был одинаков, и по внешности между войсками обеих наций царствовало полное слияние. […]
Наконец показались кареты, везшие государя, императрицу и наследника.
Они остановились у Прагской заставы, в небольшом домике, где ожидали их высшие придворные сановники и парадные экипажи и где императрица переоделась. Государь сел на лошадь – и шествие тронулось.
Войско, еще впервые видевшее своего молодого и прекрасного императора, приветствовало его обычным «ура!». Я внимательно наблюдал за выражением лиц солдат. Казалось, все, и поляки и русские, радостно смотрели на государя и одинаково одушевлялись желанием заслужить его удовольствие. […]
Войско и народ продолжали встречать государя радостными кликами; дамы у окон и на балконах махали платками и казались в восторге от красоты императора, от бесподобного личика его сына, от приветливых поклонов и всей очаровательной осанки императрицы; словом, глаз самый наблюдательный не открыл бы в варшавской встрече ничего, кроме радости и привязанности верного своему монарху народа. Таким сей последний нам представился; таков он был и в сущности, по крайней мере относительно массы.
Государь остановился перед римско-католическим собором и принял тут от приветствовавшего его духовенства святую воду, к общему восхищению присутствовавших.
Сойдя с лошади у входа в королевский дворец, он остановился, чтобы подождать императрицу и принять ее из кареты. Княгиня Лович и знатнейшие польские дамы встретили ее внизу лестницы.
После обеда государь пошел к цесаревичу об руку с императрицею, один, без всякого конвоя или свиты. Этот знак доверия и эта простота очаровали всех жителей; единодушные виваты долго сопровождали августейшую чету по улице.
На следующее утро государь присутствовал у развода на Саксонской площади; несметная толпа ожидала там его прибытия.
Цесаревич старался подавать собою пример почтительности и усердия. У развода он суетился, как бы простой генерал, устрашенный высочайшим присутствием; при церемониальном марше становился сам на правый фланг и при втором проходе шел в замке, с карманною книжкою в руке, для отметки тут же высочайших приказаний. […]
В доказательство того, что обе страны находятся под одним и тем же правительством, государь велел привезти из Петербурга императорскую корону.
В назначенный для коронации день дворцовые залы наполнились приглашенными сановниками и дамами; войска стали от дворца до римско-католического собора; улицы, балконы и даже кровли покрылись зрителями.
Императорская чета с наследником, обоими великими князьями и всею военною свитою, в предшествии двора, вступила в тронную залу королей польских. Вокруг залы поместились министры, сенаторы, прелаты и нунции.
Государь на ступенях трона, под королевским балдахином, возложив на себя корону, произнес присягу перед распятием. В выражении его голоса было столько величественности и правды, что всех предстоящих объяло глубокое умиление.
Потом царь с царицею следовали пешком к собору, среди восторженных криков толпы.
В соборе, под древними сводами которого столько королей воспринимали корону и столько поколений поклонялись своим владыкам, поляками не могло не овладеть некоторое самодовольство при виде потомка Петра Великого, отдающего почесть вероисповеданию их края, и католическое духовенство не могло не ощущать странного чувства, вознося молитвы о возведенном на престол православном царе. На нас, напротив, все это произвело какое-то тягостное впечатление, как бы предзнаменовавшее ту неблагодарность, которою этот легкомысленный и тщеславный народ отплатит со временем за доверие и честь, оказанные ему русским императором.
Возвратясь во внутренние комнаты дворца, государь прислал за мною. При виде моего душевного смущения он не скрыл и своего. Он принес присягу с чистыми помыслами и с твердою решимостию свято ее соблюдать. Рыцарское его сердце всегда чуждалось всякой затаенной мысли.
После церемонии был во дворце банкетный стол.
Этот день ознаменовался немалыми милостями, между прочим и пожалованием князя Адама Чарторыжского в обер-камергеры, что несколько огорчило тщеславного князя, постоянно мечтавшего носить титул царского наместника.
За обедом мне пришлось сидеть между нунциями; жалуясь на жестокую грубость цесаревича и превознося приветливость нового их царя, они отзывались, что охотно отдали бы последнему свою конституционную хартию со всеми ее привилегиями, лишь бы он управлял ими непосредственно, как управляет Россиею.
За церемониею следовали иллюминации, балы, театры и большие смотры. […]
…Уже несколько лет не был собираем в Царстве Польском народный сейм. Государь, как строгий исполнитель данного слова, не захотел долее отлагать созвание этого сейма, установленного данною императором Александром конституциею. Велев вследствие того нунциям явиться в Варшаву к половине мая, он и сам стал готовиться к поездке туда. Мы выехали из Петербурга 2 мая [1829], опять по тракту на Динабург (Двинск), куда государя постоянно влекло сочувствие к работам, производившимся столько лет под личным его надзором в бытность его генерал-инспектором по инженерной части. Употребив два дня на осмотр этих работ, нескольких полков 1-го корпуса и резервных батальонов, он продолжал свой путь на Ковно и Остроленко и прибыл в Варшаву 9-го числа поутру. […]
Государь с императрицею пришли в тронную залу, за ними следовали двор и вся военная свита, а галереи были наполнены почетнейшими дамами. По занятии всеми своих мест государь открыл собрание речью, заслужившею общее одобрение. Все любовались величественною его осанкою и звонким голосом и казались исполненными самой ревностной к нему привязанности. Одним из первых предметов, к обсуждению которых камера нунциев приступила в тот же день, было предложение, единогласно принятое, воздвигнуть народный памятник императору Александру. Маршал сейма дал большой обед всем почтеннейшим сановникам, находившимся в Варшаве, и всем нунциям. На нем присутствовал и государь. Здоровье его было провозглашено при единодушных кликах, и это пиршество совершилось со всевозможным приличием и всеми признаками сердечной преданности. Прекрасные балы несколько раз соединяли все высшее варшавское общество в Лазенках, а императорская фамилия удостоила также своим присутствием бал, данный графом Замойским, председателем государственного совета Царства. Все по виду казалось спокойным, а между тем в камере нунциев уже зарождалась оппозиция. Толковали о протесте перед царем против самоуправных действий и против преувеличенных издержек на войско. Стали образовываться партии, но ни в чем еще не обнаруживалось никакого неприязненного чувства против особы монарха.
Государь признал за благо явить новое доказательство своей добросовестности, отстранив даже и тень какого-нибудь влияния с его стороны на работы сейма. Вследствие того он оставил на все время их продолжения Варшаву и самые пределы Царства.
За внешней пышностью торжеств только очень проницательные люди могли почувствовать то вулканическое напряжение, которое уже колебало почву под ногами русской администрации.
Из записки Александра Христофоровича Бенкендорфа «Император Николай I в 1828–1831 годах»
Между тем пришло известие о бельгийской революции, изгнавшей из Брюсселя принца Оранского; брат его, принц Фридрих, пытался было снова овладеть Брюсселем, но, продержавшись там лишь несколько дней, покинул город и весь край на жертву революции, представлявшей, собственно, одно постыдное и смешное подражание парижской.
Пример был опасен. В Брюсселе, как и в Париже, победа осталась на стороне революции; там, как и тут, законность должна была поклониться перед беспорядком и монархия перед демократическими идеями! Умы разгорячались, и легкость успеха в этих двух странах не могла не ободрить и не внушить новой отваги людям злонамеренным. Варшава была переполнена такими. Обезьянство французским доктринам, увлекшее слабые польские головы в первую революцию и приведшее Польшу к первому ее разделу, возобновилось и теперь в том же духе и послужило сигналом к восстанию.
Уже за несколько времени перед тем замечались разные проявления революционных замыслов в варшавской школе подпрапорщиков. Цесаревич, быв неоднократно о том предварен, сначала не давал веры этим изветам, а впоследствии хотя и учредил следственную комиссию, но сия последняя действовала чрезвычайно слабо. Несмотря на подозрительный свой характер, цесаревич не хотел предполагать, чтобы нашлись преступники в числе тех, которых называл своими, а подпрапорщики, помещенные на жительство возле сада его Бельведера, им сформированные, обученные и, так сказать, воспитанные, были для него такими в полном смысле.
25 ноября [1830], вечером, пришло к государю известие, что 17-го числа, вечером же, Варшава сделалась театром кровавых сцен. Описывалось, как несколько подпрапорщиков ворвались в Бельведерский дворец, изранили президента полиции Любовицкого и убили генерала Жандра, прискакавшего предварить цесаревича о грозящей ему опасности; как цесаревич сам едва успел от них скрыться задним ходом и сесть на лошадь. Только когда русская гвардейская кавалерия поспешила на помощь ему, убийцы бежали из Бельведера; как между тем весь город пришел в волнение, и народ, бросившись в арсенал и выломав все двери в нем, захватил все находившиеся там склады оружия. Далее, что 4-й линейный полк, саперный батальон и гвардейская конноартиллерийская батарея, уже заранее подготовленные бунтовщиками, тотчас стали на их сторону, а поспешившие к волновавшимся сборищам для восстановления порядка военный министр граф Гауке, начальник пехоты граф Станислав Потоцкий, генералы – Дементовский, Трембицкий, Брюмер и Новицкий – пали жертвами ярости своих соотчичей; что русские полки Литовский и Волынский и с ними часть польских гвардейских гренадер, в польской походной амуниции, ждут на площади приказаний цесаревича; что Конноегерский полк польской гвардии с несколькими ротами армейских гренадер сохранили верность и в ночь присоединились к трем русским кавалерийским полкам, находившимся при цесаревиче; наконец, что весь город открыто бунтует и никаких мер не принято для его усмирения.
Государь тотчас прислал за мною и, когда я явился, дал мне прочесть рапорт цесаревича. Между тем, не теряя ни минуты, он уже успел отдать все нужные приказания. 1-й корпус, под командою П. П. Палена, получил приказание двинуться к границам Царства, а барону Розену, начальнику Литовского корпуса, велено взять то направление, какое укажет цесаревич.
На другое утро государь, по обыкновению, присутствовал при разводе и с окончанием его, став в середину экзерциргауза, вызвал к себе генералов и офицеров. Все и из покорности, и из любопытства поспешили столпиться вокруг лошади, на которой он сидел. Тут государь громко и внятно передал подробности печальных варшавских событий и, сообщив об опасности, которой подвергался его брат, и о принятых уже мерах, заключил следующими словами: «В случае нужды вы, моя гвардия, пойдете наказать изменников и восстановить порядок и оскорбленную честь России. Знаю, что я во всех обстоятельствах могу полагаться на вас!» В продолжение речи государя внимание слушателей все более и более напрягалось, и кружок их вокруг него все становился теснее; но при последних словах все, так сказать, налегли на него; каждый хотел лично выразить ему свою любовь и преданность; все были в слезах, и единодушное «ура!» стоявших в ружье солдат сопровождало государя до выхода его из экзерциргауза. Эта сцена произвела неописуемое впечатление: старые и молодые, генералы и офицеры и даже солдаты, все были глубоко тронуты, и государь при этом случае легко мог удостовериться в питаемом к нему восторженном чувстве. […]
Приняв все меры к сосредоточению достаточных сил для подавления мятежа, государь решился, однако же, истощить все средства к образумлению своих заблудших подданных без кровопролития. Он отправил состоящего при нем польского флигель-адъютанта Гауке в Варшаву с манифестом, открывавшим нации возможность испросить себе прощение, с письмом к Хлопицкому, которому давал разные повеления касательно участи вдов изменнически убитых генералов, с приказом польской армии собраться в полном составе у Плоцка.
Хлопицкий и некоторые другие лица, сохранявшие еще рассудок, страшась предстоящей борьбы, советовали вступить в переговоры, но партия якобинцев, предводительствуемая Лелевелем, честолюбие Чарторыжского, мечтавшего быть избранным на трон Польши, и толпа безумцев, увлекаемых только личными своими страстями, одержали верх. Повеления и предложения государя были отвергнуты. Единственная уступка, которой мог добиться Хлопицкий, состояла в согласии послать депутацию в Петербург, но не для изъявления покорности и раскаяния, а для настояния об удовлетворении всех домогательств Польши и о присоединении к ней наших Литовских губерний. Польский министр финансов князь Любецкий, человек очень умный, видя в этой миссии единственное средство к спасению своей жизни, так искусно умел повести дело, что выбор быть представителем этой депутации пал на него. Он взял себе в товарищи сеймового депутата Езерского.
Когда эти господа явились в Петербург, то монарх, чтобы отстранить всякую мысль, что им была допущена какая-либо депутация от мятежников, не соизволил принять их вместе. Призвав к себе одного Любецкого в качестве своего министра, но и то в присутствии великого князя Михаила Павловича и еще нескольких других свидетелей, он много и очень строго говорил о варшавских мерзостях и не допустил Любецкого произнести ни одного слова касательно его миссии. Мне поручено было переговорить в том же духе с Езерским, которого государь принял несколько дней позже, неофициально и при мне. Любецкому он велел остаться в Петербурге, а Езерскому позволил возвратиться в Варшаву, уполномочив его передать там все им слышанное, по письменному мною составленному изложению. Это было последним средством, которое государь, в великодушии своем, хотел еще испытать для избавления мятежных своих подданных от ужасов войны и от наказания за дальнейшее неповиновение. Бумага оканчивалась следующими словами: «Первый пушечный выстрел, сделанный поляками, убьет Польшу». […]
Назначенный главнокомандующим действующею армиею граф Дибич деятельно занимался приготовлениями к предстоящей кампании, несмотря на время года, столь для нее невыгодное. Ожидавшие нашу армию в самом начале кампании затруднения от снегов и переправ не могли не благоприятствовать неприятелю. Гвардейский корпус под начальством великого князя Михаила Павловича также выступил в поход. Фельдмаршал оставил Петербург в половине декабря. Армия наша перешла границы империи и вступила в пределы Царства 25 января 1831 года.
Надо отдать справедливость Николаю – взойдя на престол по трупам своих подданных, он долго не решался начать подавление польского мятежа силой, надеясь на раскаяние восставших и благоразумие их вождей.
Это говорит как о нежелании проливать кровь, так и, с другой стороны, о немалой политической наивности императора.
Колебания продолжались два месяца.
Из письма Николая I великому князю Константину Павловичу, бежавшему из Варшавы. 3 января 1831 года
Трудно прозреть будущее, но, соображая в пределах человеческого разума, взвешивая различные вероятия успеха, трудно предположить, чтобы новый год оказался для нас более тяжелым, чем 1830 год; дай Бог, чтоб я не ошибся. Я желал бы видеть Вас спокойно водворившимся в Вашем Бельведере и порядок восстановленным повсюду, но сколько еще предстоит сделать, прежде чем быть в состоянии достигнуть этого. Кто из двух должен погибнуть – так как, по-видимому, погибнуть необходимо, – Россия или Польша? Решайте сами. Я исчерпал все возможные средства, чтобы предотвратить подобное несчастие. Средства совместимы только с честью и моею совестью, эти средства исчерпаны, или, по крайней мере, ничто не может заставить меня поверить, чтоб их хотели там. Что же мне остается делать.
Это было протрезвление. Николай осознавал постепенно, что поляки не уступят.
Любопытно: Пушкин, разумеется, не читал письма императора, но в знаменитом стихотворении «Клеветникам России» почти буквально повторил николаевскую формулу «Кто из двух должен погибнуть?» – «Кто устоит в неравном споре?».
Наконец 25 января 1831 года был обнародован манифест. Прямым и окончательным поводом для него было решение польского правительства объявить династию Романовых в Польше низложенной.
Из манифеста «О вступлении действующей армии в пределы Царства Польского для усмирения мятежников»
…13-го сего месяца среди мятежного противозаконного сейма, присваивая себе имя представителей своего края, дерзнули провозгласить, что царствование наше и дома нашего прекратилось в Польше и что трон, восстановленный императором Александром, ожидает иного монарха. Сие наглое забвение всех прав и клятв, сие упорство в зломыслии исполнили меру преступлений. Настало время употребить силу против незнающих раскаяния, и мы, призвав в помощь Всевышнего Судию дел и намерений, повелели нашим верным войскам идти на мятежников. Россияне! В сей важный час, когда с прискорбием отца, но со спокойною твердостью царя, исполняющего священный долг свой, мы извлекаем меч за честь и целость державы нашей, соедините усердные мольбы свои с нашими мольбами пред алтарем Всевидящего, Праведного Бога. Да благословит он оружие наше для пользы и самих наших противников! Да устранит скорою победою препятствия в великом деле успокоения народов, десницею его нам вверенных, и да поможет нам, возвратив России мгновенно отторгнутый от нее мятежниками край, устроить будущую судьбу его на основаниях прочных, сообразных с потребностями и благом всей нашей империи, и положить навсегда конец враждебным покушениям злоумышленников, мечтающих о разделении.
Из книги Александра Ивановича Герцена «Былое и думы»
В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собранья и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, испуган, он усомнился в прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнение. (Вот что рассказывает Денис Давыдов в своих «Записках»: «Государь сказал однажды А. П. Ермолову „Во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была на сносе, в Новгороде вспыхнул бунт, при мне оставались лишь два эскадрона кавалергардов; известия из армии доходили до меня лишь через Кенигсберг. Я нашелся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталя солдатами“».)
После тяжелой многомесячной войны польская армия была разбита, Варшава взята штурмом.
Царство Польское со своей конституцией и армией перестало существовать…
Но не перестала существовать тяжелейшая польская проблема…
В разгар войны Николай Павлович, потрясенный происходящим, постарался проанализировать суть давнего российско-польского конфликта.
Из записки Николая I о польском вопросе
Польша постоянно была соперницей и самым непримиримым врагом России. Это наглядно вытекает из событий, приведших к нашествию 1812 года, и во время этой кампании опять-таки поляки, более ожесточенные, чем все прочие участники этой войны, совершили более всего злодейств из тех же побуждений ненависти и мести, которые одушевляли их во всех войнах с Россиею. Но Бог благословил наше святое дело, и наши войска завоевали Польшу. Это неоспоримый факт. В 1815 году Польша была отдана России по праву завоевания. Император Александр полагал, что он обеспечит интересы России, воссоздав Польшу как составную часть империи, но с титулом королевства, особою администрациею и собственною армиею. Он даровал ей конституцию, установившую ее будущее устройство, и заплатил, таким образом, добровольным благодеянием за все зло, которое Польша не переставала причинять России. Это было местью чудной души. Но цель императора Александра была ли достигнута?
Я сказал выше, что главная цель заключалась в обеспечении интересов России путем воссоздания Польши, счастливой и процветающей под покровительством и благодаря связи с Россиею. Не подлежит ни малейшему сомнению, что эта маленькая страна, разоренная, ослабленная беспрерывными войнами, напряжением, вызывавшимся целым рядом революций, частым переходом из одних рук в другие, в пятнадцатилетний промежуток времени достигла замечательного благосостояния. Ее финансовые средства оказались не только достаточными для удовлетворения потребностей страны, но послужили еще для образования наличного фонда казначейства, пригодившегося в течение почти года для покрытия всех нужд настоящей борьбы. Наконец, армия, созданная по образцу армии империи, снабженная всем и богато наделенная запасами в арсеналах, без всякого обременения страны достигшая редкого совершенства, оказалась в состоянии послужить кадрам для 100 000 человек. Что же хорошего вышло из этого для империи? Огромные жертвы, хотя и не выделенные особо из того, что было сделано в 1813 и 1814 годах, были принесены для осуществления завоевания ее. Другие столь же значительные жертвы были принесены в последующие 15 лет, частью для содержания и снаряжения армии, частью для вооружения крепостей. Империя, в ущерб своей собственной промышленности, была наводнена польскими произведениями. Одним словом, империя несла все тягости своего нового приобретения, не извлекая из него никаких иных преимуществ, кроме нравственного удовлетворения от прибавления лишнего титула к титулам своего государя. Но вред был действительный. Прежние польские провинции, видя, как их соотечественники пользуются вблизи их всеми правами самостоятельного народа, которыми они даже злоупотребляют, более чем когда-либо стали задумываться над тем, как ускользнуть от владычества империи. Поэтому оказалось, что при первой же искре эти провинции готовы были восстать и, как следствие этого, самым пагубным образом повлиять на действия армии. Другое, еще более существенное зло, заключалось в существовании перед глазами порядка вещей, согласного с современными идеями, почти неосуществимого в королевстве, а следовательно, невозможного в империи. Зародившиеся надежды нанесли страшный удар уважению власти и общественному порядку и впервые привели к несчастным последствиям, открытым в конце 1825 года. Раз удар был нанесен, пример подан, трудно предположить, чтобы во время всеобщих волнений и смут эти идеи не продолжали развиваться.
Император не считает нужным учитывать исторические корни русско-польской вражды – варварские разделы Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Но само осознание неразрешимости конфликта делает ему честь. Ощущение безвыходности толкает его к неожиданному выводу. Если поляки так неблагодарны и наличие их в составе империи представляет постоянную опасность – особенно в кризисных ситуациях, – то стоит ли сохранять Польшу? Не проще ли устроить новый раздел и собственно польские области отдать другим державам?
Правда, поостыв, Николай от этой смелой идеи отказался.
Но он очень удивился бы, если бы знал, что схожие идеи занес в свою записную книжку человек, которого император не любил и к которому относился с подозрением, – князь Петр Андреевич Вяземский, в 1810-х годах служивший в Варшаве у главы польской администрации Н. Н. Новосильцева и вытесненный со службы за излишние либерализм и полонофильство.
Из записных книжек Петра Андреевича Вяземского
Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее (ясный намек на казнь пятерых декабристов. – Я. Г.), следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить Царство Польское, как даем мы отпускную негодяю, которого ни держать у себя не можем, ни поставить в рекруты. Пускай Польша выбирает себе род жизни… Но такая мысль слишком широка для головы какого-нибудь Нессельроде, она в ней не уместится.
Подобная мысль мелькнула в голове императора, но «не уместилась» в ней.
6 октября 1831 года был обнародован манифест по случаю победы над мятежной Польшей.
Манифест «О прекращении военных действий в Царстве Польском»
Россияне! С помощью Небесного Промысла мы довершим начатое нашими храбрыми войсками. Время и попечение наше истребят семена несогласий, столь долго волновавших два соплеменных народа. В возвращенных России подданных наших Царства Польского вы также будете видеть лишь членов единого с вами великого семейства. Не грозою мщения, а примером верности, великодушия, забвения обид, вы будете способствовать успеху предначертанных нами мер, теснейшему, твердому соединению сего края с прочими областями империи, и государственный неразрывный союз, к утешению нашему, ко славе России, да будет всегда охраняем и поддерживаем чувством любви к одному монарху, одних нераздельных потребностей и польз и общего никаким раздором не возмущаемого счастья.
Это был благородный жест, который отнюдь не соответствовал истинным чувствам императора. В разговоре с французским послом бароном Бургоэном он с горечью констатировал истинное положение вещей, как он понимал его на самом деле.
Из воспоминаний барона Поля де Бургоэна
[Император говорил: ] «Да, я знаю, Европа несправедлива в отношении меня. Обоих нас, моего брата Александра и меня, подвергают ответственности за то, чего мы оба не делали. Не нам принадлежит мысль о разделе Польши. Это событие уже стоило Европе многих хлопот, пролило много крови и может пролить еще, но не нас следует упрекать в том. Мы должны были принять дела такими, какими их передали нам. Я имею обязанности как император российский. Я должен остерегаться повторения тех ошибок, которые породили нынешнюю кровопролитную войну. Между поляками и мною может существовать лишь полнейшая недоверчивость. Привожу доказательства: покойный брат мой осыпал благодеяниями королевство Польское, а я свято уважал все им сделанное. Что была Польша, когда Наполеон и французы пришли туда в 1807 году? Песчаная и грязная пустыня. Мы провели здесь превосходные пути сообщения, вырыли каналы в главных направлениях. Промышленности не существовало в этой стране; мы основали суконные фабрики, развили разработку железной руды, учредили заводы для ископаемых произведений, которыми изобилует страна, дали обширное развитие этой важной отрасли народного богатства. Я расширил и украсил столицу. Существенное преимущество, данное мною польской промышленности для сбыта ее новых продуктов, возбудило даже зависть в моих других подданных. Я открыл подданным королевства рынки империи; они могли отправлять свои произведения далеко, до крайних азиатских пределов России. Русская торговля высказалась даже по этому поводу, что все новые льготы дарованы были моим младшим сыновьям в ущерб старшим сыновьям. Вы ответите, что это только материальные благодеяния и что в сердцах таятся другие чувства, кроме стремлений к выгодам. Очень хорошо! Посмотрим, не сделали ли мы, мой брат и я, всего возможного, чтобы польстить душевным чувствам, воспоминаниям об отечестве, о национальности и даже либеральному чувству. Император Александр восстановил название королевства Польского, на что не решался даже Наполеон. Брат мой оставил за поляками народное обучение на их национальном языке, их кокарду, их прежние королевские ордена, Белого Орла, Святого Станислава и даже тот военный орден, который они носили в память войн, веденных с вами и против нас. Они имели армию, совершенно отдельную от нашей, одетую в национальные цвета. Мы наделили их оружейными и пушечными литейными заводами. Мы дали им не только то, что удовлетворяет все интересы, но и что льстит страстям законной гордости, – они нисколько не оценили всех этих благодеяний. Оставить им все, что было даровано, значило бы не признать опыта. Мои-то дары они и обратили против своего благодетеля. Прекрасная армия, так хорошо обученная братом моим Константином, снабженная вдоволь всеми необходимыми предметами, вся эта армия восстала. Литейные, оружейные заводы, арсеналы, мною же столь щедро наполненные, послужили ей для того, чтобы воевать со мною. Я вправе принять предосторожности, чтобы предупредить повторение случившегося. Углубимся, как говорят, в самую суть вопроса. Что такое поляки? Народ, разбросанный по обширной территории, которая принадлежит трем различным державам. Разве я вправе вернуться к разделу, так давно исполненному тремя различными державами? Все сторонники поляков разглагольствуют об этом на досуге. Они забывают, что я российский император, что я должен принимать во внимание не только выгоды, но и страсти моих русских подданных и сочувствовать их страстям в том, что они имеют в себе справедливого. Где же я возьму составные начала Польши, восстановляемой в воображении? Имеют ли в виду раздел 1792 года или мечтают о восстановлении всей Польши, как она существовала до первого раздела? Но ведь ни Австрия, ни Пруссия, ни мои русские подданные не позволили бы мне этого. Вы видите, что нет возможности вернуться к прошедшему. Могу утверждать с полною искренностью: мы осыпали поляков всякого рода благодеяниями; могу сказать их самым восторженным сторонникам: найдите мне в какое угодно время, под русским ли владычеством, в эпоху ли герцогства Варшавского, в пору ли буйного избирательного королевского правления, Польшу, более богатую, лучше устроенную, с более превосходною армией, с более цветущими финансами, с более развитою промышленностью перед Польшею в царствование императора Александра и мое. Поляки не оценили всех этих преимуществ. Доверие навсегда разрушено между ними и мною».
Этого доверия и не могло быть, ибо польские инсургенты и русский император – равно как его предшественники и наследники – мыслили принципиально по-иному.
При всем желании Николай Павлович не мог понять, что никакое экономическое преуспеяние и никакая лояльность со стороны Петербурга не искупают для поляков попрание их национальной гордости и не сотрут памяти о былой свободе и величии.
Сразу после получения донесения командующего русской армией фельдмаршала Паскевича: «Варшава у ног Вашего императорского величества» – Николай отправил победителю восторженное письмо, которое не в первый раз свидетельствует о его неутоленных полководческих амбициях и чувстве некоторой ущербности по отношению к своим солдатам и генералам.
Из письма Николая I фельдмаршалу Ивану Федоровичу Паскевичу
Слава и благодарение всемогущему и всемилосердному Богу! Слава тебе, мой старый отец-командир, слава геройской нашей армии! Как мне выразить тебе то чувство беспокойства, которое вселило в меня письмо твое от 24-го числа, все, что происходило во мне в те три бесконечных дня, в которые между страхом и надеждой ожидал роковой вести, и, наконец, то счастье, то неизъяснимое чувство, с коим обнял я твоего вестника.
Ты с помощью Бога всемилосердного поднял вновь блеск и славу нашего оружия, ты наказал вероломных изменников, ты отомстил за Россию, ты покорил Варшаву – отныне ты светлейший князь Варшавский! Пусть потомство вспоминает, что с твоим именем неразлучна была честь и слава российского воинства, а имя твое да сохранит каждому память дня, вновь прославившего имя русское. Вот искреннее изречение благодарного сердца твоего государя, твоего друга, твоего старого подчиненного. Ах! зачем я не летел за тобой по-прежнему в рядах тех, кои мстили за честь России; больно носить мундир и в таковые дни быть прикованным к столу, подобно мне, несчастному.
Через полтора года в Петербурге состоялся торжественный церемониал приема польских депутатов, но уже не от Царства Польского, а от западных губерний. Этот церемониал должен был сделать польский мятеж как бы не бывшим.
Однако многие понимали иллюзорность происходящего. И Николай в том числе.
Император и Франция
1830 год стал роковым для императора Николая. Разом оказались перечеркнуты все его планы хотя и половинчатых, но все же – реформ. События в Польше и Европе убедили его, что главное – это железной рукой стараться поддерживать статус-кво. Что общественное сознание и в Европе, и в России весьма неустойчиво и любой толчок может вывести общую ситуацию из равновесия и опрокинуть существующий порядок вещей в бездну хаоса.
И в самом деле – казалось, что пришли в действие какие-то дремавшие до поры вулканические силы.
Польский мятеж был, конечно же, спровоцирован общим состоянием умов в Европе. Поляки рассчитывали на помощь революционной Франции.
26 июля король Франции Карл X Бурбон, взбешенный оппозицией Палаты депутатов и прессы, издал шесть антиконституционных ордонансов: «Свобода периодической печати отменяется», «Палата депутатов от департаментов распущена» и т. д.
На следующий день на улицы Парижа вышли рабочие, среди которых было много наполеоновских ветеранов, и студенты.
Большинство правительственных войск перешло на сторону восставших.
После трех дней уличных боев Бурбоны были низложены. Королем стал Луи Филипп, герцог Орлеанский.
Из записки Александра Христофоровича Бенкендорфа «Император Николай I в 1828–1831 годах»
Продолжая негодовать на революцию, низвергшую Карла X с престола его предков, видя при том, что во Франции власть перешла совершенно в руки демократии и что сам Людовик Филипп является лишь игралищем в руках Лафаетов, Лаффитов и их единомышленников, государь признал за благо прервать прежние ближайшие связи с Францией. Он запретить поднимать на французских судах в русских портах трехцветное знамя; велел нашим подданным немедленно выехать из Парижа и из Франции и постановил впускать французских подданных в Россию не иначе, как с строжайшим разбором, а за находящимися уже в России иметь самый бдительный надзор. Только велено было торговые сношения оставить на прежнем основании и еще не отзывать из Франции нашего посла и наших консулов.
Дела не могли, однако же, долго продолжаться на таком основании, и ясно было, что придется или совсем расторгнуть все связи с Франциею, или же признать нового ее монарха. К последнему сердце государя вовсе не лежало. Между тем Англия, Австрия и Пруссия, равно как и все прочие европейские кабинеты, поспешили признать Людовика Филиппа: он был королем французов на самом деле, и одно лишь поддержание его власти могло противопоставить законную преграду якобинским замыслам той партии, которая возвела его на престол и теперь громко требовала войны. Отделиться от своих союзников и от всей Европы через непризнание Людовика Филиппа значило оскорбить все кабинеты и возбудить против себя личную вражду нового короля. Кроме того, Карл Х и слабый его сын торжественно отреклись от своих прав на французскую корону и предоставили ее младенцу – герцогу Бордоскому. Поддерживать права последнего, при всей их законности, значило поддерживать какой-то призрак. Франция не хотела этого младенца, а сам он, по своим летам и по всем обстоятельствам, находился вне возможности чего-либо домогаться. Разрыв с Франциею должен был нанести вред нашей торговле, нарушить общий мир, расторгнуть наш союз с первостепенными державами и, не быв вынуждаем народною честью, противореча интересам империи, возбудить сильное неудовольствие, тем более что у нас все порицали злополучные декреты Карла Х, сделавшиеся причиною парижской революции, а малодушное поведение падшего короля лишало его того сочувствия, которое обыкновенно сопутствует несчастию.
Итак, после долгой внутренней борьбы и гласно заявленного отвращения к новому монарху Франции нашему государю не оставалось ничего иного, как покориться силе обстоятельств и принести личные чувства в жертву сохранения мира и, отчасти, общественному мнению. Император Николай впервые принудил себя действовать вопреки своему убеждению и не без глубокого сокрушения и досады признал Людовика Филиппа королем французов.
«Гласно заявленным отвращением к новому монарху Франции» Николай в первом порыве гнева не ограничился.
Предписание Николая I военному губернатору Кронштадта. 5 августа 1830 года
По случаю возникшего во Франции мятежа и перемены существовавшего правительства государь император высочайше повелеть соизволил ни под каким видом не допускать кораблей сей нации, плавающих под флагом трехцветным, а не белым, вход в Кронштадский порт, но если бы усиливались войти в оный, то останавливать их действием оружия. Его императорскому величеству равномерно благоугодно, чтобы всякий корабль французский, из остающихся ныне в Кронштадском порту, который бы переменил белый флаг на трехцветный, немедленно был выслан в море.
Утром того же дня Чернышев посетил французского посла барона Бургоэна.
Из воспоминаний барона Поля де Бургоэна
[Чернышев сказал: ] «Император, зная наши короткие отношения, полагает, что сообщение, которое он хочет сделать вам, было бы менее неприятно в устах друга, чем всяким другим путем. Вам, конечно, известно, как недоволен его величество случившимся во Франции. Его неколебимые правила не позволяют ему признать то, что было сделано. Поэтому решено прислать вам ваши паспорта и прервать все сношения с Францией».
Это был типичный для Николая Павловича жест. К этому времени – за четыре года царствования, – он уверовал в собственное превосходство над государями и правительствами Европы, в неразумность европейских народов и в свое право решительно вмешиваться в дела европейских держав.
Но, надо отдать должное молодому императору, он в это время обладал еще способностью не только опьяняться сознанием своей безусловной правоты и подавляющей мощи, но и вовремя трезветь.
Эту способность трезветь, не доводя дело до крайности, он продемонстрировал в беседе с французским послом, который после встречи с Чернышевым испросил у императора аудиенции и немедленно ее получил.
Из воспоминаний барона Поля де Бургоэна
Когда я вошел, император встретил меня на самом пороге и, став передо мною, произнес мрачным, но резко отчетливым голосом следующие слова:
– Ну что, имеете ли вы известия от вашего правительства, от господина наместника королевства? Вы уже знаете, что я не признаю никакого другого порядка вещей, кроме прежнего, и считаю его единственно законным, потому что он истекает из легитимной королевской власти.
На обращенные ко мне столь резкие слова я отвечал в том же духе.
– Признаюсь, государь, я крайне удивлен, что ваше величество смотрите так на вопрос, отныне бесповоротно решенный моим отечеством, которое всегда умело отстаивать то, что делало.
Мы подошли в это время к столу, стоявшему влево, в глубине комнаты. Император, идя возле меня, сказал возвышенным голосом:
– Да, таков образ моих мыслей: принцип легитимизма, вот что будет руководить мною во всех случаях.
Подойдя в это время к столу, император, сильно ударив по нему, воскликнул:
– Никогда, никогда не могу я признать того, что случилось во Франции.
Я оставался спокойным ввиду этого энергического проявления необдуманной воли, которую мне предстояло побороть.
– Государь, – возразил я, – нельзя говорить «никогда». В наше время слово это не может быть произносимо: самое упорное сопротивление уступает силе событий.
– Никогда, – продолжал император с тем же жаром, – никогда не уклонюсь я от моих принципов: с принципами нельзя вступать в сделку, я же не вступлю в сделку с моею честью.
– Знаю, – отвечал я, – что слово вашего величества свято и что если вы принимаете на себя обязательство, то оно становится для вас непреложным законом. Вот почему я и придаю столько цены тому, чтобы вы не связывали себя на будущее время поспешными заявлениями.
То, что я предвидел, случилось: император при самом начале нашего разговора хотел мне показать свое неудовольствие в полной силе. Но очевидно, что он призвал меня не для того единственно, а желал выслушать объяснения, даже настояния, потому что обстоятельства были равно важны и для него и для нас. В своих чувствах, симпатиях, принципах он был уверен, но серьезная действительность минуты ставила его в мучительную нерешимость, в большое недоумение. В продолжение нескольких дней его осаждали самыми противоположными советами: воинственные подстрекательства преобладали, но он не пренебрегал соображениями, которые могли быть ему представлены и в другом смысле. В таком настроении духа он сказал мне тоном, уже в значительной степени смягченным:
– Садитесь и поговорим спокойно, – в то же время он указал мне на стул, находящийся против своего по другую сторону стола, который он только что ударил своею мощною рукою.
– Ваше величество с самого начала говорили со мною так определенно, так решительно, что и я считаю себя вправе сделать то же.
– Говорите все, – возразил император, – выскажите все, что у вас на сердце, для того-то я и пригласил вас; мы здесь вовсе не для того, чтобы обмениваться любезностями.
– Итак, государь, позвольте мне представить вам вполне откровенно картину того, что случилось бы, если бы вы исполнили решение, о котором мне говорил граф Чернышев сегодня утром.
– Хорошо, я слушаю вас.
– Эта картина будет проста; ваше величество увидите, как последствия связываются между собою. Допустим, что мне предложили бы выехать из С.-Петербурга. Отъезжая, я отправил бы вперед курьера, который возвестил бы об удалении меня и об исключении нашего национального флага. Неужели вы полагаете, что мы останемся спокойными при таком известии? Это не в наших обычаях. В тот же самый день мы удалили бы вашего посланника, как вы удалили меня. Тогда что случилось бы? Ваше величество знаете, какое положение занимает в Париже генерал Поццо ди Борго (посол России во Франции. – Я. Г.). Столько же по своему искусству, сколько и по могуществу монарха, которого служит представителем, он – как бы опорная точка всему парижскому дипломатическому корпусу. Все его товарищи пользуются его советами… Но если весь дипломатический корпус рассеется, то как вы полагаете, какое действие произведет этот отъезд на моих соотечественников? Вы знаете, до какой степени мы порывисты в наших решениях и поступках. Ваша прежняя коалиция не может устрашить нас. Мы скажем себе, что она постарается вновь образоваться, и выведем немедленно заключение, что нужно предупредить ее. Мы будем иметь дело с организованною массою, но располагаем с нашей стороны дезорганизационной силой и нашей способностью быстрого расширения; мы вынуждены будем броситься на Европу прежде, нежели она будет готова. Вот, государь, какое будет последовательное сцепление фактов, если мне не удастся убедить вас посмотреть на события с настоящей точки зрения.
– Я еще в недоумении, как поступлю; но каким образом вы хотите, чтобы мы стали на сторону того, что совершилось в Париже?
– Тем лучше, государь, если вы еще не приняли решения ввиду столь важных событий, это доказывает вашу мудрость, потому что все мы в подобные минуты должны усугублять спокойствие и осторожность. Что случилось бы, если бы я сам не подавил в себе первого движения, когда сегодня утром ваш военный министр сделал мне от вашего имени решительное сообщение? В каком виде были бы теперь дела, если бы я принял это сообщение в буквальном смысле или только написал о нем в Париж? Полагаю, что я поступил согласно с моими обязанностями, желая переговорить прежде всего с вами, потому что вы один господин здесь.
– Вы хорошо сделали, что пожелали видеть меня. Полезно, чтобы мы имели настоящую беседу.
– В этом я также убежден наравне с вашим величеством. Но к чему послужила бы наша беседа, если бы мне не удалось изменить ваших намерений? Если я выйду из этого кабинета, не убедив вас, то последствием будет война более обширная и кровавая, чем войны республики и империи. Рассчитаем, сколько миллионов людей погубили эти войны, а та, которую вы, государь, вызвали бы, была бы еще губительнее, и вы отвечали бы за нее перед Богом.
Воззвание к искренно религиозному чувству императора Николая произвело свое действие. Устремив глаза к небу, он сказал:
– Да предаст Господь эту ответственность в руки достойнее моих.
– Отклонить ответственности вы не можете, государь: она – естественное последствие того высокого положения, которое вы занимаете на земле. Я счел, однако, своим долгом напомнить вам всю важность того, что мы говорим и обсуждаем в настоящую минуту.
– Повторяю, – отвечал император, – я еще не знаю, на что мы решимся. Но я, конечно, сообщу свой взгляд моим коллегам. Я передам им без утайки мое мнение о случившемся и о том, что следует сделать. Граф Орлов в скором времени скажет это в Вене. Вчера я писал Вильгельму (принцу Оранскому): мы не объявим вам войны, будьте в том уверены. Но если мы когда-либо признаем то, что совершилось у вас, то лишь после взаимного согласия.
– Что же выйдет, государь, из подобного конгресса?
– Речь идет не о конгрессе. Мы располагаем другими средствами для соглашения.
– Покамест вы условитесь, государь, долг каждого из вас воздерживаться в отдельности от всякого раздражительного слова, от всякой декларации или демонстрации, которая могла бы встревожить или оскорбить нас.
– Я должен был быть весьма недоволен тем, что случилось, и я никогда не стану скрывать своего мнения, – возразил император.
– Ваше величество, припомните, что в нашем разговоре в Аничковом дворце, когда мы еще ничего не знали, мы коснулись множества предположений. Не пришли ли мы к заключению, что посреди столь страшного переворота все было возможно? Роковая случайность революций управляла обезумевшим населением. Я отвечал вам, что, к сожалению, никто не мог ничего знать и ничего предрекать. Я видел мое отечество на краю пропасти и подобно большинству благоразумных людей страны, испытавшей столько революций, призывал всеми пожеланиями моими руку, которая могла бы ее спасти. Чувства мои не изменились: по-прежнему я с болезненным сожалением вспоминаю о мерах, погубивших короля Карла X, и с прежнею признательностью о храброй королевской гвардии, тщетно защищавшей его.
Император продолжал:
– Повторяю вам, любезный друг, я обещаю вам не предпринимать торопливого решения. Что же касается до моего мнения, то я всегда выскажу его прямо: мы не объявим вам войны, примите в этом уверение, но мы условимся сообща, какого образа действий нам следует держаться в отношении Франции.
– Я готов верить, что вы не объявите нам войны: со стороны держав это было бы действием столько же безумным, сколько и опасным. Но разве вы полагаете, что мы удовольствуемся холодными и оскорбительными отношениями? Мы – уже не истощенная Франция 1814 года, а вы – уже не соединенная Европа 1815 года. Вы говорите, что не желаете войны, – это не подлежит сомнению, но между правительствами, как и между частными людьми, дело постепенно доходит со ссоры, а потом и до столкновения. Недоброжелательные поступки влекут за собою резкие объяснения, затем являются оскорбления и угрозы, и оба противника скоро становятся лицом к лицу со шпагою в руке. […]
Мне не представилось надобности распространяться более о громадной силе, во имя которой я говорил: император был так убежден в этом, что с величайшим спокойствием выслушал все сказанное мною, имевшее угрожающий оттенок. Император постепенно успокоился; он стал обсуждать важнейшие статьи новой конституции, заменившей собою хартию 1814 года. Он критиковал, со своей точки зрения, главнейшие статьи, и наш разговор, в начале столь оживленный, принял тон теоретического рассуждения. Он закончил обзор введенных новых конституционных комбинаций, долженствовавших иметь силу с некоторыми изменениями в продолжение восемнадцати лет, словами, не менее всех выше приведенных достойными быть сохраненными.
– Если бы, – сказал император, – во время кровавых смут в Париже народ разграбил дом русского посольства и обнародовал мои депеши, то были бы поражены, узнав, что я высказывался против государственного переворота; удивились бы, что русский самодержец поручает своему представителю внушить конституционному королю соблюдение учрежденных конституций, утвержденных присягою.
Таково в общем мнение императора Николая относительно нашей Июльской революции. Он советовал не производить государственного переворота, рассматривая его скорее как крайне опасный неблагоразумный шаг, чем заслуживающий порицания проступок; прежде всего он интересовался королем Карлом X и Франциею.
Император встал наконец, чтобы отпустить меня. Все следы неудовольствия исчезли. Видя его в таком расположении духа, я сказал:
– До всех этих печальных событий, государь, вы соблаговолили пригласить меня сопутствовать вашему величеству в поездке на берега Волхова для осмотра военных поселений и для инспектирования Гренадерского корпуса. Осмеливаюсь надеяться, что это приглашение не отменено.
При столь неожиданном напоминании император взглянул на меня улыбнувшись. Затем, после минутного раздумья, отвечал:
– Хорошо, я согласен. У меня только одно слово: вы поедете со мною, но это удивит весьма многих.
Император обнял меня. Дело было улажено, и я возвратился в Петербург. Корабли под трехцветным флагом были допущены в Кронштадт.
Николая остановило в данном случае не столько благоразумие и дипломатическая целесообразность, сколько реальная возможность поссориться с главными европейскими державами и в случае военного столкновения с оскорбленной Францией остаться в одиночестве.
Великий князь Константин Павлович, не будучи разумным и дальновидным политиком, тем не менее встревожился и решительно предостерегал брата-императора.
Из письма великого князя Константина Павловича Николаю I
Я сильно сомневаюсь, чтобы в случае, если бы произошел вторичный европейский крестовый поход против Франции, подобно случившемуся в 1813, 1814 и 1815 годах, мы встретили то же рвение, то же одушевление к правому делу. С тех пор сколько осталось обещаний, неисполненных или же обойденных, и сколько попранных интересов. Тогда, чтобы сокрушить тиранию Бонапарта, тяготевшую над континентом, повсюду пользовались содействием народных масс и не предвидели, что рано или поздно то же оружие могут повернуть против нас самих.
Константин бывал иногда прозорливее, чем можно было предположить по общему стилю его поведения.
В данном случае он констатировал крушение принципов Священного Союза, основатели которого – императоры России и Австрии и король Пруссии – обязались свято чтить принцип легитимизма и защищать его, если нужно, вооруженной рукой.
Николай еще верил в эти принципы. Константин – нет.
Но единственное, в чем преуспел русский император в 1830 году, – он навсегда испортил личные отношения с королем Франции Луи Филипом, написав ему письмо, с одной стороны признающее его права на французскую корону, с другой – оскорбительное по форме.
Николай так и не смирился с воцарением Луи Филиппа. Преданность идее легитимизма подавляла в нем здравый смысл. Он не принимал законность правления ставленника революции 1830 года, равно как и парламентское правление после революции 1848 года, выдвинувшей в президенты племянника Наполеона. Двадцать лет он носил в себе ненависть к Франции, оскорбившей его представления о мироустройстве.
Из воспоминаний графа Павла Дмитриевича Киселева
При известии о государственном перевороте 2 декабря [1851] государь зашел на несколько минут перед обедом к государыне с пакетом в руке и воскликнул: «Браво, Людовик Наполеон!» – и рассказал о событиях в Париже по сообщению, полученному из Берлина.
– Он понял свое время и действовал в соответствии с ним. Браво! Я протянул бы ему обе руки, чтобы вытянуть Европу – и все общество в целом – из той ямы, где она оказалась вследствие коварства. (Это слово заменяло у него слово «царствование», коего государь старался избегать, говоря о Людовике Филиппе).
2 декабря 1851 года Людовик Наполеон, племянник Наполеона Бонапарта и президент Франции, произвел военный переворот и стал диктатором. Через год он провозгласил себя императором Наполеоном III.
Николай Павлович, казалось бы, не должен был питать особых симпатий к племяннику Наполеона, ставшему президентом в результате революции. Но неприятие парламентского правления, которое существовало во Франции с 1848 по 1851 год, было у него столь остро, что захват власти военными и разгон парламента вызвали у него восторг.
Он не мог, естественно, предвидеть, что пройдет всего два года и Наполеон III станет инициатором злосчастной для России Крымской войны, похоронившей систему, которую с такой искренней убежденностью он, русский император, выстраивал.
Император и холера
Бедствия 1830 года – польский мятеж; революция во Франции; отпадение Бельгии от Голландии, где правил Вильгельм I, женатый на сестре Николая, великой княжне Анне Павловне; появление холеры в России – продолжились и на следующий год. И если над польскими патриотами русская армия постепенно брала верх, то холера крепчала и едва не привела к катастрофическим последствиям в сфере отнюдь не медицинской.
Из дневника Александра Васильевича Никитенко. 19 июня 1831 года
Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности… В городе недовольны распоряжениями правительства… Лазареты устроены так, что они составляют переходное место из дома в могилу… Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, едва только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто одушевил бы народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и по обыкновению верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и т. п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят их перебить.
В конце концов человек, который смог если не подавить страх, то во всяком случае предотвратить катастрофическое развитие событий, нашелся…
Из записки Александра Христофоровича Бенкендорфа «Император Николай I в 1828–1831 годах»
…Холера в Петербурге, возрастая до ужасающих размеров, напугала все классы населения, и в особенности простонародье, которое все меры для охранения его здоровья, усиленный полицейский надзор, оцепление города и даже уход за пораженными холерою в больницах начало считать преднамеренным отравлением. Стали собираться в скопища, останавливать на улицах иностранцев, обыскивать их для открытия носимого при себе мнимого яда, гласно обвинять врачей в отравлении народа. Напоследок, возбудив сама себя этими толками и подозрениями, чернь столпилась на Сенной площади и, посреди многих других бесчинств, бросилась с яростью рассвирепевшего зверя на дом, в котором была устроена временная больница. Все этажи в одну минуту наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей. Полицейские чины, со всех сторон теснимые, попрятались или ходили между толпами переодетыми, не смея употребить своей власти. Наконец военный генерал-губернатор граф Эссен, показавшийся среди сборища, равномерно не успел восстановить порядка и также должен был укрыться от исступленной толпы. В недоумении, что предпринять, городское начальство собралось у графа Эссена, куда прибыл и командовавший в Петербурге гвардейскими войсками граф Васильчиков. После предварительного совещания последний привел на Сенную батальон Семеновского полка, с барабанным боем. Это хотя и заставило народ разойтись с площади в боковые улицы, но нисколько его не усмирило и не заставило образумиться. На ночь волнение несколько стихло, но все еще город был далек от обыкновенного порядка.
Государь, по донесению о всем происшедшем в Петербурге, велев, чтобы к утру все наличные войска были готовы вступить под ружье, а военные власти собрались бы у Елагинского моста, прибыл сам из Петергофа на пароходе «Ижора» в сопровождении князя Меншикова. Быв поражен видом унылых лиц всех начальников, он, по выслушании подробных их рассказов, приказал прежде всего приготовить себе верховую лошадь, которая не пугалась бы выстрелов, и потом, взяв с собою Меншикова, поехал в коляске на Сенную, где лежали еще тела падших накануне и которая была покрыта сплошною массою народа, продолжавшего волноваться и шуметь. Государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: «На колени!» Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: «Я пришел просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом – я. Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ невинно убитых вами». Эти мощные слова, произнесенные так громко и внятно, что их можно было расслышать с одного конца площади до другого, произвели волшебное действие. Вся эта сплошная масса, за миг перед тем столь буйная, вдруг умолкла, опустила глаза перед грозным повелителем и в слезах стала креститься. Государь, также перекрестившись, прибавил: «Приказываю вам сейчас разойтись, идти по домам и слушаться всего, что я велел делать для собственного вашего блага». Толпа благоговейно поклонилась своему царю и поспешила повиноваться его воле.
Порядок был восстановлен, и все благословляли твердость и мужественную радетельность государя. В тот же день он объехал все части города и все войска, которые, из предосторожности от холеры, были выведены из казарм и стояли в палатках по разным площадям. Везде он останавливался и обращал по несколько слов начальникам и солдатам: везде его принимали с радостными кликами, и появление его водворяло повсюду тишину и спокойствие. В тот же день он назначил своих генерал-адъютантов князя Трубецкого и графа Орлова в помощь графу Эссену, распределил между ними многолюднейшие части города и велел составить особую комиссию под моим председательством для следствия и суда над зачинщиками народного буйства и главными в нем участниками.
Из письма Александра Сергеевича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому. 3 августа 1931 года
…Ты верно слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете. […] Бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четвертили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников.
Пушкин, живший в это время в Царском Селе, пользовался доходившими из Петербурга слухами. Но основная картина «холерного бунта» в военных поселениях соответствует действительности. Доведенные до крайности поселенцы мстили за многолетние унижения и издевательства. Недаром в программе декабристов уничтожение военных поселений было одним из основных пунктов. Они понимали, что новая пугачевщина может начаться именно оттуда.
Из письма Александра Сергеевича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому. 3 августа 1931 года
Государь приехал к ним (взбунтовавшимся поселянам. – Я. Г.) вслед за Орловым (генерал Алексей Федорович Орлов. – Я. Г.). Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились.
Картина усмирения императором взбунтовавшихся военных поселян, надо сказать, не совсем соответствовала действительности.
Все было куда драматичнее, что явствует из бесхитростного рассказа человека, оказавшегося рядом с Николаем в критический момент. Это был инженерный подполковник Панаев, которому удалось до известной степени взять под контроль кровавую стихию бунта.
Из воспоминаний инженер-подполковника Николая Ивановича Панаева
Покуда служили панихиду, приехал фельдъегерь из города с приказанием от графа Орлова, что государь император в 2 часа будет в округе, и для того, чтоб я собрал поселян в экзерциргаузе. Так как было уже около полудня и поселяне были все собраны, то я приказал им следовать в штаб прямо и выстроиться в манеже. Тут поселяне пришли мне сказать, что у них нет хлеба и соли чем встретить государя, а как испечь теперь уже некогда, то не взять ли круглых кренделей да сотового меду? Я утвердил их предположение и приказал выбрать от себя депутатов, кои встретили бы государя императора со мною у коляски и, стоя на коленях, просили бы прощения. Для чего они нарядили 6 человек. Стоявшим в манеже поселянам во фронте я приказал: как только увидим государя, снявши шапки, стать всем на колени. Младшему священнику отцу Гавриилу растворить двери в церкви в полном облачении со крестом и святой водой; царские двери в алтарь растворить и вынести на налое в экзерциргауз евангелие и знамя военных поселян.
Я полагал, что государь император прикажет их привести к присяге, для того приказал на налое положить и форму оной.
Около 2 часов государь император с графом Орловым прибыл в штаб Императора Австрийского полка; я встретил его величество у решетки между церковью и госпиталем, подал рапорт о состоянии округа. Государь принял от меня рапорт о состоянии округа и, увидев, что 8 человек показаны в командировке (до исключения так показывались убитые), сказал мне: «Это в дальней!» – потом вышел из коляски, поцеловал меня и изволил сказать: «Спасибо, старый сослуживец, что ты здесь не потерял разума, я этого никогда не забуду!» Потом, увидев стоящих на коленях поселян с хлебом и солью, сказал им: «Не беру вашего хлеба, идите и молитесь Богу!» Вошед в экзерциргауз и взглянув на стоящих поселян, коим майор Баллаш скомандовал: «Шапки долой!», прошел в церковь; я следовал за ним. Священник встретил с крестом и с кропилом. Государь приложился ко кресту и был окроплен святою водою и изволил следовать в алтарь, где и начал говорить со священником насчет нравственного положения поселян; священник замялся, и государь обратился ко мне; войдя в алтарь, я доложил, что, по мнению моему, искреннего раскаяния в них нет, но действует суеверие и страх, что еще сегодня преосвященный был здесь и служил панихиду об убиенных, но они проводили его с ропотом. Государь, выходя из церкви, сказал священнику: «Служите».
Не будучи приготовлен к сему приказанию и не имея при себе церковнослужителя или певчих, священник начал прямо: «Господу помолимся» – и сам запел: «Господи, помилуй! О благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем Николае Павловиче Господу помолимся!» В это время певчий из военных поселян, стоявший во фронте на коленях, вдруг вскочил с коленей, побежал к священнику и на бегу начал петь: «Господи, помилуй!»
После окончания всей эктиньи государь приказал мне командовать: «Накройся, вставай, справа и слева кругом заходи!» Потом приказал еще вздвоить ряды и начал им говорить: «Как смели вы восстать против меня?!» И когда поселяне отвечали, что они против него не восставали, то государь сказал им: «Вы убили своих начальников, Богом и мною над вами поставленных, это все равно, что вы подняли руку свою на меня!» Потом говорил он, что это болезнь, посланная Господом за наши грехи, что и сам он потерял брата (Константина. – Я. Г.) от этой болезни, а потому надо с кротостию переносить волю Господню, и, увидев одного унтер-офицера с Аннинским крестом и двумя медалями, подозвал к себе, как равно и всех кавалеров, тут бывших, обращаясь к ним, сказал: «Вас ли я вижу? И вы живы все?» Аннинский кавалер, которого государь первого подозвал, отвечал: «Слава Богу, ваше величество, Бог помиловал!» Но государь сказал ему и прочим кавалерам: «Молчи и не срами Бога! вы, кавалеры, должны были все лечь тут и не допустить истреблять ваших начальников!» Потом, обратясь ко мне, изволил сказать так, чтоб все слышали: «А ты с ними не шути и при первом ослушании выведи и тут же расстреляй на месте!» Потом начал говорить, чтоб выдали виновных, но поселяне молчали.
Я в то время, стоя в рядах поселян, услышал, что сзади меня какой-то поселянин говорил своим товарищам: «А что, братцы? полно, это государь ли? Не из них ли переряженец?»
Услышав эти слова, я обмер от страха, и, кажется, государь прочел на лице моем смущение, ибо после того не настаивал о выдаче виновных и спросил их: «Раскаиваетесь ли вы?» – и когда они начали кричать: «Раскаиваемся!» – то государь отломил кусок кренделя и изволил скушать, сказав: «Ну вот я ем ваш хлеб и соль, конечно, я могу вас простить, но как Бог вас простит?!»
Потом приказал мне командовать: «Налево кругом» – и выстроить фронт; и когда они обращены были лицом к государю, то он благодарил меня и гг. офицеров, бывших во фронте; но так как не все офицеры того стоили, то я остановил государя и сказал ему, что не все стоят его благодарности и о достойных подал ему список, который у меня припасен был; причем доложил ему, что я, именем его, одного унтер-офицера произвел в прапорщики. Государь спросил «За что? и когда?» – я доложил, что за предложение пробиться с 30 человеками на штыках со знаменем и денежным ящиком в город. Его величество, подозвав к себе Перекопаева, поцеловал его и утвердил.
После, вышед из экзерциргауза, поехал на гауптвахту, где поздоровался с поселянами, стоявшими на часах с косами вместо ружей, ибо резервный баталион я сменил, по приказанию графа Орлова, чтоб приготовить к выступлению в Новгород. Там на гауптвахте я представил арестантов, кои не послушались выпускавших их военных поселян. Государь благодарил их, и после они оставлены были без наказания.
От гауптвахты государь поехал в Новгород; приехав туда, был в церкви Св. Николая Качанова.
По отбытии государя из округа я отслужил с поселянами благодарственный молебен и распустил их по домам, а сам поехал в Новгород, где еще раз видел государя.
На другой день государь делал смотр всем резервным баталионам в Новгороде и приказал отправить их в Гатчину. В ночи на 27-е число государь отправился обратно в Петербург, получив уведомление, что государыня почувствовала приближение родов.
Если внимательно вчитаться в рассказ Панаева, то станет ясно, что уверенный в своем гипнотическом воздействии на возбужденную толпу Николай едва не просчитался, и просчет этот мог стоить ему жизни.
То, что, прочитав на лице Панаева «смущение», граничившее с ужасом, Николай тут же отказался от требования выдачи зачинщиков и согласился вкусить хлеб, от которого только что грозно отказался, свидетельствует, что он понял страшную опасность момента…
Историки уже отмечали странную судьбу подполковника Панаева, которому удалось притушить бунт еще до прибытия императора с войсками. Казалось бы, он мог рассчитывать на незаурядную карьеру. Ничего подобного. В тот момент он был произведен в полковники, а затем на всю жизнь застрял в генерал-майорах.
Объясняется это, конечно же, тем, что он оказался свидетелем мучительной для Николая сцены, когда ему пришлось пойти на попятный, фактически стушеваться перед бунтовщиками и ретироваться, не добившись исполнения своего требования. И Николай не простил Панаеву зрелища собственного унижения.
Фраза, обращенная к поселянам: «Конечно, я могу вас простить, но как Бог вас простит?», была вынужденной. Никого прощать Николай не собирался. Ему нужно было снять остроту момента. Он испугался…
Из воспоминаний современника
Когда привели на плац первую партию, то их невозможно было узнать, до того они были исхудалы, печальны и обросли, что не походили на людей… Для большей безопасности кругом плац-парада гарцевали два эскадрона драгун. Вскоре приехал генерал Данилов, назначенный для наблюдения за порядком во время экзекуции. Поздоровавшись с полубаталионом Астраханского полка, он начал говорить солдатам, что когда придет время наказывать бунтовщиков-поселян, то не щадить их – ибо кто окажет им малейшую снисходительность, того он сочтет за пособника и ослушника воли начальства, а следовательно, за такого же бунтовщика, как и поселяне… «Стегать их, шельмецов, без милосердия, по чему ни попало, – прибавил он. Затем, обратившись к поселенному баталиону, собранному для присутствия на экзекуции, сказал: – Ну что, разбойники? Что наделали? Вот теперь любуйтесь, как будут потчевать вашу братию…» Страшная была картина: стон и плач несчастных, топот конницы, лязг кандалов и барабанный, душу раздирающий бой – все это перемешалось и носилось в воздухе. Наказание было настолько невыносимым, что вряд ли из 60 человек осталось 10 в живых. Многих лишившихся чувств волокли и все-таки нещадно били. Были случаи, что у двоих или троих выпали внутренности… Морозова, который писал прошение от имени поселян, били нещадно. Несмотря на его коренастую фигуру и высокий рост, он не вытерпел наказания, потому что его наказывали так: бьют до тех пор, пока не обломают палок, потом поведут опять и снова остановят, пока не обломают палок. Ему пробили бок, и он тут же в строю скончался.
Из воспоминаний художника-гравера Лаврентия Авксентьевича Серякова
Виновных в нашем округе оказалось около 300 человек. Квартиры убитых штаб-офицеров, обер-офицеров, докторов и других лиц обращены были в арестантские тюрьмы, в окна вставили железные решетки. В эти временные тюрьмы, в деревянных тяжелых колодках, были рассажены арестованные. Охраняли их казаки и солдаты резервов, потом прислан был еще батальон солдат, кажется, из Петербурга.
Обвиняемые, сколько помню про наш округ, просидели в тюрьмах до Великого поста 1832 года, в томительном ожидании окончательного решения своей участи. Наконец участь эта была решена: одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой кобыле, а других – к прогнанию шпицрутенами.
Я живо помню эти орудия казни. Кобыла – это доска длиннее человеческого роста, дюйма в 3 толщины и в пол-аршина[14] ширины, на одном конце доски – вырезка для шеи, а по бокам – вырезки для рук, так что когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем, шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискось, под углом.
Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут длиной аршина полтора, а на кончик кнута навязывался 6– или 8-вершковый, в карандаш толщиной, четырехгранный сыромятный ремень.
Что же касается до шпицрутенов, то я вполне ясно помню, что два экземпляра их, для образца, были присланы (как я позже слышал) Клейнмихелем в канцелярию округа из Петербурга. Эти образцовые шпицрутены были присланы, как потом мне рассказывали, при бумаге, за красной печатью, причем предписывалось изготовить по ним столько тысяч, сколько потребуется. Шпицрутен – это палка в диаметре несколько менее вершка, в длину – сажень[15]; это гибкий, гладкий прут из лозы. Таких прутьев для предстоящей казни бунтовщиков нарублено было бесчисленное множество, многие десятки возов.
Наступило время казни. Сколько помню, это было на первой или на второй неделе Великого поста. Подстрекаемый детским любопытством (мне шел 9-й год), я бегал на плац, лежащий между штабом и церковью, каждый день во все время казней. Морозы стояли в те дни самые лютые.
На плацу, как теперь вижу, была врыта кобыла, близ нее прохаживались два палача, парни лет 25, отлично сложенные, мускулистые, широкоплечие, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними толпились родственники осужденных.
Около 9 часов утра прибыли на место казни осужденные к кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101 удару кнутом, другие – к 70 или к 50, а третьи – к 25 ударам кнута. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время, как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому, кнут тащился между ног палача по снегу; когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правою рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и т. д.
Наивно-детскими, любопытными глазами следил я за взмахами кнута и смотрел на спину казнимых: первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам, под левый бок, и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро, затем уже их рубили, как мясо. Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень, очень медленно.
При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал ни стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать.
Под кнутом, сколько помню, ни один не умер (помирали на второй или третий день после казни); между тем каждый получал определенное приговором суда число ударов.
Но ударами кнута казнь не оканчивалась. После кнута наказанного снимали с кобылы и сажали на барабан; на спину, которая походила на высоко вздутое рубленое мясо, накидывали какой-то тулуп. Палач брал коробочку, вынимал из нее рукоятку, на которой сделаны были буквы из стальных шпилек в ½ дюйма длины; шпильки эти изображали, помнится, букву «К» и еще какие-то буквы. Палач, держа рукоятку в левой руке, приставлял штемпель ко лбу несчастного, затем правой рукой со всего размаху ударял по другому концу рукоятки, шпильки вонзались в лоб, и таким образом получалось требуемое клеймо, таким же приемом быстро высекались буквы на обеих щеках. После отнятия клейма из ранок сочилась кровь, палач затирал кровавые буквы каким-то порошком, чуть ли не порохом, так что в каждой прорези оставался черный след. Таким образом, получался знак, который впоследствии, как я слышал, делается совершенно белым и не может уничтожиться очень долго, остается на всю жизнь.
Казнь кнутом продолжалась до сумерек, и во все это время били барабаны.
Наказание шпицрутенами происходило на другом плацу, за оврагом. На эту казнь я бегал по нескольку раз в течение двух недель; холодно, устану – сбегаю домой, отогреюсь и опять прибегу. Музыка, видите ли, играла там целый день – барабан да флейта, – это и привлекало толпу ребятишек.
На этом плацу, за оврагом, два батальона солдат, всего тысячи в полторы, построены были в два параллельных друг другу круга, шеренгами лицом к лицу. Каждый из солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой – шпицрутен. Начальство находилось посередине и по списку выкликало, кому когда выходить и сколько пройти кругов, или, что то же, получить ударов. Вызывали человек по 15 осужденных, сначала тех, которым следовало каждому по 2000 ударов. Тотчас спускали у них рубашки до пояса, голову оставляли открытой. Затем каждого ставили один за другим, гуськом, таким образом: руки преступника привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, причем, очевидно, вперед бежать было невозможно, нельзя также и остановиться или попятиться назад, потому что спереди тянут за приклад два унтер-офицера. Когда осужденных устанавливали, то под звуки барабана и флейты они начинали двигаться друг за другом. Каждый солдат делал из шеренги правой ногой шаг вперед, наносил удар и опять становился на свое место. Наказываемый получал удары с обеих сторон, поэтому каждый раз голова его, судорожно откидываясь, поворачивалась в ту сторону, с которой следовал удар. Во время шествия кругом, по зеленой улице, слышны были только крики несчастных: «Братцы! Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте!»
Если кто при обходе кругом падал и даже не мог идти, то подъезжали сани, розвальни, которые везли солдаты, клали на них обессиленного, помертвевшего и везли вдоль шеренги; удары продолжали раздаваться до тех пор, пока несчастный ни охнуть, ни дохнуть не мог.
В таком случае подходил доктор и давал нюхать спирту. Мертвых выволакивали вон, за фронт.
Начальство зорко наблюдало за солдатами, чтобы из них кто-нибудь не сжалился и не ударил бы легче, чем следовало.
При этой казни, сколько помню, женщинам не позволялось присутствовать, а, по приказанию начальства, собраны были только мужчины, в числе которых находились отцы, братья и другие родственники наказываемых. Всем зрителям довелось пережить страшные, едва ли не более мучительные часы, чем казнимым. Но мало того. Были случаи, что между осужденными и солдатами, их наказывающими, существовали близкие родственные связи: брат бичевал брата, сын истязал отца… Наказанных развозили по домам обывателей на санях, конвоируемых несколькими казаками. Надобно заметить, что, так как всех 300 человек, наказанных в одном только нашем округе, в лазарете поместить было нельзя, то для них отведены были некоторые избы поселян. Сюда уже беспрепятственно ходили все родные, приносили больным съестные припасы и водку для обмывания ран: водка предохраняла раны от гниения.
Ни одному из наказанных шпицрутенами не было назначено, как мне потом рассказывали, менее 1000 ударов; большей же частью – давали по 2, даже по 3 тысячи ударов; братьям Ларичам, как распространителям мятежа, дано по 4000 ударов каждому, оба на другой день после казни умерли. Перемерло, впрочем, много из казненных, этому способствовали недостаток докторов, отсутствие медицинских средств, неимение хороших помещений, недостаток надлежащего ухода за больными и проч. В народе во все время казней и всех их последствий не замечалось никакого озлобления, ни малейшего ропота против начальства, говорили только: «Господь наказывает нас за грехи».
Ни до, ни после николаевского царствования это чудовищное наказание не применялось с такой угрюмой последовательностью, и ни один император не подписывал столь бестрепетно эти приговоры к мучительной смерти.
Был ли Николай Павлович жесток?
Из воспоминаний эмигранта-публициста Ивана Гавриловича Головина
Одного солдата из инженерных войск приговорили к прогнанию сквозь строй. Николай, бывший тогда начальником инженеров, прибавил от себя число ударов, назначенных солдату; его адъютант М… П… заметил, что не следовало ничего изменять в приговоре, так как несчастный все равно умрет. Николай согласился с этим доводом, но адъютант был поражен тем равнодушием, с которым он подписал смертный приговор.
Из статьи историка Сергея Владимировича Мироненко «Николай I»
Столкнувшись в первые годы своего царствования с повседневным пренебрежением к нормам закона, Николай принялся упорно и постоянно это пресекать. Характерны его резолюции на мемориях Государственного совета по поводу случаев применения пыток полицией и судебными органами.
[Например]…эмоциональная резолюция на мемории о смерти некоего Климова, посаженного столичным начальством «в неподвижную колоду», где он бился, «кричал и через несколько часов умер». Николай писал: «Из дела видно, что человек от последствий пытки умер. Дело ужасное и доказывающее совершенное небрежение начальства. Я предписываю заготовить указ Сенату, дабы оным наистрожайше подтверждено было, чтобы никто и нигде не осмеливался выдумывать особых способов наказания или содержания под предлогом безопасности».
Отвращение к жестокости, к самой возможности пытки, очевидное в словах императора, вызывает уважение. Однако может показаться необъяснимым, почему Николай так ужасается гибели одного человека под пыткой и совершенно хладнокровно воспринимает смерть сотен солдат, засеченных шпицрутенами во время подавления волнений 1831 года в Новгородских военных поселениях. Все дело в том, что шпицрутены были предусмотрены законом, воинским уставом. А стул с цепями и неподвижная колода были незаконны.
При этом, правда, надо вспомнить резолюции, которыми молодой император сопровождал мятежников 14 декабря, отправляя их после допросов в Петропавловскую крепость, – «Заковать так, чтоб пошевелиться не мог».
Это ли не пытка?
А под шпицрутенами гибли не сотни, а тысячи приговоренных. И Николай, разумеется, это прекрасно знал…
Из журнала «Русская старина». 1883 год, декабрь
Во время отсутствия графа Воронцова из Одессы в 1827 году новороссийскими губерниями управлял тайный советник граф Пален. Во всеподданнейшем рапорте от 11 октября 1827 года граф донес о тайном переходе двух евреев через р. Прут и присовокуплял, что одно только определение смертной казни за карантинные преступления способно положить конец оным. Император Николай на этом рапорте написал нижеследующую резолюцию:
«Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава богу смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить».
Мы уже не в первый раз встречаемся с этим выражением августейшего гуманизма. Стало быть, для Николая Павловича это был привычный и естественный подход к решению человеческой судьбы.
Из статьи Льва Николаевича Толстого «Николай Палкин»
Мы ночевали у 95-летнего солдата. Он служил при Александре I и Николае.
– Что, умереть хочешь?
– Умереть? Еще как хочу. Прежде боялся, а теперь об одном Бога прошу: только бы покаяться, причаститься привел Бог. А то грехов много.
– Какие же грехи?
– Как какие? Ведь я когда служил? При Николае; тогда разве такая, как нынче, служба была! Тогда что было? У! Вспоминать, так ужасть берет. Я еще Александра застал. Александра того хвалили солдаты, говорили – милостив был.
И вспомнил последние времена царствования Александра, когда из 100 – 20 человек забивали насмерть. Хорош же был Николай, когда в сравнении с ним Александр казался милостивым,
– А мне довелось при Николае служить, – сказал старик. И тотчас же оживился и стал рассказывать.
– Тогда что было, – заговорил он. – Тогда на 50 палок и порток не снимали; а 150, 200, 300… насмерть запарывали.
Говорил он и с отвращением, и с ужасом, и не без гордости о прежнем молодечестве.
– А уж палками – недели не проходило, чтобы не забивали насмерть человека или двух из полка. Нынче уж и не знают, что такое палки, а тогда это словечко со рта не сходило. Палки, палки!.. У нас и солдаты Николая Палкиным прозвали. Николай Павлыч, а они говорят Николай Палкин. Так и пошло ему прозвище.
– Так вот, как вспомнишь про то время, – продолжал старик, – да век-то отжил – помирать надо, как вспомнишь, так и жутко станет. Много греха на душу принято. Дело подначальное было. Тебе всыпят 150 палок за солдата (отставной солдат был унтер-офицер и фельдфебель, теперь кандидат), а ты ему 200. У тебя не заживет от того, а ты его мучаешь – вот и грех.
– Унтер-офицера до смерти убивали солдат молодых. Прикладом или кулаком свиснет в какое место нужное: в грудь, или в голову, он и помрет. И никогда взыску не было. Помрет от убоя, а начальство пишет: «Властию Божиею помре». И крышка. А тогда разве понимал это? Только об себе думаешь. А теперь вот ворочаешься на печке, ночь не спится, все тебе думается, все представляется. Хорошо, как успеешь причаститься по закону христианскому, да простится тебе, а то ужасть берет. Как вспомнить все, что сам терпел да от тебя терпели, так и аду не надо, хуже аду всякого…
Я живо представил себе то, что должно вспоминаться в его старческом одиночестве этому умирающему человеку, и мне вчуже стало жутко. Я вспомнил про те ужасы, кроме палок, в которых он должен был принимать участие. Про загоняние насмерть сквозь строй, про расстреливание, про убийства и грабежи городов и деревень на войне (он участвовал в польской войне), и я стал расспрашивать его про это. Я спросил его про прогоняние сквозь строй.
Он рассказал подробно про это ужасное дело. Как ведут человека, привязанного к ружьям и между поставленными улицей солдатами с шпицрутенами палками, как все бьют, а позади солдат ходят офицеры и покрикивают: «Бей больней!»
– «Бей больней!» – прокричал старик начальническим голосом, очевидно не без удовольствия вспоминая и передавая этот молодечески-начальнический тон.
Он рассказал все подробности без всякого раскаянии, как бы он рассказывал о том, как бьют быков и свежуют говядину. Он рассказал о том, как водят несчастного взад и вперед между рядами, как тянется и падает забиваемый человек на штыки, как сначала видны кровяные рубцы, как они перекрещиваются, как понемногу рубцы сливаются, выступает и брызжет кровь, как клочьями летит окровавленное мясо, как оголяются кости, как сначала еще кричит несчастный и как потом только охает глухо с каждым шагом и с каждым ударом, как потом затихает и как доктор, для этого приставленный, подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли еще бить человека или надо погодить и отложить до другого раза, когда заживет, чтобы можно было начать мученье сначала и додать то количество ударов, которое какие-то звери, с Палкиным во главе, решили, что надо дать ему. Доктор употребляет свое знание на то, чтобы человек не умер прежде, чем не вынесет все те мучения, которые может вынести его тело.
Рассказывал солдат после, как после того, как он не может больше ходить, несчастного кладут на шинель ничком и с кровяной подушкой во всю спину несут в госпиталь вылечивать с тем, чтобы, когда он вылечится, додать ему ту тысячу или две палок, которые он недополучил и не вынес сразу.
Рассказывал, как они просят смерти и им не дают ее сразу, а вылечивают и бьют другой, иногда третий раз. И он живет и лечится в госпитале, ожидая новых мучений, которые доведут его до смерти.
И его ведут второй или третий раз и тогда уже добивают насмерть. И все это за то, что человек или бежит от палок, или имел мужество и самоотвержение жаловаться за своих товарищей на то, что их дурно кормят, а начальство крадет их паек.
Он рассказывал все это, и когда я старался вызвать его раскаяние при этом воспоминании, он сначала удивился, а потом как будто испугался.
– Нет, – говорит, – это что ж, это по суду. В этом разве я причинен? Это по суду, по закону…
Крестьянский вопрос
После пугачевщины, тяжко травмировавшей сознание как рядового дворянства, так и высшей власти, любому разумному человеку было ясно, что вопрос крепостного права есть роковой вопрос внутренней политики России.
Война 1812 года, в которой крестьянство приняло столь яростное участие, породило надежды на скорую перемену в его, крестьянства, жизни.
Этого не произошло. Триумфатор, победитель Наполеона, кумир молодого офицерства Александр I трагически упустил момент для начала фундаментальных реформ…
Страшная вещь – обманутые народные ожидания.
В отчете императору Николаю за 1839 год шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф писал: «Крепостное право есть пороховой погреб под государством».
Русское дворянство постоянно ощущало грозный вулканический гул под ногами.
Не в последнюю очередь это стимулировало возникновение тайных обществ, взрыв 14 декабря и мятеж Черниговского полка.
Николай понимал, что крестьянский вопрос – центральный вопрос его царствования. Но как приступить к делу, он не знал.
Ему нужны были надежные соратники. Таковых оказалось только два: Михаил Михайлович Сперанский и Павел Дмитриевич Киселев.
Из записок барона Модеста Андреевича Корфа
«Сперанского, – говорил государь, – не все понимали и не все довольно умели ценить; сперва я и сам, может быть, больше всех был виноват против него в этом отношении. Мне столько было наговорено о его либеральных идеях; клевета коснулась его даже и по случаю истории 14 декабря! Но потом все эти обвинения рассыпались как пыль. Я нашел в нем самого преданного, верного и ревностного слугу, с огромными сведениями, с огромной опытностью. Теперь все знают, чем Россия ему обязана – и клеветники умолкли».
Николай был слишком самоуверен в оценке людей. Он сильно преувеличивал свою проницательность. Сперанский и в самом деле был близок с некоторыми из членов тайных обществ и, безусловно, разделял многие их идеи. Вполне возможно, что в случае победы мятежников 14 декабря он вошел бы во Временное правление, которому декабристы собирались вручить власть.
Но, испытав в александровское время клевету, унижение, ссылку, Сперанский сделался крайне осторожен и держал свои идеи при себе. Но во всяком случае, он был несомненным противником крепостного права в тех его формах, в которых оно тогда существовало.
Говоря о его заслугах перед Россией, Николай имел в виду Полное собрание российских законов, изданное под руководством Сперанского. Сперанский входил и во все секретные комитеты, которые император создавал для выработки антикрепостнических программ. Он и Павел Дмитриевич Киселев были в этих комитетах последовательными сторонниками реформ.
В приватных заметках Сперанский ясно сформулировал свое представление о положении русского общества.
Из записки Михаила Михайловича Сперанского «О коренных законах государства»
Я нахожу в России два состояния – рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов.
Киселев, с молодости думавший об отмене крепостного права, был естественным союзником Сперанского. Но положение его было куда прочнее. После блестящего руководства армией в войне с Турцией он был назначен наместником оккупированных Дунайских княжеств – Молдавии и Валахии – и провел там радикальные реформы, освободив, в частности, крестьян из-под власти местных феодалов.
Из воспоминаний дочери Николая I великой княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской
Весной этого года [1834] с Нижнего Дуная возвратился Киселев. Он пробыл там с самого окончания турецкой кампании в 1828 году, чтобы привести в порядок эти прекрасные, богатые земли, так долго страдавшие под турецким ярмом. Еще и теперь, после пятидесяти лет, Молдавия и Валахия, которые ныне принадлежат Румынии, вспоминают с благодарностью реформы Киселева, положившие начало их экономическому благосостоянию. Он, в свою очередь, любил этот край, его мягкость, синеву его небес, и еще его удерживала там сердечная привязанность. Мне в то время было двенадцать лет. Как сейчас вижу его таким, каким он был, когда вернулся: красивый мужчина лет около сорока, с выразительными глазами, очаровывающий собеседника, о чем бы он ни говорил. Совершенно независимый в своих взглядах, всегда полный блестящих идей, образованный и в то же время всегда готовый научиться еще чему-нибудь, он даже и в разговорах с пап́а, который с ним очень считался, сохранял свою независимость. Один из одареннейших деятелей тогдашнего царствования, с 1835 года он стал членом всех тайных комитетов по крестьянскому вопросу. С этих пор в течение пятнадцати лет он оставался всегда дорогим гостем нашего дома. В разговорах с глазу на глаз пап́а любил противоречия, даже охотно вызывал на них, и он особенно любил свободную манеру Киселева в разговорах.
Киселев вернулся в Петербург 8 мая 1834 года и на следующий же день был призван к императору. Отчет о проделанной работе он послал императору заранее.
Разговор Николая и Киселева приводит А. П. Заблоцкий-Десятовский.
Из книги Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Киселев и его время»
– Я читал твой отчет, я прочитал его весь с большим удовольствием.
– Ужели ваше величество приняли труд сами прочесть эту толстую тетрадь, в которой много вещей бесполезных?
– Я посвятил три вечера на это чтение. Меня в особенности заинтересовало то, что ты говоришь об освобождении крестьян. Мы займемся этим когда-нибудь; я знаю, что могу рассчитывать на тебя, ибо мы оба имеем те же идеи, питаем те же чувства в этом важном вопросе, которого мои министры не понимают и который их пугает.
Император показал Киселеву на папки, во множестве стоящие на полках.
Из книги Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Киселев и его время»
– Здесь со вступления моего на престол собрал все бумаги, относящиеся до процесса, который я хочу вести против рабства, когда наступит время, чтобы освободить крестьян по всей империи…
За первой аудиенцией последовала вторая.
Из книги Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Киселев и его время»
[Киселев рассказывал: ] «В 1834 году по возвращении моем из княжеств, император Николай Павлович, при вечернем разговоре, изволил мне сказать, что, занимаясь подготовлением труднейших дел, которые могут пасть на наследника, он признает необходимейшим преобразование крепостного права, которое в настоящем его положении более оставаться не может. „Я, – продолжал государь, – говорил со многими из моих сотрудников и ни в одном не нашел прямого сочувствия; даже в семействе моем некоторые (Константин и Михаил Павловичи) были совершенно противны. Несмотря на то, я учредил комитет из 7 членов для рассмотрения постановлений о крепостном праве. Я нашел противодействие. По отчету твоему о княжествах я видел, что ты этим делом занимался и тем положил основание к будущему довершению этого важного преобразования; помогай мне в деле, которое я почитаю должным передать сыну с возможным облегчением при исполнении, и для того подумай, каким образом надлежит приступить без огласки к собранию нужных материалов и составлению проекта или руководства к постепенному осуществлению мысли, которая меня постоянно занимает, но которую без доброго пособия исполнить не могу“.
Я не скрыл от Государя удовольствия, с которым выслушал христианское его предложение, которое при удачном совершении, возвысит Россию и его царствование; но вместе с тем я не умолчал о предстоящих затруднениях, которые потребуют больших усилий и энергии. В нескольких словах я объяснил различие нашего законодательства от того, которое сохранилось в княжествах: там с XVI столетия гражданская свобода установилась соборною грамотою господаря Гики; бояры, т. е. исключительные владельцы земли, мало-помалу исказили статьи этой первоначальной грамоты, заменяя ее произволом, по их сказанию, обычаем: основный закон был изменен произвольным действием землевладельцев без участия законодательной власти при слабом и корыстном господарском управлении; у нас, напротив, крепостное право постепенно входило в состав законов и утвердилось наконец понятие, что человек, живущий на помещичьей земле, есть вещь, принадлежащая помещику. В княжествах я мог, основываясь на коренных законах, никогда не отмененных и не замененных другими, составить предварительное положение, которое хлебопашцами было встречено с восторгом, а боярами без особого неудовольствия. Это положение было моим прощальным приветом. Оно показало, однако же, мне все трудности предмета и недостаточную мою опытность в подобном деле; не менее того я с душевным удовольствием принимаю ваше приказание, более уповая на усердие, чем на способности, коими располагать могу…
Государь, перебив мои слова, изволил сказать: „И я неопытен, но твердо уповаю на внушение Всевышнего, который нас просветит и направит“ (это изречение было ему обычное, и я не раз слышал его при разрешении затруднительных и спорных вопросов); этим заключился тот первый разговор о сем предмете. Государь, отпуская меня, подтвердил необходимость содержать в строгой тайне его преднамерение, прибавив: „Ты можешь при объяснениях с Сперанским об учреждении V отделения моей канцелярии коснуться и крестьянского вопроса вообще, не упоминая о нашем нынешнем разговоре. Он одарен необычайною памятью и всегда готов отвечать положительным образом на все обстоятельства того времени; он пострадал невинно, я это слышал от императора Александра Павловича, который говорил, что он в долгу пред этою жертвою политических столкновений, которые тогда преодолеть не мог, но которые он себя обязанным вознаградить считает. Покойный государь начал, а я должен это довершить“».
Этот разговор и высказанная пред тем его величеством, при первом свидании с Киселевым, по его возвращении, в минуты откровенности, готовность вести войну против рабства – название, в другом интимном разговоре, Киселева «начальником штаба по крестьянскому делу», давали ему надежду, что судьба предназначила ему главную роль в деле освобождения крестьян. Эта надежда, эта вера в свою миссию не покидали Киселева до отъезда его из отечества.
Император Николай Павлович был верен своему слову: он вел войну с рабством во все свое царствование, но не решался взглянуть прямо в лицо чудовищу и дать ему генеральную битву; война его с крепостным нравом была, так сказать, партизанскою, в которой за набегами более или менее удачными, следовали иногда и отступления. Он, подобно великой своей бабке, мог сказать: «Крестьянский вопрос дело весьма трудное: где только начнут его трогать, он нигде не поддается». Не находя ни в ком, ни в своем семействе, ни в окружавших его, кроме Киселева, поддержки своему желанию уничтожить крепостное право, государь не решался на издание общего и притом обязательного закона, а ограничивался мерами частными, более или менее пальятивного свойства, предпринимавшимися под влиянием господствовавшей тогда мысли, что такими лишь мерами крепостное право уничтожится постепенно, мало-помалу, и что крестьяне получат свободу прежде, чем слово будет высказано в законе, и наконец, что действия решительные в крестьянском вопросе повлекли бы за собой грозные для государства опасности. Поэтому история крепостного права в царствование императора Николая не представляет ничего целого; ее составляют отдельные мероприятия….Во всех совещаниях об этих мерах участвовал Киселев, и голос его имел большое значение…
Из воспоминаний Александры Осиповны Смирновой-Россет
Государь сказал Киселеву: «Пора мне заняться нашими крестьянами. Я то и дело получаю известия, что в той или другой губернии стреляют в помещиков, в Кременчуге высекли почтенного Паскевича (не фельдмаршала, а его родственника. – Я. Г.), потому что, как военный, он строго требовал порядка; высекли несчастного Базилевского – я отдам его под опеку, он живет в нужде, все знают, что его секли, и все его презирают, а он и в ус не дует. Я не хочу разорять дворян. В 12 году они сослужили службу, жертвовали и кровью и деньгами… Я хочу отпустить крестьян с землей, но так, чтобы крестьянин не смел отлучаться из деревни без спросу барина или управляющего: дать личную свободу народу, который привык к долголетнем рабству, опасно. Я начну с инвентарей; крестьянин должен работать на барина три дня и три дня на себя; для выкупа земли, которую он имеет, он должен будет платить известную сумму по качеству земли, и надобно выплатить несколько лет, земля будет его. Я думаю, что надо сохранить мирскую поруку, а подати должны быть поменее»….Затем последовал указ об обязанных крестьянах, который остался мертвой буквой.
Прежде чем приступить к взрывоопасной проблеме крепостных крестьян, Николай решил заняться устройством быта крестьян государственных, которых в России были миллионы и которые существовали отнюдь не благополучно.
В 1769 году, в самые либеральные времена Екатерины II, ею был издан указ, касающийся именно государственных, или казенных, крестьян.
Из указа Екатерины II 1769 года «О государственных крестьянах»
В случае неуплаты крестьянами в годовой срок подушной недоимки забирать в города старост и выборных, держать под караулом, употреблять их в тяжелые городовые работы без платежа заработанных денег, доколе вся недоимка заплачена не будет.
Сенатор Иван Васильевич Капнист, обозревший положение казенных крестьян с 1821 по 1838 год, представил картину печальную и выразительную. Недаром император поручил расхлебывать эту с XVIII века варившуюся кашу именно твердому и преданному своим идеям Киселеву.
Из дневника Павла Дмитриевича Киселева
1836 года февраля 17-го
Я имел честь обедать у его императорского величества с графами Головкиным и Бенкендорфом. После обеда, по отъезде сих господ, государь приказал мне остаться и, посадив меня противу своего стула, начал следующий разговор: «Мне с тобою нужно объясниться по делу, которое тебе известно, ибо ты, кажется, в комитете с Васильчиковым. Дело об устройстве крестьян (казенных). Я давно убедился в необходимости преобразования их положения; но министр финансов, от упрямства или неуменья, находит это невозможным. Я его знаю и потому настаивал на необходимости заняться пристально и, увидев, что с ним это дело не пойдет, решился приступить к нему сам и положить основание под личным своим руководством.
Я желаю прежде всего сделать испытание на петербургской губернии и, как во всяком преобразовании, надо прежде всего иметь ясное понятие о том, что есть то размежевание земель, которое Канкрин (министр финансов. – Я. Г.) всегда представляет невозможным, должно быть первоначальным действием этого занятия. Я приказывал Сперанскому объясниться по сему с Шубертом[16] и получил в ответ, что он имеет возможность дать на сей предмет свое пособие; вот начало – но тут много подробностей, которыми и некогда мне заниматься и которые, признаюсь, мне мало знакомы. Посему мне нужен помощник, и, как я твои мысли на этот предмет знаю, то хочу тебя просить принять все это дело под свое попечение и заняться со мною предварительным, примерным устройством этих крестьян, после чего мы перейдем в другие губернии и мало-помалу круг нашего действия расширится. Канкрин сам уже убедился, что на нынешнем основании от департамента успеха ждать не можно, а я ему доказал по прочтении исходящих и входящих бумаг за целую неделю, что они пишут вздор, что он бумаг этих не видит и что все дело идет без толку. Поручить же преобразование петербургских крестьян Эссену (петербургский генерал-губернатор. – Я. Г.) – кроме вздора ничего не будет. А потому не откажи мне и прими на себя труд этот в помощь мне».
Я встал и сказал государю, что готов с душевным удовольствием посвятить все свои силы и усердие на дело столь важное и тем более для меня лестное, что я почитаю устроение крестьян как дело великое его царствования и как дело необходимое для будущего спокойствия государства, что я готов быть его секретарем, лишь бы я мог иметь ту силу нравственную в делах, которая необходима для успеха; что министры финансов и внутренних дел это новое учреждение не будут видеть с удовольствием, что борьба была бы неравная для меня, если все дело не будет совершаться под его, государевым, личным влиянием; что, наконец, я на этот предмет совершенно полагаюсь на его величество и благодарю за доверие, которое потщусь оправдать всеми силами, доколе их не утрачу…
Это в высшей степени характерная для николаевского царствования ситуация. Император не доверяет ни министрам, ни генерал-губернатору, деятельность которых, как он полагает, может породить лишь вздор, и выстраивает некую параллельную систему для решения насущных государственных задач.
Из письма Павла Дмитриевича Киселева Николаю I
По личному внимательному наблюдению моему безнравственность установленных властей и самих крестьян достигла высшей степени и требует усиленных мер для искоренения злоупотреблений, которые расстроили хозяйственный быт крестьян в самом основании, породили в них нерасположение к труду, и без того мало вознаграждаемому, и тем остановили, а в некоторых случаях уничтожили надлежащее развитие государственного богатства. Огромные недоимки, накопившиеся после Всемилостивейшего манифеста 1826 года, служат достаточным тому доказательством, а запутанность сих недоимок, и особенно меры, употребляемые к сбору оные, часто с людей и селений, не подлежащих взысканию, производят в одних равнодушие, а в других беззаботливость к исправному выполнению повинностей и, угрожая конечным разорением крестьян, могут поселить в них чувства, доселе добродушному русскому народу несвойственные.
Киселев прямо говорил об угрозе крестьянского бунта. Какие чувства по отношению к властям свойственны могут быть «добродушному русскому народу», показала пугачевщина, о которой прекрасно помнили все, а император даже и говорил.
Недаром Николай способствовал изданию пушкинского «Пугачевского бунта».
Из статьи историка Сергея Владимировича Мироненко «Николай I»
Однако заниматься одновременно и государственной, и помещичьей деревней Николай признал неудобным, и было решено начать с подготовки реформы государственных крестьян. Для этого создали специальное Пятое отделение Собственной его императорского величества канцелярии, во главе которого поставили П. Д. Киселева. Внутри отделения при активном содействии М. М. Сперанского создали новую систему управления государственными имениями.
Вновь и вновь проводилась в жизнь мысль Николая о том, что государство, ничего решительно и принципиально не меняя, в состоянии решить любые проблемы одними структурными преобразованиями.
Вершиной мощного бюрократического аппарата стало министерство государственных имуществ, в губерниях были созданы палаты государственных имуществ, ставшие местными органами министерства. Каждая губерния делилась на несколько округов, во главе которых стояли окружные начальники и их помощники, каждый округ – на несколько волостей, которые управлялись уже на выборной основе, волости – на сельские общества, где избирались сельские старшины, сельские старосты, сборщики податей, смотрители хлебных магазинов, сотские, десятские и, наконец, члены сельских судебных расправ.
Возник дорогостоящий бюрократический аппарат, в котором чиновник играл ту же роль, что и помещик в частновладельческой деревне. Сохранение в неизменности прежних крепостнических принципов давало многим современникам законное основание считать, что гнет чиновников не столь уж сильно отличается от гнета помещиков, хотя новая система управления позволила несколько улучшить положение государственных крестьян.
Местные и центральные органы занимались увеличением наделов там, где они были меньше установленных норм, переселением государственных крестьян из центров аграрного перенаселения на окраины, где еще хватало свободных земель, улучшалась и регулировалась оброчная система, министерство стремилось перевести все натуральные повинности в денежные и тем самым стимулировать развитие рыночных отношений, строились школы, больницы, ветеринарные пункты, внедрялись прогрессивные формы ведения хозяйства.
Таким образом, хотя реформа и не внесла принципиальных изменений в положение государственных крестьян, все же она принадлежит к немногим удавшимся мероприятиям николаевского царствования. А П. Д. Киселев за свою деятельность в министерстве прочно завоевал в консервативной и реакционной части общества репутацию «красного».
Новый Секретный комитет 1839 года, по мысли Николая I, должен был заложить основы постепенно реализуемой реформы – теперь уже помещичьей деревни. Единственным условием, поставленным императором, была неприкосновенность помещичьей земельной собственности.
Какой же проект реформы был предложен Киселевым комитету? Проанализировав историю крепостного права в России и опыт освобождения крестьян в других странах, он предложил способ освобождения, подобный использованному в Австрии и Дунайских княжествах. Принципами проекта были: отчуждение помещиками части их земельной собственности в пользование крестьян и обязанность последних компенсировать это трудами или денежным оброком, личная свобода крестьян, право на движимую собственность и право, заполнив обязанности в отношении помещика, «переходить в другое состояние или переселяться на другие свободные владельческие земли».
Но… Вся деятельность Комитета 1839–1842 годов – это история того, как консервативное большинство его членов, пользуясь тактикой пассивного сопротивления, критикой без позитивных предложений, сводило на нет любую программу, а вместе с ней и саму идею реформы. Это и история того, как император, столь решительно поддержавший сначала проекты Киселева, шаг за шагом отступал от них, как только наталкивался на сопротивление им самим подобранной бюрократической элиты.
Из журнала Государственного совета от 30 марта 1842 года
По назначении к докладу в сем заседании журнала соединенных департаментов законов и экономии, касательно договоров помещиков с крестьянами, государь император, прибыв в Государственный совет, объявить изволил, что прежде слушания сего дела нужным считает ознакомить членов с своим образом мыслей по сему предмету и с руководившими его величество побуждениями. Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его у нас положении, есть зло, для всех ощутительное и очевидное; но прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным. Блаженной памяти император Александр I, в намерениях коего в начале его царствования было даровать свободу крепостным людям, впоследствии сам отклонился от сей мысли, как еще совершенно преждевременной и невозможной в исполнении. Его величество также не изволит никогда на сие решиться, считая, что если когда можно будет к тому приступить, вообще весьма еще далеко, то в настоящую эпоху всякий помысел о сем был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства. Пугачевский бунт доказал, до чего может достигнуть буйство черни. Позднейшие события и попытки сего рода доселе всегда были счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь точно так же будет предметом особенной и, с помощию Божиею, успешной заботливости правительства. Но нельзя скрывать от себя, что ныне мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что теперешнее положение не может продолжаться навсегда. Причины сей перемены мыслей и чаще повторяющихся в последнее время беспокойств нельзя не отнести главнейшее: во-первых, к собственной неосторожности помещиков, которые дают крепостным своим людям несвойственное им высшее воспитание и, чрез то развивая в них новый круг понятий, делают положение их еще более тягостным; и во-вторых, к тому, что некоторые помещики, хотя, благодаря Богу, самое меньшее их число, забывая благородный долг, употребляют во зло свою власть, а к пресечению сих злоупотреблений дворянские предводители, как многие из них его величеству отзывались, не находят средств в законе, ничем почти не ограничивающем помещичьей власти. Но если настоящее положение таково, что не может продолжаться, а решительные к прекращению оного меры, без общего потрясения, невозможны, то необходимо, по крайности, приуготовить средства для постепенного перехода к иному порядку вещей и, не устрашаясь пред всякою переменою, хладнокровно обсудить ее пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно открыть путь к другому, переходному состоянию, связав с ним ненарушимое охранение вотчинной собственности на землю. Государь император почитает сие священною своею обязанностию и обязанностию преемников своих на престоле, а средства к тому, по мнению его величества, вполне представляются в предложенном ныне Государственному совету проекте указа. Он, во-первых, не есть закон новый, а лишь – последствие и, так сказать, развитие существующего сорок лет закона о свободных хлебопашцах; во-вторых, устраняет, однако же, вредное начало помянутого закона – отчуждение от помещиков поземельной собственности, которую, напротив, столько по всему желательно видеть навсегда неприкосновенною в руках дворянства, мысль, от коей его величество никогда не отступит; в-третьих, выражает прямо волю и убеждение правительства, что земля есть собственность не населенных на ней крестьян, а помещиков, предмет – также первостепенной важности для будущего спокойствия; наконец, в-четвертых, без всяких крутых переворотов, без вида даже нововведения, дает каждому благонамеренному владельцу средства улучшить положение его крестьян и, отнюдь не налагая сего по принуждению или с стеснением прав собственности, предоставляет все единственно доброй его воле и влечению собственного сердца. С другой стороны, оставляя крестьян крепкими той земле, на коей они записаны, проект избегает неудобств тех положений, которые доселе действовали в Остзейских губерниях, положений, доведших крестьян до самого жалкого состояния, обративших их в батраков и побудивших ныне тамошнее дворянство единодушно просить именно того же, что теперь здесь предполагается. Между тем его величество изволит повторять, что все должно идти постепенно и не может и не должно быть сделано разом или вдруг. Настоящий проект содержит в себе одни главные начала и указания. Он открывает, как уже сказано, всякому способ под защитою и при пособии закона следовать сердечному своему влечению. В ограждение интереса помещиков ставится добрая их воля и собственная заботливость, а интерес крестьян будет ограждаться рассмотрением проектов условий не только местными властями, но и высшим правительством, с утверждения власти самодержавной. Идти теперь далее и обнять вперед прочие, может статься, весьма обширные развития сих главных начал невозможно. При желании помещиков воспользоваться действием указа представляемые от них проекты условий, на местностях и на различных родах хозяйства основанные, будучи соображаемы тем же порядком, как договоры с свободными хлебопашцами, по практическим данным укажут, что нужно и можно будет сделать в подробностях и что теперь, при всей осторожности и предусмотрительности, легко могло бы быть упущено. Но отлагать начинание, которого польза очевидна, и отлагать потому лишь, что некоторые вопросы с намерением оставляются неразрешенными и что на первый раз предвидятся некоторые недоумения, государь император не изволит находить никакой причины. Невозможно ожидать, чтобы дело сие принялось вдруг и повсеместно. Это не соответствовало бы даже и видам правительства. Между тем, при постепенном и вероятно медленном развитии на различных пунктах империи, опыт всего лучше придет здесь на помощь. Им развяжутся всего надежнее и такие вопросы, которые теперь, без пособия его, кажутся затруднительными. В законе должны быть одни главные начала; частности разрешатся при частных случаях, и совокупный свод сих случаев впоследствии будет основою целого, положительного уже законодательства.
Далее государь император присовокупить изволил, что хотя делом сим весьма продолжительно и подробно занимался особый комитет, однако, не скрывая от себя всей его важности, его величество не решился подписать указа без нового пересмотра в Государственном совете; почему, любя всегда правду и полагаясь на опытность и верноподданническое усердие его членов, приглашать их изволит изъяснить теперь со всею откровенностию их мысли, не стесняясь личным его величества убеждением. Одного только государь император не может не поставить с прискорбием на вид Совету, именно – той публичной, естественно преувеличенной молвы о сем деле, которой источник заключается в неуместных разглашениях со стороны лиц, облеченных высочайшим доверием и обязанных к хранению государственной тайны самым долгом их присяги. Подтверждая, вследствие того, пред всем собранием Государственного совета о ненарушимом впредь исполнении сего присяжного долга со стороны как членов, так и канцелярии, его величество изволит предварять, что если, сверх ожидания, дошли бы еще до его сведения подобные разглашения, то виновные будут судимы по строгости законов, как за преступление государственное.
Засим, по высочайшей воле, прочтены были государственным секретарем журнал Соединенных департаментов и самый проект указа. Государь император, открывая суждение отдельно по каждой статье, удостоил всемилостивейше выслушать мнения и замечания членов, совокупно с сделанными на них возражениями…
После сего государь император повелеть изволил прочесть для сведения Государственного совета проект циркуляра от министра внутренних дел, который в упреждение всяких превратных толков и могущих произойти от них беспокойств предполагается, по воле его величества, разослать ко всем начальникам губерний современно с обнародованием указа.
Повторив засим вновь сказанное прежде о ненарушимом на будущее время сохранении присяжной по делам тайны, государь император изволил закрыть собрание, удостоив членов всемилостивейшего приветствия с совершением столь благого, в мыслях его величества, дела.
Из книги Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского «Граф Киселев и его время»
…Государственный секретарь граф Корф о заседании 30 марта [1842] в своих записках рассказывает, что «против указа говорили Кутузов[17], граф Гурьев и князь Волконский, а князь Д. В. Голицын предложил новую мысль; он сказал, что договоры, если оставить их на волю владельцев, едва ли кем будут заключаемы, и потому предлагал прямо ограничить власть помещиков инвентарями, взяв в пример и основание известный указ Павла I об ограничении работ крестьян на помещиков 3 днями в неделю.
Но эта мысль очевидно противоречила убеждению государя о необходимости сохранить крепостное право, по крайней мере до времени, неприкосновенным. „Я, конечно, – сказал он, – самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь, как не решусь и на то, чтобы приказать помещикам заключать договоры; это должно быть делом доброй их воли, и только опыт укажет, в какой степени можно будет перейти от добровольного к обязанному“.
Граф Киселев встал только однажды, чтобы сказать коротко, что согласился на заключения комитета и теперь не спорит против них единственно, в той надежде, что это будет предисловием или вступлением к чему-нибудь лучшему и обширнейшему впоследствии времени».
Чрез три дня после Общего собрания Государственного совета, именно 2 апреля, был подписан государем указ об обязанных крестьянах.
Это историческое заседание Государственного совета с основополагающей речью императора было фактическим итогом неоднократных попыток Николая Павловича приступить к реформе крепостного права.
Указ об обязанных крестьянах позволял помещикам в случае их собственного желания освобождать крестьян без земли и заключать с ними договора, по которым крестьяне должны были отрабатывать за пользование землей оброк или барщину. Крестьянин получал личную свободу. Помещик оставлял за собой владение землей.
Ничего сколько-нибудь существенного указ не произвел. До смерти Николая в 1855 году в разряд «обязанных» перешли из 10 миллионов крепостных около 25 тысяч крестьян…
И это понятно – выполнение указа всецело зависело от воли помещика. «Я, конечно, самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь…»
Железный император признал свое поражение. Он отступил. Он боялся дворянства больше, чем грядущей пугачевщины…
Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны
Влечение пап́а к тому, чтобы быть обо всем осведомленным и учиться новому, происходило от сознания, что те науки, которые он проходил в молодости, были недостаточны. Войны в начале столетия и его страсть ко всему военному были тому виной. Совершенно неожиданно он вступил на трон в 1825 году. Он командовал в то время бригадой пехоты и понятия не имел о правлении, о хозяйстве или законодательстве. Он осознавал свою неподготовленность и старался окружить себя достойными людьми. Чтобы создать свод законов, выведя наше законодательство из тогдашнего хаоса, он призвал Сперанского и был удовлетворен окончанием этого труда еще в свое царствование. Его другой большой заботой было улучшение судьбы крестьян. Киселев явился главным его сотрудником в этой области. 26 декабря 1837 года он был поставлен во главе нового Министерства государственных имуществ, в ведение которого поступили все казенные крестьяне; он оставался на этом посту до 1856 года, когда был назначен послом в Париж.
Я не могу судить о том, были ли его реформы удачными или нет. С невероятным трудом и отчаянной решимостью он проводил их в жизнь, встречая всевозможные препятствия, как, например, глубоко укоренившееся предубеждение и злобу тех, чьи интересы были затронуты, а также отрицательное отношение со стороны остальных министров. Думаю, что управление имениями тети Елены (великой княгини Елены Павловны. – Я. Г.), в которых, согласно плану Киселева, проводились приготовления к освобождению крестьян, подтверждает, что таковые могли быть проведены только благодаря личной инициативе и на ограниченном пространстве, так как масса в своем большинстве без определенного водительства не может понять, что значат такие реформы. Во всяком случае пап́а, несмотря на все свое могущество и бесстрашие, боялся тех сдвигов, которые могли из этого произойти.
Надо отдать должное великой княжне Ольге Николаевне, ставшей королевой Вюртембергской, писавшей свои записки уже в 1880-е годы. Она почти буквально повторяет фразу самого Николая о его страхе перед радикальной крестьянской реформой.
Близкие к императору люди понимали степень его нерешительности и корни этой нерешительности.
В 1840-е годы проницательные современники заметили, что одновременно с нарастанием несокрушимой самоуверенности императора он становился все более печальным.
Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны
В конце зимы в одно прекрасное утро, когда мы сидели спокойно у мам́а, занятые чтением вслух и рукоделием, послышались вдруг шаги пап́а в неурочное время. Затянутый в мундир, он вошел с серьезным лицом. «Благослови меня, жена, – сказал он мам́а. – Я стою перед самым значительным актом своего царствования. Сейчас я предложу в Государственном совете план, представляющий собой первый шаг к освобождению крестьян». Это был указ для так называемых оброчных крестьян, по которому крепостные становились лично свободными, но должны были продолжать служить своему помещику дальше. Помещиков призывали к участию в таком освобождении, провести же его в жизнь предоставлялось им самим.
Князь Михаил Воронцов (кавказский наместник) был первым и единственным последовавшим этому призыву. Он пробовал было провести его в одном из своих имений в Петербургской губернии, но встретил столько препятствий со стороны местных учреждений, что почти сожалел о своем шаге. Когда Воронцов пожаловался на это Киселеву, он услышал в ответ: «Что вы хотите! Мы еще варвары». Таким образом, указ остался невыполненным, что было для пап́а горчайшим разочарованием. Когда в 1854 году началась Крымская война, он сказал Саше (наследнику великому князю Александру Николаевичу. – Я. Г.): «Я не доживу до осуществления моей мечты; твоим делом будет ее закончить».
Император глазами графа Киселева
Из воспоминаний Павла Дмитриевича Киселева
Император Николай Павлович в интимных беседах часто говорил о своей недостаточной образованности.
– А как могло быть иначе, – говорил он. – Наш с братом Михаилом главный наставник был не слишком просвещенным человеком и не отличался способностью не то что руководить нашим ученьем, но хотя бы привить нам вкус к нему; напротив, он был ворчлив, а порою жесток. Любая детская шалость приводила его в невообразимую ярость, он нас бранил на все лады, часто сопровождая свою брань щипками, что, разумеется, было весьма неприятно. Мне доставалось сильнее, чем Михаилу, чей легкий и веселый характер больше нравился наставнику.
Государь император при обсуждении того или иного вопроса часто говорил:
– Я этого не знаю, да и откуда мне знать с моим убогим образованием? В 18 лет я поступил на службу и с тех пор – прощай, ученье! Я страстно люблю военную службу и предан ей душой и телом. С тех пор как я нахожусь на нынешнем посту (вместо того чтобы сказать – с тех пор как я царствую и правлю), я очень мало читаю. У меня нет времени, но я все же нахожу его, чтобы почитать Тьера. Выбранный им ныне сюжет и то, как он его преподносит, заставляют меня предпочесть его всем серьезным трудам, которые мне присылают. Я всегда с нетерпением ожидаю следующего тома. В промежутках тешу себя чтением Поля де Кока и «Journal des D́ebats»[18], я читаю его уже 40 лет. Если я и знаю что-то, то обязан этому беседам с умными и знающими людьми. Вот самое лучшее и необходимое просвещение, какое только можно вообразить…
Однажды государь рассказал мне, что, будучи женихом дочери прусского короля, он проездом в Лондон оказался в Париже (по-моему, в 1816 году) и провел целый день в Нейи.
– Я получил столь сильное впечатление от его семейной жизни, – сказал он, – о коей еще недавно я сам мечтал, не отдавая себе в том отчета, что попросил герцога Орлеанского позволения приехать через день проститься с ним и его семьей. Он дал согласие, и я провел еще один день, можно сказать, наслаждаясь счастьем, поскольку мои первые впечатления от Нейи подтвердились; и с тех пор я решил в своей семейной жизни придерживаться усвоенных мною правил. То, что я вам рассказываю, моей жене известно, и она может подтвердить. Людовик Филипп показался мне тогда человеком благородным, мудрым и счастливым. Со всей горячностью молодости я увидел в нем образец той жизни, к коей я себя готовил. Но с той минуты, как он ловким трюком стянул корону со своего племянника короля, чьим опекуном и покровителем по родству он являлся, – о! с той минуты мое отношение к этому человеку не могло не перемениться. Я приказал Нессельроде строго придерживаться всех наших обязательств по отношению к Франции, и когда Пален, назначенный послом, прибыл проститься и спросил меня, что передать королю от моего имени, я ответил: «Ничего. У вас есть дипломатические предписания, достаточно будет их».
Император Николай Павлович в порыве откровенности мог наговорить лишнего. Однажды во время семейного обеда, накрытого на четыре персоны – я был единственным посторонним, – его величество принялся резко порицать Людовика Филиппа. Я позволил себе предупредить его по-русски, что дворецкий, прислуживавший за столом, француз.
– Ну и что? – возразил государь.
– Но такие неосторожные высказывания, ваше величество…
Он не дал мне закончить, заметив, что «такие высказывания – лучшее наказание за дурные поступки; впрочем, если за нами шпионят, пусть получают за свои деньги!»
Государь любил повторять, что без принципа власти нет общественного блага, что это значит исполнять долг, а не пытаться завоевать популярность слабодушием, что народами следует управлять, а не заискивать перед ними, что любовь должна приобретаться благодаря справедливости, что царь, угодничающий перед толпой, в конце концов неизбежно вызывает безразличие, а потом и презрение.
Он был неистощим на эту тему. После переворота 2 декабря император Николай Павлович сказал, что Людовик Наполеон, вернув правительству власть, сослужил неоценимую службу Франции и всей Европе. «Нам следует отдать ему должное».
Позднее на него произвела некоторое впечатление цифра III[19]. Он стал сдержаннее в своих похвалах.
– Посмотрим, – говорил он, – куда это приведет?
Он был очень озабочен посланием Людовику Наполеону в связи с его восшествием на престол.
– Если бы, по крайней мере, – говорил он, – было хоть немного времени, чтобы оценить ситуацию; почти единодушное одобрение французов много значит при нынешнем состоянии Франции, но надо еще посмотреть, как это мнение устоит перед интригами различных партий. Я бы желал, чтобы оно утвердилось, но моего желания недостаточно – надо обладать уверенностью. Наш императорский титул Франция признала только спустя 40 лет, однако отношения между двумя странами оставались неизменно добрососедскими. Я вовсе не настаиваю на таком сроке, но хотелось бы иметь уверенность, что новая революция с помощью всеобщих выборов не опрокинет достижения прежней. Я не отрицаю полностью выборной системы, но лишь указываю на ее недостатки. Наше наследственное правление тоже результат народного выбора, точно так же, как и в Англии. Выбор, павший на Романова, чья мать приходилась сестрой последнему Рюриковичу[20], спас страдавшую от внутренних распрей Россию. Провидение благословило выбор, павший на ребенка. Это исключение, когда за отсутствием наследников по мужской линии священный принцип наследственного права на престол не остался в небрежении. И представьте, я впитал этот принцип так глубоко, что, пока мой брат Константин был жив, я, несмотря на его отказ от трона, всегда считал себя всего лишь его лейтенантом и не предпринял ни одного важного поступка, предварительно не обсудив с ним. Часто это меня стесняло, но я во всю свою жизнь ни разу не отступил от сего правила и, думаю, правильно делал, поскольку законы Провидения выше человеческих поступков, какими бы правильными последние ни выглядели в наших глазах.
В ведении судов находятся официальные документы – почтенные выражения, согласованные и принятые заинтересованными сторонами, но человеческая совесть дается свыше, и она должна иметь преобладающее значение.
Однажды он мне сказал, что если бы он мог выбирать, то не выбрал бы своего нынешнего положения.
– Но я прежде всего христианин, – добавил он, – и подчиняюсь велениям Провидения; я часовой, получивший приказ, и стараюсь выполнять его как могу.
Такие высказывания, хотя и довольно частые, не давали ни малейшего повода к слухам об отречении, возникавшим порою. Император Николай Павлович был слишком верующим человеком, чтобы пытаться уклониться от исполнения долга, внушенного ему, как он сам сознавал, самим Господом.
В разговоре о Турции государь сказал, что как политик не может и желать лучшего соседа, но, к несчастью, эта страна на пути к гибели из-за отвратительного управления, которое только ускоряет неизбежное падение.
– Страну переполняет христианское чувство, а нападки со стороны мусульман только закаляют его, и оно день ото дня становится для них все более опасным и угрожающим. Будь у султана характер потверже, он бы перешел в христианство и народ в большинстве своем последовал бы за ним. Другого ему ничего не остается.
В другой раз в разговоре о европейской Турции он выразился так:
– Рано или поздно, но катастрофа неминуема, и тогда они не будут знать, что делать. Вспыхнут зависть и недоверие, и в погоне за добычей прольются реки крови. В 1844 году в Англии я говорил об этом моему старому другу Веллингтону и тогдашнему министру лорду Абердину. «Надо объединяться, – говорил я им, – чтобы избежать мировой войны. И в доказательство того, что я не жду для себя особой выгоды, я в качестве первого условия выдвигаю следующее: державы, кои пожелают вступить в такой союз, должны отказаться от любых притязаний на территорию Турции».
В другой раз, возвращаясь к этой теме, он добавил:
– Если мусульмане покинут европейскую Турцию, лучшее устройство для нее – создание двух-трех княжеств с центром в Константинополе, имеющем статус свободного города.
Он решительно отвергал идеи как создания Греческой империи, так и присоединения Константинополя к России.
– У нас есть мечтатели, лелеющие эту мысль, – говорил он, – но я считаю ее несовместимой с будущим России. Константинополь приведет Россию в упадок, точно так же, как и славянская конфедерация.
Государь развивал свои мысли об этом предмете с ясностью, свидетельствующей о глубокой убежденности.
Во время Крымской войны государь сказал:
– Я жестоко наказан за излишнюю доверчивость по отношению к нашему молодому соседу (австрийскому императору). С первого свидания я почувствовал к нему такую же нежность, как к собственным детям. Мое сердце приняло его с бесконечным доверием, как пятого сына. Два человека пытались избавить меня от столь сильного заблуждения. Я был возмущен и несправедливо отнесся к их добрым намерениям. Ныне я признаю это и прошу у них прощения за мое ослепление.
Император и Кавказ
Из сочинения декабриста Михаила Сергеевича Лунина «Общественное движение в России в нынешнее царствование»
Император Николай неизменно соблюдает правило вести одновременно лишь одну войну, не считая войны Кавказской, завещанной ему и которую он не может ни прервать, ни прекратить.
Да, среди прочего тяжелого наследства, которое Николай Павлович получил от старшего брата, была и Кавказская война, изнурительная для государственных финансов, и без того расстроенных.
У Николая было двойственное отношение к этой войне. С одной стороны, для него, главы военной империи, Кавказ был полигоном, на котором проходили боевое обучение или совершенствовали свое искусство генералы и офицеры. Кроме «коренных кавказцев», для которых Кавказ был постоянным местом службы, через войну с горцами прошло множество русских военачальников разных рангов. Это была своеобразная, но весьма полезная школа. Николай понимал психологическую значимость этого фактора – непрекращающегося театра военных действий в пределах государства, – который мощно поддерживал моральный тонус офицерства, делая русскую армию непрерывно воюющей. В любой момент офицер по собственному желанию, по разнарядке или в виде наказания мог очутиться в боевой обстановке, лицом к лицу со смертельной опасностью.
Но, с другой стороны, война ложилась губительным бременем на государственный бюджет. Финансовые обстоятельства оказывались сильнее военно-психологических. Николай стремился закончить войну как можно скорее.
Однако, как и в случае с крестьянской реформой, он не знал, как это сделать. Но если, занимаясь крестьянским вопросом, он откровенно признавался в своей неопытности, то в делах кавказских – военных – считал себя вполне компетентным и пытался решительно руководить кавказскими генералами.
В середине 1830-х годов у императора появилась идея замирения Кавказа, свидетельствующая о его полном непонимании ситуации в крае и психологии горцев. Он решил отправиться на Кавказ, встретиться с депутатами от горских народов и, подавив их мощью своей личности, вынудить принять российское подданство и согласиться на все условия.
Военное министерство и командование Кавказским корпусом провело немалую подготовительную работу.
Николай всерьез рассчитывал, что Шамиль, потерпевший перед тем тяжелое поражение, явится к нему в Тифлис с раскаянием и мольбой о прощении. И он, император, намерен был его простить…
Между тем у Шамиля ничего подобного и в мыслях не было. Ту версию своего пребывания на Кавказе в 1837 году, которую Николай желал передать потомству и современникам в России, он изложил Бенкендорфу.
Бенкендорф включил этот рассказ в свои записки.
Из рассказа Николая I, записанного Александром Христофоровичем Бенкендорфом
30 сентября [1837] мы приехали в Сурам, а 1 октября в 7 часов вечера в Ахалцих, прославивший нашего Паскевича. 2 октября, осмотрев городские заведения и мечеть, обращаемую в православный собор, отправился на ночь в Ахалкалаки, а 3-го – в Гумры, где приняли меня с обычными приветствиями старшины армян, перешедших сюда из Карса. Меня поразили огромные работы, предпринятые по сооружению этой новой крепости, настоящего оплота для Грузии и пункта, откуда можно угрожать одновременно и Турции, и Персии, которых границы здесь почти сливаются. Местоположение крепости единственное, на отвесной скале, далеко господствующее над оттоманскими владениями. Каменная одежда уже вся окончена с тою тщательностью, какую мы привыкли видеть в лучших наших крепостях, и здесь надо было отдать полную справедливость барону Розену и инженеру, управлявшему работами, как за быстроту возведения последних и превосходное их очертание, так и за бережливость, почти невероятную, с которою все это построено. […]
В этой ближайшей к оттоманским пределам крепости нашей явился ко мне эрзерумский сераскир Магомет-Асед-паша, присланный от султана с приветствием и с богатыми дарами, состоявшими из лошадей, шалей и оружия. Он сказал мне, что выбран для этой миссии своим повелителем, как начальник смежных турецких областей, и прислан за моими приказаниями.
В деревне Мастеры мы вступили в Армянскую область. Ожидавшие меня тут армянские беки и мелики и курдские старшины сопровождали нас до нашего ночлега в Сардар-Абаде.
Здесь край становится еще живописнее. Арарат открывается во всем своем величии, образуя задний план картины, и невольно переносит мысль к воспоминанию о седой старине.
Спустившись в долину, я увидел перед собою выстроенную к бою бесподобную конницу Кенгерли, в однообразном одеянии и на чудесных лошадях; начальник ее Эсхан-хан, подскакав ко мне, отрапортовал по-русски, как бы офицер наших регулярных войск. С этою свитою я подъехал к знаменитому Эчмиадзинскому монастырю, перед которым встретил меня армянский патриарх Иоанес верхом.
Сойдя с лошади, он произнес речь и потом опять, сев верхом, продолжил вместе со мною шествие к стенам древней своей обители, этого Капитолия армянской народности и религии. Епископы и архимандриты, тоже все верхами, придавали нашему поезду что-то странное и почти театральное; лошадь патриарха вели под уздцы два скорохода, а за ним ехало человек 50 почетной его стражи в полумонашеском одеянии и два духовных сановника, один с его посохом, а другой с хоругвью, что означало соединение в лице патриарха власти духовной со светскою и военною. Наконец, впереди всех патриарший конюший вел двух верховых лошадей под богатыми попонами. Когда мы в такой процессии подъехали к стенам Эчмиадзина, звон всех колоколов монастырских и ближайших церквей слился с пением духовных стихир и с криками народа, отовсюду сбежавшегося. Вне монастырской ограды стояли монахи, и два епископа во всем архиерейском облачении поднесли мне: один – приложиться чудотворную икону, а другой – хлеб и соль. Патриарх отделился от меня у Северных ворот собора, чтобы войти в южные и принять меня перед алтарем, тоже в полном облачении, с крестом в руках и со всем блеском своего сана. Здесь Иоанес произнес вторую приветственную речь, и затем своды древнего храма огласились пением стихир на сретение царя, не раздававшихся здесь в течение семи веков. Приложась к мощам, почивающим в соборе более тысячелетия, я все с тою же многочисленною свитою обошел ризницу, синодальные палаты, семинарию, типографию и трапезную, а потом зашел к патриарху, который, призывая на меня и на мое потомство благословение Божие, вручил мне в дар часть животворящего креста Господня.
По выходе из монастыря… я сделал смотр конницы Кенгерли, которая сопровождала меня оттуда до Эривани. Здесь, помолясь в соборе, я удалился в приготовленный для меня дом, очень радуясь возможности наконец отдохнуть.
6 октября я принял наследника персидского трона Валията, дитя семи лет, при котором находился посол от шаха. Посадив мальчика, очень хорошенького, к себе на колени, я обратился к послу с весьма серьезною речью, изъяснив ему, что все его уверения прекрасны на словах, но что я не намерен доверять им… что, строго наблюдая с моей стороны все трактаты, я сумею заставить и шаха к точному их исполнению. Впрочем, мы расстались с послом добрыми друзьями, и он подарил мне от имени шаха прекрасных лошадей, жемчугу и множество шалей.
Переночевав в этот день в Чухлы, а 7-го в Кади, я 8 октября, в 3 часа пополудни, имел торжественный въезд в Тифлис. Прибытие мое было возвещено пушечною пальбою и колокольным звоном; множество народа наполняло улицы и плоские крыши домов, а разнообразие богатых одеяний туземцев представляло прекрасный вид. Не могу иначе изобразить вам радушие сделанного мне приема, как сравнив его с встречами, делаемыми мне всегда здесь, в Москве, и нельзя не дивиться тому, как чувства народной преданности к лицу монарха сохранились при том скверном управлении, которое, сознаюсь к моему стыду, так долго тяготеет над этим краем.
Тифлис – большой и прекрасный город, с азиатскою внутренностью, но с предместьями уже в нашем вкусе и со многими домами, которые не обезобразили бы и Невского проспекта.
Утром 9 октября, помолясь в Успенском соборе при огромном стечении народа, я присутствовал при разводе Эриванского карабинерного полка, в полдень принимал ханов и почетных лиц разных горских племен, собравшихся в Тифлис к моему приезду, и потом осматривал корпусный штаб, больницу, арсенал, казармы Кавказского саперного батальона, устроенную при нем школу с училищем для молодых грузинских дворян и тюрьму. Все оказалось в отличном порядке.
10 октября я слушал обедню в церкви Св. Георгия и смотрел войска, составляющие тифлисский гарнизон. Хороша в особенности артиллерия.
11 октября, после развода сводного учебного батальона и осмотра военного госпиталя и шелкомотальной фабрики, я принял грузинских князей и дворян, составлявших мой конвой и теперь содержавших караул перед моею комнатою. Они явились верхом на лучших своих конях и в богатейших нарядах и соперничали между собою в скачке и в искусстве владеть оружием. Один ловчее другого, и между ними было немало таких, которые свели бы с ума наших дам.
Вечером я присутствовал на довольно многолюдном бале. Дамы были большею частью в национальных костюмах, скрадывающих талью и вообще не слишком грациозных, тогда как сами по себе многие из них блестят истинно восхитительною красотою, чего нельзя сказать, по крайней мере в массе, об их уме.
Виденное мною в Грузии вообще довольно меня удовлетворило. Положение дорог и Гумрийская крепость свидетельствуют о попечительности барона Розена, но в администрации есть разные закоренелые беспорядки, превосходящие всякое вероятие. Сенатор барон Ган, уже несколько месяцев ревизующий этот край, открыл множество вещей ужасных, которые, начавшись, впрочем, задолго до управления барона Розена, должны были до крайности раздражить здешнее население, сколько оно ни привыкло к слепой покорности. Везде страшное самоуправство и мошенничество. В числе прочих частей и военные начальники позволяли себе неслыханные злоупотребления.
Так, князь Дадиан, зять барона Розена и мой флигель-адъютант, командовавший полком всего в 16 верстах от Тифлисской заставы, выгонял солдат и особенно рекрутов рубить лес и косить траву, нередко еще в чужих помещичьих имениях, и потом промышлял этою своею добычею в самом Тифлисе, под глазами начальства; кроме того, он заставлял работать на себя солдатских жен и выстроил со своими солдатами вместо казармы мельницу, а в отпущенных ему на то значительных суммах даже не поделился с бедными нижними чинами; наконец, этот молодчик сданных ему 200 человек рекрутов, вместо того чтобы обучать их строю, заставил, босых и необмундированных, пасти своих овец, волов и верблюдов. Это было уже чересчур, и по дошедшему до меня о том первому сведению я в ту же минуту отправил на места моего флигель-адъютанта Васильчикова, исследованием которого все было раскрыто точно так, как я вам сейчас рассказал. Ввиду таких мерзостей надо было показать пример строгого взыскания.
У развода я велел коменданту сорвать с князя Дадиана, как недостойного оставаться моим флигель-адъютантом, аксельбант и мой шифр, а самого его тут же с площади отправить в Бобруйскую крепость для предания неотложно военному суду.
Не могу сказать вам, чего стоила моему сердцу такая строгость и как она меня расстроила; но в надежде, поражая виновнейшего из всех, собственного моего флигель-адъютанта и зятя главноуправляющего, спасти прочих полковых командиров, более или менее причастных к подобным же злоупотреблениям, я утешался тем, что исполнил святой свой долг. Здесь это было бы действием самовластным, бесполезным и предосудительным; но в Азии, удаленной огромным расстоянием от моего надзора, при первом моем появлении перед Закавказскою моею армией необходим был громовый удар, чтобы всех устрашить и вместе чтобы доказать храбрым моим солдатам, что я умею за них заступиться. Впрочем, я вполне чувствовал весь ужас этой сцены и, чтобы смягчить то, что было в ней жестокого для Розена, тут же подозвал к себе сына его, преображенского поручика, награжденного Георгиевским крестом за варшавский штурм, и назначил его моим флигель-адъютантом, на место недостойного его шурина.
Я выехал из Тифлиса 12 октября рано утром. Мне дали кучера, который или не знал своих лошадей, или не умел ими править. Этот дурак начал с того, что стал их стегать перед спуском с довольно большой крутизны, несколько раз прикасающейся к краю бездонной пропасти. Вдруг лошади понесли. Признаюсь вам, что минута была нешуточная. Опасность грозила очевидная, без всякого средства спасения; я встал в коляске, чтобы пособить кучеру сдержать лошадей, однако напрасно; мне пришла нелепая мысль выскочить из коляски, но Орлов разумно догадался удержать меня. Мы уже видели перед глазами смерть, как вдруг сильным толчком опрокинулся экипаж и отбросило нас в сторону; я перекувыркнулся несколько раз и тем на этот раз отделался; Орлов порядочно ушибся; коляска, опрокинувшись, легла на два пальца от пропасти, в которую без этого падения мы неминуемо были бы сброшены; а как коляска находилась близко от края дороги, доказательство вам то, что обе уносные повисли над пропастью на одних недоуздках, удержанные единственно тяжестью опрокинутого экипажа. Мы встали на ноги, немножко ошеломленные нашим полетом, и возблагодарили Бога за чудесное спасение.
Между тем весь передок коляски был сломан. Так как у нас в Тифлисе имелась запасная, то я оставил на месте Орлова распорядиться экипажами, а сам продолжал путь верхом на казачьей лошади и упал всем, как снег на голову, в Квишете, у подножия главного перевала Кавказского хребта.
13 октября я сел опять на лошадь, чтобы переехать через эту исполинскую цепь, отделяющую Европу от Азии. В долине стояла еще прекрасная осень, а на горных вершинах мы были встречены 6-градусным морозом, и наши лошади каждую минуту скользили. Дорога, проложенная через эти горы, скалы и стремнины, есть одна из величайших побед человеческого искусства над природою. Везде теперь можно ехать в карете четверкою в ряд, и только глаз пугается окружающих ужасов.
На ночлеге во Владикавказе меня ожидали мой конвой черкесов и линейных казаков, возвращавшихся из Петербурга по выслуге срока своей службы, и депутаты от разных горских племен. Надо бы видеть взгляды, с которыми мои молодцы казаки следили за каждым движением этих господ, из которых, правда, у многих были настоящие разбойничьи рожи.
Я растолковал депутатам, чего желаю от их одноплеменников, не для увеличения могущества России, а для собственного их блага и для спокойствия их семейств; сказал им далее, что они, для удостоверения в истине моих слов, могут спросить присутствующего тут муллу, который по моему повелению прожил несколько лет в Петербурге, чтобы учить магометанскому закону их собратий и детей, вверенных моему воспитанию, наконец, заключил тем, что я требую только, чтобы они жили спокойно, наслаждаясь благами своей прекрасной родины, и не покушались бороться против неодолимой для них силы русского оружия.
Они, кажется, вразумились в мои слова, и мы расстались приятелями; притом все изъявили желание проводить меня до Екатеринограда. Таким образом, в моем конвое было по крайней мере вчетверо более врагов, чем своих, и все усердствовали защищать меня против самих же себя. Все это представляло довольно любопытное зрелище. Некоторые из отцов просили меня взять их детей на воспитание.
Надо сказать, что до сих пор местное начальство принималось за свое дело совсем не так, как следует; вместо того чтобы покровительствовать, оно только утесняло и раздражало; словом, мы сами создали горцев, каковы они есть, и довольно часто разбойничали не хуже их. Я много толковал об этом с Вельяминовым, стараясь внушить ему, что хочу не побед, а спокойствия; что и для личной его славы, и для интересов России надо стараться приголубить горцев и привязать их к русской державе, ознакомив их с выгодами порядка, твердых законов и просвещения; что беспрестанные с ними стычки и вечная борьба только все более и более удаляют их от нас и поддерживают воинственный дух в племенах, без того любящих опасности и кровопролитие.
Я сам тут же написал Вельяминову новую инструкцию и приказал учредить в разных пунктах школы для детей горцев. […]
Осмотрев во Владикавказе военный госпиталь и в Пятигорске, 16 октября, все заведение минеральных вод, офицерскую больницу, казармы военно-рабочей команды, церковь и гулянья, я к ночи переехал в Георгиевск, где успел взглянуть на арсенал и госпиталь. Тут я принял депутацию закубанских племен и сказал им почти то же самое, что прежде говорил другим депутатам во Владикавказе.
Я осмотрел находящиеся в Ставрополе войска, а потом военный госпиталь, который размещен по частным домам; при сильном движении через этот город на линию и в Грузию необходимо поскорее выстроить для военного госпиталя большое особое здание.
До Ставрополя сопровождали меня мои черкесы и казаки, никак не согласившиеся уступить другим чести меня конвоировать; они собирались скакать еще и далее, но я не допустил их до того и простился тут с этими людьми, показавшими мне истинно трогательную преданность.
19 октября в 3 часа пополудни, я прибыл в Аксайскую станицу на Дону, где ждал меня мой сын в качестве атамана всех казачьих войск. Остаток дня и всю ночь я чувствовал себя очень нехорошо, так что даже принужден был принять лекарство и провести все 20-е число в Аксае. На следующий день мы отправились в Новочеркасск, куда въехали верхами. У заставы нас встретил наказной атаман, весь израненный старик Власов, с генералами своего штаба, множеством офицеров и толпою любопытных, которые все проводили нас до собора. Тут стоял войсковой круг, с войсковыми регалиями, посреди которых архиерей и прочее духовенство встретили меня с крестом и святою водою.
Выйдя из церкви, я взял из рук храброго Власова атаманскую булаву и вручил ее наследнику в знак главного его начальствования над всеми казачьими войсками. Пальба из всех орудий города возвестила введение его в должность.
22 октября новый атаман представил мне войска, собранные под Новочеркасском. Всего было в конном строю до 18 000 человек. Кроме четырех гвардейских эскадронов, полков атаманского и учебного и артиллерии, все прочее – совершенная дрянь: негодные лошади, люди, дурно одетые, сами офицеры, плохо сидящие на коне. К искреннему моему сожалению, все это показалось мне скорее толпою мужиков, нежели военным строем. Продолжительный мир и довольство обабили казаков: они обратились просто в земледельцев, как иначе и быть не могло при отдаленности их от границ и от всякой опасности. Надо будет подумать о преобразовании их устройства.
За обедом у меня, к которому были приглашены все генералы и полковники, я откровенно высказал им мое мнение. Старые усачи сами стыдились того плохого положения, в котором вывели перед меня свое войско.
Вечером я был на бале и не могу сказать, чтобы дамы поразили меня своею красотою или изяществом своих манер; но устройство и роскошь праздника еще более меня убедили, что казаки променяли прежнюю суровость своих нравов на утонченные наслаждения образованности. К несчастию, для восстановления прославленной их удали нужна бы продолжительная война. Это последнее явление в драме моего путешествия не было утешительным.
В своем рассказе император опустил главное – провал основного замысла, ради реализации которого он, собственно, и предпринял это долгое и небезопасное путешествие.
Никакого влияния на поведение горцев его появление на Кавказе не оказало. Те депутаты, о встречах с которыми он вскользь упомянул, представляли главным образом мирные племена. Те, кто подчиняться не желал, депутатов не прислали.
Единственным положительным результатом было знакомство Николая с условиями, в которых воевал Кавказский корпус.
Из воспоминаний генерала Григория Ивановича Филипсона
21 сентября, накануне приезда государя, задула бора и к вечеру так скрепчала, что большая часть солдатских палаток были изорваны, а на кухнях невозможно было разводить огонь и варить кашу. Кое-где только расторопные денщики ухитрялись разводить огонь или ставить самовары под кручею, у самого берега моря. Кто не видал боры в этой части восточного берега Черного моря, тому нелегко вообразить их страшную силу. Северо-восточный ветер как бы внезапно срывается с гребня главного хребта, отстоящего от моря у Геленджика, верст на пять; но туземцы и опытные моряки узнают приближение боры по некоторым признакам, и суда спешат заранее выйти из бухты в море, которое в такое время бывает совершенно спокойно. Береговой ветер не разводит волнения, и во все это время бывает совершенно ясная погода при довольно низкой температуре. Боры бывают чаще, продолжительнее и сильнее осенью и зимой; летом они продолжаются несколько часов или сутки; зимою они особенно опасны для судов, застигнутых в бухте. Стремительный ветер срывает верхушки волн, обливает суда, их мачты и снасти и, мгновенно замерзая, обращает все судно в глыбу льда. Тогда гибель судна неизбежна, и с берега невозможно подать никакой помощи. Так погиб в 1843 году военный тендер в Суджукской бухте, в глазах целого отряда. Судно обратилось в ком льда и пошло ко дну со всем экипажем. Все попытки подать помощь были тщетны: команды, посланные к берегу, не могли идти против ветра; людей несло ветром, и кто не падал на землю мог быть разбит, наброшенный на дерево или строение. Говорят, что в Суджукской бухте боры сильнее, чем в Геленджикской; я этого не заметил, но во всяком случае они составляют такой недостаток этих единственных между Сухумом и Керчью бухт, который не обещает им никакой будущности.
Бора, дувшая перед приездом государя, была не из самых сильных. Вечером 22 сентября [1837] мы наконец увидели два парохода, на которых был государь со свитою. В первый раз русский царь посетил Кавказский край и, хотя посетил не так театрально, как бабка его посещала Новороссийский край, но, конечно, с неменьшею пользою.
С большим трудом и не без опасности государь вышел на берег в Геленджике, где ему приготовлена была квартира в доме коменданта, мало отличавшемся от остальных жалких мазанок. С 1831 года Геленджик мало изменился. Без сухопутного сообщения гарнизон нередко нуждался в самом необходимом. Непривычный климат, беспрестанные тревоги и лишения произвели общую апатию и развили болезни, преимущественно перемежающиеся лихорадки и цингу. Первым комендантом был полковник Чайковский, от которого я слышал много рассказов об этой тяжелой поре: на первый день Пасхи офицеры всего гарнизона собирались к нему разговляться, и при этом закуска состояла из рюмки водки и нескольких селедок, составлявших неслыханную роскошь.
С государем были великий внязь наследник, граф Орлов, князь Меншиков и довольно большая свита. Не думаю, чтобы все они сколько-нибудь комфортабельно провели эту ночь, тем более что на рассвете начался пожар, недалеко от квартиры государя и от порохового погреба, где был значительный склад патронов и зарядов для отрядов. Огонь охватил провиантские склады; при сильнейшем ветре он сообщился множеству тесно стоявших турлучных построек, крытых соломою и камышом. С самого начала пожара стали поспешно выносить порох за крепость; все это делалось второпях, и каждую минуту можно было ожидать взрыва. Опасность была крайняя, пожарных инструментов не было, да они были бы бесполезны при таком ветре. Офицеры и солдаты наперерыв бросались в огонь и соревновались в самоотвержении перед глазами государя. Наконец его упросили выехать из укрепления в лагерь ранее, чем он предполагал. Войска были готовы к смотру.
Еще с весны Вельяминов предупредил всех о предстоящем смотре и просил озаботиться тем, чтобы нижние чины и офицеры имели одежду и вооружение по форме. Регулярные войска исполнили это приказание по крайнему разумению, а четыре пеших полка черноморских казаков были поставлены в прикрытие. Их резервы по безлесным вершинам хребта составляли прекрасную картину и придавали всему лагерю и смотру военный колорит. Войска были построены в одну линию, развернуты фронтом. Нижние чины были в боевой амуниции и в фуражках. Фронт был прямо против ветра. Когда государь подъехал к правому флангу, почти все фуражки были унесены ветром; нижние чины, держа ружье на караул, должны были отставить левую ногу вперед, чтоб удержаться на месте. Весь фронт кричал «ура!», а ветер в открытые рты нес песок, пыль и мелкие камешки. Картина была своеобразная…
Государь убедился, что ехать верхом по фронту невозможно. Он сошел с коня, мы сделали то же и таким образом дошли до левого фланга, беспрестанно набрасываемые ветром на фронте. Церемониального марша не было. Войска отпущены в лагерь, в котором не было ни одной целой палатки; только две калмыцкие кибитки в штабе и палатка Вельяминова уцелели. Последнюю восемь линейных казаков держали на оттяжках. Государь вошел в палатку и, напившись чаю, приказал Вельяминову позвать солдат, кто в чем есть, под одинокое дерево, которое он указал впереди лагеря. Ему хотелось сказать милостивое слово этому доблестному войску, в первый раз видящему своего государя. Ординарцы поскакали по всему лагерю; солдаты бежали со всех сторон к сборному месту. Они буквально исполняли высочайшую волю: кто был в мундире, кто в шинели, а кто без того и другого. Вокруг государя и наследника образовался кружок, внутри которого было несколько офицеров. Я был от него в двух шагах, а подле меня генерал-майор Линген, в сюртуке, с шашкой через плечо. Из-под сюртука на целую четверть виден был бешмет из турецкой шалевой материи. Рядом с ним стоял полковник Горский, только что приехавший к отряду. Он был одет по форме, но через плечо на ремне висела черкесская нагайка. Государь, читавший, вероятно, наши реляции, спросил Лингена: «А где тут Аушецкие и Тляхофидские болота?» Старый Линген об них не слыхивал, Горский не знал их имени, хотя оба они много раз через них проходили. У меня всегда была очень острая память на имена, и я поспешил доложить, что эти болота на северном предгории. Толпа все росла, но говорить было невозможно за сильным ветром. Кружок сузился, и государь, стоя под деревом, спросил: «А где у вас Конон Забуга?» Это был унтер-офицер Кабардинского полка, недавно отличившийся и упомянутый в реляции. На вопрос государя раздался над его головою громкий голос: «Здесь, ваше императорское величество». Забуга, в одном белье, сидел на дереве, чтобы лучше видеть. Государь приказал ему слезть и, когда тот почти кубарем свалился на землю, государь поцеловал его в голову, сказавши: «Передай это всем твоим товарищам за их доблестную службу». Забуга бросился на землю и поцеловал ногу государя. Вся эта сцена, искренняя и неподготовленная, произвела на войско гораздо более глубокое впечатление, чем красноречивая речь, которой никто бы и не слышал. Войска с гордостью смотрели на мужественную красоту и царственную осанку своего государя и на прекрасного 19-летнего юношу, его наследника. Надобно отдать справедливость, Николай Павлович умел говорить от души горячее слово, которое шло прямо в душу. Выражение его лица в минуты благоволения было чрезвычайно симпатично. Его ласковое и простое обращение могло довести неопытного и непривычного собеседника до забвения его высокого сана. Зато в минуты гнева и раздражения его наружность мгновенно изменялась.
Государь был в самом лучшем расположении. Независимо от желания поблагодарить войска за их трудную и честную службу, он выражал свое довольство непривычною ему обстановкою, величественною природою, даже борою и наивными усилиями все делать и одеваться по форме; а между прочим своеобразные отступления беспрестанно бросались в глаза ему, привыкшему к педантической точности в гвардии и при смотрах армейских войск. Говорят, что он сказал: «Я очень рад, что не взял с собою великого князя Михаила Павловича; он бы этого не вынес!» Говорят еще, что он приказал Вельяминову подать список разжалованных, которых было много в отряде. Это приказание он будто бы повторил два раза; но почему-то Вельяминов этого не сделал, по крайней мере до отъезда государя.
К вечеру бора начала утихать. Государь ночевал на пароходе, а утром 24 сентября пароходы снялись с якоря и пошли к Поти, откуда государь через Кутаиси поехал в Тифлис. Его путешествие по Закавказскому краю было неудачное и оставило в нем неприятное впечатление. Проезжая через Горийский уезд, где был расположен Грузинский гренадерский полк, государь увидел в лесу солдата, которого он принял сначала за туземца. Солдат был в рубищах, напоминающих солдатскую шинель и папаху. На вопрос государя солдат отвечал, что он третий год пасет свиней своего полкового командира, а прежде пять лет был в угольной команде. Это чрезвычайно рассердило государя. Вероятно, еще прежде ему было доложено о многих других действиях полковника князя Дадьяна по командованию полком. Этот штаб-офицер был нисколько не хуже других полковых командиров, но он был женат на дочери барона Розена, которым тоже государь был недоволен. В этом случае он явился козлищем отпущения за общие грехи, до некоторой степени неизбежные по местным обстоятельствам. По приезде в Тифлис государь перед разводом приказал снять с князя Дадьяна флигель-адъютантские аксельбанты (усердные исполнители сорвали их) и предал его суду за злоупотребления. Впрочем, при этом же разводе он пожаловал звание флигель-адъютанта сыну барона Розена, гвардейскому поручику. В довершение всех неудач, при выезде из Тифлиса, спускаясь с горы, лошади понесли экипаж, в котором сидели государь и граф Орлов; на крутом повороте экипаж опрокинулся, и государь упал на краю глубокого обрыва. К счастью, это падение не имело никаких серьезных последствий.
Из очерка историка Закавказья и Кавказа Адольфа Петровича Берже
Путевые издержки по переездам императора Николая Павловича в пределах Кавказского края составили сумму в 143 438 руб. 59 коп. серебром. Лошадей было загнано до 170.
Эта история характерна для Николая Павловича второй половины 1830 годов, когда, при всех своих внутренних сомнениях, он убеждал себя в неизменной правильности собственных решений. Но полное поражение проекта, предусматривающего замирение горцев явлением августейшей особы, не могло не усилить внутренние сомнения. А это, в свою очередь, провоцировало непреклонность внешнего поведения.
Император глазами европейцев
Из книги Астольфа де Кюстина «Николаевская Россия»
При первом взгляде на государя невольно бросается в глаза характерная особенность его лица – какая-то беспокойная суровость. Физиономисты не без основания утверждают, что ожесточение сердца вредит красоте лица. У императора Николая это малоблагожелательное выражение лица является скорее результатом тяжелого опыта, чем его человеческой природы. Какие долгие, жестокие страдания должен был испытать этот человек, чтобы лицо его внушало всем страх вместо того невольного расположения, которое обыкновенно вызывают благородные черты лица.
Тот, кто всемогущ и властен творить что захочет, несет на себе и тяжесть содеянного. Подчиняя мир своей воле, он в каждой случайности видит тень восстания против своего всемогущества. Муха, которая не вовремя пролетит во дворце во время какого-либо официального приема, уже как будто унижает его. Независимость природы он считает дурным примером, каждое существо, которое не подчиняется его воле, является в его глазах солдатом, восставшим среди сражения против своего сержанта: позор падает на армию и на командующего. Верховным командующим является император России, и каждый день его – день сражения.
Лишь изредка проблески доброты смягчают повелительный взгляд властелина, и тогда выражение приветливости выявляет вдруг природную красоту его античной головы. В сердце отца и супруга человечность торжествует моментами над политикой государя. Когда он сам отдыхает от ига, которое по его воле над всеми тяготеет, он кажется счастливым. Такая борьба примитивного чувства человеческого достоинства с аффектированной суровостью властелина представляется мне очень интересной, и наблюдением за этой борьбой я был занят большую часть времени своего пребывания в церкви. Император на полголовы выше обыкновенного человеческого роста. Его фигура благородна, хотя и несколько тяжеловата. Он усвоил себе с молодости русскую привычку стягиваться выше поясницы корсетом, чтобы оттянуть желудок к груди. Вследствие этого расширяются бока, и неестественная выпуклость их вредит здоровью и красоте всего организма. Это добровольное извращение фигуры, стесняя свободу движений, уменьшает изящество внешнего облика и придает ему какую-то деревянную тяжеловесность. Говорят, что, когда император снимает свой корсет и его фигура приобретает сразу прирожденные формы, он испытывает чрезвычайную усталость. Можно временно передвинуть свой желудок, но нельзя его уничтожить.
У императора Николая греческий профиль, высокий, но несколько вдавленный лоб, прямой и правильной формы нос, очень красивый рот, благородное овальное, несколько продолговатое лицо, военный и скорее немецкий, чем славянский вид. Его походка, его манера держать себя непринужденно внушительны. Он всегда уверен, что привлекает к себе общие взоры, и никогда ни на минуту не забывает, что на него все смотрят. Мало того, невольно кажется, что он именно хочет, чтобы все взоры были обращены на него одного. Ему слишком часто повторяли, что он красив и что он с успехом может являть себя как друзьям, так и недругам России.
Внимательно приглядываясь к красивому облику этого человека, от воли коего зависит жизнь стольких людей, я с невольным сожалением заметил, что он не может улыбаться одновременно глазами и ртом. Это свидетельствует о постоянном его страхе и заставляет сожалеть о тех оттенках естественной грации, которыми все восхищались в менее, быть может, правильном, но более приятном лице его брата, императора Александра. Внешность последнего была очаровательна, хоть и не лишена некоторой фальши, внешность Николая – более прямолинейная, но обычное выражение строгости придает ей иногда суровый и непреклонный вид. Если он менее привлекателен, то у него гораздо более силы воли, которую он часто бывает вынужден проявлять. Мягкость также охраняет власть, предупреждая противодействие, но эта искусная осторожность в применении власти – тайна, неизвестная императору Николаю. Он всегда остается человеком, требующим лишь повиновения, другие хотят также и любви.
Императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на ее чрезмерную худобу, исполнена, как мне показалось, неописуемой грации. Ее манера держать себя далеко не высокомерна, как мне говорили, а скорее обнаруживает в гордой душе привычку к покорности. При торжественном выходе в церковь императрица была сильно взволнованна и казалась мне почти умирающей. Нервные конвульсии безобразили черты ее лица, заставляя иногда даже трясти головой. Ее глубоко впавшие голубые и кроткие глаза выдавали сильные страдания, переносимые с ангельским спокойствием; ее взгляд, полный нежного чувства, производил тем большее впечатление, что она менее всего об этом заботилась. Императрица преждевременно одряхлела, и, увидев ее, никто не может определить ее возраста. Она так слаба, что кажется совершенно лишенной жизненных сил. Жизнь ее гаснет с каждым днем; императрица не принадлежит больше земле: это – лишь тень человека. Она никогда не могла оправиться от волнений, испытанных ею в день вступления на престол. Супружеский долг поглотил остаток ее жизни: она дала слишком многих идолов России, слишком много детей императору. «Исчерпать себя всю в новых великих князьях – какая горькая участь!»– говорила одна знатная полька, не считая нужным восторгаться на словах тем, что она ненавидела в душе.
…Я не слишком внимательно следил за спектаклем, гораздо более интересуясь зрителями. Императорская ложа – это блестящий салон, занимающий глубину зрительного зала и освещенный еще более ярко, чем остальная часть театра.
Появление императора было величественно. Когда он рядом с императрицей, в сопровождении членов царской фамилии и придворных приблизился к барьеру своей ложи, все присутствующие встали. Император с присущим ему достоинством, прежде чем сесть, приветствовал собравшихся в зале поклоном. Одновременно с ним поклонилась и императрица, но – что показалось мне недостаточным уважением к публике – вместе с ними раскланивалась и вся свита. Зал, в свою очередь, приветствовал своего монарха поклонами, аплодисментами и криками «ура». Эта преувеличенная демонстрация своих чувств носила все же явно официальный характер, что значительно понижало ее ценность. Да и что удивительного в том, что самодержавный монарх приветствуется в своей столице партером, переполненным придворной знатью?
Неизменная угодливость, которую всегда встречает император, служит причиной того, что лишь два раза в течение всей своей жизни он имел случай померяться своим личным могуществом с толпой, и оба эти раза во время народных восстаний. В России нет более свободного человека, чем восставший солдат.
Я невольно вспомнил о поведении императора при самом вступлении его на престол, и эта интересная страница истории отвлекла меня от спектакля, на котором я присутствовал. То, что я хочу рассказать здесь, сообщил мне лично император во время одной из наших бесед.
В тот день, когда Николай вступил на престол, вспыхнул мятеж в гвардии. При первом же известии о восстании в войсках император и императрица одни отправились в придворную церковь и там, на коленях у ступеней алтаря, поклялись перед Господом умереть на престоле, если им не удастся восторжествовать над мятежниками. Император считал опасность серьезной, так как он уже знал, что митрополит тщетно пытался успокоить солдат: в России волнение, которое не в силах усмирить духовная власть, считается серьезным.
Осенив себя крестным знамением, император отправился, рассчитывая покорить мятежников одним своим появлением и спокойным, энергичным выражением лица. Он сам рассказал мне эту сцену, но, к сожалению, я забыл начало рассказа, потому что был смущен неожиданным оборотом, который принял наш разговор. Я воспроизведу его поэтому лишь, с того момента, который отчетливо сохранился в моей памяти.
– Государь, вы черпали вашу силу из надежного источника.
– Я не знал, что буду делать и что говорить; я следовал лишь высшему внушению.
– Чтобы иметь подобные внушения, должно заслужить их.
– Я не совершил ничего сверхъестественного. Я сказал лишь солдатам: «Вернитесь в ваши ряды!» – и, объезжая полк, крикнул: «На колени!» Все повиновались. Сильным меня сделало то, что за несколько мгновений до этого я вполне примирился с мыслью о смерти. Я рад успеху, но не горжусь им, так как в нем нет моей заслуги.
Таковы были благородные выражения, которыми воспользовался император, чтобы рассказать эту современную трагедию. Можно судить по этому рассказу о степени интереса его разговоров с иностранцами, которых он удостоит своим расположением. Рассказ этот, столь далекий от придворной пошлости, позволяет также понять силу обаяния, производимого Николаем на свой народ.
Очевидцы передавали мне, что он как будто вырастал с каждым шагом, приближавшим его к бунтовщикам. Из молчаливого меланхоличного и мелочного, каким он казался в дни юности, он превратился в героя, как только стал монархом, – обратное тому, что происходит с большинством наследных принцев.
Русский император здесь был настолько в своей роли, что трон его казался сценой для большого актера. Его поза перед восставшей гвардией была, как говорят, настолько величественна, что один из заговорщиков четыре раза приближался к нему, чтобы убить его, в то время как он обращался с речью к войскам, и четыре раза мужество покидало этого несчастного, как кимвра, покушавшегося на Мария. Сведущие люди приписывали этот мятеж влиянию тайных обществ, которые стали развиваться в России со времени похода союзников во Францию и частых поездок русских офицеров в Германию.
Я повторяю здесь лишь то, что мне пришлось слышать: факты эти темные, и проверить их у меня нет возможности.
Заговорщики прибегли для возмущения армии к смехотворной лжи: они распространили слух, будто Николай насильно захватил корону у своего брата Константина, уже направлявшегося в Петербург для защиты своих прав с оружием в руках. К такому средству пришлось прибегнуть, чтобы заставить возмутившихся солдат кричать под окнами дворца: «Да здравствует конституция!» – вожаки убедили их, что жена Константина, их императрица, называется Конституцией. В глубине солдатских сердец жила, как видно, идея долга, потому что только путем подобного обмана можно было их побудить к восстанию. Константин по слабости отказался от трона: он боялся быть отравленным, в этом заключалась вся его философия. Бог знает, а может быть, и некоторые люди знают, спасло ли его отречение от участи, которой он так боялся подвергнуться.
Только в интересах легитимизма одураченные солдаты восстали против своего законного государя.
Передают, что Николай во все время, пока он находился перед войсками, ни разу не пустил своей лошади в галоп, до того он был спокоен, хотя и очень бледен. Он испытывал свою мощь, и успех этого испытания обеспечил ему повиновение масс.
Такой человек не может быть судим как обыкновенные смертные. Его голос, глубокий и повелительный, его магнетизирующий взгляд, пристально всматривающийся в привлекший его внимание предмет, но часто становящийся холодным и неподвижным благодаря привычке скорее подавлять, чем скрывать свои мысли, его гордый лоб, черты его лица, напоминающие Аполлона и Юпитера, весь облик его, более благородный, чем мягкий, похожий скорее на изваяние, чем на живого человека, – все это производит на каждого, кто бы ни приблизился к нему, могущественное воздействие. Он покоряет чужую волю, потому что в совершенстве властвует над своей собственной.
Из нашего последующего разговора я удержал в своей памяти еще следующее.
– После усмирения мятежа вы, ваше величество, должны были вернуться во дворец в совершенно другом настроении сравнительно с тем, в каком вы его покинули. Вместе с престолом вы обеспечили себе удивление всего мира и симпатии всех благородных сердец.
– Я не думал об этом. Все, что я тогда делал, слишком затем расхвалили.
Но государь не сказал мне, что, вернувшись к своей жене, он нашел ее пораженной нервной болезнью – конвульсиями головы, от которой она затем уж никогда не могла оправиться. Эти конвульсии едва заметны и даже совсем исчезают в те дни, когда государыня спокойна и хорошо себя чувствует. Но когда она страдает морально или физически, болезнь возобновляется с новой силой. Эта благородная женщина должна была испытывать сильнейший страх, пока ее супруг так мужественно подставлял себя под удары убийц.
Увидев его невредимым, она без слов бросилась в его объятия, но государь, успокоив ее, в свою очередь почувствовал себя ослабевшим. На мгновение став простым смертным, царь, упав на грудь одного из преданнейших своих слуг, присутствовавшего при этой сцене, воскликнул: «Какое начало царствования!»
Важно понимать, что восприятие Николая I большинством европейцев – особенно в высших кругах – существенно отличалось от его восприятия в России. Каждый выезд в Европу оборачивался для Николая очередным триумфом.
Из воспоминаний актера и военного писателя Луи Шнейдера
Я увидел императора – было время в Пруссии, когда под словом «император» разумелся не кто иной, как император всероссийский, – в первый раз в 1833 году. В Шведте, куда придворная берлинская сцена отправила контингент артистов, дабы давать представления во время происходившего там свидания короля Фридриха Вильгельма III с императором… Я случайно находился перед Шведтским замком, когда прибыл император, после долгого томительного ожидания, но увидел я только человека весьма высокого роста, выскакивающего из экипажа с такою поспешностию, что он даже не дождался, пока отворят дверцы, а просто перескочил через них. Два линейных казака в их в высшей степени живописном одеянии представляли мне почти более интереса, чем император, которого я еще не знал. Лишь вечером, во время спектакля, увидел я его, сквозь занавесь, при входе в небольшую комнату, посреди которой возвышалась импровизированная сцена. Кто видел императора Николая, согласится со мною, когда я назову его красивейшим из мужчин, какого только можно себе представить. Его необычайный рост, пропорциональность его членов, благородная осанка, внушающий почтение взор, привычка повелевать – все это соединилось в нем в один образ совершеннейшей мужественной красоты. Я, по крайней мере, никогда не видел более прекрасного мужчины. Его обхождение с царственным тестем (Фридрихом Вильгельмом III. – Я. Г.) отличалось такою вежливостью, даже сыновьим почтением, что нужно было видеть это своими глазами, чтобы составить себе ясное понятие о том. На нем был мундир его прусского кирасирского полка, на короле же – мундир полка русского гренадерского его имени. В качестве гостя короля император не обращал внимания на актеров и не появлялся подобно королю на сцене, но во время антрактов беседовал с присутствующими придворными дамами. Ко мне обратился он с речью самым куриозным образом, и, когда это случилось, или, правильнее, ввиду того как это случилось, я в самом деле и не подозревал, что со временем буду ближе стоять к императору. Под впечатлением, произведенным на меня его личностью, я старался воспользоваться каждым случаем, чтобы во время антрактов взглянуть сквозь занавесь на место, которое было отведено зрителям. Так как это делали и другие, то я выискал себе в стороне, позади передней кулисы место, откуда я легко мог раздвинуть занавесь и смотреть через образовавшееся отверстие. При необыкновенной тесноте в зале император стоял со стаканом мороженого в руке на расстоянии не более двух футов от моей обсерватории, и я мог его видеть так близко, как только было возможно. Я в точности вспоминаю о двойном ряде его зубов блестящей белизны, когда он, разговаривая, смеялся. Вдруг он устремил свои проницательные глаза на место, откуда я смотрел, и сказал, подражая в шутку берлинскому говору, который он только что слышал в совершенстве из уст актера Бекмана: «Отсюда выглядывает нос!» С быстротою молнии откинулся я назад и, конечно, думал, что император узнал и обладателя этого носа, того самого человека, которому суждено было впоследствии написать его военную биографию и быть почтену его доверием.
В 1844 году Николай Павлович посетил Англию.
Маршрут его пролегал через Пруссию.
Из книги Сергея Сергеевича Татищева «Николай I и иностранные дворы»
Государь прибыл в Берлин в Троицын день, 14 [26] мая поутру, и остановился в доме русского посольства. В посольской церкви шла обедня и читались молитвы с коленопреклонением. Император остался у входа, и, сделав знак, чтоб никто не вставал, опустился на колени…
К обеду в Шарлотенбурге в честь русского императора были приглашены лица его свиты… За столом шел разговор между королем и учеными его собеседниками о произведениях древней греческой словесности, между прочим об «Евменидах» Еврипида. Государь не принимал в нем участия и только спросил: «Что такое Евмениды?» Король отвечал ему в шуточном тоне: «Это превосходительства, получившие чистую отставку и казенную квартиру за городом и т. д.». Государь, рассеянно выслушав это объяснение, продолжил свою беседу с присутствующими генералами о военных предметах. Несмотря на такое равнодушие его к классической древности, он произвел на Бунзена (прусский посол при английском дворе. – Я. Г.) сильное впечатление. «В каждом вершке виден в нем император», – писал о нем прусский дипломат своей жене. […]
Высадясь на берег в Вульвиче, в 10 часов вечера, государь ровно в полночь прибыл в Лондон. Он не пожелал воспользоваться гостеприимством двора и прямо проехал в Asburnham House, где помещалось русское посольство. Оттуда он написал принцу Альберту собственноручное письмо, в котором выражал желание свое как можно скорее иметь свидание с королевой… В Виндзорском замке император Николай провел целых четыре дня. Красота и великолепие этого древнего жилища английских королей произвели на него приятное впечатление. «Оно достойно вас, государыня», – любезно заметил он королеве… Поутру происходили смотры, прогулки, охоты. Вечером многочисленное общество собиралось к обеду, происходившему в большой Ватерлооской зале замка. На последние два обеда гости были приглашены в мундирах по желанию государя, признавшегося королеве, что ему неловко во фраке, к которому он не привык. С военным же мундиром, прибавил он, он до того сроднился, что расставаться с ним ему так же неприятно, «как если бы с него сдирали кожу». И в Виндзоре он не расставался со своими спартанскими привычками. По свидетельству биографа принца Альберта, первым делом его слуг было по входе в его спальню послать на конюшню за несколькими снопами чистой соломы, чтобы набить его холщовый мешок, составляющий матрас походной кровати, на которой он постоянно ночевал.
Проводя весь день в обществе королевы, император Николай избегал, однако, разговоров с нею о политике. Зато он не упускал ни единого случая, чтобы заводить подобные разговоры с принцем Альбертом и главными министрами: сэром Робертом Пилем, лордом Абердином, герцогом Веллингтоном, находившимися в числе приглашенных к королевскому столу. Беседы эти бывали очень продолжительны и длились иногда по нескольку часов. Собеседников государя поражала необыкновенная прямота и откровенность его речей. «Я знаю, – говорил он им, – что меня принимают за притворщика, но это неправда. Я искренен, говорю, что думаю и держу данное слово».
24 мая (5 июня) в Виндзорском парке происходил большой парад. Войска и толпа собравшихся зрителей приветствовали русского императора восторженными кликами. Его величество оставил королеву лишь на несколько минут, чтобы проехать вдоль фронта, и, возвратясь к ней, благодарил ее за доставленный ему случай снова повидаться «со старыми товарищами». Похвалив быстроту и точность движений английской артиллерии, государь, обратясь к королеве, сказал: «Прошу, ваше величество, рассчитывать и на мои войска, как на свои собственные». В заключение все бывшие на параде части прошли церемониальным маршем мимо королевы и императора. Во главе войск ехал престарелый главнокомандующий, герцог Веллингтон, а впереди своего полка – принц Альберт, салютовавший их величествам.
Из воспоминаний баронессы Фрэнсис фон Бунзен, жены прусского посла при британском королевском дворе
На следующий день были скачки в Аскоте, национальный праздник для всей Англии. Прием, сделанный императору бесчисленными толпами народа, был еще шумнее и торжественнее, чем накануне. Всеобщее внимание было устремлено на него.
Где он ни показывается, всюду встречают его громкими восклицаниями. Статный и красивый мужчина всегда нравится Джону Булю – такова национальная его слабость. Кроме того, Джон Буль польщен столь высоким посещением, таким знаком внимания, оказанным его королеве и ему самому. На скачках император причинил большое беспокойство своей свите, отделясь от нее и быстрыми шагами направившись один в самую середину толпы. Граф Орлов, барон Бруннов напрасно пытались последовать за ним. Хоть он и отделялся от окружающего его народа высоким своим ростом и блестящим мундиром, но с трудом пролагал себе путь в толпе. Когда он возвратился к своей свите и заметил ее смущение, то засмеялся и сказал: «Что с вами? Эти люди не причинят мне никакого зла!» Всякий со страхом вспомнил о том, что могли предпринять поляки (речь идет о возможном покушении на императора. – Я. Г.).
Из книги Сергея Сергеевича Татищева «Николай I и иностранные дворы»
Приближался час разлуки. Отведя королеву под руку из-за стола в гостиную, государь сказал: «Сегодня, к несчастию, последний вечер, когда я пользуюсь ласкою вашего величества, но воспоминание о ней навсегда запечатлеется в моем сердце. Я вас, вероятно, больше не увижу». Королева Виктория возразила, что он легко может снова посетить Англию. «Вы знаете, как трудно нам предпринимать подобные путешествия», – воскликнул император. «Но я поручаю вам детей моих», – прибавил он с оттенком грусти в голосе.
Вечер субботы окончился в оперном театре. Хотя там и не ожидали королевы и ее августейших гостей, но встретили их громом рукоплесканий. Несмотря на настояния ее величества, государь не хотел занять место впереди нее. Тогда королева взяла его за руку и продвинула вперед при оглушительных восклицаниях публики…
Прощание императора с королевской семьей было задушевным. И гость, и хозяева казались растроганными. Сойдясь ближе, они научились взаимно ценить и уважать друг друга.
Из дневника королевы Великобритании Виктории
Незадолго до пяти часов мы спустились вниз, чтобы ждать с детьми в малой гостиной. Вскоре после того вошел император и начал говорить с нами. Затем он сказал со вздохом и с чувством, смягчившим всю строгость его осанки: «Я уезжаю отсюда, государыня, с грустью в сердце, проникнутый вашей ласкою ко мне. Вы можете всегда и вполне положиться на меня, как на самого преданного вам человека. Да благословит вас Бог!» Он снова поцеловал и пожал мою руку, а я поцеловала его. Он обнял детей с нежностью и сказал: «Да благословит их Бог вам на счастье!» Он не хотел, чтоб я провожала его, говоря: «Умоляю! вас! Не идите дальше! Я упаду к вашим ногам! Позвольте мне отвести вас в ваши покои!» Но, конечно, я не согласилась и под руку с ним направилась к сеням… Наверху немногих ступеней, ведущих в нижние сени, он снова крайне ласково простился со мною, и голос его обличал его смущение. Он поцеловал мою руку, и мы обнялись. Увидев, что он дошел до двери, я спустилась с лестницы, и он из кареты просил меня не оставаться тут; но я осталась и видела, как он с Альбертом уехал в Вульвич.
Во время этих почти любовных сцен ни русский император, ни английская королева не подозревали, что всего через десять лет их солдаты сойдутся в смертельной схватке под Севастополем – схватке, поражение в которой станет прямой причиной ранней смерти красавца императора…
В Вульвиче государь осмотрел знаменитые доки и строившиеся на них суда, и в 7 часов вечера, простясь с принцем Альбертом, отплыл на английском корабле «Black Eagle». Барон Бруннов сопровождал его величество до Гревесенда, где государь вручил своему министру знаки ордена Св. Андрея для принца Валлийского. Все состоявшие при императоре чины английского двора были щедро одарены золотыми табакерками и другими богатыми подарками. Перед отъездом государь пожертвовал значительные суммы на различные патриотические и благотворительные цели. Независимо от приза, основанного им на английских скачках, он велел препроводить от своего имени по 500 фунтов стерлингов герцогам: Веллингтону – на памятник Нельсону, а Рутланду – на памятник самому Веллингтону. Такая же сумма была выдана, по его приказанию, для раздачи бедным англиканского прихода Св. Георгия, в черте коего находилось русское посольство, 1000 фунтов стерлингов назначено обществу вспомоществования неимущим иностранцам, а 100 фунтов – на содержание учрежденной для иностранцев больницы.
Судя по всему, император Николай Павлович и в самом деле был человеком искренним во всех своих проявлениях. Эта искренность была следствием абсолютной уверенности в своей правоте и убежденности в своей миссии. В политике это делало его, как ни странно это может прозвучать, наивным и уязвимым. Он и от других ждал той же искренности и считал, что личные отношения превалируют над государственными интересами.
Английская элита, так радушно его принимавшая, придерживалась иных взглядов.
Из письма лорда Генри Палмерстона, лидера оппозиции в британском парламенте
Надеюсь, что русский император останется доволен приемом. Важно, чтобы он вынес благоприятное впечатление об Англии. Он могущественен и во многих случаях может действовать или в нашу пользу, или нам во вред, смотря по тому, хорошо или дурно расположен к нам; если мы можем приобрести его благоволение вежливостью, не жертвуя национальными интересами, то было бы глупо не поступить так. Впрочем, я могу сказать, что он будет принят прекрасно, ибо известно, что личность его, обхождение и манеры привлекательны.
Палмерстон, опытный и трезвый политик, оказался прав – для того, чтобы вызвать горячую симпатию Николая к английскому королевскому дому, отнюдь не понадобилось жертвовать национальными интересами. Хватило чисто человеческой доброжелательности. Это и понятно. Поскольку Николай, как некогда Людовик ХIV, считал, что государство – это он, то доброе отношение к нему лично безоговорочно переносил в сферу практической политики. Ему пришлось горько разочароваться в таком подходе…
Несмотря на то что королева Виктория была растрогана, она прекрасно понимала, с кем имеет дело, и умела отделить отношение к Николаю-человеку от отношения к Николаю-самодержцу.
Из письма королевы Виктории королю Бельгии Леопольду I
Я была очень настроена против посещения, опасаясь стеснения и тягости, даже вначале оно мне нисколько не улыбалось. Но, прожив в одном доме вместе, спокойно и нестеснительно (в том и состоит, как весьма справедливо полагает Альберт, великое преимущество таких посещений, что я не только вижу этих важных посетителей, но и узнаю их), я узнала императора, а он узнал меня, в нем есть многое, с чем я не могу примириться, и я думаю, что надо рассматривать и понимать его характер таким, каков он есть. Он суров и серьезен, верен точным началам долга, изменить которым его не заставит ничто на свете. Я не считаю его очень умным, ум его не обработан. Его воспитание было небрежно. Политика и военное дело – единственные предметы, внушающие ему большой интерес; он не обращает внимания на искусства и на все более гуманные занятия; но он искренен даже в наиболее деспотических своих поступках, будучи убежден, что таков единственный способ управления. Я уверена, что он не подозревает ужасных случаев личного несчастия, столь часто им причиняемых, ибо я усмотрела из различных примеров, что его держат в неведении о многих делах, совершаемых его подданными в высшей степени нечестными способами, тогда как он сам считает себя чрезвычайно справедливым. Он помышляет об общих местах и не входит в подробности, и я уверена, что многое никогда не достигает его слуха, да и не может достигнуть, если трезво взглянуть на дело… Я готова сказать даже, что он слишком откровенен, ибо он говорит открыто перед всеми, чего бы не следовало, и с трудом сдерживает себя. Его желание, чтоб ему верили, очень велико, и я должна признаться, что сама расположена верить его личным обещаниям. Его чувства очень сильны. Он прост, чувствителен и ласков, а любовь его к жене и своим детям, да и ко всем детям вообще – очень велика.
При всей критичности взгляда Виктории, Николай глубоко поразил ее как личность, и в письмах к своему дяде, бельгийскому королю, она постоянно возвращается к этому сюжету.
Из письма королевы Виктории королю Бельгии Леопольду I
Он несчастлив, и меланхолия, проглядывавшая в его облике по временам, наводила на нас грусть. Суровость его взгляда исчезает по мере того, как сближаешься с ним, и изменяется сообразно тому, владеет ли он собою или нет (его можно привести в большое смущение), а также когда он разгорячен, так как он страдает приливом крови к голове. Он никогда не пьет ни единой капли вина и ест чрезвычайно мало. Альберт полагает, что он слишком расположен следовать душевному импульсу или чувству, что заставляет его часто поступать несправедливо. Его восхищение женскою красотою очень велико. Но он остается верен тем, кем он восхищался двадцать восемь лет назад.
Из памятных записок барона Кристиана Фридриха Стокмара. 1844
Император все еще великий поклонник женской красоты. Он выказал большое внимание всем англичанкам, бывшим прежде предметом его почитания. Все это в сочетании с повелительною его осанкою и предупредительной любезностью в отношении прекрасного пола, конечно, победило большинство дам, с которыми он был в отношениях. Мужчины хвалили его чувство собственного достоинства, такт и точность, отличавшие его в обществе.
Быт. Семья. Частный человек
Из воспоминаний фрейлины императрицы Александры Федоровны баронессы Марии Петровны Фредерикс
В настоящее время [1888] часто говорят, что император Николай I показывался совсем другим, чем он был в действительности. Можно ли только это допустить?! Судящие так лишь доказывают, как они мало изучили его характер! Правдивее и откровеннее человека, каков был Николай Павлович, нет; уж конечно, в своей обыденной интимной жизни он не стал бы играть комедию. Напротив, он родился с этим изящным, если можно выразиться так, темпераментом нежности и доброты сердечной, а суровая сторона его характера образовалась только событиями его вступления на престол; он увидал тогда, что только строгостью может укротить нравы своих подданных, как я уже говорила выше, и, облекшись в этот суровый, строгий вид, он только доказал свою силу воли и твердость характера. Он всегда и во всем сохранял спокойное величие, оно никогда его не покидало, ни в обыкновенные минуты, ни в выдающиеся минуты жизни. Он может служить великим примером честности и благородства; оттого император Николай I мог смотреть прямо в глаза каждому.
При всем этом нельзя не сказать, чтобы быть вполне справедливой, что он был весьма вспыльчив, и если чем оставался недоволен или замечал какую-нибудь грязную неправду, или какой дурной поступок, – его строгости не было границ; но все-таки, если прогневавший его мог оправдаться, или даже просто сказать: «виноват, ваше величество», то он был сам счастлив и сейчас же смягчался.
Какой пример давал всем Николай Павлович своим глубоким почтением к жене и как он искренно любил и берег ее до последней минуты своей жизни! Известно, что он имел любовные связи на стороне – какой мужчина их не имеет, во-первых, а во-вторых, при царствующих особах нередко возникает интрига для удаления законной супруги; посредством докторов стараются внушить мужу, что его жена слаба, больна, надо ее беречь и т. п., и под этим предлогом приближают женщин, через которых постороннее влияние могло бы действовать. Но император Николай I не поддавался этой интриге и, несмотря ни на что, оставался верен нравственному влиянию своей ангельской супруги, с которой находился в самых нежных отношениях.
Хотя предмет его посторонней связи и жил во дворце, но никому и в голову не приходило обращать на это внимание; все это делалось так скрыто, так благородно, так порядочно. Например, я, будучи уже не очень юной девушкой, живя во дворце под одним кровом, видясь почти каждый день с этой особой, долго не подозревала, что есть что-нибудь неправильное в жизни ее и государя; так он держал себя осторожно и почтительно перед женой, детьми и окружающими лицами. Бесспорно, это великое достоинство в таком человеке, как Николай Павлович. Что же касается той особы[21], то она и не помышляла обнаруживать свое исключительное положение между своих сотоварищей фрейлин; она держала себя всегда очень спокойно, холодно и просто.
Конечно, были личности, которые, как и всегда в этих случаях, старались подслужиться к этой особе, но они мало выигрывали через нее. Нельзя не отдать ей справедливости, что она была достойная женщина, заслуживающая уважения, в особенности в сравнении с другими того же положения.
После кончины Николая Павловича эта особа тотчас же хотела удалиться из дворца, но воцарившийся Александр II, по соглашению со своей августейшей матерью, лично просил ее не оставлять дворца; но с этого дня она больше не дежурила, а только приходила читать вслух императрице Александре Федоровне, когда ее величество была совсем одна и отдыхала после обеда.
К себе самому император Николай I был в высшей степени строг, вел жизнь самую воздержанную, кушал он замечательно мало, большею частью овощи, ничего не пил, кроме воды, разве иногда рюмку вина и то, право, не знаю, когда это случалось, за ужином кушал всякий вечер тарелку одного и того же супа из протертого картофеля, никогда не курил, но и не любил, чтобы и другие курили. Прохаживался два раза в день пешком обязательно – рано утром перед завтраком и занятиями, и после обеда, днем никогда не отдыхал. Был всегда одет, халата у него и не существовало никогда, но если ему нездоровилось, что, впрочем, очень редко случалось, то он надевал старенькую шинель. Спал он на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Его походная кровать стояла постоянно в опочивальне августейшей супруги, покрытая шалью. Вообще вся обстановка, окружавшая его личную интимную жизнь, носила отпечаток скромности и строгой воздержанности. Его величество имел свои покои в верхнем этаже Зимнего дворца; убранство их было не роскошно. Последние годы он жил внизу, под апартаментами императрицы, куда вела внутренняя лестница. Комната эта была небольшая, стены оклеены простыми бумажными обоями, на стенах несколько картин. На камине большие часы в деревянной отделке, над часами большой бюст графа Бенкендорфа. Тут стояли: вторая походная кровать государя, над ней небольшой образ и портрет великой княгини Ольги Николаевны; она на нем представлена в гусарском мундире полка, которого была шефом, вольтеровское кресло, небольшой диван, письменный рабочий стол, на нем портреты императрицы и его детей и незатейливое убранство; несколько простых стульев; мебель вся красного дерева, обтянута темно-зеленым сафьяном, большое трюмо, около коего стояли его сабли, шпаги и ружье, на приделанных к рамке трюмо полочках стояли склянка духов, – он всегда употреблял «Parfum de la Cour» (придворные духи), – щетка и гребенка. Тут он одевался и работал… тут же он и скончался! […]
По утрам и вечерам Николай Павлович всегда долго молился, стоя на коленях, на коврике, вышитом императрицей; когда этот коврик пришел в ветхость, то ее величество захотела его переменить, но так как она уже в то время часто болела, начинала плохо видеть, вышивать самой ей было трудно, то она мне поручила вышить этот коврик за нее. Это было за два или три года до кончины государя; этот коврик и до сих пор лежит свернутый в ногах кровати Николая Павловича.
А как велика была его вера! он был искренно и истинно религиозен. Государь не часто ходил в церковь и не любил длинных служб, но когда присутствовал при богослужении, то был глубоко проникнут им. А когда он приобщался, боже мой, что это была за минута! Без слез нельзя было видеть глубокое чувство, которое его проникало всего в это время; стоило для себя лично смотреть на него, когда он принимал Святые Таинства, – так потрясала его глубокая, истинная вера!
Накануне, перед исповедью, после вечерни, государь обыкновенно выходил из внутренних комнат в залу, где все приближенные, говеющие с их величествами, были собраны. Государь подходил к каждому, целовал его и просил прощения. Но как он это делал?!.. серьезно, искренно, сердечно! Так и хотелось ему упасть в ноги и разрыдаться.
Когда их величества говели, то все службы, исключая обеден, конечно, совершались их духовником, протопресвитером Василием Борисовичем Бажановым, на половине ее величества, в малахитном зале, потому что император Николай Павлович никогда не входил в церковь, из почтения к этому святому месту, не одетый в мундир, а тут он присутствовал при службах по-домашнему, в сюртуке без эполет[22]. В Великий пост служба была всегда на первой и на последней неделях, если даже государь, императрица и семейство не говели (они обыкновенно говели на первой или на Страстной неделе), то все-таки не пропускали ни одной службы. А в другое время года государь бывал у обедни только по воскресеньям, большим праздникам и царским дням. Обедня не должна была продолжаться более часа времени. Перед обедней государь сам назначал пение, которое желал, чтобы исполняли. В молодости он сам часто пел, становясь на клиросе с певчими; у него был звучный баритон. Великие княжны тоже пели у обедни, а Александра Николаевна, покровительствовавшая маленьким певчим, имела их малиновый кафтан. Этот костюм хранится в придворной певческой капелле, в витрине, стоящей в концертном зале. Во дни восшествия на престол, 20 ноября, и коронации своей, 22 августа, их величества никогда не выходили к богослужению, проводя эти дни спокойно у себя. 14 декабря в течение всего царствования императора Николая I служился благодарственный молебен в память укрощения мятежа, а в конце молебна провозглашалась вечная память павшим во время мятежа 1825 года – их величества присутствовали всегда на этой в высшей степени трогательной службе в Малой церкви Зимнего дворца со всей своей свитой и сверх того, приглашались в этот день все, принимавшие участие в защите царя и престола. Конечно, мой отец всегда был зван на этот молебен.
Государь очень строго следил за стоянием своих детей в церкви; малолетние были все выровнены перед ним и не смели шевелиться, он во всем и во всех любил выдержку.
Никто из детей императора Николая I не наследовал решительного характера и силы воли отца. Они все напоминают его некоторыми хорошими чертами, нравственными, как и физическими, но все целое ни один не получил, исключая второй дочери государя, Ольги Николаевны, ныне королевы Вюртембергской. Она больше всех походит на отца и наружностью, имея его правильные черты лица, и силой воли, и стойким характером, что она доказала всей своей жизнью. При том она унаследовала женственность и ангельскую нежность своей матери, так что она собой изображает редкое, чудное во всех отношениях, исключительное явление.
Из записок барона Модеста Андреевича Корфа
Император Николай был вообще очень веселого и живого нрава, а в тесном кругу даже и шаловлив… С самых первых годов его царствования до тех пор, пока позволяло здоровье императрицы, при дворе весьма часто бывали, кроме парадных балов, небольшие танцевальные вечера, преимущественно в Аничковом дворце или, как он любил его называть, Аничкинском доме, составлявшем личную его собственность еще в бытность великим князем. На эти вечера приглашалось особенное привилегированное общество, которое называли в свете Аничковским обществом (la Societe d’Anitchkoff) и которого состав, определявшийся не столько лестницей служебной иерархии, сколько приближенностью к царственной семье, очень редко изменялся. В этом кругу оканчивалась обыкновенно Масленица, и на прощание с нею в folle jourńee[23] завтракали, плясали, обедали и потом опять плясали.
В продолжение многих лет принимал участие в танцах и сам государь, которого любимыми дамами были: Бутурлина, урожденная Комбурлей, княгиня Долгорукая, урожденная графиня Апраксина, и позже жена поэта Пушкина, урожденная Гончарова.
В одну из таких folle jourńee, которые начинались в час пополудни и длились до глубокой ночи именно в 1839 году, государь часу во 2-м напомнил, что время кончить танцы; императрица смеясь отвечала, что имеет разрешение от митрополита танцевать сколько угодно после полуночи; что разрешение это привез ей синодальный обер-прокурор (гусарский генерал граф Протасов) и что, в доказательство того, он и сам танцует. За попурри, когда дамы заняли все стулья, государь, также танцевавший, предложил кавалерам сесть возле своих дам на пол и сам первый подал пример. При исполнении фигуры, в которой одна пара пробегает над всеми наклонившимися кавалерами, государь присел особенно низко, говоря, что научен опытом, потому что с него таким образом сбили уже однажды тупей[24]. Здесь кстати заметить, что император Николай рано стал терять волосы и потому долго носил тупей, который снял в последние только годы своей жизни.
Из воспоминаний баронессы Марии Петровны Фредерикс
Самое мое светлое воспоминание детства, которое навсегда осталось запечатленным в моей памяти, это – когда я присутствовала на утренних завтраках членов царской семьи. Все они собирались каждый день к августейшей матери пить кофе. Что это была за картина, боже мой! Во-первых, три красавицы великие княжны Мария, Ольга и Александра Николаевны, прелестные, полные обаяния, всякая в своем роде. Потом великие князья – один лучше другого. Какая дружба между ними была! Какая радость видеться снова утром! Все были так веселы, так счастливы, окружали родителей с такою любовью, без малейшей натяжки. Тут император Николай Павлович был самый нежный отец семейства, веселый, шутливый, забывающий все серьезное, чтоб провести спокойный часок среди своей возлюбленной супруги, детей, а позже и внуков. Император Николай I отличался своей любовью и почтением к жене и был самый нежный отец. А какую любовь умел он внушать и своему семейству и приближенным! Правда, он сохранял всегда и во всем свой внушительно-величественный вид, и когда заслышишь, например, его твердые приближающиеся шаги, сердце всегда забьется от какого-то невольного страха, но это чувство так перемешивалось с чувством счастья его увидать, что в тебе происходило что-то такое, что трудно выразить и ни с чем сравнить нельзя, а когда он милостиво посмотрит и улыбнется своим полным обаяния взглядом и улыбкой, притом скажет несколько слов, то, право, осчастливит надолго.
Накануне Рождества Христова, в сочельник после всенощной, у императрицы была всегда елка для ее августейших детей, и вся свита приглашалась на этот семейный праздник. Государь и царские дети имели каждый свой стол с елкой, убранной разными подарками, а когда кончалась раздача подарков самой императрицей, тогда входили в другую залу, где был приготовлен большой, длинный стол, украшенный разными фарфоровыми изящными вещами с императорской Александровской мануфактуры. Тут разыгрывалась лотерея между всей свитой, государь обыкновенно выкрикивал карту, выигравший подходил к ее величеству и получал свой выигрыш-подарок из ее рук.
С тех пор, что я себя помню, с моих самых юных лет, я всегда присутствовала на этой елке и имела тоже свой стол, свою елку и свои подарки. Эти подарки состояли из разных вещей соответственно летам; в детстве мы получали игрушки, в юношестве – книги, платья, серебро; позже – брильянты и т. п. У меня еще до сих пор хранятся с одной из царских елок письменный стол со стулом к нему, на коем и сижу в эту минуту, сочинения Пушкина и Жуковского, серебро и разные другие вещи. Елку со всеми подарками мне потом привозили домой, и я долго потешалась и угощалась с нее.
Нас всегда собирали сперва во внутренние покои ее величества; там мы около закрытых дверей концертного зала или ротонды в Зимнем дворце, в которых обыкновенно происходила елка, боролись и толкались, все дети между собою, царские включительно, кто первый попадет в заветный зал. Императрица уходила вперед, чтобы осмотреть еще раз все столы, а у нас так и билось сердце радостью и любопытством ожидания. Вдруг слышался звонок, двери растворялись, и мы вбегали с шумом и гамом в освещенный тысячью свечами зал. Императрица сама каждого подводила к назначенному столу и давала подарки. Можно себе представить, сколько радости, удовольствия и благодарности изливалось в эту минуту. Так все было мило, просто, сердечно, несмотря на то что было в присутствии государя и императрицы, но они умели, как никто, своей добротой и лаской удалять всякую натянутость этикета.
Из записок барона Модеста Андреевича Корфа
Император Николай только в самые последние годы своей жизни переселился в тот маленький кабинет (в Зимнем дворце), где предопределено ему было окончить свои дни смертью праведника. Прежний его кабинет был в самом верхнем этаже над этим маленьким, окнами к Адмиралтейству. При заседании в 1841 году одного из собиравшихся у государя комитетов, в котором и я участвовал в качестве производителя дел, я успел во время продолжительного им самим чтения известных уже мне бумаг подробно высмотреть эту «мастерскую вечного работника на троне», к чему более имел удобства в этот раз, нежели в другие, когда я призывался пред государем один. Немедленно по возвращении из комитета домой я бросил на бумагу изображение этого кабинета, и вот как оно вылилось у меня тогда из-под пера.
Вокруг всей комнаты идут полушкафы, на которых лежат книги и портфели. Посередине ее два огромных письменных стола, в параллельном направлении; третий поперек комнаты, с приставленным к одной оконечности его пюпитром. В целом – порядок удивительный: ничего не нагромождено, не валяется; всякая вещь кажется на своем месте. Заседание комитета было вечером, и на ближайшем ко входной двери столе, на котором хозяин обыкновенно работает, лежало несколько невскрытых пакетов, вероятно только что присланных, потому что император Николай никогда не ложился, не вскрывая всего им полученного. Во всей комнате только два, но огромных, как ворота, окна, и в простенке между ними большие малахитовые часы с таким же циферблатом.
Вся без изъятия мебель, стулья и кресла, карельской березы, обитая зеленым сафьяном; один только диван и ни одного вольтера. Поданные на стол, у которого мы сидели, подсвечники были серебряные, самые низенькие, в форме подушечек, и сверх того на полушкафах стояли две обыкновенные столовые лампы; небольшая бронзовая люстра не была зажжена. На каминах и на столах расставлены восковые и гипсовые статуэтки солдатиков в полной форме, а на одном из полушкафов четыре такие же фигурки, побольше, под стеклянными колпаками.
На продольной стене, против входа, огромная картина Ладюрнера, изображающая парад на Царицыном лугу; на противоположной стене картина, такого же размера, Крюгера, представляющая парад в Берлине. Затем на поперечной стене, тоже между двумя большими картинами, которые я не мог хорошенько разглядеть, грудной портрет Петра Великого, а под ним и вокруг него, на уступах двух каминов и на письменных столах, также множество портретов, больших и миниатюрных, бюстов и бюстиков членов нашего, прусского и нидерландского царственных домов, живых и умерших. Одного только нет, или, по крайней мере, при всех поисках я не мог найти, – изображения Екатерины II. Известно, что император Николай, для которого душевная чистота была высшим из всех качеств, никогда не принадлежал к числу ее почитателей и нисколько не таил своей неприязни к ее памяти.
Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны
1838 год. Эта зима была последней светской зимой для моих родителей. Из любви к Саше и Мэри, которые не могли жить без развлечений, мы выезжали ежедневно, будь то театр или же балы. Иногда устраивались спектакли во дворце, и я могла, если не было ничего предосудительного в содержании пьесы, в виде исключения присутствовать при ее постановке. Примерно двадцать балов, в том числе и d́ejeuners dansants[25], на которых появлялись мы, все семеро: Саша – в казачьем мундире, Мэри – в бальном туалете, Адини (домашнее прозвище великой княжны Александры Николаевны. – Я. Г.) и я – с лиловыми бантами в волосах, она – в коротком платьице и кружевных штанишках, я – в длинном платье, с закрученными локонами, – состоялись этой зимой. Я была уже ростом с мам́а. Кости (великий князь Константин Николаевич. – Я. Г.) появлялся в матросском костюме, два маленьких брата (Николай и Михаил. – Я. Г.) – в русских рубашках.
В два часа, после обеда, за которым подавались блины с икрой, начинались танцы и продолжались до двух часов ночи. Чтобы внести разнообразие, танцевали, кроме вальса и контрданса, танец, называвшийся «снежной бурей», очень несложный. Его ввел Петр Великий для своих ассамблей, которые он навязал боярам, державшим до тех пор своих жен и дочерей в теремах. Когда темнело, зажигались свечи в люстрах. Это было в то время, когда танцы, и особенно мазурка, достигали своего апогея. Никогда на этих празднествах не присутствовало больше ста человек, и они считались самыми интимными и элегантными праздниками. Только лучшие танцоры и танцорки, цвет молодежи, принимали в них участие. В пять часов бывал парадный обед, после которого появлялись еще некоторые приглашенные. Мам́а тогда немного отдыхала, меняла туалет и появлялась, чтобы поздороваться с вновь прибывшими. После этого общество следовало из Белого зала в длинную галерею, и празднество продолжалось с новым воодушевлением. Мам́а любила танцевать и была прелестна. Легкая как перышко, гибкая как лебедь – такой еще я вижу ее перед собой в белоснежном платье, с веером из страусовых перьев в руках.
Пап́а танцевал, в виде исключения, только в кадрили. Его дамами были мадам Крюднер, княгиня Юсупова и Лиза Бутурлина, последняя очень красивая, любезная и естественная. В воскресенье перед постом на Масленице, ровно в двенадцать часов ночи, трубач трубил отбой, и по желанию пап́а танцы прекращались, даже если это было среди фигуры котильона. Я уже упомянула, что пап́а принимал балы как неприятную необходимость, не любил их. Ему больше нравились маскарады в театре, которые были подражанием балам в парижской «Опера». Как Гарун аль-Рашид, он мог там появляться и говорить с кем угодно. Благодаря этому ему удавалось узнать многое, о чем он даже не подозревал, в том числе и о недостатках, которые он мог устранить.
Из воспоминаний инженера путей сообщения Виктора Михайловича Шимана
Известно, что Николай Павлович был образцовый семьянин. Проведя все утро и передобеденное время в занятиях, он за обедом в семейном кругу начинал свой отдых. Почти ежедневно, около 7 часов, в начале сороковых годов, он проходил пешком в Мариинский дворец, чтобы навестить свою старшую дочь герцогиню Лейхтенбергскую, а младшие, тогда еще незамужние дочери Ольга и Александра Николаевны приезжали с императрицей Александрой Феодоровной в театр, где поджидал их отец. Нечего и говорить, что, имея двух дочерей-невест, он заботился о их развлечении, вывозя на балы и вечера с музыкой и танцами, ввиду чего покидал часто театр после первых двух актов. Посещались балы послов и знати, концертные и танцевальные вечера Михаила Павловича и его супруги Елены Павловны, у которых были свои три дочери невесты (Мария, Елисавета и Екатерина Михайловны), но чаще всего балы и вечера в Аничковом дворце, где жил с молодою супругой наследник цесаревич. Понятно, что и в Зимнем дворце давались часто балы и изредка любимые Николаем Павловичем маскарады; не было недостатка и в спектаклях в Эрмитажном театре, с участием всех трупп, кроме опять-таки немецкой; но самыми интересными были почти ежедневные семейные вечера на половине императрицы, на которые кроме родных имели доступ приближенные к государю и императрице лица. Таких лиц при дворе и в городе было немало, и благодаря им в Петербурге знали все, что на этих вечерах происходило. На первом плане стояла музыка, исполнителями которой были солисты императорского двора, а иногда и знаменитые виртуозы иностранцы и певцы итальянской оперы. Часто в таких домашних концертах принимал участие сам государь, отлично игравший на флейте. Когда не было музыки, занимались чтением новейших русских и иностранных литературных произведений, а желающие играли в карты. И в этом занятии Николай Павлович не отставал от других, только он любил играть вдвоем, в баккара. По этому поводу рассказывали, какой урок он дал одному из придворных, обратившемуся к нему с не совсем уместной шуткой.
– Что сказал бы Александр Христофорович (Бенкендорф), увидя вас играющим в такую игру?
– Ничего бы не сказал.
– Несомненно; но игра все-таки запрещенная.
– Почему?
– Потому, что она бескозырная.
– Вы забываете, что я сам козырь, – отвечал Николай Павлович хотя и с улыбкой, но ясно намекая, что он стоит выше закона.
За слабостью здоровья императрицы такие вечера не заходили за полночь, и государь очень часто занимался еще час-другой перед сном особенно спешными делами, которые не успел обдумать и решить в урочное время утренних занятий. Вставал он очень рано. В зимние дни в 7 часов утра проходившие по набережной Невы мимо Зимнего дворца могли видеть государя, сидящего у себя в кабинете за письменным столом, при свете 4 свечей, прикрытых абажуром, читающего, подписывающего и перебирающего целые вороха лежавших перед ним бумаг. Но это было только начало его дневной работы – работы недоконченной или отложенной для соображения в предшествующие дни, настоящая же работа закипала в 9 часов с прибытием министров. У каждого из них были известные дни в неделе, когда они являлись с своими туго набитыми портфелями; но в иной день приходилось государю принимать несколько министров и выслушивать доклады по совершенно различным отраслям управления. Сколько сосредоточенности, памяти и навыка нужно было иметь Николаю Павловичу, чтобы не сбиться в приказаниях и распоряжениях, отдаваемых то одному, то другому из его 13 министров, имевшим мало общих дел между собой…
С годами Николай Павлович стал еще усиленнее заниматься государственными делами, почти единолично, и требовал от своих министров не самостоятельных действий, а лишь исполнения его предначертаний и приказаний. При таких условиях не могло быть выдающихся по своей инициативе министров.
Из воспоминаний журналиста Аркадия Васильевича Эвальда
Император Николай I был человек очень неприхотливый насчет жизненных удобств. Спал он на простой железной кровати с жестким волосяным тюфяком и покрывался не одеялом, а старою шинелью. Точно так же он не был охотник до хитрой французской кухни, а предпочитал простые русские кушанья, в особенности щи да гречневую кашу, которая если не ежедневно, то очень часто подавалась ему в особом горшочке. Шелковая подкладка на его старой шинели была покрыта таким количеством заплат, какое редко было встретить и у бедного армейского офицера.
Но насколько он был прост относительно себя, настолько же он был расточителен, когда дело касалось императрицы Александры Федоровны. Он не жалел никаких расходов, чтобы доставить ей малейшее удобство.
Последние годы ее жизни доктора предписали ей пребывание в Ницце, куда она и ездила два или три раза. Нечего и говорить, что в Ницце был для нее куплен богатый дом, на берегу моря, который был отделан со всевозможной роскошью.
Но однажды, по маршруту, ей приходилось переночевать в Вильне. Для этой остановки всего на одни сутки был куплен дом за сто тысяч и заново отделан и меблирован от подвалов до чердака.
Проживая в Ницце, императрица устраивала иногда народные обеды. Для этого на эспланаде перед дворцом накрывались столы на несколько сот, а не то и тысяч человек, и каждый обедавший, уходя, имел право взять с собою весь прибор, а в числе прибора находился между прочим серебряный стаканчик с вырезанным на нем вензелем императрицы. Если о богатстве России долгое время ходили в Европе баснословные рассказы, то этим рассказам, конечно, много содействовала роскошь, которою император окружал свою боготворимую спутницу жизни. Слухи о ее расточительности за границей доходили, конечно, и в Россию и немало льстили патриотическому самолюбию.
Так как императрице не нравилась местная вода, то из Петербурга каждый день особые курьеры привозили бочонки невской воды, уложенные в особые ящики, наполненные льдом. Зная это, многие жители Ниццы старались добыть разными путями хоть рюмку невской воды, чтобы иметь понятие о такой редкости. Опытные курьеры прихватывали с собою лишний бочонок и распродавали его воду, стаканами или рюмками, чуть не на вес золота.
Рассказ Эвальда о пребывании императрицы в Ницце вызвал возмущенную критику лиц, ее сопровождавших. Критика была, скорее всего, справедлива. Эвальд пользовался слухами. Но характерно, что такие слухи ходили и казались вполне серьезному мемуаристу правдоподобными.
В общественном сознании прочно сложился образ Николая – идеального семьянина, готового на все ради царственной супруги.
Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны
1835 год. Зима началась весело, были празднества, даже для нас, детей, и между ними так называемый «Праздник Боб» с орденами и подарками, на котором Адини и Кости появились как бобовые королева и король с пудреными волосами и в костюмах прошлой эпохи. Была и перемена в придворных дамах этой зимы. Софи Урусова, которую мам́а очень ценила, вышла замуж за адъютанта Леона Радзивилла. Она была красавица, энергичная, высокого роста, с чудесным голосом альтового тембра, и за ее холодной внешностью скрывалась страстная натура. Немногие рисковали приблизиться к ней: был пущен слух, что пап́а к ней неравнодушен. Это было неправдой. Никто другой, кроме мам́а, никогда не волновал его чувств, такая исключительная верность многим казалась просто чрезмерной добросовестностью…
На одном из этих маскарадов пап́а познакомился с Варенькой Нелидовой, бедной сиротой, младшей из пяти сестер, жившей на даче в предместье Петербурга и никогда почти не выезжавшей. Ее единственной родственницей была старая тетка, бывшая фрейлина императрицы Екатерины Великой, пользовавшаяся также дружбой бабушки. От этой тетки она знала всякие подробности о юности пап́а, которые она рассказала ему во время танца, пока была в маске. Под конец вечера она сказала, кто она. Ее пригласили ко двору, и она понравилась мам́а. Весной она была назначена фрейлиной.
То, что началось невинным флиртом, вылилось в семнадцатилетнюю дружбу. В свете не в состоянии верить в хорошее, поэтому начали злословить и сплетничать. Признаюсь, что я всегда страдала, когда видела, как прекрасные и большие натуры сплетнями сводились на низкую степень, и мне кажется, что сплетники унижают этим не себя одних, а все человечество. Я повторяю то, о чем уже говорила однажды: пап́а женился по любви, по влечению сердца, был верен своей жене и хранил эту верность из убеждения, из веры в судьбу, пославшую ему ее, как ангела-хранителя.
Варенька Нелидова была похожа на итальянку со своими чудными темными глазами и бровями. Но внешне она совсем не была особенно привлекательной, производила впечатление сделанной из одного куска. Ее натура была веселой, она умела во всем видеть смешное, легко болтала и была достаточно умна, чтобы не утомлять. Она была тактичной, к льстецам относилась, как это нужно, и не забывала своих старых друзей после того, как появилась ко двору. Она не отличалась благородством, но была прекрасна душой, услужлива и полна сердечной доброты. […] Пап́а часто после прогулки пил чай у Вареньки; она рассказывала ему анекдоты, между ними и такие, какие никак нельзя было назвать скромными, так что пап́а смеялся до слез. Однажды от смеха его кресло опрокинулось назад. С тех пор кресло это стали прислонять к стене, чтобы подобного случая не повторилось.
Из «Воспоминаний смолянки» Александры Ивановны Соколовой
Красавица собой, дочь умершего генерала, разом окончившая курс в одном из первых институтов, молодая Лешерн имела за собой все для того, чтобы составить блестящую карьеру, но она увлеклась молодым офицером Преображенского полка, князем Алексеем Яковлевичем Несвицким и… пожертвовала ему собой, в твердой уверенности, что он сумеет оценить ее привязанность и даст ей свое имя.
Расчет ее на рыцарское благородство князя не оправдался, он не только не сделал ей предложения, но совершенно отдалился от нее, ссылаясь на строгий запрет матери.
Несчастная молодая девушка осталась в положении совершенно безвыходном, ежели бы не вмешательство великого князя Михаила Павловича, всегда чутко отзывавшегося на всякое чужое горе и тщательно охранявшего честь гвардейского мундира.
Справедливо найдя, что мундир, который носил князь Несвицкий, сильно скомпрометирован его поступком с отдавшейся ему молодой девушкой, Михаил Павлович вызвал Несвицкого к себе, строго поговорил с ним и, узнав от него, что мать действительно дает ему самые ограниченные средства к жизни, выдал ему на свадьбу довольно крупную сумму из своих личных средств, вызвавшись при этом быть посаженным отцом на его свадьбе.
Гордая и самолюбивая, старая княгиня так и не признала невестки и никогда не видалась с нею, даже впоследствии.
Первое время после свадьбы молодая была, или, точнее, старалась быть счастлива, но муж стал скоро тяготиться семейной жизнью и изменял жене у нее на глазах.
К этому времени относится первая встреча молодой княгини с императором Николаем.
Государь увидал ее на одном из тех балов, которые в то время давались офицерами гвардейских полков и на которых так часто и охотно присутствовали высочайшие гости.
Замечательная красота княгини Софьи бросилась в глаза императору, и он, стороной разузнав подробности ее замужества и ее настоящей жизни, сделал ей довольно щекотливое предложение, на которое она отвечала отказом.
Государь примирился с этим отказом, приняв его как доказательство любви княгини к мужу, желание остаться ему непоколебимо верной. Но он ошибался.
Молодой женщине император просто не нравился как мужчина, и спустя два года, встретивши человека, которому удалось ей понравиться, она отдалась ему со всей страстью любящей и глубоко преданной женщины.
Избранник этот был флигель-адъютант Бетанкур, на которого обрушился гнев государя, узнавшего о предпочтении, оказанном ему перед державным поклонником.
Бетанкур был человек практический; он понял, что хорошеньких женщин много, а император один, и через графа Адлерберга довел до сведения государя, что он готов навсегда отказаться не только от связи с княгиней Несвицкой, но даже от случайной встречи с ней, лишь бы не лишаться милости государя.
Такая «преданность» была оценена, Бетанкур пошел в гору, а бедная молодая княгиня, брошенная и мужем и любовником, осталась совершенно одна и сошла со сцены большого света, охотно прощающего все, кроме неудачи. Прошли года…
Состарился государь… Состарилась и впала в совершенную нищету и бывшая красавица Несвицкая, и бедная, обездоленная, решилась подать на высочайшее имя прошение о вспомоществовании.
Ей, больной, совершенно отжившей и отрешившейся от всего прошлого, и в голову не приходило, конечно, никакое воспоминание о прошлом, давно пережитом… Но не так взглянул на дело государь.
Первоначально он, узнав из доклада управляющего комиссией прошений, что просьба идет от особы титулованной, назначил сравнительно крупную сумму для выдачи, но в минуту подписания бумаги, увидав на прошении имя княгини Несвицкой, рожденной Лешерн, порывистым жестом разорвал бумагу, сказав:
– Этой?! Никогда… и ничего!!
Этот последний случай лично рассказан был мне княгиней Несвицкой, которую я видела в конце 50-х годов в Петербурге, в крайней бедности, почти совершенно ослепшей и буквально нуждавшейся в дневном пропитании.
В заключение передам комический эпизод из той же закулисной жизни императора Николая, сообщенный в моем присутствии покойным Тютчевым, чуть не в самый момент его совершения.
Больших и особенно знаменательных увлечений за императором Николаем I, как известно, не водилось. Единственная серьезная, вошедшая в историю связь его была связь с Варварой Аркадьевной Нелидовой, одной из любимых фрейлин императрицы Александры Федоровны. Но эта связь не может быть поставлена в укор ни самому императору, ни без ума любившей его Нелидовой. В нем она оправдывалась вконец пошатнувшимся здоровьем императрицы, которую государь обожал, но которую берег и нежил, как экзотический цветок…
Нелидова искупала свою вину тем, что любила государя преданно и безгранично, любила всеми силами своей души, не считаясь ни с его величием, ни с его могуществом, а любя в нем человека. Императрице связь эта была хорошо известна… Она, если можно так выразиться, была санкционирована ею, и когда император Николай Павлович скончался, то императрица, призвав к себе Нелидову, нежно обняла ее, крепко поцеловала и, сняв с руки браслет с портретом государя, сама надела его на руку Варвары Аркадьевны. Кроме того, императрица назначила один час в течение дня, в который, во все время пребывания тела императора во дворце, в комнату, где он покоился, не допускался никто, кроме Нелидовой, чтобы дать ей, таким образом, свободно помолиться у дорогого ей праха.
Но, помимо этой серьезной и всеми признанной связи, за государем подчас водились и маленькие анекдотические увлечения, которые он бесцеремонно называл «дурачествами», перекрестив их в оригинальное наименование «васильковых дурачеств» с тех пор, как услыхал, что Ф. И. Тютчев поэтически назвал их des bluettes[26].
Из повести Льва Николаевича Толстого «Хаджи-Мурат»
Николай в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов и подпертые высоким воротником ожиревшие, свежевыбритые щеки, с оставленными правильными колбасиками бакенбард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причиной же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться со своей дамой… Маска оказалась хорошенькой 20-летней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и ей, как она говорила, ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычного свидания Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.
Из воспоминаний баронессы Марии Петровны Фредерикс
К этим полдникам, о которых я начала говорить, приглашались лица из свиты их величеств и посторонние гости. Сперва катались по парку; государь ехал всегда в четырехместном тильбюри, сидел на козлах и сам правил парой лошадей, около себя он приглашал сесть одну из фрейлин или дам, а ее величество сидела на заднем месте, тоже с кем-нибудь из приглашенных; другие лица размещались по разным экипажам: шарабанам, яхтвагенам и проч., следя за царским тильбюри. В то время я уже была взрослой девицей, фрейлиной ее величества. В этот же день я была дежурная и разливала чай за царским столом. Государь был не в духе. Когда это с ним случалось, то, надо признаться, самые приближенные люди трепетали в эти минуты. Подаю я чашку чая, налитого мною его величеству, и вдруг он, отведав чай, говорит: «quel horrible th́e» (какой ужасный чай), отталкивает чашку и встает из-за стола. Можно себе вообразить мое сконфуженное положение! Императрица же в такие минуты своей ангельской добротой всегда старалась смягчить улыбкой или словом положение того, на кого обрушится неожиданно негодование государя; и в этот раз она меня обласкала и утешила. Через неделю я опять была дежурная; в этот день пили чай на Озерках; стою я у царского самовара, ни жива ни мертва; опять подаю с замиранием сердца налитую мною чашку чая его величеству… Государь, попробовав, милостиво мне улыбается и говорит: «Отличный чай сегодня, благодарю вас, Мария Петровна!» Как же не восхититься и не тронуться до глубины души тонким вниманием такого человека, каков был император Николай Павлович! – при всех его серьезных занятиях, заботах и думах вспомнить и утешить добрым словом, если за неделю назад был недоволен! В его строгом и решительном характере именно поражала эта тончайшая черта нежности чувств, доброта и справедливость, придававшие ему такое большое обаяние. Сколько подобных и гораздо серьезнее случаев можно было бы описать из его жизни, привязывающих так глубоко и искренно к нему.
Например, что могло сравниться с известным случаем полковника гвардейского Егерского полка Львова, которого ошибочно заподозрили в неблагонадежности, вследствие чего он был арестован. Государь, уверившись в невинности этого офицера, конечно, приказал немедленно его освободить и при первом случае на майском параде, при всей собранной гвардии, вызвал Львова из рядов, обнял его и громогласно извинился за обиду, причиненную ему по ошибке. А в 1831 году, в холерную эпидемию, во время бунта, когда император Николай Павлович отправился один в коляске на Сенную площадь, въехал в середину неистовствовавшего народа и, взяв склянку меркурия[27], поднес ее ко рту, – в это мгновение бросился к нему случившийся там лейб-медик Аренд, чтобы остановить его величество, говоря: «Votre Majest́e perdra dents» (ваше величество лишится зубов); государь, оттолкнув его, сказал: «Eh bien, vous me ferez une machoire» (ну, так вы мне сделаете челюсть), и проглотил всю склянку жидкости, чтоб доказать народу, что его не отравляют, – тем усмирил бунт и заставил народ пасть на колени перед собой! Эти два случая очень известны в истории Николая незабвенного, но нельзя их пропустить, когда о нем вспоминаешь; они слишком хорошо выставляют его благородный характер. Он всегда готов был жертвовать собой за справедливость и пример.
Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны
[1842] Начались приготовления к серебряной свадьбе наших родителей. Уже в июне прибыли дядя Вильгельм Прусский, кузен Генрих Нидерландский и наша горячо любимая тетя Луиза со своим мужем. Они все жили в недавно выстроенных готических домах, которые были расположены между Летним дворцом и Большим дворцом и которые назывались Готическими. Приехали еще герцоги Евгений и Адам Вюртембергские, друзья юности пап́а, а также эрцгерцог Карл Фердинанд. Наконец, накануне 13 июля орудия Кронштадта возвестили прибытие короля Фридриха Вильгельма IV, визит которого ожидался, но не было уверенности в том, что он состоится.
Официальные приемы, весь необходимый торжественный церемониал брали массу времени, отчего мы совершенно не принадлежали больше себе. Пап́а, который любил семейные торжества без свидетелей, устроил так, что накануне торжества вся семья, без придворных, в самом тесном кругу собралась вместе. Тут он появился со своими подарками для мам́а, со шляпой в каждой руке, третья на голове, футляр во рту, другой под пуговицами его мундира, за ним следовала камерфрау с платьями на руках, чудесными туалетами, подобных которым мы еще не видели. Для мам́а ему самое прекрасное никогда не было достаточно хорошо, в то время как он сам не позволял дарить себе ничего, кроме носовых платков, и время от времени мы баловали его каким-нибудь оружием, которое он неизменно передавал в Арсенал. От нас, детей, он любил принимать собственноручно нарисованные картины, но никогда не предмет роскоши, ни кольцо, ни бумажник, ничего для своего письменного стола или, например, более удобный рабочий стул. Случалось, что он засыпал у мам́а на какие-нибудь десять минут в ее удобных креслах, когда заходил к ней между двумя утренними конференциями, в то время как она одевалась. Такой короткий отдых был достаточен для того, чтобы сделать его снова работоспособным и свежим. После смерти Адини все это сразу изменилось, и его энергия ослабела.
Утром торжественного дня мам́а проснулась под звуки трубачей Кавалергардского полка, которые играли ей «Лендлер» Кунцендорфа, вещь, которую она часто слышала еще девочкой в Силезии. Затем был семейный завтрак, к которому каждый принес свое подношение: братья и сестры из Пруссии – серебряную люстру в 25 свечей и глиняные молочники из Бунцлау в Силезии. Мы, семеро детей, поднесли мама накануне браслет с семью сердечками из драгоценных камней, которые составляли слово respect[28]. От пап́а она получила ожерелье из 25 отборных бриллиантов. Каждой из нас, сестер, он подарил по браслету из синей эмали со словом bonheur[29] в цветных камнях, которые отделялись друг от друга жемчужинами. «Такова жизнь, – сказал он, – радость вперемешку со слезами. Эти браслеты вы должны носить на всех семейных торжествах». Свой браслет я с любовью берегу до сегодняшнего дня и передам его своим наследникам как реликвию.
Пап́а, растроганный и благодарный за все счастливые годы совместной жизни с мам́а, благословил нас перед образами святых. «Дай вам Бог в один прекрасный день пережить то же, что и я, и старайтесь походить на вашу мать!»
Затем последовал торжественный выход в церковь Большого дворца; мам́а в вышитом серебром платье, украшенная белыми и розовыми розами, мы все с гвоздиками. После службы, на балконе, был прием поздравителей. Погода сияла. Было отрадно видеть, сколько поздравлений и приветствий было принесено нашим родителям.
Присутствие короля Пруссии еще больше подчеркивало торжественность церемоний, но отнюдь не означало ничего приятного; пап́а особенно старался угодить ему, и оба друг перед другом соперничали в любезностях. Король, совершенно не имевший благородной осанки своего отца, из-за сильной близорукости неохотно садился на лошадь, быстро уставал от торжеств и парадов и предпочитал им иные интересы. Он так и не нашел точек соприкосновения с пап́а. В политических вопросах, несмотря на взаимное уважение друг к другу, у них были очень разные взгляды. К тому же многочисленная прусская свита вела себя так высокомерно, что не заслужила ни симпатий, ни уважения. Мам́а и генерал фон Раух (прусский военный атташе в Петербурге) должны были постоянно сглаживать всякие недоразумения. К счастью, совместное пребывание было недолгим, и мы без сожаления расстались с прусскими гостями.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
18 сентября [1848] за маленьким обедом во дворце государь очень рассмешил всех нас и сам очень смеялся, рассказывая сон свой в предшедшую ночь.
– Я видел, – говорил он, – будто мне кем-то поручено удостовериться, настоящий ли у герцога Веллингтона нос или картонный, и что для этого я щелкал его по носу, который, казалось, звучал, точно картонный!
После обеда государь был бесподобен. Привели детей цесаревича, и он играл, валялся и кувыркался с ними, как самая нежная нянька, приговаривая несколько раз, что не знает счастья выше этого.
Наставление, данное императором великому князю Александру Николаевичу перед путешествием по России
Предпринимаемое тобой путешествие, любезный Саша, составляет важную эпоху в твоей жизни. Расставаясь в первый раз с родительским кровом, ты некоторым образом как бы самому себе предан, на суд будущих подданных, в испытании твоих умственных способностей. Вникая в сие, ты удостоверишься во всей важности сего предприятия, на которое взирать тебе следует не с одной точки любопытства или приятности, но как на время, в которое ты, знакомясь с своим родным краем, сам будешь строго судим.
Первая обязанность твоя будет все видеть с той непременной целью, чтобы подробно ознакомиться с государством, над которым рано или поздно тебе определено царствовать. Потому внимание твое должно равно обращаться на все, не показывая предпочтения к которому-либо одному предмету, ибо все полезное равно тебе должно быть важным; но при том и обыкновенное тебе знать нужно, дабы получить понятие о настоящем положении вещей. Время и опытность одни укажут тебе впоследствии причину многому, что с первого взгляда покажется непонятным или противным. На все ты должен смотреть глазом будущности как на приобретаемое себе в запас, на твои соображения. Для того же предмета обращение твое должно быть крайне осторожно; непринужденность, простота и ласковость со всеми должны к тебе каждого расположить и привязать. Оказывая должное уважение старшим властям, ты не столько взирать должен на личные их качества, до слуха твоего дойти могущих, сколько на доказываемую степень доверия к ним от правительства по важности занимаемой ими должности.
Суждения твои должны быть крайне осторожны, и тебе должно, елико можно, [избечь] сии необходимости, ибо ты едешь не судить, а знакомиться и, увидев, судить про себя и для себя. С дворянством обходиться учтиво, отличая тех, кои прежней службой или всеобщим уважением того заслуживают, во всяком случае, обращать должное внимание к губернскому предводителю как к избранному сим сословием себе в голову. С купечеством ласковое и простое приветливое обхождение будет прилично, отличая среди их тех, кои известны своею добродетелью или полезными предприятиями. С простым народом доступность и непритворное ласковое обращение к тебе [привяжет]. Где смотреть будешь войска, помни, что ты им не инспектор, потому, ежели и найдешь что не в должном порядке, свои замечания ни под каким видом непосредственно делать не должен, но сообщи наедине ближайшим начальникам; то же [наблюдать] должен и в казачьих войсках, где ты предстанешь хотя и атаманом, но не действительным начальником. С духовенством соблюдай учтивость и должное уважение; где же случится посещать предметы богомолия, исполняй все обряды с подобающим уважением к святыне.
Нет сомнения, что везде тебя с искренней радостью принимать будут; ты внутри России увидишь и научишься ценить наш почтенный, добрый русский народ и русскую привязанность, но не ослепись этим приемом и не почти сие за заслуженное тобой, тебя примут везде как свою надежду, Бог милосердый поможет ее оправдать, ежели постоянно пред глазами иметь будешь, что каждая твоя минута должна быть посвящена матушке России, что твои мысли и чувства одну ее постоянным предметом иметь будут.
С тобой едет князь Ливен[30] и прочие тебя окружавшие; в частых с ними разговорах и в сообщении им твоих впечатлений получишь ты поверку в их правильности. Почтенный князь Ливен готов будет всегда наставить тебя добрым советом; ты молод, неопытен и сам почувствуешь, что подобный драгоценный друг тебе истинное счастье. Не нужно мне припомнить тебе, с каким уважением ты с ним обращаться должен. То же внимание имей и к прочим твоим спутникам; с товарищами будь дружен по-прежнему, но в общении соблюдай всегда должное приличие с ними, не дозволяя им никакого запанибратства.
Желаю, чтоб ты держал журнал своей проездки; ты имеешь уже сию привычку, никогда она не будет тебе столь полезна, как ныне, и время для сего будет достаточно.
Пиши мне только на досуге, просто как к лучшему твоему другу.
Письма Николая I великому князю Александру Николаевичу
С.-Петербург. 5 мая 1837 г.
1) Получено в Твери 7 мая 1837 г.
С сердечным удовольствием получил письмо твое, любезный Саша, из Зайцова, дай Бог, чтоб все твое путешествие было столь же счастливо, как начало оного; из сделанного тебе приема в Новгороде, где, однако, и прежде уже тебя видали, готовься к тому, что тебя далее ждет, где никого из нас еще не видали, но помни, что я тебе про это сказал, и не ослепляйся, а чувствуй и моли Бога, чтоб тебя укрепил и дозволил оправдать сию надежду. […]
Сегодни был парад отличный во всех частях и погода – рай! Все оружия показались очень хорошо и даже [Митавский] полк прошел прекрасно. Одним словом, редко видал я столь удачный смотр, и твой пап́а очень весел и был бы еще веселей, если б твою милую рожу видал на смотру и потом за обедом, но что тут делать, служба службой, была пора веселья, теперь знай и службу.
Всем твоим спутникам кланяюсь, Бог с тобой, милый Саша, продолжай класть на него свою надежду и помни мои слова: «думай о будущем»! Целую тебя от всего сердца.
Твой старый верный друг пап́а.
Н.
С.-Петербург. 8 мая 1837 г.
2) Получено 11 мая 1837 г.
На дороге из Ярославля близ Ростова
Сегодня утром прибыл фельдъегерь с письмом твоим, любезный Саша, от 6 мая из Твери. Благодарю Бога, что ты здоров и совершаешь благополучно свою поездку; с радостью и любопытством читал я все подробности твоего пребывания. Меня не удивляет, что тебя хорошо принимают; теперь только что ты въехал в сердце России, тут-то увидишь, до какой степени добр народ и как жива привязанность его к нашей семье.
Мне приятно весьма слышать от Кавелина, что твое поведение согласно с моими желаниями и что ты показываешься таким, как должно будущему царю русскому. Не одного, а многих увидишь подобных лицам «Ревизора», но остерегись и не показывай при людях, что смешными тебе кажутся, иной смешон по наружности, но зато хорош по другим важнейшим достоинствам, в этом надо быть крайне осторожным. Сегодни ты следуешь Ярославлем и вспомнишь меня в угловой комнате или на балконе, любопытно знать, как это тебе понравится. Погода у нас другой день стоит холодная, и я не мог произвести полковых смотров, вчера мы прибивали знамена, и мы за тебя вдавили гвозди; завтра будет им освящение в Малой церкви; и сборный взвод их примет и отнесет в свое место. Сегодни был я в Первом кадетском корпусе и был весьма доволен учением, невзначай сделанным, учились молодцами. Нового, впрочем, ничего нет. […]
Кланяйся спутникам, надеюсь, что Виельгорский отделался от простуды. Князю Ливену лучше.
Прощай, любезный Дидешка, Бог с тобой. Обнимаю тебя от всего сердца.
Твой старый верный друг.
Н.
Царское Село. 14 мая 1837 г.
3) Получено 21 мая 1837 г.
На дороге из Вятки
между Глазовым и Ижевским заводом
Вчера после обеда получили мы твое письмо, любезный Саша, из Ярославля; благодарю Бога, что доселе все благополучно в вашем путешествии… Скажи Кавелину, чтоб чрез передового фельдъегеря открытым предписанием от моего имени к местным властям строжайше запрещено было выпрягать у тебя лошадей. Всего более опасаюсь подобных сцен, тут до беды недалеко. Хотя ты мне про Ярославль не говоришь, но кажется, это место тебе полюбилось. Сегодни [ищу] тебя в Костроме в Ипатьевском монастыре, где предвижу те же сцены.
Хотя ты уверяешь меня, что от 5½ часов осмотров ты не утомляешься, однако смотри лишнего не делай, а дели по силам твоим, ибо успеть можешь и не сряду смотреть. Я замучен учениями, всеми был очень доволен, кроме Финляндских; Литовский очень понравился, а Павловским был отменно доволен. Теперь дал себе несколько дней отдыха и займусь чтением бумаг. На той неделе буду смотреть кавалергардов и конную гвардию. Погода у нас стоит отличная, сегодни вечером была небольшая гроза и славный дождик, после которого мы с мам́а проехали в кабриолете; вечер был отличный, и воздух напитан духом от сырых берез, т. е. чудо! […]
Твой верный старый друг. Н.
Твой Нептун (собака. – Я. Г.) со мной. Знакомится хорошо и гуляет, и очень мне послушен.
Царское Село. 19 мая 1837 г.
4) Получено 28 мая 1837 г.
На Кушвинском Благодатском заводе
Сегодни утром, вставая, нашел я письмо твое, любезный Саша, из Костромы, и благодарю милосердого Бога, что путешествие твое до сих пор идет благополучно, и молю Его, чтоб дал тебе довершить все сходно с нашим желанием и ожиданием. Радуюсь, что ты ознакомился с частью сердца России и увидел всю цену благословенного сего края, увидел и как там любят свою надежду. Какой важный разительный урок для тебя, которого чистая душа умеет ощущать высокие чувства! Не чувствуешь ли ты в себе новую силу подвизаться на то дело, на которое Бог тебя предназначил? Не любишь ли отныне еще сильнее нашу славную, добрую Родину, нашу матушку Россию. Люби ее нежно; люби ее с гордостью, что ей принадлежен и родиной называть смеешь, ею править, когда Бог сие определит для ее славы, для ее счастия! Молю Бога всякий день в всяком случае, чтоб сподобил тебя на сие великое дело к пользе, чести и славе России. Благодарю искренно Кавелина за продолжение его писем, желаю, чтоб упоминал мне, как тобой доволен.
Журнал пишется хорошо, но нужно в нем помещать более подробностей об виденном вами, ибо он должен быть общий ŕesuḿe, или ваш памятник поездки, дабы со временем, в него заглядывая, вспоминать про виденное. Здесь нового ничего у нас нет, погода стоит прекрасная, сего дни учил оба 1-х бат[альона] Преображенского и Семеновского полков. Первым был очень доволен, вторым не столько. Послезавтра смотреть буду кавалергардов и конную гвардию… Князю Ливену опять похуже. Жаль мне, что Виельгорский все плохо поправляется, лишь бы не хуже было; кланяйся всем твоим спутникам.
Бог с тобой, любезный Саша, обнимаю тебя от души. Где-то письмо сие получишь? Полагаю, в Перми.
Прощай, твой старый верный друг пап́а.
Н.
Александрия. 24 июня 1837 г.
11) Получено 29 июня 1837 г.
на ст[анции] Чунаки
между Саратовом и Пензой
Благодарю тебя искренно, любезный Саша, за доброе твое письмо из Оренбурга, которое вчера вечером получил. Благодарю Бога, что твоя поездка продолжает быть успешной и что ты с пользою видишь любопытный этот край. Искренно же благодарю тебя за все твои добрые чувства ко мне по случаю дня моего рождения. Знай же, что лучший для меня подарок есть ты сам; тогда, когда имею случай и причину тебе сказать, что и тобой доволен. Все, что ко мне доходит про тебя, дает мне право с радостью тебе сказать, да, я тобой доволен. В мои лета начинаешь другими глазами смотреть на свет, и утешение свое находишь в детях, когда они отвечают родительским справедливым надеждам. Этим счастьем, одним, величайшим, истинным, наградил нас досель милосердый Бог в наших милых детях.
На тебя же взираю я еще иными глазами, может быть, еще с важнейшей точки; я стараюсь в тебе найти себе залог будущего счастья нашей любимой матушки России, той, для которой дышу, которой вас всех посвятил еще до вашего рождения, за которую ты также отвечать будешь Богу! Когда вижу, что надежды мои обещают быть не тщетными, что ты чувствуешь, что я хочу, чтоб ты чувствовал, что ты, час от часу более узнавая край, более и более его любишь и чувствуешь всю огромность будущей твоей ответственности, – тогда я счастлив. Спасибо тебе.
С удовольствием читал я описание всего тобой виденного… Башкиры добрый народ, но я полагаю, что полезнее со [временем] обратить его в хлебопашцы, ибо пользы военной от него нет, зло же может когда-нибудь от них произойти. Вообще дикий вооруженный народ иметь за собой неудобно. Погода у нас сделалась ужасная, холод и дожди не перестают. Несмотря на то вчера в Красном Селе в 5-м часу утра делал я тревогу и был всем отлично доволен, и тем более, что не было ни одного даже бат[альонного] учения, все шло славно. […] Сегодни открывается [театр], а ход завтрашнего дня предположенный, обычный. […] Прощай, милый Саша, Бог с тобой.
Твой навечно старый друг пап́а.
Н.
Жена мне вручила твои подарки, милый Саша, за которые искренно благодарю; завтра явлюсь с твоим палашом.
Заметим, что кроме патриотических наставлений и государственных соображений – обратить кочевых башкир в землепашцев – основное содержание писем – описание фрунтовых занятий, которым сорокалетний глава империи отдавался со страстью. Несмотря на участие в турецкой войне, он так и не осознал разницу между парадными учениями и реальной войной…
Чрезвычайно трогательными были переписка и дневник великого князя Константина Николаевича, будущего сподвижника Александра II в проведении Великих реформ 1860-х годов.
Константина император предназначил для военно-морской карьеры, и с отрочества великий князь принимал участие в плаваниях под руководством своего воспитателя известного адмирала Федора Петровича Литке.
Письма Константину, находившемуся в море, Николая Павловича и великого князя Александра Николаевича, переписанные Константином в дневник
«Царское Село. 9 июня 1844 г.
По приезде моем сюда получил я два твоих милых письма, любезный Костя, и радуюсь душевно, что благополучно совершил свою поездку и с полным усердием принимаешься за службу. Я надеюсь, что чувство долга тебя поддержит и что будешь уметь, готовясь на свое ремесло, с усердием и прилежанием и полною любовью, приобресть уважение твоего начальства и твоих товарищей по службе; в том да поможет тебе милосердый Бог и возвратит к нам целым и здоровым.
Здесь предлежит нам жестокое испытание. Бедная наша Адини в весьма опасном положении. Отчаиваться было бы грешно, но должно нам всем с покорностью и безропотно покориться воле Божией; ему лучше известно, что нам нужно, сколько оное для нас и непонятно. Смиренно будем же ожидать, что он определит. Ты же ищи крепости и утешения у него же с полною покорностью и надеждою. […] Да хранит тебя всемилосердый Бог нам в утешение… Целую тебя душевно. Твой навеки старый друг, пап́а Н.».
Тут я весь залился слезами и снова усердно молился Богу. Далее я прочел письмо Саши.
«Царское Село, 9/21 июня 1844 г.
Прости меня, любезный Костя, что до сих пор не отвечал тебе на твое милое письмо, но мне столько было хлопот все это время, что я ни минуты свободной не имел.
Третьего дня пап́а воротился благополучно из Англии; мы с братьями ездили к нему на встречу в Петергоф.
К несчастью, причина его скорого возвращения столь для нас грустна! Тебе, вероятно, писали, что бедной нашей Адини хуже; наконец доктора объявили нам третьего дни, что нет уже никакой надежды. Ты можешь себе представить, как это нас поразило.
Нам остается только молиться Богу. Впрочем, да будет воля Его. Вот одно утешение на этом свете в подобных случаях, ибо оно нам напоминает, что мы все созданы для другой жизни. Не могу более писать. У меня слезы так и льются. Обнимаю тебя от всей души. Твой верный брат и друг. Александр».
Тут я горько зарыдал, и оно мне показало всю правду, о которой другие письма только напоминали. Так с тяжелым сердцем, но не без надежды я лег спать.
Из дневника великого князя Константина Николаевича
1 июля 1844 г. Сегодня чрезвычайно свежо. Если б мы шли бейдевинд, то, может быть, мы нашли бы, что это шторм. Крюйсель был закреплен, и [с] других двух марселей были взяты три рифа. Волнение развело огромнейшее. Мы имели узлов 10 и 11 и одно время больше 12. Сегодня 1 июля. Возможно ли это подумать? У нас такой холод, что мы наверху в теплых зимних шинелях.
А дома! В Петергофе! Эта мысль наводит на меня тоску невыразимую. У меня в душе какое-то чувство тяжелое, которого не могу объяснить. Оно так и рвется. Множество воспоминаний вдруг в ней теснятся… Это все меня так и душит. Я сам не знаю, что со мною делается. И ничего этого не выходит наружу. Все остается внутри, и тем больше меня томит и мучает. О Боже мой! Боже мой! Адини! Бедная, что с ней делается? Мам́а, пап́а, которые, говорят, с горя как бы десятью годами состарились! А я у Нордкапа! На том краю света, ничего не вижу, не слышу, тоскую. И скоро ли это ужасное положение мое кончится?
24 июля 1844 г. В 4 часа меня разбудили на вахту. Ночью сделался противный ветер. Наконец, пройдя брантвахту и сделав еще два поворота, вызвали всех наверх. Мы убрались парусами, привели к ветру, и наконец раздалась блаженная команда: «Из бухты вон. Отдай якорь». Кончен поход. Мы дома. Мы воротились. Архангельский поход был, а не есть…
Пап́а мне сказал: «Бог нам ее еще сохранил. Она еще жива, но вот и все, что можно сказать об ней». Пап́а повел меня в церковь, стал на колени, мы последовали за ним, и тогда я стал усердно молиться. Сперва я благодарил Господа Бога за то, что он привел нас так счастливо домой, а потом молил его за бедную нашу Адини.
Когда пап́а встал, у него были слезы на глазах. Он меня поцеловал и сказал: «Продолжай, как начал».
29 июля. Адини больше нет на свете. Да будет воля Твоя.
30 июля. Ужасно первое утро! Панихида утром, панихида вечером. Обедня. Первая ектенья без нее! Отрадные слезы. Адини уж больше нет на свете. Одна отрада в молитве.
31 июля. Сегодня день смерти Адини. Теперь мы оплакиваем другую Адини. Утром в 10 часов была коротенькая молитва перед Адини. Потом мы подошли к ее постели и перенесли в другую постель, вечную, тихую.
Мисс Г. упала без чувств. Мы все рыдали. Адини лежит в гробе. Мы все за него схватились, подняли, понесли. Я шел с левой стороны у ног ее. У меня впечатлелось навсегда ее лицо в эту минуту. Мы ее понесли через сад в церковь и поставили ее на стол. Там дослужили панихиду, потом обедню, и вечером опять панихиду.
1 августа 1844 г. Гроб поставили в Адинин ландау. Мы сели верхом и поехали шагом. Адини навсегда оставила Царское Село.
3 августа. Гроб стоит закрытый, но 3 августа его открыли. Мы с ней в последний раз простились. Пап́а и мам́а ее благословили и последние поцеловали. Мы ее в последний раз видели до минуты общего соединения.
4 августа. Настал наконец тяжелый последний день. Не забуду я никогда, как гроб понесли, как пап́а вполголоса сказал: «С Богом», как гроб медленно стал опускаться в тихую могилу, как мы все бросили на него землю, как, наконец, я в последний раз взглянул на него в глубине могилы – и все исчезло с лица земли, что было Адини.
Судя по письмам – да и по дальнейшей судьбе! – молодые великие князья не похожи были на своего отца в молодости. Было ли это влияние Жуковского, который отнюдь не походил на воспитателей Николая и Михаила, или же они унаследовали мягкость характера от матери, но факт остается фактом. Это были люди совершенно иного склада, хотя и любили своего отца и преклонялись перед ним.
Как они оценивали его государственную деятельность, станет ясно позже.
Николай отвечал им нежной отцовской любовью.
Из письма Николая I великому князю Константину Николаевичу. 9 сентября 1852 года
От всей души поздравляю тебя, мой милый Костя, благополучным достижением 25 лет. Господь тебя, видимо, благословил в эти первые 25 лет жизни, дав тебе ум и способности быть полезным слугою государству, сохранив среди неприятельского огня и в морских твоих путешествиях и даровав высшее из всех – семейное – счастие: добрую, милую жену и двух ангелов детей. Вступая ныне в совершенно зрелые лета, будь зрел и деяниями, более и более свыкаясь с делами, основывая мнения твои не на минутных впечатлениях, не на детских или юношеских предрассудках, но на испытанной истине, на правосудии, на прямом чувстве долга верноподданного слуги. Справедливо заслуженное об себе доброе мнение поддержки и впредь, в чем и ничуть я не сомневаюсь.
Благодарю за письмо, долго писать не могу. Твоим полком, как и всей кавалерией, был я отменно доволен. Сейчас еду на корпусное ученье. Желаю, чтобы было хорошо. Обними милую Санни[31] и крошек. Обнимаю тебя от души. Твой.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
Государь был, как всегда, бесподобен. Он сидел при брате (Михаиле Павловиче. – Я. Г.) по часам, навещая его притом беспрестанно, и днем и ночью, из Лазенок[32], места своего пребывания, в Бельведер, где больной умирал… Во все это время у государя смертельно болела голова, и он, однако ж, не давал себе ни минуты покоя: ему беспрестанно поливали голову одеколоном и уксусом, а он все стоял тут неотлучно как представитель высшей родственной любви, сам за всем смотря и обо всем думая. Нередко он становился возле постели на колени и горячо целовал руки больного, которые тот, в болезненном бессилии своем, тщетно старался отнять… Когда врачи объявили, что настал последний час, государь, видя возле себя Толстого[33], велел ему стать на колени у изголовья.
– Вот, – сказал он, – где принадлежит тебе место.
Между тем смерть еще медлила, и тогда государь, наклонясь к уху стоявшего на коленях, прошептал:
– Не очень ли вы устали, мой милый?
Государь оставил Варшаву в самый день кончины великого князя, после упомянутой выше вечерней панихиды, и приехал в Царское Село 31 августа [1849]. На следующий день напечатан был манифест о горестной утрате, омрачившей общую радость при счастливых событиях, которые покрыли новою славою русское оружие (имеется в виду разгром венгерских мятежников. – Я. Г.). […]
Как прекрасны, как справедливы были заключительные выражения этого манифеста в отношении к отшедшему! Конечно, вся жизнь его, все труды и попечения были беспрерывно посвящаемы на службу царю и отечеству; конечно, по чистоте сердца, дел и намерений никто более его не был достоин великого имени христианина! При всем том известие о кончине того, которого ошибки были всегда виною ума и никогда сердца, Петербург принял вообще холодно. Немногие сквозь жесткую оболочку наружности Михаила Павловича умели разгадать высокие его чувства и чистоту души; у большей части были в памяти только строгость его к военным, выходившая иногда за пределы дисциплинарные, его придирки, наконец, разные странные поступки его при выступлении весною гвардейского корпуса в поход, которые, точно, можно было объяснить лишь уже развивавшимся в нем в то время болезненным раздражением.
Над свежим трупом обыкновенно забывают слабости и недостатки человека и хвалят, что в нем было хорошего. С Михаилом Павловичем случилось почти совсем противное. Облагодетельствованные им – а сколь было таких, особенно между бедными офицерами, – и поставленные в возможность оценить его по справедливости молчали, или голос их исчезал в толпе, а преобладающее большинство вспоминало только все дурное, потому что оно оглашалось и поражало собою умы; добрые же дела покойного творились во мраке тайны.
Не то было с государем. В самую первую минуту после кончины великого князя он сказал окружающим:
– Я потерял не только брата и друга, но и такого человека, который один мог говорить мне правду и – говорил ее, и еще такого, которому одному и я мог говорить всю правду.
Действительно, смерть Михаила Павловича положила незаменимый пробел в сердечной будущности императора Николая.
Государь за домашними у себя обедами говорил обыкновенно по-русски, и только обращаясь к императрице или когда у других шел разговор с нею, переходил к французскому языку. Гости вообще не заводили новых материй без особенного вызова, разве только иногда с императрицею; но государь сам был очень разговорчив, и беседа редко прерывалась, кроме именно того обеда, о котором я теперь говорю и при котором грустное расположение духа государя (после свежей его потери) выражалось и в чертах его, и в отрывочности разговора. Перешептывания между соседями за такими обедами случались редко. Стол был вообще очень хорош, хотя не особенно изыскан; вина подавались после каждого блюда, а кофе не за столом, но уже после. Государь сидел всегда возле императрицы, занимавшей первое место, гости же размещались по чинам. После обеда государь обыкновенно становился у камина и подзывал к себе кого-нибудь из общества. Садились тут редко, кроме императрицы. Все, и с обедом, продолжалось обыкновенно немногим более полутора часов.
Государь после кончины Михаила Павловича долго не обращался ни к одному из обыкновенных, столь вообще малых и редких, развлечений своих. Так, например, он более месяца не брался за карты, хотя до этого печального события очень любил в осенние и зимние вечера, особенно же в пребывание в Царском Селе, играть в вист-преферанс. Тем более все обрадовались, когда 29 сентября, после долгих убеждений императрицы, он решился наконец сесть за обыкновенную свою партию. На этот раз составляли ее великий князь Константин Николаевич, генерал-адъютант Плаутин и граф Апраксин. Играли по четвертаку.
Из «Воспоминаний артиста об императоре Николае Павловиче» Федора Алексеевича Бурдина
Театр был любимым удовольствием государя Николая Павловича, и он на все его отрасли обращал одинаковое внимание; скабрезных пьес и фарсов не терпел, прекрасно понимал искусство и особенно любил haute comedie[34], а русскими любимыми пьесами были «Горе от ума» и «Ревизор».
Пьесы ставились тщательно, как того требовало достоинство императорского театра, на декорации и костюмы денег не жалели, чем и пользовались чиновники, наживая большие состояния; постановка балетов, по их смете, обходилась от 30 до 40 тысяч. За малейший беспорядок государь взыскивал с распорядителей строго и однажды приказал посадить под арест на три дня известного декоратора и машиниста Роллера за то, что при перемене одна декорация запуталась за другую.
Он был неповинен в цензурных безобразиях того времени, где чиновники, стараясь выказать свое усердие, были les royalists plus que le roi[35]. Лучшим доказательством тому служит, что он лично пропустил для сцены «Горе от ума» и «Ревизора».
Вот как был пропущен «Ревизор». Жуковский, покровительствовавший Гоголю, однажды сообщил государю, что молодой талантливый писатель Гоголь написал замечательную комедию, в которой с беспощадным юмором клеймит провинциальную администрацию и с редкой правдой и комизмом рисует провинциальные нравы и общество. Государь заинтересовался.
– Если вашему величеству в минуты досуга будет угодно ее прослушать, то я ее прочел бы вам.
Государь охотно согласился. С удовольствием выслушал комедию, смеялся от души и приказал поставить на сцене. Впоследствии он говаривал: «В этой пьесе досталось всем, а мне в особенности». Рассказ этот я слышал неоднократно от М. С. Щепкина, которому, в свою очередь, он был передан самим Гоголем.
Во внимание к таланту В. А. Каратыгина, он ему дозволил исключительно один раз в свой бенефис дать «Вильгельма Телля», так как Каратыгин страстно желал сыграть эту роль.
Как он здраво и глубоко понимал искусство, может служить примером следующий рассказ. В Москве в 1851 году с огромным успехом была сыграна в первый раз комедия Островского «Не в свои сани не садись». Простотой без искусственности, глубокой любовью к русскому человеку она поразила всех и произвела потрясающее впечатление. Появление этой пьесы было событием в русском театре. Вследствие огромного успеха в Москве в том же году, в конце сезона ее поставили в Петербурге.
Государь, страстно любя театр, смотрел каждую оригинальную пьесу, хотя бы она была в одном действии. Зная это, при постановке комедии Островского чиновники ужасно перетрусились. «Что скажет государь, – говорили они, – увидя на сцене безнравственного дворянина и рядом с ним честного купчишку!.. всем – и нам, и автору, и цензору, будет беда!»… Ввиду этого хотели положить комедию под сукно, но говор о пьесе в обществе усиливался более и более, и дирекция, предавши себя на волю Божью, решилась поставить ее.
Комедия имела громадный успех. На второе представление приехал государь. Начальство трепетало… Просмотрев комедию, государь остался отменно доволен и соизволил так выразиться: «Очень мало пьес, которые бы мне доставляли такое удовольствие, как эта. Ce n’est pas une píece, c’est une leçon![36]» В следующее же представление опять приехал смотреть пьесу и привез с собой всю августейшую семью: государыню и наследника цесаревича с супругой, и потом приезжал еще раз смотреть ее весной после Святой недели, а между тем усердные чиновники в то же время держали автора, А. Н. Островского, под надзором полиции за его комедию «Свои люди – сочтемся». […]
Государь желал успеха русской драматической литературе, поощрял литераторов; доказательством тому служат неоднократные пособия Гоголю, драгоценные подарки всем авторам, писавшим тогда для сцены: Кукольнику, Полевому, Каратыгину, Григорьеву, а Полевому он, ввиду его стесненного положения, пожаловал пенсию.
Государь, очень часто приходивший во время представления на сцену, удостаивал милостивой беседы артистов и однажды, встретив Каратыгина и Григорьева, поклонился им в пояс, сказавши: «Напишите, пожалуйста, что-нибудь порядочное».
Его милости к артистам были неисчерпаемы. Во время болезни Дюра он прислал к нему своего доктора. Узнав о плохом здоровье Максимова, приказал его отправить лечиться за счет дирекции за границу.
В Красном Селе спектакли были четыре раза в неделю, и он приказал выстроить дачи для артистов, чтобы меньше затруднять их переездом.
Сосницкому по интригам отказали в заключении с ним контракта, и он вышел в отставку. Государь не знал об этом. Однажды, с ним встретившись, он спросил его: «Отчего я тебя давно не видал на сцене?».
– Я в отставке, ваше величество, – отвечал Сосницкий.
– Это отчего?
– Вероятно, находят, что я уже стар и не могу работать, поэтому со мной не возобновили контракта.
– Что за вздор – я хочу, чтобы ты служил! Передай директору, что я лично ему приказываю немедленно принять тебя на службу.
Разумеется, Сосницкий был принят, и не только директору, но и министру двора было выражено сильное неудовольствие государя.
Любовь артистов к государю доходила до обожания. Трудно передать тот восторг, который он вселял своим ласковым словом, в котором равно выражалась и приветливость, и величие.
После представления каждой новой пьесы, имевшей мало-мальски порядочный успех, все главные исполнители получали подарки и были лично обласканы государем.
После красносельских лагерей государь со всем семейством переезжал на жительство в Царское Село, где и оставался до 8 ноября, дня именин великого князя Михаила Павловича.
Во время пребывания в Царском Селе, при дворе, постоянно были два раза в неделю спектакли, состоявшие из одной русской и из одной французской пьесы.
Артисты приезжали с утра, завтракали во дворце, обедали, после обеда, если кому угодно, катались по парку в придворных линейках, предоставленных им по приказанию государя; после спектакля ужинали и возвращались в Петербург; за эти спектакли все артисты были награждаемы высочайшими подарками.
Желая возвысить звание артиста в обществе, государь император предоставил актерам первого разряда по прослужении десяти лет звание личного почетного гражданина, а по прослужении 15-ти – потомственного.
А. М. Максимов рассказывал мне, до какой степени он сочувствовал молодым артистам. «Я всегда волнуюсь и робею за молодого человека, – говорил император, – беспрестанно боюсь, чтоб он не сделал какой-нибудь неловкости или промаха, и только смотря на опытных артистов, не испытываю этого чувства; за тебя я всегда спокоен!»
Государь Николай Павлович так хорошо был знаком с составом труппы, что без афиши знал фамилию каждого маленького актера.
Что же мудреного, что при такой любви и внимании к театру могущественного монарха, перед которым трепетали распорядители, зная, что малейшая небрежность и упущение не пройдут безнаказанно, театр стоял так высоко. […]
В заключение расскажу несколько характерных случаев, бывших при встрече государя с артистами.
Государь очень жаловал французского актера Верне, который был очень остроумен. Однажды государь, гуляя пешком, встретил его в Большой Морской, остановил и несколько минут с ним разговаривал. Едва государь удалился, как будто из-под земли вырос квартальный и потребовал у Верне объяснения, что ему говорил государь. Верне, не зная по-русски, не мог ему ответить; квартальный арестовал его и доставил в канцелярию обер-полицеймейстера, которым тогда был Кокошкин. Кокошкина в то время не было дома; когда он возвратился, то, разумеется, Верне был освобожден с извинением.
Вскоре после этого государь, бывши в Михайловском театре, пришел на сцену и, увидя Верне, подозвал его к себе. Верне вместо ответа замахал руками и опрометью бросился бежать… Это удивило государя. Когда по его приказанию явился к нему Верне, он спросил его:
– Что это значит, вы от меня бегаете и не хотите со мной разговаривать?
– Разговаривать с вами, государь, честь слишком велика, но и опасна – это значит отправляться в полицию; за разговоры с вами я уже просидел полдня под арестом!
– Каким образом?
Верне рассказал, как это случилось. Государь очень смеялся, но Кокошкину досталось.
П. А. Каратыгин отличался необыкновенной находчивостью и остроумием. Однажды летом в Петергофе был спектакль. За неимением места приехавшие для спектакля артисты были помещены там, где моют белье. Государь, встретив Каратыгина, спросил его: всем ли они довольны?
– Всем, ваше величество; нас хотели поласкать и поместили в прачечной.
Однажды государь пришел на сцену с великим князем Михаилом Павловичем. Великий князь был в очень веселом расположении духа и острил беспрерывно. Государь, обратясь к Каратыгину, сказал:
– У тебя брат отбивает хлеб!
– У меня останется соль, ваше величество, – отвечал Каратыгин.
Актер Григорьев 2-й, играя апраксинского купца в пьесе «Ложа 3-го яруса на бенефисе Тальони», рассказывая о представлении балета, позволил себе в присутствии государя остроумную импровизацию, не находящуюся в пьесе.
Государю эта выходка очень понравилась, и он разрешил Григорьеву говорить в этой пьеске все, что он захочет. Григорьев, будучи человеком талантливым и острым, очень ловко этим воспользовался. Он говорил в шуточной форме обо всем, что тогда интересовало петербургское общество. Вся столица сбегалась слушать остроты Григорьева, успех был громадный, и на эту маленькую пьеску с трудом доставали билеты.
В особенности от Григорьева доставалось Гречу и Булгарину. Тогда Греч читал публичные лекции русского языка, а Григорьев говорил на сцене, что немец в Большой Мещанской (где читал Греч) русским язык показывает. Булгарин написал пьесу «Шкуна Нюкарлеби». Григорьева спрашивают на сцене, что такое «Шкуна Нюкарлеби».
– Шкуна? это судно, – отвечает он.
– А Нюкарлеби?
– А это то, что в судне!
Булгарин и Греч выходили из себя, ездили жаловаться к директору А. М. Гедеонову, просили, чтобы он запретил Григорьеву глумиться над ними… но Гедеонов отвечал, что не имеет на это права, а пусть обратятся к государю императору, который дозволил шутить Григорьеву.
В. А. Каратыгин был очень большого роста. Однажды государь сказал ему:
– Однако, ты выше меня, Каратыгин!
– Длиннее, ваше величество, – отвечал ему знаменитый трагик.
Государь очень любил Максимова и часто удостаивал с ним беседовать. Однажды, пользуясь благосклонным разговором государя, Максимов спросил его: можно ли на сцене надевать настоящую военную форму? Государь ответил:
– Если ты играешь честного офицера, то, конечно, можно; представляя же человека порочного, ты порочишь и мундир, и тогда этого нельзя!
Максимова уже давно соблазнял гвардейский мундир; воспользовавшись дозволением государя, он на свой счет сделал себе гвардейскую коннопионерную форму и надел ее, играя офицера в водевиле «Путаница». Как нарочно, в это представление приехал государь.
В антракте перед началом водевиля, выходя из ложи на сцену, он увидел в полуосвещенной кулисе Максимова и принял его за настоящего офицера.
– Зачем вы здесь? – строго спросил его император.
Максимов оробел и не отвечал ни слова.
– Зачем вы здесь? – еще строже повторил государь.
Максимов, за несколько времени перед этим кутивший, не являлся к исполнению своих обязанностей. Ему показалось, что за это государь гневается, и растерялся окончательно.
– Зачем вы здесь? Кто вы такой? Как ваша фамилия? – и, взяв его за рукав, подвел к лампе, посмотрел в лицо и увидал, что это Максимов.
– Фу, братец, я тебя совсем не узнал в этом мундире.
У Максимова отлегло от сердца. После он говорил, что натерпелся такого страха, что не только бы обер-офицерский мундир не надел, а даже и фельдмаршальский!
Государь очень интересовался постановкой балета «Восстание в серале», где женщины должны были представлять различные военные эволюции. Для обучения всем приемам были присланы хорошие гвардейские унтер-офицеры. Сначала это занимало танцовщиц, а потом надоело, и они стали лениться. Узнав об этом, государь приехал на репетицию и строго объявил театральным амазонкам: если они не будут заниматься как следует, то он прикажет поставить их на два часа на мороз с ружьями, в танцевальных башмачках. Надобно было видеть, с каким жаром перепуганные рекруты в юбках принялись за дело; успех превзошел ожидания, и балет произвел фурор. […]
Нигде так не выразилась снисходительность и любовь к артистам государя, как в следующем происшествии. Однажды, после спектакля во дворце в Царском Селе, во время ужина два маленьких артиста, Годунов и Беккер, выпили лишнее и поссорились между собою. Ссора дошла до того, что Годунов пустил в Беккера бутылкой; бутылка пролетела мимо, разбилась об стену и попортила ее. Ужинали в янтарной зале; от удара бутылки отскочил от стены кусок янтаря. Все страшно перепугались; узнав это, в страхе прибежали директор, министр двора князь Волконский; все ужасались при мысли, что будет, когда государь узнает об этом. Ни поправить скоро, ни скрыть этого нельзя. Государь, проходя ежедневно по этой зале, должен был непременно увидеть попорченную стену. Виновных посадили под арест, но это не исправляло дела, и министр и директор ожидали грозы. Такой проступок не мог пройти безнаказанно и не у такого строгого государя. Министр боялся резкого выговора, директор – отставки, а виновным все предсказывали красную шапку[37].
Действительно, через несколько дней государь, увидя испорченную стену, спросил у князя Волконского: «Что это значит?» Министр со страхом ответил ему, что это испортили артисты, выпивши лишний стакан вина.
– Так на будущее время давай им больше воды, – сказал государь; тем дело и кончилось.
Да будет благословенна память незабвенного монарха, покровителя родного искусства и артистов.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
При императоре Николае давались, обыкновенно по несколько раз в зиму, балы в Концертной зале (Зимнего дворца. – Я. Г.) (это был официальный их титул), составлявшие середину между большими парадными балами и домашними вечерами аничкинского общества. На эти балы приглашались не по выбору, означавшему степень милости или приближенности, а по званиям и степеням службы. Сверх дипломатического корпуса, гвардейских генералов и нескольких полковых офицеров, назначавшихся по наряду, в списке лиц на балы Концертной залы стояли: первые и вторые чины двора, министры, члены Государственного совета, статс-секретари и первоприсутствующие сенаторы департаментов и общих собраний. Из числа камергеров и камер-юнкеров приглашались только назначенные в дежурство при дамах императорской фамилии. Все званые приезжали в мундирах.
Балы начинались полонезами, в которых ходили государь с почетнейшими дамами, а императрица, великие княгини и княжны – с почетнейшими кавалерами, и оканчивались, после всех обыкновенных танцев, ужином (иногда танцы продолжались еще и после ужина), с музыкой, в большой аванзале (Николаевской зале), или в Помпеевой галерее, Арапской комнате и ротонде, но в таком случае уже без музыки. Особенную прелесть таких балов, кроме возможной непринужденности, составляло то, что на время их открывались и все внутренние комнаты императрицы: кабинет, почивальня, купальня и проч., верх роскоши и вкуса.
На последнем публичном маскараде в Дворянском собрании перед постом одна дама, интригуя государя, спросила:
– Какое сходство между маскированным балом и железной дорогой?
– То, что они оба сближают, – отвечал он, ни на минуту не задумавшись.
Находчивость императора Николая в частном разговоре была вообще очень замечательна, и молодые женщины не могли не находить особенной прелести в его беседе. Какой-то иностранец сказал о нем, что он никогда не искал нравиться. Если бы и признать это правдой, то нельзя не сознаться, что сама природа действовала за него, и он не только нравился, но и обворожал каждого, кто видел и знал его в коротком кругу, тем более в семейной и домашней жизни.
Император и Александра Смирнова-Россет
Из дневниковых записей Василия Осиповича Ключевского
Николай у Александры Осиповны в гостиной чувствовал и вел себя как за границей, свободомыслящим европейцем, джентльменом, а не русским самодержцем, запросто, даже почтительно разговаривал с русским писателем, которого его застеночный цензор нравов Бенкендорф сажал в крепость без объяснения причин. Это были не эстетика и не патриотика, а своего рода домашняя диэтика. Портя себе вкус к жизни ежедневными лакомствами безотчетной власти, восстанавливал его минутным сухоядением корректности и джентльментства в гостиной образованной и умной полурусской барыни, бывшей фрейлины, петербургский дом которой, как нечто экстерриториальное, подобно квартирам иностранных посланников, изъят был из-под действия русских властей и законов.
Читая свидетельства людей, близко наблюдавших частную жизнь Николая Павловича, трудно поверить, что тот же самый человек был способен на холодную неоправданную жестокость.
Это, разумеется, имеет свое объяснение: представления Николая о себе как о частном человеке, семьянине и покровителе малых сих, и властителе, призванном следить за малейшими покушениями на государственный интерес, как он его понимал, обязанном карать подобные покушения с максимальной строгостью, – эти представления различались фундаментально.
Именно вторая – холодная и безжалостная – сторона его натуры окрашивала функционирование системы. Особенно это касалось армии.
Проницательный Ключевский предложил очень точную и выразительную модель этой двойственности на примере отношений императора и фрейлины, а затем светской дамы Александры Смирновой-Россет, которой Николай симпатизировал. О подоплеке их отношений в бытность Смирновой фрейлиной можно только догадываться.
Николай Павлович как персонаж проходит через все воспоминания и дневники Смирновой-Россет. Он явно интересовал ее как личность. Потому стоит выделить основные ее свидетельства и наблюдения в небольшой отдельный сюжет.
Из воспоминаний и дневников Александры Осиповны Смирновой-Россет
Аксаков негодовал однажды на меня, потому что я считала, что император Николай мог не только любить Вареньку Нелидову, но и сделать ее своей любовницей. Я ужасно разгневалась.
Вечером Моден читал какой-то роман вслух. Императрица вязала шнурочек на рогатке… Вдруг слышался ровный и мерный шаг государя, он приходил бледный, в сюртуке Измайловского полка без эполет… Он работал иногда до двух часов. Я видела, как поваренки ставили на конфорку ужин. Они мне сказали, что он почти ничего не ел.
Граф Воронцов Михаил Семенович обедал часто у государя, теперь обедает часто фельдмаршал Орлов два раза в неделю, граф Киселев Павел Дмитриевич, Петр Михайлович Волконский реже, Клейнмихель, Уваров, очень редко Блудов, Перовский. Вообще садятся они вчетвером: цари, Ольга Николаевна и Константин Николаевич. Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой? В 9-м часу после гуляния пьет кофе, потом в 10-м сходит к императрице, там занимается, в 1½ опять навещает ее, всех детей, больших и малых, и гуляет. В 4 часа садится кушать, в 6 гуляет, в 7 пьет чай со всей семьей, опять занимается, в десятого половине сходит в собрание, ужинает, гуляет в 11, около двенадцати ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати.
Это было в [18]38 году… Эта зима была одной из самых блистательных. Государыня была еще хороша, прекрасные ее плечи и руки были еще пышные и полные, и при свечах, на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц. В Аничковом дворце танцевали всякую неделю в белой гостиной; не приглашалось более ста персон. Государь занимался в особенности бар[онессой] Крюднер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюднер. Я была свободна как птица и смотрела на все эти проделки как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не преступала из границ единственно оттого, что было сознание в неискренности государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал ей все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами, и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Однажды в конце бала, когда пара за парой быстро и весело скользили в мазурке, усталые, мы присели в уголке за камином с бар[онессой] Крюднер; она была в белом платье, зеленые листья обвивали ее белокурые локоны; она была блистательно хороша, но не весела. Наискось в дверях стоял царь с Е. М. Бутурлиной, которая беспечной своей веселостью более, чем красотой, всех привлекала, и, казалось, с ней живо говорил; она отворачивалась, играла веером, смеялась иногда и показывала ряд прекрасных белых своих жемчугов; потом, по своей привычке, складывала, протягивая, свои руки, – словом, была в весьма большом чувстве неловкости. Я сказала м-м Крюднер: «Вы ужинали, но последние почести сего для нее». «Это странный человек, – сказала она, – нужно, однако, чтобы у этого был какой-нибудь результат, с ним никогда конца не бывает; у него на это нет мужества; он придает странное значение верности. Все эти маневры с ней ничего не доказывают».
Государь был кавалер Вареньки Нелидовой, она прекрасно ездила верхом, но всех лучше императрица. Она была так грациозна и почти не касалась лошади. Ее кавалер был Михаил Павлович. Государь мне сказал: «Зачем ты меня не выбираешь?» (по-русски он всегда говорил мне «ты»). «Ты» был критерием его расположения к женщинам и мужчинам. Ярцевой он всегда говорил «вы», Любе Хилковой тоже, графу Воронцову «вы», Киселеву «ты», Потоцкому тоже, Канкрину из уважения «вы», также многим генералам прошлого царствования: Уварову, Дризену, Мордвинову, Аракчееву и Сперанскому.
В ту зиму [1831–1832] не было конца вечерам и балам: танцевали у графини Лаваль, у Сухозанетши, у графини Разумовской и в Аничкове дважды в неделю. На Масленой танцевали с утра декольте и в коротких рукавах, ездили в пошевнях на Елагин, где катались с горы в больших дилижансах, как их называли. Мужики в красных рубахах правили; государь садился охотно в эти сани и дамы. Потом переходили к другой забаве: садились в пошевни императрица, рядом с ней или Салтыкова, или Фредерикс и княгиня Трубецкая; за санями привязывались салазки одна за другой, туда усаживался государь, за ним Урусова или Варенька Нелидова. На Каменном острову была лужайка, которую нарочно закидывали снегом; тут делали крутой поворот и поднимался смех: салазки опрокидывались.
Государь перебил разговор. Я ему напомнила о Гоголе, он был благосклонен. «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». «Читали ли вы „Мертвые души“?» – спросила я. «Да разве они его? Я думал, это Соллогуба». Я советовала, ему их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма.
Имя Гоголя, с которым Смирнова близко дружила, часто возникает в ее разговорах с императором. Иногда в неожиданных контекстах.
Из воспоминаний и дневников Александры Осиповны Смирновой-Россет
Государь жаловался на Орлова: «Алексей Федорович в дороге как заснет, так навалится на меня, что мне хоть из коляски вылезать». «Государь, что же делать? – сказал Орлов. – Во сне равенство, море по колено». А я думаю, наяву у самого душа в пятки уходит, когда разгневается царь и возглаголит яростию своею….Мое дело просить, и не стыдно просить для других, для себя, слава Богу, ничего не прошу. Государь приказал ему заняться с Гоголем, он также говорил: «Ведь он еще молод и ничего такого не сделал». Прошу покорно господ министров сказать, что такое надо сделать в литературе, чтобы получить патент на достоинство литератора в их смысле.
Из воспоминаний и дневников Александры Осиповны Смирновой-Россет
На вечере я сказала государыне, что собираюсь просить государя (о Гоголе. – Я. Г.), она мне отвечала: «Он приходит сюда, чтобы отдохнуть, и вы знаете, как он не любит, когда с ним говорят о делах: если он в добром настроении, я сделаю вам знак, и вы сможете отдать свою просьбу». Он пришел в хорошем расположении… Я ему сообщила поручение Жуковского (Жуковский просил Смирнову похлопотать у Николая о пенсии для Гоголя. – Я. Г.), он отвечал: «Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостаивается ли повесть „Тарантас“».
Я заметила, что «Тарантас» – сочинение Соллогуба, а «Мертвые души» – большой роман. «Ну, так я его прочту, потому что позабыл „Ревизора“ и „Разъезд“».
В воскресенье на обычном вечере Орлов напустился на меня и грубым, громким голосом сказал мне: «Как вы смели беспокоить государя, и с каких пор вы – русский меценат?» Я отвечала: «С тех пор как императрица мне мигнет, чтобы я адресовалась к императору, и с тех пор как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов» (с 1845 года Алексей Федорович Орлов был шефом жандармов. – Я. Г.). За словами я не ходила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: «Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия».
Встретившись в Риме, Смирнова и Гоголь поднялись под купол собора Св. Петра. Прочли надпись Николая Павловича: «Я здесь молился о дорогой России!»
Стиль
Из дневника литератора Александра Васильевича Никитенко
Нынешний государь знает науку царствовать. Говорят, он неутомим в трудах, все сам рассматривает, во все вникает. Он прост в образе жизни. Его строгость к другим в связи со строгостью к самому себе; это, конечно, редкость в государях самодержавных. Ему недостает, однако, главного, а именно людей, которые могли бы быть ему настоящими помощниками. У нас есть придворные, но нет министров; есть люди деловые, но нет людей с умом самостоятельным и душою возвышенною. Один Сперанский.
Вот любопытный анекдот о нынешнем государе. В одну из его прогулок перед ним падает на колени человек и просит у него правосудия на одного какого-то богатого помещика, который занял у него восемь тысяч рублей, составлявших все его достояние, и теперь их ему не отдает. Между тем проситель и семейство его крайне нуждаются.
– Есть у тебя нужные документы? – спросил государь.
– Есть, ваше величество, вексель – и вот он.
Император, удостоверясь в законности документа, приказал отнести оный к маклеру и потребовать, чтобы тот сделал на нем надпись о передаче оного Николаю Павловичу Романову.
Проситель сделал по приказанию, но маклер принял его за сумасшедшего и отправил к генерал-губернатору. Последнему тем временем уже приказано было выдать заимодавцу всю сумму с процентами, что и было им тут же исполнено. Государь, получив вексель, протестовал его и на третий день тоже получил всю сумму с процентами. Тогда он призвал к себе должника, сделал ему строгий выговор, а начальству внушение, чтобы оно впредь не допускало подобных послаблений и не менее скоро удовлетворяло законные требования его подданных, как и его собственные.
Правосудие государя должно поднять у нас кредит, а уменьшение акцизов и пошлин развяжет руки промышленности – и торговля процветет. Система финансов у нас еще не так запутана; нужны простые меры, чтобы возбудить движение и жизнь в оцепеневших членах нашего государственного тела. Ах, если бы он придумал средство скинуть цепи с десяти миллионов рабов! Как оживилась бы деятельность народа! Сколько рук, ныне устремленных только на то, чтобы услуживать тунеядцам, обратилось бы к трудам общеполезным! В одном доме графа [Д. Н.] Шереметева живет до четырех сот человек, существование которых проявляется только в том, что они едят, пьют и спят спокойным сном на счет класса производящего.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
Однажды, в первый год царствования императора Николая, при откровенной беседе князь Любецкий выговорил ему множество истин относительно России и его самого. Выслушав все благосклонно, государь вдруг остановил своего собеседника вопросом:
– Да скажи, пожалуйста: откуда у тебя берется смелость высказывать мне все это прямо в глаза?
– Я вижу, государь, что кто хочет говорить вам правду, не в вас к тому находит помеху, и я действую по этому убеждению. Но власть – самая большая баловница в мире! Теперь вы милостиво позволяете мне болтать и не гневаетесь, но лет через десять, или и меньше, все переменится, и тогда, свыкнувшись с всемогуществом, с лестью и с поклонничеством, вы за то, что теперь так легко мне сходит, прикажете, может быть, меня повесить.
– Никогда, – сказал государь, – я всегда буду рад правде и позволю тебе тогда, как и теперь, если я стану говорить или делать вздор, сказать мне прямо: Николай, ты врешь.
«Года два после того, – продолжал Любецкий в своем мне об этом рассказе, – я опять приехал в Петербург и явился к государю. В этот раз он принял меня чрезвычайно холодно, и даже не в кабинете, как прежде, а в передней зале, и, оборотясь с рассеянным лицом к окошку, встретил самыми сухими расспросами о погоде, о дороге и проч. Не было и тени прежней доверчивости, и я, разумеется, сохранял с моей стороны глубочайший этикет, не позволяя себе ни малейших намеков на прежние беседы.
Вдруг через несколько минут государь обратился ко мне с громким хохотом и с протянутой рукой:
– Что, хорошо ли я сыграл свою роль избалованного могуществом и лестью? – сказал он. – Нет, я не переменился и не переменюсь никогда, и если ты в чем не согласишься со мною, то можешь по-прежнему смело сказать: Николай, ты врешь!»…
В поездку государя в 1834 году по разным губерниям при нем находились только генерал-адъютант граф Бенкендорф, управлявший в то время корпусом жандармов и III отделением Собственной его величества канцелярии, статс-секретарь Позен и врач Енохин[38]. Вот что на одном из остановочных пунктов Позен слышал из соседней с государевым кабинетом комнаты.
В кабинете с государем один Енохин. Государь весел и разговорчив.
– Ты, Енохин, – говорил он, – из духовного звания и, следственно, верно знаешь духовное пение.
– Не только знаю, государь, но в молодости часто и сам певал на клиросе.
– Так спой же что-нибудь, а я буду припевать.
И вот они поют вдвоем церковные стихиры.
– Каково, Енохин?
– Прекрасно, государь, вам бы хоть самим на клиросе петь.
– В самом деле, у меня голос недурен, и если б я был тоже из духовного звания, то, вероятно, попал бы в придворные певчие. Тут пел бы, покамест не спал с голоса, а потом… ну, потом выпускают меня, по порядку, с офицерским чином хоть бы в почтовое ведомство. Я, разумеется, стараюсь подбиться к почт-директору, и он назначает меня на тепленькое местечко, например почт-экспедитором в Лугу. На мою беду, у лужского городничего хорошенькая дочка. Я по уши в нее влюбляюсь, но отец никак не хочет ее за меня выдать. Отсюда начинаются все мои несчастья. В страсти моей я уговариваю девочку бежать со мною и похищаю ее. Об этом доносят моему начальству, которое отнимает у меня любовницу, место, хлеб и напоследок отдает меня под суд. Что тут делать, без связей и без протекции?
В эту минуту вошел в кабинет Бенкендорф.
– Слава Богу, я спасен: нахожу путь к Бенкендорфу, подаю ему просьбу, и он высвобождает меня из беды!
Можно представить себе, какой неистощимый смех произвел в слушателях этот роман ex abrupto (экспромтом), доказывающий, вместе со многими другими анекдотами, веселую обыкновенно настроенность покойного государя и игривое его воображение.
Из воспоминаний Виктора Михайловича Шимана
В первом часу дня, невзирая ни на какую погоду, государь отправлялся, если не было назначено военного учения, смотра или парада, в визитацию, или, вернее, инспектирование, учебных заведений, казарм, присутственных мест и других казенных учреждений. Чаще всего он посещал кадетские корпуса и женские институты, где принимались дети с десятилетнего возраста, и реже заведения даже закрытые, где приемный возраст учащихся напоминал нечто университетское. В таких заведениях он входил обыкновенно во все подробности управления и почти никогда не покидал их без замечания, что одно следует изменить, а другое вовсе уничтожить. При своей необычайной памяти он никогда не забывал того, что приказывал, и горе тому начальству заведения, если при вторичном посещении последнего он находил свои замечания хотя не вполне исполненными. И не в одни учебные заведения и казенные учреждения проникал бдительный глаз Николая Павловича. В Петербурге ни один частный дом в центре, в России, ни одно общественное здание не возводились и не перестраивались без его ведома: все проекты на таких родов постройки он рассматривал и утверждал сам. Когда успевал он этим заниматься, было для всех загадкой, но что он вникал в характер каждой постройки, было видно из замечаний и надписей, делавшихся им на проектах. Иногда те и другие имели шуточный характер в отношении приближенного лица, строившего или переделывавшего свой дом; иногда же в дурном расположении духа делалась придирка к какой-нибудь детали, и проект не утверждался. Так, на одном из таких проектов составитель его нарисовал 2½ аршинную масштабную фигуру человека, долженствовавшую наглядно изображать высоту цоколя, в цилиндре, цветном фраке, жилете и панталонах. Государь зачеркнул фигуру с надписью: «Это что за республиканец!», и только. По поводу этой заметки по Корпусу путей сообщения был издан приказ, чтобы масштабные фигуры на проектах изображались только в виде солдат в шинели и фуражке. На проектах церквей и других общественных зданий в провинции Николай Павлович, утверждая их, часто надписывал: «Витберг!» Или: «Работа Витберга!» Известный строитель проектированного храма, московского храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, был обвинен в разных злоупотреблениях, лишен всего имущества и сослан в Вятскую губернию. Выдающийся талант его как зодчего, каких немного было в то время в России, привлекал к нему немало заказчиков на разного рода проекты, тем более что, нуждаясь в средствах, он недорого брал за работу. Николай Павлович по одному взгляду на фасад, сделанный рукою выдающегося художника, узнавал эту руку, утверждал проект, но Витберга не помиловал. Военных и все военное государь отличал и любил по преимуществу: войска в строю, мундир и воротник, застегнутые на все крючки и пуговицы, военная выправка и руки по швам тешили его глаза.
Николай Павлович любил окружать себя военными и всегда и во всем отдавал им предпочтение. Ни у одного из русских императоров не было столько флигель-адъютантов, свиты генерал-майоров и генерал-адъютантов, сколько у него, и ни у кого не было так много министров в военном мундире. Несомненно, что трех своих министров, носивших гражданские чины, он с удовольствием заменил бы военными, если бы нашел между сими последними специалистов, способных принять их портфели.
Вот список министров начала сороковых годов.
1. Генер[ал]-адъют[ант] князь [П. М.] Волконский – министр императорского двора, впоследствии светлейший князь и генерал-фельдмаршал.
2. Граф [А. И.] Чернышев – военный министр, позднее светлейший князь.
3. [Е. Ф.] Канкрин – министр финанс[ов]. С 1843 г. тайный советник [Ф. П.] Вронченко.
4. [А. Х.] Бенкендорф – шеф жандармов.
5. [Л. А.] Перовский – министр внутренних дел.
6. [С. С.] Уваров – мин[истр] народного просвещения.
7. [Н. А.] Протасов – обер-прокурор Святейшего Синода.
8. [К. Ф.] Толь – главноуправляющий путями сообщения и публичных зданий.
[П. А.] Клейнмихель – тоже с 1842 г., позднее министр путей сообщения.
9. Вице-канцлер [К. В.] Нессельроде – министр иностранных дел, позднее государ[ственный] канцлер.
10. Статс-секр[етарь] [В. Н.] Панин – министр юстиции.
11. Генер[ал]-адъют[ант] [П. Д.] Киселев – министр государственных имуществ.
12. [В. Ф.] Адлерберг – главноначальствующий над почтовым департаментом, позднее и министр императорского двора.
13. Светлейший князь [А. С.] Меншиков – управляющий Морским министерством.
Последние шесть министров пережили Николая Павловича, а прочих девять он сам проводил на вечный покой.
Из рассказов генерал-лейтенанта Евгения Андреевича Егорова
Производя однажды артиллерийские маневры под Петергофом, Николай Павлович скомандовал залп из всех орудий. Само собой разумеется, что залп должен был последовать холостыми зарядами, но каково, однако, было изумление и ужас всех, когда внезапно из одной пушки вылетел настоящий заряд и, шипя, пронесся над головой государя, заставив его сделать невольное в подобных случаях нервное движение головой вниз.
Вне себя от гнева, Николай Павлович позвал своим громким голосом батарейного командира, в батарее которого оказался столь непростительный недосмотр, и когда последний, бледный как смерть, подскакал к нему, он облегчил свое сердце, выругав его трехэтажным непечатным словцом. Обезумевший от страха батарейный командир до того растерялся, что ни с того ни с сего брякнул вдруг невпопад: «Почту за особенное счастье, ваше императорское величество!»
Не к слову сказанная фраза произвела свое смехотворное действие на всех, и государь, долго силясь удержать себя от душившего его хохота, отворачивался от присутствующих, потряхивая своими густыми эполетами. Все окружавшие его, глядя на него, смеялись также, и только одному виновнику, вызвавшему такое настроение у всех, было не до смеха: его нашли без чувств у злополучного орудия…
К рассказанному у места сказать, что в обуявшем батарейного командира страхе не было ничего преувеличенного, если припомнить, до какой строгости была доведена дисциплина в царствование Николая I. Строгость эта господствовала над всем и доходила до непонятных в наше время мелочей. Так, когда однажды этот государь, находясь в Петергофе же на водосвятии в лагерной церкви кадетских корпусов, позабыл, войдя в церковь, снять перчатку с правой руки, то никто из присутствующих военных, безотчетно во всем ему подражавших и следивших за каждым его движением, не посмел и подумать снять перчатки до тех пор, пока он, желая перекреститься, не снял свою с руки… Удивительно ли после того, что такой действительно крупный факт, как приведенный выше, мог произвести столь сильное действие на его виновника!
Из воспоминаний офицера, чиновника, писателя Якова Ивановича Костенецкого
Не помню в котором году проходил я в Петербурге Летним садом. Вижу – вдали едет верхом какой-то генерал, в котором я узнал потом государя Николая Павловича. Он поворотил направо в поперечную широкую аллею и остановился против Марсова поля, где в то время происходила репетиция майского парада под командою тогдашнего наследника престола.
Я подошел поближе к государю, около которого начала собираться кучка зрителей, сначала небольшая, потом постепенно увеличиваясь. Появились и дамы. Заметив их в толпе, государь обратился к ним с разговором. Передние зрители тотчас подались назад, а дамы подошли к самому государю.
С улыбкой на устах, светлым и ласковым взором… и магически притягательным, государь смотрел на всех нас, спрашивал у молодых дам, кто, по их мнению, лучше: гусары или кавалергарды, что им больше нравится: пехота, кавалерия или артиллерия – вообще шутил очень мило, и дамы не робея, смело и улыбаясь, ему отвечали.
Во все это время большая гнедая лошадь, на которой сидел государь, стояла неподвижно, вытянувшись вперед и, словно окаменелая, не переменяла ног и даже не двигала ушами. Вдруг она быстро подалась телом вперед! Государь взглянул назад и заметил, что какой-то мальчишка дернул лошадь за хвост.
– Пошел прочь, мальчишка! – сказал государь не сердясь и продолжал шутить с дамами.
Мальчишка спрятался в толпе, но через несколько времени опять незаметно пробрался к лошади и опять дернул ее за хвост; лошадь снова сделала движение.
– Прогоните этого мальчишку! – кротко сказал государь, обращаясь к публике.
Мальчишку прогнали, а государь, не изменяя своего веселого настроения духа, продолжал шутить с дамами.
Из воспоминаний Виктора Михайловича Шимана
В 1843 году граф Канкрин почти потерял зрение и до того ослаб здоровьем, что принужден был просить об увольнении от службы. На свое место он рекомендовал тайного советника Вронченко. Государь согласился, так как у него не было в виду другого лица, способного занять трудную и ответственную должность министра финансов. Вронченко был всегда деятельным и исполнительным чиновником; те же качества проявил он и в новом звании, продолжая дело и способ управления министерством своего учителя и благодетеля графа Канкрина и не выказывая с своей стороны никаких особенных талантов. Он не был красив ни лицом, ни фигурой, но донельзя циничен. Об его неумении держать себя в обществе, несоблюдении обычных приличий даже со старшими из своих подчиненных и о ночных похождениях на Невском проспекте говорили тогда в каждом Петербургском доме; но, как природный малоросс, он был очень хитер и скоро успел войти в доверие и добиться расположения к себе Николая Павловича. Вот один из случаев, происшедших на приеме государем министров с докладами. Доклады производились министрами по старшинству. Вронченко был самым младшим между собравшимися в приемной перед кабинетом государя и знал, что ему придется докладывать после всех; но тем не менее он, как всегда, явился заблаговременно, что и дало повод находившимся тут генералам, и в особенности князю Меншикову, подтрунивать над ним, что он явился с докладом прямо с ночной прогулки. Все, конечно, засмеялись. В это время государь, отпустив докладывавшего князя Волконского, показался в дверях кабинета с вопросом: «Что за шум?..» При этом вопросе Вронченко со страху или показывая только вид, что испугался, уронил из рук портфель, содержимое которого, состоявшее из докладных бумаг, разлетелось по полу. Общий хохот собравшихся раздался вновь. Николай Павлович обвел смеявшихся своими большими навыкате глазами и громко произнес: «Тут нет ничего смешного!..» Вронченко тем временем собрал при помощи камер-лакея свои бумаги и, когда опустил их снова в портфель, государь, показывая на свой кабинет, сказал ему: «Пожалуйте, я приму вас». Вот как Николай Павлович, не скрываясь ни перед кем, любил отличать тех, кто его боялся. В первый из наградных дней затем Вронченко получил звезду и ленту Александра Невского, а вскоре после того графское достоинство.
Из книги Сергея Спиридоновича Татищева «Император Николай I и иностранные дворы»
Летом 1838 года император Николай предпринял новую поездку за границу для сопровождения больной императрицы. По обыкновению своему, государь остановился на несколько дней в Берлине, куда прибыл 7 (19) мая. Кирасирский полк находился в лагере в Шарлотенбурге, готовясь принять участие в весенних маневрах гвардейского корпуса. Тотчас по приезде русского императора 1-й эскадрон полка со штандартом перенесся в столицу и занял почетный караул в замке, где имел пребывание государь. Осмотрев эскадрон во дворе замка, его величество снова отпустил его в лагерь. 12-го (24-го) император сам посетил лагерное расположение своего полка.
Маневры, происходившие в окрестностях Берлина в половине мая 1838 года, отличались особенною торжественностью и оживлением. На них присутствовали, кроме императора и императрицы всероссийских с двумя молодыми великими княжнами Ольгой и Александрой Николаевнами, короли ганноверский и вюртембергский и множество немецких принцев, принадлежащих к разным владетельным домам Германского cоюза. Однажды король со своими гостями обедал в охотничьем замке Грюнельвальде, вокруг которого расположился биваком 1-й гвардейский пехотный полк. После обеда их величества и их высочества посетили этот бивак, старый король сел на скамью под тенистым деревом и, окруженный своими детьми и внуками, смотрел на хозяйственные приготовления солдат под открытым небом. Уже разложены были костры, и солдаты готовились варить себе пищу. Обе великие княжны, подойдя к ним, уселись на траве и начали им помогать чистить картофель. Впоследствии сцена эта была воспроизведена в иллюстрированном военном издании. Тем временем молодые принцы и принцессы весело шутили, бегали, резвились и играли. Наследный принц толкнул сестру свою, русскую императрицу, на копну соломы с такою стремительностью, что вызвал строгое замечание короля. «Однако, Фриц!» – вымолвил старый монарх. Вообще все члены царственных домов русского и прусского были между собою на «ты» и называли друг друга уменьшительными именами. Даже государь откликался, когда зятья звали его Никсом.
Пока принцы и принцессы забавлялись на зеленой траве, император Николай обошел бивак, со вниманием осмотрел сложенные ружья, ранцы солдат, палатки офицеров. Встретясь с Шнейдером, следившим за маневрами в качестве газетного корреспондента, он имел с ним продолжительный разговор. Воспроизводим здесь дословно заключительные слова государя как выражение его крайне замечательного и своеобразного взгляда на службу вообще и на военную службу в частности.
«Видите ли, Шнейдер, – говорил император, – здесь между солдатами и посреди всей этой деятельности я чувствую себя совершенно счастливым. Я также вполне понимаю, почему вы, не будучи солдатом, питаете такую любовь ко всему военному. Здесь порядок, строгая, безусловная законность, нет умничанья и противоречия, здесь все согласуется и подчиняется одно другому. Здесь никто не повелевает прежде, чем сам не научится послушанию; никто не возвышается над другими, не имея на то права; все подчиняется известной определенной цели; все имеет свое значение, и тот же самый человек, который сегодня отдает мне честь с ружьем в руках, завтра идет на смерть за меня! Только здесь нет фраз, нет, следовательно, и лжи, которая за этим исключением – повсюду. Здесь бессильны притворство и обман, ибо каждый должен в конце концов показать себя в виду опасности и смерти. Потому-то мне так и хорошо посреди этих людей, потому-то я и буду всегда высоко чтить звание солдата. В нем все служба и даже высший начальник служит. Я взираю на целую жизнь человека как на службу, ибо всякий из нас служит, многие, конечно, только страстям своим, а им-то и не должен служить солдат, даже своим наклонностям. Почему на всех языках говорится: богослужение? (Слово «богослужение» было произнесено государем по-русски). Это не случайность, а вещь, имеющая глубокое значение. Ибо человек обязан всецело, нелицемерно и безусловно служить своему Богу. Отправляет ли каждый одну только службу, выпадающую ему на долю, и везде царствуют спокойствие и порядок, и если бы было по-моему, то воистину не должно было бы быть в мире ни беспорядка, ни нетерпения, никакой притязательности. Взгляните, вот там идет смена, перед самым ужином, еще не готовым, и солдаты прекрасно знают, что не будут есть, пока их не сменят с караула. И, несмотря на это, ни слова! Они отправляют службу. Вот почему и я буду отправлять свою службу до самой смерти и всегда заботиться о моих храбрых воинах».
По обыкновению, и в этот приезд государь щедро наградил и одарил свой любимый кирасирский полк. 11 офицеров получили ордена, 106 червонцев выдано почетному караулу, 571 червонец нижним чинам полка, а унтер-офицеру Блоку, назначенному ординарцем к его величеству и сломавшему себе ногу, пожаловано 100 червонцев.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
Император Николай, более в видах здоровья, чем для удовольствия, очень много хаживал пешком и во время длинных петербургских ночей прогуливался не только днем, но и прежде восхода солнца и по его захождении, притом не по одним многолюдным улицам, но и по отдаленным частям города.
Однажды поздно вечером он вдруг является на Адмиралтейскую гауптвахту, ведя за собою человека в шинели и в фуражке, вызывает перед себя караульного офицера и сдает ему приведенного с приказанием задержать его на гауптвахте впредь до приказания. Оказалось, что это был главный дежурный по Адмиралтейству, капитан-лейтенант Васильев, которому вздумалось прогуляться по Адмиралтейскому бульвару в фуражке и в халате, поверх которого была надета шинель. В таком виде он был встречен государем, который, узнав его при лунном сиянии, остановил и опросил его. Через час явился на гауптвахту флигель-адъютант, чтобы отвести Васильева к начальнику Главного морского штаба князю Меншикову в том самом виде, в каком его встретил государь…
Три студента из уроженцев Остзейских губерний, только что поступившие в Петербургский университет, плохо знавшие по-русски и почти ни с кем и ни с чем еще не знакомые в столице, встретили на Невском проспекте государя в санях и, не зная его, не поклонились. Государь остановился, подозвал их к себе, назвался и внушил им, что если они и не знали его, то должны были отдать ему честь как генералу, велел всем трем идти тотчас на главную гауптвахту в Зимнем дворце. Там они пробыли несколько часов, в продолжение которых пообедали с караульными офицерами, а оттуда присланным за ними фельдъегерем потребованы были в Аничков дворец. При входе камердинер государя спросил, что едят они, постное или скоромное (это было в Великом посту), и, несмотря на ответ, что они уже поели, им подали целый обед, по окончании которого провели в кабинет к государю. Здесь он их порядком пожурил, сперва по-русски, а потом, видя, что они мало его понимают, по-немецки, и наконец, приняв совершенно отеческий тон, обнял, расцеловал и отпустил по домам.
Один молодой человек из высшего общества давно уже состоял на замечании тайной полиции по либеральным своим идеям; но долгое время были в виду именно все одни только идеи, а не факты, за которые можно было бы ухватиться. Наконец сделалось известным, что он имеет любовную связь с одной замужней дамой, принадлежавшей также к высшему обществу. И что, кроме свиданий, между ними есть и постоянная переписка. Через подкупленную прислугу эта переписка вскоре перешла в руки тайной полиции. Сначала были все только идиллии; но в одном из последних писем болтливый любовник, рассказывая, как все ему наскучило, как он недоволен правительством, как все у нас худо идет, как необходима перемена, между разными вздорными патриотическими возгласами объявил прямо, что, жертвуя собой для пользы общей, он решается убить государя. Разумеется, что после такого открытия вся переписка представлена была на высочайшее воззрение. Государь отвечал графу Бенкендорфу: «Возврати этому молодцу его письма и скажи ему, что я их читал, да вразуми его, моим именем, что когда имеешь любовную связь с порядочной женщиной, то надо тщательно оберегать ее честь и не давать валяться ее и своим письмам». Неужели же этим все и кончилось? Именно этим одним.
В конце 1842 года государь, гуляя по Дворцовой набережной, увидел идущего перед собою человека – судя по верхней его одежде, порядочного, но который, продолжая свой путь, казалось, всхлипывал. Государь нагнал его и увидел, что, точно, все лицо у него омочено слезами.
– О чем вы плачете? – спросил он с участием.
Спрошенный, не подозревая, что за ним идет государь, и еще менее ожидая удостоиться его беседы, сперва оробел, но потом, ободренный дальнейшими расспросами, отвечал, что он чиновник сенатской канцелярии, получающий всего 500 руб. жалованья, и что у его сестры, при четырех детях, 1500 руб. долгу, за который грозят посадить в тюрьму. Отчаяние его происходило от невозможности ей помочь.
– Хорошо, – сказал государь, – ступайте ко мне наверх, напишите там все, что вы мне говорили, и ждите, пока я приду.
– Но, ваше величество, кто же меня туда пустит? Да я и не знаю, куда идти.
Тогда государь подозвал жандарма и приказал проводить чиновника во дворец от его имени. При возвращении своем, найдя записку уже написанной, он отпустил просителя с милостивым обнадеживанием, а записку тотчас отослал к министру юстиции, с приказанием по ней справиться. Обнаружилось, что чиновник сказал и написал одну правду и что он на хорошем счету у своего начальства.
Государь приказал выдать ему 1500 руб.
Если кто зимою и в начале зимы 1845 года (и еще несколько лет после) хотел наверное встретить императора Николая лицом к лицу, стоило только около 3 часов перед обедом пойти по Малой Морской и около 7 часов по Большой. В это время он посещал дочь свою в Мариинском дворце и, соединяя с этой целью прогулку пешком, или шел к ней, или от нее возвращался.
Однажды кто-то мимоходом сильно толкнул его.
– Это что?! – спросил государь, увидев в дерзком молодого офицера путей сообщения.
– А что? – возразил тот.
– Как что, милостивый государь: по улице надо ходить осторожнее, а если случится кого задеть, то должно по крайней мере извиниться, хотя б то был мужик.
С этим, спустив с плеча шинель, чтобы показать генеральские эполеты, государь велел молодому человеку идти под арест на главную гауптвахту и ждать там приказаний, а сам, воротясь во дворец, послал за графом Клейнмихелем, в присутствии которого вытребовал перед себя офицера. Он оказался прапорщиком Янкевичем, из поляков, обучавшимся еще в то время в Институте путей сообщения, никогда прежде не видавшим государя в глаза и так мало знакомым даже и с Петербургом, что, вместо Главной гауптвахты, пришел сперва на Адмиралтейскую; когда же он явился на Главную, то его не хотели туда допустить, как арестованного, по его рассказам, каким-то неизвестным генералом, и приняли только уже тогда, когда по дальнейшему расспросу несомненно открылось, к ужасу его, кто был этот генерал. Государь сделал ему отеческое увещание и потом сдал Клейнмихелю, «на условии, чтобы эта история осталась для Янкевича без всяких последствий».
Из повести Льва Николаевича Толстого «Хаджи-Мурат»
Посредине набережной ему [Николаю Павловичу] встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост и старательная вытяжка и отдавание чести с подчеркнуто-выпяченным локтем ученика смягчили его неудовольствие.
– Как фамилия? – спросил он.
– Полосатов! Ваше императорское величество.
– Молодец!
Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.
– Хочешь в военную службу?
– Никак нет, ваше императорское величество.
– Болван! – и Николай, отвернувшись, пошел дальше…
Надо иметь в виду, что все сцены с Николаем в «Хаджи-Мурате» документированы. Толстой тщательно собирал материал, характеризующий ненавистного ему царя.
Из книги Александра Ивановича Герцена «Былое и думы»
В это время Николай праздновал свою коронацию, пиры следовали за пирами, Москва была похожа на тяжело убранную бальную залу, везде огни, щиты, наряды… Две старших сестры (дочери В. В. Пассека, сосланного в Сибирь при Александре I. – Я. Г.)… пишут просьбу Николаю, рассказывают о положении семьи, просят пересмотр дела и возвращение именья. Утром они тайком оставляют дом, идут в Кремль, пробиваются вперед и ждут «венчанного и превознесенного» царя. Когда Николай сходил со ступеней Красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подняли просьбу. Он прошел мимо, сделав вид, что не замечает их; какой-то флигель-адъютант взял бумагу, полиция повела их на съезжую.
Николаю тогда было около тридцати лет, он уже был способен к такому бездушию. Этот холод, эта выдержка принадлежат натурам рядовым, мелким, кассирам, экзекуторам. Я часто замечал эту непоколебимую твердость характера у почтовых экспедиторов, у продавцов театральных мест, билетов на железной дороге, у людей, которых беспрестанно тормошат и которым ежеминутно мешают; они умеют не видеть человека, глядя на него, и не слушать его, стоя возле. А этот самодержавный экспедитор с чего выучился не смотреть и какая необходимость не опоздать минутой на развод?
Девушек продержали в части до вечера. Испуганные, оскорбленные, они слезами убедили частного пристава отпустить их домой, где отсутствие их должно было переполошить всю семью. По просьбе ничего не было сделано.
Рассказ Николая I, записанный Александром Христофоровичем Бенкендорфом
В Ковно мы прибыли 4 августа в 2 часа утра, и я сделал маневры собранному там 1-му корпусу, которым остался очень доволен. Окрестности Ковна представляют превосходную местность для смотров и учений, довольно притом обширную и разнообразную, на которой можно маневрировать в продолжение целых суток.
Тут случилось происшествие, очень меня огорчившее, а все-таки прекрасное. Маневры заключились штурмом города, и голова колонны, под командою дивизионного начальника Мандерштерна, остановилась на самом берегу Немана, от которого паромы, чтобы придать всему больше сходства с настоящею войною, отведены были к противоположному берегу. Проезжая мимо этого отряда, я сказал в шутку: «Ну что ж, только-то! Чего вы тут ждете?» И вдруг Мандерштерн, приняв сказанное мною за приказание, дал лошади шпоры и исчез в глубине реки, а за ним бросилась и вся первая рота. С большим трудом вытащили его из воды; к счастью, никто не утонул; но бедняк Мандерштерн, уже без того страдавший от старых ран, схватил жестокую горячку. На другой день я пошел к нему, чтобы осведомиться о его здоровье и попенять за то, что он принял мои слова за серьезные. Позднейшие известия о нем, благодаря Богу, совершенно успокоительны; но эта черта показывает человека!
Из воспоминаний журналиста Аркадия Васильевича Эвальда
В начале февраля 1855 года сидели мы, офицеры инженерного училища, в классе и мирно слушали лекцию долговременной фортификации, которую читал нам капитан Квист, как вдруг двери из соседнего, старшего офицерского класса с шумом растворились на обе половины и прибежавший быстро сторож впопыхах объявил: государь идет!
Чтоб понять наше удивление, надо заметить, что государь заезжал к нам в училище всегда осенью, а в эти месяцы, после Нового года, никогда не заглядывал. Мы все знали, что дела в Севастополе идут очень плохо, и потому понятно, что всех охватила одна и та же мысль, что случилось что-нибудь особенное, что заставило государя изменить своим обычаям.
Не успели мы кое-как оправиться, застегнуть расстегнутые пуговицы и привести в более приличный вид разбросанные на столах чертежи, книги и бумаги, как заслышали так знакомый нам громкий и звонкий голос государя в старшем офицерском классе, сердито кричавшего:
– Где же Фельдман? Послать за ним немедля! – И с этими словами он вошел в наш класс. Лицо его было красно от гнева, глаза метали молнии, он шел скорым шагом и, не поздоровавшись с нами и как бы даже не замечая нас, подходил уже к противоположным дверям, как в эту минуту из-за них показался Фельдман. Тут нужно сделать маленькое отступление. Генерал Фельдман считался комендантом Инженерного замка. Это был старый, почтенный генерал, для которого это место коменданта было создано императором, чтобы, не оскорбляя его отставкой, дать под старость почетное и нехитрое занятие. Император Николай очень часто создавал подобные места для старых служак.
В одном из залов Инженерного замка, вслед за старшим офицерским классом, помещались большие модели некоторых наших главных крепостей, и в том числе Севастополя. Модели эти были так велики, что на них были сделаны маленькие медные пушки, с лафетами и другими принадлежностями крепостной артиллерии, и каждая модель занимала четыре или пять квадратных сажен. Модели эти хранились в величайшей тайне, и даже нас, инженеров, пускали их осматривать только один раз, перед самым окончанием курса. Ключи от этого модельного зала хранились у Фельдмана, и без его разрешения никто туда попасть не мог.
Случилось, что Фельдман поддался на чью-то просьбу, не знаю хорошенько, своих ли добрых знакомых или кого-нибудь из высокопоставленных лиц, и дозволил им осмотреть модель Севастополя. Сторож, на обязанности которого было содержать этот зал и модели в порядке, заметил, что кроме группы лиц, допущенных Фельдманом, по модельной ходят еще каких-то два господина, которые держатся особняком и делают какие-то отметки в своих записных книжках. Он сказал об этом офицеру, провожавшему гостей Фельдмана и объяснявшему им на модели Севастополя сущность происходивших там событий. Офицер подошел к двум непрошеным гостям и попросил их немедля удалиться, что они, конечно, и сделали. Кто они были, я не мог узнать достоверно, но, по слухам, это были какие-то два иностранца.
Об этом маленьком приключении кто-то донес государю, и вот он приехал к нам в замок, грозный как буря. Никогда еще прежде не случалось мне видеть его в таком сильном припадке гнева, как в этот раз.
Чуть не столкнувшись с государем, Фельдман остановился и отвесил глубокий поклон. Он был небольшого роста, плечистый и с большой лысой головой. Государю он приходился почти по пояс.
– Как ты осмелился, старый дурак, – кричал на него государь, грозя пальцем, – нарушать мое строжайшее приказание о моделях? Как ты осмелился пускать туда посторонних, когда и инженерам я не доверяю эти вещи? До такой небрежности довести, что с улицы могли забраться лица, совершенно неизвестные? Для того ли я поставил тебя здесь комендантом? Что ты, продать меня, что ли, хочешь? Не комендантом тебе быть этого замка, а самому сидеть в каземате под тремя запорами! Я не пощажу твоей глупой лысой головы, а отправлю туда, где солнце никогда не восходит! Если тебе я не могу довериться, то кому же после того мне верить.
Я не припомню в точности всего, что говорил государь несчастному коменданту, и привожу эти фразы только приблизительно верно в гораздо более мягкой форме, чем говорил государь, который в своем неудержимом гневе решительно не стеснялся никакими выражениями. Фельдман не осмеливался, да и не имел возможности что-нибудь сказать в свое оправдание. Во все время грозной речи государя он только молча кланялся и был красен как рак. Я думал, глядя на него, что с ним тут же сделает государь и он упадет замертво. Государь говорил, то есть, вернее сказать, кричал долго и много, все время сильно жестикулируя и беспрестанно грозя пальцем.
Мы, офицеры, и все наше начальство, понемногу и потихоньку собравшееся в нашем классе, стояли ни живы ни мертвы, каждую минуту ожидая, что, покончив с Фельдманом, государь обратится к нам и, заметив какой-нибудь беспорядок, задаст и нам трепку. Но ему, видимо, было не до нас.
Вылив свой гнев на Фельдмана, он прошел дальше, не простившись с нами, как вошел не поздоровавшись.
И это было последний раз, что мы его видели. Так его фигура и запечатлелась во мне на всю жизнь, в своем грозном величии, заглушая тот симпатичный его образ, когда он являлся не Юпитером-громовержцем, а добрым любящим отцом своих многочисленных детей.
Из дневника Александра Васильевича Никитенко
10 марта 1833 года
Сегодня Николай Павлович посетил нашу Первую гимназию и выразил неудовольствие. Вот причины. Дети учились. Он вошел в пятый класс, где преподавал историю учитель Турчанинов. Во время урока один из воспитанников, впрочем лучший по поведению и по успехам, со вниманием слушал учителя, но только облокотясь. В этом увидели нарушение дисциплины… Повелено попечителю отставить от должности учителя Турчанинова.
После сего государь вошел в класс к священнику – и здесь та же история. Все дети сидели в полном порядке, но, к несчастию, один мальчик опять сидел прислонясь спиной к заднему стулу. Священнику был сделан выговор, на который он, однако, отвечал с подобающим почтением:
– Государь, я обращаю внимание более на то, как они слушают мои наставления, нежели на то, как они сидят.
Попечителю опять горе…!
12 марта
Посещение государем Первой гимназии имело более важные последствия, чем сначала казалось. Попечитель, наш благородный, просвещенный начальник, исполненный любви к людям и к России, – человек, которому недоставало только воли и счастия, чтобы занять один из важнейших постов в государстве, – одним словом, Константин Матвеевич Бороздин был вынужден подать в отставку…
Январь 1. Полночь. 1834 год…
Горе людям, которые осуждены жить в такую эпоху, когда всякое развитие душевных сил считается нарушением общественного порядка.
Увы, повторялась павловская ситуация – никто не был гарантирован от внезапных и труднообъяснимых вспышек высочайшего гнева и вздорных претензий, результат которых мог оказаться трагическим для попавших под горячую царскую руку.
Император, который не мог справиться с казнокрадством и неправосудием, считал своим долгом контролировать позу каждого ученика за партой.
Наблюдательная и острая Александра Смирнова-Россет, будучи фрейлиной императрицы Александры Федоровны и много лет находясь при дворе, имела возможность не только наблюдать императора Николая Павловича, но и слышать многочисленные истории из царствования Александра I. В частности, она кратко зафиксировала в своих записках ситуацию, которая явно показалась ей характерной.
Из воспоминаний Александры Осиповны Смирновой-Россет
Александр умел быть колким и учтивым. На маневрах он раз послал с приказанием князя Лопухина, который был столь же глуп, как и красив; вернувшись, он все переврал, а государь сказал ему: «И я дурак, что вас послал». Николай Павлович сказал генералу Токаржевскому дурака и на другой день извинился перед фрунтом.
Сравнение Александра и Николая – сюжет достаточно распространенный, равно как сопоставление императора с его сыном.
Из воспоминаний писателя Николая Николаевича Фирсова
…Однажды в 1856 году, зимой, обойдя посещенное им артиллерийское училище и спустясь к подъезду, Александр Николаевич довольно долго одевал свое пальто и свою высокую конногвардейскую фуражку. Юнкера толпою стояли кругом и следили молча за движениями императора. «Что? удивляетесь, что я так долго укутываюсь? – весело и добродушно обратился к ним Александр Николаевич, тщательно надевая фуражку. – А видите, я раз отморозил уже себе уши, так теперь запрятываю их поглубже под фуражку».
Его родитель, Николай Павлович, был суровее, разговаривал мало, почти не улыбался; но всегда дозволял носить себя по лестницам и выносить из подъезда в сани. На этот раз, в 1853 году, когда мы хотели поднять его, чтобы внести в 3-й взвод по лестнице, его величество строго приказал: «Не тронь». Юнкера отступили, насколько позволяла толкотня. Начальство, бледное и трепещущее, продолжало идти вслед за ним. Чувство, граничащее с паникой, сообщилось всем, и до того все были смущены, что в 3-м и 4-м взводах дисциплинарные проступки стали проявляться на каждом шагу.
На пороге средней и самой большой камеры верхнего этажа, расположенной как раз над караульной залой (камеру эту звали у нас «Москвой», а заведывавшего ею портупей-юнкера величали титулом московского генерал-губернатора), – на пороге этой «Москвы» портупей-юнкер подошел к государю с рапортом, до того смущенный, что выступил вместо левой ноги с правой: с фронтовой точки зрения это было непростительным проступком, за что портупей-юнкера государь назвал дураком. Дальше все шло как-то неладно. Кто-то оказался без галстука, кто-то с расстегнутым воротником и т. д. Государь был настолько разгневан, что, спускаясь вниз, не только не обошел других частей здания, но даже – чего никогда не случалось прежде – не удостоил заглянуть в лазарет. Накинув в коридоре поданную ему шинель и покрывшись своей тяжелой кирасирской каской, он быстро вышел на крыльцо. Сани стояли у подъезда. Толпа юнкеров робко приблизилась было к нему и попыталась подсадить его в сани, но император, опять строго оглянув нас, скомандовал: «Налево кругом!» – сам сел в сани и подозвал к себе генерала Резвого.
Юнкера, отступившие в коридор, видели сквозь открытую дверь подъезда, что он несколько минут что-то гневно говорил начальнику училища. Потом сани тронулись и быстро исчезли в облаке снежной пыли. Сумерки сильно сгустились уже… Тревожно разошлись юнкера по камерам. Что-то будет?..
А быть могло многое: даже уничтожение училища, размещение его юнкеров по кадетским корпусам; даже разжалование в солдаты старших воспитанников и в кантонисты[39] младших. Так, по крайней мере, полагали юнкера; и не менее юнкеров встревоженное начальство едва ли не разделяло этих опасений.
Из книги Александра Ивановича Герцена «Былое и думы»
Лицо его [Александра I] было приветливо, черты мягки и округлы, выражение лица усталое и печальное. Когда он поравнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее; он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлызистую медузу с усами! Он на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи – останавливать в жилах кровь. (Рассказывают, что как-то Николай в своей семье, то есть в присутствии двух-трех начальников тайной полиции, двух-трех лейб-фрейлин и лейб-генералов, попробовал свой взгляд на Марии Николаевне. Она похожа на отца, и взгляд ее действительно напоминает его страшный взгляд. Дочь смело вынесла отцовский взор. Он побледнел, щеки задрожали у него, и глаза сделались еще свирепее, тем же взглядом отвечала ему дочь. Все побледнело и задрожало вокруг…)
Можно было бы отнести этот эпизод к жгучей ненависти Герцена к Николаю, если бы не было других подобных свидетельств.
Из воспоминаний Александры Осиповны Смирновой-Россет
На каком-то параде или маневрах генерал отвечал императору Николаю, не приложив руку к шляпе. Император закричал ему своим громким голосом: «Руку к шляпе, генерал, руку к шляпе, генерал!»
И так взглянул, что все приложили руки к шляпе. Да, наш Николинька как посмотрит, так душа в пятки уходит, а как прикрикнет, то коленки от подлости подкашиваются и делается в коленках дрожь, как говаривал Пушкин, питавший истинную приязнь к императору.
Вообще, благостные описания поведения и манер Николая, изобилующие в воспоминаниях верноподданных, рисуют, прямо скажем, не совсем точную картину.
Идеолог и практик
Из разговора Николая I с Павлом Васильевичем Голенищевым-Кутузовым после посещения Англии в 1816 году
Если бы, к нашему несчастью, злой гений перенес к нам все эти клубы и митинги, делающие больше шума, чем дела, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков или, еще лучше, лишить дара слова всех тех, которые делают из него такое употребление.
Из заметок графа Павла Дмитриевича Киселева
Император Николай Павлович при всяком удобном случае бранил конституционное правление и поносил его на все лады.
– Это абсурдная форма правления, – говорил он, – придуманная мошенниками и интриганами для таких же, как они!..
В доказательство он приводил то, через какие испытания ему пришлось пройти в Варшаве после первого открытия парламента.
– Поверите ли, – говорил он, – один министр, между прочим весьма уважаемый, явился ко мне просить средства для привлечения голосов, чтобы получить большинство, без коего можно было попасть в зависимость от оппозиции. Он просил должности, награды, деньги и обещания тем, кто не станет вносить свое имя в списки, в коих уже значилось более 60 имен. Я был возмущен! Не думаю, что монарх может унизить себя и опуститься до такой степени. […]
Я понимаю, что такое монархическое и республиканское правление, но я не могу взять в толк, что такое конституционное правление: это непрерывное жонглирование, для осуществления коего нужен фокусник.
Как частный человек, ежели бы я выбирал, при каком правлении жить, я бы выбрал для себя и своей семьи республику; на мой взгляд, такая форма правления лучше всего обеспечивает гарантии и безопасность. Но она подходит не для всякой страны; она применима для одних и опасна для других. Так что лучше придерживаться того, что выверено временем. Никто не может вообразить, как тяжелы обязанности монарха, какой это неблагодарный труд, но надо выполнять его, раз на то воля Божья.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
Летом, в бытность в Петербурге принца Карла Прусского, за обедом, при котором и принц присутствовал, речь коснулась новокатоликов, которых учение было тогда в полном ходу в Германии и составляло общий предмет и газетных статей, и разговоров.
– Я должен признаться, – сказал государь, – что не считаю ни удобным, ни нужным прикасаться к делам совести: для меня совершенно все равно, к какому из христианских исповеданий принадлежат мои подданные, лишь бы они оставались верноподданными. Одно только исключение из этого правила я позволил себе – в отношении униитов – потому единственно, что всегда считал их принадлежащими к нашей церкви и только от нее отторгнутыми.
Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны
…Прибыл… дядя Вильгельм (очевидно, Фридрих Вильгельм IV. – Я. Г.) со своим адъютантом, графом Кенигсмарком, очень приятным собеседником, необычно скромным для пруссака и безо всякого предубеждения против России. С дядей Вильгельмом я очень подружилась во время нашего пребывания в Эмсе. Он только что вступил в масоны и говорил с увлечением об этом гуманном содружестве. Орлов, Бенкендорф и Киселев не разделяли его восторгов. Пап́а также часто говорил об этом. Я еще прекрасно помню его слова: «Если их цель действительно благо Родины и ее людей, то они могли бы преследовать эту цель совершенно открыто. Я не люблю секретных союзов: они всегда начинают как будто бы невинно, преданные в мечтах идеальной цели, за которой вскоре следует желание осуществления и деятельности, и они по большей части оказываются политическими организациями тайного порядка. Я предпочитаю таким тайным союзам те союзы, которые выражают свои мысли и желания открыто». – «И все-таки вы допускаете цензуру в прессе?» – «Да, из необходимости, против моего убеждения». – «Против вашего убеждения?» – «Вы знаете, – возразил пап́а, – по своему убеждению я республиканец. Монарх я только по призванию. Господь возложил на меня эту обязанность, и покуда я ее выполняю, я должен за нее нести ответственность». – «Вам надо завести орган, предназначенный для того, чтобы опровергать ту клевету, которая, несмотря на цензуру, постоянно подымает голову». – «Я никогда в жизни не унижусь до того, что начну спорить с журналистами».
В то время я соглашалась с пап́а. Но с тех пор, как я живу в Германии, я на опыте узнала, что пресса представляет собой силу, с которой приходится считаться правительству, если оно хочет быть авторитетным.
Собственноручная записка Императора Николая 1830 года
Важность предстающих обстоятельств в их связи с прямыми интересами России привела меня к необходимости дать себе отчет в их значительности. В результате этого дознания перед судом своей собственной совести очертились мои обязанности.
Географическое положение России столь счастливо, что оно делает ее почти независимой, когда речь заходит о ее интересах, от происходящего в Европе; ей нечего опасаться; ей достаточно границ и ничего не нужно в этом отношении, поэтому она не должна бы никому доставлять беспокойства. Обстоятельства, в которых заключились существующие договоры, относятся ко времени, когда Россия, победив и уничтожив неслыханную агрессию Наполеона, пришла освободить Европу и помочь ей свергнуть удушающий ее гнет. Но память о благодеяниях стирается скорее, чем об обидах; уже в Вене недобросовестные силы чуть было не разрушили едва скрепленный союз. И понадобилась новая известная опасность, чтобы отдельные государства открыто объединились с державой, которая уже была однажды их освободительницей и всегда сохраняла великодушие.
В течение 10 последующих лет казался тесным союз между Россией, Австрией и Пруссией. Однако не раз эти два государства отклонялись от буквального смысла или от основополагающих начал, на которых строились союзнические соглашения. И всегда терпение и умеренность императора, его неисчерпаемое желание сохранить видимость самой совершенной близости помогали находить истинный путь или скрывать расхождение мнений. Когда Провидение забрало его у России, мы увидели вскоре, что за самыми прекрасными заверениями Австрия скрывала свои задние мысли. Пруссия действительно дольше сохраняла нам верность, но значительная разница обнаружилась между личными отношениями с королем и с его министрами.
Тем не менее расхождения не были столь заметными до позорной Июльской революции. Уже давно мы предвидели это ужасное событие и исчерпали при дворе Карла X и его министров все средства убеждения, которые допускают дружба и наши хорошие отношения. Все было напрасно. Отныне мы не колеблемся громко осудить незаконные демарши Карла X, но можем ли мы в то же самое время признать законным главой во Франции лишь того, кто по полному праву должен быть к тому призван? Это означало бы исполнить наш долг и сохранить верность принципам, которыми руководствовались во всех своих действиях союзники уже 15 лет. Однако наши союзники, не посоветовавшись с нами в столь важном и окончательном решении, поспешили своим признанием увенчать революцию и захват – фатальный и непостижимый поступок, породивший цепь бедствий, которые с тех пор не переставали обрушиваться на Европу. Мы сопротивлялись, как и должны были делать, и я уступил лишь по единственной причине сохранения союза. Но легко было предвидеть, что пример столь пагубной низости повлечет за собой серию подобных событий и поступков. И верно, за Парижем не замедлил последовать Брюссель. В Париже королевская власть совершила ошибку, так как она породила разразившуюся революцию. В Брюсселе, напротив, не происходило ничего подобного, если не считать благодеяний со стороны государя. Однако там использовали тот же принцип, было сказано: страна не признает более наследственного главу и, следовательно, становится независимой; поспешим ее узаконить таковой, дав ей главу. Но государь еще оставался владыкой своей древней вотчины и, заботясь лишь о сохранении чести, не поколебался приложить все усилия для ее сохранения – возвышенный пример, который заслуживал бы лучшей судьбы и более достойного главу для его оценки!
Что же касается Франции, то Австрия и Пруссия поторопились дать ей свое одобрение, не посоветовались предварительно со старым союзником. Но мы с самого начала шли более благородным путем и, оставаясь единственными поборниками справедливости, смогли пренебречь гневом Англии и Франции. Можем ли мы, не позоря себя, изменить свое поведение?
Но оставим вопрос и поговорим только об интересах. Полезно ли нам согласиться с новым актом несправедливости? Способствует ли сохранению старого союза совместная работа по разрушению нашего собственного труда? Существует ли еще прежний союз, когда две из держав идут прямо в противоположном направлении относительно сложившихся договоренностей? Существует ли он еще, когда Пруссия дает нам понять, что даже в случае французского вторжения в Австрию она окажет ей лишь моральную помощь! Это ли, Боже милостивый, союз, созданный нашим бессмертным императором? Сохраним сей священный огонь неприкосновенным и не обесчестим его молчаливым одобрением малодушных и несправедливых действий тех держав, которые заручаются нашим союзничеством лишь тогда, когда они хотят видеть в нас сообщников для таких поступков. Сохраним, повторяю я, сей священный огонь для торжественного момента, который никакая человеческая сила не может отклонить или отсрочить, момента, когда должна разразиться борьба между справедливостью и инфернальным началом. Этот момент близок, станем в таком случае знаменем, к которому поневоле и для их же собственного спасения присоединятся вторично те, кто сегодня трепещет.
Мы признали факт независимости Бельгии, потому что его признал сам король Нидерландов; но не признаем Леопольда[41], ибо не имеем никакого права на это, поскольку его не признает король Нидерландов. Однако в то же время не станем скрывать нашего явного неодобрения двойного и фальшивого поведения короля и отстранимся от участия в конференции.
Если Франция и Англия объединятся для нападения на Голландию, мы будем протестовать, так как не можем сделать большего; по крайней мере, русское имя не будет замарано сообщничеством в подобном акте. Наш язык с Австрией и Пруссией должен оставаться одинаковым и постоянно показывать им опасность дороги, по которой они следуют, и доказывать, что именно они отклоняются от союзнических принципов. Должно быть ясно, что мы никогда не совершим той же ошибки, поскольку видим в ней непоправимую потерю для правого дела. В минуту опасности нас всегда увидят готовыми незамедлительно прийти на помощь союзникам, которые остались бы верными нашим старым принципам. Однако в противном случае Россия никогда не пожертвует ни своими сокровищами, ни драгоценной кровью своих солдат.
Вот моя исповедь, она серьезна и решительна. Она ставит нас в новое и изолированное, но, осмелюсь сказать, почтенное и достойное положение. Кто осмелится нас атаковать? А если и осмелится, то я найду надежную опору в народе, который смог бы оценить такую позицию и наказать, с Божьей помощью, дерзость агрессоров.
Из книги маркиза Астольфа де Кюстина «Николаевская Россия»
На слова государя о преувеличенных похвалах его поведению во время мятежа я воскликнул:
– Смею уверить вас, государь, что одной из главных причин моего приезда в Россию было желание увидеть монарха, который пользуется таким беспримерным влиянием на людей.
– Русский народ добр, но нужно быть достойным управлять этим народом.
– Ваше величество лучше, чем кто-либо из ваших предшественников, поняли, что нужно России.
– В России существует еще деспотизм, потому что он составляет основу всего управления, но он вполне согласуется и с духом народа.
– Государь, вы удержали Россию от подражания другим странам и вернули ее самой себе.
– Я люблю Россию и думаю, что понял ее. Когда я сильно устаю от разных мерзостей нашего времени, то забвения от всей остальной Европы ищу, удаляясь внутрь России.
– Чтобы почерпнуть новые силы в самом их источнике?
– Вы правы. Никто не может быть душою более русским, чем я. Я скажу вам то, чего не сказал бы никому другому, так как чувствую, что вы, именно вы поймете меня правильно.
Государь остановился и пристально посмотрел на меня. Я превратился весь в слух, не проронив ни единого слова. Он продолжал:
– Я понимаю республику – это прямое и честное правление, или, по крайней мере, оно может быть таковым. Я понимаю абсолютную монархию, потому что сам ее возглавляю. Но представительного образа правления я постигнуть не могу. Это – правительство лжи, обмана, подкупа. Я скорее отступил бы до самого Китая, чем согласился бы на подобный образ правления.
– Я всегда считал представительный образ правления переходной стадией в известных государствах и в определенные эпохи. Но, как и всякие переходные, промежуточные стадии, этот образ правления не решает вопроса, а лишь отсрочивает связанные с ним трудности.
Государь, казалось, хотел сказать мне: «продолжайте», и я закончил свою мысль следующими словами:
– Конституционное правление есть договор о перемирии, заключенный между демократией и монархией при благосклонном содействии двух гнусных тиранов – корыстолюбия и страха. Договор этот продолжается благодаря свободомыслию говорунов, услаждающих себя своим красноречием, и тщеславию масс, оплачиваемому их красивыми словами. В конечном счете является аристократия слова, потому что это – правление адвокатов.
– Вы говорите сущую истину, – сказал император, пожимая мою руку. – Я был также конституционным монархом, и мир знает, чего мне это стоило, так как я не хотел подчиниться требованиям этого гнусного образа правления. (Я привожу дословно выражения императора.) Покупать голоса, подкупать совесть, завлекать одних, чтобы обманывать других, – я с презрением отверг все эти средства, столь же позорящие тех, кто подчиняется, сколь и того, кто повелевает. Я дорого заплатил за свое прямодушие, но, слава Богу, я навсегда покончил с этой отвратительной политической машиной. Я никогда более конституционным монархом не буду. Я должен был высказать то, что думаю, дабы еще раз подтвердить, что я никогда не соглашусь управлять каким-либо народом при помощи хитрости и интриг.
Имя Польши, о которой мы оба думали во время этой замечательной беседы, произнесено, однако, не было. Впечатление, произведенное на меня словами императора, было огромно; я чувствовал себя подавленным. Благородство взглядов, откровенность его речи – все это еще более возвышало в моих глазах его всемогущество. Я был, признаюсь в этом, совершенно ослеплен. Человек, которому, несмотря на мои идеи о независимости, я должен был простить, что он является неограниченным властителем 60-миллионного народа, казался мне существом сверхъестественным. Но я старался не доверять своему восхищению, как наши буржуа, чувствующие, что они начинают поддаваться обаянию изящества людей старого времени. Хороший вкус заставляет их отдаваться испытываемому очарованию, но этому противятся их принципы, и они стараются казаться сдержанными и возможно более нечувствительными. Борьба, переживаемая ими, напоминает ту, которую пришлось испытать мне. Не в моем характере сомневаться в искренности человеческого слова в тот момент, когда я его слышу. Лишь путем позднейших размышлений и сурового опыта убеждаюсь я в возможности расчета и притворства. Быть может, это назовут вздором, но мне нравится такая умственная слабость, потому что она является следствием душевной силы. Мое чистосердечие заставляет меня верить искренности другого, даже если этот другой является императором России.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
9 марта [1848], возвращаясь пешком домой после занятий моих с великим князем Константином Николаевичем, я почти наткнулся в Большой Морской на государя. Он сперва прошел со мной несколько шагов, а потом продолжал разговор, остановясь.
– Ну что, – сказал он, – хороши венские штуки! (Имеется в виду революция в Австрии. – Я. Г.) Я сбираюсь позвать тебя к себе и поручить новую работу. Надо будет написать манифест, в котором показать, как все эти гадости начались, развились, охватили всю Европу и, наконец, отпрянули от России. Все это не должно быть длинно, но объявлено с достоинством и энергией, чтоб было порезче. Подожду еще несколько, посмотрим, какие будут дальше известия, а там позову тебя и надеюсь, что ты не откажешься от этого труда.
Возвращенный призыв последовал не ранее 13-го числа, к 12 часам. Еду и беру с собой написанный мной между тем, по упомянутому предварительному разговору, проект манифеста. Наверху, перед кабинетом государя, встречается мне только что вышедший от него граф Нессельрод.
– Император желает поручить вам написать манифест, подходящий к обстоятельствам.
– Я это знаю, – и я рассказал ему как о встрече нашей, так и о приготовленном мной проекте.
Ответом было, что и у государя уже написан свой, которого Нессельрод, впрочем, еще не читал; но что он, Нессельрод, просил государя приказать во всяком случае сообщить ему окончательную редакцию для соображения ее в видах дипломатических. Тогда я предложил графу выслушать мой проект; и старый наш канцлер не только вполне его одобрил, но и просил доложить государю, что не видит надобности переменять в нем ни одного слова. Спустя несколько минут, когда Нессельрод уже уехал и в секретарской комнате оставался я один, от государя выбегает граф Орлов в каком-то восторженном положении, утирая рукой слезы.
– Ах, Боже мой, – вскричал он, – что за человек этот государь! Как он чувствует, как пишет! Сейчас прочел он мне свои идеи к манифесту, который хочет поручить вам написать; я отвечал, что это не идеи, а уже совсем готовый манифест и что лучше, конечно, никто не напишет. Конечно, вы могли бы употребить стиль более изящный, но никогда никто не будет в состоянии высказаться с такой энергией, чувством и сердцем. Это именно то, что нужно для нашего народа. Невозможно сделать лучше!
Едва граф успел это сказать, как меня позвали к государю. Он стоял в кабинете у письменного стола.
– Это что такое, – было первым его словом, – для чего эта шляпа, я прошу вас от нее избавиться. – (Государь любил, чтобы к нему входили с докладом без шляпы; но так как я явился в этот раз не для доклада, а за приказанием, то и не оставил шляпы в передней.) – Что у вас тут?
У меня был в руках мой проект.
– Как вы соблаговолили изложить ваши идеи о сущности манифеста, государь, то я счел своим долгом набросать канву.
– Ну и хорошо, мы увидим это после, а теперь я прочту тебе свои идеи, которые ты потом потрудишься привести в порядок.
И государь начал читать мне свой проект, прерывая несколько раз чтение для словесных объяснений. Многозначительность предмета, торжественность минуты, выражавшиеся в проекте высокие чувства, образ чтения, наконец, может быть, и то впечатление, под влиянием которого от слов Орлова я вошел в кабинет, привели и меня в невольный восторг. Когда государь кончил, я бросился к его руке, но он не допустил и обнял меня.
– Какое счастье, какое благословение Неба, – вскричал я, – что в эти страшные минуты Россия имеет вас, государь, вас, с вашей энергией, с вашей душой, с вашей любовью к нам!..
Содержание ответа его состояло в том, что мыслим и чувствуем мы все одинаково, а быв поставлен во главе, он, конечно, не может оставить и никогда не оставит дела. Но моего проекта государь не спросил и более о нем не вспоминал.
– Теперь, – сказал он, – поезжай домой и уложи все это хорошенько на бумагу.
– И потом прикажете прислать к вашему величеству?
– Нет, привези опять сам. Я буду дома в три часа или, пожалуй, и вечером.
В передней камердинер объявил мне волю наследника цесаревича, чтобы от государя я зашел к его высочеству. Цесаревич уже знал, зачем я был у государя, но, кажется, еще не видал проекта; по крайней мере, взяв его от меня, тут же прочел про себя и, прослезившись, сказал:
– Я очень рад, что выбор государев в этом деле пал на вас; вот вам еще одно драгоценное воспоминание на целую жизнь.
Дома, в тиши кабинета и с пером в руке, некоторые из выражений проекта, казавшиеся мне при живом чтении государя и при собственной моей восторженности превосходно-уместными, предстали в другом свете. Иное имело вид вызова к войне; другое как бы указывало на угрозы нам извне, которых ни от кого не было; третье, наконец, проявляло надежды на победу, когда не имелось еще в виду никакой брани. Но так как собственный мой проект, веденный от другой основной идеи, остался непрочитанным, то мне и надо уже было, в качестве просто редактора, ограничиться одним изложением данного эскиза, с сохранением, по возможности, даже самых его слов.
В три часа я был опять во дворце. Поутру государь принял меня в официальном своем кабинете, наверху, а в это время – в домашнем, о котором я уже упоминал, в бывших покоях великой княгини Ольги Николаевны.
– Как, ты уже готов? – спросил он, увидев меня.
– Мой труд, государь, был невелик: мне оставалось почти только переписать написанное вами.
– Ну, нет, я, признаюсь, невеликий мастер на редакторство; посмотрим.
И я вслед за тем прочел привезенную бумагу, а кончив, взглянул на государя. У него текли слезы. Видно было, что он всей душой следил за этим выражением заветных его мыслей и чувств.
– Очень хорошо, – сказал он, – переделывать тут, кажется, нечего.
– Дозвольте, государь, повергнуть на ваше усмотрение одну только мысль.
– Что такое? Говори!
– Не позволите ли включить в манифест хоть два слова о дворянстве: оно всегда окружало престол своей преданностью, и особенный призыв от вас польстит лучшему его чувству.
– Я сам об этом думал, и сперва, в черновом моем проекте, именно сказано было: все государственные сословия; но после мне показалось, что слово «сословие» не совсем уместно при теперешнем духе и обстоятельствах. Где же полагал бы ты сказать о дворянстве?
Я указал место. Он перечел раза два или три громко это место и, пробежав потом снова про себя весь проект, сказал:
– Нет, право, и так очень хорошо; если упоминать отдельно о дворянстве, то прочие состояния могут огорчиться, а ведь это еще не последний манифест; вероятно, что за ним скоро будет второй, уже настоящее воззвание, и тогда останется время обратиться к дворянству, а теперь – пусть будет как есть. Я попрошу тебя только съездить к Нессельроду и показать ему наш проект; он очень взыскателен на выражения и, в теперешних обстоятельствах, совершенно в том прав. Если он сделает какие-нибудь замечания, то приезжай опять ко мне сказать о них; если же нет, так отдавай с Богом в переписку, или… знаешь что, перепиши лучше сам, своей рукой; а теперь покуда прощай и большое спасибо.
Нессельрод, прочитав проект, остановился именно на тех же замечаниях, которые и я прежде про себя сделал; но как они относились к основным идеям, от которых, по его предположению, государь ни в каком случае не отступил бы, то он и предпочел оставить, как было написано.
Манифест, переписанный моей рукой, был подписан в тот же день, 13-го; но государь, не знаю почему, выставил 14-е. В ночь успели его и напечатать.
Высочайший манифест от 14 марта 1848 года
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ, НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ,
ИМПЕРАТОР и САМОДЕРЖЕЦ
ВСЕРОССИЙСКИЙ,
и прочая, и прочая, и прочая
Объявляем всенародно:
После благословений долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства.
Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной Германии и, разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости Правительств, разрушительный поток сей прикоснулся наконец и союзных Нам Империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает, в безумии своем, и Нашей, Богом Нам вверенной России.
Но да не будет так!
По заветному примеру Православных Наших предков, призвав в помощь Бога Всемогущего, Мы готовы встретить врагов Наших, где бы они ни предстали, и, не щадя Себя, будем, в неразрывном союзе с Святою Нашей Русью, защищать честь имени Русского и неприкосновенность пределов Наших.
Мы удостоверены, что всякий Русский, всякий верноподданный Наш, ответит радостно на призыв своего Государя; что древний наш возглас: за веру, Царя и отечество – и ныне предукажет нам путь к победе; и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем:
С нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог!
Дан в С.-Петербург в 14-й день марта месяца, в лето от Рождества Христова 1848-е, Царствования же Нашего в двадцать третие.
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
НИКОЛАЙ
Речь императора Николая Павловича к депутатам санкт-петербургского дворянства. 21 марта 1848 года
Господа! Внешние враги нам не опасны; все меры приняты, и на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Войска, одушевленные чувством преданности к престолу и отечеству, готовы с восторгом встретить мечом нарушителей спокойствия. Из внутренних губерний я получил донесения самые удовлетворительные. Не далее как сегодня возвратились посланные мною туда два адъютанта мои, которые также свидетельствуют об искренней преданности и усердии к престолу и отечеству. Но в теперешних трудных обстоятельствах я вас прошу, господа, действовать единодушно. Забудем все неудовольствия, все неприятности одного к другому. Подайте между собою руку дружбы, как братья, как дети родного края, так чтобы последняя рука дошла до меня и тогда, под моею главою, будьте уверены, что никакая сила земная нас не потревожит.
В учебных заведениях дух вообще хорош, но прошу вас, родителей, братьев и родственников наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Служите им сами примером благочестия и любви к царю и отечеству, направляйте их мысли к добру и, если заметите в них дурные наклонности, старайтесь мерами кротости и убеждением наставить их на прямую дорогу. По неопытности они могут быть вовлечены неблагонадежными людьми к вредным для общества и пагубным для них самих последствиям. Ваш долг, господа, следить за ними.
У нас существует класс людей весьма дурной и на который я прошу вас обратить особенное внимание – это дворовые люди. Будучи взяты из крестьян, они отстали от них, не имея оседлости и не получив ни малейшего образования. Люди эти вообще развратны и опасны как для общества, так и для господ своих. Я вас прошу быть крайне осторожными в отношениях с ними. Часто, за столом или в вечерней беседе, вы рассуждаете о делах политических, правительственных и других, забывая, что люди эти вас слушают и по необразованности своей и глупости толкуют суждения ваши по-своему, т. е. превратно. Кроме того, разговоры эти, невинные между людьми образованными, часто вселяют вашим людям такие мысли, о которых без того они не имели бы и понятия. Это очень вредно!
Переходя к быту крестьян, скажу вам, что необходимо обратить особенное внимание на их благосостояние. Некоторые лица приписывали мне по сему предмету самые нелепые и безрассудные мысли и намерения. Я их отвергаю с негодованием. Когда я издал указ об обязанных крестьянах, то объявил, что вся без исключения земля принадлежит дворянину-помещику. Это вещь святая, и никто к ней прикасаться не может. Но я должен сказать с прискорбием, что у нас весьма мало хороших и попечительных помещиков, много посредственных и еще более худых, а при духе времени, кроме предписаний совести и закона, вы должны для собственного своего интереса заботиться о благосостоянии вверенных вам людей и стараться всеми силами снискать их любовь и уважение. Ежели окажется среди вас помещик безнравственный или жестокий, вы обязаны предать его силе закона. Некоторые русские журналы дозволили себе напечатать статьи, возбуждающие крестьян против помещиков и вообще неблаговидные, но я принял меры, и этого впредь не будет.
Господа! У меня полиции нет, я не люблю ее: вы моя полиция. Каждый из вас мой управляющий и должен для спокойствия государства доводить до моего сведения все дурные действия и поступки, какие он заметит. Если и в моих имениях вы усмотрите притеснения и беспорядки, то убедительно прошу вас, не жалея никого, немедленно мне о том доносить. Будем идти дружною стопою, будем действовать единодушно, и мы будем непобедимы.
Правило души моей откровенность, я хочу, чтобы не только действия, но намерения и мысли мои были бы всем открыты и известны; а потому я прошу вас передать все мною сказанное всему с. – петербургскому дворянству, к составу которого я и жена моя принадлежим, как здешние помещики, а кроме того всем и каждому.
Из «Записок» Модеста Андреевича Корфа
26 апреля, рано утром, явился ко мне фельдъегерь:
– Государь, – сказал он, – просит вас к себе в 12 часов.
Приезжаю. С государем работает еще граф Нессельрод, а в секретарской ждут граф Клейнмихель и министр статс-секретарь Царства Польского Туркул; но Клейнмихель, бывающий во дворце почти ежедневно, скоро исчезает в боковую дверь, а Туркулу государь спустя несколько минут высылает сказать, что слишком сегодня занят и потому просит его приехать завтра. Нессельрод вышел около половины 1-го, и я тотчас был позван в кабинет.
– Здравствуй, любезный Корф, – сказал государь, протянув мне руку, – извини, что я всегда тревожу тебя в чрезвычайных случаях, laver mon linge sale (чтобы мыть мое грязное белье).
Но нам надо опять написать манифест. Ты знаешь, что делается в Венгрии (в 1848 году восставшие венгры объявили независимость от Австрийской империи. – Я. Г.), но знаешь не все. Сегодня был у меня приехавший вчера из Ольмюца генерал Лобковиц и описывал их (т. е. австрийцев) положение в самых мрачных красках. В их распоряжении всего, по счету, 50 тысяч войска, а на самом деле, кажется, еще менее. По крайней мере вот что дает мне сейчас знать по телеграфу фельдмаршал Паскевич из Варшавы.
Тут государь прочел вслух депешу, из которой было видно, что у Вельдена в главной его квартире перед Пресбургом (место дислокации австрийской армии под командованием Людвига Вельдена. – Я. Г.), по словам его нашему генералу Бергу, всего 35 000 человек против вдвое сильнейшей венгерской армии и что он считает положение свое крайне затруднительным.
– Как вам это нравится? Австрийский император просит моей помощи, и я тем меньше могу ему отказать, что торжество венгерцев начинает уже чрезвычайно отзываться на расположение умов в нашей Польше. Итак, надо решаться на войну, и вот что я об этом написал; но это – одна канва, которою прошу тебя отнюдь не стесняться.
Затем государь прочел мне проект манифеста, набросанный им карандашом на полулисте почтовой бумаги. Я остановился только на одном месте, где говорилось об обременении австрийского правительства еще другой, внешней войной в Италии, и спросил: угодно ли, чтобы это выражение было в точности сохранено, так как там были, и частью еще продолжаются, и внутренние войны с Ломбардией и Венецией.
– Да, да, конечно, – отвечал государь, – прибавь и эти. Я тут имел в виду собственно войну с Сардинией и, признаться, в первом проекте у меня было сказано «с вероломным королем сардинским», но – черт его побери… Ну, теперь дай же всему этому порядок и потом привези опять ко мне; ты застанешь меня в половине восьмого.
Манифест, сгладив несколько редакций и вставив две или три вводные фразы, мне нетрудно было написать, и я, до обеда еще, послал его на просмотр к графу Нессельроду, сказавшему мне утром, при выходе из кабинета, что государь прочел ему свой проект. В моем граф не нашел переменить ни одного слова. Вечером государь принял меня с новыми извинениями, «что меня беспокоит».
– Но кто предвидел бы, – прибавил он, – чтобы спустя год после первого манифеста нам пришлось искупать чужие грехи своей кровью!
Проект я прочел сам. Государь казался доволен и потребовал только одной перемены.
– Так хорошо, – сказал он, – и все может идти, но в этой последней фразе: «и Россия, грядущая, под щитом всеблагого Промысла, на восстановление мира и покоя, исполнит святое свое призвание», прибавленные тобой слова (все выше выделенное) лучше, я думаю, исключить, они похожи на хвастовство, а манифест будет тотчас переведен на все языки и комментирован за границей. Выкинь это и покажи Нессельроду.
Я донес, что это уже сделано.
– Ну, так потрудись переписать опять, как в прошлом году, своей рукой и пришли мне.
Потом, рассуждая о настоятельной необходимости помочь Австрии для собственной нашей безопасности, государь прибавил, что после утреннего его свидания со мной он получил новую депешу, извещающую, что опасность еще увеличилась и уже грозит самой Вене; вследствие чего австрийский император переехал из Ольмюца в Шенбрун, вероятно для успокоения умов. В заключение, взяв меня за руку, государь снова благодарил.
– Дай Бог, дай Бог, государь, – сказал я, – чтоб все это окончилось к вашей славе и покою!
– Да, дай Бог, – отвечал он с чувством, держа еще мою руку, – все в Его святой воле; впрочем, мы за себя постоим.
По приезде домой я немедленно переписал манифест и отправил его к государю.
В тот же вечер был бал у графа Кушелева-Безбородки, на котором присутствовал наследник цесаревич. Увидев меня, он тотчас подошел со словом «Подписан». Догадавшись, о чем идет речь, но приняв это слово за вопрос, я отвечал:
– Не знаю, ваше высочество, я отослал в 10-м часу.
– Я вам говорю, что подписан, государь мне сказывал. Вот, – продолжал цесаревич, возобновляя свой прошлогодний привет, – опять пал на вас жребий поработать, и опять новый листок в вашу биографию!
Спустя десять минут привезли мне, тут же на балу, конверт от государя. Он возвращал мою докладную записку, при которой отослан был переписанный манифест, с надписью: «Искренно благодарю».
27 апреля утром манифест был напечатан и обнародован.
Впечатление, произведенное этим актом на жителей Петербурга, было грустное. С одной стороны, говорили, что нет нам причины вступаться за других, когда у самих горит (слухи о нашем заговоре были в первое время чрезвычайно преувеличены молвой) и когда от Австрии, которой вероломная политика довольно известна по истории, в случае взаимной нужды, конечно, не придет к нам помощь. С другой стороны, хотя все знали, что гвардейский корпус, которому сроком выступления из Петербурга, по эшелонам, назначалось 15 мая, идет на первый раз только для занятия в пограничных губерниях позиций войск, действительно выступивших в поход; однако, по мере того как радовалась молодежь, воображая уже себе битвы, кровопролитие и славу, маменьки плакали если еще не об опасности, то о разлуке. Наконец, при усиливавшейся неурядице на Западе и при несомненности для всех домашнего заговора, опозорившего землю Русскую, немало было и таких, которые горевали о выступлении гвардии, из боязни о том, что станется с ними, остающимися на месте.
Это опасение было, впрочем, напрасное. Государь не бросил своей столицы без защиты. В Петербурге оставлены были от каждого пехотного полка гвардейского и гренадерского корпусов по 4-му батальону, составленному из собранных в 1848 году бессрочноотпускных, и от кавалерии запасные эскадроны.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
Доступ у нас в университеты всегда был открыт лицам всех свободных состояний, выдержавшим испытание в науках гимназического курса. При всем том, не говоря о праотце наших университетов, Московском, другие, учрежденные или окончательно преобразованные в 1802 году, долго, кроме Виленского и Дерптского, стояли почти пустые, потому что в общей массе народа, даже в самом дворянстве, не существовало еще истинной потребности учиться. Общее стремление давать юношеству высшее образование возникло лишь вследствие указа 6 августа 1809 года, заградившего производство в коллежские асессоры и в статские советники без испытания в науках и даровавшего кончившим университетский курс важные служебные преимущества. Сперва это возбуждение явилось, так сказать, насильственно, частью с переломом старинных предрассудков; но потом, действием времени и данного единожды движения, оно влилось в нравы и из средства искусственного превратилось в естественный порядок вещей. Все бросилось учиться, и при упомянутой выше свободе доступа в Московском университете находилось более 1000 студентов, в Петербургском более 700, в Дерптском более 600 и т. д.
Вдруг в мае 1849 года разнесся слух, что для университетов установлен комплект студентов и что цифра их впредь ни в одном не может превышать трехсот. Слух этот вскоре подтвердился напечатанным во всех газетах объявлением ректора Петербургского университета, что по причине полного в нем комплекта в 1849 году приема не будет.
Откуда возникла эта мера и какие были к ней побуждения – никто положительно не знал. Она не рассматривалась ни в Государственном совете, ни в Комитете министров, и только по умозаключениям ставили ее в связь с западными происшествиями, а инициативу последовавшего о ней повеления приписывали собственной мысли государя. Но одно несомненно: эта мера возбудила в то время общее неудовольствие и, даже в людях самых благонамеренных, общее сокрушение.
– В других государствах, – говорили многие, – потребность высшего образования родилась из самой жизни народной и из общественного там быта, а у нас она произведена и развита единственно действием правительства, и вдруг, действием того же самого правительства, отнимаются средства к удовлетворению потребности, им же возбужденной!
– Какие же, – продолжали, – останутся средства воспитывать детей, когда лицеи, училища правоведения и проч. переполнены, и никто в них попасть не может, а вдруг и в университеты станут принимать только на вакансии? Воспитывать в заграничных университетах? Но посылать туда запрещено. В гимназиях? Но они лишь переходная ступень, при которой воспитание нельзя еще считать оконченным. Дома? Но где взять надежных домашних наставников, и многие ли семейства в состоянии их содержать? Притом, собственно, в видах политических домашнее воспитание без надзора со стороны правительства гораздо вреднее университетского, где направление преподавания всегда в его руках. Своевольство мыслей и порыв в мечтательные крайности находят свой источник не в высшем образовании, а в праздности ума и в буйных страстях. Английские университеты еще гораздо многочисленнее немецких, но на опыте от них нигде не было вреда, да и немецкие студенты шумят и шалят, только пока они студенты, становясь потом, большей частью, самыми скромными и порядочными людьми.
– Да и от чего, – спрашивали, – наконец, тысяча молодых людей будут в университете опаснее трехсот, если только в соразмерность с числом увеличатся средства надзора умственного, нравственного и дисциплинарного? Почему именно триста, а не двести или не четыреста и т. д.
Словом, эта мера была одной из самых непопулярных в царствование императора Николая, и последовавшее вскоре за тем изъятие для факультетов медицинского и богословского (для последнего в Дерпте) не могло ослабить произведенного ею крайне неприятного впечатления.
Впоследствии я слышал от великой княгини Елены Павловны, что истинное побуждение к ограничению числа студентов заключалось не в политических событиях того времени, как все думали, а совсем в другом обстоятельстве. Государю было очень неприятно, что дворянство, по его замечанию, все более и более уклоняется от военной службы, так что в последние два года оказалось необходимым, для наполнения сколько-нибудь офицерских вакансий, выпустить из кадетских корпусов мальчиков, не окончивших курса. Вследствие того он надеялся, стеснив средства к поступлению в университеты, снова побудить через то молодых дворян идти в военную службу.
– По крайней мере, – сказала мне великая княгиня, – я слышала, что император произносил это при мне, и я вам повторяю, что он сказал в моем присутствии…
Среди жгучей тревоги, вдруг овладевшей всеми нами вследствие парижских вестей [1848], нельзя было не обратить внимания на нашу журналистику, в особенности же на два журнала – «Отечественные записки» и «Современник». Оба, пользуясь малоразумием тогдашней цензуры, позволяли себе печатать бог знает что, и по проповедуемым ими под разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященных формами, коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия.
Беспрерывно размышляя о том, чем можно было бы это ограничить и упрочить в виду судорожных движений Запада, я набросал несколько мыслей о действиях периодических изданий и цензуры… […]…Я решился отвезти мою записку к наследнику цесаревичу. Не застав его высочества, я зашел с ней к великому князю Константину Николаевичу, который остался чрезвычайно доволен моей запиской и советовал непременно отослать к наследнику, не теряя времени, что я и исполнил на другой же день после получения известия о французской республике, т. е. 23 февраля [1848], вечером. […]
…27-го числа я получил от графа Орлова следующую официальную бумагу:
«По дошедшим до государя императора из разных источников сведениям о весьма сомнительном направлении наших журналов его императорское величество на докладе моем по сему предмету собственноручно написать изволил: „Необходимо составить особый комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальства, т. е. министерства народного просвещения, и которые журналы и в чем вышли из своей программы. Комитету состоять под председательством генерал-адъютанта князя Меншикова, из действительного тайного советника Бутурлина, статс-секретаря Дегая. (Впоследствии к составу Комитета присоединен был еще начальник штаба корпуса жандармов генерал Дубельт.) Уведомить о сем кого следует и занятия комитета начать немедля“».
Занятия этого комитета продолжались с лишком месяц и, сверх некоторого дополнения цензурных правил, заключались во внушениях редакторам журналов и цензорам и проч. Но в заключение изо всего этого родилась у государя мысль учредить под непосредственным своим руководством всегдашний безгласный надзор за действиями нашей цензуры. С сей целью вместо прежнего временного комитета учрежден был 2 апреля постоянный из члена Государственного совета Д. П. Бутурлина, статс-секретаря Дегая и меня, с обязанностью представлять все замечания и предположения свои непосредственно государю. Сначала надзор этого комитета предполагалось ограничить одними лишь периодическими изданиями; но потом он распространен на все вообще произведения нашего книгопечатания. Призвав перед себя Бутурлина и меня, государь объявил, что поручает нам это дело по особому, как он выразился, безграничному своему доверию.
– Цензурные установления, – продолжал он, – остаются все как были; но вы будете – я; т. е. как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет расправляться с виноватыми.
Комитет этот, род нароста в нашей администрации, продолжал существовать под именем «Комитета 2 апреля» и с изменявшимся несколько раз личным составом во все остальное время царствования императора Николая. Учреждением его образовалась у нас двоякая цензура: предупредительная, в лице обыкновенных цензоров, просматривавшая все до печати, и взыскательная, или карательная, подвергавшая своему рассмотрению только уже напечатанное и привлекавшая, с утверждения и именем государя, к ответственности как цензоров, так и авторов за все, что признавала предосудительным или противным видам правительства. Если в эпоху своего учреждения, когда министерством народного просвещения управлял еще граф Уваров, цель и надобность особого тайного надзора оправдывались тем, что министр утратил прежнее к нему доверие государя, и если в начале своего существования комитет наш, по глубокому моему убеждению, принес большую и существенную пользу, то дальнейшее продолжение этого внешнего постороннего надзора, при преемниках Уварова, когда все постепенно вошло в законные пределы, сделалось уже совершенной аномалией и только парализовало действия и власть самого министерства, вредя косвенно всякому полезному развитию и успехам отечественной письменности. Эти обстоятельства были удостоены высочайшего внимания ныне благополучно царствующего императора (Александра II. – Я. Г.) и вследствие того «Комитет 2 апреля», по всеподданнейшему докладу моему, закрыт.
Среди революционного вихря, который после несколько спокойнейшего, как казалось, направления дел, вдруг весной 1849-го с новой силой охватил Западную Европу, в Петербурге во второй половине апреля все были поражены разнесшеюся как молния вестью об открытом и у нас заговоре. К России, покорной, преданной, богобоязливой, царелюбивой России тоже прикоснулась – страшно, больно и как-то оскорбительно, даже уничижительно было выговорить – гидра нелепых и преступных мечтаний чуждого нам мира.
Сокрушительное действие революций везде в течение года оставило по себе одни развалины и потоки крови, не внеся даже тени улучшения в общественный быт, и, несмотря ни на этот живой пример, ни на память событий 14 декабря 1825 года, нашедших так мало сочувствия в массах и такую быструю кару в законе, горсть дерзких злодеев и ослепленных юношей замыслила приобщить и нашу действенную нацию к ужасам и моральному растлению Запада.
Уже с полгода секретные агенты графа Орлова, с одной стороны, и графа Перовского, с другой, следили за этой шайкой и наконец в ночь с 21 на 22 апреля захватили до 40 человек, обличенных в тайных замыслах. Они были немедленно заключены в крепость, и 24-го числа учреждена для исследования дела особая следственная комиссия…
Сначала в сердце государево запала, по-видимому, мысль, что к числу заговорщиков, кроме захваченных офицеров, молодых чиновников, литераторов и проч., может принадлежать, втайне, и кто-нибудь повыше. По крайней мере, того же 24-го числа, принимая двух членов Государственного совета, благодаривших за полученные ими награды, и говоря с ними исключительно об этом предмете, он сказал между прочим:
– Не знаю, ограничивается ли заговор теми одними, которые уже схвачены, или есть кроме них и другие, даже, может быть, кто и из наших. Следствие все это раскроет. Знаю только одно: что на полицию тут нельзя полагаться, потому что она падка на деньги, а на шпионов еще меньше, потому что продающий за деньги свою честь способен на всякое предательство. Это дело отцов семейств следить за внутренним порядком, тем более что это дело их касается и должно их интересовать столько же, сколько и меня.
И здесь, как при всяком подобном случае, мысль каждого русского прежде всего обращалась с молитвой благодарности к Небу за дарование России, особенно в тогдашних смутных обстоятельствах, такого монарха! Если собственное его сердце не могло не биться сильнее при испытаниях судьбы; если сам он являлся везде воплощенной за нас жертвой, атлетом, несшим на своих раменах бремя забот о нашем счастье и о нашей славе; то взамен как были спокойны мы во всякую бурю с таким кормчим. В 1848 году никакие внешние грозы не могли оторвать его ни на минуту от текущих, даже от самых иногда мелочных, обязанностей его сана; точно так же и в 1849-м печальное открытие грозы внутренней ни на одно мгновение не остановило движения огромной машины, которую он вращал мощной своей рукой, не прервало обычных его занятий и даже развлечений. 24-го числа, в день учреждения следственной комиссии, он прохаживался по улицам, как всегда, совершенно один, а вечером посетил публичный маскарад в Большом театре; 25-го он смотрел рекрут и принимал доклады министров – тоже как всегда. […]
Кроме следственной комиссии… учреждена была еще особая приготовительная комиссия… для разбора захваченных у обвиненных бумаг, которых оказалось чрезвычайно большое количество. Следственная комиссия открыла свои заседания 26 апреля в самой крепости. […]
Результаты исследования вскоре обнаружили, что дело отнюдь не имело ни такой важности, ни такого развития, какие вначале придали ему городские слухи, обыкновенно все преувеличивающие. Всех замешанных было около 50 человек, и во главе их стоял 28-летний чиновник министерства иностранных дел Петрашевский, сын отрешенного от должности петербургского штадт-физика и бывший воспитанник Царскосельского лицея, человек полоумный, уже давно признанный таким между своими товарищами, но, может быть, оттого именно и чрезвычайно дерзкий. Цель замысла была – изменить общественное наше устройство по образцу западных понятий, приготовив сперва к тому умы посредством распространения коммунистических и социальных сочинений, разных разглашений, речей и порицания всего существующего, предметов и лиц.
Всех участников комиссия разделила на три разряда: главных виновников, ближайших к ним и таких, которых можно бы совсем освободить. В целом списке, в противоположность заговору 1825 года, не встречалось ни одного значащего имени, ни одного лица с известностью в каком-нибудь роде (кроме только успевшего приобрести себе некоторую известность своими повестями отставного инженер-поручика Достоевского): учители, мелкие чиновники, молодые люди большею частью маловедомых фамилий.
Покушений или приготовления к бунту в настоящем с достоверностью открыто не было, и все представляло более вид безумия, нежели преступления. Впрочем, заговор имел свои разветвления и в Москве, и даже в Сибири, где скитался отставной подполковник Черносвитов, заподозренный в намерении возмутить Урал, а оттуда распространить мятеж и далее на восток. Действия комиссии продолжались почти пять месяцев, и окончательный доклад ее, подписанный 17 сентября, представлен был без всякого с ее стороны заключения, которого от нее и не требовалось. Члены называли это дело заговором идей, чем и объясняли трудность дальнейших раскрытий: ибо, если можно обнаруживать факты, то как же уличать в мыслях, когда они не осуществились еще никаким проявлением, никаким переходом в действие?
Этим комическим преступникам государь не рассудил сделать чести, явленной злоумышленникам 1825 года, т. е. учредить для постановления приговора о них верховный уголовный суд, а вместо того приказал составить нечто новое – суд смешанный: из трех генерал-адъютантов и трех сенаторов, под председательством генерал-адъютанта же, бывшего оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского. Приговор этой, как она была названа, военно-судной комиссии, поступил в генерал-аудиториат, который, руководствуясь полевым уголовным уложением, приговорил 21 подсудимого к смертной казни.
Все в Петербурге знали, что приговор генерал-аудиториата представлен был государю 19 декабря, и все с печальным, иные, вероятно, и с тревожным любопытством ожидали решения рокового вопроса. Дело не замедлилось. Государь сложил тяготевшее на великом его сердце бремя скорее даже, чем можно было предвидеть. Он не определил ни одной смертной казни и вместо того велел: прочитав подсудимым приговор и совершив над ними все обряды, предшествующие смертной казни, объявить, что его величество дарует им жизнь, и затем подвергнуть их разным другим наказаниям.
Уже 22 декабря появилась о сем, равно как и о всем ходе и обстоятельствах дела, статья в «Русском инвалиде», в форме, впрочем, не манифеста или указа, а простого объявления.
В тот же день приговор был приведен и в действительное исполнение, при многочисленном стечении народа, хотя помянутое объявление и не могло еще везде огласиться. В 8 часов утра преступников вывезли из крепости. Все они были рассажены порознь в извозчичьих возках, и при каждом сидело по рядовому внутренней стражи, а по обе стороны возков и впереди поезда ехали жандармы верхами. На Семеновском плаце, перед самым гласисом, возвышались нарочно устроенная платформа и на ней три столба. Лицевая сторона была оставлена открытою, а с трех других ее окружали по одному батальону лейб-гвардии Егерского и эскадрон лейб-гвардии Конногренадерского полков, т. е. тех, к которым принадлежали заговорщики военного звания.
На плаце находились: командир гвардейской пехоты Сумароков, военный генерал-губернатор, обер-полицеймейстер и оба городских коменданта. Преступников, по прибытии их туда, высадили из возков, провели вдоль всего фронта и поставили на платформу спиною к гласису (валу), после чего прочитан был приговор генерал-аудиториата в первоначальном его виде, т. е. без смягчавшего его высочайшего повеления.
Тут многих из зрителей тронули слезы, покатившиеся по бледному лицу 20-летнего Кашкина (также из воспитанников лицея), имевшего престарелого отца. Священник, выйдя вперед, произнес осужденным последнее увещание и, поставя их на колени, дал каждому приложиться ко кресту. Тогда начались прочие обряды, предшествующие расстрелянию. Палач стал ломать над их головами шпаги, и когда всех одели в белые рубашки с колпаками, комендант повел первых трех с правого фланга – Петрашевского, Момбелли и Спешнева – к столбам, к которым их и привязали.
Петрашевский сорвал с себя колпак, говоря, что не боится смерти и может смотреть ей прямо в глаза. Начальствовавший войсками скомандовал «к заряду», и они приступили к исполнению команды. Вдруг прискакал фельдъегерь, и раздался отбой! Привязанных к столбам отвязали и привели на прежнее место, чтобы всем вместе прочесть царскую сентенцию.
Кашкин и Пальм, в порыве безмерной радости, бросились на колени и стали молиться, последний при громких восклицаниях: «Добрый царь, да здравствует наш царь!»
Петрашевскому, осужденному к ссылке в каторжную работу в рудниках, без срока, тотчас же начали надевать кандалы; но как, по неловкости палача, эта операция замедлялась, то Петрашевский сам заковал себе руки и ноги, испросив позволения обнять сперва Момбелли и Спешнева. Закованного, его посадили в заложенные тройкою сани и в сопровождении жандарма прямо отправили к окончательному месту назначения. Прочих повезли в ордонанс-гауз для отсылки впоследствии.
Из книги Александра Ивановича Герцена «Былое и думы»
В дополнение к печальной летописи того времени следует передать несколько подробностей об А[лександре Ивановиче] Полежаеве.
Полежаев студентом в университете был уже известен своими превосходными стихотворениями. Между прочим написал он юмористическую поэму «Сашка», пародируя «Онегина». В ней, не стесняя себя приличиями, шутливым тоном и очень милыми стихами задел он многое.
Осенью 1826 года Николай, повесив Пестеля, Муравьева и их друзей, праздновал в Москве свою коронацию. Для других эти торжества бывают поводом амнистий и прощений; Николай, отпраздновавши свою апотеозу, снова пошел «разить врагов отечества», как Робеспьер после своего Fête-Dieu[42].
Тайная полиция доставила ему поэму Полежаева…
И вот в одну ночь, часа в три, ректор будит Полежаева, велит одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждет попечитель. Осмотрев, все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, он без всякого объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез.
Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Полежаева в свою карету и тоже везет – но на этот раз уж прямо к государю.
Князь Ливен оставил Полежаева в зале – где дожидались несколько придворных и других высших чиновников, несмотря на то что был шестой час утра, – и пошел во внутренние комнаты. Придворные вообразили себе, что молодой человек чем-нибудь отличился, и тотчас вступили с ним в разговор. Какой-то сенатор предложил ему давать уроки сыну.
Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливеном. Он бросил на взошедшего испытующий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь.
– Ты ли, – спросил он, – сочинил эти стихи?
– Я, – отвечал Полежаев.
– Вот, князь, – продолжал государь, – вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух, – прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.
Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.
– Я не могу, – сказал Полежаев.
– Читай! – закричал высочайший фельдфебель. Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. «Никогда, – говорил он, – я не видывал „Сашку“ так переписанного и на такой славной бумаге». Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса.
– Что скажете? – спросил Николай по окончании чтения. – Я положу предел этому разврату, это все еще следы, последние остатки; я их искореню. Какого он поведения?
Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он сказал:
– Превосходнейшего поведения, ваше величество.
– Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно для примера другим. Хочешь в военную службу?
Полежаев молчал.
– Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?
– Я должен повиноваться, – отвечал Полежаев. Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав: «От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне писать», – поцеловал его в лоб.
Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе, так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это правда.
От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал, его разбудили, он вышел, зевая, и, прочитав бумагу, спросил флигель-адъютанта:
– Это он?
– Он, ваше сиятельство.
– Что же! доброе дело, послужите в военной; я все в военной службе был – видите, дослужился, и вы, может, будете фельдмаршалом…
Эта неуместная, тупая, немецкая шутка была поцелуем Дибича. Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты.
Прошли года три, Полежаев вспомнил слова государя и написал ему письмо. Ответа не было. Через несколько месяцев он написал другое – тоже нет ответа. Уверенный, что его письма не доходят, он бежал, и бежал для того, чтоб лично подать просьбу. Он вел себя неосторожно, виделся в Москве с товарищами, был ими угощаем; разумеется, это не могло остаться в тайне. В Твери его схватили и отправили в полк, как беглого солдата, в цепях, пешком. Военный суд приговорил его прогнать сквозь строй; приговор послали к государю на утверждение.
Полежаев хотел лишить себя жизни перед наказанием. Долго отыскивая в тюрьме какое-нибудь острое орудие, он доверился старому солдату, который его любил. Солдат понял его и оценил его желание. Когда старик узнал, что ответ пришел, он принес ему штык и, отдавая, сказал сквозь слезы:
– Я сам отточил его.
Государь не велел наказывать Полежаева. Тогда-то написал он свое превосходное стихотворение:
Полежаева отправили на Кавказ; там он был произведен за отличие в унтер-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положение сломило его; сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца.
Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его: он пил для того, чтоб забыться. Есть страшное стихотворение его «К сивухе».
Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чахотка разъедала его грудь. В это время я познакомился с ним, около 1833 года. Помаялся он еще года четыре и умер в солдатской больнице.
Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница торгует трупами, она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелеты и проч. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева – он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу.
После его смерти издали его сочинения и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели. Цензура нашла это неприличным, и бедный страдалец представлен в офицерских эполетах – он был произведен в больнице.
Рассказ Герцена фактологически не совсем точен, но безупречен по сути трагедии. Блюститель нравственности Николай Павлович погубил талантливого поэта из-за достаточно безобидной фривольной поэмы.
Итоги царствования
Из статьи поэта и общественного деятеля Михаила Владимировича Юзефовича «Несколько слов об императоре Николае»
Значение и характер Николая Павловича понимаются и оцениваются у нас чрезвычайно односторонне. Пустой наш либерализм, почерпнутый не из жизни, а взятый целиком из неприложимых к нам теорий Запада и привитый к молодым умам не развитием, сообщаемым образовательною силою основательного знания, а общими местами и поверхностными, готовыми выводами легкой, журнальной науки, – этот либерализм видит в деятельности покойного государя один произвол, волю, руководившуюся исключительно интересами самовластия и династического принципа, без всякого отношения к пользам народа. Рассмотрим же добросовестно, так ли это?
Обстоятельства, сопровождавшие восшествие на престол Николая, озарили ему внезапным светом истинное значение пути, по которому повел русскую жизнь Петр Великий. Революционное начало, этот жизненный элемент западной цивилизации, сложившейся из борьбы враждебных стихий, будучи диаметрально противоположно требованиям нашего народного организма, совершенно чуждо историческим условиям его развития и несогласимо с самыми коренными основами нашего духа, приобрело у нас право гражданства, вместе с западными понятиями о политическом праве и историческом прогрессе. Пропитанный этими понятиями образованный класс наш, как слой, оторванный от народа, был прав, со своей точки зрения, ничего не ожидая от жизни, к которой сам не принадлежал, а рассчитывая, даже в законных своих стремлениях, только на результаты насильственных переворотов. Николай сразу это понял и заявил в одном из вступительных своих манифестов, указав в нем на необходимость для нас русских начал в воспитании. Это был первый у нас критический взгляд на реформу Петра Великого, первый шаг к нашему самопознанию и первая причина вражды к императору, при жизни и после его смерти, со стороны тех, для кого солнце светит только на Западе и с Запада.
С минуты восшествия на престол императора Николая началась у нас реакция против петровской реформы и систематическое противодействие западному направлению в просвещении. Но действовал ли Николай как обскурант? Нет. Обскурант не поручил бы министерства просвещения Уварову, не терпел бы его в этом звании более пятнадцати лет, не строил бы новых университетов, не созидал бы новых учебных заведений, не возвышал бы гимназий, не заводил бы сельских школ в государственных имуществах, не учреждал бы ученых обществ, центральных архивов, археографических комиссий, не снаряжал бы учебных экспедиций, не призывал бы к открытию публичных губернских библиотек, не обращал бы такого внимания на ваше центральное книгохранилище, не возвращал бы из ссылки Пушкина. Он не препятствовал и отправлению за границу молодых людей на казенный счет для усовершенствования в науках, чрез что наши университеты оживились многими даровитыми профессорами. Николай сочувствовал просвещению, уважал науку, покровительствовал искусствам, но был врагом той науки, которая обращала кафедры профессоров в трибуны, а аудитории недозревшего юношества в политические клубы.
Благодаря вниманию, которое он обратил на собирание памятников нашей старины, у нас развилась при нем небывалая историческая деятельность; возникли два исторических направления, взаимной борьбе которых мы обязаны нынешним состоянием у нас отечественной науки и, может быть, возможностью для нашей жизни правильного прогресса.
Полное собрание законов и сделанный из него свод проложили необходимый путь нашему будущему законодательству.
Но почувствовать несостоятельность нашего развития еще не значило определить себе самый путь, ему нужный: чувство, не возведенное в положительное сознание самых требований, поставило императора Николая между двух направлений, западноевропейским и русским, без определенного пути между ними. Историческую задачу его времени составляла проблема, которую он заметил, за которую взялся, но положительное разрешение которой не было еще доступно никакой человеческой мудрости. Отсюда неопределенность правительственных целей, сбивчивость стремлений, неудовлетворенность в выборе средств и в общем направлении правительственной воли, противоречия в ее указаниях, излишество в требованиях, ошибки в последствиях, характер борьбы во внутренних отправлениях жизни и, как неизбежная принадлежность всякого переходного времени, страдательное состояние общественного организма.
Но главное совершилось: начался поворот русской жизни к ее собственным источникам.
И, несмотря на страдательное состояние организма, в нем не только не упадали жизненные силы, а напротив, они обновлялись в своих источниках и крепли. Уничтожение Унии[43] возвратило в лоно русской семьи несколько миллионов душ, этих украденных у нее детей, по выражению Хомякова. Пробужденное народное сознание обеспечило отечеству западную его половину. Инвентарные правила, введенные в западном крае и изъявшие крестьян от произвола помещичьей власти, были прологом к совершившейся у нас великой реформе.
Экономическое положение государства до последней войны было при императоре Николае весьма удовлетворительно. Казна была богата, торговля и промышленность развивались, рынки наши изобиловали монетою. При самом начале восточной войны с трудом отыскивались охотники взять золото за кредитные билеты.
Ежели не сочувствие, то уважение к могуществу России давало нашей внешней политике значение первостепенное в Европе. Никто не смел предписывать нам законов. Войны наши до последней были счастливы и приобрели нам обширные области, значительно усовершенствовавшие наши пограничные линии. Вне пределов мы могли благодетельствовать, освободили Сербию, положили в Дунайских княжествах начало не только политической независимости, но и либерального внутреннего устройства.
Наконец, и последняя война, хотя и несчастная и тяжкая, в последствиях своих будет, однако ж, плодотворна: восточный вопрос поднят ею, возведен ею на степень вопроса европейского и, следовательно, мир христианский будет обязан все-таки императору Николаю неотразимым падением в Европе незаконного, ненавистного мусульманского владычества.
Таковы были плоды деятельности императора Николая как царя.
Отчаявшись реализовать петровскую идею превращения государственного аппарата в отлаженный механизм, догадываясь, что он отнюдь не самовластно контролирует свою бюрократию, жившую по особым, ею самой выработанным правилам, Николай всю мощь своей грозной личности обрушил на армию.
Армия была не только любимым детищем императора, но и последней его надеждой доказать себе и миру, что выбранная им система организации жизни – правильная и только несовершенство человеческой натуры мешает ей охватить все стороны бытования страны.
Как военный человек по сути своей – не боевой генерал, а именно военный профессионал мирного времени по преимуществу, – он верил, что суровостью и неуклонным соблюдением обязанностей он создал мощную армейскую машину. При этом забывалось, что армия состоит из живых людей, имеющих душу.
Но и здесь, как и во всех прочих сферах жизни, которые он регулировал железной рукой, он потерпел катастрофическую неудачу.
Что же это была за армия?
Из дневника Льва Николаевича Толстого. 23 ноября 1854 года
16-го я выехал из Севастополя на позицию. В поездке этой я больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть, или совершенно преобразиться. Все идет навыворот… Казаки хотят грабить, но не драться, гусары и уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота в воровстве и наживании денег (Толстой, разумеется, имеет в виду офицеров. – Я. Г.). Грустное положение и войска и государства. Я часа два провел болтая с ранеными французами и англичанами (пленными. – Я. Г.). Каждый солдат горд своим положением и ценит себя, ибо чувствует себя действительно пружиной в войске. Хорошее оружие, искусство действовать им, молодость, общие понятия о политике и искусствах дают ему сознание собственного достоинства. У нас бессмысленные учения о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища убивают внимание, последнюю искру гордости и даже дают им слишком высокое понятие о враге.
При этом русский солдат сражался самоотверженно, и овладение Севастополем стоило союзникам огромных жертв и усилий. А что было бы, если бы армейская жизнь построена была по-иному.
Но образованный военный инженер Николай Павлович, оглушенный собственным величием и уверенный в особости России, законсервировал военное дело на уровне 1815 года.
Из воспоминаний современника
Государь Николай Павлович, предвидя возможность столкновения с Европой, утешал себя мыслью, что развившаяся уже в то время система бессрочных отпускных (то есть солдат, выслуживших свой срок, но подлежащих мобилизации в случае войны. – Я. Г.) даст ему возможность противопоставить врагу свою многочисленную армию. В разговоре с бывшим тогда начальником штаба драгунского корпуса А. Е. Тимашевым, возражая на его замечания, что у нас плохое оружие, государь решительным тоном объявил, что у него численность войск будет такая, что он постоянно будет сильнее врагов, и потому никого не боится.
Русские солдаты были в большинстве своем вооружены ружьями времен наполеоновских войн.
Из дневника Льва Николаевича Толстого. 24 ноября 1854 года
…[В сражении под Инкерманом] неприятель выставил 6000 штуцеров (нарезные ружья. – Я. Г.), только 6000 против 30 тысяч. И мы отступили, потеряв 6000 храбрых.
Из «Воспоминаний неизвестного», опубликованных в «Русской старине» в июле 1894 года
Учить и бить, бить и учить были тогда синонимами. Если говорили: поучи его хорошенько, – это значило: задай ему хорошую трепку. Для «учения» пускали в ход кулаки, ножны, барабанные палки и т. п. Сечение розгами практиковалось сравнительно реже, ибо для этого требовалось более времени и церемоний, тогда как кулак, барабанная палка и т. п. были всегда под руками. Било солдат прежде всего их ближайшее начальство: унтер-офицеры и фельдфебели; били также и офицеры. Капралы и фельдфебели «дрались», так сказать, преемственно, по традиции. Ведь их тоже били несчетное число раз, прежде чем они научились уму-разуму, и вот, когда наступила их очередь учить других, они практиковали над своими подчиненными приемы той же суровой школы, которую прошли сами.
Большинство офицеров того времени тоже бывали биты дома и в школе, а потому били солдат из принципа и по убеждению, что иначе нельзя и что того требует порядок вещей и дисциплина.
Особенно сурово и бессердечно обращались со своими подчиненными унтер-офицеры и фельдфебели, предварительно прошедшие курс ученья в «палочной академии», как тогда называли в армии учебные кантонистские батальоны.
Вдоль выстроенной во фронт роты проходит такой «академист-фельдфебель» и останавливается перед молодым солдатом.
– Ты чего насупился? Сколько раз учить вас, что начальству следует весело смотреть в глаза! – кричит фельдфебель, сопровождая слова свои увесистой пощечиной.
Получив такое внушение, молодой солдат как-то жалостно щурит глаза, но это вовсе не удовлетворяет грозного учителя.
– Веселей смотри! Веселей смотри, тебе говорят, истукан ты этакий! – приказывает фельдфебель, продолжая наносить удары не умеющему «смотреть весело». Поучаемый солдатик таращит глаза на свое сердитое начальство, и губы его складываются в какую-то болезненную гримасу, долженствующую изображать улыбку.
Довольный своим «ученьем» фельдфебель удаляется, а старый ветеран с тремя нашивками на рукаве в утешение своему молодому товарищу и соседу говорит:
– Вот что значит, брат, настоящая служба: бьют и плакать не дают!..
Служака, скажу вам, я был в полку не последний!
Такие сцены были тогда явлением обыденным в наших армейских полках.
Шагистику всю и фрунтовистику как есть поглотил целиком! Бывало, церемониальным маршем перед начальством проходишь, так все до одной жилки в теле почтение ему выражают, а о правильности темпа в шаге, о плавности поворота глаз направо, налево, о бодрости вида – и говорить нечего! Идешь это перед ротой, точно одно туловище с ногами вперед идет, а глаза-то так от генерала и не отрываются! Сам-то все вперед идешь, а лицом-то все на него глядишь. Со стороны посмотреть, истинно думаю, должно было казаться, что голова на пружине! Нет-нет да лицом на затылок перевернется!
А нынче что? Ну кто нынче ухитрится ногу с носком в прямую линию горизонтально так вытянуть, что носок так тебе и выражает, что вот, мол, до последней капли крови готов за царя и Отечество живот положить!
А хоть служакой и был я хорошим (то есть таким, что, без хвастовства сказать, в полку другого такого при мне и не было), а как, бывало, подходит время к инспекторскому смотру, так сердце не на месте.
Оно не то чтобы по хозяйству страшно было: ведь это только на бумаге писалось, что инспектирование, дескать, должно удостоверять, что солдаты всё им от казны положенное получают; солдат почем знает, что ему от казны положено? Да и не дурак солдат, чтобы сознаться, что за недостатком дров в казармах он у соседей забор разорил или что себе в щи целой ротой у огородника несколько гряд капусты или картофеля выкопали; солдат всякий знает, что «доносчику первый кнут», да и то ему ведомо, что грабить и с голода не позволено. К тому же дело и начальству было небезызвестное, что только с дров, да с припасов, да с амуниции полковой командир доход и наверстает, иначе и извернуться с комиссариатом было бы ему нечем.
Нет, насчет экономии можно было быть совершенно покойным: Бог не выдаст, свинья не съест! Попался, правда, раз один полковой командир на крагах – уволили из полка, да уж больно хитрую штуку выдумал.
Вы, молодежь, небось нынче и не знаете, что это и за краги такие были? А это, видите ли, были голенища кожаные, которые надевались сверх брюк, с застежками по бокам. За кожу на них, да на шитье, да и за пуговицы отпускались деньги, которые разумеется, прямо отправлялись командирам в карман, а солдатики знай себе старые краги донашивали: ваксой натрут – за новые идут. Только однажды инспекторский смотр: хвать, хвать! – а на старых-то крагах кожа до того перегорела, что пуговицы не держатся. Только голь хитра на выдумки: соорудили краги из сахарной бумаги, ваксой натерли – словно зеркало блестят! Так бы и сошло. Надобно же случиться беде! Инспектор ли новый попался больно ретивый, измена ли какая случилась, только открылась вся штука! Командиру, разумеется без огласки, велели выйти в отставку, да вслед за тем (спасибо ему, доброму человеку) и самые краги отменили. Хорошо, что отменили, а то, бывало, краги застегивать – пребедовая комиссия.
Так вот, я говорил, по хозяйству инспекторских смотров бояться было нечего: без следствия всякому солдатскому заявлению не поверят же, а следствие зачнется тем, что заявителя-то засадят под часы, да на хлеб, на воду, да аудитор так засудит, что его же, раба Божьего, за ложный донос без выслуги запишут в линейный какой-нибудь батальон, а на дорогу еще всыплют несколько сотен.
Страсть-то не в этом, а в бодром виде солдат да в пригонке на них амуниции. Беда это, бывало, с ремешками, да с репейками, да с помпонами, да со всем иным прочим. Ну куда за всем углядеть! Всякая-то вещь отдельная – пустяк! А за эти вот за самые пустяки хорошо коли только гауптвахтой отделаешься, а не то иной раз и в гарнизон угодишь.
Наш командир уж очень хорошо это понимал, и меня, спасибо ему, по достоинству ценя, многому научил. Одним упрекнуть можно, педант был, все, бывало, твердит: «Что солдату назначено, то ему и отпускай, взыскивай с него должное да и отпускай должное». Насчет взыскания оно верно, а насчет отпуска он ошибался: отпусти солдату, что положено, все он истратит; сколько хочешь не додай, будет на том доволен; отпусти лишнее – тоже ничего не оставит. Такая уж у него солдатская натура.
Да уж нечего говорить – чудак был командир! Другие командиры только думали, как бы смотр с рук сбыть, а он во все время командования нашим полком завел, чтобы каждый раз перед инспекторским смотром репетичка была, смешно сказать, – сам себя инспектировал! Жутко приходилось солдатам выстаивать эти репетички, да и нам, офицерам, соком они доставались – пожалуй, солонее самого смотра приходилось, потому что на смотру инспектирующий генерал обойдет ряды, иной раз для приличия, то есть больше для острастки, придерется к каким-нибудь пустякам, опросит солдатиков: «Всем ли довольны?» – «Всем довольны, ваше превосходительство!» – «Все ли получаете?» – «Все получаем, ваше превосходительство!» Случилось раз – забавник попался инспектор, спросил: «А сахарными пирогами командиры кормят!» – «Кормят, ваше превосходительство!» Потому что солдаты приучены были последнее генеральское слово дружно подхватывать. Пропустит потом церемониальным маршем пройти, да и вся недолга! Ну, разумеется, коли на марше пуговица у солдата отлетит, либо кутасы на киверах в шеренге не в один размер шевелятся, либо какой помпон из общей линии выскочит взад или вперед, опустится ниже или поднимется выше, тогда виноватому известно, что следует ему назначать, да и отделенный, зачастую ротный, а иной раз и батальонный, гауптвахты не минуют. Да ведь это случай, ну а за всяким случаем не угонишься!
А уж на репетичках случаев не бывало: тут все начистоту открывалось. Выведут спозаранку назначенный на репетичку батальон, соберет около себя командир всех офицеров да и станет поодиночке каждого солдатика выкликать да рассматривать – душу всю этим осмотром вытянет! Сперва оружие осмотрит, кивер скинет, и Боже упаси, коли какая в нем лишняя дрянь, трубка что ли, или рожок с табаком, запихана – не терпел он табаку, даже мы его за то раскольником между собой прозвали; а там за ранец примется; да уж в конце концов мундир и брюки осматривать станет; да ведь как осматривал! Пальцы между пуговиц пропихивает, между зобом и воротом сует, иной раз велит расстегнуться да показать, не грязна ли рубашка, и во все это время для нашей науки причитывает, что солдат должен заботиться о чистоте, что царем данное оружие лелеять следует, что военному человеку отнюдь не нужно приставать к таким привычкам, которым на походе удовлетворять нельзя, что он должен приучаться и к холоду, и к голоду, и к лишениям, и к терпению; и все это приговаривает не торопясь, тихо, с расстановками.
А мы-то стоим, бывало, около него да слушаем, да не дождемся: скоро ли кончит он вычитывать свои рацеи да нас портняжному искусству научать, да отпустит нас водочки выпить и чем Бог послал закусить.
Впрочем, нам-то еще с полгоря, а жалко, бывало, солдатиков. Еще хорошо коли скомандует: «Ружья к ноге! Стоять вольно»; но иной раз забудет, что ли, а не то, пожалуй, и не без умысла начнет он свой осмотр после команды «на плечо» да не скомандует «к ноге», так и выстаивай – сердечные солдатики – неподвижно, вытянувшись в струнку, с ружьями под приклад, часа два, не то три, а забывшись и больше, пока не отпустят наши души на покаяние!
Век буду жить, а ввек не забуду, что на одной такой репетичке смотра случилось. Скомандовал командир «к ноге» да и начал осмотр: смотрит час, смотрит другой, вдруг слышит (а командир страшно на ухо чуток был): в задней шеренге вздохнул солдатик очень глубоко да вполголоса, должно быть, в забытьи проговорил очень жалобно: «Ох! Ох! Ох!» Повернулся командир. «Кто там вздохнул? – говорит. – Выходи!» Вышел солдатик. «Что, – спрашивает тихим голосом, – устал, братец?» А тот сдуру-то и брякнул: «Виноват, ваше превосходительство, – устал!» «Отчего же ты, – возразил командир, – устал? А я, – говорит, – твой полковой командир, да и все эти (на нас показывает) господа офицеры, твои командиры, не устали? Ты, – говорит, – в полной форме, и мы также в полной форме, да и я, да и они все в полной форме (про ружье да про ранец не упомянул). Ведь и наше, – говорит, – дело не легкое: ты вот за себя одного отвечаешь, а мы за вас за всех перед царем да перед отечеством отвечаем. Ты, – говорит, – знаешь ли долг свой? Отвечай – знаешь ли?» Ну где же солдату отвечать? Известное дело, отвечает: «Виноват, ваше превосходительство!» – «Я знаю, что виноват; но в чем виноват? Вот я тебе растолкую, в чем ты виноват»… И пошел толковать ему (понимается, больше нам, офицерам, в урок), что долг воина – повиновение, лишение, терпение и все в этом тоне. Кончилось, разумеется, наказанием, да наказание-то уж больно, видно, жестоко было: как наказали солдатика, так в лазарет полковой снесли; полежал он там много времени ничком, и как его ни лечили, а пришлось за неспособностью службы выписать. Ходил у нас в полку слух, что командир сам не раз к нему в лазарет захаживал, а как на родину отпустили, так и пенсию ему по самую смерть определил. Кто тому верил, кто не верил, а иные говорили, что высшее начальство с тем уговором только командиру и взыскания никакого за наказание не сделало. Да кто его знает, он и сам такой чудной был: может быть, просто от себя наградил за то, что солдатик не мог больше службу продолжать. А впрочем, и то – правду надобно сказать – солдатик-то сам по себе ледащий был!
С тех пор в нашем полку никакого баловства в строю больше не было: хоть сутки простоит солдат с оружием, под приклад ли, к ноге ли, а уж не охнет! Да что и говорить – не случись турецкой кампании и оставайся бы у нас прежний командир, первым бы в войске полком по выправке был. Ну а об войне, известное дело, тем, кто умнее меня, сказано, что «война солдат портит».
Людям трезвым, честным и настроенным истинно патриотически задолго до Крымской войны была ясна неизбежность катастрофы.
В апреле 1841 года Николай Павлович получил записку о состоянии государства, написанную действительным статским советником Николаем Ивановичем Кутузовым. Кутузов служил некогда в гвардии под началом великого князя Николая, был членом декабристского Союза благоденствия, был арестован после 14 декабря, но по личному распоряжению молодого императора освобожден с «оправдательным аттестатом». Он сделал недурную статскую карьеру. Служил во II отделении Собственной его императорского величества канцелярии, занимавшейся совершенствованием юридической системы государства. Одним из его руководителей был Сперанский.
В 1841 году Кутузов числился старшим чиновником II отделения.
Из записки Николая Ивановича Кутузова, адресованной императору. 2 апреля 1841 года
Собирайте сокровища на небеси,
иде же ни тля тлит и татие не крадут[44]
При проезде моем по трем губерниям, по большим и проселочным трактам, в самое лучшее время года, при уборке сена и хлеба, не было слышно ни одного голоса радости, не видно ни одного движения, доказывающего довольствие народное. Напротив, печать уныния и скорби отражается на всех лицах, проглядывает во всех чувствах и действиях. Помня тридцать лет тому назад, что это время года было торжество селянина, дни его радости, оглашаемой от зари утренней до зари вечерней песнями, – эта печать уныния была для меня поразительна, тем более что благословение Божье лежало на полях губерний, мною проеханных (Новгородской, Псковской и части Тверской); на них красовались богатые жатвы, обещавшие вознаградить труды землевладельца более, чем обыкновенно вознаграждает их северное небо нашей родины. Отпечаток этих чувств скорби так близок всем классам, следы бедности общественной так явны, неправда и угнетение везде и во всем так наглы и губительны для государства, что невольно рождается вопрос: неужели все это не доходит до престола Вашего императорского величества? Вы не знаете причин бедствий народных, всемилостивейший государь: иначе скорбь бы его обратилась в радость, бедность в избыток, неправда и угнетение в суд правый и в защиту слабого от сильного. По чувству преданности на пользу государства я поставляю для себя священной обязанностью представить краткую, но верную картину общественных бедствий, открыть то зло, которое тяготеет над землей Русской и которое грозит разрушением всех начал государственного благоустройства. Но прежде рассмотрим, каким образом монарх может в точности узнавать истину и настоящее положение дел.
В монархическом правлении государь трояким образом может узнать истину и состояние своего народа: 1) Мешаясь тайно и явно среди самого народа, лично прислушиваясь к его голосу и нуждам и допуская к себе всякого. Так делали Петр Великий, Гарун аль-Рашид и последний турецкий султан Махмуд. 2) Дозволяя приближаться к себе всякому в определенном месте, приглашая к себе иногда людей, находящихся вне сферы придворной. Так делали Екатерина Великая и покойный император австрийский Франц. 3) Дозволяя писать к себе каждому и читая подобные письма, а в случае поразительной несправедливости рассматривая дела и подвергая строгому наказанию виновных. Так делали Петр Великий, Павел I и покойный прусский король, который всякий день посвящал несколько часов на прочтение подобных писем и оставил по себе память отца и благодетеля народного.
Покойный император Александр I, возложа управление гражданскими делами на графа Аракчеева, воспретил всякий к себе доступ: зло росло медленно, но постоянно и обнаружилось взрывом 14 декабря. У престола Вашего императорского величества нет ни одного избранного, но зато несколько человек, окружающих Вас, составили ограду, чрез которую никакие злоупотребления Вам не видны и голос угнетения и страданий Вашего народа не слышен. Скорее можно достичь до престола Царя Небесного, чем до престола царя земного, так говорит народ Ваш, и говорит истину. Именем Вашего величества воспрещено приближаться к Вам и подавать прошения во всех пределах империи. Я не верю, чтобы Вы знали об этом запрещении: это остаток повелений предшествовавшего правления, остаток, которого последнее действие было разыграно на Сенатской площади. Это воспрещение в буквальном смысле значит: сильный делай что хочешь, а слабый не смей на него жаловаться; и к кому обратиться угнетенному? К министрам? Но они всегда отвечают, что не мое дело, и, составляя между собою союз наступательных и оборонительных действий, не выдадут один другого. К комиссии прошений? Но она по многим предметам не может входить в рассмотрение, а по которым должна, не хочет, боясь борьбы с сильными. Она всегда плыла по ветру и держалась того берега, который греет солнце и изобилен земными благами: ей тепло и сытно, а народу и холодно и голодно. […]
Итак, положа руку на сердце, я приступаю к обозрению причин общественных бедствий. Для ясности положения разделяем по ведомствам, имеющим ближайшее влияние на судьбу империи.
При учреждении сего министерства Вы мыслили улучшить благосостояние казенных крестьян, но с самого его учреждения оно приняло характер разорения, и положение крестьян не только не улучшилось, но бедность их достигла высочайшей степени, и не от неурожаев, на которые слагают вину, но от самого устройства министерства и от его действий. Государь! Участь этих миллионов несчастных, участь детей Ваших, за весь кровавый труд не имеющих куска хлеба, но все-таки обожающих Вас, заслуживает Вашего воззрения. Сердце обливается кровью, смотря на эту толпу несчастных, год от года приходящих в худшее состояние.
Устройство министерства. Из одного департамента Министерства финансов вдруг выросло три департамента, несколько канцелярий, полсотни палат, сотни окружных управлений, так что вместо ста двадцати прежних управлений явилось более 1500. Подобное умножение чиновников во всяком государстве было бы вредно, но в России оно губило и губит империю. […]
Теперь стремятся не к пропитанию, но к обогащению, что губит Россию в настоящее время. Этому доказательство – бедственное состояние государства, происходящее от недостатка административного устройства, производящего множество чиновников, желающих обогащения, а от сего нет правды в суде, нет истины в делах – одна корысть и угнетение. У нас каждый министр для доказательств важности своего управления старается об учреждении множества департаментов, комиссий и канцелярий, наполненных множеством чиновников, не понимая, что это доказывает его незнание дела и что от этого управление идет гораздо хуже по весьма простой истине, устройством мира нам указанной: чем более предметов окружает движущееся тело, тем движение его медленнее и неправильнее. От этого множества мест рождается и другое зло для успешного хода дел: бесконечная переписка (с учреждения Министерства государственных имуществ открылись три бумажные фабрики), отчего теряется внимание к самому существу дела, которое уже становится посторонним предметом, а очистка бумаг – главным, дабы для блеска отчетов можно было сказать: поступило несколько десятков тысяч, все решены, а как решены, это известно одному только Богу, ибо Он только один видит слезы и слышит вздохи несчастных.
Действия министерства. Первым действием министерства было описать, что подлежит его ведомству. Это прекрасно, но ежели это считали необходимым, то должно было о причине такой меры опубликовать установленным порядком. Казенные крестьяне, не зная предварительно цели и намерений правительства, думали, что у них отберут их имущество; владельческие крестьяне, напротив, по внушению злонамеренных людей, видели в этом желание правительства избавить их от власти помещиков, это столкновение ошибки со стороны властей и ложного понятия крестьян произвело пожары и убийства. Виновато начальство, а расстреливали людей, им вовлеченных в преступления. Вторым действием министерства было взыскание недоимок. Местные начальства, желая показать выслугу перед высшими властями, продавали все имущество крестьян и этой мудрою мерой привели их к разорению: нет скота, нет хлеба, бедность сделалась всеобщей и, может быть, надолго. Еще лучше при взыскании податей многие употребляют систему, бывшую в Турции (и там, как разорительную, брошенную): в селении зажиточный крестьянин платит подати за бедных, имея право сам взыскивать с них им заплаченное; отчего все стали равные: все нищие, и ежели есть богатые, то их очень немного и это богатство – последняя кровь, высосанная у несчастных.
Огромность министерства требует огромных издержек, почему на расходы местных управлений сбирается по два и более рубля с души. Этот налог и при хорошем состоянии крестьян был бы тягостен, а теперь до невероятности обременителен. Надо знать, что наш крестьянин, едва имея насущный хлеб, платит государству более даже английского фермера, которого благосостояние до крайности развито и защищено законами. У нас один платит за троих и более умерших, малолетних и поступивших в рекруты, сверх сего несет отяготительные повинности: подводную, постойную и рекрутскую; следовательно, всякое увеличение налогов, прямых и даже косвенных, есть источник конечного разорения. Ко всему этому должно повторить слова именного… указа (манифеста императрицы Екатерины I от 24 февраля 1727 г. – Я. Г.): «Управляющие пропитания своего хотят», – и тогда откроется настоящая картина состояния крестьян.
С некоторого времени, особенно по Министерству государственных имуществ, учредилась законодательная фабрика: беспрестанно публикуются новые положения, уставы и проекты – огромные по объему, а малые по существу своему. Истин в законодательстве немного, и они постояннее человеческой мудрости. Законы можно исправлять и дополнять сообразно с потребностью и новыми случаями, возникающими в жизни народной, а не уничтожать все предшествовавшее, дабы постановлять новое, несообразное ни с местными нуждами, ни с началами государственного благоустройства. Этих великих преобразователей можно сравнить с хозяином, который вырывает столетние дубы, дающие тень и прохладу, дабы садить репейник. Чем надежнее законодательство, тем тверже и непоколебимее форма государственного правления – истина, доказанная веками, ибо чего должно ожидать от непостоянной человеческой природы, когда и законы, этот святой глагол монаршей воли, выражение его благости к народу, сделаются игрой прихоти, целью корысти и мишурным покровом грязных дел? Удивительно, что Государственный совет не останавливает этого татарского нашествия на наше законодательство!
Пути сообщения, особенно водяные, год от года приходят в худшее положение и при малейшей засухе грозят Петербургу голодом. Это препятствует быстрому ходу внутренней промышленности и развитию народного богатства. Главная тому причина также во множестве чиновников, которые также, по выражению Екатерины I, хотят своего пропитания и обогащения. Вообще этот род службы считается самым выгодным в государстве. Полезнее было бы уменьшить число чиновников, чем взимать шоссейный сбор с крестьян; и какая справедливость? Крестьяне и мещане платят по 25 копеек с души в год на поддержку дорог, и с них же еще собирают деньги за то, что они ездят по этим дорогам! На крестьянине же лежит повинность исправлять дороги, не поступившие в ведомство путей сообщения. Эта повинность не была бы так тягостна, как ныне, ежели бы производилась под руководством людей сведущих. Тогда бы не нужно было в самую рабочую пору делать поголовные сборы, как бывает при проезде Вашего императорского величества, чему я был свидетелем прошедшего года в Псковской губернии. Ныне же при исправлении крестьянами дорог наблюдают одни светила небесные или люди ничего не понимающие в сем предмете, отчего всякий год их чинят. Но они остаются в прежнем дурном положении; особенно мосты через глубокие и быстрые реки стоят обывателям тяжких трудов и больших издержек, но всякий год разрушаются весеннею водой, и даже летом переправа через них трудна и опасна, ибо для прочного их сооружения потребны и наука, и большие капиталы. Все это, вместе взятое, разрушает благосостояние народное.
[…] В начале царствования Вашего величества главное управление всеми отраслями военного ведомства сосредоточивалось в лице начальника Главного штаба, под ним управление строевой частью лежало на дежурном генерале, а хозяйственной – на военном министре. Следовательно, та и другая части имели надзор, и ежели хозяйственная занималась иногда хозяйством своего кармана, к вреду казенного интереса, то это была более случайность, происходящая от недостатка устройства и содержания чиновников, и производилась втайне с величайшей осторожностью, без публичного соблазна, следовательно, не имела влияния на нравственность государства.
Еще в 1836 году, при издании наказа военному министру, я представлял о сем гибельном направлении законодательства, но это, по выражению Св. Писания, был голос в пустыне. Между тем благосостояние народа год от года падает, поелику это быстрое обогащение лиц в деле управления поразило антоновым огнем все нервы, движущие состав государственный, и ниспровергло остатки нравственности в правлении, а где нет нравственности, в быту ли государственном, в быту ли семейном, там нет счастья. Государь! Есть нравственное чувство, которое ведет войско к победам, так точно есть нравственное в гражданском управлении, которое устраивает, оживляет и делает счастливым государства. Что же это нравственное гражданского управления? Самозабвение, самоотвержение подданных к пользам государства и славе государя. Но примеры яснее нам покажут это. […] Петр Великий подписал указ, отяготительный для народа; Долгорукий, не находя средств остановить зло, от сего произойти могущее, раздирает его и на вопрос разгневанного государя отвечает: «Это понудила меня сделать ревность к твоей славе и благу твоего народа; не гневайся, Петр Алексеевич, я знаю, что ты не хочешь разорения своей земли». Петр уважил представление Долгорукого, отменил указ. Вот черты добродетели гражданской, черты, непонятные и не понимаемые настоящим временем, черты, доказывающие величие царя и подданных, достойных этого величия.
Теперь должно обратиться к самому войску, на которое обращено все внимание правительства. Оно блестяще, но это наружный блеск, тогда как в существе своем оно носит семена разрушения нравственной и физической силы. Разрушение нравственной силы состоит в потере уважения нижних чинов к своим начальствам; без этого же уважения – войска не существует. Эта потеря произошла от предосудительного обращения главных начальников с подчиненными им офицерами и генералами: перед фронтом и при других сборах нижних чинов их бранят, стыдят и поносят. От этого произошло то, что, с одной стороны, те только офицеры служат и терпят это обращение, которые или не имеют куска хлеба, или незнакомы с чувством чести; с другой – что нижние чины потеряли к ним уважение, и это достигло такой степени, что рядовой дает пощечину своему ротному командиру! Это не бывало с учреждения русской армии; были примеры, что убивали своих начальников, но это ожесточение, а не презрение. Разрушение физических сил армии заключается в способе ее обучения и в бессрочных отпусках. Мы видим, что четвертая часть армии исчезает ежегодно от необыкновенной смертности и от неспособности к службе, от болезней происходящей; бессрочные отпуска довершают ее опустошение. Эти причины так важны и так тесно связаны с благосостоянием государства, что требуют подробного рассмотрения.
Причины смертности и неспособности. (Из отчета действующей армии за 1835 г. видно, что по спискам состояло 231 099 чел., заболело 173 892 чел., следовательно, почти вся армия была в госпиталях, умерло 11 023, то есть каждый двадцатый человек. Зная по опыту, что неспособных бывает одна четвертая часть против умерших, выходит, что с лишком 15 тыс. выбывает. Это в армии – но что же в гвардии, где обучение производится с напряжением всех сил! Суворов говорил: «У некоторых заболевает 1 на 100 в месяц, а у нас и на 500 менее; солдата, который два раза был в больнице, на третий тащит к себе домовище (гроб)!» Суворову можно верить.
Изумительное различие: тогда на 500 чел. здоровых был один больной; ныне на 500 чел. больных один здоровый.)
Это происходит потому, что: 1) рекрут, тотчас по приводе в полки, подвергают всем тягостям обучения, отчего между ними рождается болезнь, известная под именем тоски по отчизне, болезнь неизлечимая, ибо, истощая душевные силы, уничтожает силы физические; 2) принята метода обучения, гибельная для жизни человеческой. Солдаты тянут вверх и вниз в одно время: вверх для какой-то фигурной стойки, вниз для вытяжки ног и носков. Солдат должен медленно, с напряжением всех мускулов и нервов вытянуть ногу вполовину человеческого роста и потом быстро опустить ее, подавшись на нее всем телом; от этого вся внутренность, растянутая и беспрестанно потрясаемая, производит чахотки и воспалительные болезни (по отчету армии 1835 г. видно, что из 173 892 чел. больных было одержимо воспалительными и изнурительными болезнями 130 тыс. чел.), так что часто по-видимому ничтожная болезнь превращается в смертельную, потому что при повреждении внутреннего организма природа не может сопротивляться и малейшему на нее нападению.
К этому, можно сказать, гибельному обучению присоединилась мысль пересоздать человека: требуют, чтобы солдат шагал в ½ аршина, когда Бог создал ему ноги шагать в аршин! Следовательно, к растяжению внутренностей присоединилось растяжение связок ножных. От этого войско не в состоянии будет делать тех изумительных переходов, которые делали солдаты времен суворовских, никогда не имея отставших. Суворов говорил: «Солдата шаг аршин, при захождении 1,5 аршина». Следствие ныне принятой методы обучения можно видеть весной на площадях: солдат после всех вытяжек и растяжек, повторяемых несколько раз в день, по 2 часа на прием, идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь! Присоединяя к этому дурное лечение и содержание солдат в госпиталях (из отчета армии за 1837 г. видно, что в госпиталях умирает 15-й человек, а в лазаретах – 28-й), надо удивляться, что не половина войска ежегодно уничтожается. Люди тысячами гибнут без ропота, но и без славы, а народ беспрестанно истощается рекрутскими наборами, повинностью самой тягостной и разорительной: она, выбирая из семейств лучших людей, приводит в бедность и семейства, и государство, теряющее производительные силы без пользы и славы для себя. И для чего эта огромная армия, когда она исчезает от болезней, когда она, можно сказать, сделает благосостояние государства, без славы и пользы для империи? Огромность армии есть выражение не силы, но бессилия государства, которого крепость и могущество заключаются в духе народном, в его преданности и любви к правительству. Эта истина доказана веками, она подтверждена и борьбой Испании с Наполеоном, и нашим славным 1812 годом. В настоящем же положении финансов в России эта громада войск имеет гибельное последствие: она, истощая источники жизни общественной, препятствует всякому улучшению.
Бессрочные отпуски. Ежели спросят: какое учреждение в России имеет более революционных начал, – можно без обиняков сказать: бессрочные отпуски в том виде, в каком они существуют у нас. Бессрочные отпуски должно рассматривать трояко: как гражданское и политическое учреждение и как материальный состав армии. В гражданском отношении они усугубляют бедность народную, ибо селения, к которым принадлежат бессрочные, обязаны платить за них повинности и еще кормить этих трутней. Окружающие Ваше императорское величество, желая не пользы государственной, не прочной, истинной славы Вашей, славы, основанной на настоящем и будущем благе народа, но сохранения своих ничтожных выгод, средства своего пресыщения, представляют все или в превратном, или в утешительном виде, почему говорят и даже печатают о каком-то поселении бессрочноотпускных; но, видя своими глазами, я могу сказать, что они бродят по земле Русской, как бедуины по степям Азии. Летом, в самую рабочую пору, когда каждый из поселян занят тяжкими трудами, на больших трактах, на проселочных дорогах встречаешь одних бессрочноотпускных, они переходят из села в село, где храмовые праздники и трехдневное пьянство. Не только не видать поселившихся, но на вопрос мой крестьянам: почему они не приучают их к работам? – я получил в ответ: «Бог весть что они за люди, и отцы-то родные выгоняют их из дома; работать не хотят, говоря – мы, дескать, служивые, нам стыдно возиться с сохой, – а где кормить их, когда и для своих ребятишек нет хлеба!» Не спорю, есть и поселившиеся, но, думаю, едва ли и пять тысяч человек на сто пятьдесят тысяч – что ж это такое? Едва заметная капля в море.
Обращаясь к разрешению вопроса политического, надо сознаться, что в будущем бессрочноотпускные будут причиной важных беспорядков и потрясений государственных. Человека, не привязанного к обществу ни собственностью, ни семейными связями, бродящего без труда и цели, легко увлечь к беспорядку. Наш век отличается гибельным стремлением к ниспровержению самых святых истин; следовательно, издавая постановления, необходимо соображать с сим направлением века и по возможности ему противоборствовать. Законы переживают нас, и только те из них превосходны, которые, принося пользу настоящему поколению, не будут причиной несчастий поколений будущих. Внуки должны питаться и покоиться от насаждений дедов. Но какую горестную будущность представляет для нас эта огромная масса людей праздных, умеющих владеть оружием, и увлеченная каким-нибудь Кромвелем к разрушению существующего порядка!
Государь! Именем Вашей славы, именем блага России, которые основаны на прочности престола, молю Вас изменить настоящий порядок по сему предмету! Стоит только немного подумать и для государственной пользы пожертвовать самолюбием, чтобы из этого вредного порядка составить прочное и благотворное учреждение, чтобы дать империи через 30 лет более миллиона войска, которого бы содержание в мирное время ничего не стоило, но которое, развивая производительные силы, увеличило бы общественное благосостояние.
Теперь рассмотрим, увеличивают ли бессрочные отпуски материальную силу армии? Напротив, они, увеличивая численность, в той же соразмерности уменьшают материальность, которая составляет последнюю ступень нравственного войска, того нравственного, которое с материальными средствами творит великие дела (пример – Румянцев и Суворов), без этого же нравственного огромные силы исчезают, не производя и малых дел. Что же может принести человек, несколько лет живший на свободе и в праздности, туда, где требуется и тяжкий труд, и важные лишения, и беспрекословное повиновение? Чувство, разрушительное для армии: заразу лени, ропота и неповиновения! Недостаточно отпусков после 15– и 20-летней службы, предполагается ввести и после 10-летней; но это еще более послужит к уничтожению физических сил армии и к ее расстройству, ибо при требовании наружного блеска в войске должно будет еще более усилить его обучение (которое, как выше доказано, истребляет ¼ часть армии); тогда еще более увеличится смертность и неспособность к службе, следовательно, увеличатся рекрутские наборы, и так уже до крайности истощившие государство. Самые полки поставляются этим в затруднительное положение, поелику, лишаясь беспрестанно мастеровых, они не в состоянии будут содержать себя в должном устройстве.
Говоря о вредных для государства административных действиях, необходимо бросить беглый взгляд на попечительство начальства о потребностях жизни народной. В прошедшем [1840], некоторые губернии поражены были голодом. Бедствие было ужасное! Но разве голод вдруг упал с неба? Нет, еще в ноябре месяце 1839 года в них (в губерниях) ели желуди, не было ни всходов на полях, ни хлеба, ни овощей, голод представлялся везде и во всем, а в Петербурге узнали об этом в мае 1840 г., когда целые селения заражены были повальными болезнями, когда уже тысячи умирали в мучениях, когда младенцы умирали у грудей матерей, находя в них не жизнь, а заразу смерти! Причина столь предосудительной невнимательности заключается в вышесказанной истине, что все внимание главных (начальников) обращено на очистку бумаг для представления в отчетах блестящей деятельности, когда сущность управления в самом жалком положении.
Но это губернии отдаленные, о них только слышно, а не видно. Конечно, в столице более попечительства о бедном классе народа?! Два примера докажут это попечительство. Ныне, в сентябре месяце, я сам покупал лучшую говядину по 17 копеек за фунт, а при мне же с бедного взяли по 20 копеек за самую худшую, потому что он брал только ½ фунта, по лицу и одежде его можно было видеть, что он платил последние деньги, может быть не имея более и копейки, чтобы купить соли. Следовательно, вся тягость падает на бедный класс народа; купец прав: он брал с бедного тремя копейками более, потому что такса была в 22 с половиной копейки за фунт, а виновато начальство. После уничтожения лажа на серебро Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор [граф П. К. Эссен], созвав содержателей торговых бань, спросил их: «Почем вы будете брать за бани, за которые брали по 40 копеек асс[игнациями] с человека?» Хозяева лучших бань отвечали: «Мы брали по гривеннику серебром на старый курс, по гривеннику же будем брать по новому курсу». Тогда, вместо одобрения, он отвечал: «Теперь все дорого, можно брать по 15 копеек серебром (то есть по 52 копейки на медь), только не прибавляйте цены на солдат». Отчего же такое попечительство о пользах банщиков? У его зятя [графа Стенбок-Фермора] были две торговые бани. Лучше бы обратить внимание на то, что бедный народ мрет тысячами, не имея пристанища и помощи в болезни, ибо на 500 тысяч жителей столицы только 1300 кроватей в мужских больницах. Это безделицы, но они, доказывая попечительство начальства, прямо касаются благосостояния низшего класса народа – безделицы, которыми не пренебрегали ни Петр Великий, ни Екатерина. Петр лично наблюдал за составлением цен на съестные припасы, обращал внимание на мануфактурные произведения и препятствовал повышению на них цены… Екатерина II, усмотрев из ежедневно представляемых ей сведений, что по случаю неурожая в южных губерниях хлеб стал дороже рублем на куль, объявила градоначальнику, что не допустит его к себе, пока мука не будет в прежней цене, изволив сказать, что неурожай настоящего года не может иметь влияния на цены муки, заготовленной в прошедшем году. На другой же день цена на муку понизилась. В другой раз императрица, получая подобные донесения и во время путешествия своего по России, бывши в Крыму, изволила увидеть, что говядина стала дороже копейкой на фунт, признав это за злоупотребление, она приказала исследовать тому причину. Действительно, открылось, что один из главных торговцев скотом скупил все гурты и повысил цену.
Вот причины, которые довели государство до настоящего положения, причины, которые сокрыты от Вашего величества. Но почему же они сокрыты, когда, говорят, у нас есть тайная полиция? Но это только говорят. У нас корпус жандармов, а не тайная полиция, которая должна все видеть и слышать, а сама быть невидима и неслышима. Это учреждение так тесно связано с благом империи, что требует более подробного рассмотрения.
При учреждении корпуса жандармов взяли в пример подобное учреждение во Франции, забыв сообразить, что там жандармы есть подобие нашей внутренней стражи и что там есть высшая тайная полиция, по указанию которой действуют и жандармы. Напротив, у нас это лучшее учреждение Франции вывернули наизнанку: агенты тайной полиции подчинены жандармам и потому, как обязанные иметь с ними сношения, сделались явны. Сверх сего, у нас всякий, сочиняя для своего ведомства наставления, старается захватить как можно более власти, не понимая, что этим, разрушая общую гармонию государственного управления, причиняет вред и своей части. Так произошло и с корпусом жандармов: он кроме характера политического (которого, впрочем, по явности своей, иметь не может) вмешивается в дела гражданские и даже семейные. Это-то вмешательство усилило еще более неправду и злоупотребления, поелику жандармы те же люди, с теми же пороками, страстями и слабостями, как и все живущие под луной, потому-то умели овладеть ими, и красотой женской, и приманкой обогащения, умели опутать их акциями, товариществами и разными спекуляциями. Государь! В мире ничего нет нового, только разве то ново, что забыли, а, к несчастью, люди, которым вверяется составление узаконений, не знают ни этой истины, ни России, ни того, что делалось на земле Русской. У нас было подобное учреждение. Петр Великий, устанавливая фискалов, думал остановить неправосудие и похищение казенной собственности, но вышло напротив: они, как сказано в представлении об их уничтожении, соединились с бессовестными людьми и неправыми судьями и увеличили зло до безмерности. По вредному направлению нашего века, тайная полиция необходима, но, повторяю, тайная, во всей силе этого слова, почему всякое отличие в одежде, всякое вмешательство в дела управления противоречит ее назначению. В доказательство сего еще присовокуплю: во время суда над бунтовщиками-поляками богатейшие и, может быть, более виновные имели все средства к оправданию, почему же жандармы не знали об этом? Если же знали, почему не доносили Вашему величеству? Люди не ангелы, поэтому-то и постановления должны согласовываться с природой первых, а не с свойствами последних. Необходимо заметить, что в высшем управлении тайной полиции заметно вредное влияние поляков. Для чего возвращать и водворять на места жительства тех из польских дворян, которые принимали участие в бунте? Для того разве, чтоб они были живым примером ненаказанности и зародышем будущих мятежей! Для блага империи надо стараться постепенно переселить все польские фамилии в коренную Россию, а не возвращать тех, кои против ее целости восставали. У престола Вашего возвышается Туркул; не знаю его, не отвергаю его достоинств, но да не коснется это возвышение ни дел империи, ни уставов, издаваемых для России, ибо это участие может внести революционные начала. Преданность поляка России подобна преданности волка, вскормленного рукой человека. Великая Екатерина справедливо о них (и о балтийских немцах) сказала: «Как ни корми, а все в лесть глядят!» Тактику поляков постичь нетрудно: они, видя невозможность силой приобрести независимость, будут стараться, под личиной преданности, внести в законы империи начала разрушительные, в том предположении, что бедствие России даст им средства восстановить их независимость.
К причинам государственного расстройства должно присовокупить и следующие:
…Безмерность наград. В монархическом правлении награды составляют рычаг, которым направляется воля людей к цели государственного благоустройства. Напротив, у нас награды потеряли всю цену: чины и ордена сыплются в безмерном количестве, без разбору, и всего более на людей ничтожных, на ласкателей и угодников слабостей сильных людей, отчего (ордена) совершенно утратили уважение, перестали быть двигателями честолюбия. Государь, отличая людей по представлению и одобрению приближенных, неминуемо впадет в ошибку, поелику каждый будет стараться окружить престол своими любимцами. […]
Из дневника Александра Васильевича Никитенко. 2 апреля 1847 года
Напрасно мы жалуемся на бессодержательность нашей общественной жизни. У нас есть свои общественные события и вопросы; у нас умы тоже напрягаются в суждениях о важных задачах. Вот, например, теперь весь город занят толками о казенных воровствах. Наши администраторы подняли страшное воровство по России. Высшая власть стала их унимать, а они, движимые духом оппозиции, заворовали еще сильнее. Комедия да и только… Огромную сумму своровали начальники (генералы и полковники) резервного корпуса. Они должны были препроводить к князю Воронцову (на Кавказ. – Я. Г.) семнадцать тысяч рекрут и препроводили их без одежды и хлеба, нагих и голодных, так что только меньшая частью их пришла на место назначения, остальные же перемерли.
Сороковые годы, которые представляются апогеем мощи николаевской державы, на самом деле были временем тяжким.
Историк А. С. Нифонтов в исследовании «Россия в 1828 году» на основании комплекса официальных свидетельств нарисовал довольно устрашающую картину. В Поволжье, по всему Черноземью, на Украине и Приуралье не уродились хлеба из-за засухи. Свирепствовала саранча. Горели города – выгорели Пенза, Херсон, Орел, Саратов, Казань. Сгорело по России до 70 тысяч крестьянских изб. По стране шествовала холера. Из заболевших 1700 тысяч человек умерло 700 тысяч.
Все, о чем писали Кутузов, Никитенко, о чем свидетельствовали документы, через сто лет поднятые Нифонтовым, Николай Павлович знал.
Из письма Николая I фельдмаршалу Ивану Федоровичу Паскевичу. 1840 год
С возвращения моего сюда мне не было свободного времени отвечать тебе, мой любезный отец-командир, на два письма; одно полученное мною на пароходе при самом отплытии из Киля; другое здесь, вскоре по приезде. Я нашел здесь столько тяжелого, грустного дела, что, при без того довольно мрачном расположении моего духа, с трудом мог заниматься и кончить все, что на меня навалили. Теперь, слава Богу, дела пришли в обыкновенное правильное течение, и мне несколько полегче. К несчастию, я нашел здесь мало утешительного, хотя много и было преувеличено. Четыре губернии точно в крайней нужде; это Тульская, Калужская, Рязанская и Тамбовская; озимой хлеб и четвертой доли не воротит семян; к счастию, что яровые хороши.
Требования помощи непомерные; в две губернии требуют 28 миллионов; где их взять? Всего страшнее, что ежели озимые поля не будут засеяны, то в будущем году будет уже решительный голод; навряд ли успеем закупить и доставить вовремя. Вот моя теперешняя главная забота. Делаем, что можем; на место послан г. Строганов, распоряжаться с полною властью. Петербург тоже может быть в нужде, ежели из-за границы хлеба не подвезут. Чтоб облегчить потребность казенного хлеба сюда и не требовать всего количества с низовых губерний, я приказал было Чернышеву тебя спросить, можно ли считать на Польшу; но дело это несбыточно на сообщенных условиях; разве на пробу заподрядить 20 т[ысяч] кулей для доставки чрез Либаву? Год тяжелый; денег требуют всюду, и недоимки за полгода уже до 20 миллионов противу прошлого года; не знаю, право, как выворотимся.
Из воспоминаний Александры Осиповны Смирновой-Россет
[В 1845 году Николай сказал Смирновой: ] Вот скоро двадцать лет, как я сижу на этом прекрасном местечке. Часто удаются такие дни, что я, смотря на небо, говорю: зачем я не там? Я так устал…
В 1848 году он писал тому же Паскевичу в Варшаву письма, в которых явственно звучали панические ноты.
Из писем Николая I фельдмаршалу Ивану Федоровичу Паскевичу. 1848 год
Неурожай угрожает многим губерниям, и… пожары поглощают город за городом и много сел и деревень.
Нет почти села в России, где бы она (холера. – Я. Г.) не свирепствовала.
Не знаю, право, как вывернуться из сметы; теперь уже недосчитывается более десяти миллионов! Ужасно! Надо везде беречь копейку, везде обрезывать, что только можно, и изворачиваться одним необходимым.
Страна существовала в состоянии глубокого финансового кризиса. (Неудивительно, что во время визита в Англию в 1844 году Николай показался королеве Виктории печальным. Что, впрочем, не мешало ему обсуждать с английскими политиками планы передела мира.) К середине 1840-х годов внешние и внутренние долги России составляли 299 865 232 рубля серебром. Это фантастическая по тем временам сумма.
Огромных дополнительных расходов потребовали Персидская и Турецкая войны 1826–1829 годов. Польские дела потребовали займа 150 миллионов золотых рублей.
Из исследования экономиста Ивана Станиславовича Блиоха «Финансы России XIX столетия». 1882 год
Несоразмерное соотношение между расходами и доходами, с одной стороны, а с другой – постоянное возрастание недобора в доходах повлекли за собой и значительное увеличение дефицитов по государственным росписям, достигшее в последующем трехлетии, именно в 1847, 1848 и 1849 годах, до громадных размеров.
Трагический парадокс заключался в том, что, зная все это, Николай Павлович действовал так, как будто он управлял богатой и благополучной державой.
В тяжком 1849 году он отправил стотысячную армию на помощь австрийскому императору. Легко представить себе, какую брешь это пробило в гибнущем российском бюджете…
Из исследования Ивана Станиславовича Блиоха «Финансы России XIX столетия». 1882 год
Высшая господствовавшая у нас политика того периода, как известно, была – гордость. Благосостоянием народа, финансовыми успехами внутри нельзя было похвалиться; зато ссылались на внешнее могущество России. Те публицисты, задачею которых было проводить в публику административные воззрения, могли указывать лишь на одно преимущество России пред Западом – на полное внутреннее спокойствие. Но и эта ссылка была не совсем верна, так как те же публицисты умалчивали, конечно, о целом ряде волнений среди крестьян – волнений, проходивших чрез весь период и нередко требовавших вмешательства военной силы. За этим исключением, спокойствие внутри действительно существовало, но это не было плодотворным спокойствием развития, работы, накопления в стране сбережений, а было лишь бесплодным, мертвящим спокойствием застоя.
Но, за недостатком внутренних успехов, услужливые публицисты того времени постоянно указывали на внешнее могущество России, на величие ее авторитета в совете европейских держав. И действительно, Австрия и Пруссия, казалось, вполне подчинялись России, а Франция во время Июльской монархии у нее заискивала; сама Англия, не отказавшаяся еще от системы недоверия и зависти к Франции, казалась связанною преданиями Священного союза и битв при Наварине[45], а впоследствии союз России, Англии, Австрии и Пруссии против Франции по поводу дела египетского паши[46] обнаруживал, что Англия также как бы преклонялась пред политикою России.
Такова была наружная сила этой политики. Но была ли в ней сила внутренняя, именно то ясное сознание цели и уменье подчинять ей личные впечатления, без которых наружное, кажущееся величие не представляет ничего прочного и при первом серьезном шаге оказывается миражем, обнаруживая полную неподготовленность, отсутствие союзов и быструю потерю авторитета?
Нет, этой внутренней силой тогдашняя русская политика не обладала, а затем и величие ее авторитета должно было исчезнуть, как только она намеревалась сделать решительный шаг к достижению своей главной цели. Этой целью, очевидно, было не только освобождение христианских народностей в Турции, но и расширение пределов России на юге. Цель эта, обнаружившаяся в 1828–1829 годах, продолжала быть главною мыслью правительства. Достаточно бросить беглый взгляд на приведенные нами финансовые факты и принять во внимание, что производительные расходы в государстве ограничивались, даже сокращались, а все податные и кредитные силы направлялись к постоянному увеличению сил военных, – и нельзя не прийти к убеждению, что Россия с 1830 по 1848 год непрерывно готовилась к войне.
Гибель императора
Катастрофа
Как стало ясно из публикуемых в главе «Итоги царствования» документов, николаевская система неуклонно деградировала и уже в сороковые годы переживала тяжелый кризис. Но непосредственной причиной катастрофы, крушения представлений императора о мире и о себе и его личной трагедии стала традиционная имперская мифология, вектор которой устремлен был на Восток.
Мы не будем углубляться в хитросплетения международной политики, в которых запутался Николай Павлович, потерявший ориентацию в дипломатическом пространстве и властно отбросивший критерии, по которым он мог оценивать свои реальные возможности. Это не входит в наши цели. Мы лишь набросаем общую схему сюжета.
Турция испокон века была стратегическим соперником России на обширных и заманчивых пространствах вдоль южных границ империи. Турция, контролируя Босфор и Дарданеллы, в любой момент могла перекрыть России выход в Средиземное море и мировой океан. Турция господствовала над единоверными славянами и греками.
В ХVIII и начале XIX века Россия в нескольких тяжелых войнах отбросила турок и присоединила немалые земли. Главным приобретением был Крым, находившийся до того под турецким протекторатом, и стратегически важный порт Севастополь.
В первой половине XIX века Турцию постоянно сотрясали внутренние неурядицы, угрожавшие ей развалом. Западные державы высокомерно вмешивались в политику султанов.
Николай Павлович называл Турцию «больным человеком Европы» и обсуждал с европейскими дипломатами планы ее раздела.
Это были отголоски грандиозного замысла Екатерины, Потемкина, Зубовых об изгнании турок из Европы и учреждении на Босфоре новой Греческой империи со столицей в Константинополе и во главе с императором Константином, внуком Екатерины.
Ключевский конспективно, но точно очертил трансформацию этой идеи.
Из конспекта Василия Осиповича Ключевского «Новейшая история Западной Европы в связи с историей России»
Грандиозный план восстановления Византийской империи разбился на проекты простого раздела Турции подобно Польше, если не считать фактического проекта поглощения Турции вместе с другими державами Восточной и Северной Европы П. Зубова. В записке Ростопчина, опробованной Павлом 2 октября 1800 г., о положении Европы и отношения к ней России, России – Романия, Булгария и Молдавия, Австрии – Сербия и Валахия (Павел: «Не много ль?»), Пруссии в вознаграждение за согласие – Ганновер, Франции – Египет, Греция с островами Архипелага – республика под защитой держав – участниц раздела, а по времени греки и сами подойдут под скипетр российский (Павел: «А можно и подвесть».) «Важное и легкое к исполнению предприятие», только нужны тайна и скорость. Резолюция Павла на записке: «Опробуя план Ваш во всем, желаю, чтобы Вы приступили к исполнению оного: дай Бог, чтоб по сему было».
Но Павел был убит, Александр от этой идеи отказался, и не было сделано даже попытки договориться с западными державами. На сцену вышел Наполеон, и всем стало не до раздела Турции. Наполеон в 1806 году сумел столкнуть Россию с Турцией, результатом чего была новая русско-турецкая война, которую перед самым наполеоновским вторжением победоносно закончил Кутузов.
Но надо помнить отношение Николая Павловича к отцу. Он отверг политику Александра и пошел по стопам Павла.
Из конспекта Василия Осиповича Ключевского «Новейшая история Западной Европы в связи с историей России»
Турция – европейская международная добыча. Ощупью наталкивались на сущность вопроса – не делить между соседями, а дробить на части, из которых она состоит. Долго не уяснялись интересы, во имя которых можно было действовать; под турецким игом сохранились народности, которые следовало освободить… На Западе этого национального существа дела не понимали; там Турция – только гиря на весах политического равновесия. Турция держалась не тем, что не надеялись ее разрушить, а тем, что не знали, что делать с ее развалинами: всех пугала не сила ее жизни, а следствия ее смерти… Присутствие народностей, которые могли бы составить независимые государства, стало уясняться Россией и Европой именно с восстания сербов и греков. Александр это понял, но не хотел признать по своим обязательствам главы Священного союза. Николай не был связан такими обязательствами и мог взглянуть на дело проще….Он хотел видеть в вопросе то, что нашел: нашел народности, стремящиеся к независимости, и начал их освобождать.
Пушкин недаром приветствовал войну с Турцией 1828–1829 годов. В результате победы России греки получили независимость. Это была романтическая мечта русских либералов александровского времени.
Восстание сербов против Османской империи в 1804–1813, а затем в 1815–1817 годах, дипломатически поддержанное Россией, привело к образованию автономного сербского княжества в составе Османской империи с сильными элементами самоуправления.
Но Николай смотрел на ситуацию гораздо радикальнее старшего брата, своего предшественника на троне.
Постоянное стремление если не ликвидировать Турцию как европейское государство, то по крайней мере поставить под свой контроль и привело в конце концов к роковой Крымской войне.
К этому времени Николай, еще недавно приветствовавший военный переворот, совершенный Луи Наполеоном, сумел превратить императора французов в своего врага.
Николаю пришлось вслед за другими европейскими монархами признать Наполеона III, незаконно вступившего на трон, но в своем послании он назвал его не «братом» как полагалось, но «добрым другом», что было намеренное и откровенное оскорбление, которого Луи Наполеон не простил.
В феврале 1853 года Николай сказал английскому послу, что он намерен взять под российский протекторат дунайские княжества – Молдавию и Валахию, а также Болгарию и Сербию. Египет и Крит он готов предложить Англии.
Франция с ее самозваным императором осталась вне игры.
Европейские элиты восприняли заявления Николая как явное намерение разрушить Турцию.
В это же время в Стамбул направлен был князь Александр Сергеевич Меншиков, финляндский генерал-губернатор, недавний морской министр, человек близкий к императору.
Меншиков потребовал от султана, чтобы Турция заключила с Россией секретный договор, по которому Николай получал право протектората над всем православным населением Османской империи. Это означало возможность для Николая по своему усмотрению вмешиваться во внутренние дела Турции. Россия должна была обеспечить преимущество православных в споре о влиянии в «святых местах».
Поддержанный английским и французским послами султан отказался подписать подобный договор. Меншиков уехал из Стамбула, пригрозив войной.
Русские дивизии вступили в Дунайские княжества. Николай издал манифест, который был фактически призывом к крестовому походу против турок.
Под давлением разъяренных мусульманских низов и духовенства султан занял непримиримую позицию…
Николай явно решил, что настал его час не только как вершителя судеб народов, но и как полководца.
Он не только выпустил воззвание и манифест, делавшие войну неизбежной, но и заранее собственноручно начертал подробный план будущих военных действий.
Воззвание, написанное собственноручно императором Николаем, единоверным братьям нашим в областях Турции
По воле Государя Императора Российского вступил я с победоносным и христолюбивым воинством Его в обитаемый вами край не как враг, не для завоеваний, но с крестом в руках, с святым знамением Богоугодной цели, для которой подвизаемся.
Сия единственная цель Благоверного и Всемилостивейшего Государя моего есть защита Христовой Церкви, защита вас, православных ее сынов, поруганных неистовыми врагами. Не раз лилась уже за вас Русская кровь и, с благословением Божьим, лилась недаром. Ею орошены права, приобретенные теми из вас, которые менее других стеснены в своем быте. Настало время и прочим христианам стяжать те же права не на словах, а на деле.
Итак, да познает каждый из вас, что иной цели Россия не имеет, как оградить святость Церкви, общей нашей Матери, и неприкосновенность вашего существования от произвола и притеснений.
Братья во Христе, воскресшем в искупление человеков! Соединимся в общем подвиге за Веру и ваши права! Дело наше свято! Да поможет нам Бог!
Собственноручно написанный и исправленный императором Николаем манифест 11 апреля 1854 года
С самого начала несогласий Наших с Турецким Правительством Мы торжественно возвестили любезным Нашим верноподданным, что единое чувство справедливости побуждает Нас восстановить нарушенные права православных Христиан, подвластных Порте Оттоманской. Мы не искали и не ищем завоеваний, ни преобладательного в Турции влияния сверх того, которое по существующим договорам принадлежит России.
Тогда же встретили Мы сперва недоверчивость, а вскоре и тайное противоборство Французского и Английского правительств, стремившихся превратным толкованием намерений Наших ввести Порту в заблуждение. Наконец, сбросив ныне всякую личину, Англия и Франция объявили, что несогласие наше с Турцией есть дело в глазах их второстепенное, но что общая их цель – обессилить Россию, отторгнуть у нее часть ее областей и низвести Отечество Наше с той степени могущества, на которую оно возведено Всевышнею Десницею.
Православной ли России опасаться сих угроз! Готовя сокрушить дерзость врагов, уклонится ли она от Священной цели, Промыслом Всемогущим ей предназначенной.
Нет!! Россия не забыла Бога! Она ополчилась не за морские выгоды; она сражается за Веру Христианскую и защиту единоверных своих братий, терзаемых неистовыми врагами.
Да познает же все Христианство, что как мыслит Царь Русский, так мыслит, так дышит с ним вся русская семья, верный Богу и Единородному Сыну Его Искупителю Нашему Иисусу Христу Православный Русский народ.
За Веру и Христианство подвизаемся! С нами Бог, никто же на ны!
Собственноручная записка Императора Николая I о войне с Турцией (разослана в начале ноября 1853 года)
Кампания 1854 года может открыться при разных условиях; она быть может:
1) оборонительною против одних турок в Европе и наступательною в Азии;
2) оборонительною против турок в союзе с Франциею и Англиею и наступательною в Азии;
3) наступательною и в Европе и Азии против одних турок; и,
4) наконец, наступательною и в Европе и Азии, несмотря на союз турок с Франциею и Англиею.
Неуверенность или сомнение, что предпримут Англия и Франция при открытии кампании, требует с нашей стороны таких соображений, которые бы, обеспечив собственные наши границы от неприятельских предприятий, давали, однако, нам возможность наносить наибольший вред Турции, не тратя без необходимости русской крови.
Итак, следует меры наши разделить на два отдела:
1) обеспечение собственных границ;
2) действия против врагов наступательно.
Нападения на наши границы сухопутно предвидеть нельзя; ожидать можно только морских действий или высадок.
В Балтике требуются особые соображения, и потому здесь об этом говорить не стану.
В Черном море нападения на границы наши могут быть на Одессу, на Крым или на береговые форты по берегу Кавказа.
Из трех случаев последний самый для нас невыгодный, и ежели флоты французский и английский войдут в Черное море, вряд ли возможно будет продолжать занимать берег, разве Анапу, Новороссийск, Геленджик, Сухум-Кале; прочие форты, вероятно, надо будет покинуть, сколько бы ни желательно было избегнуть сей необходимости.
Атака на Крым равномерно возможна только при содействии французов и англичан, и появление их войск в Царьграде потребует уже предохранительных мер против подобного покушения.
Атака на Одессу из трех случаев наименее опасна, ибо, кроме цели бомбардировки беззащитного города, других последствий иметь не может, не представляя удобств к высадке, ежели вблизи отряд некоторой силы.
Переправа через Дунай вблизи Измаила или Рени также невероятна по трудности самой переправы и во всяком случае удобно может быть отбита.
Итак, кажется, на первый случай сим ответствовано.
Приступаю ко второму.
Оставаясь при принятом уже плане оборонительной войны в Европе, 2 назначенных корпусов с 8 казачьими полками достаточно, чтоб не только оборонять Молдавию и Большую Валахию, но и Малую Валахию; а как турки уже заняли переправу у Калафата, то нужно будет сперва изгнать их оттуда и остановиться до обстоятельств, о которых ниже упомяну.
В то же время, ежели Господь благословит оружие наше, желательно, чтобы Кавказский корпус наступал и овладел Карсом, Баязетом и Ардаганом, что исполниться должно в течение зимы или ранней весны.
Ежели перемены не будет в упорстве турок в течение сего времени, тогда наступит второй период действий, и уже тогда мы приступим к переправе через Дунай (примерно в марте 1854 года).
Начав с сильной демонстрации у Сатунова войсками, в Бессарабии расположенными, и в то же время в виду переправы у Гирсова войсками 3-го корпуса, настоящую переправу исполним выше Видина 4-м корпусом. Есть надежда, что предприятие сие удасться может, и вслед за тем надо будет обложить и приступить к осаде Видина.
Расположение сербов к нам дает мне надежду, что наше появление в сем крае их побудит приняться за оружие и стать рядом с нами, чем можно действия наши облегчить.
Как бы турецкая армия сильна ни была, но попытки наши с начала кампании к переправе на двух точках должны держать их в недоумении, в чем именно состоит настоящее намерение наше, и не даст им вовремя собрать все главные их силы на верховья Дуная. Но ежели они не вдались в обман и стянули главные свои силы к Видину, тогда наши фальшивые атаки обратятся в настоящие и войска у Сатунова и Гирсова овладеют переправами и занять должны край до Троянова вала, блокируя Исакчу, Тульчу и Кюстенджи, ежели крепости сии восстановлены и того потребуют.
Полагая, что обе сии переправы будут исполнены 15-ою и 9-ою дивизиями, будет за Дунаем здесь 34 батальона и, вероятно, одна кавалерийская дивизия с 2 казачьими полками.
В то же время останутся в окрестностях Бухареста 7-я и 8-я дивизии с одною кавалерийскою бригадою и 2 казачьими полками для защиты края до дальнейшего развития обстоятельств.
Сим кончается 2-й период действий.
Третий период будет осада Видина, действия против турецкой армии, ежели она пойдет на помощь Видину, или против войск в Бабадагской области. У Видина надо идти к ним навстречу и стараться их разбить, напустив сербов им в левый фланг и тыл. У Троянова вала, ежели не сильны, разбить их; ежели очень сильны, отступить к Гирсову, и тогда, вероятно, уже у Видина не будут они сильны и осада беспрепятственно произведется.
Вероятно, за сербами поднимутся и болгары, и тем положение турок еще более затруднится.
Взятием Видина (вероятно, в августе) кончится третий период.
Во все эти три периода на флоте может лежать обязанность не только способствовать защите берегов наших, но наносить возможный вред туркам, препятствуя свободному сообщению с их портами; все это возможно будет лишь тогда, когда английского и французского флотов в Черном море не будет, по крайней мере в превосходных силах.
Эскадре на абхазских берегах в особенности следует усугубить надзор за недопуском турецких судов из Батума и Анатолии.
Флотилия на Дунае состоять должна в распоряжении князя Горчакова; ее содействие будет весьма полезно как для воспрепятствования переправам турок от Гирсова вниз по Дунаю, так и для способствования переправ наших войск и прикрытия мостов, когда действия наши дойдут до сей эпохи.
Ежели потеря Видина, Карса, Баязета и Ардагана не поколеблет упорства турок, тогда наступит четвертый период.
Полагаю, что ему предшествовать должно воззвание к единоплеменным и единоверным народам к восстанию объявлением, что мы идем вперед для избавления их от турецкого ига. Вероятно, сие последует чрез год, т. е. в ноябре 1854 года, в ту эпоху года, где уже военным действиям в тех краях природа препятствует.
Разрешенное формирование волонтерных рот будет тогда служить основанием или корнем новых ополчений в Сербии и Булгарии, на что употребится зима.
Следует здесь решить, как армии нашей зимовать.
Полагаю, что 4-й корпус, занимая Видин, может расположиться вокруг его по сербским селениям или частию в Малой Валахии. Войска в Большой Валахии останутся в ней. Те же, которые переправились чрез Дунай у Сатунова и Гирсова, могут занять собственно Бабадаг и окрестности и мостовое укрепление в Гирсове.
В этом положении проведем зиму с 1854 на 1855 год.
В Азии желательно завладеть Кабулетом и Батумом, не подаваясь далее вперед, но делая частые набеги, дабы держать турок в тревоге, и предоставляя персиянам вести наступательную войну для их пользы.
Начало 1855 года укажет нам, какую надежду возлагать можем на собственные способы христианского населения Турции и останутся ли и тогда Англия и Франция нам враждебны. Мы не иначе должны двинуться вперед, как ежели народное восстание на независимость примет самый обширный и общий размер; без сего общего содействия нам не следует трогаться вперед; борьба должна быть между христианами и турками; мы же как бы оставаться в резерве.
Быть может, что для развлечения турецких сил приступить можно будет к осаде Силистрии, но мудрено сие теперь же предугадать.
То, что произошло дальше, оказалось полной неожиданностью для русского императора. Против него – в защиту Турции – объединились Англия и Франция, которых Николай считал соперниками. Более того, Николая совершенно поразило поведение австрийского императора, которого он четыре года назад спас, отправив ему на помощь стотысячный корпус во главе с Паскевичем для усмирения восставших венгров. Вместо благодарности, на которую твердо рассчитывал Николай, император Франц Иосиф примкнул к англо-французскому альянсу. И когда англичане, французы и турки высадились в Крыму под Севастополем, куда были направлены основные силы русской армии, дислоцированные на юге страны, то западная граница оказалась беззащитной перед возможным нападением Австрии.
Сложившуюся ситуацию ясно очертил С. С. Татищев.
Из сочинения историка Сергея Спиридоновича Татищева «Внешняя политика Николая I»
Измена Австрии произвела на императора Николая потрясающее впечатление. Ею были оскорблены самые священные его нравственные чувства. Трудно выразить словами горечь его размышлений; и следующее донесение австрийского посланника в Петербурге дает о них лишь слабое понятие, но правдивое и без прикрас. Описывая аудиенцию, данную ему государем в конце июня 1854 года, граф Эстергази признается, что прием, оказанный ему его величеством, был ледяной. Внушительно и строго заметил император, что враждебное положение, принятое относительно России императором Францом Иосифом, оскорбляет его; к тому же оно ему и непонятно, ибо интересы России и Австрии на Востоке тождественны. По-видимому, рассуждал государь, австрийский император совершенно позабыл все то, что он сделал для него. Глубоко и больно огорчили его величество австрийские вооружения. Если суждено возгореться войне, то Бог будет судьею между обоими монархами. Эстергази прервал государя выражением надежды, что сообщенные ему канцлером новые инструкции, данные нашему посланнику в Вене, облегчат успешный исход переговоров о мире. Император Николай сделал вид, что не слышит речи своего собеседника, и продолжал взволнованным голосом: «Доверие, соединявшее доселе обоих монархов ко благу их государств, разрушено, искренние отношения между ними не могут долее продолжаться».
Чувства, волновавшие душу императора Николая в последние месяцы его жизни, еще рельефнее проглядывают в переписке с одним из довереннейших его сподвижников, генерал-фельдмаршалом князем Варшавским (И. Ф. Паскевичем. – Я. Г.). «Настало время, – писал он ему в начале июня, – готовиться бороться уже не с турками и их союзниками, но обратить все наши усилия против вероломной Австрии и горько покарать за бесстыдную неблагодарность». И в другом письме: «Меня всякий может обмануть раз, но зато после обмана я уже никогда не возвращаю утраченного доверия». Наконец, в письме к главнокомандующему Южною армиею, князю М. Д. Горчакову, государь пророчески восклицал: «Бог накажет их (австрийцев) рано или поздно!»
После высадки англо-французов в Крыму венский двор уже совершенно явно стал выказывать нам свою враждебность: занял своими войсками оставленные нами Дунайские княжества и принял угрожающее положение на самой нашей границе. Окончательный разрыв с Австриею представлялся государю неизбежным. Он писал князю М. Д. Горчакову: «Признаюсь тебе, что я не верю вовсе, чтобы австрийцы остались зрителями готовящегося, и почти уверен qu’ils nous donnent le coup de pied de l’âne[47]; случай им слишком на то благоприятен. Жаль, что придется им отдавать славную Подолию без боя. Два казачьи полка, как паутина вдоль границы, скоро исчезнут. Позади же кирасиры и формирующиеся кавалерийские резервы надо будет спасти за Днепр, при первом появлении неприятеля, дабы даром не пропали одни. Все это тяжко выговорить, но оно так. Еще слава Богу, что Киев можно будет сейчас усиленно занять от резервной дивизии 6-го корпуса, но и та только что еще доформировывается… Горчаков[48] из Вены пишет, что там дерзость возрастает, и Буоль (глава правительства Австрии. – Я. Г.) явно ищет только как бы нас вывести из терпения и сложить причину разрыва на нас, чтоб тем увлечь Германию вступиться за Австрию».
Мысль о предстоящем вторжении австрийцев в наши пределы неотступно тревожила, можно даже сказать, терзала государя до самой его кончины. По собственному его выражению, «он ожидал всего дурного от австрийского правительства» по той причине, «что император совершенно покорился Буолю, а сей последний дышит ненавистью к России и совершенно передался на сторону союзников». Государь хотя и знал, что большинство австрийских генералов несочувственно относятся к войне с нами, но не обманывал себя относительно степени их влияния на направление политики венского двора. В одном из писем его читаем по этому поводу: «Воротились Гесс и Кельнер[49] и при явке к императору [австрийскому] не запинаясь ему высказали всю правду насчет его политики, положения и духа армии и всей империи, доказывая, что политика эта ведет государство к гибели, и умоляли его переменить намерения и помириться с нами. Сначала он каждого выслушал, но потом рассердился и запретил им вперед сметь вмешиваться в политику, которую вести он одному себе предоставляет».
Как наместник Царства Польского, так и посланник наш при австрийском дворе были убеждены в близости разрыва с Австриею, и один только военный агент наш в Вене, граф Стакельберг, выражал мнение, что нам нечего опасаться нападения австрийцев ранее весны. «Но быть может, что и он ошибается, – заметил государь, – и что вопреки чести и здравого рассудка Австрия на нас ринется даже без объявления войны. Надо на все быть готовым».
Принимая деятельные меры для отражения ожидаемого нападения австрийцев, император Николай сдался, однако, на убеждения графа Нессельроде, решился на уступки требованиям венского двора и принял предложенные им «четыре условия» за основание переговоров о мире. Последствия этой уступки не отвечали нашим надеждам. «Вот что было в Вене, – писал государь главнокомандующему Южною армиею, – 1 (13) числа [ноября 1854] Горчаков был еще в надежде, что дело пошло на лад, что согласие наше на принятие четырех пунктов, удовлетворив желаниям Австрии, расположило ее не связываться теснее с Франциею и Англиею, но воспользоваться нашим согласием, чтобы приступить прямо к переговорам о примирении; вышло противное. Лишь только в Вене получено согласие короля прусского на гарантию неприкосновенности войск австрийских в княжествах, как император, по совету Буоля, без ведома короля прусского, поспешил заключить новый договор с Францией и Англией, затем будто, чтоб связать их не выходить из условий 4 пунктов, и дал о том знать Горчакову. Этот потребовал аудиенции у императора, которую третьего дня и получил. Два часа с ним откровенно о всем толковал и доносит, что император его слушал благосклонно и просил не посылать курьера до нового свидания, утверждая, что никогда в его намерение не входило нас атаковать, но что новый договор будто заключил только в намерении связать этим западные державы и более ничего от нас не требовать. Я же сему поверю, когда последствия докажут». Предчувствие не обмануло государя. То же письмо кончается припиской: «Сейчас по телеграфу пришли еще две депеши, с которых копию посылаю. Видишь, что вряд ли что хорошее предвидеть можно; на австрийцев же никак положиться нельзя: одно бесстыдное коварство».
Объяснение этого нового поворота к худшему находим в другом письме государя к тому же лицу: «Спешу тебя известить, по обещанию моему, любезный Горчаков, о содержании донесений из Вены, сюда вчера вечером дошедших. Разговор Горчакова с императором не имел никаких хороших последствий, и его вновь не призывали. Между тем содержание заключенного трактата постановляет срок, по истечении которого будто он обращается в оборонительный и наступательный. Неизвестно точно, месяц ли или два на то положены. Но есть подозрение, что существует другой, уже тайный договор, по которому Австрия еще более поработилась Франции и Англии, и будто уже в нем просто условлено отнять у нас Польшу. Одним словом, надо нам готовиться на худшее, ибо я ничуть не сомневаюсь, что весьма скоро и король прусский, волей или неволей, пристанет к нашим врагам. При подобном положении дел вопрос уже в том, где большая опасность и куда усилия обороны нашей должны преимущественно обращены быть? Думаю – Петербург, Москва или тут, в центре России, и Крым с Николаевом. Прочее второстепенной важности в сравнении… Вот наше положение, самое тяжкое, во всей наготе своей; нечего его скрывать от себя».
Между тем занимавшие княжества австрийцы не препятствовали турецкой армии направляться к нашей Бессарабской границе, так что с минуты на минуту можно было ожидать столкновения на Пруте между нами и турками. Случайность эта крайне озабочивала государя, как явствует из следующих слов письма его к Паскевичу: «Будет ли Горчаков атакован Омер-пашой, не угадаешь, но, кажется, австрийцам это не нравится. Я велел им объявить, что ежели мы атакованы будем, то против воли будем преследовать; ежели с австрийцами встретимся, велел остановиться, отдать им честь и продолжать преследовать, докуда нам надо. Будут они стрелять по нас, тогда и мы отвечать будем, а прочее в руках Божиих. Они уверяют, что всячески сего избегать желают. Посмотрим».
Недоверчиво относился император Николай и к имевшим открыться в Вене, под руководством графа Буоля, мирным совещаниям. «Жду, что будет на совещаниях в Вене, – признавался он „отцу-командиру“, – но ничего хорошего не ожидаю, а еще менее от Австрии, которой коварство превзошло все, что адская иезуитская школа когда-либо изобретала. Но Господь их горько за это накажет. Будем ждать нашей поры».
Однако в первые дни 1855 года из Вены пришла неожиданная весть. Император Франц Иосиф поручил князю А. М. Горчакову передать государю, «что теперь и повода не осталось к столкновению Австрии с нами и что он счастлив, ежели прежние дружеские сношения его с императором Николаем восстановятся». Но окончательное разочарование не замедлило высказаться в следующих строках письма государя к князю М. Д. Горчакову: «Вероятие хорошего оборота дел с Австрией, всегда мне сомнительное, с каждым днем делается слабее, коварство яснее, личина исчезает, и потому все, что в моих намерениях основывалось на надежде безопасности, с сей стороны не состоялось и возвращает нас к прежнему тяжелому положению. Доверие мое к лучшему исходу дел должно было в особенности утратиться с той поры, когда теперь же Австрия усиленно требует всеобщего вооружения Германии. Против кого же, ежели не против нас? Пруссия от сего решительно отказывается, и ее пример увлек уже часть Германии последовать ей; но это не остановит, вероятно, прочих пристать к Австрии, и император [Франц Иосиф] требует, чтоб его признали главнокомандующим всеми силами».
Так писал император Николай за месяц до своей кончины. Роль Австрии в восточных замешательствах он определял двумя словами: «коварство и обман». Ему ясно было, что она была истинною причиною всех наших неудач, что ее политике обязаны были главным образом союзники своими успехами в Крыму. Необходимость охранять нашу западную границу лишала нас возможности сосредоточить под Севастополем достаточные силы для отпора англо-французскому вторжению. Геройски обороняемый Севастополь должен был пасть, потому что Австрия изменила долгу благодарности и чести, – тягостное сознание, отравившее последние дни государя. Но духом он не падал. «Буди воля Божия! – восклицал он в письме к князю М. Д. Горчакову, – буду нести крест мой до истощения сил».
Сил не хватило. 18 февраля (2 марта) 1855 года не стало императора Николая.
А 27 августа пал Севастополь. Крымская война была проиграна.
Смерть
Из воспоминаний Виктора Михайловича Шимана
Перехожу к последним месяцам и дням его жизни. Крымская война доставила ему много забот и неприятностей. Недостаток военных запасов, неудовлетворительность оружия в войсках и бездорожье на Юге тяготили его, конечно, не менее, чем всю Россию. Быть может, он сознавал тогда, что управлять одному государством невозможно и что министры нужны не для одного исполнения приказаний, но и для совета. Однако выказать такого рода мысли он не хотел; он только работал еще усиленнее прежнего и остался до последних дней своих непреклонным исполнителем взятой на себя задачи. Если верить некоторым слухам и данным, он сам руководил защитою Севастополя. Тотлебен, выдвигая укрепления за первоначальную линию обороны и сооружая в одну ночь, один за другим, ошеломившие своим неожиданным появлением неприятеля знаменитые Камчатский и Волынский редуты, исполнял только приказания императора. Это легко могло быть, потому что, как известно, Николай Павлович был с молодых лет хорошо подготовленным военным инженером. Судя по маневрам, он был также замечательным тактиком и стратегом; но командовать армией за две тысячи верст от поля сражения, не зная местности и имея на месте такого помощника, как князь Меншиков, было положительно невозможно; а между тем по приказанию Николая Павловича было дано Инкерманское сражение, план которого он одобрил. При нападении с двух сторон неприятель был бы смят и сброшен в море; но шедший в обход командир 4-го корпуса Данненберг встретил на пути такую изрытую оврагами местность, что артиллерию приходилось переносить на руках; он, конечно, опоздал, и сражение было проиграно. Будь на месте настоящий главнокомандующий, тот, исполняя волю государя, вперед исследовал бы местность, а не пускал бы целый корпус войск наудачу, князь же Меншиков это сделал. Только тогда император убедился, что этот остроумный царедворец в Крыму не на своем месте. Еще неудачнее кончилось сражение на Черной речке, где легло целиком не одно Курское ополчение. Но, невзирая на такие крупные неприятности, на лице Николая Павловича не было заметно ни упадка духа, ни отсутствия в известных случаях обычной его веселости. За несколько недель до своей кончины, следовательно, когда он уже знал, что войну необходимо кончить и что нам нельзя рассчитывать на почетный мир, мне привелось видеть из кресел Большого театра, как он, встреченный в своей ложе графом Адлербергом, расшаркался перед последним, точно гость перед хозяином. Николай Павлович не был расположен к шуткам, даже с самыми близкими и родственными ему лицами, тем более подобная шутка в глазах публики, когда из Крыма получались самые безотрадные вести, показалась всем непонятною. Но, очевидно, он не желал серьезным видом усиливать общее уныние; напротив, появляясь в театре таким веселым, он хотел всем внушить, что не все еще потеряно. Однако хороших известий с театра войны не было, театральный сезон кончился, наступал великий пост, и государя можно было видеть только случайно на улице.
Из очерка чиновника и историка Александра Федоровича Шидловского «Болезнь и кончина императора Николая Павловича»
В начале 1855 года организм государя вследствие непрерывных занятий государственными делами и под влиянием неудач наших в Крыму, по-видимому, становился непрочным; силы его боролись с чувством долга, которое руководило им всю жизнь. Государь, посвящая семнадцать часов в сутки всем вопросам правления, не хотел, даже накануне смерти, незаметно подкрадывавшейся к нему, оставлять без личного разрешения дела. Не обращая внимания на советы медиков беречь себя, он с улыбкой выслушивал их предписания и продолжал делать невероятные усилия, чтобы бороться с природой. Часто государь вставал ночью, чтобы кончить дела, которые не успевал разрешить в течение дня, так как он внимательно относился ко всем мелочам. Глубокая религиозность и пламенная вера в Бога всегда были отличительной чертой императора. В последнее время он прерывал свой сон по ночам, становился перед образом и пел псалмы Давида. Голос его принимал такое трогательное выражение, что камердинер его, Гримм, спавший в соседней комнате, говорил потом, что ему чудилось, будто слышит он голос самого псалмопевца.
В конце января император, не желая отказать графу Клейнмихелю в просьбе быть посаженным отцом у его дочери, выходившей замуж за сына генерал-лейтенанта Пиллар фон Пильхау, поехал на свадьбу; он был в конногвардейском мундире, в доспехах, оделся легко. Камердинер Гримм, обратив внимание государя на сильный мороз, советовал надеть другую форму; государь, пройдя на половину императрицы, вернулся, чтобы надеть шинель; тут же он заметил своему камердинеру: «Ты правду говоришь… проходя сенями по мраморному полу, я уже почувствовал, что ногам холодно; но теперь некогда переодеваться».
Двадцать седьмого января император Николай I почувствовал первые признаки гриппа, который тогда свирепствовал в Петербурге.
Болезнь эта не казалась сначала серьезной; государь смеялся над своим нездоровьем.
Однако болезнь, усилившаяся вследствие умственного напряжения и под влиянием печальных известий из Крыма, развивалась с неимоверной быстротой.
Четвертого февраля ночью государь почувствовал некоторое стеснение в груди, вроде одышки. Исследование показало сильный упадок деятельности в верхней доле левого легкого; нижняя доля правого легкого оказалась пораженной гриппом, хотя лихорадочного состояния не замечалось; пульс оставался нормальным. Больной сидел дома, соблюдая самую строгую диету. К вечеру дыхание левого легкого сделалось свободнее. Государь по-прежнему занимался делами. В следующие два дня болезненное состояние левого легкого исчезло, гриппный же кашель не прекращался.
С наступлением первой недели Великого поста государь начал говеть и поститься, несмотря ни на какие предостережения медиков. Седьмого и восьмого февраля он сидел дома по настоятельной просьбе врачей. Лечивший его лейб-медик Мандт просил себе консультанта; государь назначил в помощь ему Карелля, который последние восемь лет сопровождал его во время путешествий; с восьмого февраля он принял участие в лечении императора. Девятого февраля государь почувствовал себя несколько лучше, хотя кашель усилился; утром он слушал обедню в дворцовой церкви, а потом отправился в манеж Инженерного замка на смотр маршевых батальонов резервных полков лейб-гвардии Измайловского и Егерского, которые приготовлялись к выступлению в поход на театр военных действий.
Лейб-медики Мандт и особенно доктор Карелль старались отговорить императора от этого намерения; они убеждали его не выходить на воздух; но он, выслушав их советы, обратился с вопросом:
– Если бы я был простой солдат, обратили ли бы вы внимание на мою болезнь?
– Ваше величество, – отвечал Карелль, – в вашей армии нет ни одного медика, который позволил бы солдату выписаться из госпиталя в таком положении, в каком вы находитесь, и при таком морозе (23 градуса); мой долг требовать, чтобы вы не выходили еще из комнаты.
– Ты исполнил свой долг, – отвечал государь, – позволь же мне исполнить мой.
В час пополудни император Николай, не обращая внимания на уговоры наследника и просьбы прислуги одеться потеплее, выехал из дворца в легком плаще. После смотра, не возвращаясь домой, он заехал к великой княгине Елене Павловне и к военному министру, который по болезни не выходил несколько дней из дома. При двадцатиградусном морозе простуда усилилась, кашель и одышка увеличились. К вечеру государь, совершенно больной, лег заснуть, но провел ночь без сна. На следующий день, опять не склоняясь на предостережения медиков, он отправился на смотр маршевых батальонов гвардейских саперов и полков лейб-гвардии Преображенского и Семеновского. Этот выезд был последним.
Из воспоминаний Виктора Михайловича Шимана
Выйдя около полудня на прогулку, я с удивлением увидел по одну сторону Невского проспекта выстроившиеся войска в походной форме. Было около 10° мороза. Что бы это значило? – подумал я. Невский проспект вовсе не обычное место для смотров, на это есть манежи. Да и какие это войска и куда собираются их посылать? (Гвардия находилась тогда на побережье Балтийского моря для защиты края от возможной высадки неприятеля; в Петербурге же было очень мало войска, всего по одному батальону от каждого гвардейского полка и несколько резервных батальонов). Машинально я пошел к Адмиралтейству. Очевидно, смотр будет делать государь; иначе не было причины выстраивать войска вблизи дворца. По чувству особого влечения к Николаю Павловичу с юных лет я всегда встречал его с радостным биением сердца, и, чтобы вновь увидеть его, я спешил к флангу войск, где мог услышать и голос его. Я подошел к углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади и остановился позади командовавшего парадом генерала, сидевшего на лошади, на краю фланга. Лица его я не видел и не знаю, кто был этот генерал. Прошло лишь несколько минут, как раздалась команда: «слушай, на караул!» Так как это был левый фланг, то музыки здесь не было; оркестры находились на правых флангах своих частей и хотя заиграли при команде «на караул», но здесь были едва слышны. Николай Павлович, верхом, в мундире, без шинели, не доезжая шагов десяти до фронта, громко произнес по адресу командовавшего генерала: «Bonjour! Comment vous va?» Ответа генерала я не слыхал; вероятно, его не было; но руку его, приложенную к шляпе с султаном, и как будто легкое наклонение головы я видел. Конечно, и мой цилиндр был уже в руке, и глубокий поклон отвешен; но я не успел еще выпрямиться, как раздалось столь часто слышанное, громогласное «Здорово, ребята!» и в ответ «3дравия желаем вашему императорскому величеству», понесшееся вдоль Невского проспекта, по которому, всегдашним молодцом, летел галопом государь.
– В одном мундирчике сердечный… – послышался сзади меня женский голос. Я оглянулся. Какая-то деревенская баба крестилась и продолжала причитывать: – В одном мундирчике… долго ли до беды!
– Ты напрасно беспокоишься, голубушка. Государь всегда так на смотры выезжает: он мороза не боится, – вразумлял я бабу.
– Как, барин, не бояться… Неровен час! Не паренек он молодой… Кровь, чай, не по-прежнему греет…
– Греет, матушка! Его греет: нас с тобой переживет!
– Кто это знает. На все Божья воля….
– Разве ты не видела, как он точно ветер пронесся?
– Видеть-то видела, а все ему след поберечься. Так несдобровать ему…
– Полно каркать и вздор молоть, – произнес я с некоторым раздражением и начал пробираться восвояси, сквозь толпу, которая не расходилась, потому что солдаты еще стояли на месте.
Из очерка Александра Федоровича Шидловского «Болезнь и кончина императора Николая Павловича»
Теперь припадки болезни, с которой боролась долго могучая натура императора, стали развиваться с неимоверной быстротой; он уже не мог выходить из своего кабинета. 11 февраля он намеревался быть у преждеосвященной обедни в Дворцовой церкви, но, почувствовав озноб, не мог стоять на ногах; после убеждения докторов он одетый лег в постель, только прикрывшись шинелью. Превозмогая себя, он продолжал и этот день в постели заниматься делами. Вечером появилась испарина; язык был не чист; оказалась чувствительность печени. Дабы не опечалить подданных, государь запретил печатать известия о ходе своей болезни, что и прежде всегда соблюдалось по его повелению; за несколько дней до кончины он вспомнил об этом и, обратившись к цесаревичу, сказал: «Надеюсь, что не обеспокоили публики бюллетенями о моем нездоровье».
Двенадцатого февраля жар и озноб увеличились. Государь целый день провел в постели. К вечеру, однако, состояние больного настолько улучшилось, что по ходу болезни можно было ожидать перемежающейся лихорадки. Телеграмма о деле под Евпаторией (в феврале 1855 года русская армия в Крыму потерпела очередное тяжелое поражение. – Я. Г.) сильно подействовала на состояние его здоровья. Лихорадка увеличилась; язык стал хуже прежнего. С этого дня по убедительной просьбе медиков государь прекратил занятия государственными делами, передав заботы о них наследнику.
В следующие два дня самочувствие больного ухудшилось; ночи он проводил беспокойно, почти не смыкая глаз.
Пятнадцатого февраля государь стал с утра харкать с кровью; к вечеру жаловался на подагрическую боль в большом пальце ноги, на следующий день усилилось страдание в правом легком; государь почувствовал в нижних, задних реберных мышцах, с правой стороны, сильную боль; нижняя доля правого легкого оставалась заметно пораженной. Голова, с начала болезни, все время была свежею: ни кружения, ни боли в ней не замечалось.
Из дневника фрейлины Анны Федоровны Тютчевой
17 февраля я по своему обыкновению к 9 часам утра спустилась к цесаревне (Марии Александровне. – Я. Г.), чтобы присутствовать на сеансе пассивной гимнастики, которой она ежедневно занималась…. Я ее застала очень озабоченной – император неделю как болен гриппом, не представлявшим вначале никаких серьезных симптомов; но, чувствуя себя уже нездоровым, он вопреки совету доктора Мандта настоял на том, чтобы поехать в манеж произвести смотр полку, отъезжавшему на войну, и проститься с ним. […]
Он отправился в манеж и, вернувшись оттуда, слег. До сих пор болезнь государя держали в тайне. До 17-го даже петербургское общество ничего о ней не знало, а во дворце ею были мало обеспокоены, считая лишь легким нездоровьем. Поэтому беспокойство великой княгини удивило меня. Она мне сказала, что уже накануне Мандт объявил положение императора серьезным. В эту минуту вошел цесаревич и сказал великой княгине, что доктор Карель сильно встревожен, Мандт же, наоборот, не допускает непосредственной опасности. «Тем не менее, – добавил великий князь, – нужно будет позаботиться об опубликовании бюллетеней, чтобы публика была осведомлена о положении…»
В ту минуту, когда я пишу эти строки, с тех пор прошло только два дня, но мне кажется, что за эти два дня рухнул мир – столько важных и страшных событий произошло за этот короткий срок. 17-го, вернувшись с обеда у моих родителей, я пошла переодеться к вечеру у цесаревны; но пробило 10 часов, никто меня не позвал, и я спустилась в дежурную комнату, чтобы узнать, в чем дело. Камеристка сказала мне, что состояние здоровья императора, по-видимому, ухудшилось, что цесаревна, вернувшись от него, удалилась в свой кабинет и что великая княгиня Мария Николаевна, которая проводит ночь при отце, каждый час присылает бюллетени о здоровье императора.
Я отправилась к Александре Долгорукой. М-elles Фредерикс и Гудович, только что вернувшиеся от императрицы, сказали нам, что они издали слышали, как Мандт говорил о поднимающейся подагре, о воспалении в легком. Эти дамы были чрезвычайно встревожены и умоляли нас пойти к цесаревне, чтобы получить точные сведения. Никто ничего не знал, а может быть, никто не смел высказывать вслух своих мыслей или своих опасений по поводу происходящего. Видны были только смущенные и объятые ужасом лица. Александра и я вторично спустились в дежурную комнату, где нам сказали, что цесаревну только что вызвали к императору. Мы решили дождаться ее возвращения в спальне и в томительном ожидании прошел целый час; эта большая комната, еле освещенная свечой, стоявшей на камине, и лампадкой, теплившейся перед образами, имела мрачный вид. Нам пришли сказать, что цесаревна вернулась с великой княгиней Александрой Иосифовной, которая должна была провести ночь во дворце, чтобы быть поблизости на случай каких-либо событий. Вошел цесаревич со смертельно бледным и изменившимся лицом. Он пожал нам руку, сказал: «Дела плохи», – и быстро удалился. Убедившись, что ничего больше мы не узнаем, мы поднялись наверх. Мария Фредерикс получила более подробные сведения в дежурной комнате императрицы. Подагра поднималась, паралич легких был неминуем. Императрица робко предложила императору причаститься. Он ответил, что причастится, когда ему будет лучше и он в состоянии будет принять Святые Тайны стоя. Императрица не решилась настаивать, чтобы не встревожить его. Она стала читать возле него «Отче наш», и, когда она произнесла слова: «Да будет воля Твоя», он горячо сказал: «Всегда, всегда».
Ночь уже была поздняя, но тревога не давала нам спать. С несколькими фрейлинами я пошла в дворцовую церковь, слабо освещенную немногими свечами, горевшими перед иконостасом. Но душа моя была объята ужасом, и сердце не могло молиться, хотя уста и произносили привычные слова…
Вернувшись к себе, я нашла записку от графини Антонины Блудовой, писавшей цесаревне от имени своего отца о необходимости немедленно распорядиться служить во всех церквах молебны, чтобы народ был оповещен об опасности, угрожающей жизни императора.
Я понесла эту записку цесаревне. Мне сказали, что она только что легла. Тогда я попросила передать записку цесаревичу, который находился при императоре. Поднявшись к себе, я, не раздеваясь, прилегла на кровать и слегка задремала, но сильный шум шагов по коридору вскоре разбудил меня. Вся дрожа, я вышла из комнаты и встретила Екатерину Тизенгаузен, которая куда-то бежала с другой фрейлиной императрицы. Они мне сказали, что к императору только что позвали Бажанова (духовника императорской фамилии). С ними вместе я спустилась вниз.
Было часа два или три ночи, но во дворце никто уже не спал. В коридорах, на лестницах – всюду встречались лица испуганные, встревоженные, расстроенные, люди куда-то бежали, куда-то бросались, не зная в сущности, куда и зачем. Шепотом передавали друг другу страшную весть, старались заглушить шум своих шагов, и эта безмолвная тревога в мрачной полутьме дворца, слабо освещенного немногими стенными лампами, еще усиливала впечатление испытываемого ужаса.
Рассказ доктора Мартына Мартыновича Мандта, изложенный в письме к близкому лицу за границу
Между 11–12 часами [17 февраля] блаженной памяти император отложил приобщение Св. Тайн до того времени, когда будет в состоянии встать с постели[50].
Сделав все нужные медицинские предписания, я не раздеваясь лег отдохнуть на постель. Доктор Карель должен был оставаться в комнате больного, пока я не приду заменить его в 3 часа утра; так было условлено и так постоянно делалось. В половине третьего я встал и в ту минуту, как я хотел отправиться на мой печальный пост, мне подали следующую, наскоро написанную карандашом записку:
«Умоляю Вас, не теряйте времени ввиду усиливающейся опасности. Настаивайте непременно на приобщении Св. Таин. Вы не знаете, какую придают у нас этому важность и какое ужасное впечатление произвело бы на всех неисполнение этого долга. Вы иностранец, и вся ответственность ляжет на Вас. Вот доказательство моей признательности за Ваши прошлогодние заботы. Вам говорит это дружески преданная Вам А. Б.».
Войдя в прихожую, я повстречался с великой княгиней Марией Николаевной (она провела эти часы на софе в своей комнате). Она сказала, обращаясь ко мне: «У вас, должно быть, все идет к лучшему, так как я давно не слыхала никакого шума».
Я нашел доктора Кареля на своем посту, а положение высокого больного показалось мне почти неизменившимся с 12 часов ночи. Жар в теле немного слабее, дыхание было несколько менее слышимо, нежели в полночь. После нескольких вопросов и ответов касательно дыхания и груди (причем особенное внимание было обращено на правое легкое, совершенно согласно с тем, как оглашено в газетах) доктор Карель ушел для того, чтоб воспользоваться в течение нескольких часов необходимым отдыхом.
Было около 10 минут четвертого, когда я остался наедине с больным государем в его маленькой неприютной спальне, дурно освещенной и прохладной. Со всех сторон слышалось завывание холодного северного ветра. Я недоумевал и затруднялся, как объяснить самым мягким и пощадливым образом мою цель больному, который хотя и очень страдал, но вовсе не считал своего положения безнадежным.
Так как накануне того дня вечером после последнего медицинского осмотра еще не вовсе утрачена была надежда на выздоровление, то я начал с тщательного исследования всей груди при помощи слухового рожка. Император охотно этому подчинился, точно так как с некоторого времени он вообще подчинялся всему, чего требовала медицинская наука.
В нижней части правого легкого я услышал шум, который сделался для меня таким же зловещим, каким я в течение уже нескольких лет считал тот особый звук голоса, который происходит от образовавшихся в легких каверн. Я не в состоянии описать ни этого звука, ни этого шума; но и тот и другой, доходя до моего слуха, не подчинялись моему умственному анализу, а как будто проникали во всю мою внутренность и действовали на все мои чувственные нервы. Они произвели на меня такое же впечатление, какое производит фальшивая нота на слух опытного музыканта. Но этот звук и этот шум уничтожили все мои сомнения и дали смелость приступить к решительному объяснению.
Зрело обсудив, что следовало делать в моем положении, я вступил в следующий разговор с его величеством. Здесь я должен обратить внимание на то, что замеченный мною особый шум в нижней части правого легкого свидетельствовал о начале паралича в этом важном органе и что вместе с тем для меня угас последний луч надежды. В первую минуту я почувствовал что-то похожее на головокружение; мне показалось, что все предметы стали вертеться перед моими глазами. Но полагаю, что сознание важности данной минуты помогло мне сохранить равновесие способностей.
– Идучи сюда, я встретился с одним почтенным человеком, который просил меня положить к стопам вашего величества изъявления его преданности и пожелания выздороветь.
– Кто такой?
Больной император все время говорил громким и ясным голосом, с полным обладанием всеми умственными способностями.
– Это Бажанов, с которым я очень близок и почти что дружен.
Стараясь приступить к делу как можно мягче, я позволил себе это уклонение от истины. Я узнал из уст его высочества государя наследника, который сам пожелал провести эту ночь как можно ближе к больному, что названная духовная особа находилась поблизости. А то, что я сказал о моих личных отношениях к Бажанову, вполне согласно с истиной.
– Я не знал, что вы знакомы с Бажановым. Это честный… и вместе с тем добрый человек.
Затем – молчание, и с намерением или случайно император не поддержал этого разговора.
– Я познакомился с г. Бажановым, – продолжал я спустя минут пять, – в очень тяжелое для нас всех время, у смертного одра в Бозе почившей великой княгини Александры Николаевны. Вчера мы вспоминали об этом времени у государыни императрицы, и из оборота, который был дан разговору, мне было нетрудно понять, что ее величеству было бы очень приятно, если бы она могла вместе с г. Бажановым помолиться подле вашей постели об умершей дочери и вознести к Небу мольбы о вашем скором выздоровлении.
По выражению глаз императора я тотчас заметил, что он понял значение моих слов и даже одобрил их. Он устремил на меня свои большие, полные, блестящие и неподвижные глаза и произнес следующие простые слова, немного приподняв и поворотив ко мне голову:
– Скажите же мне, разве я должен умереть?
Эти слова прозвучали среди ночного уединения как голос судьбы. Они точно будто держались в воздухе, точно будто читались в устремленных на меня своеобразных больших глазах, точно будто гудели с отчетливою ясностью металлического звука в моих ушах.
Три раза готов был вырваться из моих уст самый простой ответ, какой можно дать на такой простой вопрос, и три раза мое горло как будто было сдавлено какой-то перевязкой: слова замирали, не издавая никакого понятного звука. Глаза больного императора были упорно устремлены на меня. Наконец я сделал последнее усилие и отвечал:
– Да, ваше величество!
Почти немедленно вслед затем император спросил:
– Что нашли вы вашим инструментом? Каверны?
– Нет, начало паралича.
В лице больного не изменилась ни одна черта, не дрогнул ни один мускул, и пульс продолжал биться по-прежнему! Тем не менее я чувствовал, что мои слова произвели глубокое впечатление: под этим впечатлением мощный дух императора точно будто старался высвободиться из-под мелочных забот и огорчений здешнего ничтожного мира.
Было ясно, что в течение всей болезни это случилось в первый раз в эту минуту, которую почти можно назвать священной. Глаза императора устремились прямо в потолок и по крайней мере в продолжение пяти минут оставались неподвижными; он как будто во что-то вдумывался.
Затем он внезапно взглянул на меня и спросил:
– Как достало у вас духу высказать мне это так решительно?
– Меня побудили к этому, ваше величество, следующие причины. Прежде всего и главным образом, я выполняю данное мною обещание. Года полтора тому назад вы мне однажды сказали: «Я требую, чтоб вы мне сказали правду, если б настала та минута в данном случае». К сожалению, ваше величество, такая минута настала. Во вторых, я исполняю горестный долг по отношению к монарху. Вы еще можете располагать несколькими часами жизни, вы находитесь в полном сознании и знаете, что нет никакой надежды. Эти часы ваше величество, конечно, употребите иначе, чем как употребили бы их, если бы не знали положительно, что вас ожидает; по крайней мере так мне кажется. Наконец, я высказал вашему величеству правду, потому что люблю вас и знаю, что вы в состоянии выслушать ее.
Больной император спокойно внимал этим словам, которые я произнес почти без перерыва, слегка нагнувшись над его постелью. Он ничего не отвечал, но его глаза приняли кроткое выражение и долго оставались устремленными на меня. Сначала я выдерживал его взгляд, но потом у меня выступили слезы и стали медленно катиться по лицу.
Тогда император протянул ко мне правую руку и произнес простые, но навеки незабвенные слова:
– Благодарю вас.
Слово благодарю было произнесено с особым ударением. После того император перевернулся на другую сторону, лицом к камину, и оставался неподвижен.
Минут через 6 или 8 он позвал меня, назвал по имени и сказал:
– Позовите ко мне моего старшего сына.
Я исполнил это приятное поручение (wilkommene Botschaft) не уходя далее прихожей, и распорядился, чтоб меня известили, лишь только прибудет его императорское высочество.
Когда я возвратился к постели больного императора, он сказал, обращаясь ко мне, таким голосом, в котором не было заметно никакой перемены:
– Не позабудьте известить остальных моих детей и моего сына Константина. Только пощадите императрицу.
– Ваша дочь великая княгиня Мария Николаевна провела ночь, как я сам видел, на кожаном диване в передней комнате и находится здесь в настоящую минуту.
Вскоре прибыл его высочество наследник; по его приказанию известили обо всем императрицу; прибыл и духовник, которому я сообщил о моей попытке подготовить императора к приобщению Св. Тайн. С той минуты, как был исполнен этот долг (в половине 5-го) и до смерти (20 минут 1-го) умирающий отец, за исключением нескольких минутных перерывов, видел своего старшего сына, стоявшего на коленях у его постели, и держал свою руку в его руке, чтоб облегчить эту последнюю земную борьбу настолько, насколько это позволяют законы природы.
Высокий больной начал исполнять обязанности христианина; затем следовало исполнение обязанностей отца, императора и, наконец, даже милостивого хозяина дома, так как он простился со всеми своими служителями и каждого из них осчастливил прощальным словом.
Такая смерть и такое почти превышающее человеческие силы всестороннее исполнение своего долга возможны только тогда, когда и больной, и его врач отказались от всякой надежды на выздоровление и когда эта печальная истина была высказана врачом и принята больным с одинаковою решимостью.
Я считаю моим долгом записать здесь еще два вопроса, с которыми умирающий монарх обратился ко мне утром того дня (между 9 и 11 часами) и которые служат доказательством того, с каким удивительным душевным спокойствием, с каким непоколебимым мужеством и силою воли он смотрел в лицо смерти.
Первый из этих вопросов был следующий:
– Потеряю ли я сознание или не задохнусь ли я?
Из всех болезненных симптомов ни один не был так противен императору, как потеря сознания; я знал это, потому что он не раз мне об этом говорил.
Я понимал всю важность этого вопроса, который был сделан самым спокойным голосом; но внезапное рыдание помешало мне тотчас отвечать, и я был вынужден отвернуться. Только несколько времени спустя я был в состоянии отвечать:
– Я надеюсь, что не случится ни того ни другого. Все пойдет тихо и спокойно.
– Когда вы меня отпустите?
Его высочество был так добр, что повторил мне вопрос, которого я сначала не расслышал.
– Я хочу сказать, – присовокупил император, – когда все это кончится?
С тех пор как я стал заниматься медицинской практикой, я никогда еще не видел ничего хоть сколько-нибудь похожего на такую смерть; я даже не считал возможным, чтоб сознание в точности исполненного долга, соединенное с непоколебимою твердостию воли, могло до такой степени господствовать над той роковой минутой, когда душа освобождается от своей земной оболочки, чтоб отойти к вечному покою и счастию; повторяю, я считал бы это невозможным, если б я не имел несчастия дожить до того, чтоб все это увидеть.
Из очерка Александра Федоровича Шидловского «Болезнь и кончина императора Николая Павловича»
Семнадцатого февраля утром после проведенной беспокойной ночи государь немного заснул; после пробуждения впал в легкий бред. К полудню больной почувствовал сильное колотье в левой стороне груди, около сердца. Через два часа этот припадок прошел, но жар увеличился; по временам являлась наклонность к бреду. Медики поспешили предупредить наследника об опасном состоянии больного.
Пораженный таким известием, цесаревич счел долгом не скрывать долее от своей матери этого обстоятельства. Императрица с сердцем, растерзанным скорбью, решилась предложить своему августейшему супругу приобщиться Святых Тайн. Государь начал было говеть на первой неделе поста и с понедельника по четверг ежедневно посещал службу, но несколько раз, жалуясь на слабость, выражал сомнение: в силах ли он будет исполнить этот христианский долг? Несмотря на свою слабость, император ни разу в продолжение службы не садился. Теперь императрица собрала последние усилия и с твердостью подошла к постели умирающего, желая уговорить его причаститься. Остановившись у изголовья больного, она склонилась к нему и тихо сказала:
– Друг мой, ты не мог окончить начатого тобою говенья и приобщиться, как всегда бывало, Святых Тайн вместе с нами. Почему бы не исполнить этого теперь? Ты знаешь, что для христианина нет лекарства лучше, и многие страждущие получали облегчение от принятия Святых Тайн.
– Как! в постели? – возразил император. – Невозможно. Я рад и желаю исполнить эту обязанность, но когда буду на ногах, когда Бог даст мне облегчение. Лежа и неодетый, могу ли приступить к такому великому делу?
Императрица замолчала… Глаза ее наполнились слезами, она нежно обняла своего супруга; страшная борьба происходила в душе ее; она знала все; перед ней лежал нежно любимый и безнадежно больной муж, дни которого были сочтены… Припав к его груди, она чувствовала, что это дыхание, это биение сердца скоро прекратится; никакое человеческое знание не в силах бороться с природой, оставалась лишь одна надежда… на Бога.
После нескольких минут молчания государыня тихо начала читать «Отче наш».
– Ты читаешь молитву? Зачем?
– Молюсь о тебе.
– Разве я в опасности?
Императрица не имела мужества произнести роковое слово.
– Я молюсь о твоем выздоровлении, – ответила она.
– Надеясь на это, я хочу, чтобы ты сохранила свое, – отвечал государь, – ты очень расстроена, ты устала, поди успокойся.
Императрица вышла.
В полночь все бывшие в Петербурге члены царского семейства собрались на молитву в Малой дворцовой церкви; одновременно с этим слух об опасном состоянии больного распространился в столице. Казанский собор наполнился молящимися, которые возносили к Всевышнему мольбы об исцелении императора.
В двенадцатом часу ночи с 17-го на 18-е число доктор Мандт, осмотрев больного, сделал необходимые указания и, совершенно еще не считая положение государя безнадежным, отправился отдохнуть. Его заместил до трех часов утра доктор Карелль. В исходе третьего часа Мандт готовился идти на дежурство. […]
Войдя в спальню, доктор [Мандт] приблизился к больному, болезненное состояние которого оставалось без перемены с 12 часов; Карелль передал, что жар стал немного слабее, а дыхание несколько менее слышно, чем в полночь; он потом рассказывал, что сознавал безнадежное положение больного; страдания последнего были велики, и император просил облегчить их; но было уже поздно. Карелль немедленно отправился на половину наследника. Тотчас были написаны бюллетени; они раньше составлялись на немецком языке и теперь только были переведены гр. Адлербергом, который предлагал, сознавая опасность, издать их еще несколько дней тому назад, имея в виду, что внезапное известие о болезни государя может возбудить в народе различные толки. Доктор Мандт остался наедине с больным… […]
Обер-священник Бажанов, которому доктор Мандт раньше сказал, что идет убедить больного причаститься, находился уже во дворце; он подошел к изголовью умирающего и начал читать молитву перед исповедью; государыня вошла за ним и поместилась рядом с наследником в ногах августейшего супруга; после молитвы государь благословил их обоих.
Несколько минут спустя император остался наедине со своим духовником; началась исповедь, по окончании которой умирающий осенил себя крестным знамением со словами: «Молю Бога, чтобы он принял меня в свои объятия». Принятие Св. Тайн совершилось в присутствии императрицы и наследника. С полным сознанием и верой умирающий повторял за священником молитву: «Верую, Господи, и исповедую» с глубоким умилением и почти спокойным голосом. По исполнении этого священного долга император обратился к земным делам, чтобы сделать свои последние распоряжения.
Началось трогательное прощание; к этому времени в соседней комнате собрались члены августейшего семейства, которых император благословил по очереди, сказав каждому несколько слов.
Императрица не могла удержать своих рыданий.
– Ты плачешь!.. – промолвил император.
– Нет! – отвечала она. Видя, что умирающий начинает с трудом владеть своими мыслями, она предложила ему повторять за собой молитву ангелу-хранителю… Когда она дочитала до слов «Да будет воля Твоя!», государь повторил: «Да… пусть будет воля Твоя, Господи! теперь, во всем и всегда…»
Подошел к благословению наследник престола.
– Служи России, – сказал ему император, осеняя его крестным знамением, – мне хотелось принять на себя все трудное, все тяжелое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое… Провидение судило иначе…
– Если уже суждено мне тебя лишиться, – заливаясь слезами, отвечал цесаревич, – то я уверен, что ты и там будешь молиться Ему о России, о нас всех, о святой Его помощи понести тяжкое бремя, Им на меня возлагаемое.
– Да!.. я всегда молился за Россию и за всех вас; буду… буду молиться и там. Вы же, – обратился император ко всем присутствующим, – останьтесь навсегда, как было доселе, в тесном союзе любви семейной.
Всех маленьких внуков государь называл ласкательными именами, всем завещал служить России. Отсутствующих членов семейства умирающий благословил заочно, поднимая при имени каждого свою исхудалую руку для благословения.
Когда вошла великая княгиня Елена Павловна, государь обратился к ней:
– Благодарю!.. теперь и мне пришло время… Скажите мой сердечный поклон Кате, ей и ему[51].
В это время прибыл курьер с письмом из Крыма от великих князей Николая и Михаила. Император спросил:
– Здоровы ли они?.. все прочее меня не касается, я весь в Боге.
Получив утвердительный ответ, сказал:
– Боже!.. спаси их.
Простившись со всеми, государь приказал положить около своего гроба образ Богородицы Одигитрии, который получил от своей бабки Екатерины Великой при крещении; назначил сам в Зимнем дворце залу, где должны покоиться его останки до перенесения в Петропавловский собор; в последнем назначил место для своей могилы. Погребение просил совершить по возможности скромно, без пышных убранств. Срок траура велел назначить самый короткий.
Приказал призвать графа Адлерберга, генерал-адъютанта Орлова и военного министра князя [В. А.] Долгорукова. Наследнику особенно рекомендовал графа Адлерберга: «Этот был мне другом в течение сорока лет». На память ему завещал портфель. Графа Орлова «ты сам хорошо знаешь, нечего рекомендовать». Указав на Долгорукова, сказал: «А этот еще заслужит тебе». Первому отдал чернильницу со словами: «Из этой чернильницы мы с тобой много переписывали», а второму подарил свои часы с замечанием: «Ты никогда ко мне не опаздывал с докладами». Всех благодарил за службу; поручил наследнику от его имени поблагодарить других министров, гвардию, армию, флот и особенно геройских защитников Севастополя. Государь не забыл и ближайшую прислугу свою – всех благословил и сказал каждому несколько ласковых слов. […]
В исходе двенадцатого часа умирающий просил читать отходную молитву; он повторял за священником слово за словом, потом голос начал слабеть, император знаком подозвал священника, простился с ним, поцеловал его наперсный крест. Не будучи уже в силах шевелить губами, потухающими глазами своими указал на императрицу и наследника. С этого момента он не выпускал рук своих из рук последних. Взор сделался мутным, глаза смыкались… только рука умирающего, постепенно холодея, давала еще чувствовать угасающие признаки жизни. Наконец биение сердца прекратилось. Двадцать минут первого император Николай испустил последний вздох.
Из дневника фрейлины Анны Федоровны Тютчевой
Умирающий император лежал в своем маленьком кабинете в нижнем этаже дворца. Большой вестибюль со сводами рядом с его комнатами был полон придворными: статс-дамы и фрейлины, высокие чины двора, министры, генералы, адъютанты ходили взад и вперед или стояли группами, безмолвные и убитые, словно тени, движущиеся в полумраке этого обширного помещения. Среди томительной тишины слышно было только завывание ветра, который порывами врывался в огромный дворцовый двор. Казалось, что сама природа присоединяется к чувствам ужаса и страха, вызываемым в наших душах страшной и великой тайной смерти, совершающейся над тем человеком, сильным и мощным, который в течение более четверти века был в глазах нашей великой страны олицетворением могущества и жизни. Неужели исчезнет эта величавая фигура, которая как в отвлеченном, так и в реальном смысле была самым полным, самым ярким воплощением самодержавной власти со всем ее обаянием и всеми ее недостатками. И дыхание смерти пронесется над ней столь же равнодушно, как над былинкой в поле, превратит ее в прах и смешает с землей! За всю мою жизнь мне не приходилось видеть смерти, и она впервые предстала предо мной внезапная, неожиданная, во всем своем неумолимом противоречии с полнотой жизни; это приводило меня в такой ужас, воспоминание о котором никогда не изгладится из моей души. Ежеминутно из комнаты умирающего нам сообщали новые подробности. Несколько лиц из самых близких к императрице, чаще всего Мария Фредерикс, ходили взад и вперед из вестибюля в дежурную комнату, где находились врачи и дежурные и через которую беспрестанно проходили члены императорской семьи. От них мы были осведомлены с часа на час о том, что происходило.
Император после исповеди громким и твердым голосом произнес молитву перед причастием: «Верую, Господи, и исповедую» и т. д. и причастился с величайшим благоговением. По его желанию вся императорская семья собралась вокруг его кровати. Великие княгини всю ночь провели не раздеваясь в Зимнем дворце; они отдыхали в ту минуту, когда их позвали. Камеристка цесаревны говорила мне, что никогда еще она не видела ее такой взволнованной и потрясенной. Император благословил всех своих детей и внуков и говорил отдельно с каждым из них, несмотря на свою слабость. Благословляя цесаревну, он продолжительным взглядом, казалось, особенно поручил ей императрицу, как будто более всего он полагался на ее любовь и на ее заботу. Благословив всех, он сказал, обращаясь ко всем вместе:
– Напоминаю вам о том, о чем я так часто просил вас в жизни: оставайтесь дружны.
Вся семья теснилась у его изголовья, но он сказал:
– Теперь мне нужно остаться одному, чтобы подготовиться к последней минуте. Я вас позову, когда наступит время.
Семья удалилась в соседнюю комнату. При умирающем императоре остались только императрица, цесаревич и Мандт. Император настоятельно просил императрицу отдохнуть, хотя бы ненадолго. Она сказала ему:
– Оставь меня подле себя; я бы хотела уйти с тобою вместе. Как радостно было бы вместе умереть!
– Не греши, – ответил император, – ты должна сохранить себя ради детей, отныне ты будешь для них центром. Пойди соберись с силами, я тебя позову, когда придет время.
Императрица прилегла на кушетке в соседней комнате. Часов в пять приехала великая княгиня Елена Павловна, которую вызвали из Михайловского дворца. Умирающий привычным движением провел рукой по ее лицу и сказал шутливым тоном, который с ней часто принимал: «Bonjour, madame Michel»[52].
Страдания усиливались, но ясность и сознание духа ни на минуту не покидали умирающего. Он позвал к своему изголовью князя Орлова, графа Адлерберга и князя Василия Долгорукова, чтобы проститься с ними, велел позвать несколько гренадеров и поручил им передать его прощальный привет их товарищам. Цесаревичу он поручил проститься за него с гвардией, со всей армией и особенно с геройскими защитниками Севастополя. «Скажи им, что я и там буду продолжать молиться за них, что я всегда старался работать на благо им. В тех случаях, где это мне не удалось, это случилось не от недостатка доброй воли, а от недостатка знания и умения. Я прошу их простить меня». В пять часов он сам продиктовал депешу в Москву, в которой сообщал, что умирает, и прощался со своей старой столицей. В стране не знали даже, что он болен. Он велел еще телеграфировать в Варшаву и послать депешу к прусскому королю, в которой он просил его всегда помнить завещание своего отца и никогда не изменять союзу с Россией. Несколько часов спустя после смерти императора Николая император Александр II получил от прусского короля депешу в следующих словах: «Я никогда не забуду завета твоего покойного отца».
(Эти подробности я имею от цесаревны.)
Император приказал собрать в залах дворца все гвардейские полки с тем, чтобы присяга могла быть принесена немедленно после его последнего вздоха. Он велел также позвать madame Рорбек, любимую камер-фрау императрицы, которая удивительно хорошо ухаживала за ней во время ее последней болезни в Гатчине. Император с горячностью благодарил ее за ее преданность императрице, просил ее продолжать заботиться о ней и прибавил: «Передайте еще мой привет моему милому Петергофу».
Длинная ночь уже приходила к концу, когда приехал курьер из Севастополя – Меншиков-сын. Об этом еще доложили императору, который сказал: «Эти вещи меня уже не касаются. Пусть он передаст депеши моему сыну». В то время как мы шаг за шагом следили за драмой этой ночи агонии, я вдруг увидела, что в вестибюле появилась несчастная Нелидова. Трудно передать выражение ужаса и глубокого отчаяния, отразившихся в ее растерянных глазах и в красивых чертах, застывших и белых, как мрамор. Проходя, она задела меня, схватила за руку и судорожно потрясла. «Une belle nuit m-lle Tutcheff, une belle nuit[53]», – сказала она хриплым голосом. Видно было, что она не сознает своих слов, что безумие отчаяния овладело ее бедной головой. Только теперь, при виде ее, я поняла смысл неопределенных слухов, ходивших во дворце по поводу отношений, существовавших между императором и этой красивой женщиной, – отношений, которые особенно для нас, молодых девушек, были прикрыты с внешней стороны самыми строгими приличиями и полной тайной. В глазах человеческой, если не Божеской, морали эти отношения находили себе некоторое оправдание, с одной стороны, в состоянии здоровья императрицы, с другой – в глубоком, бескорыстном и искреннем чувстве Нелидовой к императору. Никогда она не пользовалась своим положением ради честолюбия или тщеславия, и скромностью своего поведения она умела затушевать милость, из которой другая создала бы себе печальную славу. Императрица с той ангельской добротой, которая является отличительной чертой ее характера, вспомнила в эту минуту про бедное женское сердце, страдавшее если не так законно, то не менее жестоко, чем она, и с той изумительной чуткостью, которой она отличается, сказала императору: «Некоторые из наших старых друзей хотели бы проститься с тобой: Юлия Баранова, Екатерина Тизенгаузен и Варенька Нелидова». Император понял и сказал: «Нет, дорогая, я не должен больше ее видеть, ты ей скажешь, что я прошу ее меня простить, что я за нее молился и прошу ее молиться за меня». Само собой разумеется, я все эти подробности узнала позднее, но из уст, гарантирующих их достоверность.
Ночь кончалась. Бледный свет петербургского зимнего утра понемногу проникал в вестибюль, в котором мы находились. Приток народа и волнение все возрастали около комнаты, где император в тяжелых страданиях, но в полной ясности ума боролся с надвигавшейся на него смертью. Наступил паралич легких, и, по мере того как он усиливался, дыхание становилось более стесненным и более хриплым. Император спросил Мандта: «Долго ли еще продлится эта отвратительная музыка?» Затем он прибавил: «Если это начало конца, это очень тяжело. Я не думал, что так трудно умирать». В 8 часов пришел Бажанов и стал читать отходную. Император со вниманием слушал и все время крестился. Когда Бажанов благословил его, осенив крестом, он сказал: «Мне кажется, я никогда не делал зла сознательно». Он сделал знак Бажанову тем же крестом благословить императрицу и цесаревича. До самого последнего вздоха он был озабочен тем, чтобы высказать им свою нежность. После причастия он сказал: «Господи, прими меня с миром, – и, указывая на императрицу, сказал Бажанову: – Поручаю ее вам, – и ей самой: – Ты всегда была моим ангелом-хранителем с того мгновения, когда я увидел тебя в первый раз, и до этой последней минуты». Во время агонии он держал еще в своих руках руки супруги и сына и, уже не будучи в состоянии говорить, прощался с ними взглядом. Императрица держалась с изумительным спокойствием и стойкостью до той минуты, когда собственными руками закрыла ему глаза. В десять часов нам сказали, что император потерял способность речи. До тех пор он говорил голосом твердым и громким и с полной ясностью ума.
Я была в комнате графини Барановой, окна которой выходят на улицу. Утренний туман рассеялся. Под ослепительным солнцем сверкал снег и иней на деревьях Адмиралтейского бульвара. Проехали несколько мужиков, равнодушно лежа в своих розвальнях. Жизнь текла обычным порядком, беззаботно и бессознательно в двух шагах от комнаты, где умирал император! Контраст так поразил меня, что я поспешила уйти в церковь, где шла прежде освященная обедня, так как была пятница. В последний раз я слышала, как провозгласили имя императора среди живых. Еще молились о его здравии. […]
Император скончался, по-видимому, в ту минуту, когда завершалась обедня. Выйдя из церкви, я вернулась в вестибюль, где уже толпился народ. Генерал-адъютант Огарев вышел из комнат императора и сказал: «Все кончено». Наступила жуткая тишина, прерываемая глухими рыданиями. Двери из императорских покоев распахнулись, и нам сказали, что мы можем подойти к покойному и проститься с ним. Толпа бросилась в комнату умершего императора. Это был антресоль нижнего этажа, довольно низкий, очень просто обставленный, который император предпочитал занимать в последние годы своей жизни во избежание высоких лестниц, так как его парадные покои были на самом верху, над покоями императрицы. Император лежал поперек комнаты на очень простой железной кровати. Голова покоилась на зеленой кожаной подушке, а вместо одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла его среди лишений военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца. Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой, начиная от обстановки и кончая дырявыми туфлями у подножия кровати. Руки были скрещены на груди, лицо обвязано белой повязкой. В эту минуту, когда смерть возвратила мягкость прекрасным чертам его лица, которые за последнее время так сильно изменились благодаря страданиям, подтачивавшим императора и преждевременно сокрушившим его, – в эту минуту его лицо было красоты поистине сверхъестественной. Черты казались высеченными из белого мрамора, тем не менее сохранился еще остаток жизни в очертаниях рта, глаз и лба, в том неземном выражении покоя и завершенности, которое, казалось, говорило: «я знаю, я вижу, я обладаю», в том выражении, которое бывает только у покойников и которое дает нам понять, что они уже далеки от нас и что им открылась полнота истины. Я видела смерть вблизи первый раз, но она не устрашила меня; наоборот, я почувствовала к ней тяготение. Я поцеловала руки императора, еще теплые и влажные, и не ушла, а встала около стены у изголовья и оставалась тут, пока проходила толпа, прощаясь с покойником. Я долго, долго смотрела на него, не сводя глаз, словно прикованная тайной, которую излучало это красивое и спокойное лицо, и с грустью оторвалась от этого созерцания.
Я добавлю здесь еще некоторые подробности о последних минутах императора, которые передала мне великая княгиня. Незадолго перед концом императору вернулась речь, которая, казалось, совершенно покинула его, и одна из его последних фраз, обращенных к наследнику, была: «Держи все – держи все». Эта слова сопровождались энергичным жестом руки, обозначавшим, что держать нужно крепко.
Вся императорская семья стояла на коленях вокруг кровати. Император сделал цесаревичу знак поднять цесаревну, зная, что ей вредно стоять на коленях. Таким образом, даже в эти последние минуты его сердце было полно той нежной заботливости, которую он всегда проявлял по отношению к своим. Предсмертное хрипение становилось все сильнее, дыхание с минуту на минуту делалось все труднее и прерывистее. Наконец по лицу пробежала судорога, голова откинулась назад. Думали, что это конец, и крик отчаяния вырвался у присутствующих. Но император открыл глаза, поднял их к небу, улыбнулся, и все было кончено!
Из письма Александры Осиповны Смирновой-Россет. 8 марта 1855 года
…Не стало того, на кого были устремлены с тревогой взоры всего мира, того, кто при своем последнем вздохе сделался столь великой исторической фигурой. Смерть его меня несказанно поразила христианской простотой всех его последних слов, всей его обстановкой. Подробности… я узнала… от Мандта, от Гримма, его старого камердинера, и, наконец, от государыни и великой княгини Марии. Мандт сообщил мне о течении болезни (у меня самой в это время был грипп, и я лежала в постели). Я пошла посмотреть эту комнату – скорее келью, куда в отдаленный угол своего огромного дворца он удалился выстрадать все мучения униженной гордости своего сердца, уязвленного всякой раной каждого солдата, чтобы умереть на жесткой и узкой походной кровати, стоящей между печкой и единственным окном в этой скромной комнате. Я видела потертый коверчик, на котором он клал земные поклоны утром и вечером перед образом в очень простой серебряной ризе. Откуда этот образ, никому неизвестно. В гроб ему положили икону Божьей Матери Одигитрии, благословение Екатерины при его рождении. Сильно подержанное Евангелие, подарок Александра (его он, как сам мне говорил, читал каждый день, с тех пор как получил его в Москве после беседы с братом у Храма Спасителя), экземпляр Фомы Кемпийского, которого он стал читать после смерти дочери, несколько семейных портретов, несколько батальных картин по стенам (он их собственноручно повесил), туалетный стол без всякого серебра, письменный стол, на нем пресс-папье, деревянный разрезательный нож и одесская бомба[54]: вот его комната. Он покинул свои прекрасные апартаменты для этого неудобного угла, затерянного среди местных коридоров, как бы с тем, чтобы приготовить себя для еще более тесного жилища. Эта комната находится под воздушным телефоном. Гримм, служивший при нем с ранней молодости, заливаясь слезами, говорил мне, что он после Альмы[55] долго не спал, а только два часа проводил в сонном забытьи. Он ходил, вздыхал и молился, даже громко, среди молчания ночи. Мне кажется, что он в это время именно раскрылся как человек вполне русский.
Из воспоминаний Виктора Михайловича Шимана
18 февраля, часов около 11 утра, захожу я в книжный магазин за какой-то книгой. Знакомый хозяин магазина, пока доставали книгу, подал мне листок с несколькими крупно напечатанными строками.
– Что это? Бюллетень! Кто заболел? – спросил я довольно хладнокровно, не ожидая ничего необычайного…
– Прочтите! – как-то особенно внушительно сказал хозяин магазина. Я пробежал шесть строк бюллетеня и невольно вскрикнул: – Ну, так и есть! Простудился на смотру пять дней назад… Какая-то баба ему напророчила, – добавил я смеясь и собрался рассказать, что говорила причитальщица.
– Нет, его видели еще третьего дня совершенно здоровым.
– Да. Значит, позже, а все-таки простудился; так и в бюллетени сказано. Грипп болезнь не важная; скоро оправится…
– Не оправится, потому что он уже скончался, – шепнул на ухо книготорговец. – После полудня выйдет второй бюллетень, а затем, вероятно, и окончательный…
Я оцепенел от этих слов. В первую минуту мне показалось, что я слышу совсем не то, что мне сказано. Опомнившись, я громко произнес:
– Как это возможно, чтобы такой богатырь не мог перенести такой пустяшной болезни?
Книготорговец оставил свою конторку и отвел меня в сторону.
– Во-первых, не говорите так громко: у нас это, как вам известно, не годится, особенно если найдутся нежелательные уши; а во-вторых, нельзя верить всему печатному…
– Что вы хотите этим сказать? – спросил я в недоумении.
– Да не более того, что он умер, вероятно, не от гриппа…
– От чего же?
Книготорговец взглянул на меня с иронической улыбкой и произнес скороговоркой:
– От неприятностей, понятно. Мог ли он перенести столько невзгод, сколько обрушилось на его голову за все время этой несчастной, им же затеянной войны?
– Однако, позвольте… Я живу постоянно в Петербурге, видел государя чуть не ежедневно и никогда не замечал, чтобы самые неприятные даже известия с театра войны действовали на него до болезненности.
– На то он и был Николай Павлович, чтобы не походить на других. Строгий к другим, он, как герой, не мог быть нестрогим и к себе самому… Он молча переносил удары судьбы и не выдержал…
Прежде чем я успел задать новый, начинавший мучить меня вопрос, собеседник мой прибавил:
– Больше я ничего не могу сказать вам, потому что сам говорю по слухам, – и с этими словами ушел за конторку.
Как я был предупрежден, так и вышло: за вторым очень тревожным бюллетенем, вышел третий, равносильный провозглашению нового царствования, – Николая Павловича не стало. Оставалось только в первый и последний раз облобызать руку того, который целовал меня, христосуясь с ординарцем-юношей, того, с которым я часто встречался в течение 15 лет и был всегда счастлив и доволен, когда это случалось. Доступ во дворец для поклонения покойному был разрешен всем. Гроб с телом усопшего стоял на возвышении в одной из зал нижнего этажа Зимнего дворца, окна которой были обращены на дворцовую площадку. Мощная фигура покойного государя производила впечатление и в гробу; строгие черты лица не изменились нисколько, но в закрытых глазах уже нельзя было видеть ни приветливого взгляда в большинстве случаев, ни грозного в иных, приводившего тысячи людей в трепет. Теперь тоже тысячи людей подходили к гробу усопшего, без боязни всматриваясь в охладевшее лицо государя и читая молитву об отпущении грехов ему.
Из очерка Александра Федоровича Шидловского «Болезнь и кончина императора Николая Павловича»
Известие о кончине государя произвело потрясающее впечатление на жителей столицы и отозвалось по всей России; для всех оно было неожиданным. Мы сказали выше, что государь запретил печатать известия о ходе своей болезни; первый бюллетень появился в газетах только восемнадцатого февраля утром; вместе с ним было разослано на особых листках известие о серьезном положении больного; на другой день появились в газетах три последние бюллетеня, уже когда императора не было в живых; таким образом смерть государя для всех была ударом совершенно неподготовленным. Повсюду носились траурные листки, уныние и печаль замечались на всех лицах. Скончавшийся император в глазах всех был олицетворением чего-то рыцарского, величественного, богатырского. Густая масса народа толпилась на Дворцовой площади. Имя доктора Мандта стало ненавистным; сам он боялся показаться на улицу, так как прошел слух, что народ собирается убить этого злополучного немца. Кучер покойного государя, выйдя к толпе, едва смог ей выяснить, от какой болезни скончался царь. Несмотря на это, рассказывали, что доктор приготовлял для больного лекарства своими руками, а не в дворцовой аптеке, принося их с собою в кармане; болтали, что будто давал он больному порошки собственного изобретения, от которых и умер государь. Было наряжено следствие по этому поводу, которое ничего не доказало. Мандта, однако, поспешили в наемной карете вывезти из дворца, где он жил; говорят, в тот же день он выехал за границу.
Тело покойного государя после смерти покоилось в том самом кабинете, где он испустил последний вздох; оно лежало на походной кровати, в рубашке, и было покрыто серой заношенной солдатской шинелью почившего. Государыня не отходила от него и не допускала докторов бальзамировать усопшего; затем в тот же день тело было перенесено в нижнюю залу Зимнего дворца, которая выходила углом на Неву и здание Адмиралтейства; сюда допускали всех желавших поклониться праху почившего.
Перенесение покойного императора из Зимнего дворца в Петропавловский собор было совершено двадцать четвертого февраля. Когда вынесли гроб и стали поднимать его на печальную колесницу, толпа, запрудившая всю набережную и Дворцовую площадь, как один человек, опустилась на колена; из всей массы этой, как из одной груди, были слышны рыдания и стоны: «Ох! Господи, помилуй…»
В Петропавловском соборе тело императора Николая I покоилось до 5 марта; в этот день в 11 часов утра совершилось погребение. Когда императрица отдала последнее целование почившему супругу и с рыданием еле дошла до кресла, стоявшего возле гроба, император Александр II, поклонившись праху незабвенного родителя, опустился на колена перед матерью; она благословила его, равно как и всех детей и внучат, стоявших у гроба.
Мы не будем останавливаться на том впечатлении, которое произвела на всю Россию невозвратная утрата обожаемого государя; скажем только, что смерть Николая I отозвалась в сердцах без исключения всех истинно русских людей; имя «незабвенного», данное покойному родителю вступившим на прародительский престол его преемником, пронеслось до самых отдаленных уголков обширного царства, мощным властелином которого он был.
Мало того, царствование Николая I было важной эпохой и для всей Европы, а потому кончина его произвела весьма глубокое впечатление на Западе. Несмотря на разгар войны, не только друзья, но и враги России отдавали должное уважение царю, который, можно сказать, умер на троне.
В некоторых заграничных газетах говорили о каком-то мнимом политическом завещании, которое было составлено за несколько лет перед кончиною императора. Все это было опровергнуто вскрытием акта, действительно составленного императором и писанного собственною его рукою еще в 1844 году, где он просит исполнить все по сей бумаге, хотя это завещание и черновое. Здесь ни одного слова нет о политике не только внешней, но даже и внутренней.
Вот приблизительное содержание этого замечательного документа:
Завещание начинается обычными словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа…» и далее: «В 1831 году июня 21-го, при самом развитии холеры написал я наскоро мои последние желания. Милосердному Богу угодно было не только сохранить тогда жизнь всему нашему семейству, но, по благодати Божией, оно с тех пор получило значительное приращение. Счастливые сии события должны изменить отчасти первые мои намерения; почему нужным считаю постановить следующее как изречение последних моих желаний».
Завещательный акт содержит 34 статьи.
Статья первая, после подробного перечисления разных недвижимых имений, дворцов, дач, мыз и деревень, долженствующих составлять личную собственность государыни императрицы Александры Феодоровны, гласит: «Желаю, однако, чтобы жене моей предоставлено было пользоваться покоями ее в Зимнем дворце, на Елагином острову и в новом дворце в Царском Селе. Кроме того, хотя по праву наследства Николаевский (Аничковский) дворец принадлежать должен старшему моему сыну, но по жизнь предоставляю пользоваться оным жене моей, ежели ей сие угодно.
Завещаю всем детям и внучатам моим любить и чтить их родительницу и пещись об ее успокоении, предупреждать ее желания и стараться утешать ее старость нежною их попечительностию. Никогда и ничего важного во всю их жизнь не предпринимать, не спрося предварительно ее совета и материнского благословения.
Младшим моим сыновьям быть до совершеннолетия в полной ее зависимости».
В статьях 2, 3, 4 и 6-й упоминается, что подаренный ему императором Александром I Николаевский (Аничков) дворец со всеми прилегающими к нему дворами и домами, равно как завещанное наследнику престола императрицей Марией Феодоровной гатчинское имение должны принадлежать заместившему его императору; последнему предназначается также царскосельский Арсенал; второму же сыну, Константину, завещаются все модели, телескопы, рупоры, медальный кабинет и собственная его величества библиотека.
Статьи 5, 7 и 8-я говорят о распределении оставленного императрицей Марией Феодоровной капитала между внуками ее: Константином, Николаем и Михаилом; из частей этого капитала должны быть куплены: для великого князя Константина Николаевича – Стрельна, для великого князя Николая Николаевича – мыза Знаменская, для великого князя Михаила Николаевича – мыза М[алая] Знаменская. В 7-й статье особо говорится о мызе, составляющей собственность великого князя Николая Николаевича, находящейся в пожизненном владении его матери: «От жены моей зависеть будет, когда дачу угодно будет представить в пользу моего сына; я бы желал, чтобы сие последовало тогда, когда вступит он в брак».
По 8-й статье предоставляет своим сыновьям разделить поровну и по жребию собственную его конюшню.
В 9-й статье великому князю Михаилу Павловичу разрешается выбрать для себя из большой конюшни лошадей по его желанию.
10-я статья распределяет поровну между дочерьми собственный его величества капитал; «но как на проценты сего капитала платились многие пенсионы, то прошу таковые принять на государственное казначейство или на кабинет, как императору угодно будет»; об этих же капиталах постановляется, что они должны навсегда оставаться в России; великим княгиням разрешается только пользоваться процентами с этого капитала, часть которого они могут истратить лишь на покупку недвижимой собственности в России.
В статье 12-й говорится: «Желаю, чтобы всей моей комнатной прислуге, верно и усердно мне служившей, обращены были их содержания в пенсионы. К сей же прислуге причитаю лейб-рейдкнехтов и кучера моего Якова».
По статье 13-й государь просит наследника своего обратить внимание на верную и долговременную службу тайного советника Блока, пожаловать ему пенсию в размере получаемого им содержания.
В 14-й статье говорится о товарищах юных лет императора: «С моего детства два лица были мне друзьями и товарищами; дружба их ко мне никогда не изменялась. Генерал-адъютанта Адлерберга любил я, как родного брата, и надеюсь по конец жизни иметь в нем неизменного и правдивого друга. Сестра его, Юлия Федоровна Баранова, воспитала трех моих дочерей, как добрая и рачительная родная. Обоим им прошу назначить в мою память пенсионы, сверх получаемых, по 15 тысяч руб. сер[ебром]. В последний раз благодарю их за братскую любовь».
В 15-й статье – «прошу императора милостиво призреть стариков инвалидов, у меня живших по разным местам. Желаю, чтобы они доживали свой век на прежнем положении, разве угодно ему будет улучшить их содержание».
По статьям 16-й и 17-й государь изъявляет свое благоволение всем воспитателям его детей, завещает последним любить и уважать их; наследнику же престола предоставляется обеспечить их положение; благодарить духовника своего, отца Музовского, и лейб-медиков: Арендта, Маркуса, Мандта и Рейнгольта, за их труды и попечения; предписывает «душевно благодарить» тех, которые служили ему, были более или менее близки к нему по своему званию и его доверенности.
В статьях 18–22-й перечисляются поименно по пунктам все эти лица, из которых многие отошли в вечность раньше скончавшегося императора. В числе других он благодарит князя Петра Михайловича Волконского, «который, несмотря на преклонные лета, с неизменным усердием и преданностью пекся как обо мне, так и обо всем моем семействе и о моих собственных делах»; князя Иллариона Васильевича Васильчикова: «Я начал службу под его начальством; он был мне всегда другом, наставником и впоследствии первым помощником в государственных делах»; и генерал-фельдмаршала князя Варшавского «как за его искреннюю признательность и дружбу, так и за геройские подвиги, коими он возвеличил славу нашего оружия и попрал измену».
В статьях 23–25-й государь изъявляет свое благоволение и признательность всем бывшим при нем генералам его свиты и флигель-адъютантам; завещает им с любовию и преданностью служить его преемнику. Выражая свою благодарность находившимся при нем частным лицам, обращается к своим любезным войскам с такими словами: «Благодарю славную, верную гвардию, спасшую Россию в 1825 году, а равно храбрые и верные армию и флот; молю Бога, чтобы сохранил в них навсегда те же доблести, тот же дух, коими при мне отличались: покуда дух сей сохранится, спокойствие государства и вне, и внутри обеспечено, и горе врагам его! Я их любил, как детей своих: старался как мог улучшить их состояние; ежели не во всем успел, то не от недостатка желания, но оттого, что или лучшего не умел придумать, или не мог более сделать».
Император (ст. 26) «заклинает детей и внуков любить, и чтить своего государя от всей души, служить ему верно, неутомимо, безропотно, до последней капли крови, до последнего издыхания, и помнить, что им надлежит быть примером другим, как служить должно верноподданным, из которых они первые. «Я уверен (ст. 27), что сын мой, император Александр Николаевич, будет всегда почтительным, нежным сыном, каким всегда умел быть с нами; долг этот еще священнее с тех пор, когда мать его одна. В его любви и нежной привязанности, также и всех детей и внучат, она должна обрести утешение в своем одиночестве. В обхождении с братьями своими сын мой должен уметь соединять снисходительность к их молодости с необходимою твердостью как отец семейства и никогда не терпеть ни семейных ссор, ни чего-либо могущего быть вредным пользе службы, тем паче государства; а в подобных случаях, от чего Боже нас сохрани, помнить наистрожайше, что он – государь, а прочие члены семейства – подданные».
Потом (ст. 28–30) государь снова обращается к членам своего семейства, близким и дальним родственникам своим. «Я питал к ней, – говорит он о старшей сестре своей Марии Павловне, – с детства особенную привязанность за всегдашние ее ко мне милости. Позднее ее дружба сделалась для меня еще драгоценнее, и ни к кому на свете не имел я толикого доверия. Я чтил ее, как мать, и ей исповедовал всю истину из глубины моей души. Здесь в последний раз повторяю ей мою душевную благодарность за отрадные минуты, которые проводил в ее беседе». […]
«Благодарю (ст. 31) всех меня любивших, всех мне служивших. Прощаю всех меня ненавидящих».
«Прошу всех (ст. 32), кого мог неумышленно огорчить, меня простить. Я был человек со всеми слабостями, коим люди подвержены; старался исправиться в том, что за собой худого знал. В ином успевал, в другом нет; прошу искренно меня простить».
«Я умираю (ст. 33) с благодарным сердцем за все благо, которым Богу угодно было в сем преходящем мире меня наградить, с пламенной любовью к нашей славной России, которой служил по крайнему моему разумению верой и правдой; жалею, что не мог произвести того добра, которого столь искренно желал. Сын мой меня заменит. Буду молить Бога, да благословит Он его на тяжкое поприще, на которое вступает, и сподобит его утвердить Россию на твердом основании страха Божия, дав ей довершить внутреннее ее устройство и отдаля всякую опасность извне. На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся вовеки!»
«Прошу (ст. 34) всех меня любивших молиться об успокоении души моей, которую отдаю милосердному Богу с твердою надеждой на Его благость и предаваясь с покорностью Его воле. Аминь».
В отдельной записке, приложенной к завещанию, император делает распоряжение о некоторых иконах, соединенных с особенными воспоминаниями; назначает членам своего семейства, частным лицам, а также прислуге на память о себе подарки из принадлежавших ему вещей; «просит настоятельно велеть устроить его похороны как можно проще», сократить время траура и выражает желание «быть похороненным за батюшкою у стены, так чтобы осталось место для жены подле меня».
К этому завещательному акту была приложена записка, составленная 3 марта 1845 года:
«29 июля 1844 г. Богу угодно было отозвать к себе любезнейшую дочь нашу, Александру. Смиряясь перед неисповедимой волей, мы не ропща сносим жестокий сей удар. С твердым упованием, что ежели так сбылось по воле Его, то сбылось к лучшему и что ей при Создателе ея отраднее, чем здесь в суетах жизни.
Молим Господа да сохранить других нам милых.
Назначавшийся 11-ю статьею к дележу между трех моих дочерей наличный собственный капитал разделить ныне дочерям моим – Марии и Ольге поровну.
Вещи, предназначавшиеся дочери моей Александре, оставляю сыну Александру к распределению по его усмотрению. Медальон и печать, которые покойная дочь мне подарила на одре смерти, завещаю жене моей, а после ее – сыну Александру.
Портрет дочери Александры, что у меня на столе, – госпиталю, строящемуся в ее память».
Эти завещательные строки могут служить самой лучшей характеристикой почившего как человека. Все распоряжения императора, обнаруживавшие чистоту его души, были в точности исполнены; они словно доказывали, что царь, зарытый в земле, еще жив и не перестает изливать оттуда свои благодеяния на Россию, даже за гробом для него дорогую.
Да, русское общество было потрясено смертью императора, который казался несокрушимым. Людям проницательным и осведомленным ясно было, что это не обычная смерть, а гибель, спровоцированная обстоятельствами.
Из воспоминаний публициста Владимира Петровича Мещерского
Факт был несомненный: Николай Павлович умирал от горя, и именно русского горя. Это умирание не имело признаков физической болезни – она пришла только в последнюю минуту, – но умирание происходило в виде несомненного преобладания душевных страданий над его физическим существом… Процесс разрушения шел так быстро, и оттого немедленно после этой почти внезапной кончины по всему городу пошли ходить легенды: одна о том, что Николай I был отравлен доктором Мандтом, и другая – о том, что он сам себя отравил.
Версия самоубийства вызывала доверие у самых разных людей.
Строгий и компетентный историк Н. К. Шильдер, автор биографий Павла I, Александра I и Николая I, допущенный в святая святых государственных архивов, написал на полях публикации, излагавшей официальную версию смерти Николая: «Отравился». Очевидно, у Шильдера были для этого основания.
В 1914 году в журнале «Голос минувшего», который издавали известные историки С. Мельгунов и В. Семевский, был опубликован мемуарный очерк внука директора военно-медицинского департамента и президента Медико-хирургической академии В. В. Пеликана, тоже врача.
Из очерка А. В. Пеликана «Перемена царствования»
Впоследствии я не раз слышал его историю. По словам деда, Мандт дал желавшему во что бы то ни стало покончить с собой Николаю яду. Обстоятельства эти хорошо известны деду благодаря близости к Мандту, а также благодаря тому, что деду из-за этого пришлось перенести кое-какие служебные неприятности. Незадолго до кончины Николая I профессором анатомии в академию был приглашен прозектор знаменитого тамошнего профессора Гиртля, тоже знаменитый анатом Венцель Грубер. Груберу было поручено бальзамирование тела усопшего императора. Несмотря на свою большую ученость, Грубер в житейском отношении был человек весьма недалекий, наивный, не от мира сего. О вскрытии тела покойного императора он не преминул составить протокол и, найдя этот протокол интересным в судебно-медицинском отношении, напечатал его в Германии. За это он и был посажен в Петропавловскую крепость, где и содержался некоторое время, пока заступникам его не удалось установить в данном случае простоту сердечную и отсутствие всякой задней мысли. Деду, как бывшему тогда начальником злополучного анатома, пришлось оправдываться в неосмотрительной рекомендации… Петербургское общество, следуя примеру двора, закрыло перед Мандтом двери… Многие из нас порицали Мандта за уступку требованиям императора… По словам деда, отказать Николаю в его требовании никто бы не осмелился. Да такой отказ привел бы еще к большему скандалу. Самовластный император достиг бы своей цели и без помощи Мандта: он нашел бы иной способ покончить с собой и, возможно, более заметный. Николаю не оставалось ничего другого, как выбирать: подписать унизительный мир или же покончить жизнь самоубийством.
История с самоубийством при помощи яда – скорее всего, апокриф. Николай был искренне верующим человеком и слишком культивировал свою верность христианским установлениям, чтобы пойти на такой грех. Но положение у него и в самом деле было ужасающее. С его гордыней, с его представлением о миссии русского императора, на исходе царствования испытать такое унижение, признать, что его политика привела державу к катастрофе, что его любимое детище – армия – не выдержала первого же столкновения с европейскими силами, – для него это, конечно же, было невыносимо.
Можно с уверенностью предположить, что он хотел смерти и его демонстративные поездки, уже будучи больным, в легком плаще в сильный мороз, были вызваны стремлением ускорить свою кончину.
Если выбирать между безапелляционным выводом Шильдера и психологически тонкими соображениями Мещерского, то, на наш взгляд, имеет смысл отдать предпочтение последнему.
Несмотря на внешнюю бодрость, Николай, скорее всего, находился в состоянии тяжелой депрессии – есть сведения, что, получая известия о поражениях русской полевой армии в Крыму, он не спал ночами и громко молился…
Крымская катастрофа была закономерным следствием тридцатилетней деятельности Николая, и осознание своего личного краха убило императора.
При всем его волевом напоре ему не удалось решить ни одной из фундаментальных задач, стоявших перед государством: крестьянская реформа не удалась, экономика и финансы деградировали, брожение умов не прекратилось, армия оказалась недостаточно боеспособной.
Человек другого склада склонился бы перед судьбой и попытался бы сделать практические выводы.
Николай органически не мог смириться с поражением – и погиб.
Трагический финал царствования и жизни Николая Павловича Романова был и финалом петровской империи, детища первого императора, прямым наследником которого считал себя Николай.
Со смертью Николая завершился стопятидесятилетний период, когда Россия, надрываясь, решала гигантские имперские задачи и шла от кризиса к кризису.
Великие реформы 1860-х годов открыли новую эпоху.
Эпилог
Вскоре после смерти Николая Павловича один из крупных чиновников, курляндский губернатор, просвещенный бюрократ из хорошей дворянской семьи, Петр Александрович Валуев, будущий министр иностранных дел и председатель Комитета министров при Александре II, написал и распространил сочинение под названием «Дума русского», в котором подвел печальные итоги предшествующего тридцатилетия.
Из записки Петра Александровича Валуева «Дума русского во второй половине 1856 года»
Я болен Севастополем… Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам
Давно ли они пророчествовали, что нам
Что стало с нашими морями? Где громы земные и горняя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега. Неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю, занимают наши города, укрепляют их против нас самих и отбивают нас, когда мы усиливаемся вновь овладеть отцовским достоянием. Друзей и союзников у нас нет. А если есть еще друзья, то малочисленные, робкие, скрытные друзья, которым будто стыдно сознаться в приязни к нам. Одни греки не побоялись этого признания. За это их тотчас задавили, и мы не могли им помочь. Мы отовсюду отрезаны, один прусский король соблаговолил оставить нам открытыми несколько калиток для сообщения с остальным христианским миром. Везде проповедуется ненависть к нам, все нас злословят, на нас клевещут, над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких врагов? Неужели одним только нашим величием? Но где это величие? Где силы наши? Где завет прежней славы и прежних успехов? Где превосходство войск наших, столь стройно грозных под Красным Селом (место маневров гвардии под Петербургом. – Я. Г.)? Еще недавно они залили своею кровью пожар венгерского мятежа, но эта кровь пролилась для того только, чтобы впоследствии наши полководцы тревожно озирались на воскресших нашей милостью австрийцев. Мы теперь боимся этих австрийцев. Мы не смеем громко упрекнуть их в неблагодарности, мы торгуемся с ними и ввиду их не могли справиться с турками на Дунае. Европа уже говорит, что турки переросли нас. Правда, Нахимов разгромил турецкий флот при Синопе, но с тех пор сколько нахимовских кораблей погружено в море! Правда, в Азии мы одержали две-три бесплодные победы, но сколько крови стоили нам эти проблески счастья! Кроме них, всюду утраты и неудачи.
…Зачем завязали мы дело, не рассчитав последствий, или зачем не приготовились, из осторожности, к этим последствиям? Зачем встретили войну без винтовых кораблей и без штуцеров? Зачем ввели горсть людей в княжества и оставили горсть людей в Крыму? Зачем заняли княжества, чтобы их очистить, перешли Дунай, чтобы из-за него вернуться, осаждали Силистрию, чтобы снять осаду, подходили к Калафату, чтобы его не атаковать, объявляли ультиматумы, чтобы их не держаться, и прочая, и прочая, и прочая! Зачем надеялись на Австрию и слишком мало опасались англо-французов? Зачем все наши дипломатические и военные распоряжения с самого начала борьбы были только вынужденными последствиями действий наших противников? Инициатива вырвана из наших рук при первой сшибке, и с тех пор мы словно ничем не занимались, как только приставлением заплат там, где они оказывались нужными. Не скажет ли когда-нибудь потомство, не скажут ли летописи, те правдивые летописи, против которых цензура бессильна, что даже славная оборона Севастополя была не что иное, как светлый ряд усилий со стороны повиновавшихся к исправлению ошибок со стороны начальствовавших?
…В исполинской борьбе с половиной Европы нельзя было более скрывать под сенью официальных самохвальств, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которые требовались для управления боя, что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны; что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог, более чем где-либо необходимых на тех неизмеримых пространствах, где нам надлежало передвигать наши силы. Европу колебали несколько лет сряду внутренние раздоры и мятежи; мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжение этого времени быстрее и последовательнее внутренние и внешние силы?
…Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления? Отличительные черты его заключаются в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и в пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм подавляет сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Везде сделано все возможное; везде приобретены успехи; везде водворяется если не вдруг, то по крайней мере постепенно должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды или полуправды – и редко где окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блеск; внизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет истины. Она затаена между строками; но кто из официальных читателей всегда может обращать внимание на междустрочия!
У нас самый закон нередко заклеймен неискренностью. Мало озабочиваясь определительной ясностью выражений и практической применимостью правил, он смело и сознательно требует невозможного. Он всюду предписывает истину и всюду предопределяет успех, но не пролагает к ним пути и не обеспечивает исполнения своих собственных требований. Кто из наших начальников или даже из подчиненных может точно и последовательно исполнять все, что ему вменено в обязанность действующими постановлениями? Для чего же вменяется в обязанность невозможное? Для того, чтобы в случае надобности было на кого обратить ответственность. Справедливо ли это? Не в том дело, справедливость или неточное соблюдение закона, смотря по обстоятельствам, заранее предусмотрены. В главе многих узаконений наших надлежало бы напечатать два слова, которые не могут быть переведены на русский язык: «Restriction mentale»[58].
…Все изобретения внутренней правительственной недоверчивости, вся централизация и формалистика управления, все меры законодательной предосторожности, иерархического надзора и взаимного контролирования различных ведомств ежедневно обнаруживают свое бессилие. Канцелярские формы не предупредили позорной растраты сумм инвалидного капитала и не помешали истребить голодом или последствиями голода половину резервной бригады, расположенной в одной из прибалтийских губерний. Это последнее преступление или, точнее, длинный ряд гнуснейших преступлений даже остаются доселе безнаказанными. Между тем возрастающая механизация делопроизводства более и более затрудняет приобретение успехов по разным отраслям государственного управления. Все правительственные инстанции уже ныне более заняты друг другом, чем сущностью предметов их ведомства. Высшие едва успевают наблюдать за внешней правильностью действий низших инстанций; низшие почти исключительно озабочены удовлетворением внешней взыскательности высших. Самостоятельность местных начальств до крайности ограничена, а высшие начальники, кажется, забывают, что доверие к подчиненным и внимание, оказываемые их взглядам на дело, суть также награды, хотя о них и не вносится срочных представлений в комитет господ министров.
Недоверчивость и неискренность всегда сопровождаются внутренними противоречиями. Управление доведено по каждой отдельной части до высшей степени централизации, но взаимные связи этих частей малочисленны и шатки. Каждое министерство действует по возможности особняком и ревностно применяется к правилам древней системы уделов. Централизация имеет цель наивозможно большего влияния высших властей на все подробности управления и на этом основании значительно стесняет в иерархическом порядке власть административных инстанций. Но масса дел, ныне восходящих до главных начальств, превосходит их силы. Они по необходимости должны предоставлять значительную часть этих дел на произвол своих канцелярий. Таким образом, судьба представлений губернских начальников и генерал-губернаторов весьма нередко зависит не от господ министров, но от столоначальников того или другого министерства. Безжизненное однообразие распространено даже на исторические памятники, воздвигаемые на полях сражений; они распределены на разряды и подведены под один нормальный образец. Между тем единство высших административных форм нарушается без видимой причины учреждением V отделения Собственной его величества канцелярии. Если эта добавочная инстанция признана излишней по делам других министерств, то почему она необходима по делам министерства государственных имуществ? Действия этого министерства вообще последовательно противоречат одной из главных целей его учреждения. Посредством нового устройства казенных имений предполагалось между прочим указать путь к необходимому преобразованию поземельных отношений в имениях частных владельцев. Но министерство не только не создает потребных образцов, но даже вводит или сохраняет в устройстве казенных крестьян те именно формы, которые никогда не могут быть приспособлены к быту крестьян в частных вотчинах. Основное и важнейшее правило, что казна в пределах казенных имений не что иное, как вотчинник, подобный всем другим вотчинникам, постоянно и преднамеренно нарушается. Помещик, лично управляющий своим поместьем, имеющий в нем оседлость и непосредственно участвующий своим умом и своим капиталом в возделывании принадлежащей ему земли, есть существо совершенно излишнее по нынешней системе устройства государственных имуществ. Даже в тех губерниях, где издавна существовали арендаторские управления, составляющие ближайшую аналогичную связь между формами устройства казенных и частных имений, министерство по возможности упраздняет эти управления и предоставляет волостным судам те предметы ведомства, которые прежде принадлежали арендаторам как прямым представителям вотчинной власти.
…Много ли искренности и много ли христианской истины в новейшем направлении, данном делам веры, в мерах к воссоединению раскольников и в отношениях к иноверным христианским исповеданиям? Разве кроткие начала евангельского учения утратили витающую в них Божественную силу? Разве веротерпимость тождественна с безверием? Разве нам дозволено смотреть на религиозные верования как на политическое орудие и произвольно употреблять или стараться употреблять их для достижения политических целей? Летописи христианского мира свидетельствуют, что при подобных усилиях сокрушается премудрость премудрых и опровергается разум разумных. Святая церковь не более ли нуждается в помощи правительства к развитию ее внутренних сил, чем в насильственном содействии к обращению уклонившихся или к воссоединению отпавших? Нынешний быт нашего духовенства соответствует ли его призванию и правильно ли смотрят на внутренние дела православной паствы те самые государственные люди, которые всегда готовы к мерам строгости против иноверцев или раскольников? О раскольниках сказано, что их религиозная жизнь заключается в «букве и недухе» (1855). Кажется, что иногда сама православная церковь тяготеет над ними «буквой и недухом». Быть может, что если бы наши пастыри несколько более полагались на вышнюю силу вечных истин, ими проповедуемых, и несколько менее веровали в пользу содействия мирских полиций, то их жатва была бы обильнее.
…Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде опека над малолетними. Везде противоположность правительства народу, казенного частному, вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах. Постановлениями о заграничных паспортах наложен домашний арест на свыше 60 миллионов верноподданных его императорского величества. Ограничением числа обучающихся в университетах стеснены пути к образованию. Закон о гражданской службе сглажен, по мере возможности все различия служебных достоинств и все способности одинаково подведены под мерило срочных производств и награждений.
Непосредственно после февраля 1855 года думающие русские люди разных общественных воззрений фиксировали свои впечатления от случившегося.
Из «Записок» историка Сергея Михайловича Соловьева
Крымская война – расплата за тридцатилетнюю ложь. Тридцатилетнее давление всего живого, духовного, подавление народных сил, превращение русских людей в палки. Некоторые утешали себя так: «Тяжко! Всем жертвуем для материальной, военной силы, но по крайней мере мы сильны, Россия занимает важное место, нас уважают и боятся». И это утешение было отнято. Наше патриотическое чувство было унижено унижением России, но только бедствие могло произвести спасительный переворот, успех войны затянул бы крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему. Мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные привели бы нас в трепет.
Из воспоминаний писателя, журналиста и чиновника Евгения Михайловича Феоктистова «За кулисами политики и литературы»
Конечно, только изверг мог радоваться бедствиям России, но Россия была неразрывно связана с императором Николаем, а одна мысль, что он выйдет из войны победителем, приводила в трепет. Торжество его было бы торжеством системы, которая оскорбляла все лучшие чувства и помыслы людей образованных. С каждым днем становилось невыносимее, ненависть к Николаю не имела границ.
С. М. Соловьев был, как широко известно, не только один из крупнейших русских историков, но и убежденный государственник. Но смысл государственности он, как видим, понимал отнюдь не по-николаевски.
Е. М. Феоктистов – крупный чиновник в сфере просвещения, при Александре III начальник Главного управления по делам печати, заслуживший на этом посту репутацию жесткого охранителя.
Из дневника генерал-адъютанта Павла Христофоровича Граббе, одного из завоевателей Кавказа
28 февраля 1859 г. Спасительна была решимость оставить сцену двора и света и отказаться от служебной деятельности, уже неудовлетворительной, после долгой и неробкой борьбы с виновником ига, почти тридцать лет тяготевшего над терпеливою Россиею, и с его жалкими избранниками…
1 марта. В последней повести в «Современнике» И. Тургенева… попалось мне выражение очень меткое, о роде ощущений почти всех даровитых людей в прошлое тридцатилетие с 1825 года: «Мы жили, чтобы уцелеть». И сколько их не уцелело! Одни и многие погибли совсем, другие скрыли, как преступление, лучшие дары свои и помыслы!
Но, пожалуй, самое поразительное то, как оценил деятельность своего отца великий князь Константин Николаевич, любимец императора, адресат, как мы помним, трогательных писем Николая Павловича, впоследствии активный участник реформ, ломавших тяжкое наследие Николая.
Из письма великого князя Константина Николаевича министру внутренних дел Петру Александровичу Валуеву
Мы 30 лет ошибались и думаем, что можем довольствоваться тем, что наконец благоволили заметить ошибки, но не хотим допустить их неизбежных последствий… Эти 30 лет мы будем не раз поминать.
Из письма Федора Ивановича Тютчева жене. 17 сентября 1855 года
Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Если бы кто-нибудь, желая войти в дом, сначала заделал бы двери и окна, а затем стал пробивать стену головой, он поступил бы не более безрассудно, чем это сделал два года тому назад незабвенный покойник (имеется в виду развязывание Крымской войны. – Я. Г.). Это безрассудство так велико и предполагает такое ослепление, что невозможно видеть в нем заблуждение и помрачение ума одного человека и делать его одного ответственным за подобное безумие. Нет, конечно, его ошибка была лишь роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России…
Надо помнить, что Тютчев был не только крупный политический мыслитель, но и яростный патриот.
А через полвека и Василий Осипович Ключевский, трезво рассматривая пеструю и драматическую картину XIХ века, жестко включил Николаевское царствование в общий контекст столетия.
Из записей Василия Осиповича Ключевского «Афоризмы и мысли об истории»
Павел – Александр I – Николай I
В этих трех царствованиях не ищите ошибок: их не было. Ошибается тот, кто хочет действовать правильно, но не умеет. Деятели этих царствований не хотели так действовать, потому что не знали и не хотели знать, в чем состоит правильная деятельность. Они знали свои заблуждения, но не угадывали целей и были свободны от способности предвидеть результаты. Это были деятели, самоуверенной ощупью искавшие выхода из потемков, в которые они погрузили себя самих и свой народ, чтобы закрыться от света, который дал бы возможность народу разглядеть, кто они такие.
Павел, Александр I и Николай I владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный интерес, упражняли на ней свою волю, не желая и не умея понять нужд народа, истощая в своих видах его силы и средства, не обновляя и не направляя их к целям народного блага.
В продолжение всего XIX века с 1801 года, со вступления на престол Александра I, русское правительство вело чисто провокаторскую деятельность; оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, а потом накрывало и карало неосторожных простаков. Так было при Александре I: Сперанский со своими конституционными проектами стал таким невольным провокатором, чтобы вывести на свежую воду декабристов и потом в составе следственной комиссии иметь несчастье плакать при допросах своих попавшихся политических воспитанников. При императоре Николае I правительственная провокация изменила тактику. Если нахальная аракчеевщина, сменившая стыдливую совестливую сперанщину, стремилась заговор вытолкнуть на вооруженное восстание, то Николай I своей предательской бенкендорфщиной старался загнать общественное недовольство в заговор. Удачный опыт такой стратагемы, испробованный над поляками, надолго парализовал русские конспиративные силы, разбил их на бессильные кружки, и дело петрашевцев ярко обличило их бессилие. Были негодующие люди, как Герцен, Грановский, Белинский, но не было угрожающих, и постыдное царствование императора Николая I благополучно кончилось севастопольским поражением.
Самоуверенный, жестокий к тем, кого он считал своими противниками и врагами России, безжалостный к нарушителям установленных им правил, исполненный гордыни и сознания своей миссии, император Николай Павлович во имя своего долга перед Россией и миром – как он этот долг, понимал, – мощной рукой пытался задержать органическое течение истории, согнуть ее под свое царственное колено.
История отомстила ему.
«Много от прапорщика и мало от Петра Великого», – записал в дневнике Пушкин, как никто слышавший голос истории.
Трагическая судьба Николая I и драма николаевской России – горький урок, который так и не был в полной мере учтен за последнюю четверть тысячелетия.
Указатель имен
Абердин, лорд, Джордж Гамильтон-Гордон (1784–1860) – в 1852–1855 гг. премьер-министр Великобритании, один из инициаторов Крымской войны.
Аделунг Федор Павлович (1768–1843) – историк, философ, почетный член Петербургской академии наук.
Адлерберг Владимир Федорович (1792–1884) – граф, генерал от инфантерии, министр Императорского двора, личный друг Николая I.
Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – один из лидеров и идеологов славянофильства, публицист, поэт. Делал незаурядную чиновничью карьеру, пока в 1849 г. не был внезапно арестован. Поводом послужили письма Аксакова к отцу, перлюстрированные чиновниками III отделения. Аксакова заподозрили в противоправительственном образе мыслей. Николай, прочитав письма, велел шефу жандармов А. Ф. Орлову «вразумить и отпустить». Прославился своей честностью, благодаря которой его привлекали к разбору коррупционных дел. Издавал газеты и журналы славянофильского направления. В период балканского кризиса, предшествующего русско-турецкой войне 1878–1879 гг., в Болгарии обсуждалась его кандидатура на болгарский престол.
Александр I Павлович (1777–1825) – русский император.
Александр II Николаевич (1818–1881) – русский император.
Александра Иосифовна (1830–1911) – великая княгиня, жена великого князя Константина Николаевича.
Александра Николаевна (1825–1844) – великая княжна, младшая дочь Николая I, домашнее прозвище Адини.
Александра Федоровна (1798–1860) – жена Николая I, императрица.
Алексей Петрович (1690–1718) – царевич, сын Петра I, убитый по приказу отца.
Альберт, герцог Саксен-Кобург-Готский (1819–1861) – принц-консорт, муж Виктории, королевы Великобритании.
Анна Иоанновна (1693–1740) – русская императрица с 1730 г., дочь Ивана V Алексеевича, старшего брата и соправителя Петра I до 1696 г.
Анна Павловна (1795–1855) – великая княжна, младшая дочь Павла I, с 1840 г. и до смерти в 1849 г. своего мужа, короля Нидерландов и великого герцога Люксембургского Вильгельма II, королева Нидерландов.
Анна Федоровна (1781–1860) – урожденная принцесса Юлианна Генриетта Ульрика Саксен-Кобург-Заальфельдская, великая княгиня, жена великого князя Константина Павловича. Брак оказался неудачным. Грубость и вздорность великого князя заставила Анну Федоровну удалиться за границу. В 1820 г. они развелись.
Апраксин Степан Петрович (1792–1862) – граф, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, с 1824 по 1833 г. командир Кавалергардского полка.
Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) – граф, генерал от артиллерии, основатель военных поселений, личный друг и доверенное лицо императоров Павла I и Александра I.
Арбузов Алексей Федорович (1792–1861) – с 1810 по 1825 г. офицер лейб-гвардии Егерского полка. Впоследствии генерал-адъютант и генерал от инфантерии.
Аренд Николай Федорович (1786–1859) – лейб-медик Александра I и Николая I, участник наполеоновских войн. Был направлен Николаем I к умирающему Пушкину.
Бажанов Василий Борисович (1800–1883) – священник, духовник Николая I.
Бакунин Илья Модестович (1800–1841) – 14 декабря 1825 г. подпоручиком пешей гвардейской артиллерии командовал орудиями, расстрелявшими боевые порядки мятежников. Впоследствии генерал-майор. Погиб на Кавказе.
Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант. С 1809 по 1812 г. военный губернатор Петербурга, одновременно с 1810 по 1812 г. первый министр полиции Российской империи. В 1812 г. с началом войны сопровождал Александра I в действующую армию. Был отправлен парламентером к Наполеону с предложением вывести войска с российской территории и начать переговоры. Акция последствий не имела. Во время заграничного похода сопровождал императора и выполнял дипломатические поручения. После войны был генерал-губернатором пяти центральных губерний. В 1826 г. входил в состав Верховного уголовного суда по делу декабристов. При Николае I был отстранен от активной деятельности, оставаясь членом Государственного совета.
Баранова Юлия Федоровна (1789–1864) – статс-дама, воспитательница дочерей Николая I, сестра графа В. Ф. Адлерберга, министра Императорского двора.
Башуцкий Павел Яковлевич (1771–1836) – участник наполеоновских войн, в 1825 г. комендант Санкт-Петербурга, пытался не допустить восставших лейб-гренадер во двор Зимнего дворца и был ими избит. Пожалован в генерал-адъютанты, а через три года в генералы от инфантерии, оставаясь комендантом Санкт-Петербурга.
Белоусов – фельдъегерь, выполнявший ответственные задания. Осуществлял связь Петербурга с Варшавой в дни междуцарствия 1825 г.
Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844) – генерал-адъютант, активный участник наполеоновских войн, незаурядный кавалерийский генерал. Автор проекта образования корпуса жандармов, шефом которого был с 1826 г. до самой смерти. Один из ближайших соратников Николая I.
Бенкендорф Константин Христофорович (1785–1828) – брат шефа жандармов, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн, войны с Персией 1826–1828 гг., войны с Турцией 1828–1829 гг.
Берг Федор Федорович, граф (1790–1874) – фельдмаршал, участник наполеоновских войн, во время войны с Турцией 1828–1829 гг. генерал-квартирмейстер 2-й армии, активный участник подавления польских восстаний 1830 и 1863 гг. В августе 1853 г. назначен наместником Царства Польского и главнокомандующим дислоцированными там войсками. Отличался жестокостью репрессий по отношению к польским мятежникам и сочувствующему им населению.
Берже Адольф Петрович (1828–1886) – историк, археолог, крупнейший в XIX в. специалист по истории и быту Кавказа. Редактор и организатор фундаментального издания «Акты, собранные кавказской археографической комиссией» (Тифлис, 1866–1886), автор многих других трудов, посвященных Кавказу.
Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801–1826) – подпоручик Полтавского пехотного полка, куда был переведен из лейб-гвардии Семеновского полка после волнений семеновцев в 1820 г. Один из лидеров Южного тайного общества и участник восстания Черниговского полка. Один из пяти казненных декабристов.
Бетанкур Адольф Августович (1805–1875) – флигель-адъютант с 1845 г., впоследствии генерал-адъютант, генерал-лейтенант.
Бибиков Илларион Михайлович (1792–1860) – участник наполеоновских войн, полковник, флигель-адъютант, директор канцелярии Главного штаба при Александре I. При Николае I находился под подозрением. При Александре II – генерал-лейтенант, сенатор. Был женат на сестре Сергея Ивановича Муравьева-Апостола.
Бистром Карл Иванович (1770–1838) – генерал-адъютант, генерал от инфантерии, герой наполеоновских войн, многократно раненный, отличавшийся самоубийственной храбростью. Командуя всей гвардейской пехотой, имел под своей командой великих князей Константина Павловича и Николая Павловича. В период междуцарствия 1825 г. был в оппозиции великому князю Николаю Павловичу.
Блиох Иван Станиславович (1836–1901) – экономист, финансист, член Ученого комитета министра финансов.
Блок Александр Иванович (1786–1848) – тайный советник, управляющий Собственной его императорского величества канцелярией. В его ведении находился Аничков дворец.
Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864) – граф, литератор, министр внутренних дел в 1832–1838 гг. Вместе с Пушкиным в 1815–1818 гг. состоял в литературном обществе «Арзамас». Близкий знакомый и доброжелатель Пушкина в 1830-е гг. С 1862 г. председатель Государственного совета и Комитета министров.
Блудова Антонина Дмитриевна (1813–1891) – дочь Д. Н. Блудова, была близка ко двору при Николае I, с 1863 г. камер-фрейлина. Занималась благотворительностью, оставила воспоминания.
Блум Оттон Бломе (1770–1849) – граф, датский посланник в Петербурге с 1804 по 1841 г.
Бордоский герцог – граф Генрих Шарль д'Артуа, герцог Бордо (1820–1883) – последний представитель старшей линии французских Бурбонов, во время революции 1830 г. претендовал на французский трон, доставшийся Луи Филиппу.
Боровков Александр Дмитриевич (1788–1856) – литератор, чиновник, правитель дел Комиссии для исследования о злоумышленном обществе. Старался смягчить участь декабристов. Составитель «Алфавита декабристов» – первого свода биографических данных о членах тайных обществ. Автор воспоминаний.
Бороздин Константин Матвеевич (1781–1848) – археолог, историк, попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, сенатор, председатель Цензурного комитета.
Бриммер Эдуард Владимирович (1797–1874) – генерал от артиллерии, сподвижник Ермолова на Кавказе. Bо время Крымской войны отличился в боях с турками в Малой Азии.
Бруннов Филип Иванович, барон (1797–1875) – чиновник для особых поручений при вице-канцлере К. В. Нессельроде, впоследствии посол в Англии, действительный тайный советник, крупный дипломат, чья подпись стоит под многими важными международными договорами России.
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) – популярный писатель и журналист, известный своими связями с политической полицией.
Бунзен Христиан Карл фон (1791–1860) – политический деятель, археолог и писатель, в 1842–1854 гг. прусский посланник в Лондоне. Пытался вовлечь Пруссию в союз европейских держав, воевавших с Россией.
Буоль-Шауэнштейн Карл Фердинанд фон (1797–1865) – граф, дипломат, министр-президент Австрийской империи с 1852 по 1859 г. Во время Восточного кризиса, приведшего к Крымской войне, занял резко враждебную позицию по отношению к России, чем способствовал победе франко-англо-турецкой коалиции. Буоля вынуждал к этому целый ряд обстоятельств. В частности, в случае поддержки России Наполеон III грозил спровоцировать революцию в итальянских владениях империи. Но антироссийская политика Буоля оказалась близорукой. Она нарушила европейское равновесие, вынудила Австрию воевать с Францией Наполеона III за Ломбардию. После поражения Австрии Буоль был отправлен в отставку.
Бургоэн Поль Шарль Амабль де (1791–1864) – первый секретарь французского посольства, затем поверенный в делах и полномочный министр Франции в России. Во времена Наполеона III сенатор.
Бурдин Федор Алексеевич (1827–1887) – актер Императорских театров, писатель.
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) – генерал-майор, военный историк, сенатор, член Государственного совета. Участник наполеоновских войн. Генерал-квартирмейстер 2-й армии во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. С 1843 г. директор Императорской публичной библиотеки. Приобрел известность как председатель Комитета для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением всех произведений российского книгопечатания, созданного Николаем I в 1848 г.
Бутурлина Елизавета Михайловна (1805–1859) – жена Д. П. Бутурлина, светская красавица, статс-дама.
Вадковский Иван Федорович (1790–1848) – полковник, батальонный командир лейб-гвардии Семеновского полка. В 1820 г. осужден по делу о волнениях в полку.
Валуев Петр Александрович (1815–1890) – государственный деятель, в 1863–1868 гг. министр внутренних дел умеренно-консервативного направления. В 1879 г. председатель Комитета министров. Автор чрезвычайно ценного для историков дневника.
Вандам Доменик Жезеф Рене (1770–1830) – дивизионный генерал в армии Наполеона. Поражение корпуса Вандама в августе 1813 г. при Кульме сыграло решающую роль в судьбе Наполеона, положив начало победам войск антинаполеоновской коалиции, завершившимися взятием Парижа и отречением императора французов.
Васильчиков Илларион Васильевич (1775–1847) – генерал-адъютант, генерал от кавалерии, участник наполеоновских войн. С 1838 г. председатель Государственного совета. Личный друг Николая I.
Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852) – герцог, английский полководец и государственный деятель. С 1813 г. фельдмаршал. Выиграл у Наполеона сражение при Ватерлоо.
Вельден Людвиг фон (1782–1853) – барон, австрийский военачальник, с 1836 г. фельдмаршал-лейтенант. В 1848 г. во время Венгерского восстания генерал-губернатор Вены. Командовал армией против повстанцев.
Вельо Осип Осипович (1795–1857) – барон, полковник лейб-гвардии Конного полка. При подавлении мятежа на Сенатской площади был ранен в руку, которую пришлось ампутировать.
Вельяминов Алексей Александрович (1785–1838) – генерал-лейтенант, начальник штаба Грузинского (затем – Кавказского) корпуса при Ермолове, ближайший помощник проконсула. Теоретик и практик завоевания Кавказа.
Верне – известный французский актер, был в Петербурге в начале 1830-х гг.
Вигель Филипп Филиппович (1786–1856) – чиновник, литератор, керченский градоначальник, директор Департамента иностранных вероисповеданий. Состоял вместе с Пушкиным в обществе «Арзамас», был в приятельских отношениях с поэтом во время южной ссылки и позже. Автор известных мемуаров.
Виктория (1819–1901) – королева Великобритании с 1837 г.
Вилламов Григорий Иванович (1773–1842) – статс-секретарь по ведомству императрицы Марии Федоровны, писатель.
Вильгельм I Оранский (1772–1843) – с 1815 по 1840 г. первый король Нидерландов. В 1840 г., будучи чрезвычайно непопулярным из-за громадных государственных долгов и романа с католичкой графиней Генриеттой д’Утремон, счел за благо передать престол сыну.
Вильгельм II Оранский (1792–1849) – король Нидерландов с 1840 г. Муж великой княжны Анны Павловны, дочери императора Павла I.
Витберг Александр Лаврентьевич (1787–1865) – художник и архитектор, автор первого проекта храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Был обласкан Александром I и оказался в опале при Николае I. Был обвинен в растрате казенных денег, по мнению современников несправедливо, и сослан в Вятку. Строительство храма не состоялось. В Вятке плодотворно работал как архитектор. В 1840 г. по ходатайству Жуковского был возвращен в Петербург. Умер в бедности.
Витгенштейн Петр Христианович (1768–1842) – граф, фельдмаршал, герой наполеоновских войн. В 1818–1828 гг. – главнокомандующий 2-й армией. В 1834 г. прусский король во внимание к заслугам Витгенштейна возвел его в княжеское достоинство с титулом светлости. Титул был признан в России.
Витт Иван Осипович (1781–1840) – граф, генерал от кавалерии, участник наполеоновских войн. В 1817–1823 гг. начальник южных военных поселений. После активного участия в подавлении польского мятежа 1830–1831 гг. и недолгого пребывания на посту варшавского военного губернатора был назначен инспектором всей поселенной кавалерии тех же южных поселений.
Власов Максим Григорьевич (1767–1848) – генерал от кавалерии, атаман Войска Донского. Участник наполеоновских войн и завоевания Кавказа. В 1826 г. был отдан под суд по обвинению в разорении и ограблении мирных черкесских аулов, но оправдан. Отличился при подавлении польского мятежа 1830–1831 гг.
Воинов Александр Львович (ок. 1770–1832) – генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Отличился в войне с Турцией 1806–1812 гг., участник заграничных походов. В 1824 г. назначен командующим Гвардейским корпусом, но во время мятежа 14 декабря не проявил должной энергии и в 1826 г. был переведен командующим корпусом во 2-ю армию,
Волконский Петр Михайлович (1776–1852) – светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн, талантливый штабист, доверенное лицо Александра I. После воцарения Николая I был назначен министром Императорского двора.
Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865) – генерал-майор, один из лидеров Южного тайного общества. Участник наполеоновских войн и войны с Турцией 1806–1812 гг. Участник более 50 сражений. За участие в заговоре приговорен к смертной казни, замененной двадцатилетней каторгой, сокращенной затем до 15 лет, а затем до 10. В 1856 г. амнистирован.
Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – граф, с 1845 г. светлейший князь, генерал-фельдмаршал, герой наполеоновских войн, талантливый военачальник, отличавшийся гуманным отношением к солдатам. Придерживался либеральных взглядов и был сторонником отмены крепостного права. С 1823 г. новороссийский и бессарабский генерал-губернатор. С 1845 по 1854 г. наместник Кавказа и Грузии.
Вронченко Федор Павлович (1779–1852) – действительный тайный советник, c 1849 г. граф, с 1844 г. министр финансов Российской империи. По мнению специалистов, был одним из самых бездарных министров финансов России. Его деятельность способствовала регрессу финансовой системы и экономики в целом.
Вюртембергский Адам Карл Вильгельм Станислав Евгений Павел Людвиг (1792–1847) – герцог, двородный брат Николая I, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, активный участник подавления польского мятежа 1830–1831 гг.
Вюртембергский Евгений (1788–1857) – принц, генерал от инфантерии, двоюродный брат Николая I, одаренный полководец, активный участник наполеоновских войн. Неотлучно был при Николае в день 14 декабря.
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) – князь, литератор, мыслитель, друг Пушкина, автор знаменитых «Записных книжек». С 1817 по 1821 г. служил при главе администрации Царства Польского Н. Н. Новосильцеве, исповедовал либеральные взгляды, за что был изгнан из Польши и ушел в отставку. Много лет был в опале. Тяжело пережил трагедию 14 декабря, казнь и ссылку декабристов. Осудил в «Записной книжке» жестокость подавления польского мятежа. В 1830-е гг. был вынужден под давлением Николая I вступить в службу. Служил в Министерстве финансов, ему глубоко чуждом. С возрастом сменил либеральные взгляды на сугубо консервативные.
Ган Павел Васильевич (1793–1862) – тайный советник, сенатор, член Государственного совета. В 1837 г. ему было поручено ревизовать управление Кавказом и Грузией и представить план преобразований. Деятельность Гана, совершенно не понимавшего местных условий, но чрезвычайно самоуверенного, оказалась разрушительной. Его нововведения, копирующие административное устройство России, вызвали массовое недовольство, бунты и побеги к Шамилю ранее лояльных России местных аристократов. Ган был уволен, а реформу пришлось проводить заново и на Кавказе, и в Грузии.
Гангеблов Александр Сергеевич (1801–1891) – поручик лейб-гвардии Измайловского полка. Член петербургской ячейки Южного общества. После заключения в Петропавловской крепости в октябре 1826 г. отправлен на Кавказ, где отличился в боях с горцами и во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. В 1832 г. вышел в отставку поручиком.
Гарун аль-Рашид (Харун аль-Рашид; 763/766–809) – халиф из династии Аббасидов, осуществлявший и духовную и светскую власть с 786 по 809 г. Идеализированный в сказках «Тысяча и одной ночи», он на самом деле был жестоким и коварным деспотом, удержавшим свою власть благодаря репрессиям по отношению не только к знати, но и к простым жителям халифата.
Гауке Маврикий Федорович (1775–1830) – участник войн Польши против России в 1792 и 1794 гг., позже воевал против австрийцев в польских формированиях Бонапарта в Италии. После создания Наполеоном Варшавского герцогства в 1807 г. бригадный генерал польской армии. После падения Наполеона и образования Царства Польского в составе Российской империи перешел в русскую службу, был близок в великому князю Константину Павловичу, командовавшему польской армией. Был военным министром Царства Польского. Во время польского мятежа 1830 г. остался верен России и был убит повстанцами.
Гедеонов Александр Михайлович (1790–1867) – с 1834 по 1858 г. директор Императорских театров. Отличался тем, что предпочитал балет, итальянскую оперу и французскую труппу российской драматургии. На первом этапе своей театральной карьеры реформировал театральное училище и добился увеличения общего театрального бюджета.
Герцен Александр Иванович (1812–1870) – мыслитель, публицист, писатель. Самый знаменитый русский эмигрант. Непримиримый противник николаевского режима. Издатель газеты «Колокол» и альманаха «Полярная звезда». Издаваемые в Лондоне газета и альманах нелегально доставлялись в Россию, мощно влияя на общественное сознание. Автор грандиозной мемуарной эпопеи «Былое и думы».
Гесс Генрих фон (1788–1870) – барон, австрийский фельдмаршал, участвовал в войнах с Наполеоном, талантливый штабист. В 1854 г., возглавляя австрийскую армию на границах с Россией, не только вынудил Николая I очистить занятые ранее Молдавию и Валахию, но и сковал значительные силы русских, необходимые в Крыму.
Годунов Василий (1817–?) – актер русской драматической труппы.
Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772–1843) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, участник заговора против Павла I, участник наполеоновских войн. Распоряжался казнью пятерых декабристов в качестве военного генерал-губернатора Санкт-Петербурга.
Голицын Александр Николаевич (1773–1844) – князь, личный друг Александра I. Будучи вольномыслящим в вопросах веры, был тем не менее назначен Александром обер-прокурором Святейшего Синода и занимал эту должность с 1805 по 1816 г.; с 1816 по 1824 г. был министром духовных дел и народного просвещения. Один из главных распространителей так называемого «официального мистицизма» и создателей Библейского общества. Образование прочно связал с благочестием. Под давлением консервативного духовенства Александр уволил его от должности министра духовных дел и народного просвещения. Он стал министром почт и остался членом Государственного совета. Близость Голицына к августейшему семейству сохранилась и при Николае I.
Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844) – генерал от кавалерии, активный участник наполеоновских войн, в 1820–1843 гг. военный генерал-губернатор Москвы, которому она во многом обязана своим восстановлением после пожара 1812 г. За восстановление города был награжден орденом Св. Андрея Первозванного и титулом светлейшего князя. Отличался справедливостью и благородством.
Головин Евгений Александрович (1782–1858) – генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн и русско-турецкой войны 1806–1812 гг. С 1821 г. командир лейб-гвардии Егерского полка. Был известен своим мистическим благочестием. Отличился при подавлении восстания 14 декабря 1825 г. В частности, привел к присяге Николаю Егерский полк вопреки воле командующего гвардейской пехотой К. И. Бистрома, оппозиционного великому князю. Во время войны с Турцией в 1828 г. прославился тем, что в парадной форме выносил из лазарета умерших от чумы для погребения, подавая пример оробевшим солдатам. Принимал участие в подавлении польского мятежа 1830–1831 гг. С 1838 по1842 г. командовал Отдельным Кавказским корпусом. Его деятельность на Кавказе оказалась неудачной: были потеряны плоды многолетних усилий его предшественников.
Головин Иван Гаврилович (1816–1890) – публицист, после службы в Министерстве иностранных дел уехал в Европу и принял английское подданство. За отказ вернуться в Россию после ряда публикаций, вызвавших неудовольствие российских властей, был заочно приговорен «к лишению чинов и дворянства и ссылке в Сибирь в каторжную работу». После этого выпустил книгу на французском языке «Россия при Николае». Издавал журналы в Америке и Европе. Живо интересовался реформами Александра II и написал ряд брошюр по животрепещущим тогда вопросам. Будучи амнистирован, в Россию не вернулся.
Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) – светлейший князь, канцлер Российской империи, министр иностранных дел с 1856 по 1879 г. Фактически Горчаков был основным вершителем внешней политики в продолжение всего царствования Александра II. Его высочайшим достижением был отказ от соблюдения Россией унизительных статей Парижского договора, заключенного после поражения в Крымской войне. Искусно воспользовался напряжением между Францией и Пруссией, чтобы добиться своего. Но это был последний успех Горчакова. Его дальнейшая политика привела к новой изоляции России и спровоцировала тяжелую русско-турецкую войну 1877–1878 гг., результаты которой, несмотря на военную победу России, оказались незначительными, но усилили внутриполитическое напряжение в империи.
Горчаков Михаил Дмитриевич (1793–1861) – генерал-адъютант, генерал от артиллерии, участник наполеоновских войн и русско-турецкой войны 1828–1829 гг. В феврале 1855 г. сменил А. С. Меншикова на посту командующего войсками в Крыму. Переломить ситуацию Горчакову не удалось, и в августе того же года он приказал оставить Севастополь. Умер на посту наместника Царства Польского.
Граббе Павел Христофорович (1789–1785) – генерал-адъютант, генерал от кавалерии, участник наполеоновских войн, любимый адъютант К. П. Ермолова, а затем Барклая-де-Толли. Отличился в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и при подавлении польского мятежа 1830–1831 гг. С 1838 по 1842 г. командовал войсками Кавказской линии и побережья Черного моря. Возглавил кровопролитный штурм резиденции Шамиля аула Ахульго и взял его, после ряда тяжелых неудач был отозван с Кавказа. Участвовал в подавлении венгерской революции 1848 г. После нескольких лет опалы вернулся на службу. При Александре II был назначен наказным атаманом войска Донского, получил орден Св. Андрея Первозванного и был возведен в графское достоинство. Автор воспоминаний и дневника, из которых явствует, что он в душе остался верен представлениям своей молодости, когда был членом декабристской организации Союз благоденствия и четыре месяца провел под арестом в Динаминдской крепости.
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – талантливый историк, специалист по европейскому Средневековью, профессор всеобщей истории Московского университета с 1839 по 1855 г. Либерал. Близкий друг А. И. Герцена. Пользовался огромным нравственным авторитетом у образованной части русского общества.
Греч Николай Иванович (1787–1867) – журналист, публицист, в молодости близкий к декабристским кругам. Публиковался в альманахе А. Бестужева и К. Рылеева «Полярная звезда». С 1825 г. вместе с Ф. В. Булгариным издавал журнал «Сын отечества», основанный им в 1812 г., и с тем же компаньоном официозную газету «Северная пчела». Автор содержательных воспоминаний и нескольких полезных учебников русского языка.
Григорьев 2-й Петр Григорьевич (1807–1854) – актер и драматург, служил в труппе Александринского театра. Обладал даром импровизации.
Грубер Венцель – известный австрийский анатом, бальзамировавший тело Николая I.
Гурьев Николай Дмитриевич (1789–1849) – тайный советник, дипломат, посланник при разных европейских дворах.
Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) – генерал-лейтенант, инициатор партизанских действий в 1812 г., участник заграничных походов, талантливый поэт, автор ценных воспоминаний и теоретических военных трудов. Участвовал в войне со Швецией в 1808 г., в русско-турецкой войне в 1809–1810 гг. Кавалер многих орденов и золотого оружия за храбрость, отличился в подавлении польского мятежа 1830–1831 гг. Был скептически настроен по отношению к режиму Николая I.
Дадиан (Дадьян, Дадианов) Александр Леонович (1800–1865) – князь, флигель-адъютант, отличился в русско-персидской войне 1826–1828 гг. и в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Был зятем командующего Кавказским корпусом генерала от инфантерии барона Г. В. Розена, командовал на Кавказе Эриванским карабинерным полком. Во время поездки Николая I в 1837 г. по Кавказу был обвинен в хозяйственных злоупотреблениях (использовал солдатский труд в своем имении), был лишен флигель-адъютантского звания, разжалован и отправлен в Бобруйскую крепость, где содержался до 1840 г., после чего, лишенный чинов, орденов, княжеского и дворянского достоинства, сослан в Вятку. Амнистирован Александром II.
Данненберг Петр Андреевич (1792–1872) – генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн, служил в Польше при великом князе Константине Павловиче, а после подавления польского мятежа оставлен служить при Паскевиче, заменившем умершего Константина. Во время Крымской войны Данненберга преследовали неудачи. После провала атаки на Инкерманские высоты, которой руководил Данненберг, его отозвали из армии и назначили членом Военного совета.
Дараган Петр Михайлович (1800–1875) – генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и подавления польского мятежа 1830–1831 гг. С 1850 г. служил в Министерстве внутренних дел, а затем тульским военным губернатором.
Дегай Павел Иванович (1892–1849) – тайный советник, сенатор, занимал ряд ответственных постов в Министерстве юстиции, при московском генерал-губернаторе, в Сенате. Автор ряда работ по теории права.
Дернберг Вильгельм (1766–1850) – генерал-майор. Служил в войсках брата Наполеона Жерома Бонапарта, короля Вестфалии, в 1812 г. вступил в русскую армию, формально оставаясь генералом австрийской службы. Участник наполеоновских войн. После падения Наполеона перешел в ганноверскую службу и был назначен в 1830 г. ганноверским посланником в России.
Дибич Иван Иванович (1785–1831) – граф, генерал-фельдмаршал, участник наполеоновских войн. После падения Наполеона назначен начальником штаба 1-й армии и пожалован в генерал-адъютанты. С 1824 г. начальник Главного штаба. Был с Александром I в Таганроге и присутствовал при его смерти. Суммировал доносы на тайные общества и в дни междуцарствия 1825 г. отправил подробный доклад великому князю Николаю Павловичу. Стал доверенным лицом нового императора. В частности, был командирован на Кавказ, чтобы без скандала заменить Ермолова Паскевичем. Сочувствуя Ермолову, тем не менее вынужден был выполнить волю императора. Во время русско-турецкой войны в 1829 г. возглавил русскую армию на Балканах и успешно закончил войну, получив титул Забалканского. Неудачно командовал русской армией при подавлении польского мятежа и умер от холеры в разгар военных действий в 1831 г.
Дивов Павел Гаврилович (1765–1841) – сенатор, дипломат, во время польского восстания 1794 г., оказавшись в Варшаве, просидел 9 месяцев в крепости. Возглавлял с 1805 г. секретный архив Министерства иностранных дел. С 1819 г. сенатор. Старший член совета министра иностранных дел. Яростный консерватор, противник любых реформ как при Александре I, так и при Николае I. Автор записки «Повествование о царствовании Александра I, для него одного писанного», резко критикующее политику императора. Автор дневника, чрезвычайно ценного для историков.
Долгорукий Яков Федорович (1659–1720) – князь, сподвижник Петра I, сенатор, прославившийся своей честностью, прямотой и мужеством перед лицом царя.
Долгоруков Василий Андреевич (1803–1868) – князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, с 1852 г. военный министр, с 1856 г. шеф жандармов и начальник III отделения Собственной его императорского величества канцелярии. Отличался личной преданностью Николаю I, Александру II и всей августейшей семье.
Долгорукова Александра Сергеевна (1834–1913) – фрейлина императрицы Марии Александровны, фаворитка Александра II (1850–1862). Позже была замужем за генералом-адъютантом П. П. Альбединским; статс-дама.
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – великий русский писатель, мыслитель, наряду с Львом Толстым наиболее известный в мире представитель русской литературы.
Дризен Федор Васильевич (1781–1851) – генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн, тяжело ранен под Бородином. Занимал ряд важных должностей в Военном министерстве. С 1 января 1839 г. казначей капитула императорских орденов.
Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862) – генерал от кавалерии. В молодости отличался либерализмом взглядов и был на подозрении у начальства. Участник наполеоновских войн. Масон. Привлекался по делу тайных обществ, но был оправдан. В 1830 г., в изменившейся политической ситуации, выбирает особую карьеру и вступает в корпус жандармов. С 1835 г. становится начальником штаба Корпуса жандармов в чине генерал-майора. Умный и хитрый, становится правой рукой шефа жандармов Бенкендорфа, управляющим III отделением Собственной его императорского величества канцелярии. С 1852 по 1856 г. заместитель министра внутренних дел. На совести Дубельта, в частности, объявление сумасшедшим П. Я. Чаадаева. Вместе с Жуковским занимался разбором бумаг Пушкина после его смерти.
Дубецкий Иосиф Петрович – офицер, служил на Кавказе в эпоху Ермолова, участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Впоследствии вице-губернатор Тамбовской губернии. Автор «Записок».
Дурново Николай Дмитриевич (1792–1828) – участник наполеоновских войн, адъютант П. М. Волконского. С 1815 г. флигель-адъютант, с 1819 г. в чине полковника заведовал библиотекой Главного штаба, а с 1824 г. управлял канцелярией начальника Главного штаба И. И. Дибича. Несмотря на близость к декабристским кругам – друг М. Ф. Орлова и А. Н. Муравьева, «короткий знакомец» С. Г. Волконского, – 14 декабря Дурново решительно встал на сторону Николая и выполнял его ответственные и небезопасные поручения. Автор подробного и важного для историков дневника.
Еврипид (вернее Эврипид; 480–406 в. до н. э.) – великий древнегреческий драматург, автор трагедий.
Егоров Евгений Андреевич (1803–1882) – генерал-лейтенант, инженер, автор проекта похода русской армии в Индию, написанного в 1855 г.
Езерский – депутат польского сейма, делегированный к Николаю I для переговоров после объявления независимости Польши в 1830 г.
Екатерина I Алексеевна (1684–1727) – мещанка из лифляндского города Мариенбурга, после взятия города войсками фельдмаршала Шереметева в 1702 г. стала любовницей фельдмаршала. Затем она приглянулась всесильному Меншикову, но он вынужден был уступить ее Петру I. Марту Скавронскую крестили в православие под именем Екатерины Алексеевны. В 1712 г. Петр официально обвенчался с Екатериной, а в ноябре 1723 г. она была коронована российской императрицей. После смерти Петра I под давлением гвардии Екатерина заняла русский престол.
Екатерина II (1729–1796) – дочь одного из мелких немецких владетелей принца Ангальт-Цербстского. Ее выбрала в жены наследнику престола императрица Елизавета. В 1745 г. София Фредерика Августа прибыла с матерью в Россию и была повенчана с великим князем Петром Федоровичем, внуком Петра I, сыном его дочери Анны, герцогини Гольштейн-Готторпской. В 1762 г. гвардейское офицерство во главе с братьями Орловыми свергло Петра III и объявило Екатерину императрицей. Царствование Екатерины II – сложный конгломерат прогрессивных и разумных реформ, ужесточения крепостного права и разорительных войн. Войны, которые вела Екатерина, существенно раздвинули границы империи и фундаментально расстроили российские финансы на много десятилетий вперед.
Екатерина Михайловна (1827–1894) – великая княжна, дочь великого князя Михаила Павловича и великой княгини Елены Павловны, в браке герцогиня Мекленбург-Стрелицкая. Прославилась широкой благотворительностью.
Елена Павловна (1806–1873) – до крещения в православие принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская. В декабре 1823 г. она была обручена с великим князем Михаилом Павловичем, а в феврале 1824 г. обвенчана с ним по православному обряду. Елена Павловна была широко образованной женщиной, поклонницей высокого искусства. Она покровительствовала Брюллову, Айвазовскому, Антону Рубинштейну, высоко ценила Гоголя. Была горячей сторонницей отмены крепостного права и поддержала Великие реформы Александра II.
Елизавета Алексеевна (1779–1826) – дочь маркграфа Баден-Дурлахского Луиза Мария Августа Баденская. Была выбрана в жены великому князю Александру Павловичу императрицей Екатериной II. В сентябре 1793 г. невеста приняла православие и была повенчана с великим князем. Была тонкой и романтической натурой, любила своего мужа, который вскоре охладел к ней. В обществе высоко ценили человеческие качества великой княгини, а затем, после убийства Павла I и воцарения Александра I, русской императрицы. В Северном тайном обществе в канун восстания обсуждалась ее кандидатура на престол в случае устранения Константина и Николая. Елизавета Алексеевна была в Таганроге вместе с императором и в письмах матери пронзительно описала последнюю болезнь и смерть мужа. Она пережила его на несколько месяцев.
Елизавета Михайловна (1826–1845) – великая княжна, дочь великого князя Михаила Павловича и великой княгини Елены Павловны, в замужестве герцогиня Нассауская.
Елизавета Петровна (1709–1761) – императрица, дочь Петра I и Екатерины I, рожденная до официального брака, что ставило под сомнение ее право на престол. Пришла к власти в 1741 г., свергнув при помощи гвардии малолетнего императора Иоанна Антоновича и его мать, правительницу Анну Леопольдовну, внучку соправителя Петра I царя Ивана V, в замужестве герцогиню Брауншвейг-Люнебургскую. Отменила в России смертную казнь, значительно расширила права Сената, образовала совещательное «генералитетское собрание», в которое вошли как военные, так и статские персоны в высоких чинах. Перед смертью сделала попытку собрать комиссию для выработки реформ. Идеологами елизаветинского царствования были братья Шуваловы Петр и Иван. Иван Шувалов, фаворит императрицы, учредил Московский университет и Петербургскую академию художеств.
Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) – генерал от артиллерии, в 1794 г. отличился при штурме Праги, предместья Варшавы, получил в 17 лет орден Св. Георгия 4-й степени из рук Суворова, в 1796 г. в составе корпуса Валериана Зубова участвовал в Персидском походе, отличился при штурме Дербента. В 1798 г. из-за участия в оппозиционном офицерском кружке был арестован, лишен чина подполковника и отправлен «на вечную ссылку» в Кострому. Освобожден при воцарении Александра I. Отличился в наполеоновских войнах, приобрел репутацию «лучшего артиллерийского офицера русской армии» Во время кампании 1812 г. был начальником Главного штаба 1-й Западной армии Барклая-де-Толли. Получил чин генерал-лейтенанта. В заграничном походе 1813 г. не раз спасал в решающие моменты русскую армию. В 1816 г. по собственному желанию получил назначение главноуправляющим Грузией и командиром Отдельного Грузинского корпуса (с 1820 г. – Отдельный Кавказский корпус). В течение десяти лет Ермолов вел успешные операции против горцев, но окончательно «замирить» Кавказ ему не удалось. После увольнения Ермолова в 1827 г. Николаем I, не доверявшим строптивому генералу, война на Кавказе шла еще 37 лет. С этого момента и до самой смерти опальный Ермолов оставался не у дел. Популярность Ермолова и во время его службы, и в отставке – как в военной среде, так и в русском обществе – была уникальна.
Жандр Александр Андреевич (1780–1830) – генерал-лейтенант, участник наполеоновских войн. С 1806 г. состоял при великом князе Константине Павловиче. С 1820 г. служил в Польше и был убит мятежниками во дворце великого князя, которого пытался предупредить о мятеже.
Жомини Генрих Вениаминович (Антуан Анри; 1779–1869) – французский генерал, крупнейший теоретик и историк военного дела, перешедший в 1813 г. на сторону антинаполеоновской коалиции и принятый в русскую службу.
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – русский поэт. Внебрачный сын офицера, помещика А. И. Бунина и пленной турчанки. По просьбе Бунина был усыновлен бедным дворянином А. Г. Жуковским, но воспитывался в семье Буниных как родной сын. Основоположник русского романтизма, блестящий переводчик немецкой поэзии, старший друг Пушкина. Прославился поэмой «Певец во стане русских воинов», написанной в Тарутинском лагере. С 1816 г. стал близким человеком в августейшей семье – чтецом при императрице-матери Марии Федоровне, учителем русского языка будущей императрицы Александры Федоровны, жены великого князя Николая Павловича; с 1826 г. стал воспитателем наследника великого князя Александра Николаевича, будущего Александра II, и оказал на него несомненно благотворное влияние.
Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенович (1808–1881) – математик по образованию, он стал ближайшим сотрудником министра государственных имуществ П. Д. Киселева, убежденного противника крепостного права. В фундаментальной записке «О крепостном праве в России», написанной в 1841 г., предвосхитил план крестьянской реформы 1861 г. С 1875 г. член Государственного совета. Автор большого числа работ на экономические темы и обширной монографии «Граф П. Д. Киселев и его время», содержащей огромное количество ценнейшего материала.
Замойский Станислав Андреевич (1775–1858) – граф, государственный деятель Герцогства Варшавского под протекторатом Наполеона. После падения Наполеона возглавлял депутацию герцогства на переговорах с Александром I о будущности Польши. Был сделан сенатором возникшего тогда Царства Польского как части Российской империи. С 1826 по 1831 г. был председателем сейма Царства Польского. Будучи противником восстания 1830 г., переехал в Россию, получил чин тайного советника и стал членом Государственного совета.
Зотов Рафаил Михайлович (1796–1881) – литератор, драматург, романист. Участник наполеоновских войн. Театральный деятель, с 1818 г. заведовал в Петербурге репертуаром немецкой, а в 1826–1836 гг. русской труппы. Активно трудился как переводчик, переводил на немецкий язык русские пьесы. Написал по-французски историю царствования Александра I.
Зубов Платон Александрович (1767–1822) – князь, последний фаворит Екатерины II. Из поручиков Конной гвардии стремительно выдвинулся в генерал-фельдмаршалы, генерал-фельдцейхмейстеры. После смерти Потемкина в 1792 г. был назначен новороссийским генерал-губернатором и начальником Черноморского флота, оставался при этом в Петербурге. От австрийского императора ему был пожалован титул князя Священной Римской империи. В результате подарков императрицы сосредоточил в своих руках гигантское состояние. Владел, в частности, 30 тысячами крепостных. После смерти Екатерины II некоторое время был в опале, затем прощен. Стал деятельным участником заговора против Павла I. Талантами государственного деятеля не отличался.
Игнатьев Павел Николаевич (1797–1879) – капитан лейб-гвардии Преображенского полка, 14 декабря 1825 г. действовал на стороне Николая I. Оставил важное свидетельство событий.
Иоанн VI Антонович (1740–1764) – правнук царя Ивана V, соправителя Петра I, сын Анны Леопольдовны, в замужестве герцогини Брауншвейгской. Первый год жизни царствовал при регентстве сначала Бирона, а затем своей матери, получившей титул правительницы. Брауншвейги были свергнуты Елизаветой Петровной, дочерью Петра I, при поддержке гвардии. Всю оставшуюся жизнь Иоанн Антонович провел в одиночном заключении и был убит охраной при попытке его освобождения поручиком Мировичем.
Исленьев Николай Александрович (1785–1851) – генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн, с 1822 по 1833 г. командовал лейб-гвардии Преображенским полком, участвуя с ним в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и в подавлении польского мятежа 1830–1831 гг. 14 декабря 1825 г. решительно поддержал Николая I, получив звание генерал-адъютанта.
Кавелин Александр Александрович (1793–1850) – генерал от инфантерии, с 1816 г. адъютант великого князя Николая Павловича, был членом декабристской организации Союз благоденствия, но репрессиям не подвергся. 14 декабря 1825 г., будучи флигель-адъютантом, выполнял поручения Николая I. Сделал незаурядную карьеру. Состоял при наследнике великом князе Александре Николаевиче и сопровождал его в путешествии по России.
Канкрин Егор Францевич (1774–1845) – генерал-интендант русской армии в период заграничных походов 1813–1814 гг. После подачи императору Александру I в 1815 г. записки о постепенной отмене крепостного права подвергался нападкам дворян-крепостников и консервативных бюрократов. Попытки Канкрина бороться с коррупцией в армии, вызывавшие частые скандалы, вызвали неудовольствие Александра I, и Канкрин был уволен от должности генерал-интенданта. Однако потребность в профессионалах заставила императора вернуть Канкрина, и в 1823 г. он был назначен министром финансов и исполнял эту должность до 1844 г.
Капнист Алексей Васильевич (ок. 1796–1867) – служил в лейб-гвардии Измайловском полку, перешел в армию после столкновения с великим князем Николаем Павловичем. Был адъютантом героя наполеоновских войн Н. Н. Раевского-старшего, командовавшего корпусом со штабом в Киеве. В 1820 г. вступил в Союз благоденствия. В декабре 1825 г. был арестован в Киеве, доставлен в Петербург и посажен в Петропавловскую крепость. В апреле 1826 г. по приказу Николая I освобожден. Пребывание в крепости вменено в наказание.
Капнист Иван Васильевич (ок. 1794–1860) – тайный советник, камергер, сенатор. С 1842 по 1844 г. смоленский губернатор. Сын известного писателя В. В. Капниста. С 1844 по 1855 г. губернатор Московской губернии.
Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853) – знаменитый трагический актер, ученик драматургов и теоретиков театра классицизма Л. А. Шаховского и П. А. Катенина. Прославился исполнением главных ролей в трагедиях В. Озерова «Фингал» и «Дмитрий Донской». Знакомый Пушкина, Грибоедова, Крылова, Рылеева, Кюхельбекера и многих других выдающихся современников. Зрелый Каратыгин потряс публику в роли Лира.
Карл Х Бурбон (1757–1836) – король Франции с 1824 по 1830 г. Последний Бурбон на французском троне. Младший брат Людовика XVIII, вступившего на трон после падения Наполеона. Наследовал брату, но проявил себя недалеким и неумным политиком. Пытаясь восстановить всю полноту королевской власти, распустил парламент, ввел цензуру, чем спровоцировал революцию июля 1830 г. Вынужден был отречься от престола и отправиться в изгнание.
Карл, принц Прусский (Фридрих Карл Александр; 1801–1883) – брат императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Прусский военачальник. Был женат на племяннице Николая I принцессе Марии Саксен-Веймарской. Часто проживал в России. В 1872 г. ему был присвоен чин генерал-фельдмаршала русской армии, что было чистой формальностью.
Карл Фердинанд (1818–1874) – эрцгерцог Австрийский.
Кашкин Николай Сергеевич (1829–1914) – сын члена Северного общества С. Н. Кашкина, отправленного после десяти месяцев в Петропавловской крепости в ссылку в Архангельск. Н. С. Кашкин, выпускник Александровского лицея, чиновник Министерства иностранных дел, был активным членом общества петрашевцев. После ареста в 1849 г. лишен всех прав, состояния и отправлен солдатом в Кавказский корпус. Через пять лет выслужил чин прапорщика и вышел в отставку. Был активным участником подготовки крестьянской реформы 1861 г.
Каховский Петр Григорьевич (1799–1826) – из бедных дворян, начал службу в лейб-гвардии Егерском полку, в том же году по вздорному обвинению великого князя Константина Павловича разжалован в рядовые и отправлен на Кавказ. Выслужил «за отличие» юнкерское звание, а затем и офицерский чин. Служил в Астраханском кирасирском полку, в 1821 г. уволен в отставку по болезни. Член Северного тайного общества, близкий к Рылееву. Предназначался заговорщиками для убийства Николая I в день 14 декабря, но отказался. Был одним из самых активных действователей в день восстания – смертельно ранил графа Милорадовича и командира лейб-гренадер И. К. Стюрлера, пытавшихся уговорить солдат вернуться в казармы. Приговорен к смертной казни и повешен.
Кельнер фон Келленштейн Фридрих (1802–?) – австрийский генерал, с 1849 г. адъютант императора Франца Иосифа I.
Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн, любимец Александра I, после войны дававшего ему сложные и щекотливые поручения, касающиеся интриг и злоупотреблений в армии, которые Киселев успешно выполнял. Был последовательным противником крепостного права и в 1816 г. подал императору записку с предложением постепенной крестьянской реформы. В 1819 г. был назначен начальником штаба 2-й армии и фактически командовал ею при престарелом и инертном фельдмаршале Витгенштейне. Был близок с Пестелем и другими членами Южного тайного общества, но, искусно маневрируя, сумел не навлечь на себя подозрения властей. Принял участие в арестах членов тайного общества и сохранил свой пост при Николае I. B составе 2-й армии принял активное участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. на территории Дунайских княжеств. После победы над турками был назначен правителем княжеств Молдавии и Валахии. За 5 лет управления Киселева был проведен целый комплекс прогрессивных реформ, укрепивших законность и принципиально изменивших положение крестьян, ставших независимыми. По возвращении в Россию был назначен «начальником штаба по крестьянской части». Однако приступить к освобождению крестьян император не решался. Киселев получил пост министра государственных имуществ, и ему поручено было упорядочить положение казенных крестьян. Мечта Киселева стать освободителем крестьян не сбылась. После смерти Николая I он был отправлен послом в Париж, и крестьянская реформа, к его горечи, осуществилась без него. Пушкин считал Киселева самым замечательным государственным человеком своего времени.
Клейнмихель Петр Андреевич (1793–1869) – граф, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн, любимец Аракчеева и Александра I, а затем и Николая I, которым импонировала демонстративная преданность и исполнительность Клейнмихеля. В его честь в 1839 г. была выбита золотая медаль с надписью «Усердие все превозмогает». Занимался военными поселениями, участвовал в реформировании армии и флота, был членом комиссий по сооружению разных зданий в Петербурге. Руководил постройкой первого постоянного каменного моста через Неву – Николаевского (позже – Лейтенанта Шмидта, ныне – Благовещенского). Строил Николаевскую железную дорогу между Москвой и Петербургом, затратив немыслимые средства. Его называли «Аракчеев в более позднем и несколько исправленном издании».
Ключевский Василий Осипович (1841–1911) – один из крупнейших русских историков, сын сельского священника. По окончании Московского университета по представлению авторитетнейшего С. М. Соловьева был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию. Стал профессором Московского университета. Обладал сильным независимым умом, критически относился к русскому дворянству и государственной системе вообще. Но благодаря его научному авторитету по желанию Александра III читал курс русской истории великому князю Георгию Александровичу. Оставил ряд фундаментальных трудов. Наиболее известный и читаемый – «Курс русской истории в 5 частях».
Кок Поль де (1703–1871) – французский драматург и романист, автор популярных, легкочитаемых сочинений. Переводился в России.
Кокошкин Сергей Александрович (1795/1796–1861) – генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн, сопровождал гроб с телом Александра I из Таганрога в Петербург. С 1830 по 1847 г. был обер-полицмейстером Санкт-Петербурга и пользовался полным доверием Николая I. С 1847 по 1856 г. был генерал-губернатором Малороссии.
Коновницын Петр Петрович (1764–1822) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, сенатор. Участвовал в большинстве войн, которые вела Россия с конца XVIII в. и по 1815 г. Блестяще проявил себя в 1812 г., командуя дивизией, а после Бородина, где он сменил раненого Багратиона, назначен дежурным генералом всех армий, что не мешало ему участвовать в боях. В 1815 г. был назначен военным министром. В 1814–1815 г. по желанию Александра I стал военным наставником великих князей Николая и Михаила Павловичей. С 1819 г. Коновницын был назначен главным директором Пажеского и всех кадетских корпусов и Царскосельского лицея.
Константин Николаевич (1827–1892) – великий князь, генерал-адмирал, второй сын Николая I. С детства предназначался для морской службы. Сильное человеческое влияние оказал на него Жуковский, бывший воспитателем великих князей. С вступлением на престол Александра II Константин Николаевич получил управление флотом с полными полномочиями и сыграл огромную роль в возрождении флота после севастопольской катастрофы. Человек либеральных взглядов, весьма критически оценивавший плоды предшествующего царствования, несмотря на сыновнюю любовь к отцу, великий князь был активнейшим помощником своего августейшего брата в деле Великих реформ, чем вызвал ненависть консерваторов. Будучи на протяжении 16 лет председателем Государственного совета, великий князь старался продолжать реформы брата, особенно в крестьянском вопросе. С воцарением Александра III великий князь Константин Николаевич до самой смерти оказался не у дел.
Константин Павлович (1779–1830) – цесаревич и великий князь, как и Александр Павлович, любимец Екатерины II, прочившей его на престол Греческой империи, которую она и Потемкин надеялись создать на развалинах империи османов. Отсюда и имя – Константин, в честь первого римского императора-христианина. Отличался необузданным нравом, приводившим к тяжелым эксцессам. Во время кампании 1812 г., командуя Гвардейским корпусом, интриговал против командующего армией Барклая-де-Толли и вынудил командующего выслать его из армии. Проделал Итальянский и Швейцарский походы под командованием Суворова. В 1815 г. был назначен командующим армией Царства Польского в составе Российской империи и приложил много сил к устройству и вооружению польской армии. После смерти Александра I, когда Россия присягнула Константину как законному наследнику, поскольку о его отречении никто не знал, он повел себя двусмысленно, спровоцировав междуцарствие, и создал условия для восстания 14 декабря. В 1830 г. во время восстания в Варшаве едва не стал жертвой мятежников. В том же году умер от холеры.
Корф Модест Андреевич (1800–1876) – барон, с 1872 г. граф, выпускник Царскосельского лицея, однокашник Пушкина, которого ненавидел. Сделал незаурядную чиновничью карьеру. Прошел школу М. М. Сперанского, участвуя под его руководством в работе по кодификации и составлению свода законов Российской империи. С 1831 г. управляющий делами Комитета министров, затем статс-секретарь, член Государственного совета. Был близок к Николаю I, был его советником и летописцем. Оставил весьма ценные историографические сочинения «Жизнь графа Сперанского» и «Восшествие на престол императора Николая I», в которых, пользуясь своим официальным положением, собрал и опубликовал большое количество ценного исторического материала. Записки Корфа явно тенденциозны, но полезны с фактологической стороны.
Костенецкий Яков Иванович (1811–1885) – в 1833 г., будучи студентом Московского университета, стал членом Сунгуровского тайного общества (радикальная студенческая организация, решившая продолжить дело декабристов), был арестован, лишен дворянства и сослан на Кавказ. За отличие в боях с горцами произведен в прапорщики и сделан адъютантом командующего Кавказской линией генерала П. Х. Граббе. В 1842 г. вышел в отставку, поселился в своем имении и посвятил себя литературным занятиям, а позже работе в земстве.
Кочубей Виктор Павлович (1758–1834) – князь, дипломат, государственный деятель. Принадлежал к кружку так называемых «молодых друзей» Александра I в начале его царствования, был членом Негласного комитета, в котором обсуждались будущие либеральные реформы. С 1802 г. был первым русским министром внутренних дел. С разочарованием Александра в либеральных идеях и Кочубей двигался в консервативном направлении. После воцарения Николая I был назначен председателем Государственного совета и Комитета министров. В 1831 г. возведен в княжеское достоинство. Был противником расширения имперской территории.
Кромвель Оливер (1599–1658) – лидер английской революции 1640-х гг. В борьбе короля Карла I и парламента встал на сторону парламента. Во время начавшейся гражданской войны возглавляемая им кавалерия – «железнобокие» – неизменно решала исход битв в пользу парламентской армии. При поддержке армии получил почти безграничную власть, став лордом-протектором Англии, Ирландии и Шотландии. По своему усмотрению распускал парламенты. Свирепо подавил восстание в Ирландии и разгромил шотландскую армию. Бал одним из инициаторов казни Карла I. Когда после смерти Кромвеля и отстранении от власти его сына Ричарда в Англии произошла реставрация монархии и на престол вступил сын казненного короля Карл II, тело Кромвеля было извлечено из могилы и повешено.
Крюднер (точнее Крюденер) Варвара Юлия (1764–1824) – писательница, мистические проповеди которой склонили Александра I к доктрине «официального мистицизма». Вместе с баронессой Крюденер император предавался многочасовым молитвам. Впоследствии Александр охладел к баронессе.
Кукольник Нестор Васильевич (1800–1868) – драматург, автор напыщенных патриотических пьес. Прославился драмой «Торквато Тассо» и особенно драмой в стихах «Рука Всевышнего Отечество спасла» из эпохи Смутного времени. Пушкин и литераторы его круга относились к Кукольнику скептически.
Кутузов Николай Иванович (1796–1849) – штабс-капитан, старший адъютант штаба Гвардейского корпуса в первой половине 1820-х гг. В этот период был в постоянных служебных отношениях с великим князем Николаем Павловичем. Член Союза благоденствия. Был арестован в январе 1826 г., но освообожден и оправдан по указанию молодого императора. Подал Николаю записку «О нравственном состоянии войск Российской империи и в особенности Гвардейского корпуса», в которой пытался объяснить императору причины событий 14 декабря. После увольнения из армии служил под началом М. М. Сперанского. Был поклонником Монтескье и Адама Смита. В 1841 г. подал императору полную горечи и тревоги записку «О причинах настоящего бедственного состояния государства». Последствий записка не имела.
Кушелев-Безбородко Александр Григорьевич (1800–1855) – граф, ценитель наук и искусств, деятель в сфере образования, почетный член Академии наук, сенатор, с 1854 по 1855 г. государственный контролер России.
Кюстин Астольф де (1790–1857) – маркиз, французский писатель и путешественник. Был убежденным монархистом; отправляясь в 1839 г. в Россию, надеялся получить здесь сильные аргументы в пользу монархического устройства государства. Был разочарован Россией, хотя Николай I произвел на него сильное впечатление. Книга «Россия в 1839 году», выпущенная им после возвращения во Францию (в первом русском издании называлась «Николаевская Россия»), вызвала живой интерес во всем цивилизованном мире.
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846) – лицейский товарищ Пушкина, поэт, литератор, проповедник либеральных идей, служил на Кавказе у Ермолова в чине коллежского асессора, после дуэли с чиновником Похвистневым вынужден был выйти в отставку и уехать с Кавказа. В ноябре 1825 г. вступил в Северное тайное общество. Во время восстания вел себя активно, угрожал пистолетом великому князю Михаилу Павловичу, пытавшемуся уговорить солдат вернуться в казармы. После расстрела восставших картечью пытался повести гвардейских матросов в штыковую атаку на войска Николая. Приговорен к каторжным работам на 20 лет. Судьба его после приговора была тяжелой. Он не был сослан вместе с другими в Сибирь, но десять лет провел в разных крепостях. В 1835 г. был отправлен на поселение в Иркутскую губернию.
Лаваль Александра Григорьевна (1772–1850) – графиня, дочь секретаря Екатерины II, родственница богатейших уральских заводчиков Твердышевых и Маниковых, принесла своему мужу, небогатому эмигранту, огромное наследство, что позволило Лавалям приобрести роскошный дом на Английской набережной, перестроить его и держать блестящий салон.
Лаваль Иван Степанович (1761–1846) – граф, французский эмигрант на русской службе. Камергер, тайный советник, занимал высокие посты в Коллегии иностранных дел и в Главном правлении училищ. В салоне Лавалей бывал цвет русской литературы. В 1819 г. молодой Пушкин читал там оду «Вольность», а в 1828 г. трагедию «Борис Годунов». Дочь Лаваля Екатерина была замужем за декабристом князем С. П. Трубецким и последовала за ним в Сибирь.
Ладюрнер Адольф Игнатьевич (1798–1855) – художник, автор батальных полотен и картин из русского военного быта, написанных по желанию Николая I.
Ламсдорф Матвей Иванович (1745–1828) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, участник русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Пользовался доверием императора Павла I. В 1797–1798 гг. был правителем Курляндии. С ноября 1800 г. был назначен воспитателем к младшим великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам. Отличался непониманием педагогических принципов и жестокостью по отношению к воспитанникам. Безусловно, сыграл отрицательную роль в формировании характеров великих князей.
Ланжерон Александр Федорович (1763–1831) – граф, французский эмигрант на русской службе, генерал от инфантерии, участник войн против Наполеона. С 1815 по 1822 г. генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии. Участник русско-турецкой войны 1828–1829 гг.
Лафайет Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье (1757–1834) – маркиз, кавалерийский капитан французской армии. Во время восстания североамериканских колоний против Англии отправился в Америку и стал начальником штаба республиканской армии и доверенным лицом Джорджа Вашингтона, затем командиром дивизии, а позже Северной армии. По окончании войны Лафайет стал национальным героем Соединенных Штатов. В 1789 году после взятия Бастилии гражданами Парижа Лафайет стал начальником национальной гвардии. По мере углубления революции и возникновения якобинского террора Лафайет оказался в оппозиции к революционным властям и вынужден был эмигрировать в Австрию, где его на пять лет заключили в крепость. Он вернулся во Францию после захвата власти генералом Бонапартом, по отношению к которому тоже был в оппозиции. Выбранный после реставрации Бурбонов в палату депутатов, во время Июльской революции 1830 года поддержал в качестве кандидата на трон Луи Филиппа. Во время польского мятежа 1830 года был сторонником вооруженной помощи Польше.
Лаффит Жак (1767–1844) – глава правительства и министр финансов при короле Луи Филиппе.
Левашов Василий Васильевич (1783–1848) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, доверенное лицо Николая I. Участник наполеоновских войн. Ему Николай I поручил в ночь с 14 на 15 декабря 1825 года первые допросы декабристов. Отличался грубостью, нетерпимостью и был непопулярен в русском обществе.
Лелевель Иоахим (1786–1861) – польский историк и политик, один из вождей восстания в Варшаве в 1830 г., член Национального правительства. После разгрома восстания эмигрировал во Францию. В эмиграции вел активную деятельность по консолидации сил польских патриотов-эмигрантов. Автор многих фундаментальных трудов по истории Польши.
Леопольд I (1790–1865) – король Бельгии, офицер русской службы, участник наполеоновских войн. В 1830 г. в Бельгии произошла революция, освободившая бельгийцев из-под власти короля Нидерландов. Национальный конгресс Бельгии высказался за конституционную монархию и избрал королем Леопольда Саксен-Кобургского, к крайнему неудовольствию Николая I, считавшего создание бельгийского королевства незаконным.
Ливен Христофор Андреевич (1777–1838) – генерал-адъютант, дипломат, член Государственного совета. С 1834 г. попечитель наследника Александра Николаевича.
Линген Александр Иванович – генерал-майор, в 1837 г. командующий 1-й бригадой 20-й пехотной дивизией Отдельного Кавказского корпуса.
Литке Федор Петрович (1797–1882) – адмирал, знаменитый мореплаватель, ученый-гидрограф. В 1813 г. поступил на флот волонтером и благодаря талантам и усердию сделал быструю и незаурядную карьеру. В 1817 г. он отправился в кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка», а по возвращении в 1821 г. был назначен начальником экспедиции для описания берегов Новой Земли. С этого времени он стал крупнейшим знатоком Северного Ледовитого океана, северных и восточных морей. Путешествия Литке чрезвычайно обогатили науку в сфере метеорологических и магнитных наблюдений. В 1832 г. он был назначен воспитателем великого князя Константина Николаевича, предназначавшегося для морской службы. Литке был председателем географического общества и президентом Императорской академии наук.
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758–1838) – князь, генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1787–1791 гг., подавления польского мятежа 1794 г. С 1808 г. военный губернатор Петербурга. Во время кампании 1812 г. и заграничных походов занимался укреплением крепостей и формированием резервов. С 1815 г. министр юстиции. Исполнял обязанности генерал-прокурора в Верховном уголовном суде по делу декабристов. В 1827 г. вышел в отставку.
Лович Жанетта Антоновна (урожденная Грудзинская; 1799–1831) – польская дворянка, ставшая женой великого князя Константина Павловича и получившая титул княгини Лович. Эта женитьба стала формальной причиной отречения Константина от престола.
Лопухин Петр Васильевич (1753–1827) – светлейший князь, генерал-прокурор при Павле I, с 1803 г. министр юстиции и глава комиссии по составлению законов, генерал-прокурор Сената. С 1816 г. председатель Государственного совета и Комитета министров, в 1826 г. председатель Верховного уголовного суда по делу декабристов.
Лопухина Анна Петровна (1777–1805) – дочь П. В. Лопухина, фаворитка Павла I. Увлечение императора юной Лопухиной стало причиной стремительного возвышения ее отца. В феврале 1800 г. с благословения императора вышла замуж за князя П. Г. Гагарина. После родов умерла от чахотки.
Лорер Николай Иванович (1797/1798–1873) – майор Вятского пехотного полка, которым командовал П. И. Пестель. Близкий сподвижник Пестеля. Участник заграничных походов 1813–1814 гг. Член Северного и Южного тайных обществ. После ареста приговорен к каторжным работам на 12 лет. В 1837 г. переведен рядовым в Кавказский корпус, в 1840 г. выслужил офицерский чин – прапорщик. Вышел в отставку. Автор воспоминаний.
Луи Наполеон (Наполеон III; 1808–1873) – племянник Наполеона I, в 1848 г., после революции, свергнувшей Луи Филиппа, был избран президентом Французской республики. В 1851 г. совершил военный переворот, распустил парламент, подавил путем террора оппозицию и установил фактически диктаторский режим. В 1852 г. провозгласил себя, опираясь на военные круги, Наполеоном III, императором Второй империи. В 1871 г. проиграл войну с Германией, умер в плену.
Луи Филипп I (1773–1850) – герцог Орлеанский, представитель младшей ветви Бурбонов. Во время Великой французской революции вступил в клуб якобинцев. Успешно воевал в республиканской армии против интервентов. Отказался от титула и принял имя гражданина Эгалите. После реставрации Бурбонов получил обратно свой титул и поместья. Был популярен среди буржуазии и простого народа. После революции 1830 г. стал королем, назвавшись не королем Франции, а королем французов, подчеркнув «народный» характер новой монархии. Был свергнут революцией 1848 г.
Лунин Михаил Сергеевич (1787–1845) – подполковник лейб-гвардии Гродненского гусарского полка армии великого князя Константина Павловича. Участник наполеоновских войн. Один из «коренных» членов тайных обществ – член Союза спасения, Союза благоденствия и Северного тайного общества. С 1822 г. служил в Варшаве, пользовался расположением великого князя Константина Павловича. Приговорен к 15 годам каторги, но вел себя в Сибири демонстративно вызывающе. Будучи уже на поселении, писал сестре письма, в которых была сформулирована его политическая программа. После того как в руки властей попало его сочинение «Взгляд на русское тайное общество с 1816 по 1826 г.», резко критикующее официальный взгляд на движение декабристов, был арестован и отправлен в глухой Акатуйский рудник, где умер при невыясненных обстоятельствах. Масон, католик, человек несгибаемого мужества и могучего ума. Его написанные в Сибири сочинения и эпистолярное наследие представляют большой интерес.
Любецкий (Друцкий-Любецкий) Франсиск Ксаверий (1778–1846) – князь, польский и российский государственный деятель, в 1813 г. был членом временного Верховного совета Княжества Варшавского, созданного Наполеоном. После падения Наполеона в 1815 г. подписал по поручению Александра I конституционную хартию для Польши. Во время польского мятежа 1830 г. прибыл в Петербург для переговоров с Николаем I, пытался играть роль посредника между восставшими и царем. Не сочувствуя восстанию, остался в Петербурге. В 1831 г. занял пост министра финансов Царства Польского. С 1832 г. член Государственного совета.
Людовик XIV (1638–1715) – король Франции, убежденный сторонник единовластия, принципа абсолютной монархии и божественного права королей. Создал сильное и процветающее до поры государство, разорившееся к концу его царствования из-за постоянных дорогостоящих войн.
Мадатов Валериан Григорьевич (1782–1829) – генерал-лейтенант, участник наполеоновских войн. По представлению Ермолова, знавшего его боевую репутацию, был назначен в Отдельный Грузинский (Кавказский) корпус и стал наряду с А. А. Вельяминовым ближайшим сподвижником проконсула Кавказа. Происходивший из армянского аристократического рода Карабаха, Мадатов прекрасно знал местные языки и нравы. Это давало Мадатову возможность тонкой дипломатической работы, которая, будучи дополнена его военными успехами, приносила неизменную удачу. Ермолов поручил Мадатову управление дагестанскими ханствами после изгнания ханов. В начале русско-персидской войны 1826–1828 гг. Мадатов с небольшим отрядом нанес вторгнувшимся персам первое серьезное поражение в битве при Шамхоре и тем существенно изменил стратегическую ситуацию, подготовив почву для побед Паскевича. Он отличился во время русско-турецкой войны 1828–1829 г., но, командуя всей русской кавалерией при осаде турецкой крепости Шумлы, внезапно умер от скоротечной горловой чахотки, которой заболел еще перед войной.
Майборода Аркадий Иванович (?–1844) – капитан, командир роты Вятского пехотного полка. Был доверенным лицом командира полка П. И. Пестеля, который принял его в Южное тайное общество. В ноябре 1825 г. направил командиру корпуса генерал-лейтенанту Роту донос на заговорщиков. Донос был переслан в Таганрог начальнику Главного штаба Дибичу, а оттуда в Петербург великому князю Николаю Павловичу, который получил его вместе с другими доносами 12 декабря. В виде награды был переведен тем же чином в лейб-гвардии Гренадерский полк, но, чувствуя неприязненное отношение офицеров, перешел в чине полковника обратно в армию. В 1842 г. командовал Апшеронским полком на Кавказе. Не столько муки совести, сколько отношение окружающих способствовало его депрессии. В 1844 г. он покончил жизнь самоубийством в кавказской крепости Темир-Хан-Шуре, заколовшись кинжалом.
Максимов Алексей Михайлович (1813–1861) – актер труппы Александринского театра, исполнитель ролей Хлестакова, Чацкого, водевильных ролей. Играл Фигаро, Яго и другие разноплановые роли. Самая знаменитая его роль – Гамлет – сыграна в 1853 г.
Мандт Мартын Мартынович (1800–1856) – лейб-медик Николая I.
Марий (257 до н. э. – 86 до н. э.) – римский полководец и государственный деятель. Будучи избран народным трибуном, осуществлял демократические реформы: провел закон, ограничивающий влияние богатых людей на выборы, по его инициативе было введено тайное голосование. Избранный полководцем Марий провел радикальную реформу армии, открыв путь в нее низшим сословиям и снабжая солдат оружием за государственный счет. Профессиональные солдаты лишались гражданских прав, но зато им принадлежали все трофеи, добытые на войне. Создал единообразно экипированную и вооруженную армию. Была разработана постоянная структура римской армии. Как полководец проявил себя в войнах с варварами. В конце концов стал жертвой гражданской войны, в которой победил его бывший соратник Сулла.
Мария Александровна (1824–1880) – урожденная Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария принцесса Гессен-Дармштадтская; цесаревна, жена великого князя Александра Николаевича, с 1855 г. русская императрица.
Мария Михайловна (1825–1846) – великая княжна, дочь великого князя Михаила Павловича, рассматривалась в качестве невесты наследного принца Баденского, но брак не состоялся. Будучи болезненной с детства, скоропостижно скончалась в возрасте 21 года в Вене.
Мария Николаевна (1819–1876) – великая княжна, дочь Николая I. B браке герцогиня Лейхтенбергская. По условию, поставленному императором, молодые супруги должны были жить в России. Для них был построен Мариинский дворец. После смерти герцога, получившего от Николая титул его императорского высочества, втайне от отца вышла замуж за графа Григория Александровича Строганова. Брак этот был признан законным только после смерти Николая I по решению Александра II.
Мария Павловна (1786–1859) – великая княжна, дочь императора Павла I, в браке великая княгиня Саксен-Веймарская-Эйзенахская. Живя в Веймаре, была знакома с Гете и Шиллером, который специально к приезду Марии Павловны написал небольшую приветственную пьесу. Великая княгиня и сама с юности отличалась любовью к искусству и литературе.
Мария Федоровна (1759–1828) – урожденная София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская; русская императрица, супруга Павла I. Став в 1796 г. императрицей, Мария Федоровна увлеченно занялась благотворительностью и была начальницей над всеми воспитательными домами. После убийства Павла I претендовала на престол. До самой смерти пользовалась уважением своих сыновей, особенно Николая Павловича, и была арбитром в семейных коллизиях. Так, великий князь Константин Павлович мог развестись и жениться на Грудзинской только с разрешения императрицы-матери.
Марк Аврелий (121–180) – римский император, философ-стоик. Несмотря на то что истинной любовью его была философия, ему часто приходилось воевать, защищая от варваров пределы империи. Умер от холеры в одном из своих победоносных походов. Его рассуждения и афоризмы существуют в виде книги, носящей название «Рассуждения о себе самом».
Маркус Михаил Антонович (1790–1865) – выпускник Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Во время наполеоновских войн был военным врачом, а по окончании войны главным доктором русского экспедиционного корпуса во Франции. С 1837 г. назначен лейб-медиком к императрице Александре Федоровне, супруге Николая I. Опубликовал ряд медицинских трудов.
Махмуд II (1785–1839) – султан из династии Османов, пришедший к власти путем переворота. Проовел радикальную военную реформу, формируя армию по европейскому образцу с помощью прусских и французских офицеров. Для этого понадобилось безжалостно подавить бунт янычар – султанской гвардии, находившейся на особом положении и руководимой идеологически фанатиками-дервишами. В июне 1826 г. янычары подняли мятеж и были расстреляны из орудий верными султану артиллеристами новых войсковых формирований. Было убито несколько тысяч янычар, а уцелевшие высланы из Стамбула. Проиграв России войну 1828–1829 гг., потерпев еще ряд военных поражений, султан тем не менее провел военную и административную реформы, укрепившие внутреннее положение Турции.
Меншиков Александр Сергеевич (1737–1855) – светлейший князь, генерал-адъютант, адмирал. Отличился во время наполеоновских войн и на некоторое время стал любимцем Александра I, но пристрастие Меншикова к злым сарказмам, а главное подпись под запиской об отмене крепостного права, которую он вместе с М. С. Воронцовым подал императору в 1821 г., изменили отношение к нему Александра. Его карьера вновь состоялась при Николае I. Меншиков основательно изучил теорию морского дела и был назначен начальником Главного штаба флота. Во время Крымской войны Николай назначил его командующим действующей армией, но несколько проигранных Меншиковым сражений заставили императора в нем разочароваться. Он был отстранен от командования и до конца жизни был не у дел. В памяти современников остался как острослов и мастер злых каламбуров.
Меншиков Владимир Александрович (1816–1893) – сын А. С. Меншикова, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, воевал на Кавказе, участвовал в сражениях Крымской войны.
Мекленбург-Стрелицкий Георг (1824–1876) – герцог, муж великой княгини Екатерины Михайловны. Состоял на русской военной службе. Генерал от артиллерии, генерал-адъютант. При его активном участии было проведено перевооружение русской армии после поражения в Крымской войне.
Мельгунов Сергей Петрович (1879–1955) – историк, политический деятель, один из лидеров народно-социалистической партии. Решительно поддержал после Февральской революции Временное правительство и столь же непримиримо боролся с большевиками после Октябрьского переворота. Был одним из руководителей подпольной организации «Тактический центр» и приговорен к расстрелу. После ареста и годичного тюремного заключения был освобожден по ходатайству Академии наук и знаменитого анархиста князя Кропоткина. Выслан за границу без права возвращения. Автор многочисленных трудов по русской истории, а в эмигрантский период по истории русской революции 1917 г.
Мерзляков Александр Федорович (1778–1830) – поэт, переводчик, критик, профессор Московского университета. Был проповедником классицизма. Его беседы о литературе пользовались большой популярностью среди студентов. Кроме собственных стихотворений Мерзляков оставил переводы «Освобожденного Иерусалима» Тассо, сочинений древних римских и греческих поэтов.
Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) – князь, известный публицист крайне консервативных взглядов, издавал газету «Гражданин», пользующуюся авторитетом среди ретроградов. Вместе с К. П. Победоносцевым оказывал влияние на Александра III.
Милорадович Михаил Андреевич (1771–I825) – генерал от инфантерии, участник едва ли не всех войн, которые вела Россия с конца XVIII в. до 1815 г. Проделал Итальянский и Швейцарский походы под командованием Суворова, отличился в русско-турецкой войне 1806–1812 гг. Один из главных героев Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Человек необычайной храбрости и любимец солдат. В 1825 г. был генерал-губернатором Петербурга и в отсутствие Александра I осуществлял фактически полную власть в столице. Вместе с группой гвардейских генералов не допустил после смерти Александра I присяги великому князю Николаю. Будучи личным другом цесаревича Константина Павловича, желал видеть его на троне. Этим он спровоцировал междуцарствие и не предотвратил по своим соображениям мятеж 14 декабря. Пытаясь вернуть восставшие войска в казармы, был случайно ранен Оболенским (штыком в бок) и смертельно пистолетным выстрелом Каховского.
Мирович Василий Яковлевич (1740–1764) – подпоручик Смоленского пехотного полка, потомок знатной малороссийской фамилии, чьи имения были конфискованы, поскольку его дед поддержал Мазепу. Сам Мирович родился в Сибири, в Тобольске. В 1764 г. он, командуя караулом в Шлиссельбургской крепости, где содержался свергнутый Елизаветой император Иоанн Антонович, сделал попытку освободить его. Он рассчитывал, явившись с законным императором в Петербург, сместить Екатерину II. Офицеры, постоянно находившиеся при Иоанне Антоновиче, следуя инструкции, убили узника. Мирович сдался и был казнен.
Мироненко Сергей Владимирович (р. 1951) – историк, доктор исторических наук, профессор, директор Государственного архива Российской Федерации, автор многочисленных трудов по русской истории XIX века.
Михаил Николаевич (1832–1909) – великий князь, 4-й сын Николая I, генерал-фельдмаршал, член Государственного совета, с 1856 г. генерал-фельдцейхмейстер. С 1860 г. наместник Кавказа и командующий Кавказской армией. При нем было завершено в 1864 г. завоевание Кавказа. Успешно командовал действующей на азиатском театре армией во время войны с Турцией в 1877–1878 гг.
Михаил Павлович (1798–1849) – великий князь, младший брат Николая I, принял активное участие в урегулировании проблемы междуцарствия и подавлении восстания 14 декабря 1825 г. С 1826 г. командующий Гвардейским корпусом. Отличился в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и при подавлении польского мятежа 1830–1831 гг. С 1831 г. командовал Пажеским и всеми сухопутными кадетскими корпусами. С 1819 г. шефствовал над всей артиллерией и провел много разумных реформ. Однако отличался патологическим пристрастием к муштре и мелочной придирчивостью, вызывавшей всеобщее неудовольствие. Николай I, до которого доходили сведения об этих особенностях его брата, ничего не мог поделать и жаловался Бенкендорфу на свое бессилие.
Михаил Федорович (1596–1645) – первый русский царь из династии Романовых. Был избран на царство Земским собором в 1613 г., и этим завершилось Смутное время на Руси. Первые годы за юного царя фактически правила его мать, «царица-инокиня», а затем и вернувшийся из польского плена отец – патриарх Филарет (отец и мать Михаила были по приказу Бориса Годунова пострижены в монахи). При Михаиле Федоровиче были сделаны попытки перестроить армию на европейский лад, но они не удались. Несмотря на неудачные войны с Польшей, в целом царствование Михаила Федоровича было благотворно для истерзанного междоусобицами Московского государства.
Момбелли Николай Александрович (1823–1902) – поручик лейб-гвардии Московского полка, участник кружка Петрашевского. Приговорен к расстрелу, замененному 15 годами каторги в Сибири. По амнистии 1856 г. вышел на поселение и отправился рядовым на Кавказ. За «отличие» получил чин прапорщика и назначен чиновником особых поручений и начальником горского отдела канцелярии командующего войсками Дагестанской области. Пользовался всеобщим уважением. Bышел в отставку майором Ширванского полка.
Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) – граф, адмирал. Начал службу на Черноморском флоте и отличился в морских сражениях с турками. В царствование Александра I был призван к государственной деятельности. В 1802 г. назначен военно-морским министром. Был близок со знаменитым реформатором М. М. Сперанским. После ссылки Сперанского вышел в отставку. Несколько лет Мордвинов провел в Европе, изучая вопросы финансов и гражданского права. Был известен своими стойкими либеральными взглядами. Лидеры Северного тайного общества в случае победы восстания прочили Мордвинова вместе со Сперанским в члены Временного правления. Будучи членом Государственного совета, где занимался экономическими и финансовыми вопросами, был убежденным сторонником реформ в духе английского государственного устройства. И хотя в николаевское царствование он пользовался уважением императора, который возвел его в графское достоинство, идеи Мордвинова не были реализованы.
Мортемар Казимир Луи Виктюрньен (1787–1885) – герцог, французский посланник в Петербурге с 1829 по 1833 г.
Музовский Николай Васильевич (1772–1848) – протоирей, законоучитель в Царскосельском лицее, духовник Николая I.
Муравьев Никита Михайлович (1795–1843) – капитан Гвардейского генерального штаба, участник заграничных походов, один из основателей Союза спасения, член Союза благоденствия, член Верховной думы Северного тайного общества, автор проекта конституции, в основе которой лежала идея конституционной монархии. В день 14 декабря 1825 г. отсутствовал в Петербурге. Осужден на 20 лет каторги, срок сокращен до 15 лет. В 1835 г. выпущен на поселение в Иркутскую губернию. Кроме конституции писал в Сибири исторические и публицистические сочинения, но после ареста Лунина уничтожил их. В Петровском Заводе читал соузникам лекции по истории России и мировой военной истории.
Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1795–1826) – подполковник Черниговского пехотного полка. Участник наполеоновских войн, кавалер боевых орденов и золотой шпаги за храбрость. Один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, глава Васильковской управы Южного тайного общества. В армейский полк переведен в 1820 г. из лейб-гвардии Семеновского полка, после волнений в полку. Руководитель восстания Черниговского полка. Взят в плен, будучи тяжело ранен картечью. Приговорен к повешению и казнен 13 июля 1826 г.
Наполеон I Бонапарт (1759–1821) – император французов, великий полководец.
Наполеон III см. Луи Наполеон
Нахимов Павел Степанович (1803–1854) – адмирал, 16 ноября 1853 г. разгромил турецкий флот при Синопе. Во время осады Севастополя англо-франко-турецкими войсками умело руководил обороной города. Воодушевляя защитников Севастополя, демонстрировал полное бесстрашие, что и привело к его гибели. Современники отмечали его редкие человеческие качества.
Нейдгардт Александр Иванович (1784–1845) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, участник русско-шведской войны 1808–1809 гг., наполеоновских войн. С 1838 г. в чине генерал-майора был назначен начальником штаба Гвардейского корпуса. Принимал участие в «генеральском заговоре» с целью не допустить великого князя Николая Павловича на престол. 14 декабря действовал нерешительно, однако получил звание генерал-адъютанта. Участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. В 1842 г. назначен командующим Отдельным Кавказским корпусом, но на этом посту не стяжал особых лавров. Через два года был отозван с Кавказа и определен членом Военного совета.
Нелидова Варвара Аркадьевна (1814?–1897) – фрейлина императрицы Александры Федоровны, фаворитка Николая I.
Нелидова Екатерина Ивановна (1756–1839) – воспитанница Смольного института, умная и всесторонне одаренная, обратила на себя внимание великого князя, а затем императора Павла Петровича. С 1777 г. фрейлина великой княгини Марии Федоровны. С воцарением Павла становится камер-фрейлиной. Была фавориткой императора, умевшей воздействовать на него в минуты гнева. После появления новой фаворитки, А. П. Лопухиной, переехала на жительство в Смольный монастырь. Разгневанный ее заступничеством за императрицу, которую Павел хотел удалить из Петербурга, император выслал Нелидову из столицы. После смерти Павла она вернулась в Петербург и стала помощницей императрицы Марии Федоровны в ее благотворительной деятельности.
Нельсон Горацио (1758–1805) – виконт, вице-адмирал, великий флотоводец. Происходя из семьи, чьи три поколения были священниками, двенадцати лет поступил юнгой на военный флот и, пройдя многие испытания, дослужился до капитана линейного корабля. На этом посту продемонстрировал незаурядный талант, совершая непривычные для английского флота маневры, которые привели к победе. В 1798 г. началось его соревнование с генералом Бонапартом. Не сумев перехватить французский флот по пути в Египет, он разгромил его при Абукере, отрезав армию Бонапарта от Франции. В 1805 г. сыграл решающую роль в противостоянии Франции и Англии. Разгромив франко-испанский флот при Трафальгаре, предотвратил высадку армии Наполеона на Британский остров. В этом сражении был убит.
Нессельроде Карл Васильевич (1780–1852) – граф, с 1814 по 1855 г. министр иностранных дел Российской империи. Находился под влиянием австрийского канцлера Меттерниха. После победоносной кампании 1812 г. в союзе с тем же Меттернихом фактически добился отстранения Кутузова от руководства армией, поскольку Кутузов не был сторонником заграничного похода и окончательного разрушения империи Наполеона, понимая, что это нарушит европейское равновесие и приведет к возникновению европейского альянса против России. Крымская война подтвердила его опасения. Внешняя политика Нессельроде была бессистемна и не всегда вела к благу России. Так, в 1848 г. он настоял на отправке экспедиционного корпуса в Венгрию для помощи австрийцам, что не принесло России ни малейшей пользы.
Никитенко Александр Васильевич (1804–1877) – интеллигент из крепостных, получивший вольную стараниями Жуковского и людей его круга. Был домашним учителем младшего брата декабриста Оболенского, что едва не погубило его. Благодаря уму и приобретенной образованности сделал незаурядную карьеру. Окончив Петербургский университет и обратив на себя внимание своими литературными опытами, с 1832 г. стал адъюнктом по кафедре русской словесности университета, а с 1834 г. – профессором. Параллельно получил назначение цензором и, будучи честным и разумным человеком, не раз оказывался в трудном положении. Великие реформы Александра II встретил с восторгом. Дневник и воспоминания Никитенко являются одним из важнейших источников для изучения русского XIX века.
Николаев Степан Степанович (1789–1849) – генерал-лейтенант, наказной атаман Кавказского линейного казачьего войска. Участник наполеоновских войн. В ноябре 1825 г. император Александр I, получивший в Таганроге первые доносы на декабристов, именно полковнику лейб-гвардии казачьего полка С. С. Николаеву поручил начать активное расследование и аресты заговорщиков.
Николай Николаевич (1831–1891) – великий князь, третий сын Николая I, генерал-инспектор кавалерии и по инженерной части, генерал-фельдмаршал. Участвовал в Крымской войне. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. был главнокомандующим действующей армией на Балканах.
Новицкий Георгий Васильевич (1800–1877) – генерал от артиллерии, участник русско-персидской войны 1826–1828 гг. Основная его служба прошла на Кавказе. В 1863 г. был назначен председателем полевого военного суда над польскими мятежниками.
Новосильцев Николай Николаевич (1761–1838) – граф, в начале царствования Александра I входил в Негласный комитет, который составляли «молодые друзья» императора, готовившие либеральные реформы. Участник войны со Швецией 1788–1790 гг. Участвовал в подавлении польского восстания 1794 г. В 1803–1810 гг. президент Академии наук, попечитель Петербургского учебного округа. С 1821 по 1831 г. наместник Царства Польского. Сохранил либеральные взгляды своей молодости. Будучи в Польше, разработал по поручению Александра I проект конституции России – «Уставную грамоту Российской империи», нереализованную. В 1821 г. вместе с М. С. Воронцовым и А. С. Меншиковым представил императору проект отмены крепостного права, не имевший последствий. После 1831 г. вернулся в Петербург, был членом Государственного совета, а затем его председателем и председателем Кабинета министров.
Норов Авраам Сергеевич (1795–1869) – участник наполеоновских войн, с 1854 по 1858 г. министр народного просвещения, писатель, переводчик, путешественник по Востоку. Резко критиковал «Войну и мир» Льва Толстого за неточное, по его мнению, описание военных событий.
Норов Василий Сергеевич (1793–1853) – подполковник, участник наполеоновских войн. Член Союза благоденствия и Южного тайного общества. Осужден на 15 лет каторжных работ, срок уменьшен до 10 лет. Поскольку у Николая I были личные счеты к Норову, то он почти все время провел в крепостях – Свеаборгской, Выборгской, Шлиссельбургской, Бобруйской. Отправленный рядовым в 1835 г. в Черноморский батальон, выслужил к 1837 г. унтер-офицерское звание и был уволен от службы. Оставил чрезвычайно содержательные мемуары о войне с Наполеоном.
Оболенский Евгений Петрович (1796–1865) – поручик лейб-гвардии Финляндского полка, адъютант командующего гвардейской пехотой К. И. Бистрома, член Союза благоденствия и один из основателей и руководителей Северного тайного общества. 14 декабря 1825 г. начальник штаба восстания, в конце дня избран диктатором вместо не явившегося на площадь Трубецкого. Пытаясь отогнать от строя восставших лошадь генерала Милорадовича, случайно ранил того штыком в бок. Осужден в каторжную работу вечно, срок сокращен до 20 лет.
Огарев Николай Александрович (1811–1867) – генерал-лейтенант, генерал-адъютант, участник подавления польского восстания 1830–1831 гг. Во время Крымской войны занимался укреплением и вооружением крепостей.
Ольга Николаевна (1822–1892) – великая княжна, дочь Николая I, в замужестве королева Вюртембергская.
Омер-паша (1806–1871) – турецкий военачальник, сын австрийского офицера, серба по национальности. Перешел из австрийской армии в турецкую, приняв ислам. Проявил незаурядные военные таланты и дослужился до генерала. В Крымскую войну командовал турецкой армией, действующей на Дунае, а затем турецкими войсками в Крыму.
Орлов Алексей Федорович (1786–1861) – граф, князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн. 14 декабря 1825 г. командовал лейб-гвардии Конным полком и неоднократно пытался атаковать боевые порядки восставших. Был одним из ближайших к Николаю людей. Выполнял важные дипломатические поручения. Сопровождал Николая I в поездках по России. С 1839 г. попечитель наследника, великого князя Александра Николаевича, а с 1845 г. вместо умершего Бенкендорфа стал командующим Императорской главной квартирой, шефом жандармов и начальником III отделения Собственной его императорского величества канцелярии. Был уполномоченным России на Парижском конгрессе, вырабатывавшем условия мирного договора после Крымской войны.
Островский Александр Николаевич (1823–1886) – один из крупнейших русских драматургов.
Павел I (1754–1801) – русский император с 1796 г. Сын убитого соратниками Екатерины II свергнутого Петра III. Будучи великим князем и нелюбимым сыном императрицы, испытал немало унижений, что исказило его личность. Вступив на престол 42-х лет, поставил своей целью принципиально изменить всю екатерининскую систему управления, навести жесткий порядок, искоренить злоупотребления. К сожалению, даже самые благие замыслы императора он реализовал непоследовательно и оскорбительно для окружающего его генералитета и офицерства. Вблизи Павла никто не чувствовал себя в безопасности. Его попытки вести себя рыцарственно и благородно разбивались о неуравновешенность его личности. Все это, включая невыгодный России резкий поворот во внешней политике от Англии к Франции, привело к озлоблению окружения императора и жестокому убийству его людьми, которым он доверял.
Пален Петр Петрович (1778–1854) – старший брат Ф. П. Палена, генерал от кавалерии, участник наполеоновских войн, кавалер многих боевых орденов и золотой шпаги за храбрость.
Пален Федор Петрович (1780–1863) – действительный тайный советник, сын П. А. Палена, организатора убийства Павла I, дипломат и государственный деятель. Во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. представлял Россию в княжествах Молдавии и Валахии. После войны участвовал в заключении мира с Турцией. С 1832 г. член Государственного совета. Принимал горячее участие в крестьянской реформе 1861 г.
Палмерстон Генри Джон Темпл (1784–1855) – ирландец по происхождению, знаменитый государственный деятель Великобритании, занимавшийся вопросами обороны, международными делами, был министром иностранных дел, вдохновителем коалиции против России в Крымской войне. Ставил своей главной целью не допустить развала под напором России Турции и Персии и прорыва России к Индии. В конце Крымской войны стал премьер-министром и с небольшим перерывом оставался им до смерти.
Пальм Александр Иванович (1822–1885) – писатель, офицер лейб-гвардии Егерского полка. Арестован в 1849 г. по делу Петрашевского, после 8 месяцев заключения в Петропавловской крепости был отправлен на Кавказ. Участвовал в обороне Севастополя, выслужил чин майора и вышел в отставку. Поступил на гражданскую службу, но был обвинен в растрате и сослан, но вскоре оправдан. Наибольшей известностью пользовался его роман «Алексей Слободин», посвященный истории петрашевцев.
Панаев Николай Иванович (1797–1862) – инженер-подполковник, способствовал ликвидации мятежа военных поселений. Впоследствии генерал-майор.
Панин Виктор Никитич (1801–1874) – граф, службу начинал на дипломатическом поприще. С 1832 г. товарищ министра юстиции, в 1841–1862 гг. министр юстиции. Убежденный реакционер, сторонник крепостного права и телесных наказаний, уверенный в несвоевременности реформ и всячески им препятствующий. Вышел в отставку по несогласию с судебной реформой.
Панов Николай Алексеевич (1803–1850) – поручик лейб-гвардии Гренадерского полка, член Северного тайного общества, активный участник восстания 14 декабря. Сумел поднять батальон лейб-гренадер, несмотря на противодействие командира полка и старших офицеров, пробился на Сенатскую площадь. Во время следствия вел себя мужественно. Приговорен в каторжную работу навечно, срок сокращен до 20 лет. Умер в Иркутске на поселении.
Паскевич Иван Федорович (1782–1856) – граф Эриванский, светлейший князь Варшавский, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн, любимец Николая I, который командовал бригадой в 1-й гвардейской дивизии Паскевича. С тех пор Николай называл Паскевича отцом-командиром. В 1827 г. Паскевич сменил Ермолова на посту командующего Кавказским корпусом. Командуя кавказскими войсками, воспитанными Ермоловым, при содействии ермоловских генералов Вельяминова и Мадатова выиграл войну с персами 1826–1828 гг. Успешно командовал русской армией в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. В 1831 г. сыграл решающую роль в подавлении польского мятежа. В 1848 г. во главе 100-тысячной русской армии подавил восстание венгров против Австрии. Во время Крымской войны, командуя войсками на Дунае, Паскевич не проявил своей обычной энергии.
Перовский Василий Алексеевич (1794–1837) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, участник Бородинской битвы, попал в плен и был освобожден только при взятии союзниками Парижа. С 1818 г. адъютант великого князя Константина Павловича, член Союза благоденствия, к следствию не привлекался. 14 декабря 1825 г., будучи флигель-адъютантом Николая I, был при нем весь день восстания. Отличился в русско-турецкую войну 1828–1829 гг. С 1833 г. назначен оренбургским военным-губернатором и командующим Отдельного оренбургского корпуса. Был сторонником продвижения в Азию, в 1839 г. предпринял неудачный поход на Хиву. Вернувшись на пост оренбургского генерал-губернатора, в 1851 г. начал планомерное наступление на среднеазиатские ханства. Был в добрых отношениях с Пушкиным, принимал его в Оренбурге во время поездки Пушкина по местам восстания Пугачева.
Перовский Лев Алексеевич (1792–1859) – генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн, член Союза благоденствия, к следствию не привлекался. С 1841 по 1852 г. министр внутренних дел. Сторонник отмены крепостного права.
Пестель Павел Иванович (1793–1826) – участник Отечественной войны и заграничных походов, тяжело ранен при Бородине, награжден золотой шпагой за храбрость. С 1821 г. полковник, командир Вятского пехотного полка. Член Союза спасения, Союза благоденствия, организатор и глава Южного тайного общества, автор проекта республиканской конституции «Русская правда». Считал необходимым установление революционной диктатуры для реформирования государства. Арестован по доносу капитана Майбороды 13 декабря 1825 г. Приговорен к повешению. Казнен 13 июля 1826 г.
Петр I (1672–1725) – русский царь, первый русский император, радикальный реформатор всех сторон жизни России, создатель военно-бюрократической системы, существовавшей до Великих реформ 1860-х гг. Талантливый военачальник.
Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–1865) – выпускник Царскосельского лицея и юридического факультета Петербургского университета. С 1841 г. служил переводчиком в Министерстве иностранных дел. Последователь теории утопического социализма. Был организатором кружка, в котором обсуждались политические вопросы и возможность существования тайных революционных обществ. Был сторонником освобождения крестьян с землей. В кружок Петрашевского входил молодой Достоевский. В 1849 г. Петрашевский и другие члены кружка были арестованы. Петрашевского приговорили к смертной казни. Привязанный к столбу, он отказался надевать колпак смертника, желая смотреть в лицо смерти. Казнь в последнюю минуту была заменена бессрочной каторгой. В 1856 г., после воцарения Александра II, был выпушен на поселение. В Сибири пользовался большим влиянием на местное общество, был выслан из Иркутска, а затем из Красноярска в сельскую местность. Умер в ссылке.
Пиль Роберт (1788–1850) – английский государственный деятель, в частности организатор лондонской муниципальной полиции (прозвище полицейских «бобби» происходит от уменьшительного имени Пиля). Лидер партии консерваторов, с 1841 по 1845 г. возглавлял правительство, которое считается самым выдающимся в Англии XIX в. Экономические реформы Пиля привели к процветанию страны и снизили социальную напряженность. Однако голод в Ирландии в 1845 г. и падение урожаев в Англии в значительной степени свели на нет успехи Пиля. Под давлением оппозиции внутри партии он ушел в отставку.
Пиллар фон Пильхау Густав Федорович (1793–1862) – барон, генерал-лейтенант, директор Департамента военных поселений. Участник наполеоновских войн, тяжело ранен при Бородине.
Плаутин Николай Федорович (1794–1865) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, участник наполеоновских войн. Отличился в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Участвовал в подавлении польского мятежа 1830–1831 гг. Участвовал в венгерской кампании 1849 г. под командованием Паскевича. Кавалер всех русских военных орденов и целого ряда иностранных. С 1839 г. командир лейб-гвардии Гусарского полка, непосредственный начальник Лермонтова. Был активным участником прогрессивных реформ, которые проводил военный министр Александра II Д. А. Милютин.
Позен Михаил Павлович (1798–1871) – государственный деятель, тайный советник, статс-секретарь, участник крестьянской реформы. Автор проекта Положения об управлении Закавказским краем. Принимал деятельное участие в устройстве Закавказского края до момента отставки в 1845 г.
Покровский Михаил Николаевич (1858–1932) – известный историк. В годы учения в Петербургском университете был учеником Ключевского. Со временем перешел на позиции марксизма, принимал участие в деятельности социал-демократов, сотрудничал с Лениным в большевистской газете «Пролетарий». Будучи профессиональным и одаренным историком, тем не менее вульгаризировал исторический процесс. После Октябрьского переворота фактически оказался диктатором в области исторической науки. Был инициатором преследований историков, не разделявших марксистскую теорию, в частности трагического «Академического дела», по которому были арестованы многие выдающиеся ученые. Но сам Покровский избежал подобной участи благодаря тому, что умер в 1932 г. В 1930-х гг. научная школа Покровского была объявлена «базой вредителей, шпионов и террористов».
Полевой Николай Алексеевич (1796–1845) – известный писатель, критик, драматург, переводчик, издатель одного из самых популярных русских журналов «Московский телеграф». По своим взглядам Полевой, происходивший из купеческой семьи, был принципиальным противником дворянства и идеологом «третьего сословия». Непримиримым врагом Полевого был министр просвещения С. С. Уваров. Однако Николай I, и сам не доверявший дворянству и желавший опереться на «народ», до поры поддерживал Полевого. Он распорядился закрыть «Московский телеграф» после резкого отзыва Полевого о патриотической пьесе Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла». Этому способствовали и многочисленные доносы, обвинявшие Полевого в рассеивании революционной заразы. После запрета журнала Полевой писал вполне официозные исторические сочинения и романтические повести. Для своих пьес он выбирал сюжеты из русской истории. Сотрудничал в «Северной Пчеле» Булгарина и Греча и в их журнале «Сын отечества». Умер в нищете.
Полежаев Александр Иванович (1804–1838) – талантливый поэт. Будучи студентом Московского университета, в 1825 г. написал шуточно-сатирическую и несколько фривольную поэму «Сашка». В результате доноса рукопись попала в руки Николая I. Еще не остывший от событий 14 декабря император отправил молодого поэта в военную службу унтер-офицером. Армейская судьба Полежаева была трагична. Ему пришлось пережить разжалование в рядовые без выслуги и лишение личного дворянства, годичное заключение в подвалах Московских казарм в кандалах за оскорбление фельдфебеля. Отправленный на Кавказ, он отличился в боях с горцами и снова был произведен в унтер-офицеры. Офицерское звание получил уже будучи смертельно болен.
Полиевктов Михаил Александрович (1872–1942) – историк, профессор Петроградского и Тбилисского университетов. Занимался внешней политикой России, российско-грузинскими отношениями. Автор книги «Николай I. Биография и обзор царствования» (M., 1918).
Потапов Алексей Николаевич (1772–1847) – генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного и Военного советов. Во время наполеоновских войн адъютант великого князя Михаила Павловича, его личный друг. В ноябре – декабре 1825 г. дежурный генерал Главного штаба; один из активных участников «генеральского заговора», не допустившего присяги Николаю после смерти Александра I и спровоцировавшего междуцарствие.
Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) – светлейший князь, фаворит Екатерины II, крупный государственный деятель, генерал-фельдмаршал, реформатор русской армии. Автор, совместно с Екатериной II, грандиозных проектов расширения Российской империи, сокрушения Турции и основания Греческой империи со столицей в Константинополе во главе с великим князем Константином Павловичем. При нем Россия присоединила Крым. Будучи умным и талантливым деятелем, отличался вздорным и резким характером, бывал оскорбительно груб с военными высокого ранга, чем нажил себе немало врагов. Перестав быть любовником императрицы, сохранил свое значение влиятельнейшего государственного человека.
Потоцкий Станислав Евстафьевич (1755–1821) – государственный деятель Польши времен независимости, а затем Великого герцогства Варшавского. После крушения Наполеона и возникновения Царства Польского Потоцкий был назначен министром исповеданий и народного просвещения Царства. С 1818 г. президент Сената Царства Польского. Широко образованный человек, Потоцкий сделал много для развития образования в Польше. Оставил много разнообразных сочинений на исторические и философские темы.
Поццо ди Боpгo Карл Осипович (1758–1842) – граф, дипломат, русский посланник в Париже, а затем в Лондоне.
Протасов Николай Александрович (1798–1855) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Государственного совета. По протекции министра народного просвещения С. С. Уварова Протасов в чине полковника был назначен товарищем министра народного просвещения, а затем, в том же 1836 г., сделан обер-прокурором Святейшего Синода и, следуя указаниям Уварова, продолжал огосударствливание русской церкви.
Пугачев Емельян Иванович (1742–1775) – донской казак, вождь Крестьянский войны 1773–1775 гг., потрясшей сознание русского дворянства. С тех пор русское правительство и дворянство постоянно ощущали опасность новой пугачевщины.
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – создатель новой русской литературы, мыслитель, историк.
Пушкина Наталья Николаевна (1812–1863) – жена А. С. Пушкина; после его смерти, в 1844 г., вышла замуж за генерала П. П. Ланского.
Пущин Иван Иванович (1798–1859) – член Союза спасения и Союза благоденствия, один из создателей и лидеров Северного тайного общества. Выпускник Царскосельского лицея, ближайший друг Пушкина. Начал службу в 1817 г. в лейб-гвардии конной артиллерии. В 1823 г. после столкновения с великим князем Михаилом Павловичем, шефом артиллерии, ушел в отставку и перешел в статскую службу судьей надворного суда, что было уникальной ситуацией для гвардейца из хорошей дворянской семьи. В декабре 1825 г. играл одну из ключевых ролей в подготовке восстания и в самих событиях 14 декабря. Осужден в каторжную работу навечно. Срок сокращен до 20 лет. После амнистии 1855 г. вернулся в Европейскую Россию. Оставил знаменитые воспоминания о Пушкине.
Пущин Николай Николаевич (1792–1848) – генерал-лейтенант, участник наполеоновских войн. С 1817 г. служил в лейб-гвардии Литовском полку, дислоцированном в Варшаве. В результате резкого конфликта с великим князем Константином Павловичем был разжалован в рядовые без выслуги с лишением дворянства. Раскаявшийся великий князь вымолил у Александра I прощение Пущину, которому был возвращен чин капитана и дворянство. Впоследствии Пущин отличился при подавлении восстания в Польше. Дальнейшая его карьера шла вполне успешно, пока он не был назначен командиром Дворянского полка – учебного заведения, готовившего офицеров. Здесь он проявил непонятную жестокость к кадетам и вынужден был выйти в отставку.
Радзивилл Лев Людвигович (1808–1885) – князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Во время восстания 1830–1831 гг. остался верен России, будучи корнетом лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, активно участвовал в подавлении восстания. Состоял при великом князе Константине Павловиче. С 1832 г. флигель-адъютант. Участвовал в подавлении венгерской революции 1848–1849 гг. Состоял при генерале Паскевиче. Отличился во время Крымской войны. В 1869 г. произведен в генералы от кавалерии.
Радзивилл Софья Александровна см. Урусова Софья Александровна.
Разумовская Мария Григорьевна (1772–1865) – графиня, урожденная княгиня Вяземская, в первом браке за князем А. Н. Голицыным, во втором, с 1802 г., за генерал-майором графом Львом Кирилловичем Разумовским. В Петербурге славились «танцевальные утра» и балы, которые она давала «для самого избранного общества».
Раух Егор Иванович (1789–1864) – лейб-медик императрицы Александры Федоровны. Был уволен Николаем I за то, что не сумел вылечить смертельно больную великую княжну Александру Николаевну.
Резвый Орест Павлович (1811–1904) – генерал от артиллерии, в 1853–1857 гг. начальник Михайловского артиллерийского училища.
Рейнгольд Эмилий Иванович (1787–1867) – лейб-медик Александра I и Николая I. Как военный врач участвовал в наполеоновских войнах. В ноябре 1825 г. находился при умирающем Александре I и после смерти императора бальзамировал его тело. Сопровождал императрицу Елизавету Алексеевну в ее путешествии из Таганрога в Петербург и присутствовал при ее смерти в Белеве. С 1828 г. состоял лейб-медиком при княгине Лович, супруге великого князя Константина Павловича. После смерти великого князя в 1831 г. вернулся в Петербург и занимал ряд высоких постов по медицинскому ведомству.
Робеспьер Максимилиан (1758–1794) – вождь радикального крыла Конвента во время Великой французской революции. С июня 1793 г. возглавлял якобинскую диктатуру и был вдохновителем тотального террора. В июле 1794 г. арестован и казнен.
Розен Андрей Евгеньевич (1799–1884) – барон, поручик лейб-гвардии Финляндского полка, участник совещаний у Оболенского, участник восстания 14 декабря, приговорен в каторжную работу на 10 лет, срок сокращен до 6 лет. В 1837 г. определен рядовым в Кавказский корпус. В 1839 г. по болезни освобожден от службы и отправлен на родину в Эстляндскую губернию. Автор содержательных и важных для истории декабризма записок.
Розен Григорий Владимирович (1782–1841) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн и войны со шведами 1808–1809 гг. С 1831 по 1837 г. командовал Отдельным Кавказским корпусом. Главным достижением его на этом посту был разгром отрядов первого имама Кази-муллы (Кази-Магомеда), погибшего во время сражения. Был уволен от должности во время визита на Кавказ Николая I в 1837 г. из-за проступков своего зятя князя Дадиана. От потрясения тяжело заболел и умер.
Роллер Андрей Адамович (Андреас Леонгард; 1805–1891) – театральный художник. Работал в Австрии, Франции, Англии. В 1834–1879 гг. декоратор и главный машинист императорских театров в Петербурге.
Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826) – граф, был близок к великому князю Павлу Петровичу, а затем и к император Павлу I, в царствование которого возглавлял Коллегию иностранных дел. В 1812–1815 гг. генерал-губернатор и главнокомандующий в Москве. По согласованию с Кутузовым организовал пожар Москвы.
Рот Логин Осипович (1780–1851) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, француз на русской службе с 1797 г., участник наполеоновских войн, русско-турецкой войны 1806–1812 гг., русско-турецкой войны 1828–1829 гг., отличился при подавлении польского восстания 1830–1831 гг. С 1833 г. помощник командующего 1-й армией.
Рудзевич Александр Яковлевич (1775–1829) – генерал от инфантерии, с 1801 по 1811 г. воевал с горцами на Кавказе, с 1812 г. участник наполеоновских войн. После войны командовал 7-м, а затем 3-м пехотными корпусами. Участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг.
Румянцев Петр Александрович (1725–1796) – граф Задунайский, фельдмаршал, с 1761 по 1796 г. управлял Малороссией. Отличился во время Семилетней войны, прославился победами над турками при Ларге в 1770 г. и в том же году при Кагуле. Занял все главные турецкие крепости, включая Измаил. Действия Румянцева заставили турок заключить Кючук-Кайнарджийский мир на условиях России. Тяжелый конфликт с Потемкиным вынудил Румянцева фактически отойти от активной деятельности, хотя он и числился командующим армией.
Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) – поэт, один из вождей Северного тайного общества и организаторов восстания 14 декабря. Участник заграничных походов. Приговорен к смертной казни и повешен.
Салтыков Николай Иванович (1736–1816) – граф, генерал-аншеф, с 1790 г. президент Военной коллегии, воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей.
Свистунов Петр Николаевич (1803–1889) – корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка, член петербургской ячейки Южного тайного общества. В восстании 14 декабря не участвовал, но приговорен в каторжную работу на 20 лет. Срок сокращен до 15 лет. В 1835 г. вышел на поселение в Иркутскую губернию. После амнистии 1856 г. возвратился в Европейскую Россию. Участвовал в подготовке крестьянской реформы 1861 г.
Семевский Василий Иванович (1848–1916) – историк либерально-народнического направления, основатель и редактор журнала «Голос минувшего», автор работ по социальной истории России, в частности по истории крестьянства.
Серафим (Глаголевский; 1757–1843) – митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский. 14 декабря 1825 г. по просьбе Николая I пытался уговорить восставших гвардейцев вернуться в казармы, но успеха не имел.
Серяков Лаврентий Авксентьевич (1842–1881) – академик живописи, основатель русской школы ксилографии. Первый из русских художников получил звание академика за гравирование по дереву. Знаменитый иллюстратор.
Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809–1882) – урожденная Россет, или Россети; дочь швейцарца, получившего образование в Генуе и служившего во французской армии и в 1787 г. перешедшего в русскую службу. Был флигель-адъютантом Потемкина, отличился в русско-турецкой войне 1787–1791 гг. По воцарении Павла уехал в Европу. Вернулся в Россию в 1802 г. После смерти отца Александра Осиповна была зачислена по указу императрицы Марии Федоровны в училище Св. Екатерины на иждивение великого князя Михаила Павловича. Семья безусловно бедствовала. После окончания училища Александра Россет стала фрейлиной императрицы Марии Федоровны и поселилась в Зимнем дворце. Она дружила с Жуковским, Вяземским, Пушкиным, которые ценили ее живой ум и красоту. Вышла замуж за дипломата Н. М. Смирнова, впоследствии петербургского гражданского губернатора, сенатора. Оставила замечательные по фактологической насыщенности и тонкости наблюдений записки и дневник.
Соколова Александра Ивановна (1833–1914) – писательница, автор множества остросюжетных романов, издательница газеты «Русский листок». Была знакома с Ф. И. Тютчевым и его дочерьми-фрейлинами, чьи рассказы послужили основой очерка о Николае I.
Соллогуб Владимир Александрович (1819–1882) – граф, писатель, чиновник по особым поручениям Министерства внутренних дел. Знакомый Пушкина. В 1836 г. могла состояться его дуэль с Пушкиным, но их удалось помирить.
Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) – один из крупнейших русских историков, убежденный государственник, автор многотомной «Истории России с древнейших времен». Профессор Московского университета.
Сосницкий Иван Иванович (1794–1871) – артист Александринского театра, с большим успехом играл по преимуществу в комедиях и водевилях.
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – граф, сын сельского священника. Благодаря блестящим способностям после окончания Александро-Невской семинарии, куда принимали наиболее способных учеников провинциальных семинарий, сделал стремительную карьеру – сначала при генерал-прокурорах, а затем в качестве ближайшего помощника императора Александра I в его либерально-реформаторский период. Подготовил проект радикальной реформы управления государством, включавший созыв Государственной думы и постепенную отмену крепостного права. Был поклонником административных преобразований Наполеона. В 1812 г., накануне войны с французами, в результате сложной интриги был обвинен в государственной измене и сослан. После победы над Наполеоном Александр, прекрасно знавший, что Сперанский невиновен, вернул его на государственную службу: он был назначен сначала пензенским гражданским губернатором, а затем сибирским генерал-губернатором с широкими полномочиями. В Сибири Сперанский провел целый ряд благотворных реформ и сделал многое для искоренения коррупции. В 1821 г. он вернулся в Петербург, но сколько-нибудь важной роли уже не играл. Он знал о готовящемся восстании 14 декабря. Лидеры тайного общества в случае успеха прочили его во Временное правление. Подозревая причастность Сперанского к заговору, Николай I для проверки лояльности назначил его членом Верховного уголовного суда над декабристами, что было для Сперанского тяжелейшим психологическим испытанием. Николай поверил в лояльность бывшего реформатора и поручил ему возглавить составление «Полного собрания законов Российской империи», что Сперанский с блеском выполнил.
Спешнев Николай Александрович (1821–1888) – один из наиболее радикальных участников кружка Петрашевского. Был приговорен к расстрелу, замененному 10 годами каторги.
Стакельберг (Штакельберг) Эрнст Густав (1814–1870) – генерал-лейтенант, дипломат, писатель. Служил на Кавказе. Побывав в Алжире, составил подробную записку о французской армии и был назначен военным агентом в Париже. Участник обороны Севастополя.
Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) – художественный и музыкальный критик, теоретик русской реалистической школы живописи. Был арестован по делу петрашевцев, но осужден не был. С 1856 г. работал в Публичной библиотеке.
Стокмар Христиан Фридрих (1787–1863) – врач по профессии, активно занимался политической деятельностью в Бельгии, а затем в Англии. Был близок к королевской чете – королеве Виктории и принцу Альберту.
Стрекалов Степан Степанович (1782–1856) – генерал-лейтенант, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн, с 1818 по 1821 г. командовал в чине генерал-майора лейб-гвардии Измайловским полком. С 1828 г. Тифлисский военный губернатор, отличился в делах против горцев. С 1831 г. Казанский военный губернатор. С 1841 г. перешел в статскую службу; сенатор, действительный тайный советник.
Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882) – граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн и русско-турецкой войны 1828–1829 гг. С 1835 г. попечитель Московского учебного округа, много сделавший для процветания Московского университета. Основатель археологической комиссии, председателем которой был до своей смерти. В политике придерживался сугубо консервативных взглядов.
Стюрлер Николай Карлович (ок. 1783–1825) – полковник, флигель-адъютант, в 1810 г. из швейцарской службы перешел в русскую поручиком лейб-гвардии Семеновского полка. Участник кампании 1812 г. В декабре 1825 г. командовал лейб-гвардии Гренадерским полком. Был смертельно ранен Каховским, когда пытался на Сенатской площади уговорить солдат присягнуть Николаю I.
Суворов Александр Васильевич (1730–1800) – граф Рымникский, князь Италийский, генералиссимус, великий полководец.
Сумароков Сергей Павлович (1793–1875) – генерал от артиллерии, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн, профессиональный артиллерист, с 1826 г. в чине полковника адъютант генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Павловича. Отличился в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Bо время подавления польского восстания 1830–1831 гг. командовал артиллерией Гвардейского корпуса. Во время Крымской войны командовал Западной армией, дислоцированной в Царстве Польском.
Сухозанет Иван Онуфриевич (1788–1861) – генерал от артиллерии, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн, с 1819 г. начальник артиллерии Гвардейского корпуса. Принял активное участие в подавлении восстания 14 декабря 1825 г. Участник русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и подавления польского восстания 1830–1831 гг. В сражении при Грохове с польскими инсургентами ему оторвало ядром ногу. С 1832 по 1854 г. директор Императорской военной академии; в 1833 г. был назначен главным директором Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов, что вызвало негативную реакцию как в обществе, так и среди молодого офицерства. Сухозанет пользовался репутацией грубого, высокомерного и нечистоплотного человека.
Татищев Сергей Спиридонович (1846–1906) – дипломат, историк, публицист. Участник, добровольцем, русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Автор фундаментальных трудов по русской внешней и внутренней политике.
Тизенгаузен Екатерина Федоровна (1803–1888) – графиня, внучка М. И. Кутузова, фрейлина императрицы Александры Федоровны. Была близка с императрицей, сопровождала ее во время путешествий, жила в Зимнем дворце.
Тимашев Александр Егорович (1818–1893) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, в 1844 г. отличился в боях против горцев на Кавказе, был назначен флигель-адъютантом к Николаю I, а после его смерти генерал-адъютантом к Александру II. Был начальником штаба 3-го резервного кавалерийского корпуса. С 1856 по 1861 г. был начальником штаба корпуса жандармов и управляющим III отделением Собственной его императорского величества канцелярии. Сразу после крестьянской реформы был назначен временным военным губернатором Казанской, Пермской и Вятской губерний. В 1868 г. стал министром внутренних дел и пробыл на этом посту 10 лет. Репутация Тимашевa противоречива.
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – великий русский писатель, религиозный мыслитель, оказавший огромное влияние на современное ему общество от Америки до Индии. Создатель своего варианта христианского учения, отрицающего мистику и основанного на идее любви.
Толстой Николай Матвеевич (1802–1880) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Участник русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и подавления польского восстания 1830–1831 гг. С 1852 г. попечитель Санкт-Петербургских военных госпиталей. Во время Крымской войны, в ожидании нападения союзников на Петербург, был назначен генерал-губернатором Санкт-Петербургской стороны.
Толстой Петр Александрович (1761–1844) – граф, генерал от инфантерии, член Государственного совета, участник наполеоновских войн. Отличился при подавлении польского восстания 1794 г. С 1807 по 1808 г. был чрезвычайным послом в Париже. Из-за антифранцузской позиции был отозван по настоянию Наполеона. В 1828 г. главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте. Допрашивал Пушкина по делу о «Гавриилиаде».
Толь Карл Федорович (1777–1842) – участник Итальянского и Швейцарского походов Суворова, граф, генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн, генерал-квартирмейстер 1-й Западной армии, затем генерал-квартирмейстер главной русской армии, генерал-квартирмейстер Главного штаба его императорского величества. В 1829 г. был начальником штаба армии графа Дибича, 14 декабря 1825 г. активно участвовал в подавлении восстания декабристов. Во время польского восстания 1830–1831 гг. начальник штаба действующей армии. С 1833 г. главноуправляющий путей сообщения.
Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1884) – генерал-инженер, генерал-адъютант, участник боевых действий против кавказских горцев, прославился строительством укреплений во время осады Севастополя. В значительной степени благодаря инженерному таланту Тотлебена Севастополь смог оказать столь длительное и ожесточенное сопротивление англо-франко-турецким войскам. Отличился во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Был назначен главнокомандующим. После окончания войны назначен временным одесским генерал-губернатором и командующим войсками Одесского военного округа. В 1880–1884 гг. виленский генерал-губернатор. Его называли самым выдающимся военным инженером XIX в.
Трембицкий Станислав (1792–1830) – генерал в армии Царства Польского. Во время восстания 1830 г. сохранил верность присяге, данной российскому императору, и был убит повстанцами.
Тьер Луи Адольф (1797–1877) – историк, после французской революции 1830 г. активно занимался политической деятельностью. В 1836 и 1840 гг. премьер-министр. Был поклонником Наполеона. При его правительстве в 1840 г. прах Наполеона был доставлен в Париж с острова Святой Елены; по решению Тьера на Вандомской колонне была поставлена статуя Наполеона. В том же году из-за конфликта с королем Луи Филиппом правительство Тьера ушло в отставку. После длительного пребывания в оппозиции в 1848 г. вернулся в политику и провозгласил себя республиканцем. Находился в резком конфликте с Наполеоном III, а после падения императора снова стал главой правительства и вступил в смертельную борьбу с Парижской коммуной. После разгрома Коммуны он был избран президентом Франции. Оставил целый ряд фундаментальных исторических трудов, главным из которых была «История французской революции с 1789 г. до 18 брюмера».
Трубецкая Екатерина Ивановна (1800–1854) – урожденная Лаваль. После осуждения мужа, декабриста С. П. Трубецкого, последовала за ним в Сибирь.
Трубецкой Василий Сергеевич (1776–1841) – князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, участник наполеоновских войн, русско-турецкой войны 1806–1812 гг.
Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860) – князь, полковник лейб-гвардии Преображенского полка. Участник наполеоновских войн. С 1824 г. дежурный офицер в 4-м пехотном корпусе, дислоцированном в Киеве. Один из основателей тайных обществ – Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества. В канун 14 декабря, будучи в Петербурге, был избран диктатором будущего восстания. В день восстания по ряду сложных как психологических, так и чисто военных причин не явился на Сенатскую площадь, хотя и поджидал мятежные части в ключевых пунктах. Осужден к вечной каторге. Срок был сокращен до 20 лет. В 1839 г. обращен на поселение в Иркутской губернии. После амнистии 1856 г. был восстановлен в правах дворянства, но без возвращения титула. Княжеское достоинство было возвращено детям специальным указом императора. Вернулся в Европейскую Россию. Оставил важные для историков воспоминания, публицистические сочинения, большое эпистолярное наследие.
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – великий русский писатель, поэт, переводчик.
Тургенев Николай Иванович (1789–1871) – мыслитель, экономист, публицист. Один из главных идеологов русского либерализма. Фанатический противник крепостного права. Член Союза благоденствия и один из учредителей и идеологов Северного тайного общества. В момент восстания оказался за границей и отказался вернуться по вызову правительства. Заочно осужден к каторжной работе навечно. По амнистии 1856 г. помилован, возвращены все права. Получил разрешение вернуться в Россию. С 1857 г. жил и в России, и во Франции. Оставил обширный историософский труд «Россия и русские».
Туркул Игнатий Лаврентьевич (1798–1856) – министр-статс-секретарь Царства Польского, член Государственного совета.
Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – великий русский поэт, мыслитель, дипломат, публицист.
Тютчева Анна Федоровна (1829–1889) – дочь Ф. И. Тютчева, фрейлина великой княгини Марии Александровны с 1853 г. Отличалась незаурядным умом, образованностью и сильным характером. Вышла замуж за известного славянофила И. С. Аксакова и полностью разделяла его воззрения. Оставила чрезвычайно насыщенные воспоминания «При дворе двух императоров».
Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – идеолог николаевского царствования, начал службу по дипломатической части, был человеком широкой образованности. Разорение семьи вынудило его в 1810 г. жениться на старой деве, дочери министра просвещения А. К. Разумовского, влиятельного и богатого вельможи. С этого времени карьера Уварова резко пошла вверх. В 1816 г. стал попечителем Петербургского учебного округа. Исповедовал либеральную идеологию, был членом «Арзамаса». С 1818 г. президент Академии наук. После воцарения Николая I его воззрения резко изменились. Он стал консерватором и охранителем. Автор знаменитой формулы «православие, самодержавие и народность». Будучи министром просвещения, одновременно заботился о развитии образования и в то же время требовал, чтобы в основу воспитания юношества были положены послушание, почтение к начальству и верноподданость. На этой почве у него возник непримиримый конфликт с Пушкиным, придерживавшимся совершенно иных взглядов на принципы воспитания – самостоятельность, самоуважение, честь. Как глава русской цензуры яростно преследовал Пушкина. Был принципиальным сторонником крепостного права, считая, что уровень развития русского крестьянина не позволяет дать ему свободу.
Уваров Федор Петрович (1773–1824) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, один из активных участников свержения Павла I, участник наполеоновских войн. С 1821 по 1824 г. командовал Гвардейским корпусом.
Урусова Софья Александровна (1804–1889) – в замужестве (с 1833 г.) княгиня Радзивилл. С 1827 г. фрейлина. По слухам, фаворитка Николая I. Знакомая Пушкина, Жуковского, Гоголя.
Ушаков Павел Петрович (1779–1853) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, воспитатель великих князей Николая и Михаила Павловичей. Отличался разумной мягкостью и пользовался любовью своих воспитанников.
Федор I Иоаннович (1557–1598) – царь всея Руси и великий князь Московский. Третий сын Ивана IV Грозного. Был женат на сестре Бориса Годунова Ирине, оказывавшей на слабого царя большое влияние. На нем пресеклась династия Рюриковичей.
Фельдман Александр Иванович (1789–1861) – инженер-генерал, генерал-адъютант, директор Инженерного департамента, комендант Инженерного замка. Внес большой вклад в проектирование и строительство приграничных крепостей. Участник наполеоновских войн.
Феоктистов Евгений Михайлович (1828–1898) – писатель, государственный деятель. Начинал как сотрудник либеральных журналов «Современник» и «Отечественные записки», постепенно дрейфовал в сторону консерватизма и сделал незаурядную чиновничью карьеру в области идеологии. После гибели Александра II и наступления эпохи реакции был начальником Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел. Перелом в его воззрениях возник вскоре после начала Великих реформ и окончательно оформился в царствование Александра III. Автор известных и насыщенных информацией мемуаров «За кулисами политики и литературы», весьма саркастически рисующих государственную элиту. Они увидели свет только в 1929 г.
Филарет (1782–1783) – с 1826 г. митрополит Московский, крупнейший русский богослов XIX в. Действительный член Императорской Российской академии, почетный член Академии наук.
Филипсон Григорий Иванович (1809–1883) – генерал от инфантерии, служил с 14 лет. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба и в 1835 г. по собственному желанию отправился служить на Кавказ. С Кавказом связана почти вся воинская служба Филипсона. Военный интеллигент, не чуждый либеральных идей, он был сторонником компромиссного решения кавказского вопроса, в частности возражал против выселения черкесов с Западного Кавказа. Военную карьеру закончил в должности начальника штаба Кавказской армии. С 1861 по 1862 г. был попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. Отправлен в отставку за излишнюю мягкость по отношению к неблагонадежным студентам.
Фирсов Николай Николаевич (1839–?) – писатель. Окончил в 1860 г. Михайловскую артиллерийскую академию, но в военную службу не вступил. Был предводителем дворянства, мировым судьей. Оставил обширное литературное наследство. Последние десятилетия жизни провел в Италии.
Франц I (1768–1835) – австрийский император с 1804 г., участник антинаполеоновских коалиций.
Франц Иосиф I (1830–1916) – император Австрийской империи и король Богемии, с 1867 г. глава Австро-Венгерской монархии. Отказался поддержать Россию во время восточного кризиса, приведшего к Крымской войне, и в значительной степени определил негативный для России исход конфликта. Политика Австрии обернулась против нее самой. Не имея традиционного союзника в лице России, Австрия проиграла войну Пруссии, лишившись значительных территорий. Австрия сыграла одну из решающих ролей в развязывании Первой мировой войны, что и стало в результате концом империи. Но Франц Иосиф не дожил до провала своей политики и краха империи.
Фредерикс Александр Александрович – барон, полковник лейб-гвардии Измайловского полка. Именно он в 6 часов утра 12 декабря 1825 г. привез великому князю Николаю Павловичу пакет от Дибича из Таганрога с материалами доносов на тайные общества.
Фредерикс Мария Петровна (1832 – после 1897) – фрейлина императрицы Александры Федоровны, автор воспоминаний о придворной жизни 1830–1850-х гг., о смерти Николая I и Александры Федоровны.
Фридрих Вильгельм III (1770–1840) – с 1797 г. прусский король, участник антинаполеоновских коалиций. После ряда тяжелых поражений (Аустерлиц, Иена, Ауэрштедт) подписал вместе с Александром I Тильзитский мир, но в отличие от России Пруссия потеряла почти половину своих владений. Был союзником Наполеона в войне 1812 г. против России, но в 1813 году перешел на сторону Александра I. Прусская армия участвовала в кампаниях 1813, 1814, 1815 гг. против Наполеона.
Фридрих Вильгельм IV (1795–1861) – король Прусский с 1840 г., старший сын Фридриха Вильгельма III. Вступив на престол, существенно смягчил внутреннюю политику. В частности, много сделал для создания атмосферы веротерпимости. Под давлением революционных событий 1848 г. вынужден был согласиться на умеренную конституцию. Несмотря на то что революция была подавлена, конституционное устройство в Пруссии сохранилось, хотя и в существенно урезанном виде.
Хвощинский Павел Кесаревич (1790–1852) – полковник, командир батальона лейб-гвардии Московского полка. Член Союза благоденствия. 14 декабря 1825 г. пытался удержать полк в казармах и был ранен декабристом князем Щепиным-Ростовским.
Хилкова Любовь Александровна (1811–1859) – в замужестве Безобразова; фрейлина. Была любовницей Николая I. Узнав об этом, муж, флигель-адъютант и ротмистр лейб-гвардии Кирасирского полка, возмутился и был отправлен на Кавказ, где сделал незаурядную карьеру, дослужившись до генерала от кавалерии.
Хлопицкий Иозеф Гжегож (1772–1854) – в молодости участник восстания Костюшко, после третьего раздела Польши эмигрировал и вступил в 1-й Польский легион французской армии, воевал в Италии против австрийцев, сражался в рядах французской армии при Прейсиш-Эйлау и Фридланде. Воевал в Испании, был награжден орденом Почетного легиона и титулом барона Французской империи. Участвовал в походе Наполеона в Россию, в 1812 г. был ранен при Бородине. После крушения Наполеона был принят Александром I в армию Царства Польского с чином генерал-лейтенанта. Во время восстания 1830 г. был избран диктатором, но не верил в военную победу поляков и пытался безуспешно договориться с Николаем I. Сложил с себя диктаторские полномочия, участвовал в сражении при Грохове и был тяжело ранен. Эмигрировал в Австрию.
Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – историк, философ, религиозный мыслитель, поэт, один из основоположников славянофильства. Критически оценивая реформы Петра I, ратовал за созыв Земского собора для разрешения противоречий в русском обществе – между петровским государством и народом. Автор монументальных «Записок по всемирной истории», в которых пытался объяснить основные исторические процессы начиная с древности.
Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) – один из крупнейших русских мыслителей, автор «Философических писем». Участник наполеоновских войн, отличившийся во многих сражениях. В 1816 г. переведен в лейб-гвардии Гусарский толк, дислоцированный в Царском Селе. В доме H. М. Карамзина познакомился с лицеистом Пушкиным и стал его старшим другом и духовным наставником. Пользовался благосклонностью Александра I. Как адъютант командующего Гвардейским корпусом И. В. Васильчикова был послан с донесением о волнениях Семеновского полка к Александру I, находившемуся на конгрессе в Троппау. После чего вышел в отставку, вызвавшую недоумение в обществе, поскольку явно делал блестящую карьеру. Был членом Союза благоденствия. От Сибири его спасло только то, что в 1823 г. он уехал за границу и вернулся только в 1826 г., таким образом, не принимал никакого участия в деятельности заговорщиков. По приезде был арестован, отрицал свое участие в тайных обществах и через 40 дней был отпущен. В 1829–1831 гг. писал историософские сочинения, названные «Философическими письмами». После публикации в 1836 г. в журнале «Телескоп» первого «Философического письма», пропитанного горечью по поводу неевропейского исторического пути России, был по указанию Николая I объявлен сумасшедшим, посажен под домашний арест и под надзор полицейского врача. Освобожден от гласного надзора через год, но до конца жизни был под негласным надзором. Вел жизнь, подобную жизни Сократа, – его творчеством были его беседы.
Чарторыжский Адам Ежи (1770–1861) – князь, представитель одной из знатнейших польских фамилий. В начале царствования Александра I – один из «молодых друзей» императора, член «Негласного комитета», с 1804 по 1806 г. министр иностранных дел. С 1803 по 1823 г. попечитель Виленского учебного округа. Во время польского восстания 1830–1831 гг. председатель Национального правительства. После подавления восстания эмигрировал во Францию.
Чернышев Александр Иванович (1786–1857) – светлейший князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Накануне войны 1812 г. был русским военным агентом в Париже и успешно добывал секретные планы Наполеона. Во время кампании 1812 г. и заграничных походов успешно командовал партизанскими отрядами, действовавшими в тылу наполеоновских войск. Был близок к Александру I. Находился при нем в Таганроге в дни его последней болезни и смерти. Активно участвовал в расследовании дела декабристов. С 1827 до 1855 г. занимал пост военного министра. С 1848 г. был председателем Государственного совета. В области управления армией и обучения войск придерживался сугубо консервативных, устаревших взглядов. Его деятельность на посту военного министра не в последнюю очередь способствовала поражению России в Крымской войне.
Чернышев Захар Григорьевич (1797–1862) – граф, ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского полка, член петербургской ячейки Южного тайного общества; приговорен в каторжную работу на два года, срок сокращен до года. В 1829 г. отправлен на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк, выслужил офицерский чин, в 1834 г. уволен в отставку поручиком с обязательством жить в одном из родовых имений. Позже служил по гражданской части. Умер в Риме.
Четвертинская (Святополк-Четвертинская) Мария Антоновна (1779–1854) – княжна, в браке Нарышкина. Фрейлина. Фаворитка Александра I.
Чеченский Александр Николаевич (?–1834) – генерал-майор, чеченец, мальчиком вывезенный из Чечни и воспитанный в семье Н. Н. Раевского-старшего. Во время кампании 1812 г. служил вместе с Д. В. Давыдовым, высоко его ценившим. Под командованием Д. В. Давыдова воевал во время заграничных походов. Отличался незаурядной храбростью. Был удостоен ордена Св. Георгия IV степени, золотого Георгиевского оружия и многих боевых орденов.
Шамиль (1797–1871) – третий имам, духовный вождь горцев Чечни и Дагестана в войне с русскими войсками. Незаурядный полководец, пытавшийся построить на подвластных ему территориях подобие правильной государственной системы. После ожесточенной четвертьвековой борьбы потерпел поражение и сдался в плен в августе 1859 г. После приема его Александром II в Петербурге был отправлен на житье в Калугу, где принес присягу на верноподданство Российской империи. В 1870 г. получил разрешение на паломничество в Мекку. Умер в Медине.
Шаховской Александр Александрович (1777–1846) – князь, драматург и театральный деятель. Обладал большим влиянием в театральном мире. В его доме собирались писатели и актеры.
Шеншин Василий Никанорович (1784–1831) – генерал-лейтенант, генерал-адъютант, участник наполеоновских войн, в 1825 г. в чине генерал-майора командовал 1-й гвардейской пехотной бригадой, в которую входил лейб-гвардии Московский полк. 14 декабря пытался воспрепятствовать мятежным ротам выйти из казарм и был ранен декабристом князем Щепиным-Ростовским.
Шервуд Иван Васильевич (Джон; 1798–1867) – сын английского механика, приглашенного для работы в России. С 1819 г. служил унтер-офицером в корпусе южных военных поселений. Вошел в доверие к члену Южного тайного общества прапорщику Ф. Ф. Вадковскому, через него к другим заговорщикам. Донес на членов тайного общества Александру I весной 1825 г. После свидания с Аракчеевым, а затем и самим императором продолжил свою провокаторскую деятельность. Способствовал разгрому Южного общества. После 14 декабря 1825 г. был произведен в офицеры, назначен в лейб-гвардии Драгунский полк и по указу Николая I получил приставку к фамилии – Верный. Вызывал отвращение большинства гвардейских офицеров, прозвавших его Шервуд-Скверный. Прикомандированный к штабу Гвардейского корпуса, принимал участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и в подавлении польского восстания 1830–1831 гг. Затем основным занятием Шервуда стала провокаторская деятельность под покровительством Бенкендорфа. Увлекшись авантюрами, сочиняя ложные доносы, Шервуд потерял доверие Николая I, некоторое время содержался в Шлиссельбургской крепости. По освобождении выведен в отставку. Оказался замешан в уголовных делах. Отправлен на жительство в свое имение под полицейский надзор.
Шереметев Дмитрий Николаевич (1803–1871) – граф, гофмейстер императорского двора, камергер, владелец огромного состояния, около 150 000 душ, тратил огромные суммы на благотворительность. Был попечителем Странноприимного дома в Москве, финансировал храмы, монастыри, гимназии, приюты. Способствовал развитию Петербургского университета. Пользовался огромным уважением в обществе и был ценим августейшим семейством.
Шидловский Александр Федорович (1863–1942) – ученый-краевед, вице-губернатор Архангельской губернии, последний губернатор Олонецкой губернии. После революции 1917 г. подвергся репрессиям.
Шильдер Николай Карлович (1842–1902) – генерал-лейтенант, известный историк, участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. С 1879 г. на гражданской службе. С 1886 г. снова на военной службе – начальник Николаевской инженерной академии. С 1899 г. и до конца жизни директор Императорской публичной библиотеки. Автор фундаментальной биографии Александра I и незаконченной биографии Николая I (до польского восстания 1830–1831 гг.). Шильдеру принадлежат многочисленные статьи и публикации в «Русском архиве», «Историческом вестнике», «Военном сборнике» и других изданиях.
Шиман Виктор Михайлович – инженер путей сообщения, мемуарист.
Шипов Иван Павлович (1793–1845) – генерал-майор, член Союза спасения и Союза благоденствия, друг Пестеля. Участник наполеоновских войн. По указанию Николая I не был привлечен к следствию. Назначен командиром лейб-гвардии Сводного полка, составленного из солдат – участников восстания 14 декабря. Отправлен с полком на Кавказ, участвовал в русско-персидской войне 1826–1828 гг. По возвращении командир лейб-гвардии Гренадерского полка. Участник подавления польского восстания 1830–1831 гг. 14 декабря 1825 г., будучи полковником лейб-гвардии Преображенского полка, поддержал Николая I.
Шнейдер Луи (1805–1878) – немецкий писатель, актер и режиссер. С 1833 г. начал издание специального журнала для солдат, что принесло ему популярность в Пруссии и снискало симпатии Николая I.
Штейнгель Владимир Иванович (1783–1862) – подполковник, в молодости служил на военном флоте, плавал в Европу и по Охотскому морю. Перешел в армию, участвовал в наполеоновских войнах офицером ополчения. Обладал несомненными данными государственного деятеля. Оказавшись в Петербурге, вступил в 1824 г. в Северное тайное общество, активно участвовал в подготовке восстания, хотя по тактическим вопросам принципиально расходился с Рылеевым и Трубецким. По предложению Рылеева в канун восстания написал вариант манифеста на случай победы. После провала восстания текст был им уничтожен. Приговорен в каторжную работу на 20 лет. Срок сокращен до 15 лет. С 1835 г. на поселении в Иркутской губернии. После амнистии 1856 г. вернулся в Европейскую Россию.
Шуберт Федор Федорович (1789–1865) – генерал от инфантерии, военный топограф, геодезист, астроном. Участвовал в наполеоновских войнах и войне со Швецией 1809 г. С 1822 г. директор корпуса топографов, в 1828 г. начальник съемки Балтийского моря, с 1829 г. директор гидрографического бюро Главного морского штаба. Работы Шуберта по картографированию России и определение долгот важных для навигации пунктов в Балтийском море, как и другие научные работы, создали Шуберту высокую международную репутацию.
Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович (1758–1858) – князь, штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка, командир роты. Не будучи членом тайного общества, сыграл незаурядную роль в организации восстания 14 декабря. Выводя мятежные роты из казарм, ранил саблей полковника Хвощинского и генерал-майора Шеншина. Командовал одним из фасов каре московцев на Сенатской площади. Приговорен в каторжную работу навечно, срок сокращен до 20 лет. В 1839 г. вышел на поселение. После амнистии 1856 г. вернулся в Европейскую Россию. Ему было возращено дворянство, но без титула и без права на прежнее имущество.
Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) – знаменитый актер, считающийся основоположником русской реалистической актерской школы. Происходил из семьи крепостных. Играл в домашнем театре своего хозяина графа Волькенштейна. С 1805 г. с разрешения графа играл в профессиональном театре. С 1818 г. актер Полтавского театра. Руководитель театра писатель И. П. Котляревский совместно с будущим декабристом С. Г. Волконским, собрав по подписке деньги, выкупил в 1822 г. Щепкина у графа Волькенштейна. С этого времени он входил в труппу московского Малого театра, где играл до конца жизни. Был дружен с Пушкиным, Гоголем, Некрасовым, Белинским, Тургеневым.
Эвальд Аркадий Васильевич (1834–1898) – писатель, выпускник Николаевского инженерного училища, участвовал в защите балтийского побережья от английской эскадры. После отставки активно занимался журналистикой и литературным трудом, автор романов, статей, очерков.
Эссен Петр Кириллович (1772–1844) – генерал от инфантерии, в 1830–1842 гг. генерал-губернатор Петербурга. Службу начинал в гатчинских войсках великого князя Павла Петровича. Участвовал в швейцарском походе генерал-лейтенанта А. М. Римского-Корсакова в 1799 г., в наполеоновских войнах, в 1809–1811 гг. воевал с турками. Участвовал в заграничных походах.
Эстергази Мориц (1807–1890) – граф, австрийский дипломат, посланник в Риме. Лидер клерикально-феодальной реакционной партии при венском дворе.
Эсхан-хан Нахичеванский (1789–1846) – служил в персидской армии наследника Аббас-мирзы. Во время русско-персидской войны 1826–1828 гг. перешел на сторону русских и сдал Паскевичу крепость Аббас-Абад. Был пожалован полковником русской службы и назначен наибом Нахичеванского ханства. В 1837 г. во время поездки Николая I по Кавказу Эсхан-хан был произведен в генерал-майоры. Два его сына стали русскими генералами.
Юзефович Михаил Владимирович (1802–1889) – происходил из семьи реестровых казаков. Участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. За храбрость награжден боевыми орденами и чином штаб-ротмистра. Был адъютантом генерала Н. Н. Раевского-младшего. Служил под командованием генерала С. Р. Лепарского и оставил ценные свидетельства об этом незаурядном человеке, которого Николай I выбрал для надсмотра над сосланными в Сибирь государственными преступниками. Впоследствии был попечителем Киевского учебного округа.
Якубович Александр Иванович (1796/1797–1845) – капитан Нижегородского драгунского полка. Участник заграничных походов. В 1817 г. за разного рода проступки и участие в качестве секунданта В. Шереметева в дуэли Завадовского и Шереметева, кончившейся смертью последнего, переведен из лейб-гвардии Уланского полка на Кавказ в Нижегородский драгунский полк. На Кавказе стрелялся в 1818 г. с А. С. Грибоедовым, секундантом Завадовского. Грибоедов был ранен в кисть руки. Отличился в боях с горцами, прославился дерзкими набегами на горские аулы. Был тяжело ранен в голову и получил отпуск в Петербург для хирургической операции. Не был членом Северного тайного общества, но участвовал в замыслах заговорщиков. Декларировал намерение убить Александра I, считая свое отчисление из гвардии несправедливым. На самом деле убивать царя не собирался, а хлопотал о восстановлении в гвардии. В канун восстания 14 декабря был назначен лидерами тайного общества помощником диктатора Трубецкого. Ему поручалось с Гвардейским морским экипажем захватить Зимний дворец и арестовать августейшую фамилию. Утром 14 декабря от поручения отказался, чем существенно осложнил положение заговорщиков. В день восстания вел себя двусмысленно. Осужден на вечную каторгу, как потенциальный цареубийца; срок сокращен до 20 лет. В 1839 г. обращен на поселение в Иркутской губернии. Страдал от незалеченной раны. Умер «от водяной болезни в груди».
Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857). Учился в Московском университете. Участник наполеоновских войн, кавалер боевых орденов. В 1816 г. вышел в отставку капитаном. Один из организаторов Союза спасения и Союза благоденствия. В 1817 г., когда разнесся слух, что Александр I намерен отдать Польше часть русских губерний, вызвался убить царя и застрелиться самому – «смертельная дуэль». Участник совещаний членов тайного общества. Осужден в каторжную работу на 20 лет как потенциальный цареубийца. В 1835 г. вышел на поселение. После амнистии 1856 г. вернулся в Европейскую Россию.
Основная библиография
Бенкендорф А. Х. Император Николай I в 1828–1831 гг. // Русская старина. 1896. № 6, 7, 10; 1898. № 2.
Бунт военных поселян в 1831 году: Воспоминания очевидцев. СПб., 1870.
Бургоэн П.-Ш.-А. Воспоминания о современной истории // Отечественные записки. 1864. Т. 157, № 11, 12.
Блиох И. Финансы России в XIX веке. СПб., 1882.
Гершензон М. Эпоха Николая I. М., 1910.
Головнин А. Записки для немногих. СПб., 2004.
Заблоцкий-Десятовский А. Граф Киселев и его время. Т. 2, 3. СПб., 1882.
Ключевский В. Неопубликованные произведения. М., 1983.
Ключевский В. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968.
Корф М. Записки. М., 2003.
Корф М. Материалы и черты к биографии императора Николая I: Сб. Русского Императорского исторического общества. Т. 98. СПб., 1896.
Кюстин А. де. Николаевская Россия. М., 1930.
Лорер Н. Записки декабриста. Иркутск, 1984.
Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи: Сб. М.; Л., 1926.
Мироненко С. В. Николай I // Российские самодержцы. 1801–1917. М., 1993.
Никитенко А. Дневник. Т. 1–3. М., 1955–1956.
Николай I. Молодые годы: Сб. СПб., 2008.
Нифонтов А. С. Россия в 1828 году. М., 1949.
Полиевктов М. Николай I: Биография и обзор царствования. М., 1918.
Розен А. Записки декабриста. Иркутск, 1984.
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989.
Татищев С. Внешняя политика Николая I. СПб., 1881.
Татищев С. Николай I и иностранные дворы. СПб., 1889.
Трубецкой С. Идеологические документы, воспоминания, письма, заметки. Иркутск, 1983.
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1990.
Шильдер Н. К. Николай I. Т. 1. СПб.; М., 2010.
Штейнгель В. Записки и письма. Иркутск, 1985.
Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич. Т. 1. СПб., 1888.
Воспоминания современников о Николае I в журналах «Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Вестник Европы», «Наше наследие».