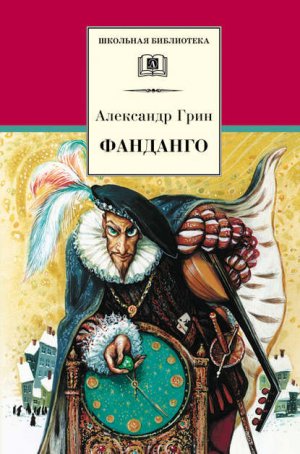
Страна Александра Грина
Ассоль, Грэй, Битт-Бой, приносящий счастье, Гарвей, Бам-Гран, Фрези Грант – эти имена напоминают нам о стране, которую не найти ни на одной карте мира. В этой стране свои моря, свои проливы – пролив Кассет, пролив Бурь, Безумный пролив… Свои горы Ахуан-Скапа, Чистые Озера, свой Дикий Запад, рудники Западной Пирамиды, болота в «Округе Затонувшей Земли» и степь, в которой, как и в херсонских степях, стоит древний камень – Ленивая Матерь. Есть ущелье Калло, Аларгетская равнина, долина Поющих Деревьев… Есть поселки и города со звучными названиями: с мягким, ласкающим, как имя Ассоль, как плеск береговой волны, – Лисс, с разудалым, бойким, как восточный базар, – Зурбаган («город веселых шутников»), с очень таинственным, очень южным – Сан-Риоль и с маскарадным, как имя ярмарочного плясуна, клоуна, – Гель-Гью. А среди них имя, подобное толстой сварливой бабе, упершей руки в бока, – Каперна. В городах – улицы Чернослива, Полнолуния, площадь Светлый Шар, гостиницы «Унеси горе» и «Колючей подушки».
Яркая, праздничная страна, которую в 30-е годы критик К. Зелинский назвал «Гринландией», подобна огромному парковому лесу, расцвеченному китайскими фонариками и огненными гирляндами, с водопадами, гротами, заполнена маскарадной толпой и увеличена до размеров целого континента – какой-нибудь Южной Америки. Но здесь происходят истории, которые заставляют думать, а Грин совсем не простой писатель, как кажется на первый взгляд, и его творчество по-своему не менее сложно, чем проза Гоголя, Достоевского или Булгакова.
Создатель этой романтической страны – Александр Степанович Гриневский (Грин – его литературный псевдоним) родился 23 августа 1880 года в уездном городке Слободском Вятской губернии в семье сосланного участника Польского восстания против царизма. Годы детства и юности будущего писателя прошли в глухой провинциальной Вятке. В семье царили бедность и разлад. Александра унижали, попрекали за страстную любовь к чтению, за писание стихов, за тягу к романтическим приключениям.
Книги Жюля Верна, Стивенсона, морские рассказы Станюковича сыграли определенную роль в жизни писателя: с детства его манило море, он упорно мечтал о нем. Шестнадцати лет отправился в Одессу, долго не мог найти работы, голодал, спал в ночлежках, а когда с помощью добрых людей все-таки нашел место ученика за плату на транспортном судне «Платон», оказалось, что труд в море будничен и тяжел.
Но именно в этом плавании Грин увидел и запомнил порты Севастополя, Ялты, Батума, Феодосии, послужившие потом прообразами фантастических гаваней «Гринландии».
Затем Грин был маркировщиком, грузчиком, пекарем, переписчиком, банщиком, актером. Он часто терял работу, нищенствовал, и тогда его настигали голод, гибельное сознание своего одиночества в мире. Устав от неустроенности, Грин добровольно пошел в солдаты.
В 1902 году Грин сблизился с социалистами-революционерами, вступил в эсеровскую партию. Эта партия воспринималась тогда как наследница героической «Народной воли» с ее религиозным подвижничеством, мятежностью и жертвенностью.
Грин перешел на нелегальное положение, писал прокламации, шифровал письма. Его революционная биография вместила в себя и аресты, и попытки побега из тюрьмы, и ссылки.
Но уже к концу 1900-х годов Грин отошел от революции, от веры в действенность политических программ и социального реформаторства и начал всерьез писать.
Грин принадлежал к тому же поколению, что и Куприн и Бунин, эмигрировавшие из Советской России. Внешне сдержанный, чопорный, он отличался феноменальным неумением «устраиваться» в жизни. Критик Зелинский с недоумением и насмешкой писал, что Грин проявлял «инфантильную беззащитность», «сам открывая грудь всем упрекам и идя навстречу им». Не сумел писатель приспособиться и к новой, советской действительности. Ему не прощали «социальной пассивности», отказа от выполнения «социального заказа». Он подвергался непрерывным нападкам деятелей РАПП[1], упорно отказывался писать иначе. Уехал из столицы, жил «на отшибе», в Старом Крыму, новых друзей не приобрел и самозабвенно писал о Зурбагане, Лиссе…
Последние годы прошли в тяжелой бедности. Жена писателя обращалась к знакомым с просьбой помочь, прислать денег. Грин просил о пенсии, а затем просто о выдаче 200 рублей, но писательские организации молчали[2]. Осип Мандельштам звонил, хлопоча о Грине, секретарю Горького, но ничего не добился. Когда он сообщил тогдашнему председателю Литфонда о смерти Грина, тот ответил: «Умер? Хорошо сделал»[3].
Во второй половине 1930-х годов Грина перестали издавать. В середине 1940-х годов, в годы борьбы с космополитизмом, была пущена в ход легенда об «иностранце русской литературы», созданная еще в дореволюционные годы. О Грине постарались забыть.
Лишь в 1960-е годы, когда Грин был «открыт» массовым читателем, когда завоевал его, новое поколение исследователей заявило, что романтика его – не уход от жизни, а приход к ней – со всем очарованием веры в добро и красоту людей, что страна Грина имеет прямое отношение к революционной эпохе, герой которой – «праздничный, веселый, бесноватый, с марсианской жаждою творить» (Н. Тихонов) – сродни ее современникам.
Грин начал свой литературный путь как «бытовик», как автор очерков и рассказов бытового склада, отдав дань переполнявшим его жизненным впечатлениям. Наряду с прозой он писал лирические стихи, стихотворные фельетоны и даже басни. Но наибольшую известность получили его романтические новеллы, повести и романы.
Грин был не единственным художником своего времени, который заявил о своем праве свободно обращаться с материалом действительности. За подтверждением далеко ходить не надо – вспомните «Мистерию-буфф», «Клопа» и «Баню» В. Маяковского, «Аэлиту» А. Толстого, его же «Гиперболоид инженера Гарина», «Месс-Менд» М. Шагинян, «Республику Итль» Б. Лавренева, «Дьяволиаду», «Роковые яйца», «Собачье сердце» и рождавшийся в те же годы роман о Мастере М. Булгакова, «Мы» Евг. Замятина, великого провокатора «Хулио Хуренито» И. Эренбурга, странный мир «Зависти» Ю. Олеши, экзотику воровского дна, поднятого на поверхность рукой Леонова в «Воре», путешествия «усомнившегося Макара» в одноименном рассказе Платонова, фантастические рассказы и утопию А. Чаянова, дьявольскую приправу в рассказах В. Катаева («Сэр Генри и черт», «Железное кольцо»), В. Каверина («Бочка», «Большая игра»), Н. Огнева («Щи республики»), перепутанный с явью мир легенд и сказок в романах С. Клычкова…
А разве А. Серафимович в «Железном потоке», И. Бабель в «Конармии», Вс. Иванов в «Партизанских повестях», А. Малышкин в «Падении Даира», сохраняя в построении произведения видимое правдоподобие и следуя логике исторического события, не прибегают к особому методу видения, «всматривания» в предмет, к «обнажающему» анализу действительности? Жизнеподобие своего мира они взрывают изнутри: намеренно сдвигая пространственные, временные и психологические отношения, используя фантастику, гротеск, гиперболу.
Если Л. Леонову для такого анализа требуются экзотическая обстановка, созданная самой действительностью, – воровское дно, где можно увидеть человека «без орнаментума», если М. Булгаков в «Роковых яйцах» или «Собачьем сердце» предлагает неожиданное фантастическое условие, которое в конце концов и становится причиной самых невероятных приключений с обычными людьми, то Грин творит свой собственный мир, где возникают ситуации, которые не только не могли иметь место в действительности, но и не существовали до Грина ни в фольклоре, ни в литературе.
В этих ситуациях участвует множество героев. Прежде всего это любимые Грином охотники за «таинственным чудным оленем» – Несбывшимся, готовые добыть его хотя бы ценою жизни – Грэй («Алые паруса»), Гарвей («Бегущая по волнам»), Дюрок («Золотая цепь»), капитан Дюк («Корабли в Лиссе») и близкие им Даниэль Хортон, Нэд, Рэг, Ральф, Стиль – молодые люди, немногословные, грубоватые, «с тяжелой челюстью», но «с возвышенным челом», отшельники, испытывающие свою «идею» в непроходимых джунглях, в зачумленном городе, на необитаемых плоскогорьях, на морских просторах. Два других ряда персонажей представляют собой, условно говоря, варианты основного типа. «Веселые нищие», родные братья Диделя и Уленшпигеля – Билль Железный Крючок, Костлявая Нога, Горький Сироп, матерый морской волк, страшила и добряк дядюшка Гро, штурман «Четырех ветров» – в их изображении преобладают добродушно-комические, а подчас и трагикомические («Комендант порта») интонации. Судьбы же и характеры героев новелл «Канат», «Серый автомобиль», «Безногий», «Крысолов», «Убийство в Кунст-Фише», «Фанданго» – близких ряду Гарвея – Грэя, но раненных «придирками момента», склонных к болезненному самоанализу, – окрашены трагически.
Страну Грина невозможно представить без тех, кто одаривает радостью, одухотворяет все вокруг, бессознательно диктуя героям их поведение, – без Ассоль, Тави Тум, Дэзи. И наконец, без верховной силы этого мира, властвующей над временем и пространством на всех широтах от Ахуан-Скапа до Петрограда, определяющей судьбу всех, кому доводится с ней столкнуться, – от угольщика из Каперны, которому померещились розы на прутьях его старой корзины, до петроградского жителя Александра Каура. Эта сила воплощена в величественной и таинственной Фрези Грант, в чьем имени – перекат морских волн, в Бам-Гране, чье имя «не зовет, но сзывает», в герое площадей, веселом шутнике из Зурбагана, поднявшемся на вершину могущества и одухотворенности.
Созданный Грином мир пронизан той же вихревой стихией, что и революционная проза 1920-х годов. Музыка, этот синоним стихии, олицетворяет, как и Бам-Гран или Фрези Грант, движущие силы «Гринландии». Будь то незатейливая песенка или симфонический оркестр, одинокая скрипка гениального скрипача или бродячая труппа – музыка звучит в каждом произведении Грина, в каждой новелле. На площадях, в голодной толпе, заполнившей канцелярский зал, на корабле под алыми парусами, в заброшенном мрачном доме на улице Розенгард, где по ночам в одиночестве музицирует Топелиус, отпугивая от дома назойливых обывателей… Музыка у Грина упоительна, грозна и маняща, радостна и жестока.
Мир «Гринландии» – мир, где неосуществленные возможности могут осуществиться, тайны – быть открытыми. Надо лишь ежесекундно быть готовым увидеть сокрытое вокруг, услышать и ответить на дальний зов. И надо уметь увидеть этот «рисунок или арабеск», начертанный рукой Несбывшегося. И любимые герои Грина вглядываются в мир, жадно вслушиваются и по первому зову подымают паруса и устремляются к цели, убежденные в осуществимости своей мечты.
Именно Александр Грин, жизнь которого была, может, более, чем любая другая жизнь, полна одиночества, разочарований, равнодушия окружающих, не побоялся писать о том, как люди побеждают Судьбу, как перед их волей отступают роковые обстоятельства.
Грин «искушает» своих героев с изобретательностью и поразительным напряжением. Ему важно убедиться – «да» или «нет», выдержит или не выдержит. Поддастся ли фантомам герой «Крысолова»? Пойдет ли Жиль Седир вокруг земного шара вот сейчас, через десять минут, – только жену успеет обнять, которую не видел два года?
Что сделает герой новеллы «Сердце Пустыни» Стиль, который искал прекрасный оазис, а нашел лишь девственный лес? Стилю рассказывают прекрасную сказку о небольшом плато «миль за пятьсот от города», где семь семейств, связанных одинаковыми вкусами и любовью к «цветущей заброшенности», создали «прелестное человечье гнездо»: «Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, – что вам еще?!»
Удивительно даже не то, что Стиль, не найдя обещанного оазиса с прекрасным названием «Сердце Пустыни», осуществляет сам вдохновенный замысел шутника и создает этот оазис своими руками, но то, что, создав его, он отправляется на поиски подшутившего над ним человека и воскрешает его душу своим рассказом.
Возможности человека, одухотворенного идеалом, у Грина беспредельны. У Грина торжествуют даже бродяги, чудаки, пьяницы, если в них есть искра духовности. Так происходит, например, в одной из самых грустных историй Грина, написанной им незадолго до смерти – новелле «Комендант порта». Это рассказ о человеке слабом, который всю жизнь мечтал о море, но ни одного плавания так и не совершил. Теперь, в старости, он встречает приходящие в порт суда, жадно оглядывает моряков, трогает снасти и другие корабельные принадлежности – они полны для него скрытого значения. Старик знает немало морских историй и с назойливой охотой всем и везде повествует о себе, о море. Моряки посмеиваются над ним и дают ему прозвище «комендант порта».
Когда создавалась эта новелла, Грин был болен, одинок, ему оставалось жить совсем немного, и сам себе он, наверное, казался не всемогущим озорником Бам-Граном, а немощным, разоблаченным фокусником – «комендантом порта», ни разу не вышедшим в море. Но и в этой истории о мечтателе, который строит легенду из собственной жизни, жалкой, бедной, разительно непохожей на легенду, все-таки есть скрытый гимн человеку мечты. Как ни смеялась судьба над смешным мечтателем, он выдержал свое испытание – оказался нужным, единственно нужным. Не захотели матросы другого «коменданта» – выгнали здорового верзилу, попытавшегося было заменить старика.
Хотя писатель верит в творческие силы человека, это не означает, что «Гринландия» имеет лишь праздничное, «алое» обличье. Грину присуща игра контрастов – счастья и кошмара, смеха и ужаса. Поэтому рядом с алым карнавалом в «Гринландии» бушует черный – мрачная стихия, беспощадная вьюга, вырывающая человека из-под покровительства Бам-Грана или Фрези Грант. Это может быть общая разлаженность жизни, символом которой становится лабиринт коридоров в умершем здании. Это могут быть крысы, серый автомобиль, восковая кукла, толпа, жаждущая кровавого зрелища, – зло, принимающее гротескные формы. В столкновении с ним гриновский герой обнаруживает подлинную силу духа.
Иной раз подобное столкновение происходит не в условиях «Гринландии», а в умирающем послереволюционном Петрограде – голодном, парализованном разрухой.
Герой «Крысолова» (1924), одной из самых сильных трагических новелл Грина, остается без крова. После долгих мучительных скитаний он встречает знакомого, который находит ему прибежище в пустующих палатах Центрального банка, где царит мерзость запустения, но где можно укрыться от холода. Неожиданным оказывается обретение пищи – корзин с продуктами. Грин безжалостно отмечает реакцию голодного – «душа движется в звуках марша». Легко ли устоять перед соблазном «жратвы», перед искушением сытостью? Писатель заостряет ситуацию, придает ей гротескный характер, делая хозяевами еды крыс, создавая образ метафизического зла, власть которого основана на возможности манипулировать простейшими инстинктами человека.
Скиталец Грин понимал, как сильна может быть жажда стабильной, покойной и сытой жизни, и, наверное, именно поэтому так ненавидел, так «выдирал» из себя и своих героев тягу к самодовольству, мещанскому благополучию, защищая свободу от всяческих житейских оков.
Что противопоставил Грин убивающей душу власти вещей?
Устоять перед соблазном «жратвы», уберечь свое «я» от ее наглого натиска герою помогает «отшельничество», своеобразная отключенность от обстоятельств. Но Грин правдиво показал, к чему приводит человека выбор такого пути, ведь он воспринимал одиночество как проклятье для личности. И его герои жаждут разорвать очерченный им вокруг них круг. Единственной опорой в борьбе с обстоятельствами служит для героя «Крысолова» встреча с незнакомой девушкой, как и он, торговавшей на петроградском рынке 1920 года книгами, – с девушкой, которая так бесхитростно застегнула ворот его летнего пальто английской булавкой. В этой встрече герой, как и автор, видит «подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем». Кульминационным в произведениях Грина становится момент, когда сила духовного понимания создает атмосферу счастливой раскованности, когда люди откровенны друг перед другом, когда можно войти в чужой внутренний мир и впустить чужое «я» в свое собственное. Счастье в представлении гриновского героя – это и есть момент духовной сопряженности людей, перед которым материальные ценности – или, по Грину, вещи, «жратва» – теряют всякую притягательность.
Для героев Грина нет большего счастья, чем обрести духовное единство с другим человеческим существом. Но в новеллах трагического плана попытка разорвать круг одиночества чаще всего оканчивается неудачей. Таков, например, исход символической ситуации в новелле «Канат».
Канатоходец Марч, человек до странности похожий на рассказчика, страдающего манией величия, провоцирует его пройтись вместо себя по канату. Как оказывается впоследствии, Марч застраховал свою жизнь и гибель безумца принесла бы ему значительную выгоду. Амивелех принимает предложение Марча и впервые идет по канату над площадью. Идет – вопреки расчету Марча – удивительно ловко, удачливо. Его неожиданный успех питается из двух несовместимых источников. Он в припадке безумия, то есть вне нормы. И это состояние делает его действия бессознательно точными. Его поддерживает также и толпа, собравшаяся на площади, – как раз обычные, нормальные люди. Герой ощущает исходящий от них «подмывающий, как стремительная волна, род нервной насыщенности». Он чувствует, что движется «в невесомой плотности, став частью среды, единородно слитой и напряженной». Но это равновесие обычного и необычного, подчеркнуто индивидуального и массового не может, согласно концепции Грина, быть устойчивым. Толпа там внизу быстро распознает странное в канатоходце. Настроение ее меняется. Она уже не чувствует общности с непохожим на нее человеком и посылает ему иные, не поддерживающие, а уничтожающие его «токи»: «Почему ты не падаешь?… Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться… Падай! Падай! Падай! Ну же… Ну!.. Падай, а не ходи! Падай!»
Толпа не принимает ничего, что хотя бы на вершок выдавалось над ней. Поэтому человек, не желающий отказаться от своего «я», вечно один, без поддержки, неумелый, на канате, натянутом над площадью, балансирует в небе под крики «Падай!».
В новеллах трагического плана носители того «фермента» одухотворенности, который, будучи введенным в жизнь, преображает ее, если не побеждены, то уж, во всяком случае, не победители. Конфликт остается неразрешенным и продолжает существовать ежесекундно, с неослабевающей напряженностью.
В «Фанданго», одной из лучших новелл Грина конца 1920-х годов, две стихии: низменная, «черная» стихия, принимающая облик всеобщего отчуждения, холода, сковывающего действия и чувства, и стихия одухотворенности, «алая» стихия – присутствуют более или менее на равных.
С первой же фразы в новелле возникают две контрастные темы: юг, тепло, приветливость, общность с людьми и холод, равнодушие, отчужденность. По ходу развития повествования этим темам суждено расшириться, наполниться реальным содержанием и принять на себя символическую нагрузку.
На протяжении всей новеллы будут возникать пейзажи парализованного разрухой города. В определенной последовательности, с нарастающей остротой и напряженностью будет развиваться мотив сурового, распавшегося бытия, разобщенности людей, одиночества героя. Эту тему будет неотвязно сопровождать другая мысль – о тепле, о лете, о красоте зеленого листа. Эту тему будет вести мотив южного танца – «Фанданго».
В начале новеллы на фоне подробного описания жилища, где кастрюли, сковородки и горшок «пахнут голодом», упоминание о «Фанданго», которое насвистывает герой, проскальзывает мельком, вбирая уже раньше возникшую мелодию юга, тепла. Воспоминание о ресторане, где румынский оркестр играл «Фанданго», вводит мотив испанского танца в более развернутом виде:
«– Фанданго!
При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке, – рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокое контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу».
Но взлет сразу обрывается: «Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло».
Мотив голода и отчуждения далее усиливается описанием морозной, пустой петроградской улицы 1921 года. Произошел какой-то сдвиг – и фигуры прохожих выглядят чуть гротескно, как во сне, как в галлюцинации, хотя все как будто вполне реально. «Фанданго», ушедшее в пульс, в дыхание, едва теплится в сознании Александра Каура. Но тут поворот. И резко и сильно опять взмывает «южная» тема. Но это не «Фанданго», а его вариация – бродячая труппа цыган. Это знак «алой» стихии, оказавшейся среди враждебной «черной». В самом явлении этого знака нет ничего сверхъестественного. На фоне призрачной улицы группа выглядит более реально, чем все остальное. К тому же гитара завернута в серый платок, шали у старухи – рваные, выглядывает «край грязной красной кофты». Но у молодой цыганки лицо «с пытливым пристальным взглядом», кажется, что она «смотрит из тени листвы, – так затенено… ее лицо длиной и блеском ресниц». Это она укажет Александру Кауру путь к Бам-Грану – Судьбе. И снова резкий спад, возвращение в действительность: мороз и «снег, набившийся меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем» вытесняют «юг, забежавший противу сезона в южный уголок души».
В третьей главке герой попадает в комнату скупщика картин. Здесь царит хаос. Ковер с дырами, щепки и каленые угольки у печки, рояль, на котором огуречная кожура и тарелки, вилка и ножик. На стенах – «болотные пейзажи художника Горшкова», созданные словно для того, чтобы «вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия». И апофеоз этого хаоса – электрическая лампочка посреди потолка, напоминающая «при дневном свете… клочок желтой бумаги».
Появление картины, купленной Броком, вновь возвращает южную тему.
Грин подчеркивает в картине простоту, отсутствие «не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности»: комната, плющ, обвивший стеклянную ячеистую стену, составленную из шестигранных рамок, за которой – «плоские крыши неизвестного восточного города», лепестки на столе возле вазы с осыпающимися цветами, лепестки на полу. Полуоткрытая дверь вдали… «И тем не менее эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина – это особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни – была передана неощутимой экспрессией…»
«Фанданго», цыгане, зной на картине – все это пока еще разъединено.
Александр Каур направляется в КУБУ. В Петрограде в 1921 году существовала такая Комиссия по улучшению быта ученых. Опять улица, опять холод. Сознание героя воспринимает эту улицу, ее пустоту, торжество мороза и отчужденности еще острее, еще болезненнее. В этот критический момент холода и одиночества – вскользь, но вместе с тем дерзко, не заботясь о мотивировке, Грин вводит того, кто окажется Бам-Граном. Появляется «высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный властный жест…».
Но герой торопливо уходит и только слышит за собой: «Сеньор кабалерро… сеньор Эвтерп… сеньор Арумито…» Так полускрыто, одной только струной звучит здесь «Фанданго».
Затем следует развитие различных лейтмотивов, сложное их переплетение, подготовляющее карнавальный разгул «алой» стихии в седьмой главке – празднество с сюрпризами, декорациями, костюмами, скандалами. «Юг, смеясь, кивнул Северу». И несколько страниц заполнено описанием вещей, которые разворачивают пришельцы перед загипнотизированной толпой. На людей, стоящих в очередях за пайками, обрушивается поток даров. Это «бесстыдно прекрасные», по выражению Грина, ненужные, «бесполезные» вещи: гитары из драгоценных древесных пород и перламутра, раковины, шелковые полотна, апельсины, ароматические свечи, бархатные плащи и т. д.
Когда внимание насыщено впечатлениями, происходит наконец взрыв – появляется статистик Ершов, твердыня «здравого смысла». Ужаснувшись происходящему, он устраивает истерический бунт против непонятного, против того, что выше и сильнее его: «… Чушь, чепуха, возмутительное явление! <…> Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фантомы!..»
Он перечисляет то, что «имеет», – сломанный на дрова шкап, картошка, стирка белья, масла мало, мяса нет, жена умерла, дети «заиндевели» от грязи и т. д. и т. п. «А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы. Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ощипав, испеку! Я… эх! Вас нет, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпься!»
«Безумный! – отвечает ему Бам-Гран. – Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более – ничего!.. и мы уходим, уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда!»
Веселая энергия празднества бросает вызов будням, бескорыстное наслаждение красотой – пользе, дерзкая способность к риску – вялой покорности обстоятельствам.
Переступить черту, принять «алую» стихию дано лишь Александру Кауру. Он и Бам-Гран мгновенно постигают друг друга. Понимание и участие отводят героя от края, спасают от безысходности.
И вот кульминация празднества духа: «Зазвенело „Фанданго“. Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны, и в этот набегающий темп вошло сухое щелканье кастаньет». Электричество гаснет. Удар в висок, выключающий сознание Каура, как бы прекращает невыносимое более напряжение.
Последняя главка связывает воедино все предыдущие звенья – картину, музыку, цыган, испанцев.
Снова цыгане. Снова комната Брока и его картина. И Каур в Зурбагане, в цвету апельсиновых деревьев. Рядом Бам-Гран.
Ощущение счастья бытия у Грина всегда полно такой невероятной силы, так насыщено духовной энергией, что его невозможно выдерживать долго. Александр Каур не в силах больше нескольких минут находиться с Бам-Граном. Ведь и так минуты, проведенные им в Зурбагане, стоят ему двух лет «земной» жизни. Пора уходить. Но напоследок…
«Все уносит, – сказал тот, кто вел меня в этот час, подобно твердой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию, – уносит, разбрасывает и разрывает, – говорит он, – гонит ветер и внушает любовь. Бьет по крепчайшим скрепам. Держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовет, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное „Фанданго“!»
Герой, жаждущий прорвать блокаду отчужденности, внутренней замкнутости, преодолевает, переживает счастливый момент духовной общности, теряет ее вновь, но трагедия одиночества разрешается все же не в прежнее отчаяние, не в смерть, а в утверждение жизни. Так обнаруживают себя колоссальные внутренние ресурсы одухотворенного сознания, его способность сопротивляться давлению обстоятельств.
Грин построил самостоятельный, независимый, несопоставимый ни с каким другим мир, который сам себе реальность, в котором прекрасные замыслы, высокие чувства вырвались на свободу и воплощаются в жизнь; мир, в котором не нужно удивляться прекрасной неожиданности, а должно принять ее как закономерную и неизбежную. Страна, где сбывается Несбывшееся, где человек сам управляет своей судьбой, а каскад препятствий делает конечную победу только блистательней.
Е. Б. Скороспелова
Фанданго
Новеллы
Остров Рено
Внимай только тому голосу, который говорит без звука.
Древнеиндусское писание
Лейтенант стоял у штирборта клипера и задумчиво смотрел на закат. Океан могущественно дремал. Неясная черта горизонта дымилась в золотом огне красного полудиска. Полудиск этот, казавшийся огромной каплей растопленного металла, быстро всасывался океаном, протягивая от своей пылающей арки к корпусу клипера широкую, блестящую золотой чешуей полосу отражения.
Лучей становилось все меньше, они гасли, касаясь воды, по мере того как полудиск превращался в узкий, красный сегмент. За спиной лейтенанта, упираясь в зенит, бесшумно росли тени. Тянуло холодом. Мачтовые огни фонарей засветились в черной, как тихая смола, воде рейда, и Южный Крест рассыпался на небесном бархате крупными, светлыми брильянтами. Бледная даль горизонта суживалась, и лейтенанту казалось, что он смотрит из черной коробки в едва приоткрытую ее щель. Последний луч нерешительно заколебался на горизонте, вспыхнул судорожным усилием и погас.
Лейтенант закурил сигаретку, тщательно застегнул китель и повернулся к острову. Ночь скрадывала расстояние; черная громада берега казалась совсем близкой; клипер словно прильнул бортом к невидимым в темноте скалам, хотя судно находилось от земли на расстоянии по крайней мере одного кабельтова. Ночной ветер тянул с берега пряной духотой и сыростью береговой чащи; там было все тихо, и хотелось верить, что остров населен тысячами неизвестных, хитрых врагов, следящих из темноты за судном, чтобы, выбрав удобную минуту, напасть на него, перебить экипаж и огласить воем радости тишину моря.
Лейтенант представил себе порядочную толпу дикарей, штук в двести, мысленно угостил их двойным зарядом картечи и пожалел, что вместо пиратов остров населен таким количеством обезьян, какого было бы вполне достаточно для всех европейских зверинцев. Военное оружие по необходимости должно миновать их. Нет даже захудалого разбойника, способного убить кого-нибудь из пятерых матросов, посланных три часа тому назад за водой. И действительно, шлюпка долго не возвращается. Кабаков здесь нет, а устье реки совсем близко у этого берега.
– В самом деле, – пробормотал лейтенант, – парни не торопятся.
Океан слабо вздыхал. Тяжелые, увесистые шаги приблизились к офицеру и замерли перед ним сутулой, черной фигурой боцмана. Слабое мерцание фонаря осветило морщинистое лицо с тонкими бритыми губами. Боцман глухо откашлялся и сказал:
– Наши не возвращаются.
– Да; и вам следовало бы знать об этом больше, чем мне, – сухо сказал офицер. – Четыре часа; как вам это нравится, господин боцман?
Боцман рассеянно пожевал губами, сплюнул жвачку. Он был того мнения, что волноваться раньше времени не следует никогда. Лейтенант нетерпеливо спросил:
– Так что же?
– Приедут, – сказал боцман, – ночевать на берегу они не останутся. Там нет женщин.
– Нет женщин, чудесно, но они могли утонуть.
– Пять человек, господин лейтенант?
– Хотя бы и пять. Не забывайте также, что здесь есть звери.
– Пять ружей, – пробормотал боцман, – это шутки для зверей… плохие шутки… да…
Он повернул голову и стал прислушиваться. Лицо его как бы говорило: «Неужели? Да… в самом деле… возможно… может быть…»
Тени штагов и вант перекрещивались на палубе черными полосами. За бортом темнела вода. Непроницаемый мрак скрывал пространство; клипер тонул в нем, затерянный, маленький, молчаливый.
– Что вы там слышите? – спросил офицер. – Лучше позаботились бы вперед отпускать не шатунов, а служак. Что?
– Весла, – кратко ответил боцман, сдвигая брови. – Вот послушайте, – добавил он, помолчав. – Это ворочает Буль. А вот хлопает негодяй Рантэй. Он никогда не научится грести, господин лейтенант, будьте спокойны.
Лейтенант прислушался, но некоторое время тишина бросала ему слабое всхлипывание воды в клюзах, скрип гафеля и хриплое дыхание боцмана. Потом, скорее угадывая, чем отмечая, он воспринял отдаленное колебание воздуха, похожее на отрывистый звук падения в воду камня. Все стихло. Боцман постоял еще немного, уверенно заморгал и выпрямился.
– Едут! – процедил он, сочно выплевывая табак. – Рантэй, клянусь сатаной, всегда ищет девок. Высадите его на голый риф, и он моментально влюбится. В кого? В том-то и весь секрет… А здесь? Пари держу, что для него черт способен обернуться женщиной… Да…
– Старина, – перебил лейтенант, – неужели вы слышите что-нибудь?
– Я? – Боцман неторопливо вздохнул и хитро улыбнулся. – Я, видите ли, господин лейтенант, еще с детства страдал этим. За милю, бывало, слышу, кто едет и в каком направлении. У меня в ушах всегда играет оркестр, верно, так, господин лейтенант, хоть будь полный штиль.
– Да, – сказал лейтенант, – теперь и я, пожалуй, начинаю различать что-то.
Из яркой черноты бежали ритмические всплески весел, неясные выкрики, скрип уключин; шлюпка вошла в полумрак корабельного света; лейтенант подошел к трапу и, наклонившись, громко сказал:
– Канальи!..
Шлюпка глухо постукивала о борт клипера. Один за другим подымались наверх матросы и выстроились на шканцах, лицом к морю.
Лейтенант стал считать:
– Один, два, три… и… Постойте, Матью, сколько их было?
– Было-то их пять, господин лейтенант. Вот задача!
– Ну, – нетерпеливо спросил офицер, – где же пятый?
– Пятый? – сказал крайний матрос. – Пятый был Тарт.
И, помолчав, нерешительно объяснил:
– Он пропал… Извините, господин лейтенант, он находится неизвестно где. Его нет.
Наступило выразительное молчание. Матрос подождал немного, как бы не находя слов выразить свое удивление, и прибавил, разводя руками:
– То есть пропал окончательно, словно сквозь землю провалился. Нигде его нет, из-за этого мы и опоздали. Рантэй говорит: «Надо ехать». А я говорю: «Постойте, как же так? У Тарта нет шлюпки… Да, – говорю я, – шлюпки у него нет…»
Матрос добродушно осклабился и почесал за ухом. Лейтенант нервно пожал плечами и взглянул на боцмана. Морской волк озабоченно размышлял, шевеля сморщенными губами.
– Постой, – сказал лейтенант унылым голосом, – как так пропал? Где? Вы, может быть, брали с собой ром и Тарт валяется где-нибудь под деревом?
Матрос заволновался от желания передать подробности и еще долго бы переминался с ноги на ногу, набирая могучей грудью ночной воздух, если бы быстроглазый Рантэй не выручил его смущенную душу. Он сделал рукой категорический жест и плавно рассказал все.
В его изображении дело было так: никто не заметил, как Тарт ушел в сторону, отделившись от остальных. Когда наступило время возвращаться на клипер, стали беспокоиться и давать сигнальные выстрелы. Смерклось. Кое-кто выразил неудовольствие. Тогда решили ждать еще полчаса, а затем ехать.
Лейтенант стоял с озабоченным лицом, не зная, что делать. Матросы молчали. Боцман сплевывал табачную жвачку и хмурился.
Отправляясь с вечерним рапортом, лейтенант застал капитана погруженным в раскладывание пасьянса. В подтяжках, с расстегнутым воротом рубахи и вспотевшим одутловатым лицом, он смахивал на фермера, раскрасневшегося за бутылкой пива. Перед ним стояли плотный кувшин и маленькая пузатая рюмка. Он то и дело наполнял ее и бережно высасывал, облизывая черные седеющие усы. Изредка поворачиваясь к лейтенанту, капитан останавливал на нем рассеянно-неподвижный взгляд красных, как у кролика, глаз и снова щелкал картами, приговаривая:
– Туз налево, дама направо, теперь нужно семерку. Куда запропастилась семерка, черт ее побери?
Пасьянс не вышел. Капитан тяжело вздохнул, смешал карты, выпил и спросил:
– Так вы говорите, что этот бездельник пропал? Расскажите, как было дело.
Лейтенант рассказал снова. Теперь капитан слушал иначе, схватывая фразу на полуслове, и, не дав кончить, заявил, с размаху прикладывая ладонь к клеенке стола:
– Завтра, чуть свет, пошлите шесть человек, и пусть они пошарят во всех углах. Его хватил солнечный удар. Он с юга?
– Не знаю, – сказал лейтенант, – впрочем…
– Конечно, – перебил капитан, проницательно сощуривая глаза, – дело ясное. Они слабы на голову, северяне. За нынешнюю кампанию это будет десятый. Впрочем, что долго толковать; если он умер – черт с ним, а если жив – сотню линьков в спину!
Каюта наполнялась. Пришел доктор, старший лейтенант и фуражир. Проиграв в фараон четверть годового жалованья, лейтенант вспомнил белый чепчик матери, которой надо было послать денег, и ушел к себе. Раскаленная духота каюты гнала сон. Кровь шумела и тосковала, возбуждение переходило в болезненное нервное напряжение.
Лейтенант вышел на палубу и долго, без мыслей, полный тяжелого сонного очарования, смотрел в темные очертания берега, строгого и таинственного, как человеческая душа. Там бродит заблудившийся Тарт, а может быть, лежит мертвый с желтым, заострившимся лицом, и труп его разлагается, отравляя ночной воздух.
«Все умрем», – подумал лейтенант и весело вздохнул, вспомнив, что еще жив и через полгода вернется в старинные низкие комнаты, за окнами которых шумят каштаны и блестит песок, вымытый солнцем.
Когда пять матросов высадились на берег и прежде, чем наполнять бочки, решили поразмять ноги, выпустив пару-другую зарядов в пернатое население, – Тарт отделился от товарищей и шел, пробираясь сквозь цветущие заросли, без определенного направления, радуясь, как ребенок, великолепным новинкам леса. Чужая, прихотливо-дикая чаща окружала его. Серо-голубые, бурые и коричневые стволы, блестя переливчатой сеткой теней, упирались в небо спутанными верхушками, и листва их зеленела всеми оттенками, от темного до бледного, как высохшая трава. Не было имен этому миру, и Тарт молча принимал его. Широко раскрытыми, внимательными глазами щупал он дикую красоту. Казалось, что из огромного зеленого полотнища прихотливые ножницы выкроили бездну сочных узоров. Густые, тяжелые лучи солнца торчали в просветах, подобно золотым шпагам, сверкающим на зеленом бархате. Тысячи цветных птиц кричали и перепархивали вокруг. Коричневые с малиновым хохолком, желтые с голубыми крыльями, зеленые с алыми крапинками, черные с фиолетовыми длинными хвостами – все цвета оперения шныряли в чаще, вскрикивая при полете и с шумом ворочаясь на сучках. Самые маленькие, вылетая из мшистой тени на острие света, порхали, как живые драгоценные камни, и гасли, скрываясь за листьями. Трава, похожая на мелкий кустарник или гигантский мох, шевелилась по всем направлениям, пряча таинственную для людей жизнь. Яркие, причудливые цветы кружили голову смешанным ароматом. Больше всего было их на ползучих гирляндах, перепутанных в солнечном свете, как водоросли в освещенной воде. Белые, коричневые с прозрачными жилками, матово-розовые, синие – они утомляли зрение, дразнили и восхищали.
Тарт шел, как пьяный, захмелев от сырого, пряного воздуха и невиданной щедрости земли. Буковые леса его родины по сравнению с островом казались головой лысого перед черными женскими кудрями. С любопытством и счастливым недоумением смотрел он, закинув голову, как стая обезьян, размахивая хвостами и раскачиваясь вниз головой на попутных сучках, промчалась с треском и свистом, распугав птиц. Зверьки скрылись из виду, певучая тишина леса монотонно звенела в ушах, а он стоял, держа палец на спуске ружья и сосредоточенно улыбаясь. Потом медленно, смутно почувствовав на лице чужой взгляд, вздохнул и бессознательно осмотрелся.
Но никого не было. Так же, как и минуту назад, свисая над головой, громоздилась, загораживая небо, живая ткань зелени; перепархивали птицы; желтели созревшие большие плоды, усеянные колючками. Тарт перевел взгляд на ближайшие сплетения вогнутых, как зубчатые чашки, листьев и заметил маленькое, зеленоватое нечто, похожее на недозрелую сливу. Присутствие напряженной, внимательной силы сказывалось именно здесь, в трех шагах от него. Слива чуть-чуть покачивалась на невидимом стебле; матрос беспокойно зашевелился, бессильный объяснить свою собственную тревогу, центром которой сделался этот, почти незаметный, плод. Он протянул руку и быстро, с внезапной гадливой дрожью во всем теле, отдернул пальцы назад: маленькая, блестящая, как жидкий металл, змея, прорезав приплюснутой головой воздух, задвигалась в листьях. Тарт нахмурил брови и ударил ее стволом штуцера. Животное упало в траву, издав легкий свист; Тарт отпрыгнул и торопливо ушел подальше.
Откуда-то издалека донесся звук выстрела, за ним другой: товарищи Тарта охотились, по-видимому, серьезно. Матрос задумчиво остановился. Еще один отдаленный выстрел всколыхнул тишину, и Тарт вдруг сообразил, что он ушел дальше, чем следовало. Ноги устали, хотелось пить, но светлое, восторженное опьянение двигало им, заставляя идти без размышления и отчета. Иногда казалось ему, что он кружится на одном месте в странном, фантастическом танце, что все живет и дышит вокруг него, а он спит на ходу, с широко открытыми глазами; что нет уже ни океана, ни клипера и что не жил он никогда в мире людей, а всегда бродил тут, слушая музыку тишины, свое дыхание и голос отдаленных предчувствий, смутных, как детский сон.
Лес становился темнее, ближе придвигались стволы, теснее сплетались над головой Тарта зеленые зонтики, ноги проваливались в пышном ковре, затихли голоса птиц. Расплывчатые видения носились в сумеречных объятиях леса и жили мимолетным существованием. Бесчисленные глаза их, невидимые для Тарта, роились в воздухе, роняли на его руки слезы цветов, сверкали зеленоватыми искрами насекомых и прятались, полные сосредоточенной думы, печали нежной, как грустное воспоминание. Все дальше и дальше шел Тарт, погруженный в тревожное оцепенение и тоску.
И наконец, идти стало некуда. Глухая дичь окружала его, почти совершенная темнота дышала гнилой прелью, жирным, душистым запахом разлагающихся растений и сыростью. Протягивая вокруг руки, он схватывал влажные стебли, паразитов, хрупкую клетчатку листьев, мелкие гнущиеся колючки. Задыхаясь от духоты, тревоги и необъяснимого, томительного волнения, Тарт зажег восковую спичку, осветив зеленый склеп. Он был как в ящике. Со всех сторон громоздились зеленые вороха, стволы тупо смотрели сквозь них, покрытые влажным блеском.
Тарт бросил спичку и, оглушенный темнотой, кинулся напролом. Это было отчаянное сражение человека с лесом, желания – с препятствием, живого тела – с цепкой, почти непролазной стеной. Он брал приступом каждый шаг, каждое движение ног. Тысячи могучих пружин хлестали его в грудь и лицо, резали кожу, ушибали руки, молчаливые бешеные объятия откидывали его назад. Бессознательно, страстно, ослепленный и задыхающийся, Тарт рвался вперед, останавливался, набирал воздуха и снова, как солдат, стиснутый неприятелем, шел шаг за шагом сквозь темную глушь.
Свет наступил неожиданно, в то время, когда Тарт всего менее ожидал этого. Измученный, но довольный, вытирая рукавом блузы исцарапанное, вспотевшее лицо, он выпрямился, открыл глаза и, вздрогнув, снова закрыл их. С минуту, трепеща от восторга, Тарт не решался поднять веки, боясь, что случайною сказкою мысли покажется неожиданное великолепие окружающего. Но сильный, горячий свет проникал в ресницы красным туманом, и нетерпеливая радость открыла его глаза.
Перед ним был овальный лесной луг, сплошь покрытый густой, сочной зеленью. Трава достигала половины человеческого роста; яркий, но мягкий цвет ее поражал глаз необычайной чистотой тона, блеском и свежестью. Шагах в тридцати от Тарта, закрывая ближайшие деревья, тянулись скалы из темно-розового гранита; оборванный круг их напоминал неправильную подкову, концы которой были обращены к Тарту. В очертаниях их не было массивности и тупости; остроконечные, легкие, словно вылепленные тонкими пальцами из красноватого воска, они сверкали по краям изумрудной поляны коралловым ожерельем, брошенным на зеленый шелк. Радужная пыль водопадов дымилась у их вершин: в глубоком музыкальном однообразии падали вниз и стояли, словно застыв в воздухе, паутинно-тонкие струи.
Их было много. То рядом, теснясь друг к другу, лилась вниз их серебряная, неудержимая ткань, то группами, по два и по три, тихо свергались они с влажного каменного ложа в невидимый водоем; то одинокий каскад, ныряя в уступах, прыгал с высокого гребня и сеял в воздухе прозрачное, жидкое серебро; то ровная стеклянная полоса шумела, разбиваясь о камни, и пылила сверкающим градом брызг. Тропическое солнце миллиардами золотых атомов ликовало в игре воды. И все падали, падали вниз бисерным полукругом тонкие, тихие водопады.
Тарт глубоко вздохнул и засмеялся; тихая улыбка осталась в его лице, полном напряженного восхищения. Деревья, выросшие вокруг луга, также поразили его. Темно-зеленые широкие листья их светлели, приближаясь к стволу, бледнели, прозрачно золотились и в самой глубине горели розовым жаром, тоненькие и розовые, как маленькая заря. Раскидистые, приподнятые над землей корни держали на весу ствол.
Снова Тарт перешел глазами на луг, так он был свеж, бархатно-зелен и радостен. Светлая пустота переливалась вдали, у скал, дрожью воздушных течений, однозвучную мелодию твердили тонкие водопады. И розовые горны темно-зеленых куп открывали солнечному потоку первобытную прелесть земли.
Инстинктивно трепеща от вспыхнувшей любви к миру, Тарт протянул руку и мысленно коснулся ею скалистых вершин. Необъяснимый, стремительный восторг приковал его душу к безлюдному торжеству леса, и нежная, невидимая рука легла на его шею, сдавливая дыхание, полное удержанных слез. Тогда, окрыляя живую тишину света, пронесся крик. Тарт кричал с блестящими от слез глазами: голос его летел к водопадам, бился в каменные уступы и, трижды повторенный эхом, перешел в песню, вызванную внезапным, мучительным потрясением, страстную и простую.
Мелодия захватила его, долго еще, без слов, звучал его голос, повторяя энергичный грустный напев матросской песни. Без желаний, без дум, растроганный воспоминаниями о том, что было в его жизни так же прекрасно и неожиданно, как маленький рай дикого острова, стоял он на краю луга, восхищенный внезапной потерей памяти о тяжести жизни и ее трудах, о темных периодах существования, когда душа изнашивает прежнюю оболочку и спит, подобно гусенице, прежде чем сверкнуть взмахом крыльев. Праздничные, веселые дни обступили его. Руки любимых женщин провели по его щекам шелком волос. Охота в родных лесах и ночи под звездным небом воскресли, полные свободного одиночества, опасностей и удач. И сам он, Тарт, с новым большим сердцем, увидел себя таким, как в часы мечтаний, на склоне пустынных холмов, перед лицом вечерней зари.
Он снял ружье, лег на траву и с ужасом подумал о завтрашнем неизбежном дне: часть жизни, отданная другим…
Запах цветов кружил голову. От утомления дрожали руки и ноги, лицо горело, и розовый туман плыл в закрытых глазах.
Он не сопротивлялся. Глубокое, сонное оцепенение приласкало его и медленно погрузило в душистый, тихий океан сна, где бродят исполненные желания и радость, не омраченная человеком. Тарт спал, а когда проснулся – была ночь и темная, звездная тишина.
Тарт сидел у огня поджав ноги, прислушиваясь и размышляя. Он не спал ночь: тяжелая задумчивая тревога собирала морщины на его лице, а руки, крошившие табак, двигались невпопад, рассеянно подбирая прыгающие из-под ножа срезки. Уверенность в том, что никто не подсматривает, придавала лицу Тарта ту особенную, непринужденную выразительность, где каждый мускул и взгляд человека рассказывает его настроение так же бегло, как четко переписанное письмо. Огонь вяло потрескивал, шипел, змеился в гладкой стали ружья и бледным жаром падал в глаза Тарта. Кругом, в духоте полдня, дремал лес; глухой шум невидимой жизни трепетал в нем, бередя душу странным очарованьем безлюдья, гигантской силы и тишины.
Матрос встал, ссыпал нарезанный табак в маленькую жестяную коробку, поднял ружье и долго молча стоял так, слушая голоса птиц. Иногда, на мгновенье, прихотливый узор листвы вспыхивал перед ним обманчивым силуэтом зверя, и рука Тарта бессознательно вздрагивала, колебля дуло ружья. Зеленые свет и мрак чередовались в глубине леса. Мысль тревожно летела к ним, отыскивая живое молчаливое существо с глазами из черной влаги, рогатое и стройное.
В певучем, томительном забытьи окружал человека лес, насыщенный болотными испарениями, запахом гниющих растений и дикой, сказочной красотой. То ближе, то дальше трещал кустарник, невиданные, неизвестные существа двигались там, прислушиваясь друг к другу, и образы их, созданные воображением Тарта, принимали чудовищные, волнующие размеры или, наоборот, бледнели и съеживались, когда умолкал треск.
Резкий шарахнувшийся крик птицы вывел его из глубокого, торжественного оцепенения. Он поднял глаза вверх, но тотчас же инстинктивно опустил их, взвел курок и насторожился, раздвигая взглядом светлую рябь листвы.
Сначала было трудно определить, что это: маленькая застывшая тень или пятно шерсти; чье-то пытливое, осторожное присутствие сказывалось не дальше как в десяти шагах и путало мысли, убивая все, кроме жестокого, огненного желания встретить глаза зверя. Тарт тихо шагнул вперед и хотел крикнуть, чтобы животное выскочило из кустов, но вдруг, в самой глубине зеленой сети растений, поймал черный блеск глаза, выпрямился и вздрогнул от неожиданности. Штуцер нервно заколебался в его руках, дыхание стало глуше, и два-три мгновенья Тарт не решался выстрелить – столько безграничного удивленья, наивности и любопытства сверкало в маленьком блестящем зрачке.
Глаз продолжал рассматривать человека, зашевелился, придвинулся ближе, к нему присоединился другой, и жадный, требовательный взгляд их стал надоедать Тарту. Казалось, его спрашивали: кто ты? Он поднял ружье, прицелился и опустил руку одновременно с запыхавшимся криком шумно обрадованного человека:
– Тарт, сто чертей, здравствуй!
С тяжелым холодом в сердце Тарт повернулся к матросу. В кустах бешено затрещало, испуганно мелькнули и скрылись низкие, сильно закрученные рога. По щекам Блемера градом катил пот. Глаза, покрасневшие от утомления и жары, тревожно ощупывали лицо Тарта, а полные губы морщились, удерживая смех. Он снял фуражку, вытер рукавом блузы вспотевший лоб и заорал снова всей ширью здоровеннейших морских легких:
– И ты мог заблудиться, чучело! Три мили длины и три ширины! Это дно от стакана, а не остров. Конечно, есть острова, где можно ходить порядочным людям. Цейлон, например, Зеландия, а не эта, с позволения сказать, корзина травы! Вообще мы решили, что ты съеден орангутангом или повесился. Но я искренне, дружище, чертовски рад, что это не так!
Он схватил руку Тарта и стал ворочать ее, ломая пальцы. Тарт пытливо смотрел на Блемера. Конечно, этот выдаст его – думать иначе было бы страшно легкомысленно. Прост и глуп, добр и жесток. Ко всему этому болтлив, не прочь выслужиться. И он уже смотрит на него, Тарта, с видом собственника, облизывается и мысленно потирает руки, предвкушая пущенную сквозь зубы похвалу капитана.
Матрос снял ружье, облегченно повел плечами и безудержно заговорил снова, ободряя себя. Молчаливая неподвижность Тарта смущала его. Он громко болтал, не решаясь сказать прямо: «Пойдем!» – сбивался, потел и в десятый раз принимался рассказывать о тревоге, общем недоумении и поисках. Все неувереннее звучал его голос, и все рассеяннее слушал его Тарт, то улыбаясь, то хмурясь. Казалось, что был он здесь и не здесь, свой, знакомый и в то же время чужой, замкнутый и враждебный.
– Превратились мы в настоящих собак, – захлебывался Блемер. – Чувствую я, что смок, как яблоко в сиропе. Уйти без тебя мы, понятное дело, не могли, нам приказали отыскать тебя мертвого или живого, вырыть из-под земли, вырезать из брюха пантеры, поймать в воздухе… Кок по ошибке вместо виски хватил уксусной эссенции, лежит и стонет, а завтра выдача жалованья настоящим золотом за четыре месяца! Сильвестр целится на мой кошелек, я должен ему с Гонконга четырнадцать кругляков, но пусть он сперва их выиграет, черт возьми! Кто, как не я, отдал ему в Макао две совсем новенькие суконные блузы! А ты, Тарт, знаешь… вообще говорят… только ты, пожалуйста, не сердись… верно это или нет?
– Что? – сказал Тарт, ворочая шомполом в дуле ружья.
– Да вот… ну, не притворяйся, пожалуйста… Только если это неверно – все равно…
Блемер понизил голос, и лицо его выразило пугливое уважение. Тарт возился с ружьем; достав пыж, он медленно перевернул штуцер прикладом вверх, и на землю из ствола выкатились маленькие блестящие картечины.
Блемер нетерпеливо ждал и, когда смуглая рука Тарта начала забивать пулю, звонко ударяя шомполом в ее невидимую поверхность, заметил:
– Ты испортил боевой заряд, к тому же какая теперь охота? Пора обедать.
Тарт вынул шомпол и поднял усталые, ввалившиеся глаза, но Блемер не различил в них волнения непоколебимой решимости. Ему казалось, что Тарт хочет поговорить с ним, и он, вздыхая, ждал удовлетворительного ответа. Но Тарт, по-видимому, не торопился.
Блемер сказал:
– Так вот… Ну, как – это правда?
– Что правда? – вдруг закричал Тарт, и глаза его вспыхнули такой злобой, что матрос бессознательно отступил назад. – Что еще болтают там обо мне ваши косноязычные тюлени? Что? Ну!
– Тарт, что с тобой? Ничего, клянусь честью, ей-богу, ничего! – заторопился матрос, бледнея от неожиданности, – просто… просто говорят, что ты…
– Ну что же, Блемер, – проговорил Тарт, сдерживаясь и глубоко вздыхая, – в чем дело?
– Да вот… – Блемер развел руками и с усилием освободил голос. – Что ты знаешь заговоры и… это… видел дьявола… понимаешь? Оттого, говорят, ты всегда и молчишь, ну… А я думаю – неправда, я сам своими глазами видел у тебя церковный молитвенник.
Матрос взволнованно замолчал; он сам верил этому. Живая тишина леса томительно напряглась; Блемеру вдруг сделалось безотчетно жутко, как будто все зеленое и дикое превратилось в слух, шепчется и глядит на него тысячами воздушных глаз.
Тарт сморщился; досадливая, но мягкая улыбка изменила его лицо.
– Блемер, – сказал он, – ступай обедать. Я сыт, и, кроме того, мне немного не по себе.
– Как, – удивился Блемер, – тебя ждут, понимаешь?
– Я приду после.
– После?
– Ну да, сейчас мне идти не хочется.
Матрос нерешительно рассмеялся; он не понимал Тарта.
– Блемер, – вдруг быстро и решительно заговорил Тарт, смотря в сторону, – ступай и скажи всем, что я назад не приду. Понял? Так и скажи: Тарт остался на острове. Он не хочет более ни служить, ни унижаться, ни быть там, где ему не по сердцу. Скажи так: я уговаривал его, просил, грозил, все было напрасно. Скажи, что Тарт поклялся тебя застрелить, если ты не оставишь его в покое.
Тарт перевел дыхание, поправил кожаный пояс и быстро, мельком скользнул глазами в лицо матроса. Он видел, как вздулись жилы на висках Блемера, как правая рука его, сделав неопределенное движение, затеребила воротник блузы, а глаза, ставшие растерянными и круглыми, блуждали, не находя ответа. Наступило молчание.
– Ты шутишь, – застывшим голосом выдавил Блемер, – охота тебе говорить глупости. Кстати, если мы двинемся теперь же, то можем захватить на берегу наших, вдвоем трудно грести.
– Блемер, – Тарт покраснел от досады и даже топнул ногой, – Блемер, возвращайся один. Я не уйду. Это не шутка, тебе пора бы уж знать меня. Так пойди и скажи: люди перестали существовать для Тарта. Он искренно извиняется перед ними, но решился пожить один. Понял?
Матрос перестал дышать и любопытными, испуганными глазами нащупывал тень улыбки в сосредоточенном лице Тарта. Сошел с ума! Говорят, в здешних болотах есть такие цветы, что к ним не следует прикасаться. А Тарт их наверное рвал – он такой… Вот чудо!
– Прощай, – сказал Тарт. – Увидишь наших, поклонись им.
Он коротко вздохнул, взял штуцер наперевес и стал удаляться. Блемер смотрел на его раскачивающуюся фигуру и все еще не верил, но, когда Тарт, согнувшись, нырнул в пеструю зелень опушки, матрос не выдержал. Задохнувшись от внезапного гнева и страха упустить беглеца, Блемер перебежал поляну, на ходу взвел курок и крикнул в ту сторону, где гнулись и трещали кусты:
– Я убью тебя! Эй! Стой!
Голос его беспомощно утонул в зеленой глуши. Он подождал секунду и вдруг, мстительно торопясь, выстрелил. Пуля протяжно свистнула, фыркнув раздробленными по пути листьями. Птицы умолкли; гнетущая тишина охватила часть леса.
– Стой! – снова заорал Блемер, бросаясь вдогонку. – Каналья! Дезертир!
Спотыкаясь, взволнованно размахивая ружьем, он пробежал с десяток шагов, снова увидел Тарта и почувствовал, что возбуждение его вдруг упало, – Тарт целился ему в грудь, держа палец на спуске.
Инстинктивно, защищаясь от выстрела, матрос отступил назад и, медленно двигая руками, приложился сам. Волнение мешало ему, он не сразу отыскал мушку, злобно выругался и замер, ожидая выстрела. Тарт поднял голову. Блемер внутренне подался назад, вспотел, нажал спуск, и в тот же момент ответный выстрел Тарта пробил его насквозь, как игла холст.
То, что было Блемером, село, потом вытянулось, раскинуло ноги и замерло. Воздух хрипел в его простреленных легких, обнаженная голова вздрагивала, стараясь подняться и взглядом защитить себя от нового выстрела. Тарт, болезненно улыбаясь, присел возле матроса и вытащил из его стиснутых пальцев судорожно вырванную траву. Далее он не знал, что делать, и стоял на коленях, сраженный молчаливой тревогой.
Блемер повернул голову, глотая подступающую кровь, и выругался. Тарт казался ему страшным чудовищем, чуть ли не людоедом. Он посмотрел вверх и, увидев жаркую синеву неба, вспомнил о смерти.
– Подлец ты, подлец! – застонал Блемер. – За что?
– Перестань болтать глупости, – возразил Тарт, отдирая подол блузы. – Ты охотился за мной, как за зверем, но звери научились стрелять. Не ты, так я лежал бы теперь, это было необходимо.
Он свернул импровизованный бинт, расстегнул куртку Блемера и попытался удержать кровь. Липкая горячая жидкость просачивалась сквозь пальцы, и было слышно, как стучит слабое от испуга сердце. Тарт нажал сильнее, Блемер беспокойно вздрогнул и сморщился.
– Адская боль, – процедил он, хрипло дыша. – Брось, ничего не выйдет. Дыра насквозь, и я скоро подохну. Ты смеешься, сволочь, убийца!..
– Я не смеюсь, – с серьезной улыбкой возразил Тарт. – А мне тяжело. Прости мою невольную пулю.
Не отрываясь смотрел он в осунувшееся лицо матроса. Вокруг глаз легли синеватые тени; широкий, давно небритый подбородок упрямо торчал вверх.
– Трава сырая, – простонал Блемер, бессильно двигаясь телом, – я умру, понимаешь ли ты? Зачем?
Равнодушно-спокойное и далекое, синело небо. А внизу, обливаясь холодным потом агонии, умирал человек, жертва свободной воли.
– Блемер, – сказал Тарт, – ты шел в этом лесу, отыскивая меня. Твое желание исполнилось. Но если я не хотел идти с тобой, как мог ты подумать, что силой можно сломить силу без риска проиграть свою собственную карту?
– К черту! – застонал Блемер, отплевывая розовую слюну. – Ты просто изменник и негодяй! – Он смолк, но скоро застонал снова, и так громко, что Тарт вздрогнул. Раненый сделал последнее отчаянное усилие поднять голову; глаза его подернулись влагой смерти, и был он похож на рыжего раздавленного муравья.
– Ты очень мучаешься? – спросил Тарт.
– Мучаюсь ли я? Ого-го-го! – закричал Блемер. – Тарт, ты дезертир и мерзавец, но вспомни, умоляю тебя, что на «Авроре» есть госпиталь!.. Сбегай туда… скажи, что я умираю!..
Тарт отрицательно покачал головой. Блемер вытягивался, то опираясь головой в землю и размахивая руками, то снова припадая спиной к влажной земле. По внезапно исхудавшему, тусклому лицу его пробегала быстрая судорога. Он ругался. Сначала тихое, потом громкое бормотанье вылилось сложным арсеналом отвратительных бранных фраз. Тарт смотрел, ждал и, когда глаза Блемера задернулись пленкой, стал заряжать ружье.
– Потерпи еще малость, Блемер, – сказал он. – Сейчас все кончится.
Блемер не отвечал. Сквозь до крови закушенную губу матроса Тарт чувствовал легион криков, скованных бешенством и страданием. Он отошел в сторону, чтобы случайно Блемер не угадал его мысли, прицелился в затылок и выстрелил.
Раненый затрепетал, вздохнул и затих.
Теперь он был мертв. Сильное, цветущее тело его обступила маленькая зеленая армия лесной травы и, колыхаясь, заглянула в лицо.
На берегу, почти у воды, в тени огромного варингинового дерева, стоит крепкая дубовая бочка, плотно закрытая просмоленным брезентом. Она не запирается;
это международная почтовая станция. Сюда с мимо идущих кораблей бросаются письма, попадающие во все концы света. Корабль, плывущий в Австралию, забирает австралийскую корреспонденцию; плывущий в Европу – европейскую.
Клипер приготовлялся к отплытию. Медленно, упорно трещал брашпиль, тяжело ворочаясь в железном гнезде. Канат полз из воды, таща за собою якорь, сплошь облепленный водорослями, тиной и раковинами. Матросы, раскисшие от жары, вяло бродили по накаленной смоле палубы, закрепляя фалы, или сидели на реях, распуская ссохшиеся паруса. В это время к берегу причалила шлюпка с шестью гребцами, и младший лейтенант клипера, выскочив на песок, подошел к бочке. Откинув брезент, он вынул из нее несколько пакетов и бросил, в свою очередь, пачку писем.
Потом все уехали и скоро превратились в маленькое черное пятно, машущее крошечными веслами. Клипер преображался. От реи до реи, скрывая стволы мачт, вздулись громоздкие паруса. Корабль стал похожим на птицу с замершими в воздухе крыльями, весь – напряжение и полет, нетерпение и сдержанное усилие.
Бушприт клипера медленно чертил полукруг с запада на юго-восток. Судно тяжело поворачивалось, вспенивая рулем полдневную бледную, от жары синеву рейда. Теперь оно походило на человека, повернувшегося спиной к случайному покидаемому ночлегу. Пенистая ровная линия тянулась за кормой – клипер взял ход.
Его контуры становились меньше, воздушнее и светлее. Двигался он, как низко летящий альбатрос, слегка накренив стройную белизну очертаний. А за ним с берега цветущего острова следил человек – Тарт.
Он равнодушно ждал исчезновения клипера. Корабль увозил с собой земляков, привычное однообразие дисциплины, грошовое жалованье и более ничего. Все остальное было при нем. Он мог ходить как угодно, двигаться как угодно, есть и пить в любое время, делать что хочется и не заботиться ни о чем. Он стряхивал с себя бремя земли, которую называют коротким и страшным словом «родина», не понимая, что слово это должно означать место, где родился человек, и более ничего.
Тарт смотрел вслед уходящему клиперу, ни капли не сомневаясь в том, что именно его считают убийцей Блемера. Почему прекратили поиски? Почему не более как через шесть дней после ухода Тарта клипер направился в Австралию? Может быть, решили, что он мертв? Но в глазах экипажа остров был не настолько велик, чтобы потерять надежду отыскать человека или хотя бы его кости. Поведение «Авроры» немного раздражало Тарта; он чувствовал себя лично обиженным. Человек крайне самолюбивый, бесстрашный и стремительный, он привык, чтобы с ним и его поступками враги считались так же, как с неприятелем на войне. Но ведь не бежит же от него клипер, в самом деле!
Он вспомнил свое убежище – скалистый овраг, с гладким, как паркет, дном и кровлей из цветущих кустов. Ничего нет удивительного, что клипер ушел ни с чем. В глазах их Тарт мог только утонуть; к тому же – кто особенно дорожил жизнью Блемера? На клипере сто матросов; двумя больше, двумя меньше – не все ли равно? Время горячее, китайские пираты вьются по архипелагу, как осы. Военное судно, несущее разведочную службу, не может долго оставаться в бездействии.
Тарт медленно шел вдоль берега, опустив голову. Собственное его положение казалось ему ясным до чрезвычайности: потянет в другое место – он будет караулить, высматривая проходящих купцов. И ночной сигнальный костер даст ему короткий приют на чужой палубе. Куда он поедет, зачем и ради чего?
Но он не думал об этом. Свобода, страшная в своей безграничности, дышала ему в лицо теплым муссоном и жаркой влагой истомленных зноем растений. Это был отчаянный экстаз игрока, бросившего на карту все и получившего больше ставки. Выигравший не думает о том, на что он употребит деньги, он далек от всяких расчетов, музыка золота наполняет его с ног и до головы дразнящим вихрем возможностей, прекрасных в неосуществимости своей желаний и бешеным стуком сердца. Может быть, не дальше как завтра судьба отнимет все, выигранное сегодня, но ведь этого еще нет?
Да здравствует прекрасная неизвестность!
Медленно, повинуясь любопытству, смешанному с предчувствием, Тарт откинул брезент и, став на камни, положенные под основание бочки, открыл ее. На дне серели пакеты. Их было много, штук двадцать, и Тарт тщательно пересмотрел все.
Ему доставляло странное удовольствие держать в руках вещественные следы ушедших людей, мысленно говорить с ними в то время, когда они даже и не подозревают этого. Стоит захотеть, и он узнает их мысли, будет возражать им, без риска быть пойманным, и они не услышат его. Матросские письма особенно заинтересовали Тарта. Он пристально рассматривал неуклюжие, косые буквы, смутно догадываясь, что здесь, может быть, написано и о нем. Взволнованный этим предположением, Тарт бережно отложил несколько конвертов, на которых были надписаны имена местностей, близких к месту его рождения. Он искал самого тесного, кровного земляка, рылся дрожащими от нетерпения пальцами, раскладывая по песку серые четырехугольники, и вдруг прочел: «Гарнаш, улица Петуха».
Гарнаш! Не далее как в десяти милях от этого городка родился Тарт. Он помнит еще возы с зеленью, пыльную дорогу, по которой бегал мальчишкой, и держит пари, что пишет не кто иной, как толстяк Риль!
Да, вот его имя, написанное маленькими печатными буквами. Тарт вынул нож и разрезал толстую бумагу пакета. Риль писал много, четыре больших листа сплошь пестрели каракулями, сообщая подробности плавания, события, свидетелем которых был Риль, и длинные, неуклюжие нежности, адресованные жене. Тарт торопливо разбирал строки. Пальцы его дрожали все сильнее, лицо потускнело; взволнованный, с блестящим, остановившимся взглядом, он бросил бумагу и инстинктивно схватил ружье.
Кругом было по-прежнему пусто, легкий прибой шевелил маленькие круглые голыши и тихо шумел засохшими водорослями. В голове, как отпечатанные, стояли строки письма, скомканного и брошенного рукой Тарта: «… если бы он провалился, туда ему и дорога. А наши думают, что он жив. Мы вернемся через четыре дня, за это время должны его поймать непременно, потому что он будет ходить свободно. Шестерым с одним справиться – что плюнуть. Толкуют, прости меня, Господи, что Тарт сошелся с дьяволом. Это для меня неизвестно».
– Надо уйти! – сказал Тарт, с трудом возвращая самообладание. Небывалым, невозможным казалось ему только что прочитанное. Все вдруг изменило окраску, притаилось и замерло, как молчаливая, испуганная толпа. Солнце потеряло свой зной, ноги отяжелели, и Тарт двигался медленно, напряженно, словно окаменев в припадке безвыходного, глухого гнева. Мысль утратила гибкость, сосредоточиваясь на пристальном, болезненном ощущении невидимых, враждебных людей. И немое отвращение к тайной опасности подымалось со дна души, вместе с нестерпимым желанием открытого, решительного исхода.
– Шесть? – сказал Тарт, останавливаясь. – Так вас шесть, да?
Кровь бросилась ему в голову и ослепила. Почти не сознавая, что он делает, он вызывающе поднял штуцер и нажал спуск. Выстрел пронесся в тишине дробным эхом, и тотчас Тарт зарядил разряженный, еще дымящийся ствол, быстро, не делая ни одного лишнего движения.
По-прежнему царствовала тишина, жуткая полуденная тишина безлюдного острова. Матрос прислушался, молчание раздражало его. Он потряс кулаком и разразился градом язвительных оскорблений. Обессиленный припадком тяжелой злобы, он шел вперед, ломая кусты, сбивая ударом приклада плотные, сочные листья. Сознавая, что все пути отрезаны, что выстрел кем-нибудь да услышан, Тарт чувствовал злобное, веселое равнодушие и огромную силу дерзости. Уверенность возвращалась к нему по мере того, как шли минуты, и зеленый хоровод леса тянулся выше, одевая пахучим сумраком лицо Тарта. Он шел, а сзади, догоняя его, бежали шестеро, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться к неясному шороху движений затравленного человека.
– Тарт! – задыхаясь от бега, крикнул на ходу высокий черноволосый матрос. – Тарт, подожди малость, эй!
И за ним повторяли все жадными, требовательными голосами:
– Тарт!
– Эй, Тарт!
– Тарт! Тарт!
Тарт обернулся почти с облегчением, с радостью воина, отражающего первый удар. И тотчас остановились все.
– Мы ищем тебя, – сказал черноволосый, – да это ведь ты и есть, а? Не так ли? Здравствуй, приятель. Может быть, отпуск твой кончился и ты пойдешь с нами?
– Завтра, – сказал Тарт, вертя прикладом. – Вы не нужны мне. И я – зачем я вам? Оставьте меня, гончие. Какая вам польза от того, что я буду на клипере? Решительно никакой. Я хочу жить здесь, и баста! Этим сказано все. Мне нечего больше говорить с вами.
– Тарт! – испуганно крикнул худенький голубоглазый крестьянин. – Ты погиб. Тебе, я вижу, все равно, ты отчаянный человек. А мы служим родине! Нам приказано разыскать тебя!
– Какое дело мне до твоей родины, – презрительно сказал Тарт. – Ты, молокосос, растяпа, может быть, скажешь, что это и моя родина? Я три года болтался на вашей плавучей скорлупе. Я жить хочу, а не служить родине! Как? Я должен убивать лучшие годы потому, что есть несколько миллионов, подобных тебе? Каждый за себя, братец!
– Тарт, – сказал третий матрос, с круглым тупым лицом, – дело ясное, не сопротивляйся. Мы можем ведь и убить тебя, если…
Он не договорил. Одновременно с клубком дыма тело его свалилось в кусты и закачалось на упругих ветвях, разбросав ноги. Тарт снова прицелился, невольное движение растерянности со стороны матросов обеспечило ему новый удачный выстрел… Черноволосый матрос опустился на четвереньки и судорожно открыл рот, глотая воздух.
И все потемнело в глазах Тарта.
Спокойно встретил он ответные выстрелы, пистолет дрогнул в его руке, пробитый насквозь, и выпал. Другою рукой Тарт поднял его и выстрелил в чье-то белое, перекошенное страхом лицо.
Падая, он мучительно долго не мог сообразить, почему сверкают еще красные огоньки выстрелов и новая тупая боль удар за ударом бьет тело, лежащее навзничь. И все перешло в сон. Сверкнули тонкие водопады; розовый гранит, блестя влагой, отразил их падение; бархатная прелесть луга протянулась к черным корням раскаленных, как маленькие горны, деревьев – и стремительная тишина закрыла глаза того, кто был – Тарт.
Позорный столб
Пока обитатели Кантервильской колонии бродили в болотах, корчуя пни, на срезе которых могли бы свободно, болтая пятками, усесться шесть человек, пока они были заняты грубым насыщением голода, борьбой с бродячими элементами страны и вбиванием свай для фундамента будущих своих гнезд, – самый строгий любитель нравственности мог бы уличить их разве лишь в пристрастии к энергическим выражениям.
Когда дома были отстроены, поля вспаханы, повешены кой-какие вывески с надписями: «школа», «гостиница», «тюрьма» и тому подобное, и жизнь потекла скучно-полезной струей, как пленная вода дренажной трубы, – начались происшествия. Эру происшествий открыл классически скупой Гласин, проиграв расточительному, любящему пожить Петагру все, что имел: дом, лошадей, одежду, сельскохозяйственные машины, – и оставшись лишь в том, что подлежит стирке.
Потом были кражи, подлог завещания, баррикада на перекрестке, когда трое безумцев защищали права на свой участок с магазинками в руках; один из них, убитый, был поднят с крепко стиснутой зубами сигарой. От одного мужа убежала жена; к другому, имевшему прелестную подругу и двух малюток, приехала, разыскав адрес, с дальнего запада плачущая, богато одетая женщина; у нее были великолепные, новенькие саквояжи и рыжие волосы. Последнее, что возмутило ширококостных женщин и бородатых мужчин Кантервиля, изведавших, кстати сказать, за восемь месяцев жизни в переселенческих палатках все птичьи прелести грубого флирта, – было гнусное, недостойное порядочного человека похищение милой девушки Дэзи Крок. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка. У Дэзи было много поклонников, а похитил ее Гоан Гнор вечером, когда в пыльной перспективе освещенной закатом улицы трудно разобрать, подрались ли возвращающиеся с водопоя быки или, зажимая рукой рот девушки, взваливают на седло пленницу. Гоан, впрочем, был всегда вежлив, хотя и жил одиноко, что, как известно, располагает к грубости. Тем более никто не ожидал от этого человека такого бешеного поступка.
Достоверно одно: что за неделю перед этим на каком-то балу Гоан долго и тихо говорил с девушкой. Наблюдавшие за ними видели, что молодой человек стоит с жалким лицом, бледный и не в себе. «Я никого не люблю, Гоан, верьте мне», – сказала девушка. Женщина, расслышавшая эти слова, была наверху блаженства три дня: она передавала эту фразу с различными интонациями и комментариями. Лошадь Гоана, мчась у лесной опушки, оступилась на промоине и сломала ногу; похититель был схвачен ровно через час после совершения преступления.
Конная толпа, собравшаяся на месте падения лошади, сгрудилась так тесно, что ничего нельзя было разобрать в яростном движении рук и спин. Наконец кольцо разбилось, девушку, лежавшую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дэзи, ее отец и дядя молча били придавленного лошадью Гоана, затем, утомясь и вспотев, отошли, блестя глазами, а с земли поднялся растерзанный облик человека, отплевывая густую кровь. Огромные кровоподтеки покрывали лицо Гоана, он был жалок и страшен, шатался и хрипел что-то, похожее на слова.
Неусовершенствованное правосудие глухих мест, не имея в этом случае прямого повода лишить Гоана жизни, привлекло его тем не менее к ответственности за тяжкое оскорбление Кроков и девушки. После долгого шума и препирательств в землю перед гостиницей вбили деревянный столб и привязали к нему Гоана, скрутив руки на другой стороне столба; в таком виде, без пищи и воды, он должен был простоять двадцать четыре часа и затем убираться подобру-поздорову куда угодно.
Гоан дал проделать над собой всю церемонию, двигаясь, как отравленная муха. Он молчал. Запевалы Кантервиля и прочие любопытствующие, отойдя на приличное расстояние, полюбовались делом своих рук и медленно разошлись по домам.
Стемнело. Гоан, облизывая разбитые, присохшие к зубам губы, обдумывал план мести. Все перегорело в его душе, он не чувствовал ни стыда, ни бешенства; опустошенный, он припоминал лишь, кто и как бил его, чья речь была злее, чей голос громче. Это требует больших сил, и Гоан скоро устал; тогда он стал думать о том, что никогда не увидит Дэзи. Он вспоминал сладкую тяжесть ее затрепетавшего тела, быстрое биение сердца, которое в эти несколько счастливых минут билось на его груди, запрокинутую голову девушки и свой единственный поцелуй в то место, где на ее груди расстегнулась пуговица. И он замычал от ненасытной тоски, напряг руки; веревки обожгли ему кожу суставов. Еще ночь впереди и день!
Гоан стоял, переминаясь с ноги на ногу. Иногда он пытался уверить себя, что все сон, откидывал голову и, стукаясь затылком о столб, разбивал иллюзию. В стороне, крадучись, звучали шаги, замирали против Гоана и, медленнее, затихали у перекрестка. В окнах погасли огни, неясный силуэт, часто останавливаясь, приблизился к Гоану, и наказанный вдруг вспыхнул, покраснел в темноте до корней волос; жилы висков налились кровью, отстукивая частую дробь. Оглушающий стыд потопил разум Гоана; застонав, он закрыл глаза и тотчас же открыл их. Печальное лицо Дэзи с широко раскрытыми глазами остановилось перед ним совсем близко, но он не мог протянуть руку для просьбы о снисхождении.
– И вы… посмотреть, – тихо сказал Гоан, – уйдите, простите!
– Я сейчас и уйду, – произнесла торопливым шепотом девушка, – но вы не защищались, зачем вы допустили все это?
– Ах! – сказал Гоан. – Слова сожаления; но поздно, Дэзи. Вы мучаете меня, а я люблю вас. Уйдите, нет, не уходите… или уйдите; пожалуй, это самое лучшее.
– Мне ужасно жаль вас. – Она протянула руку, погладила растрепанные волосы Гоана быстрым материнским движением. – Ну, что вы, не плачьте. Вы… или нет, я уйду, увидят.
Она отступила в тьму, и более ее не было слышно. Вздрагивая и улыбаясь, Гоан глотал падающие из немигающих глаз крупные соленые капли; от них было тепло щекам и душе.
В воздухе просвистел камень, стукнул о столб, задел Гоана по уху рикошетом и шлепнулся к ногам похитителя.
– Для вас, Дэзи, – сказал Гоан, – только для вас.
Утром, когда движение на улицах стало задерживаться, так как многие не спали ночь, желая утром пораньше взглянуть на возмутителя общественного спокойствия, Гоана отвязали. Кучка неловко усмехающихся парней подошла к столбу сзади, за спиной привязанного. Брат Дэзи, клыкастый и длинный богатырь, разрезал ножом веревку.
– Велено отпустить, – пробормотал он, откашливаясь, – так смотри… не шляйся в здешних местах.
Гоан упал, упираясь руками в землю, встал и, шатаясь из стороны в сторону, словно шел по палубе судна в бурю, направился домой. Толпа сосредоточенно расступилась.
Через час на дверях небольшого гоановского дома болтался замок. Наглухо заколоченные окна, следы копыт у изгороди, тишина стен – все это указывало, что воля колонии исполнена. Видели, как Гоан на второй своей лошади, белой с рыжим хвостом и крупом, не оглядываясь, проехал задворками к скошенному Крокову лугу. Далее начиналась лесная тропа, путь зверей и охотников.
Гоан ехал шагом, ему нестерпимо хотелось повернуть лошадь назад и хоть еще раз взглянуть на знакомое окно Дэзи. Натягивая поводья, он с трудом приподымал отекшую руку. У ручья он задержал лошадь, посмотрев в сверкающие струи потока; там, снизу, встретилось с ним взглядом опухшее, темное лицо. Выбрать место для поселения казалось ему пустяком – земля большая.
На повороте к горам, где, за синей далью чащи, шла дорога к большому портовому городу, Гоан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделился в лесном гуле, Гоан остановился, и, задыхаясь, его нагнала Дэзи.
Слишком большое, потрясающее недоумение лица Гоана развязало ее язык. Смущаясь, она выслушала все восклицания. Он думал, что понимает, в чем дело, но боялся верить себе. Подъехав ближе, Дэзи сказала:
– Гоан, возьмите меня. Мне нет житья больше. Меня грызут все, распустили слух, что я была в уговоре с вами. И даже что у нас есть ребенок, спрятанный на стороне.
Гоан молчал. Лошадь, на которой сидела девушка, казалась ему литой из утреннего света.
– Отец оскорбил меня, – продолжала Дэзи. – Он говорит, что все это была лишь комедия и я греховна. Но вы знаете, что это неправда. И вам не нужно похищать меня еще раз. Я вынесла взрыв злобы и оскорблений.
– Милая, – сказал Гоан, улыбаясь во всю ширину разбитого своего лица, – мужчины стали бы преследовать вас теперь за то, что не они пытались овладеть вами… а женщины – за то, что вам оказали предпочтение. Люди ненавидят любовь. Не приближайтесь ко мне, Дэзи: клянусь – я не удержусь тогда и начну вас целовать. Простите меня!
Но скоро их головы сблизились, и две любви, одна зарождающаяся, другая – давно разгоревшаяся страстным пожаром, слились вместе, как маленькая лесная речка и большая река.
Они жили долго и умерли в один день.
Сто верст по реке
Взрыв котла произошел ночью. Пароход немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, проволновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять их и везти дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. По реке этой работало только одно пароходство и только четырьмя пароходами, отходившими каждый раз по особому назначению, в зависимости от настроения хозяев и состояния воды: капризное песчаное русло, после продолжительного бездождия, часто загромождалось мелями.
По мере того как вечер спешил к реке, розовея от ходьбы, порывисто дыша туманными испарениями густых лесов и спокойной воды, Нок заметно приходил в нервное, тревожное настроение. Тем, кто с ним заговаривал, он не отвечал или бросал отрывисто «нет», «да», «не знаю». Он беспрерывно переходил с места на место, появляясь на корме, на носу, в буфете, на верхней палубе или сходя на берег, где, сделав небольшую прогулку в пышном кустарнике, возвращался обратно, переполненный тяжелыми размышлениями. Раза три он спускался в свою каюту, где, подержав в руках собранный чемодан, бросал его на койку, пожимая плечами. В одно из этих посещений каюты он долго сидел на складном стуле, закрыв лицо руками, и, когда опустил их, взгляд его выражал крайнее угнетение.
В таком же, но, так сказать, более откровенном и разговорчивом состоянии была молодая девушка, лет двадцати – двадцати двух, ехавшая одна. Встревоженное печальное ее лицо сотни раз обращалось к речным далям в поисках благодетельного пароходного дыма. Она была худощава, но стройного и здорового сложения, с тонкой талией, тяжелыми темными волосами бронзового оттенка, свежим цветом ясного, простодушного лица и непередаваемым выражением слабого знания жизни, которое восхитительно, когда человек не подозревает об этом, и весьма противно, когда, учитывая свою неопытность, придает ей вид жеманной наивности. Вглядевшись пристальнее в лицо девушки, в особенности в ее сосредоточенные, задумчивые глаза, наблюдатель заметил бы давно утраченную нами свежесть и остроту впечатлений, сдерживаемых воспитанием и перевариваемых в душе с доверчивым аппетитом ребенка, не разбирающегося в вишнях и волчьих ягодах. Серая шляпа с голубыми цветами, дорожное простое пальто, такое же, с глухим воротником платье и потертая сумочка, висевшая через плечо, придавали молодой особе оттенок деловитости, чего она, конечно, не замечала.
Занятая одной мыслью, одной целью – скорее попасть в город, молодая девушка, со свойственной ее характеру деликатной настойчивостью, тотчас после аварии приняла все меры к выяснению положения. Она говорила с капитаном, его помощником и пароходными агентами; все они твердили одно: «Муху» не починить здесь; надо ждать следующего парохода, а когда он заблагорассудит явиться – сказать трудно, даже подумав.
Когда молодая девушка сошла на берег погулять в зелени и размыслить, что предпринять дальше, ее брови были огорченно сдвинуты, и она, не переставая внутренне кипеть, нервно потирала руки движениями умывающегося человека. Нок в это время сидел в каюте; перед ним на койке лежал раскрытый чемодан и револьвер. Раздраженное, потемневшее от волнения лицо пассажира показывало, что задержка в пути сильно ошеломила его. Он долго сидел, сгорбившись и посвистывая; наконец не торопясь встал, захлопнул чемодан и глубоко засунул его под койку, а револьвер опустил в карман брюк. Затем он прошел на берег, где, держась в стороне от групп расхаживающих по лесу пассажиров, направился глухой тропинкой вниз по течению.
Он шел бы так очень долго – день, два и три, если бы, удалившись от парохода шагов на двести, не увидел за песчаной косой лодку, почти приникшую к береговому обрыву. В лодке, гребя одним веслом, стоял человек почтенного возраста, подвыпивший, в вязаной куртке, драных штанах, босой и без шапки. У ног его лежала мокрая сеть, на носу лодки торчали удочки.
Нок остановился, подумав: «Не надо ему говорить о пароходе и взрыве».
– Здравствуй, старикан! – сказал он. – Много ли рыбы поймал?
Старик поднял голову, ухватился за береговой куст и осмотрел Нока пронзительно-смекалистым взглядом.
– Это вы здесь откуда? – развязно спросил он. – Какое явление!
– Простая штука, – пояснил Нок. – Я с компанией приехал из Л. (он назвал город, лежащий далеко в сторону). Мы неделю охотились и теперь скоро вернемся.
Нок очень непринужденно сказал это; старик с минуту обдумывал слышанное.
– Мне какое дело, – заявил он, раскачивая ногами лодку. – Рыбы не купите ли?
– Рыбы… нет, не хочу. – Нок вдруг рассмеялся, как бы придумав забавную вещь. – Вот что, послушай-ка: продай лодку!
– Я их не сам делаю, – прищурившись, возразил старик. – Мне другую лодку взять негде… К чему же вам эта посудина?
– Так, нужно выкинуть одну штуку, очень веселую. Я хочу подшутить над приятелем; вот тут нам лодка и нужна. Я говорю серьезно, а за деньгами не постою.
Рыбак протрезвел. Он хмуро смотрел на приличный костюм Нока, думая: «И все вот так, сразу: никак не дадут подумать, обсудить, неторопливо, дельно…» Он не любил, если даже рыбу покупали с двух слов, без торга. Здесь отлетал дух его хозяйственной самостоятельности, так как не на что было возражать и не о чем кипятиться.
«А вот назначу столько, что заскрипишь, – думал старик. – Если богат, заплатит. Назад я, видимо, отправлюсь пешком, а о моей второй лодке, тебе, идиоту, знать нечего. Допустим! Деньги штука приятная».
– Пожалуй, лодку я вам за пятьдесят рублей отдам (она стоила вчетверо меньше), так уж и быть, – сказал рыболов.
– Хорошо, беру. Получай деньги.
«Я дурак, – подумал старик. – Собственно, что же это такое? Является какой-то неизвестный сумасшедший… „Пятьдесят? – Пятьдесят!“… – он кивнул, а я вылезай из лодки, как из чужой, в ту же минуту. Нет, пятьдесят мало».
– Я, того, раздумал, – нахально сказал он. – Мне так невыгодно… Вот сто рублей – дело другого рода.
У Нока было всего 70–80 рублей.
– Мошенник! – сказал молодой человек. – Мне денег не жалко, противна только твоя жадность; бери семьдесят пять и вылазь.
– Ну, если вы еще с дерзостями, – никакой уступки, ни одной копейки, поняли? Я, милый мой, старше вас!
Гелли в эту минуту расхаживала по берегу и случайно проходила мимо кустов, где стоял Нок. Она слышала, что кто-то торгует лодку, и сообразила, в чем дело. Обособленность положения была такова, что покупать лодку имело смысл только для продолжения пути. У девушки появилась тоскливая надежда. Человек, взявший лодку, мог бы довезти и ее, Гелли.
Решившись наконец высказать свою просьбу, она направилась к воде в тот момент, когда торг, подогретый, с одной стороны, вином, с другой – раздражением, принял подобие взаимных наскоков. Нок, услышав легкие шаги сзади, мгновенно оборвал разговор: старик, увидев еще людей, мог задуматься вообще над будущим лодки, а человек, шедший к воде, одной случайной фразой мог выдать пьянице всю остроту положения множества пассажиров, среди которых старик нашел бы, разумеется, людей сговорчивых и богатых.
Нок сказал:
– Подожди-ка здесь, я скоро вернусь.
Он торопливо скрылся, желая перехватить идущего как можно далее от воды. При выходе из кустов Нок встретился с Гелли, застенчиво отводящей рукой влажные ветви.
«Да, женщина, – бросил он себе с горечью, но и с самодовольством опытного человека, глубоко изучившего жизнь. – Чему удивляться? Ведь это их миссия – становиться поперек дороги. Сейчас я ее сплавлю».
Гелли растерянно, с слабой улыбкой смотрела на его неприязненное сухое лицо.
– Очень прошу вас, – прошептал Нок с оттенком приказания, – не говорите громко, если у вас есть что-нибудь сказать мне. Я вынужден заявить это в силу моих причин, притом никто не обязан выказывать любопытства.
– Извините, – потерявшись, тихо заговорила Гелли. – Это вы говорили так громко о лодке? Я не знаю с кем. Но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Если бы вы купили сами, я все равно обратилась бы к вам с просьбой взять меня. Я очень тороплюсь в Зурбаган.
– Вы очень самонадеянны, – начал Нок; девушка мучительно покраснела, но по-прежнему смотрела прямо в глаза, – если вам кажется…
– Ни любопытство, ни грубость не обязательны, – глухо сказала Гелли, гордо удерживая слезы и поворачиваясь уйти.
Нок остыл.
– Простите, прошу вас, – шепнул он, соображая, что может лишиться лодки, – подождите, пожалуйста. Я сейчас, сию минуту скажу вам.
Гелли остановилась. Самолюбие ее сильно страдало, но слово «простите», по ее простодушному мнению, все-таки обязывало выслушать виноватого. Может быть, он употребил не те выражения, потому что торопился уехать.
Нок стоял, опустив руки и глаза вниз, словно искал в траве потерянную монету. Он наскоро соображал положение. Присутствие Гелли толкнуло его к новым выводам и новой оценке случая, помимо доплаты денег за лодку.
– Хорошо, – сказал Нок. – Вы можете ехать со мной. В таком разе, – он слегка покраснел, – доплатите недостающие двадцать рублей. У меня не хватает. Но, предупреждаю вас: не взыщите, я человек мрачный и не кавалер. Со мной едва ли вам будет весело.
– Уверяю вас, я не думала об этом, – возразила девушка послушным, едва слышным шепотом, – вот деньги, а вещи…
– Не берите их.
– Как же быть с ними?
– Пошлите письмо в контору пароходства с описанием вещей и требуйте их наложенным платежом. Все будет цело.
– Но плед…
– Бегите же скорее за пледом, и никому ни слова, – слышите? – ни четверти слова о лодке. Так нужно. Если не согласны – прощайте!
– О, нет, благодарю, благодарю вас… Я скоро!
Она скрылась, не чувствуя земли под ногами от радости. Конспиративную обстановку отъезда она объяснила нежеланием Нока перегружать лодку лишними пассажирами. Она знала также, что оставаться наедине с мужчиной, и еще при таких исключительных обстоятельствах, как пустыня и ночь, считается опасным в известном смысле, теоретически ей ясном, но в душе она глубоко не верила этому. Случаи подобного рода она считала возможными лишь где-то очень далеко, за невидимым ей кругом текущей жизни.
Рыбак, боясь, что сделка не состоится, крикнул:
– Эй, господин охотник! Я-то тут, а вы-то где?
– Тут же, – сказал Нок, выходя к лодке. – Получай денежки. Я ходил только к нашему становищу взять из пальто твою мзду.
Взяв деньги, старик пересчитал их, сунул за пазуху и умильно проговорил:
– Ну, и один же стаканчик водки бы старому папе Юсу!.. Вытряхнули старика из лодки, да еще с больными ногами, да еще…
Нок тотчас смекнул, как удалить рыбака, чтобы тот не заметил женщину.
– Хочешь, ступай по лужайке, что за кустами, – сказал он, – пересеки ее и подайся от берега прямо в лес, там скоро увидишь костер и наших. Скажи, что я велел дать тебе не один, а два и три стаканчика водки.
Действие этого небрежного предложения оказалось чудесным. Старик, помолодев вдвое, поспешно свернул сеть, взвалил ее с сумкой и удочками на плечо и бойко прыгнул в кусты.
– Так вот пряменько идти мне?
– Пряменько, очень пряменько. Водка хорошая, старая, холодная.
– А вы, – старик подмигнул, – шутки свои шутить приметесь?
– Да.
– И великолепно. А я вот чирикну водочки да и домой.
«Убирайся же», – подумал Нок.
Рыбак, еще раз подмигнув, скрылся. Нок стал на том месте, где говорил с Гелли. Минуты через три, задыхаясь от поспешной ходьбы, она явилась; плечи и голову ее окутывал серый плед.
– Садитесь же, садитесь, – торопил Нок. – Вам руль, мне весла. Умеете?
– Да.
Они уселись.
«Романично! – съязвил про себя Нок, отталкивая веслом лодку. – Моему мертвому сердцу безопасны были бы даже полчища Клеопатры, – прибавил он, – и вообще о сердце следовало бы забыть всем».
Стемнело, когда эти двое молодых людей тронулись в путь. Только у далекого поворота еще блестела рассыпанным ожерельем стрежь, просвет неба над ней, уступая облачной тьме, медленно потухал, напоминая дремлющий глаз. Блеск стрежи скоро исчез. Крякнула утка; тишину осенил быстрый свист крыльев; а затем ровный, значительный в темноте плеск весел стал единственным одиноким звуком речной ночи.
Нок несколько повеселел оттого, что едет, удаляется от парохода и вероятной опасности. С присутствием женщины Нока примиряло его господствующее положение; пассажирка была в полной его власти, и хотя власть эту он и не помышлял употребить на что-нибудь скверное, все-таки видеть возможность единоличного распоряжения отношениями было приятно. Это слегка сглаживало обычную холодную враждебность Нока к прекрасному полу. У него совсем не было желания говорить с Гелли, однако, сознав, что надо же выяснить кое-что, неясное для обоих, Нок сказал:
– Как вас зовут?
– Гелли Сод.
– Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег?
– Очень хорошо.
– Держите, Гелли, все время саженях в двадцати от берега, параллельно его извивам. Если понадобится иначе, я скажу… Хех!
Он вскрикнул так, потому что зацепил веслом о подводный древесный лом. Но в резкости вскрика девушке почудилось вдруг нечто затаенное души незнакомца, что вырвалось невольно и, может быть, по отношению к ней. Она оробела, почти испугалась. Десятки страшных историй ожили в ее напряженном воображении. Кто этот молодой человек? Как могла она довериться ему, хотя бы ради отца? Она даже не знает его имени! Жуток был не столько момент испуга, сколько боязнь пугаться все время, быть тоскливо настороже. В это время Нок, выпустив весла, зажег спичку и засопел трубкой; в свете огня его лицо с опущенными на трубку глазами, жадно рассмотренное Гелли, показалось молодой девушке, к великому ее облегчению, совсем не страшным, – лицо как лицо. И даже красивое, простое лицо… Она тихонько вздохнула, почти успокоенная, тем более, что Нок, закурив, сказал:
– Мое имя – Трумвик. – Имя это он сочинил теперь и, боясь сам забыть его, повторил раза два: – Да, Трумвик, так меня зовут; Трумвик.
Про себя, вспомнив мнемонику[4], Нок добавил:
– Трубка, вика[5].
– Долго ли мы проедем? – спросила Гелли. – Меня заставляет торопиться болезнь отца… – Она смутилась, вспомнив, что Трумвик гребет и может принять это за понукание. – Я говорю вообще, приблизительно…
– Так как я тоже тороплюсь, – значительно сказал Нок, – то знайте, что в моих интересах увидеть Зурбаган не позднее как послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше ста верст.
– Благодарю вас. – Она, боязливо рассмеявшись, сообщила: – У меня есть несколько бутербродов и немного сыру… так как достать негде, вы…
– Я тоже взял коробку сардин и кусок хлеба. С меня достаточно.
«Все они материалистки, – подумал Нок. – Разве я сейчас думал о бутербродах? Нет, я думал о вечности; река, ее течение – символ вечности… и – что еще?»
Но он забыл что, хотя настроение продолжало оставаться подавленно-повышенным, Нок принялся думать о своем диком, тяжелом прошлом: грязном романе, тюрьме, о решении упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда, если не телом, то душой; о любви только к мечте, верной и нежной спутнице исковерканных жизней. Волнение мысли передалось его мускулам, и он греб, как на гонках. Лодка, сильно опережая течение, шумно вспахивала темную воду. Гелли благодаря странности положения испытывала подъем духа, возбуждение исполненного решения. Отец с интересом выслушает рассказ о ее похождениях. Ей представилось, что она не плывет, а читает о женщине со своим именем в некоей книге, где описываются леса, охоты, опасности. Вспомнив отца, Гелли приуныла. Вспомнив небрежного и глупого доктора, пользующего отца, она соображала, как заменит его другим, наведет порядки, осмотрит лекарства, постель – все. Ее деятельной душе требовалось хотя бы мысленно делать что-то. Стараясь избежать новых замечаний Нока, она до утомления добросовестно водила рулем, не выпуская глазами темный завал берега. Ей хотелось есть, но она стеснялась. Они плыли молча минут пятнадцать; затем Нок, тоже проголодавшись, угрюмо сказал:
– Закусим. Оставьте руль. – Он выпустил весла. – Мои сардинки еще не высохли… так что берите.
– Нет, благодарю, вы сами.
Девушка, кутаясь в плед, тихонько ела. Несмотря на темноту, ей казалось, что этот странный Трумвик насмешливо следит за ней, и бутерброды, хотя Гелли проголодалась, стали невкусными. Она поторопилась кончить есть. Нок продолжал еще мрачно ковырять в коробке складным ножом, и Гелли слышала, как скребет железо по жести. В их разъединенности, ночном молчании реки и этом полуголодном скрипе неуютно подкрепляющегося человека было что-то сиротское, и Гелли сделалось грустно.
– Ночь, кажется, не будет очень холодной, – сказала, слегка все же вздрагивая от свежести, девушка.
Она сказала первое, что пришло в голову, чтобы Нок не думал, что она думает: «Вот он ест».
– Пароход теперь остался отсюда далеко.
Нок что-то промычал, поперхнулся и бросил коробку в воду.
– Час ночи, – сказал он, подставив к спичке часы. – Вы, если хотите, спите.
– Но как же руль?
– Я умею управлять веслами, – настоятельно заговорил Нок, – а от вашего сонного правления рулем часа через два мы сядем на мель. Вообще я хотел бы, – с раздражением прибавил он, – чтобы вы меня слушались. Я гораздо старше и опытнее вас и знаю, что делать. Можете прикорнуть и спать.
– Вы… очень добры, – нерешительно ответила девушка, не зная, что это: раздражение или снисхождение. – Хорошо, я усну. Если нужно будет, пожалуйста, разбудите меня.
Нок, ничего не сказав, сплюнул.
«Неужели вы думаете, что не разбужу? Ясно, что разбужу. Здесь не гостиная, здесь… Как они умеют окутывать паутиной! „Вы очень добры“… „Благодарю вас“, „Не находите ли вы“… Это все инстинкт пола, – решил Нок, – бессознательное к мужчине. Да».
Потом он стал соображать, ехать ли в Зурбаган на лодке или высадиться верст за пять от города – ради безопасности. Сведения о покупке лодки за бешеные деньги, об иллюзорной Юсовой водке и приметы Нока вполне могли за двое суток стать известны в окрестностях. Попутно он еще раз похвалил себя за то, что догадался взять Гелли, а не отказал ей. Путешествие благодаря этому принимало семейный характер, и кто подумал бы, видя Нока в обществе молодой девушки, что это недавний каторжник? Гелли невольно помогала ему. Он решил быть терпимым.
– Вы спите? – спросил Нок, вглядываясь в темный оплыв кормы.
Ответом ему было нечто среднее между вздохом и сонным шепотом. Корма на фоне менее темном, чем лодка, казалась пустой; Гелли, видимо, спала, и Нок, чтобы посмотреть, как она устроилась, зажег спичку. Девушка, завернувшись в плед, положила голову на руки, а руки на дек кормы; видны были только закрытый глаз, лоб и висок; все вместе представлялось пушистым комком.
– Ну и довольно о ней, – сказал Нок, бросая спичку. – Когда женщина спит, она не вредит.
Поддерживая нужное направление веслами, он, согласно величавой хмурости ночи, вновь задумался о печальном прошлом. Ему хотелось зажить, если он уцелеет, так, чтоб не было места самообманам, увлечениям и раскаяниям. Прежде всего нужно быть одиноким. Думая, что прекрасно изучил людей (а женщин в особенности), Нок, разгорячившись, решил, внешне оставаясь с людьми, внутренне не сливаться с ними, и так, приказав сердцу молчать всегда, встретить конец дней возвышенной грустью мудреца, знающего все земные тщеты.
Не так ли увенчанный славой и сединами доктор обходит палату безнадежно больных, сдержанно улыбаясь всем взирающим на него со страхом и ропотом?… «Да, да, – говорит бодрый вид доктора, – конечно, вы находитесь здесь по недоразумению, и все вообще обстоит прекрасно…» Однако доктор не дурак: он видит все язвы, все сокрушения, принесенные недугом, и мало думает о больных. Думать о приговоренных, так сказать, бесполезно. Они ему не компания.
Сравнение себя с доктором весьма понравилось Ноку. Он выпрямился, нахмурился и печально вздохнул. В таком настроении прошла ночь, и когда Нок стал ясно различать фигуру все еще спящей Гелли, – до Зурбагана оставалось сорок с небольшим верст. Верхние листья береговых кустов затлелись тихими искрами, река яснела, влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли. Нок посмотрел на одеревеневшие руки: пальцы распухли, а ладони, испещренные водяными мозолями, едко горели.
– Однако пора будить этого будуарного человека, – сказал Нок о Гелли. – Занялся день, и я не рискну ехать далее, пока не стемнеет.
Он направил лодку к песчаному заливчику; лодка, толкнувшись, остановилась, и девушка, нервно вскочив, растерянно осмотрелась еще слипающимися глазами.
– Это вы, – успокаиваясь, сказала она. – Всю ночь я спала. Я не сразу поняла, что мы едем.
Ее волосы растрепались, воротник блузы смялся, приняв взъерошенный вид. Плед спустился к ногам. Одна щека была румяной, другая бледной.
Нок сказал:
– Ну, нам, видите ли, осталось проехать не более того, что позади нас. Теперь мы остановились и не тронемся, пока не стемнеет. Надо же отдохнуть. Вылезайте, Гелли. Умывайтесь или причесывайтесь, как знаете, а мне позвольте булавку, если у вас есть. Я хочу поймать рыбу. В этой дикой реке рыбы достаточно.
Гелли погладила рукой грудь; булавка нашлась как раз на месте одной потерянной пуговицы. Она вынула булавку, и края кофточки слегка разошлись, приоткрыв край белой рубашки. Заметив это, Гелли смутилась – она вспомнила, что на нее, спящую, всю ночь смотрел мужчина, а так как спать одетой не приходилось ей никогда, то девушка бессознательно представила себя спавшей, как обычно, под одеялом. Просвет рубашки увеличил смущение. Все, что инстинктивно чувствовалось ей в положении мужчины и женщины, которых никто не видит, неудержимо перевело смущение в смятение; Гелли уронила булавку и, когда, отыскав ее, выпрямилась, лицо ее было совсем красным и жалким.
– Хорошо, что булавка железная, – сказал Нок. – Ее легко гнуть; стальная сломалась бы.
Простодушная близорукость этого замечания вернула Гелли душевное равновесие. Она вышла из лодки, за ней Нок. Сказав, что пойдет вырезать удочку, он потерялся в кустах, и Гелли в продолжение нескольких минут оставалась одна. Плеснув из горсточки на лицо воды, девушка утерлась платком и, поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, поднялась к вершине берегового холма. Здесь она решила «собраться с мыслями». Но мысли вдруг разбежались, потому что занялось и блеснуло перед ней такое жизнерадостное, великолепное утро, когда зелень кажется садом, а мы в нем детьми, прощенными за какую-то гадость. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими, дрожащими блестками, рассыпанными везде, куда направлялся взгляд. Крепкий густой запах зелени волновал сердце, прозрачность далей казалась широко раскинутыми, смеющимися объятиями; синие тени множили тонкость утренних красок, и кое-где в кудрявых ослепительных просветах блистала лучистая паутина.
Нок вышел из кустов с длинным прутом в руках. Гелли, переполненная восхищением, громко сказала:
– Какое дивное утро!
Нок опасливо посмотрел на нее. Она хотела быть, как всегда, сдержанной, но, против воли, сияла бессознательным оживлением.
«Ну, что же, – враждебно подумал он, – не воображаешь ли ты, что я попался на эту нехитрую удочку? Что я буду ахать и восхищаться? Что я раскисну под твоим взглядом? Девчонка, не мудри! Ничего не выйдет из этого».
– Извините, – холодно сказал он. – Ваши восторги мне скучноваты. И затем, пожалуйста, не кричите. Я хорошо слышу.
– Я не кричала, – ответила Гелли, сжавшись.
Незаслуженная, явная грубость Нока сразу расстроила и замутила ее. Желая пересилить обиду, она спустилась к воде, тихо напевая что-то, но, опасаясь нового замечания, умолкла совсем.
«Он положительно меня ненавидит; должно быть, за то, что я напросилась ехать».
Эта мысль вызвала припадок виноватости, которую она постаралась, смотря на удившего с лодки Нока, рассеять сознанием необходимости ехать, что нашла нужным тотчас же сообщить Ноку.
– Вы напрасно сердитесь, Трумвик, – сказала Гелли, – не будь отец болен, я не просила бы вас взять меня с собой. Поэтому представьте себя на моем месте и в моем положении… Я ухватилась за вас поневоле.
– Это о чем? – рассеянно спросил Нок, поглощенный движением лесы, скрученной из похищенных в бортах пиджака конских волос. – Отойдите, Гелли, ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Не я, впрочем, виноват, что ваш отец захворал… И вообще, моя манера обращения одинакова со всеми… Клюет!
Гелли, покорно отступив в глубину берега, видела, как серебряный блеск, вырвавшись из воды, запрыгал в воздухе и, закружившись вокруг Нока наподобие карусели, шлепнулся в воду.
– Рыба! Большая! – вскричала Гелли.
Нок, гордый удачей, ответил так же азартно, оглушая скачущую в руках рыбу концом удилища:
– Да, не маленькая. Фунта три. Рыба, знаете, толстая и тяжелая: мы ее зажарим сейчас. – Он подтолкнул лодку к берегу и бросил на песок рыбу; затем, осмотревшись, стал собирать валежник и обкладывать его кучей, но валежника набралось немного. Гелли, стесняясь стоять без дела, тоже отыскала две-три сухих ветки. Порывисто, с напряжением и усердием, стоящим тяжелой работы, совала она Ноку наломанные ее исколотыми руками крошечные прутики, величиной в спичку. Нок, выпотрошив рыбу, поджег хворост. Огонь разгорался неохотно; повалил густой дым. Став на колени, Нок раздувал хилый огонь, не жалея легких, и скоро, поблизости уха, услышал второе, очень старательное, прерывистое: фу-у-у! фу-у-у! – Гелли, упираясь в землю кулачками с сжатыми в них щепочками, усердно вкладывала свою долю труда; дым ел глаза, но, храбро прослезившись, она не оставила своего занятия даже и тогда, когда огонь, окрепнув и заворчав, крепко схватил хворост.
– Ну, будет! – сказал Нок. – Принесите рыбу, вон она!
Гелли повиновалась.
Выждав, когда набралось побольше углей, Нок разгреб их на песке ровным слоем и аккуратно уложил рыбу. Жаркое зашипело. Скоро оно, сгоревшее с одной стороны, но доброкачественное с другой, было извлечено Ноком и перенесено на блюдо из листьев.
Разделив его прутиком, Нок сказал:
– Ешьте, Гелли, хотя оно и без соли. Голодными мы недалеко уедем.
– Я знаю это, – задумчиво произнесла девушка.
Съев кое-как свою порцию, она, став полусытой, затосковала по дому. Ослепительно, но дико и пустынно было вокруг; бесстрастная тишина берега, державшая ее в вынужденном обстоятельствами плену, начинала действовать угнетающе. Как сто, тысячу лет назад – такими же были река, песок, камни; утрачивалось представление о времени. Она молча смотрела, как Нок, спрятав лодку под свесившимися над водой кустами, набил и закурил трубку; как, мельком взглядывая на путницу, хмуро и тягостно улыбался, и странное недоверие к реальности окружающего моментами просыпалось в ее возбужденном мозгу. Ей хотелось, чтобы Трумвик поскорее уснул; это казалось ей все-таки делом, приближающим час отплытия.
– Вы хотели заснуть, – сказала Гелли, – по-моему, вам это прямо необходимо.
– Я вам мешаю?
– В чем? – Раздосадованная его постоянно придирчивым тоном, Гелли сердито пожала плечами. – Я, кажется, ничего не собираюсь делать, да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки.
– Я ведь не женщина, – торжественно заявил Нок, – меньше сна или больше – для меня безразлично. Если я вам мешаю…
– Я уже сказала, что нет! – вспыхнула, тяжело дыша от кроткого гнева, Гелли, – это я, должно быть, – позвольте вам сказать прямо, – мешаю вам в чем-то… Тогда не надо было ехать со мной. Потому что вы все нападаете на меня!
Ее глаза стали круглыми и блестящими, а детский рот обиженно вздрагивал. Нок изумленно вынул изо рта трубку и осмотрелся, как бы призывая свидетелями небо, реку и лес в том, что не ожидал такого отпора. Боясь, что Гелли расплачется, отняв у него тем самым – и безвозвратно – превосходную позицию сильного презрительного мужчины, Нок понял необходимость придать этому препирательству «серьезную и глубокую» подкладку – немедленно; к тому же он хотел наконец высказаться, как хочет этого большинство искренно, но недавно убежденных в чем-либо людей, ища слушателя, убежденного в противном; здесь дело обстояло проще: самый пол Гелли был отрицанием житейского мировоззрения Нока. Нок сначала нахмурился, как бы проявляя этим осуждение горячности спутницы, а затем придал лицу скорбное, горькое выражение.
– Может быть, – сказал он, веско посылая слова, – я вас и задел чем-нибудь, Гелли, даже наверное задел, допустим, но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно: я отношусь к женщинам весьма отрицательно; вы – женщина; если невольно я перешел границы вежливости, то только поэтому.
Личность, отдельное лицо, вы ли, другая ли кто – для меня все равно, в каждой из вас я вижу, не могу не видеть представительницу мирового зла. Да! Женщины – мировое зло!
– Женщины? – несколько оторопев, но успокаиваясь, спросила Гелли, – и вы думаете, что все женщины…
– Решительно все!
– А мужчины?
– Вот чисто женский вопрос! – Нок подложил табаку в трубку и покачал головой. – Что «а мужчины?»? Мужчины, могу сказать без хвастовства, – начало творческое, положительное. Вы же начало разрушительное!
Разрушительное начало, взбудораженное до глубины сердца, с минуту изумленно, подняв тонкие брови, смотрело на Нока с упреком и вызовом.
– Но… Послушайте, Трумвик! – Нок заговорил языком людей ее круга, и она сама стала выражаться более легко и свободно, чем до этой минуты. – Послушайте, это дерзость, но думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, но интересно. В чем же показали себя с такой черной стороны мы?
– Вы неорганизованная стихия, злое начало.
– Какая стихия?
– Хоть вы, по-видимому, еще девушка (Гелли побагровела от волнения), я могу вам сказать, – продолжал, помолчав, Нок, – что… значит… половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть.
– Об этом я говорить не буду, – звонко сказала Гелли, – я не судья в этом.
– Почему?
– Глупо спрашивать.
– Вы отказываетесь продолжать этот разговор?
Она отвернулась, смотря в сторону, ища понятного объяснения своему смущению, которое не могло, как она хорошо знала, вытекать ни из жеманности, ни из чопорности, потому просто, что эти черты отсутствовали в ее характере. Наконец потребность быть всегда искренней взяла верх; посмотрев прямо в глаза Ноку чистым и твердым взглядом, Гелли храбро сказала:
– Я сама еще не женщина; поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о… физической стороне. Говорите, я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласна с вами или нет!
– Тогда знайте, – раздраженно заговорил Нок, – что так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограниченны. Женщины мелки, лживы, суетны, тщеславны, хищны, жестоки и жадны.
Он потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в продолжение получаса рисовал перед присмиревшей Гелли мрачность картины будущего человечества, если оно наконец не предаст проклятью любовь. Любовь, по его мнению, – вечный обман природы, – следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах.
– Вы, Гелли, – сказал он, – еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления.
Гелли вздохнула. Если Нок прав хоть наполовину, – жизнь впереди ужасна. Она, Гелли, против воли сделается змеей, ехидной, носительницей мирового зла.
– У Шекспира есть, правда, леди Макбет, – возразила она, – но есть также Юлия и Офелия…
– Неврастенические самки, – коротко срезал Нок.
Гелли прикусила язык. Она чуть было не сказала: «я познакомила бы вас с мамой, не умри она четыре года назад»; и теперь благодарила судьбу, что злобный ярлык «самок» миновал дорогой образ. У нее пропала всякая охота разговаривать. Нок, не заметив хмурой натянутости в ее лице, сказал, разумея себя под переменою «я» на «он»:
– У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу… Этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той – дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я…
Вся кровь ударила ему в голову, когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. Но Гелли, казалось, не сообразила, в чем дело. Обычная слабая улыбка вежливого внимания освещала ее осунувшееся за ночь лицо.
– Что же, – вполголоса договорил Нок, – он попал на каторгу.
Наступило внимательное молчание.
– Он и теперь там? – принужденно спросила Гелли.
– Да.
– Вам его жалко, конечно… и мне жалко, – поспешно прибавила она, – но поверьте, Трумвик, человек этот не виноват!
– Кто же виноват?
Нок затаил дыхание.
– Конечно, она.
– А он?
– Он сильно любил, и я бы не осудила его.
Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза.
«Догадалась или не догадалась? Э, черт! – решил он, – мне, в сущности, все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но не посмеет выспрашивать, а мне более ничего не нужно».
– Я засну. – Он встал, потягиваясь и зевая.
– Да, засните, – сказала Гелли, – солнце высоко.
Нок, не отвечая, улегся в тени явора, закрыв голову от комаров пиджаком, и скоро уснул. Во сне, как ни странно, как это ни противно его мнениям, но как согласно с человеческой природой, он видел, что Гелли подходит к нему, сидящему, сзади и нежно прижимает теплую ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Сон, вероятно, принял бы еще более сложный характер, если бы Нок не проснулся от нерешительного мягкого расталкивания. Открыв глаза, он увидел будившую его Гелли, и последнее прикосновение ее руки слилось с наивностью сна. Стемнело. Красное веко солнца скрывалось за черным берегом; сырость, тяжесть в голове и грозное настоящее вернули Нока к его постоянному за последние дни состоянию угрюмой настороженности.
– Простите, я разбудила вас, – сказала Гелли, – нам пора ехать.
Они сели в лодку; снова зашумела вода; около часа они плыли не разговаривая; затем, слыша, как Нок часто и хрипло дышит (подул порывистый встречный ветер, и вода взволновалась), Гелли сказала:
– Передайте мне весла, Трумвик, вы отдохнете.
– Весла тяжелые.
– Ну, что за беда! – Она засмеялась. – Если окажусь неспособной, прошу прощения. Дайте весла.
– Как хотите, – ответил Нок.
«Пускай гребет, в самом деле, – подумал он, – голосок-то у нее стал потверже, это сбить надо».
Они пересели. Нок услышал медленные, неверные всплески, ставшие постепенно более правильными и частыми. Гелли еле удерживала весла, толстые концы которых ежеминутно грозили вырваться из ее рук. Откидываясь назад, она тянулась всем телом, и, что хуже всего, ее ногам не было точки опоры, они не доставали до вделанного в дно лодки специально для упора ногам деревянного возвышения. Ноги Гелли беспомощно скользили по дну, и, с каждым взмахом весел, тело почти съезжало с сиденья. Отгребаемая вода казалась тяжелой и неподвижной, как если бы весла погружались в зерно. Руки и плечи девушки заболели сразу, но ни это, ни болезненное сердцебиение, вызвавшее холодный пот, ни тяжесть и мучительность судорожного дыхания не принудили бы ее сознаться в невольной слабости. Она скорее умерла бы, чем оставила весла. Не менее получаса Гелли выносила эту острую пытку и под конец двигала веслами машинально, как бы не своими руками. Нок, мрачно думавший о жестоком прошлом, встрепенулся и прислушался: весла ударяли вразброд, слабыми, растерянными всплесками, почти не двигая лодку.
– Ага! Гелли! – сказал он. – Возвращайтесь на свое место, довольно!
Она не могла даже ответить. Нок, выпустив руль, подошел к ней. Слабые отсветы воды позволили ему, нагнувшись, рассмотреть бледное, с крепко зажмуренными глазами и болезненно раскрывшимся ртом лицо девушки. Он схватил весла, желая отнять их. Гелли не сразу выпустила их, но, и выпуская, все еще пыталась взмахнуть ими, как заведенная. Она открыла глаза и выпрямилась, полусознательно улыбаясь.
– Ну что? – с внезапной жалостью спросил Нок.
– Нет, ничего, – через силу ответила она, стараясь отдышаться сразу. Затем боязнь насмешки или укола заставила ее гордо выпалить довольно смелое заявление: – Я могла бы долго грести, так как весла не очень тяжелы… Только ручки у них толстые, – наивно прибавила она.
Они пересели снова, и Нок задумался. Он был несколько сконфужен и тронут. Но он постарался придать иное направление мыслям, готовым пристально остановиться на этом гордом и добром существе. Однако у него осталось такое впечатление, как будто он шел и вот зачем-то остановился.
Тучи сгустились, ветер стал ударять сильными густыми рывками. На руку Нока упала капля дождя, и в отдаленном углу земной тьмы блеснул короткий голубой свет. Лодку покачивало, вода зловеще всплескивала. Нок посмотрел вверх, затем, перестав грести, сказал:
– Гелли, надо пристать к берегу. Будет гроза. Переждать ее на воде немыслимо: лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Держите руль к берегу.
Место, куда пристали они, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Нок, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимется, с большими усилиями втянул лодку меж буграми в естественное песчаное углубление. По берегу тянулся редкий, высокий лес, являющийся плохой защитой от грозовой бури, и Нок нашел нужным предупредить девушку об этом.
– Мы вымокнем, – сказал он, – с чем примиритесь заранее – некуда скрыться. Вы боитесь?
– Нет, но неприятно останавливаться.
– Ужасно неприятно.
Они встали под деревом, с тоской прислушиваясь к шуму его листвы, по которой защелкал дождь. Ветер, затихая на мгновение, ударял снова, как бы набравшись сил, еще резче и неистовее. Тучи, спустившиеся над лесом с решительной мрачностью нападения, задавили наконец единственный густо-синий просвет неба, и тьма стала полной. Было сиротливо и холодно; птицы, вспархивая без крика, летели низом, вихляющим трусливым полетом. Свет молнии, вспыхивавший пока редко, без грома, показал Ноку за обрывом лису, нюхавшую воздух, острая ее морда и поджатая передняя лапа исчезли мгновенно, как появились.
Междуцарствие тишины и грозы кончилось весьма решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда; в его стремительном напряжении деревья склонились под углом тридцати градусов, а мелкая поросль затрепетала как в лихорадке. Листья, сучья, разный древесный сор понесся меж стволов, ударяя в лицо. Наконец скакнула жутким синим огнем гигантская молния, по земле яростно хлестнуло дождем, и взрывы неистового грома огласили пустыню.
Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нок стояли в ошеломлении, прижавшись спинами и затылками к стволу. Они задыхались. Ветер душил их; ему помогал ливень такой чудовищной щедрости, что лес быстро наполнился шумом ручьев, рожденных грозой. Гром и молния чередовались в диком соперничестве, заливающем землю приступами небесного грохота и непрерывным, режущим глаз, холодным, как дождь, светом, в дрожи которого деревья, казалось, шатаются и подскакивают.
– Гелли! – закричал Нок. – Мы все равно больше не смокнем. Выйдем на открытое место! Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтобы не потеряться; видите, что творится кругом.
Держа девушку за руку, ежеминутно расползаясь ногами в скользкой грязи и высматривая, пользуясь молнией, свободное от деревьев место, Нок одолел некоторое расстояние, но, убедившись, что далее лес становится гуще, остановился. Вдруг он заметил огненную неподвижную точку. Обойдя куст, мешавший внимательно рассмотреть это явление, Нок различил огромный переплет, находившийся так близко от него, что виден был огарок свечи, воткнутый в бутылку, поставленную на стол.
– Гелли! – сказал Нок. – Окно, жилье, люди! Вот-вот, смотрите!
Ее рука крепче оперлась о его руку, девушка радостно повторила:
– Окно, люди! Да, я вижу теперь. О, Трумвик, бежим скорей под крышу! Ну!
Нок приуныл, охваченный сомнением. Именно жилья и людей следовало ему избегать в своем положении. Наконец, сам измученный и озябший, рассчитывая, что в подобной глуши мало шансов знать кому-либо его приметы и бегство, а в крайнем случае положившись на судьбу и револьвер, Нок сказал:
– Мы пойдем, только, ради Бога, слушайтесь меня, Гелли: не объясняйте сами ничего, если вас спросят, как мы очутились здесь. Неизвестно, кто живет здесь; неизвестно также, поверят ли нам, если мы скажем правду, и не будет ли от этого неприятностей. Если это понадобится, я расскажу выдумку, более правдоподобную, чем истина; согласитесь, что истина нашего положения все-таки исключительная.
Гелли плохо понимала его; вода под платьем струилась по ее телу, поддерживая одно желание – скорее попасть в сухое, крытое место.
– Да, да, – поспешно сказала девушка, – но, пожалуйста, Трумвик, идем!..
Через минуту они стояли у низкой двери бревенчатой, без изгороди и двора, хижины.
Нок потряс дверь.
– Кто стучит? – воскликнул голос за дверью.
– Застигнутые грозой, – сказал Нок, – они просят временно укрыть их.
– Что за дьявол! – с выражением изумления, даже пораженности откликнулся голос. – Медор, иди-ка сюда, эй, ты, лохматый лентяй!
Послышался хриплый глухой лай.
Неизвестный, все еще не открывая дверей, спросил:
– Сколько вас?
– Двое.
– Кто же вы, наконец?
– Мужчина и женщина.
– Откуда здесь женщина, любезнейший?
– Скучно объясняться через дверь, – заявил Нок, – пустите, мы устали и смокли.
Наступила короткая тишина; затем обитатель хижины, внушительно стуча чем-то об пол, крикнул:
– Я вас пущу, но помните, что Медор без намордника, а в руках я держу двухствольный штуцер. Входите по одному; первой пусть войдет женщина.
Встревоженная Гелли еще раз за время этого разговора почувствовала силу обстоятельств, бросивших ее в необычайные, никогда не испытанные условия. Впрочем, она уже несколько притерпелась. Звякнул отодвигаемый засов, и в низком, грязном, но светлом помещении появилась совсем мокрая, тяжело дышащая, бледная, слегка оробевшая девушка в шляпе, изуродованной и сбитой набок дождем. Гелли стояла в луже, мгновенно образовавшейся на полу от липнущей к ногам юбки. Затем появился Нок, в не менее жалком виде. Оба одновременно сказали «уф» и стали осматриваться.
Хозяин хижины, оттянув собаку за ошейник от ног посетителей, на которых она обратила чрезмерное внимание и продолжала взволнованно ворчать, загнал ее двумя пинками в угол, где, покружившись и зевнув, волкодав лег, устремив беспокойные глаза на Гелли и Нока. Хозяин был в цветной шерстяной рубахе с засученными рукавами, плисовых штанах и войлочных туфлях. Длинные, жидкие волосы, веером спускаясь к плечам, придавали неизвестному вид бабий и неопрятный. Костлявый, невысокого роста, лет сорока – сорока пяти, человек этот с румяным, неприятно открытым лицом, с маленькими ясными глазами, окруженными сеткой морщин, и вздернутой верхней губой, открывавшей крепкие желтоватые зубы, производил смутное и мутное впечатление. В очаге, сложенном из дикого камня, горели дрова, над огнем кипел черный котелок, а над ним, шипя и лопаясь, пеклось что-то из теста. У засаленного бурого стола, кроме скамьи, торчали два табурета. Жалкое ложе в углу, отдаленно напоминающее постель, и осколок зеркала на гвозде доканчивали скудную меблировку. Под полками с небольшим количеством необходимой посуды висели ружья, капканы, лыжи, сетки и штук пятнадцать клеток с певчими птицами, возбужденно голосившими свои нехитрые партии. На полу стоял граммофон в куче сваленных старых пластинок. Все это было достаточно густо испещрено птичьим пометом.
– Так вот, дорогие гости, – сказал несколько нараспев и в нос неизвестный, – садитесь, садитесь. Вас, вижу я, хорошо выстирало. Садитесь, грейтесь.
Гелли села к огню, выжимая рукава и подол юбки. Нок ограничился тем, что, сняв мокрый пиджак, сильно закрутил его над железным ведром и снова надел. Стекла окна, озаряемые молнией, звенели от грома.
– Давайте знакомиться, – добродушно продолжал хозяин, отставляя ружье в угол. – Ах, бедная барышня! Я предложу вам, господа, кофею. Вот вскипел котелок – а, барышня?
Гелли поблагодарила очень сдержанно, но так тихо и ровно, что трудно было усомниться в ее желании съесть и выпить чего-нибудь. Злосчастная рыба давно потеряла свое подкрепляющее действие. Нок тоже был голоден.
Он сказал:
– Я заплачу. Есть и пить, правда, необходимо. Дайте нам то, что есть.
– Разве берут деньги в таком положении? – обиженно возразил охотник. – Чего там! Ешьте, пейте, отдыхайте – я всегда рад услужить, чем могу.
Все это произносил он раздельно, открыто, радушно, как заученное. На столе появились хлеб, холодное мясо, горячая, с огня, масленая лепешка и котелок, полный густым кофе. Собирая все это, охотник тотчас же заговорил о себе. Больше всего он зарабатывает продажей птиц, обученных граммофоном всевозможным мелодиям. Он даже предложил показать, как птицы подражают музыке, и бросился было к граммофону, но удержался, покачав головой.
– Ах я, дурак, – сказал он, – молодые люди проголодались, а я вздумал забавлять их! Кстати, – он повернулся к Ноку и посмотрел на него в упор, – вверху тоже дожди?
– Мы едем снизу, – сказал Нок, – в Зурбагане отличная погода… Как вас зовут?
– Гутан.
– Милая, – нежно обратился Нок к девушке, – что, если Трумвик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника? Как ты думаешь?
Гутан поставил кружку так осторожно, словно малейший стук мог заглушить ответ Гелли. Она сидела против Нока, рядом с охотником.
Девушка опустила глаза. Резкая бледность мгновенно изменила ее лицо. Ее руки дрожали, а голос был не совсем бодр, когда она, отбросив наконец опасное колебание, тихо сказала:
– Делай как знаешь.
Гроза стихала.
Гутан опустил глаза, затем отечески покачал головой.
– Конечно, я на вашей стороне, – сочувственно сказал он, – семейный деспотизм штука ужасная. Только, как мне ни жаль вас, господа, а должен я сказать, что вы проехали. Деревня лежит ниже, верст десять назад. Там есть отличный священник, в полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки…
– Что же, беда не велика, – спокойно сказал Нок, – все, видите ли, вышло очень поспешно, толком расспросить было некого, и мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим же какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки, а нам с Гелли много было о чем поговорить. Вот заговорились – и просмотрели деревню.
– Поедем, – сказала Гелли, вставая. – Дождя нет.
Нок пристально посмотрел в ее блестящие, замкнутые глаза.
– Ты волнуешься и торопишься, – медленно произнес он, – не беспокойся; все устроится. Садись.
Истинный смысл этой фразы казался непонятным Гутану и был очень недоверчиво встречен девушкой, однако ей не оставалось ничего другого, как сесть. Она постаралась улыбнуться.
Охотник подошел к очагу. Неторопливо поправив дрова, он, стоя спиной к Ноку, сказал:
– Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам вот что: опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы; одного поймали вблизи Варда, а другой…
Он повернулся как на пружинах, с приятной улыбкой на разгоревшемся румяном лице, и быстро, но непринужденно уселся за стол. Его прямой, неподвижный взгляд, обращенный прямо в лицо Нока, был бы оглушителен для слабой души, но молодой человек, захлебнувшись кофеем, разразился таким кашлем, что побагровел и согнулся.
– … другой, – продолжал охотник, терпеливо выждав конца припадка, – бродит в окрестностях, как я полагаю. О бегстве мошенников было, видите ли, напечатано в газете, и приметы их там указаны.
– Да? – весело сказала Гелли. – Но нас, знаете, грабить не стоит, мы почти без денег… Как называется эта желтая птичка?
– Это певчий дрозд, барышня. Премилое создание.
Нок рассмеялся.
– Гелли трудно напугать, милый Гутан! – вскричал он, – что касается меня, я совершенный фаталист во всем.
– Вы, может быть, правы, – согласился охотник. – Советую вам посмотреть лодку, – вода прибыла, лодку может умчать разливом.
– Да, правильно. – Нок встал. – Гелли, – громко и нежно сказал он, – я скоро вернусь. Ты же посмотри птичек, развлекись разговором. Вероятно, тебя угостят и граммофоном. Не беспокойся, я помню, где лодка, и не заплутаюсь.
Он вышел. Гелли знала, что этот человек ее не оставит. Острота положения пробудила в ней всю силу и мужественность ее сердца, способного замереть в испуге от словесной обиды, но твердого и бесстрашного в опасности. Она жалела и уважала своего спутника, потому что он на ее глазах боролся, не отступая до конца, как мог, с опасной судьбой.
Гутан подошел к двери, плотно прикрыл ее, говоря:
– Эти певчие дрозды, барышня, чудаки, страшные обжоры, во-первых, и…
Но эта бесцельная болтовня, видимо, стесняла его. Подойдя к Гелли вплотную, он, перестав улыбаться, быстро и резко сказал:
– Будем вести дело начистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться?
Даже чрезвычайное возбуждение с трудом удержало Гелли от улыбки, – так ясно было, что охотник поддался заблуждению. Впрочем, присутствие Гелли трудно было истолковать в ином смысле – ее наружность отвечала самому требовательному представлению о девушке хорошего круга.
– Мне, кажется, да, знаю, – холодно ответила Гелли, вставая и выпрямляясь. – Объясните ваш странный вопрос.
Гутан взял с полки газету, протянул Гелли истрепанный номер:
– Читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю.
Пропустив официальный заголовок объявления, а также то, что относилось ко второму каторжнику, Гелли прочла:
«… и Нок, двадцати пяти лет, среднего роста, правильного и крепкого сложения, волосы вьющиеся, рыжеватые, глаза карие; лицо смуглое, под левым ухом большое родимое пятно, величиной с боб; маленькие руки и ноги; брови короткие; других примет не имеет. Каждый обнаруживший местонахождение указанных лиц, или одного из них, обязан принять все меры к их задержанию или же, в случае невозможности этого, поставить местную власть в известность относительно поименованных преступников, за что будет выдана установленная законом награда».
Гелли машинально провела рукой по глазам. Прочитанное не было для нее новостью, но отнимало – и окончательно – самые смелые надежды на то, что она могла крупно, фантастически ошибиться.
Вздохнув, она возобновила игру.
– Боже мой! Какой ужас!
– Да, – с грубой торопливостью подхватил Гутан, не замечая, что отчаянное восклицание слишком подозрительно скоро прозвучало из уст любящей женщины. – Не мое дело допытываться, как он, и так скоро, обошел вас. Но вот с кем вы хотели связать судьбу.
– Я очень обязана вам, – сказала Гелли с чувством глубокого отвращения к этому человеку. Она, естественно, тяжело дышала; не зная, чем кончится мрачная история вечера, Гелли допускала всякие ужасы. – Как видите, я потрясена, растерялась. Что делать?
– Помогите задержать его, – сказал Гутан, – и клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но и уделю еще четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться… – Он пренебрежительно окинул взглядом жалкий костюм Гелли. – Жизнь дорожает, а я хозяин своему слову.
Рука Гелли невольно качнулась по направлению к пышущей здоровьем щеке охотника, но девушка перемогла оскорбление, не изменившись в лице.
– Хорошо, согласна! – твердо произнесла она. – Я не умею прощать. Он скоро придет. Вы не боитесь, что отпустили его?
– Нет. Он ушел спокойно. Даже если и догадывается, что маска сорвана, – одного меня он, конечно, не побоится. У него – револьвер. Оттянутый карман в мокром пиджаке заметно выдает форму предмета. Я должен его связать, схватить его сзади. Вы подведите его к клетке и займите какой-нибудь птицей. В это время возьмите у него из кармана револьвер. Иначе, – Гутан угрожающе понизил голос, – я осрамлю вас на весь город.
– Хорошо, – едва слышно сказала Гелли. Она говорила и двигалась как бы в ярком сне, где все решения мгновенны, полны кошмарной тоски и тайны. – Да, вы сообразили хорошо. Я так и сделаю.
– Улыбайтесь же! Улыбайтесь! – вдруг крикнул Гутан. – Вы побелели! Он идет, слышите?!
Звук медленных, за дверью, шагов, приближающихся как бы в раздумье, был слышен и Гелли. Она придвинулась к двери. Нок, широко распахнув дверь, прежде всего посмотрел на девушку.
– Нок, – громко сказала она; охотник не догадался сразу, что внезапная перемена имени выдает положение, но беглец понял. Револьвер был уже в его руке. Это произошло так быстро, что, поспешно переступая порог, чтобы не видеть свалки, Гелли успела только проговорить: – Защищайтесь, – это я хотела сказать.
Последним воспоминанием ее были два мгновенно преображенных мужских лица.
Она отбежала шагов десять в мокрую тьму кустов и остановилась, слушая всем своим существом. Неистовый лай; выстрел, второй, третий; два крика; сердце Гелли стучало, как швейная машина в полном ходу; в полуоткрытую дверь выбрасывались тени, быстро меняющие место и очертания; спустя несколько секунд звонко вылетело наружу оконное стекло и наступила несомненная, но удивительная в такой момент тишина. Наконец кто-то, черный от падающего сзади света, вышел из хижины.
– Гелли! – тихо позвал Нок.
– Я здесь.
– Пойдемте. – Он хрипло дышал, зажимая ладонью нижнюю разбитую губу.
– Вы… убили?
– Собаку.
– А тот?
– Я связал его. Он сильнее меня, но мне посчастливилось запутать его в скамейках и клетках. Там все опрокинуто. Я также заткнул ему рот, пригрозив пулей, если он не согласится на это… Самому разжимать рот…
– О, бросьте это! – брезгливо сказала Гелли.
Так тяжело, как теперь, ей не было еще никогда. На долгие часы померкла вся казовая сторона жизни. Лесная тьма, борьба, кровь, предательство, жестокость, трусость и грубость подарили новую тень молодой душе Гелли. Уму было все ясно и непреложно, а сердцу – противно.
Нок, приподняв лодку, освободил ее этим от дождевой воды и столкнул на воду. Они двигались в полной тьме. Вода сильно поднялась, более внятный шум ускоренного течения звучал тревожно и властно.
Несколькими ударами весел Нок вывел лодку на середину реки и приналег в гребле. Тогда, почувствовав, что связанный и застреленная собака отрезаны наконец от нее расстоянием и водой, Гелли заплакала. Иного выхода не было ее потрясенным нервам; она не могла ни гневаться, ни быть безучастной к только что происшедшему, – особенно теперь, когда от нее не требовалось более того крайнего самообладания, какое пришлось выказать у Гутана.
– Ради Бога, не плачьте, Гелли! – сказал, сильно страдая, Нок. – Я виноват, я один.
Гелли, чувствуя, что голос сорвется, молчала. Слезы утихли. Она ответила:
– Мне можно было сказать все, все сразу. Мне можно довериться, – или вы не понимаете этого? Вероятно, я не пустила бы вас в эту проклятую хижину.
– Да, но я теперь только узнал вас, – с грустной прямолинейностью сообщил Нок. – Моя сказка о священнике и браке не помогла: он знал, кто я. А помогла бы… Как и что сказал вам Гутан, Гелли?
Гелли коротко передала главное, умолчав о четверти награды за поимку.
«Нет, ты не стоишь этого, и я тебе не скажу, – подумала она, но тут же отечески пожалела уныло молчавшего Нока. – Вот и присмирел».
И Гелли рассмеялась сквозь необсохшие слезы.
– Что вы? – испуганно спросил Нок.
– Ничего; это – нервное.
– Завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас. – Помолчав, он решительно спросил: – Так вы догадались?
– Мужчине вы не рискнули бы рассказать историю с вашим приятелем! Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу; купалась, чтобы стряхнуть усталость. Я вернулась; вы спали, и здесь почему-то, снова увидев, как вы спите, так странно и как бы привычно закрыв пиджаком голову, я сразу сказала себе: «его приятель – он сам»; плохим другом были вы себе, Нок! И, право, за эти две ночи я постарела не на один год.
– Вы поддержали меня, – сказал Нок, – хорошо, по-человечески поддержали. Такой поддержки я не встречал.
– А другие?
– Другие? Вот…
Он начал рассказ о жизни. Возбуждение чувств помогло памяти. Не желая трогать всего, он остановился на детстве, работе, мрачном своем романе и каторге. Его мать умерла скоро после его рождения, отец бил и тридцать раз выгонял его из дому, но, напиваясь, прощал. Неоконченный университет, работа в транспортной конторе и встреча, в парке, при подкупающих звуках оркестра, с прекрасной молодой женщиной были переданы Ноком весьма сжато; он хотел рассказать главное историю отношений с Темезой. Насколько поняла Гелли, крайняя идеализация Ноком Темезы и была причиной несчастья. Он слепо воображал, что она совершенна, как произведение гения, – так сильно и пылко хотелось ему сразу обрести все, чем безыскусственные, но ненасытные души наделяют образ любимой.
Но он-то был для своей избранницы всего пятой по счету прихотью. Благоговейная любовь Нока сначала приподняла ее – немного, затем надоела. Когда понадобилось бежать от терпеливого, но раздраженного в конце концов мужа с новым любовником, Темеза – отчасти искренно, отчасти из подражания героиням уголовных романов – стала в позу обольстительной, но преступной натуры. К тому же весьма крупная сумма, добытая Ноком ценой преступления, стоила в ее глазах безвыездного житья за границей.
Нок был так подавлен и ошеломлен вероломством скрывшейся от него – к новой любви – Темезы, что остался глубоко равнодушным к аресту и суду. Лишь впоследствии, два года спустя, в удушливом каторжном застенке он понял, к чему пришел.
– Что вы намерены делать? – спросила Гелли. – Вам хочется разыскать ее?
– Зачем?
Она молчала.
Нок сказал:
– Никакая любовь не выдержит такого огня. Теперь, если удастся, я переплыву океан. Усните.
– Какой сон!
«Однако я ведь ничего не могу для него сделать, – огорченно думала Гелли. – Может быть, в городе… Но что? Прятать? Ему нужно покинуть Зурбаган как можно скорее. В таком случае, я выпрошу у отца денег».
Она успокоилась.
– Нок, – равнодушно сказала девушка, – вы зайдете со мной к нам?
– Нет, – твердо сказал он, – и даже больше. Я высажу вас у станции, а сам проеду немного дальше.
Но – мысленно – он зашел к ней. Это взволновало и рассердило его. Нок смолк, умолкла и девушка. Оба, подавленные пережитым и высказанным, находились в том состоянии свободного, невынужденного молчания, когда родственность настроений заменяет слова.
Когда в бледном рассвете, насквозь продрогшая, с синевой вокруг глаз, пошатывающаяся от слабости, Гелли услышала отрывистый свисток паровоза, звук этот показался ей замечательным по силе и красоте. Она ободрилась, порозовела. Низкий слева берег был ровным лугом; невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши.
Нок высадил Гелли.
– Ну, вот, – угрюмо сказал он, – вы через час дома… Все.
Вдруг он вспомнил свой сон под явором, но не это предстояло ему.
– Так мы расстаемся, Нок? – сердечно спросила Гелли. – Слушайте. – Она, достав карандаш и покоробленную дождем записную книжку, поспешно исписала листок и протянула его Ноку. – Это мой адрес. В крайнем случае – запомните это. Поверьте этому – я помогу вам.
Она подала руку.
– Прощайте, Гелли! – сказал Нок. – И… простите меня.
Она улыбнулась, примиренно кивнула головой и отошла. Но часть ее осталась в неуклюжей рыбачьей лодке, и эта-то часть заставила Гелли обернуться через немного шагов. Не зная, какой более крепкий привет оставить покинутому, она подняла обе руки, быстро вытянув их, ладонями вперед, к Ноку. Затем, полная противоречивых, смутных мыслей, девушка быстро направилась к станции, и скоро легкая женская фигура скрылась в зеленых волнах луга.
Нок прочитал адрес: «Трамвайная ул., 14–16».
– Так, – сказал он, разрывая бумажку, – ты не подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адреса. Но теперь никто не прочитает его. И я к тебе не приду, потому что… о, Господи!.. люблю!..
Нок рассчитывал миновать станцию, но когда стемнело и он направился в Зурбаган, предварительно утопив лодку, голодное изнурение двух суток настолько помрачило инстинкт самосохранения, что он, соблазненный полосой света станционного фонаря, тупо и вместе с тем радостно повернул к нему. Рассудок не колебался, он строго кричал об опасности, но воспоминание о Гелли, безотносительно к ее приглашению, почему-то явилось ободряющим, как будто лишь знать ее было, само по себе, защитой и утешением – не против внешнего, но того внутреннего – самого оскорбительного, что неизменно ранит даже самые крепкие души в столкновении их с насилием.
Косой отсвет фонаря напоминал о жилом месте и, главное, об еде. От крайнего угла здания отделяли кусты пространством сорока – пятидесяти шагов. На смутно различаемом перроне двигались тени. Нок не хотел идти в здание станции; на такое безумство – еще в нормальном сравнительно состоянии – он не был способен, но стремился, побродив меж запасных путей, найти будку или сторожку, с человеком, настолько заработавшимся и прозаическим, который, по недалекости и добродушию, приняв беглеца за обыкновенного городского бродягу, даст за деньги перекусить.
Нок пересек главную линию холодно блестящих рельсов саженях в десяти от перрона и, нырнув под запасный поезд, очутился в тесной улице товарных вагонов. Они тянулись вправо и влево; нельзя было угадать в темноте, где концы этих нагромождений. В любом направлении – окажись здесь десятки вагонов – Нока могла ждать неприятная или роковая встреча. Он пролез еще под одним составом и снова, выпрямившись, увидел неподвижный глухой поезд. По-видимому, тут, на запасных путях, стояло их множество. Отдохнув, Нок пополз дальше. Почти не разгибаясь даже там, где по пути оказывались тормозные площадки, – так болела спина, он выбрался в конце концов на пустое, в широком расхождении рельсов, место; здесь, близко перед собой, увидел он маленькую, без дверей будку, внутри ее горел свечной огарок; сторожа не было; над грубой койкой на полке лежал завернутый в тряпку хлеб, рядом с бутылкой молока и жестянкой с маслом. Нок осмотрелся.
Действительно, кругом никого не было; ни звука, ни вздоха не слышалось в этом уединенном месте, но неотразимое ощущение опасности повисло над душой беглеца, когда, решившись взять хлеб, он протянул наконец осторожную руку. Ему казалось, что первый же его шаг прочь от будки обнаружит притаившихся наблюдателей. Однако тряпка из-под хлеба упала на пол без сотрясения окружающего, и Нок уходил спокойно, с пустой, легкой, шумной от напряжения головой, едва удерживаясь, чтобы тотчас же не набить рот влажным мякишем. Он шел по направлению к Зурбагану, удаляясь от станции. Справа тянулся ряд угрюмых вагонов, слева – песчаная дорожка и за ней выступы палисадов; верхи деревьев уныло чернели в полутьме неба.
Внезапно, как во сне, из-за вагона упал на песок, быстро побежав к Ноку, огонь ручного фонаря; некто, остановившись, хмуро спросил:
– Зачем вы ходите здесь?
Нок отшатнулся.
– Я… – сказал он и, вдруг потеряв самообладание, зная, что растерялся, вскочил на первую попавшуюся подножку. Нога Нока, крепко и молча схваченная снизу сильной рукой, выдернулась быстрее щелчка.
– Стой, стой! – оглушительно крикнул человек с фонарем.
Нок спрыгнул между вагонов. Затем он помнил только, что, вскакивая, пролезая, толкаясь коленями и плечами о рельсы и цепи, спрыгивал и бежал в предательски тесных местах, пьяный от страха и тьмы, потеряв хлеб и шляпу.
Вскочив на грузовую платформу, он увидел, как впереди скользнул вниз прыгающий красный фонарь, за ним второй, третий; сзади, куда обернулся Нок, тоже прыгали с тормозных площадок настойчивые красные фонари, шаря и светя во всех направлениях.
Нок тихо скользнул вниз, под платформу. Единственным его спасением в этом прямолинейном лесу огромных глухих ящиков было держаться одного направления – куда бы оно ни вело; кружиться и путаться означало гибель. Сжав зубы, с замолкшей душой и судорожно хлопающим сердцем, прополз он под несколькими рядами вагонов, бесшумно и быстро, среди криков, скрипа шагов и мелькающего по рельсам света. В одном месте Нок стукнулся головой о нижний край вагона; от силы удара молодой человек чуть не свалился навзничь, но, пересилив боль, пополз дальше. Боль, одолев страх, прояснила сознание. Им, видимо, руководил инстинкт направления, иногда действующий – в случаях обострения чувств. Шатаясь, Нок встал на свободном месте – то была покинутая им в момент встречи фонаря песчаная дорожка, окаймленная палисадами; перепрыгнув забор, Нок мчался по садовым кустам и клумбам к следующему забору. За забором и небольшим пустырем лежал лес, примыкающий к Зурбагану; Нок бросился в защиту деревьев, как в родной дом.
Бежать, в точном смысле этого слова, не было никакой возможности среди тонущих во тьме преград – стволов, сплетений чащи, бурелома и ям. Нок падал, вставал, кидался вперед, опять падал, но скорость его отчаянных движений, в их совокупности, равнялась, пожалуй, бегу. Единственной его целью – пока – было отдалиться как можно недостижимее от преследователей. Однако через пятнадцать – двадцать минут наступила реакция. Тело отказалось работать, оно было разбито и исцарапано. Ноги согнулись сами, и обожженные легкие дергались болезненными усилиями, почти не хватая воздуха. Покорность изнеможению заставила Нока сесть; сев, он уронил голову на руки и стих; невольная слабость вздоха несколько облегчила нервы, подавленные молчанием.
«Гелли теперь дома, – подумал он, – да, она уже давно дома. У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты; отец, сестра; лампа, книга, картина. Милая Гелли! Ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там; я хочу быть там. Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу! Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад… Впрочем, я разорвал его…»
Он вздрогнул, вспомнив об этом, но, покачав головой, застыл в горькой радости и темном покое. Он был бы настоящим преступником, вздумав идти к этой, не виноватой ни в чьей судьбе, девушке. За что она должна возиться с бродягой, рискуя сплетнями, допросами, обидой? Он снова утвердился в своей шаткой, болезненной озлобленности против всех, кроме Гелли, бывшей опять-таки, по крайнему его мнению, диковинным, совершенно фантастическим исключением. Теперь он жалел, что прочитал адрес, но, попытавшись вспомнить его, убедился в полной неспособности памяти воспроизвести пару легко начертанных строк. Он смутился, но тотчас дал себе за это пощечину. Все оборвалось, исчез всякий след к прошлому – и дом, и улица, и номер квартиры – от этого страдало самолюбие Нока. Он все-таки хотел сам не пойти; теперь воля его была ни при чем; им распорядилась, без принуждения, его память. Она же сделала его одиноким; он как бы проснулся. Гелли и Зурбаган внезапно отодвинулись на тысячу верст; город, пожалуй, скоро вернулся на свое место, но это был уже не тот город.
Когда возбуждение улеглось, Нок вспомнил о потерянном хлебе. К удивлению беглеца, это воспоминание не вызвало приступа голода; но озноб и сухость во рту, принятые им как случайные последствия треволнений, усилились. Колени ударяли о подбородок, а руки, сложенные в обхват колен, судорожно сводило лихорадочными, неудержимыми спазмами.
– Я не должен спать, – сказал Нок, – если засну, то завтра, совсем обессилевшего, меня может поймать не только здоровенный мужчина в мундире, а простая кошка.
Он встал, спросил у леса: «В какую же сторону я пойду, господа?» – и прислонился головой к дереву. Так, трясясь, выждал он момента, когда озноб сменился жаром; легкое возбуждение казалось наркотически приятным, как кофе или чай после работы. В это время со стороны Зурбагана всплыли из глубины молчания – тишины и шорохов леса – фабричные гудки ночной смены. Нок тронулся в разнотонно-певучую сторону. Высокие, нервные и средние, покладистые гудки давно уже стихли, но долго еще держался низкий, как рев бычьей страсти, вой пушечного завода, и Нок слабо кивнул ему.
– Ты, старина, не смолкай, – сказал он, – мне говорить не с кем и – помилуй Бог – идти не к кому…
Но стих и этот гудок.
Нок машинально, придерживаясь одного направления, брел, разговаривая вслух то с Гутаном, то с Гелли, то с воображаемым, неизвестным спутником, шагающим рядом. Временами он принимался петь арестантские песни или подражать звукам разных предметов, говоря стеклу: «Дзинь!», дереву – «Туп!», камню – «Кокк!», но все это без намерения развлечься. Сравнительно скоро после того, как залился первый гудок, он очутился на ровном, просторном месте и, сквозь дремотную возбужденность жара, понял, что близок к городу.
Потому, что нащупывать вокруг было более нечего – ни стволов, ни кустов, – Нок впал в апатию. Сев, он растянулся и задремал; затем погрузился в больной сон и проспал около двух часов. Сверкающий дым труб, солнце и постройки городского предместья предстали его глазам, когда, подняв голову, вошел он ослабевшей душой в яркий свет дня, требующего настойчивости и осторожности, сил и трудов. Как показалось ему, он окреп; встав, Нок вырвал у пиджака подкладку и наскоро устроил из кусков черной материи род головного убора – вернее, повязку, о форме и удачности которой ему не хотелось думать.
Приближаясь к городу, Нок у первого переулка внезапно остановился с полным соображением того, что на городских улицах показываться опасно. Однако идти назад не было смысла. Покачав головой, поджав губы и улыбнувшись, он открыл дверь первого попавшегося трактира, сел и попросил есть.
– Еще папирос, – прибавил он, механически водя ложкой по немытой тарелке с супом.
Подняв глаза, он с беспокойством и тоской увидел, что глаза всех посетителей, слуг и хозяина молчаливо обращены на него. Он с трудом закурил, с трудом проглотил ложку соленого, горячего супа. Ложку и папиросу он, не замечая этого, держал в одной руке. Есть ему не хотелось. Положив на стол серебряную монету, Нок сказал:
– Не обращайте, господа, никакого внимания. Рано я вышел из больницы, вот что.
Выйдя на улицу, он очень тихо, бесцельно, сосредоточенно думая о преимуществах пишущей машины «Ундервуд» перед такой же «Ремингтон», пересек несколько пустырей, усыпанных угольным и кирпичным щебнем, и поднялся по старым каменным лестницам Ангрской дороги на мост, а оттуда прошел к улицам, ведущим в центр города. Здесь, неподалеку от площади «Светлый Шар», он посидел несколько минут на бульварной скамейке, соображая, стоит ли идти в порт днем, дабы спрятаться в угольном ящике одного из пароходов, готовых к отплытию. Но порт, как и вокзал, разумеется, набит сыщиками; Нат Пинкертон расплодил их по всему свету в тройном против обычного количестве.
– Опасно двигаться; опасно сидеть; все опасно после Гутана и вчерашней скачки с препятствиями, – сказал Нок, тупо рассматривая прохожих, в свою очередь даривших его взглядом минутного любопытства благодаря черной повязке на голове. В остальном он не отличался от присущего большому городу типа бродяг. Вдруг он почувствовал, что упадет, если посидит еще хоть минуту. Он встал, маленькими неверными шагами одолел приличное расстояние от площади до Цветного Рынка и сел снова, на краю маленького фонтана, среди детей, прежде всего солидно положивших в рот пальцы, чтобы достойным образом воззриться на «дядю», а затем презрительно возвратившихся к своей песочной стряпне.
Здесь на Нока бросился человек.
Он выскочил неизвестно откуда, может быть, он шел по пятам, присматриваясь к спрятанной в рукаве фотографии. Он был в черном костюме, черном галстуке и черной шаблонной «джонке».
– Стой! – и крикнул и сказал он.
Нок побежал, и это были последние его силы, которые тратил он, – вне себя, – содрогнувшись в тоске и ужасе.
За ним гнались, гнались так же быстро, как бежал он, кидаясь от угла к углу улиц, сворачивая и увертываясь как безумный. И вдруг, с чугунной дощечки одного из домов, сорвавшись, ударила его в сердце надпись забытой улицы, где жила Гелли. Теперь казалось, он всегда помнил номера квартиры и дома. Лишенный способности рассуждать, с ощущением счастья, которое вот-вот оторвут, вырвут из рук, а самого его отбросят далеко назад, в тяжелую тьму страдания, Нок повернулся и разрядил весь револьвер в побежавших назад людей. Улица шла вниз, крутыми зелеными поворотами, узкая, как труба. Увидев спасительный номер, Нок остановился на четвертом этаже крутой лестницы, сначала позвонил, а затем рванул дверь, и ее быстро открыли. Потом он увидел Гелли, а она – жалкое подобие человека, хватающегося за стену и грудь.
– Гелли, милая Гелли! – сказал он, падая к ее ногам. – Я… весь; все тут!
Последним воспоминанием его были странные, прямые, доверчивые глаза – с выражением защиты и жалости.
– Анна! – сказала Гелли сестре, смотревшей на бесчувственного человека с высоты своих пятнадцати лет, причастных отныне строгой и опасной тайне. – Запри дверь; позови садовника и Филиппа. Немедленно, сейчас же перенесем его черным ходом, через сад, к доктору. Потом позвони дяде.
Минут через пятнадцать указания почтенных прохожих надоумили полицию позвонить в эту квартиру. Чины исполнительной власти застали оживленную игру в четыре руки двух девушек. Обе фальшивили, были несколько бледны и кратки в ответах. Впрочем, визит полиции не вызывает улыбки.
– Мы не слыхали, бежал кто по лестнице или нет, – мягко сказала Гелли.
И кому в голову пришло бы спросить барышню почтенной семьи: «Не вы ли спрятали каторжника?»
С сожалением оканчиваем мы эту историю, тем более что далее она лучше и интереснее. Но дальнейшее составило бы материал для целого романа, а не коротенькой повести. А главное вот что. Нок благополучно переплыл море и там, за границей, через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день.
Жизнь Гнора
Большие деревья притягивают молнию.
Александр Дюма
Рано утром за сквозной решеткой ограды парка слышен был тихий разговор. Молодой человек, спавший в северной угловой комнате, проснулся в тот момент, когда короткий выразительный крик женщины заглушил чириканье птиц.
Проснувшийся некоторое время лежал в постели; услышав быстрые шаги под окном, он встал, откинул гардину и никого не заметил; все стихло; раннее холодное солнце падало в аллеи низким светом; длинные росистые тени пестрили веселый полусон парка; газоны дымились, тишина казалась дремотной и неспокойной.
«Это приснилось», – подумал молодой человек и лег снова, пытаясь заснуть.
– Голос был похож, очень похож, – пробормотал он, поворачиваясь на другой бок. Так он дремал с открытыми глазами минут пять, размышляя о близком своем отъезде, о любви и нежности. Вставали полузабытые воспоминания: в утренней тишине они приобретали трогательный оттенок снов, волнующих своей неосязаемой беглостью и невозвратностью.
Обратившись к действительности, Гнор пытался некоторое время превратить свои неполные двадцать лет в двадцать один. Вопрос о совершеннолетии стоял для него ребром: очень молодым людям, когда они думают жениться на очень молодой особе, принято чинить разные препятствия. Гнор обвел глазами прекрасную обстановку комнаты, в которой жил около месяца. Ее солидная роскошь по отношению к нему была чем-то вроде надписи, вывешенной над конторкой дельца: «сутки имеют двадцать четыре часа». На языке Гнора это звучало так: «у нее слишком много денег».
Гнор покраснел, перевернул горячую подушку – и сна не стало совсем. Некоторое время душа его лежала под прессом уязвленной гордости; вслед за этим, стряхнув неприятную тяжесть, Гнор очень непоследовательно и нежно улыбнулся. Интимные воспоминания для него, как и для всякой простой души, были убедительнее выкладок общественной математики. Медленно шевеля губами, Гнор повторил вслух некоторые слова, сказанные вчера вечером; слова, перелетевшие из уст в уста, подобно птицам, спугнутым на заре и пропавшим в тревоге сумерек. Все крепче прижимаясь к подушке, он вспомнил первые осторожные прикосновения рук, серьезный поцелуй, блестящие глаза и клятвы. Гнор засмеялся, укутав рот одеялом, потянулся и услышал, как в дальней комнате повторился шесть раз глухой быстрый звон.
– Шесть часов, – сказал Гнор, – а я не хочу спать. Что мне делать?
Исключительное событие вчерашнего дня наполняло его светом, беспричинной тоской и радостью. Человек, получивший первый поцелуй женщины, не знает на другой день, куда девать руки и ноги; все тело, кроме сердца, кажется ему несносной обузой. Вместе с тем потребность двигаться, жить и начать жить как можно раньше бывает постоянной причиной неспокойного сна счастливых. Гнор торопливо оделся, вышел, прошел ряд бледных, затянутых цветным шелком лощеных зал; в последней из них стенное зеркало отразило спину сидящего за газетой человека. Человек этот сидел за дальним угловым столом; опущенная голова его поднялась при звуке шагов Гнора; последний остановился.
– Как! – сказал он, смеясь. – Вы тоже не спите?! Вы, образец регулярной жизни! Теперь, по крайней мере, я могу обсудить с вами вдвоем, что делать, проснувшись так безрассудно рано.
У человека с газетой было длинное имя, но все и он сам довольствовались одной частью его: Энниок. Он бросил зашумевший лист на пол, встал, лениво потер руки и вопросительно осмотрел Гнора. Запоздалая улыбка появилась на его бледном лице.
– Я не ложился, – сказал Энниок. – Правда, для этого не было особо уважительных причин. Но все же перед отъездом я имею привычку разбираться в бумагах, делать заметки. Какое сочное золотистое утро, не правда ли?
– Вы тоже едете?
– Да. Завтра.
Энниок смотрел на Гнора спокойно и ласково; обычно сухое лицо его было теперь привлекательным, почти дружеским. «Как может меняться этот человек, – подумал Гнор, – он – целая толпа людей, молчаливая и нервная толпа. Он один наполняет этот большой дом».
– Я тоже уеду завтра, – сказал Гнор, – и хочу спросить вас: в каком часу отходит «Епископ Архипелага»?
– Не знаю. – Голос Энниока делался все более певучим и приятным. – Я не завишу от пароходных компаний; ведь у меня, как вы знаете, есть своя яхта. И если вы захотите, – прибавил он, – для вас найдется хорошенькая поместительная каюта.
– Благодарю, – сказал Гнор, – но пароход идет прямым рейсом. Я буду дома через неделю.
– Неделя, две недели – какая разница? – равнодушно возразил Энниок. – Мы посетим глухие углы земли и напомним самим себе любопытных рыб, попавших в золотые сети чудес. О некоторых местах, особенно в молодости, остаются жгучие воспоминания. Я знаю земной шар; сделать крюк в тысячу миль ради вас и прогулки не даст мне ничего, кроме здоровья.
Гнор колебался. Парусное плавание с Энниоком, гостившим два месяца под одной крышей с ним, казалось Гнору хорошим и скверным. Энниок разговаривал с ней, смотрел на нее, втроем они неоднократно совершали прогулки. Для влюбленных присутствие такого человека после того, как предмет страсти сделался невидимым, далеким, служит иногда горьким, но осязательным утешением. А скверное было то, что первое письмо Кармен, подлинный ее почерк, бумага, на которой лежала ее рука, ждали бы его слишком долго. Это прекрасное, не написанное еще письмо Гнор желал прочесть как можно скорее.
– Нет, – сказал он, – я благодарю и отказываюсь.
Энниок поднял газету, тщательно сложил ее, бросил на стол и повернулся лицом к террасе. Утренние, ослепительные ее стекла горели зеленью; сырой запах цветов проникал в залу вместе с тихим ликованием света, делавшим холодную пышность здания ясной и мягкой.
Гнор посмотрел вокруг, как бы желая запомнить все мелочи и подробности. Дом этот стал важной частью его души; на всех предметах, казалось, покоился взгляд Кармен, сообщая им таинственным образом нежную силу притяжения; беззвучная речь вещей твердила о днях, прошедших быстро и беспокойно, о болезненной тревоге взглядов, молчании, незначительных разговорах, волнующих, как гнев, как радостное потрясение; немых призывах улыбающемуся лицу, сомнениях и мечтах. Почти забыв о присутствии Энниока, Гнор молча смотрел в глубь арки, открывающей перспективу дальних, пересеченных косыми столбами дымного утреннего света, просторных зал. Прикосновение Энниока вывело его из задумчивости.
– Отчего вы проснулись? – спросил Энниок, зевая. – Я выпил бы кофе, но буфетчик еще спит, также и горничные. Вы, может быть, видели страшный сон?
– Нет, – сказал Гнор, – я стал нервен… Какой-то пустяк, звуки разговора, быть может, на улице…
Энниок взглянул на него из-под руки, которой тер лоб, вдумчиво, но спокойно. Гнор продолжал:
– Пойдемте в бильярдную. Мне и вам совершенно нечего делать.
– Охотно. Я попытаюсь отыграть вчерашний свой проигрыш раззолоченному мяснику Кнасту.
– Я не играю на деньги, – сказал Гнор и, улыбаясь, прибавил: – У меня их к тому же теперь в обрез.
– Мы договоримся внизу, – сказал Энниок.
Он быстро пошел вперед и исчез в крыле коридора. Гнор двинулся вслед за ним. Но, услыхав сзади хорошо знакомые шаги, обернулся и радостно протянул руки. Кармен подходила к нему с недоумевающим, бледным, но живым и ясным лицом; движения ее обнаруживали беспокойство и нерешительность.
– Это не вы, это солнце, – сказал Гнор, взяв маленькую руку, – оттого так светло и чисто. Почему вы не спите?
– Не знаю.
Эта изящная девушка, с доброй складкой бровей и твердым ртом, говорила открытым грудным голосом, немного старившим ее, как бабушкин чепчик, надетый десятилетней девочкой.
– А вы?
– Сегодня никто не спит, – сказал Гнор. – Я люблю вас. Энниок и я – мы не спим. Вы третья.
– Бессонница. – Она стояла боком к Гнору; рука ее, удержанная молодым человеком, доверчиво забиралась в его рукав, оставляя меж сукном и рубашкой блаженное ощущение мимолетной ласки. – Вы уедете, но возвращайтесь скорее, а до этого пишите мне чаще. Ведь и я люблю вас.
– Есть три мира, – проговорил растроганный Гнор, – мир красивый, прекрасный и прелестный. Красивый мир – это земля, прекрасный – искусство. Прелестный мир – это вы. Я совсем не хочу уезжать, Кармен; этого хочет отец; он совсем болен, дела запущены. Я еду по обязанности. Мне все равно. Я не хочу обижать старика. Но он уже чужой мне; мне все чуждо, я люблю только вас одну.
– И я, – сказала девушка. – Прощайте, мне нужно прилечь, я устала, Гнор, и если вы…
Не договорив, она кивнула Гнору, продолжая смотреть на него тем взглядом, каким умеет смотреть лишь женщина в расцвете первой любви, отошла к двери, но возвратилась и, подойдя к роялю, блестевшему в пыльном свете окна, тронула клавиши. То, что она начала играть негромко и быстро, было знакомо Гнору; опустив голову, слушал он начало оригинальной мелодии, веселой и полнозвучной. Кармен отняла руки; неоконченный такт замер вопросительным звоном.
– Я доиграю потом, – сказала она.
– Когда?
– Когда ты будешь со мной.
Она улыбнулась и, улыбаясь, скрылась в боковой двери.
Гнор тряхнул головой, мысленно докончил мелодию, оборванную Кармен, и ушел к Энниоку. Здесь были сумерки; низкие окна, завешенные плотной материей, почти не давали света; небольшой ореховый бильярд выглядел хмуро, как ученическая меловая доска в пустом классе. Энниок нажал кнопку; электрические тюльпаны безжизненно засияли под потолком; свет этот, мешаясь с дневным, вяло озарил комнату. Энниок рассматривал кий, тщательно намелил его и сунул под мышку, заложив руки в карман.
– Начинайте вы, – сказал Гнор.
– На что мы будем играть? – медленно произнес Энниок, вынимая руку из кармана и вертя шар пальцами. – Я возвращаюсь к своему предложению. Если вы проиграете, я везу вас на своей яхте.
– Хорошо, – сказал Гнор. Ироническая беспечность счастливого человека овладела им. – Хорошо, яхта так яхта. Во всяком случае, это лестный проигрыш! Что вы ставите против этого?
– Все, что хотите. – Энниок задумался, выгибая кий; дерево треснуло и выпало из рук на паркет. – Как я неосторожен, – сказал Энниок, отбрасывая ногой обломки. – Вот что: если выиграете, я не буду мешать вам жить, признав судьбу.
Эти слова произнес он быстро, чуть-чуть изменившимся голосом, и тотчас же принялся хохотать, глядя на удивленного Гнора неподвижными, добрыми глазами.
– Я шутник, – сказал он. – Ничего не доставляет мне такого, по существу, безобидного удовольствия, как заставить человека разинуть рот. Нет, выиграв, вы требуете и получаете все, что хотите.
– Хорошо. – Гнор выкатил шар. – Я не разорю вас.
Он сделал три карамболя, отведя шар противника в противоположный угол, и уступил место Энниоку.
– Раз, – сказал тот. Шары забегали, бесшумными углами чертя сукно, и остановились в выгодном положении. – Два. – Ударяя кием, он почти не сходил с места. – Три. Четыре. Пять. Шесть.
Гнор, принужденно улыбаясь, смотрел, как два покорных шара, отскакивая и кружась, подставляли себя третьему, бегавшему вокруг них с быстротой овчарки, загоняющей стадо. Шар задевал поочередно остальных двух сухими щелчками и возвращался к Энниоку.
– Четырнадцать, – сказал Энниок; крупные капли пота выступили на его висках; он промахнулся, перевел дух и отошел в сторону.
– Вы сильный противник, – сказал Гнор, – и я буду осторожен.
Играя, ему удалось свести шары рядом; он поглаживал их своим шаром то с одной, то с другой стороны, стараясь не разъединить их и не оставаться с ними на прямой линии. Попеременно, делая то больше, то меньше очков, игроки шли поровну; через полчаса на счетчике у Гнора было девяносто пять, девяносто девять у Энниока.
– Пять, – сказал Гнор. – Пять, – повторил он, задев обоих, и удовлетворенно вздохнул. – Мне остается четыре.
Он сделал еще три удара и скиксовал на последнем: кий скользнул, а шар не докатился.
– Ваше счастье, – сказал Гнор с некоторой досадой, – я проиграл.
Энниок молчал. Гнор взглянул на сукно и улыбнулся; шары стояли друг против друга у противоположных бортов; третий, которым должен был играть Энниок, остановился посередине бильярда; все три соединялись прямой линией. «Карамболь почти невозможен», – подумал он и стал смотреть.
Энниок согнулся, уперся пальцами левой руки в сукно, опустил кий и прицелился. Он был очень бледен, бледен, как белый костяной шар. На мгновение он зажмурился, открыл глаза, вздохнул и ударил изо всей силы под низ шара; шар блеснул, щелкнул дальнего, взвившегося дугой прочь, и, быстро крутясь в обратную сторону, как бумеранг, катясь все тише, легко, словно вздохнув, тронул второго. Энниок бросил кий.
– Я раньше играл лучше, – сказал он. Руки его тряслись.
Он стал мыть их, нервно стуча педалью фаянсового умывальника.
Гнор молча поставил кий. Он не ожидал проигрыша, и происшедшее казалось ему поэтому вдвойне нелепым. «Ты не принесла мне сегодня счастья, – подумал он, – и я не получу скоро твоего письма. Все случайность».
– Все дело случая, – как бы угадывая его мысли, сказал Энниок, продолжая возиться у полотенца. – Может быть, вы зато счастливы в любви. Итак, я вам приготовлю каюту. Недавно наверху играла Кармен; у нее хорошая техника. Как странно, что мы трое проснулись в одно время.
– Странно? Почему же? – рассеянно сказал Гнор. – Это случайность.
– Да, случайность. – Энниок погасил электричество. – Пойдемте завтракать, милый, и поговорим о предстоящем нам плавании.
Зеленоватые отсветы волн, бегущих за круглым стеклом иллюминатора, ползли вверх, колебались у потолка и снова, повинуясь размахам судна, бесшумно неслись вниз. Ропот водяных струй, обливающих корпус яхты стремительными прикосновениями; топот ног вверху; заглушенный возглас, долетающий как бы из другого мира; дребезжание дверной ручки; ленивый скрип мачт, гул ветра, плеск паруса; танец висячего календаря на стене – весь ритм корабельного дня, мгновения тишины, полной сурового напряжения, неверный уют океана, воскрешающий фантазии, подвиги и ужасы, радости и катастрофы морских летописей, – наплыв впечатлений этих держал Гнора минут пять в состоянии торжественного оцепенения; он хотел встать, выйти на палубу, но тотчас забыл об этом, следя игру брызг, стекавших по иллюминатору мутной жижей. Мысли Гнора были, как и всегда, в одной точке отдаленного берега – точке, которая была отныне постоянной их резиденцией.
В этот момент вошел Энниок; он был очень весел; клеенчатая морская фуражка, сдвинутая на затылок, придавала его резкому подвижному лицу оттенок грубоватой беспечности. Он сел на складной стул, Гнор закрыл книгу.
– Гнор, – сказал Энниок, – я вам готовлю редкие впечатления. «Орфей» через несколько минут бросит якорь, мы поедем вдвоем на гичке. То, что вы увидите, восхитительно. Милях в полутора отсюда лежит остров Аш; он невелик, уютен и как бы создан для одиночества. Но таких островов много; нет, я не стал бы отрывать вас от книги ради сентиментальной прогулки. На острове живет человек.
– Хорошо, – сказал Гнор, – человек этот, конечно, Робинзон или внук его. Я готов засвидетельствовать ему свое почтение. Он угостит нас козьим молоком и обществом попугая.
– Вы угадали. – Энниок поправил фуражку, оживление его слиняло, голос стал твердым и тихим. – Он живет здесь недавно, я навещу его сегодня в последний раз. После ухода гички он не увидит более человеческого лица. Мое желание ехать вдвоем с вами оправдывается способностью посторонних глаз из пустяка создавать истории. Для вас это не вполне понятно, но он сам, вероятно, расскажет вам о себе; история эта для нашего времени звучит эхом забытых легенд, хотя так же жизненна и правдива, как вой голодного или шишка на лбу; она жестока и интересна.
– Он старик, – сказал Гнор, – он, вероятно, не любит жизнь и людей?
– Вы ошибаетесь. – Энниок покачал головой. – Нет, он совсем еще молодое животное. Он среднего роста, сильно похож на вас.
– Мне очень жалко беднягу, – сказал Гнор. – Вы, должно быть, единственный, кто ему не противен.
– Я сам состряпал его. Это мое детище. – Энниок стал тереть руки, держа их перед лицом; дул на пальцы, хотя температура каюты приближалась к точке кипения. – Я, видите ли, прихожусь ему духовным отцом. Все объяснится. – Он встал, подошел к трапу, вернулся и, предупредительно улыбаясь, взял Гнора за пуговицу. – «Орфей» кончит путь через пять, много шесть дней. Довольны ли вы путешествием?
– Да. – Гнор серьезно взглянул на Энниока. – Мне надоели интернациональные плавучие толкучки пароходных рейсов; навсегда, на всю жизнь останутся у меня в памяти смоленая палуба, небо, выбеленное парусами, полными соленого ветра, звездные ночи океана и ваше гостеприимство.
– Я – сдержанный человек, – сказал Энниок, качая головою, как будто ответ Гнора не вполне удовлетворил его, – сдержанный и замкнутый. Сдержанный, замкнутый и мнительный. Все ли было у вас в порядке?
– Совершенно.
– Отношение команды?
– Прекрасное.
– Стол? Освещение? Туалет?
– Это жестоко, Энниок, – возразил, смеясь, Гнор, – жестоко заставлять человека располагать в виде благодарности лишь жалкими человеческими словами. Прекратите пытку. Самый требовательный гость не мог бы лучше меня жить здесь.
– Извините, – настойчиво продолжал Энниок, – я, как уже сказал вам, мнителен. Был ли я по отношению к вам джентльменом?
Гнор хотел отвечать шуткой, но стиснутые зубы Энниока мгновенно изменили спокойное настроение юноши; он молча пожал плечами.
– Вы меня удивляете, – несколько сухо произнес он, – и я вспоминаю, что… да… действительно я имел раньше случаи не вполне понимать вас.
Энниок занес ногу за трап.
– Нет, это простая мнительность, – сказал он. – Простая мнительность, но я выражаю ее юмористически.
Он исчез в светлом кругу люка, а Гнор, машинально перелистывая страницы книги, продолжал мысленный разговор с этим развязным, решительным, пожившим, заставляющим пристально думать о себе человеком. Их отношения всегда были образцом учтивости, внимания и предупредительности; как будто предназначенные в будущем для неведомого взаимного состязания, они скрещивали еще бессознательно мысли и выражения, оттачивая слова – оружие духа, борясь взглядами и жестами, улыбками и шутками, спорами и молчанием. Выражения их были изысканны, а тон голоса всегда отвечал точному смыслу фраз. В сердцах их не было друг для друга небрежной простоты – спутника взаимной симпатии; Энниок видел Гнора насквозь, Гнор не видел настоящего Энниока; живая форма этого человека, слишком гибкая и податливая, смешивала тона.
Зверский треск якорной цепи перебил мысли Гнора на том месте, где он говорил Энниоку: «Ваше беспокойство напрасно и смахивает на шутку». Солнечный свет, соединявший отверстие люка с тенистой глубиной каюты, дрогнул и скрылся на палубе. «Орфей» повернулся.
Гнор поднялся наверх.
Полдень горел всей силой огненных легких юга; чудесная простота океана, синий блеск его окружал яхту; голые обожженные спины матросов гнулись над опущенными парусами, напоминавшими разбросанное белье гиганта; справа, отрезанная белой нитью прибоя, высилась скалистая впадина берега. Два человека возились около деревянного ящика. Один подавал предметы, другой укладывал, по временам выпрямляясь и царапая ногтем листок бумаги; Гнор остановился у шлюп-балки, матросы продолжали работу.
– Карабин в чехле? – сказал человек с бумагой, проводя под строкой черту.
– Есть, – отвечал другой.
– Одеяло?
– Есть.
– Патроны?
– Есть.
– Консервы?
– Есть.
– Белье?
– Есть.
– Свечи?
– Есть.
– Спички?
– Есть.
– Огниво, два кремня?
– Есть.
– Табак?
– Есть.
Матрос, сидевший на ящике, стал забивать гвозди. Гнор повернулся к острову, где жил странный, сказочный человек Энниока; предметы, упакованные в ящик, вероятно, предназначались ему. Он избегал людей, но о нем, видимо, помнили, снабжая необходимым, – дело рук Энниока.
– Поступки красноречивы, – сказал себе Гнор. – Он мягче, чем я думал о нем.
Позади него раздались шаги; Гнор обернулся: Энниок стоял перед ним, одетый для прогулки, в сапогах и фуфайке; у него блестели глаза.
– Не берите ружья, я взял, – сказал он.
– Когда я первый раз в жизни посетил обсерваторию, – сказал Гнор, – мысль, что мне будут видны в черном колодце бездны светлые глыбы миров, что телескоп отдаст меня жуткой бесконечности мирового эфира, страшно взволновала меня. Я чувствовал себя так, как если бы рисковал жизнью. Похоже на это теперешнее мое состояние. Я боюсь и хочу видеть вашего человека; он должен быть другим, чем мы с вами. Он грандиозен. Он должен производить сильное впечатление.
– Несчастный отвык производить впечатление, – легкомысленно заявил Энниок. – Это бунтующий мертвец. Но я вас покину. Я приду через пять минут.
Он ушел вниз к себе, запер изнутри дверь каюты, сел в кресло, закрыл глаза и не шевелился. В дверь постучали. Энниок встал.
– Я иду, – сказал он, – сейчас иду. – Поясной портрет, висевший над койкой, казалось, держал его в нерешительности. Он посмотрел на него, вызывающе щелкнул пальцами и рассмеялся. – Я все-таки иду, Кармен, – сказал Энниок.
Открыв дверь, он вышел. Темноволосый портрет ответил его цепкому, тяжелому взгляду простой, легкой улыбкой.
Береговой ветер, полный душистой лесной сырости, лез в уши и легкие; казалось, что к ногам падают невидимые охапки травы и цветущих ветвей, задевая лицо. Гнор сидел на ящике, выгруженном из лодки, Энниок стоял у воды.
– Я думал, – сказал Гнор, – что отшельник Аша устроит нам маленькую встречу. Быть может, он давно умер?
– Ну нет. – Энниок взглянул сверху на Гнора и наклонился, подымая небольшой камень. – Смотрите, я сделаю множество рикошетов. – Он размахнулся, камень заскакал по воде и скрылся. – Что? Пять? Нет, я думаю, не менее девяти. Гнор, я хочу быть маленьким, это странное желание у меня бывает изредка; я не поддаюсь ему.
– Не знаю. Я вас не знаю. Может быть, это хорошо.
– Быть может, но не совсем. – Энниок подошел к лодке, вынул из чехла ружье и медленно зарядил его. – Теперь я выстрелю два раза, это сигнал. Он нас услышит и явится.
Подняв дуло вверх, Энниок разрядил оба ствола; гулкий треск повторился дважды и смутным отголоском пропал в лесу. Гнор задумчиво покачал головой.
– Этот салют одиночеству, Энниок, – сказал он, – почему-то меня тревожит. Я хочу вести с жителем Аша длинный разговор. Я не знаю, кто он; вы говорили о нем бегло и сухо, но судьба его, не знаю почему, трогает и печалит меня; я напряженно жду его появления. Когда он придет… я…
Резкая морщина, признак усиленного внимания, пересекла лоб Энниока. Гнор продолжал:
– Я уговорю его ехать с нами.
Энниок усиленно засмеялся.
– Глупости, – сказал он, кусая усы, – он не поедет.
– Я буду его расспрашивать.
– Он будет молчать.
– Расспрашивать о прошлом. В прошлом есть путеводный свет.
– Его доконало прошлое. А свет – погас.
– Пусть полюбит будущее, неизвестность, заставляющую нас жить.
– Ваш порыв, – сказал Энниок, танцуя одной ногой, – ваш порыв разобьется, как ломается кусок мела о голову тупого ученика. Право, – с одушевлением воскликнул он, – стоит ли думать о чудаке? Дни его среди людей были бы банальны и нестерпимо скучны, здесь же он не лишен некоторого, правда весьма тусклого, ореола. Оставим его.
– Хорошо, – упрямо возразил Гнор, – я расскажу ему, как прекрасна жизнь, и, если его рука никогда не протягивалась для дружеского пожатия или любовной ласки, он может повернуться ко мне спиной.
– Этого он ни в коем случае не сделает.
– Его нет, – печально сказал Гнор. – Он умер или охотится в другом конце острова.
Энниок, казалось, не слышал Гнора; медленно подымая руки, чтобы провести ими по бледному своему лицу, он смотрел прямо перед собой взглядом, полным сосредоточенного размышления. Он боролся; это была короткая запоздалая борьба, жалкая схватка. Она обессилила и раздражила его. Минуту спустя он сказал твердо и почти искренно:
– Я богат, но отдал бы все, и даже свою жизнь, чтобы только быть на месте этого человека.
– Темно сказано, – улыбнулся Гнор, – темно, как под одеялом. А интересно.
– Я расскажу про себя. – Энниок положил руку на плечо Гнора. – Слушайте. Сегодня мне хочется говорить без умолку. Я обманут. Я перенес великий обман. Это было давно; я плыл с грузом сукна в Батавию, – и нас разнесло в щепки. Дней через десять после такого начала я лежал поперек наскоро связанного плота, животом вниз. Встать, размяться, предпринять что-нибудь у меня не было ни сил, ни желания. Начался бред; я грезил озерами пресной воды, трясся в лихорадке и для развлечения негромко стонал. Шторм, погубивший судно, перешел в штиль. Зной и океан сварили меня; плот стоял неподвижно, как поплавок в пруде, я голодал, задыхался и ждал смерти. Снова подул ветер. Ночью я проснулся от мук жажды; был мрак и грохот. Голубые молнии полосовали пространство; меня вместе с плотом швыряло то вверх – к тучам, то вниз – в жидкие черные ямы. Я разбил подбородок о край доски; по шее текла кровь. Настало утро. На краю неба, в беспрерывно мигающем свете небесных трещин, неудержимо влеклись к далеким облакам пенистые зеленоватые валы; среди них метались черные завитки смерчей; над ними, как стая обезумевших птиц, толпились низкие тучи – все смешалось. Я бредил; бред изменил все. Бесконечные толпы черных женщин с поднятыми к небу руками стремились вверх; кипящая груда их касалась небес; с неба в красных просветах туч падали вниз прозрачным хаосом нагие, розовые и белые женщины. Озаренные клубки тел, сплетаясь и разрываясь, кружась вихрем или камнем летя вниз, соединили в беспрерывном своем движении небо и океан. Их рассеяла женщина с золотой кожей. Она легла причудливым облаком над далеким туманом. Меня спасли встречные рыбаки, я был почти жив, трясся и говорил глупости. Я выздоровел, а потом сильно скучал; те дни умирания в океане, в бреду, полном нежных огненных призраков, отравили меня. То был прекрасный и страшный сон – великий обман.
Он замолчал, а Гнор задумался над его рассказом.
– Тайфун – жизнь? – спросил Гнор. – Но кто живет так?
– Он. – Энниок кивнул головой в сторону леса и нехорошо засмеялся. – У него есть женщина с золотой кожей. Вы слышите что-нибудь? Нет? И я нет. Хорошо, я стреляю еще.
Он взял ружье, долго вертел в руках, но сунул под мышку.
– Стрелять не стоит. – Энниок вскинул ружье на плечо. – Разрешите мне вас оставить. Я пройду немного вперед и разыщу его. Если хотите, пойдемте вместе. Я не заставлю вас много ходить.
Они тронулись. Энниок впереди, Гнор сзади. Тропинок и следов не было; ноги по колено вязли в синевато-желтой траве; экваториальный лес напоминал гигантские оранжереи, где буря снесла прозрачные крыши, стерла границы усилий природы и человека, развертывая пораженному зрению творчество первобытных форм, столь родственное нашим земным понятиям о чудесном и странном. Лес этот в каждом листе своем дышал силой бессознательной, оригинальной и дерзкой жизни, ярким вызовом и упреком; человек, попавший сюда, чувствовал потребность молчать.
Энниок остановился в центре лужайки. Лесные голубоватые тени бороздили его лицо, меняя выражение глаз.
Гнор ждал.
– Вам незачем идти дальше. – Энниок стоял к Гнору спиной. – Тут неподалеку… он… я не хотел бы сразу и сильно удивить его, являясь вдвоем. Вот сигары.
Гнор кивнул головой. Спина Энниока, согнувшись, нырнула в колючие стебли растений, сплетавших деревья; он зашумел листьями и исчез.
Гнор посмотрел вокруг, лег, положил руки под голову и принялся смотреть вверх.
Синий блеск неба, прикрытый над его головой плотными огромными листьями, дразнил пышным голубым царством. Спина Энниока некоторое время еще стояла перед глазами в своем последнем движении; потом, уступив место разговору с Кармен, исчезла. «Кармен, я люблю тебя, – сказал Гнор, – мне хочется поцеловать тебя в губы. Слышишь ли ты оттуда?»
Притягательный образ вдруг выяснился его напряженному чувству, почти воплотился. Это была маленькая, смуглая, прекрасная голова; растроганно улыбаясь, Гнор зажал ладонями ее щеки, любовно присмотрелся и отпустил. Детское нетерпение охватило его. Он высчитал приблизительно срок, разделявший их, и добросовестно сократил его наполовину, затем еще на четверть. Это жалкое утешение заставило его встать, – он чувствовал невозможность лежать далее в спокойной и удобной позе, пока не продумает своего положения до конца.
Влажный зной леса веял дремотой. Лиловые, пурпурные и голубые цветы качались в траве; слышалось меланхолическое гудение шмеля, запутавшегося в мшистых стеблях; птицы, перелетая глубину далеких просветов, разражались криками, напоминающими негритянский оркестр. Волшебный свет, игра цветных теней и оцепенение зелени окружали Гнора; земля беззвучно дышала полной грудью – задумчивая земля пустынь, кротких и грозных, как любовный крик зверя. Слабый шум послышался в стороне; Гнор обернулся, прислушиваясь, почти уверенный в немедленном появлении незнакомца, жителя острова. Он старался представить его наружность. «Это должен быть очень замкнутый и высокомерный человек, ему терять нечего», – сказал Гнор.
Птицы смолкли; тишина как бы колебалась в раздумье; это была собственная нерешительность Гнора; подождав и не выдержав, он закричал:
– Энниок, я жду вас на том же месте!
Безответный лес выслушал эти слова и ничего не прибавил к ним. Прогулка пока еще ничего не дала Гнору, кроме утомительного и бесплодного напряжения. Он постоял некоторое время, думая, что Энниок забыл направление, потом медленно тронулся назад, к берегу. Необъяснимое сильное беспокойство гнало его прочь из леса. Он шел быстро, стараясь понять, куда исчез Энниок; наконец самое простое объяснение удовлетворило его: неизвестный и Энниок увлеклись разговором.
– Я привяжу лодку, – сказал Гнор, вспомнив, что она еле вытащена на песок. – Они придут.
Вода, пронизанная блеском мокрых песчаных отмелей, сверкнула перед ним сквозь опушку, но лодки не было. Ящик лежал на старом месте. Гнор подошел к воде и слева, где пестрый отвес скалы разделял берег, увидел лодку.
Энниок греб, сильно кидая весла; он смотрел вниз и, по-видимому, не замечал Гнора.
– Энниок! – сказал Гнор; голос его отчетливо прозвучал в тишине прозрачного воздуха. – Куда вы?! Разве вы не слышали, как я звал вас?!
Энниок резко ударил веслами, не поднял головы и продолжал плыть. Он двигался, казалось, теперь быстрее, чем минуту назад; расстояние между скалой и лодкой становилось заметно меньше. «Камень скроет его, – подумал Гнор, – и тогда он не услышит совсем».
– Энниок! – снова закричал Гнор. – Что вы хотите делать?
Плывущий поднял голову, смотря прямо в лицо Гнору так, как будто на берегу никого не было. Еще продолжалось неловкое и странное молчание, как вдруг, случайно, на искристом красноватом песке Гнор прочел фразу, выведенную дулом ружья или куском палки: «Гнор, вы здесь останетесь. Вспомните музыку, Кармен и бильярд на рассвете».
Первое, что ощутил Гнор, была тупая боль сердца, позыв рассмеяться и гнев. Воспоминания против воли головокружительно быстро швырнули его назад, в прошлое; легион мелочей, в свое время ничтожных или отрывочных, блеснул в памяти, окреп, рассыпался и занял свои места в цикле ушедших дней с уверенностью солдат во время тревоги, бросающихся к своим местам, услышав рожок горниста. Голая, кивающая убедительность смотрела в лицо Гнору. «Энниок, Кармен, я, – схватил на лету Гнор. – Я не видел, был слеп; так…»
Он медленно отошел от написанного, как будто перед ним открылся провал. Гнор стоял у самой воды, нагибаясь, чтобы лучше рассмотреть Энниока; он верил и не верил; верить казалось ему безумием. Голова его выдержала ряд звонких ударов страха и наполнилась шумом; ликующий океан стал мерзким и отвратительным.
– Энниок! – сказал Гнор твердым и ясным голосом – последнее усилие отравленной воли. – Это писали вы?
Несколько секунд длилось молчание. «Да», – бросил ветер. Слово это было произнесено именно тем тоном, которого ждал Гнор, – циническим. Он стиснул руки, пытаясь удержать нервную дрожь пальцев; небо быстро темнело; океан, разубранный на горизонте облачной ряской, закружился, качаясь в налетевшем тумане. Гнор вошел в воду, он двигался бессознательно. Волна покрыла колени, бедра, опоясала грудь, Гнор остановился. Он был теперь ближе к лодке шагов на пять; разоренное, взорванное сознание его конвульсивно стряхивало тяжесть мгновения и слабело, как приговоренный, отталкивающий веревку.
– Это подлость. – Он смотрел широко раскрытыми глазами и не шевелился. Вода медленно колыхалась вокруг него, кружа голову и легонько подталкивая. – Энниок, вы сделали подлость, вернитесь!
– Нет, – сказал Энниок. Слово это прозвучало обыденно, как ответ лавочника.
Гнор поднял револьвер и тщательно определил прицел. Выстрел не помешал Энниоку; он греб, быстро откидываясь назад; вторая пуля пробила весло; Энниок выпустил его, поймал и нагнулся, ожидая новых пуль. В этом движении проскользнула снисходительная покорность взрослого, позволяющего ребенку бить себя безвредными маленькими руками.
Третий раз над водой щелкнул курок; непобедимая слабость апатии охватила Гнора; как парализованный, он опустил руку, продолжая смотреть. Лодка ползла за камнем, некоторое время еще виднелась уползающая корма, потом все исчезло.
Гнор вышел на берег.
– Кармен, – сказал Гнор, – он тоже любит тебя? Я не сойду с ума, у меня есть женщина с золотой кожей… Ее имя Кармен. Вы, Энниок, ошиблись!
Он помолчал, сосредоточился на том, что ожидало его, и продолжал говорить сам с собой, возражая жестоким голосам сердца, толкающим к отчаянию: «Меня снимут отсюда. Рано или поздно придет корабль. Это будет на днях. Через месяц. Через два месяца». Он торговался с судьбой. «Я сам сделаю лодку. Я не умру здесь. Кармен, видишь ли ты меня? Я протягиваю тебе руки, коснись их своими, мне страшно».
Боль уступила место негодованию. Стиснув зубы, он думал об Энниоке. Гневное исступление терзало его.
«Бесстыдная лиса, гадина, – сказал Гнор, – еще будет время посмотреть друг другу в лицо». Затем совершившееся показалось ему сном, бредом, нелепостью. Под ногами хрустел песок, песок настоящий. «Любое парусное судно может зайти сюда. Это будет на днях. Завтра. Через много лет. Никогда».
Слово это поразило его убийственной точностью своего значения. Гнор упал на песок лицом вниз и разразился гневными огненными слезами, тяжкими слезами мужчины. Прибой усилился; ленивый раскат волны сказал громким шепотом: «Отшельник Аша».
«Аша», – повторил, вскипая, песок.
Человек не шевелился. Солнце, тяготея к западу, коснулось скалы, забрызгало ее темную грань жидким огнем и бросило на побережье Аша тени – вечернюю грусть земли. Гнор встал.
– Энниок, – сказал он обыкновенным своим негромким, грудным голосом, – я уступаю времени и необходимости. Моя жизнь не доиграна. Это старая, хорошая игра; ее не годится бросать с середины, и дни не карты; над трупами их, погибающих здесь, бесценных моих дней, клянусь вам затянуть разорванные концы так крепко, что от усилия заноет рука, и в узле этом захрипит ваша шея. Подымается ветер. Он донесет мою клятву вам и Кармен!
Сильная буря, разразившаяся в центре Архипелага, дала хорошую встрепку трехмачтовому бригу, носившему неожиданное, мало подходящее к суровой профессии кораблей имя – «Морской Кузнечик». Бриг этот, с оборванными снастями, раненный в паруса, стеньги и ватерлинию, забросило далеко в сторону от обычного торгового пути. На рассвете показалась земля. Единственный уцелевший якорь с грохотом полетел на дно. День прошел в обычных после аварий работах, и только вечером все, начиная с капитана и кончая поваром, могли дать себе некоторый отчет в своем положении. Лаконический отчет этот вполне выражался тремя словами: «Черт знает что!»
– Роз, – сказал капитан, испытывая неподдельное страдание, – это корабельный журнал, и в нем не место различным выкрутасам. Зачем вы, пустая бутылка, нарисовали этот скворешник?
– Скворешник! – Замечание смутило Роза, но оскорбленное самолюбие тотчас же угостило смущение хорошим пинком. – Где видали вы такие скворешники? Это барышня. Я ее зачеркну.
Капитан Мард совершенно закрыл левый глаз, отчего правый стал невыносимо презрительным. Роз стукнул кулаком по столу, но смирился.
– Я ее зачеркнул, сделав кляксу; понюхайте, если не видите. Журнал подмок.
– Это верно, – сказал Мард, щупая влажные прошнурованные листы. – Волна хлестала в каюту. Я тоже подмок. Я и ахтерштевень – мы вымокли одинаково. А вы, Аллигу?
Третий из этой группы, почти падавший от изнурения на стол, за которым сидел, сказал:
– Я хочу спать.
В каюте висел фонарь, озарявший три головы тенями и светом старинных портретов. Углы помещения, заваленные сдвинутыми в одну кучу складными стульями, одеждой и инструментами, напоминали подвал старьевщика. Бриг покачивало; раздражение океана не утихает сразу. Упустив жертву, он фыркает и морщится. Мард облокотился на стол, склонив к чистой странице журнала свое лошадиное лицо, блестевшее умными хмурыми глазами. У него почти не было усов, а подбородок напоминал каменную глыбу в миниатюре. Правая рука Марда, распухшая от ушиба, висела на полотенце.
Роз стал водить пером в воздухе, выделывая зигзаги и арабески: он ждал.
– Ну, пишите, – сказал Мард, – пишите: заброшены к дьяволу, неизвестно зачем; пишите так… – Он стал тяжело дышать, каждое усилие мысли страшно стесняло его. – Постойте. Я не могу опомниться, Аллигу, меня все еще как будто бросает о площадку, а надо мною Роз тщетно пытается удержать штурвал. Я этой скверной воды не люблю.
– Был шторм, – сказал Аллигу, проснувшись, и снова впал в сонное состояние. – Был шторм.
– Свежий ветер, – методично поправил Роз. – Свежий… Сущие пустяки.
– Ураган.
– Простая шалость атмосферы.
– Водо– и воздухотрясение.
– Пустяшный бриз.
– Бриз? – Аллигу удостоил проснуться и, засыпая, снова сказал: – Если это был, как вы говорите, простой бриз, то я более не Аллигу.
Мард сделал попытку жестикулировать ушибленной правой рукой, но побагровел от боли и рассердился.
– Океан кашлял, – сказал он, – и выплюнул нас… Куда? Где мы? И что такое теперь мы?
– Солнце село, – сообщил вошедший в каюту боцман. – Завтра утром узнаем все. Поднялся густой туман; ветер слабее.
Роз положил перо.
– Писать так писать, – сказал он, – а то я закрою журнал.
Аллигу проснулся в тридцать второй раз.
– Вы, – зевнул он с той сладострастной грацией, от которой трещит стул, – забыли о бесштаннике-кочегаре на Стальном Рейде. Что стоило провезти беднягу? Он так мило просил. Есть лишние койки и сухари? Вы ему отказали, Мард, он послал вас к черту вслух – к черту вы и приехали. Не стоит жаловаться.
Мард налился кровью.
– Пусть возят пассажиров тонконогие франты с батистовыми платочками; пока я на «Морском Кузнечике» капитан, у меня этого балласта не будет. Я парусный грузовик.
– Будет, – сказал Аллигу.
– Не раздражайте меня.
– Подержим пари от скуки.
– Какой срок?
– Год.
– Ладно. Сколько вы ставите?
– Двадцать.
– Мало. Хотите пятьдесят?
– Все равно, – сказал Аллигу, – денежки мои, вам не везет на легкий заработок. Я сплю.
– Хотят, – проговорил Мард, – чтобы я срезался на пассажире. Вздор!
С палубы долетел топот, взрыв смеха; океан вторил ему заунывным гулом. Крики усилились: отдельные слова проникли в каюту, но невозможно было понять, что случилось. Мард вопросительно посмотрел на боцмана.
– Чего они? – спросил капитан. – Что за веселье?
– Я посмотрю.
Боцман вышел. Роз прислушался и сказал:
– Вернулись матросы с берега.
Мард подошел к двери, нетерпеливо толкнул ее и удержал взмытую ветром шляпу. Темный силуэт корабля гудел взволнованными, тревожными голосами; в центре толпы матросов, на шканцах блестел свет; в свете чернели плечи и головы. Мард растолкал людей.
– По какому случаю бал? – сказал Мард. Фонарь стоял у его ног, свет ложился на палубу. Все молчали.
Тогда, посмотрев прямо перед собой, капитан увидел лицо незнакомого человека, смуглое вздрагивающее лицо с неподвижными искрящимися глазами. Шапки у него не было. Волосы темного цвета падали ниже плеч. Он был одет в сильно измятый костюм городского покроя и высокие сапоги. Взгляд неизвестного быстро переходил с лица на лицо; взгляд цепкий, как сильно хватающая рука.
Изумленный Мард почесал левую щеку и шумно вздохнул; тревога всколыхнула его.
– Кто вы? – спросил Мард. – Откуда?
– Я – Гнор, – сказал неизвестный. – Меня привезли матросы. Я жил здесь.
– Как? – переспросил Мард, забыв о больной руке; он еле сдерживался, чтобы не разразиться криком на мучившее его загадочностью своей собрание. Лицо неизвестного заставляло капитана морщиться. Он ничего не понимал. – Что вы говорите?
– Я – Гнор, – сказал неизвестный. – Меня привезла ваша лодка… Я – Гнор…
Мард посмотрел на матросов. Многие улыбались напряженной, неловкой улыбкой людей, охваченных жгучим любопытством. Боцман стоял по левую руку Марда. Он был серьезен. Мард не привык к молчанию и не выносил загадок, но, против обыкновения, не вспыхивал: тихий мрак, полный грусти и крупных звезд, остановил его вспышку странной властью, осязательной, как резкое приказание.
– Я лопну, – сказал Мард, – если не узнаю сейчас, в чем дело. Говорите.
Толпа зашевелилась; из нее выступил пожилой матрос.
– Он, – начал матрос, – стрелял два раза в меня и раз в Кента. Мы его не задели. Он шел навстречу. Четверо из нас таскали дрова. Было еще светло, когда он попался. Кент, увидев его, сначала испугался, потом крикнул меня; мы пошли вместе. Он выступил из каменной щели против воды. Одежда его была совсем другая, чем сейчас. Я еще не видал таких лохмотьев. Шерсть на нем торчала из шкур, как трава на гнилой крыше.
– Это небольшой остров, – сказал Гнор. – Я давно живу здесь. Восемь лет. Мне говорить трудно. Я очень много и давно молчу. Отвык.
Он тщательно разделял слова, редко давая им нужное выражение, а по временам делая паузы, в продолжение которых губы его не переставали двигаться.
Матрос испуганно посмотрел на Гнора и повернулся к Марду:
– Он выстрелил из револьвера, потом закрылся рукой, закричал и выстрелил еще раз. Меня стукнуло по голове, я повалился, думая, что он перестанет. Кент бежал на него, но, услыхав третий выстрел, отскочил в сторону. Больше он не стрелял. Я сшиб его с ног. Он, казалось, был рад этому, потому что не обижался. Мы потащили его к шлюпке, он смеялся. Тут у нас, у самой воды, началось легкое объяснение. Я ничего не мог понять, тогда Кент вразумил меня. «Он хочет, – сказал Кент, – чтобы мы ему дали переодеться». Я чуть не лопнул от смеха. Однако, не отпуская его ни на шаг, мы тронулись, куда он нас вел, – и что вы думаете?… У него был, знаете ли, маленький гардероб в каменном ящике, вроде как у меня сундучок. Пока он натягивал свой наряд и перевязывал шишку на голове, – «слушай, – сказал мне Кент, он из потерпевших крушение, – я слыхал такие истории». Тогда этот человек взял меня за руку и поцеловал, а потом Кента. У меня было, признаться, погано на душе, так как я ударил его два раза, когда настиг…
– Зачем вы, – сказал Мард, – зачем вы стреляли в них? Объясните.
Гнор смотрел дальше строгого лица Марда – в тьму.
– Поймите, – произнес он особенным, заставившим многих вздрогнуть усилием голоса, – восемь лет. Я один. Солнце, песок, лес. Безмолвие. Раз вечером поднялся туман. Слушайте: я увидел лодку; она шла с моря; в ней было шесть человек. Шумит песок. Люди вышли на берег, зовут меня, смеются и машут руками. Я побежал, задыхаясь, не мог сказать слова, слов не было. Они стояли все на берегу… живые лица, как теперь вы. Они исчезли, когда я был от них ближе пяти шагов. Лодку унес туман. Туман рассеялся. Все по-старому. Солнце, песок, безмолвие. И море кругом.
Моряки сдвинулись тесно, некоторые встали на цыпочки, дыша в затылки передним. Иные оборачивались, как бы ища разделить впечатление с существом выше человека. Тишина достигла крайнего напряжения. Хриплый голос сказал:
– Молчите.
– Молчите, – подхватил другой. – Дайте ему сказать.
– Так было много раз, – продолжал Гнор. – Я кончил тем, что стал делать выстрелы. Звук выстрела уничтожал видение. После этого я обыкновенно целый день не мог есть. Сегодня я не поверил; как всегда, не больше. Трудно быть одному.
Мард погладил больную руку.
– Как вас зовут?
– Гнор.
– Сколько вам лет?
– Двадцать восемь.
– Кто вы?
– Сын инженера.
– Как попали сюда?
– Об этом, – неохотно сказал Гнор, – я расскажу одному вам.
Голоса их твердо и тяжело уходили в тьму моря: хмурый – одного, звонкий – другого; голоса разных людей.
– Вы чисто одеты, – продолжал Мард, – это для меня непонятно.
– Я хранил себя, – сказал Гнор, – для лучших времен.
– Вы также брились?
– Да.
– Чем вы питались?
– Чем случится.
– На что надеялись?
– На себя.
– И на нас также?
– Меньше, чем на себя. – Гнор тихо, но выразительно улыбнулся, и все лица отразили его улыбку. – Вы могли встретить труп, идиота и человека. Я не труп и не идиот.
Роз, стоявший позади Гнора, крепко хватил его по плечу и, вытащив из кармана платок, пронзительно высморкался; он был в восторге.
Иронический взгляд Аллигу остановился на Марде. Они смотрели друг другу в глаза, как авгуры, прекрасно понимающие, в чем дело. «Ты проиграл, кажись», – говорило лицо штурмана. «Оберну вокруг пальца», – ответил взгляд Марда.
– Идите сюда, – сказал капитан Гнору. – Идите за мной. Мы потолкуем внизу.
Они вышли из круга; множество глаз проводило высокий силуэт Гнора. Через минуту на палубе было три группы, беседующие вполголоса о тайнах моря, суевериях, душах умерших, пропавшей земле, огненном бриге из Калифорнии. Четырнадцать взрослых ребят, делая страшные глаза и таинственно кашляя, рассказывали друг другу о приметах пиратов, о странствиях проклятой бочки с водкой, рыбьем запахе сирен, подводном гроте, полном золотых слитков. Воображение их, получившее громовую встряску, неслось кувырком. Недавно еще ждавшие неумолимой и верной смерти, они забыли об этом; своя опасность лежала в кругу будней, о ней не стоило говорить.
Свет забытого фонаря выдвигал из тьмы наглухо задраенный люк трюма, борта и нижнюю часть вант. Аллигу поднял фонарь; тени перескочили за борт.
– Это вы, Мард? – сказал Аллигу, приближая фонарь к лицу идущего. – Да, это вы, теленок не ошибается. А он?
– Все в порядке, – вызывающе ответил Мард. – Не стоит беспокоиться, Аллигу.
– Хорошо, но вы проиграли.
– А может быть, вы?
– Как, – возразил удивленный штурман, – вы оставите его доживать тут? А бунта вы не боитесь?
– И я не камень, – сказал Мард. – Он рассказал мне подлую штуку… Нет, я говорить об этом теперь не буду. Хотя…
– Ну, – Аллигу переминался от нетерпения. – Деньги на бочку!
– Отстаньте!
– Тогда позвольте поздравить вас с пассажиром.
– С пассажиром? – Мард подвинулся к фонарю, и Аллигу увидел злорадно торжествующее лицо. – Обольстительнейший и драгоценнейший Аллигу, вы ошиблись. Я нанял его на два месяца хранителем моих свадебных подсвечников, а жалованье уплатил вперед, в чем имею расписку; запомните это, свирепый Аллигу, и будьте здоровы.
– Ну, дока, – сказал, оторопев, штурман после неприятного долгого молчания. – Хорошо, вычтите из моего жалованья.
На подоконнике сидел человек. Он смотрел вниз с высоты третьего этажа на вечернюю суету улицы. Дом, мостовая и человек дрожали от грохота экипажей.
Человек сидел долго, – до тех пор, пока черные углы крыш не утонули в черноте ночи. Уличные огни внизу отбрасывали живые тени; тени прохожих догоняли друг друга, тень лошади перебирала ногами. Маленькие пятна экипажных фонарей беззвучно мчались по мостовой. Черная дыра переулка, полная фантастических силуэтов, желтая от огня окон, уличного свиста и шума, напоминала крысиную жизнь мусорной ямы, освещенной заржавленным фонарем тряпичника.
Человек прыгнул с подоконника, но скоро нашел новое занятие. Он стал закрывать и открывать электричество, стараясь попасть взглядом в заранее намеченную точку обоев; комната сверкала и пропадала, повинуясь щелканью выключателя. Человек сильно скучал.
Неизвестно, чем бы он занялся после этого, если бы до конца вечера остался один. С некоторых пор ему доставляло тихое удовольствие сидеть дома, проводя бесцельные дни, лишенные забот и развлечений, интересных мыслей и дел, смотреть в окно, перебирать старые письма, отделяя себя ими от настоящего; его никуда не тянуло, и ничего ему не хотелось; у него был хороший аппетит, крепкий сон; внутреннее состояние его напоминало в миниатюре зевок человека, утомленного китайской головоломкой и бросившего наконец это занятие.
Так утомляет жизнь, и так сказывается у многих усталость; душа и тело довольствуются пустяками, отвечая всему гримасой тусклого равнодушия. Энниок обдумал этот вопрос и нашел, что стареет. Но и это было для него безразлично.
В дверь постучали: сначала тихо, потом громче.
– Войдите, – сказал Энниок.
Человек, перешагнувший порог, остановился перед Энниоком, закрывая дверь рукой позади себя и слегка наклоняясь, в позе напряженного ожидания. Энниок пристально посмотрел на него и отступил в угол; забыть это лицо, мускулистое, с маленькими подбородком и ртом, было не в его силах.
Вошедший, стоя у двери, наполнял собой мир – и Энниок, пошатываясь от бьющего в голове набата, ясно увидел это лицо таким, каким было оно прежде, давно.
Сердце его на один нестерпимый миг перестало биться; мертвея и теряясь, он молча тер руки. Гнор шумно вздохнул.
– Это вы, – глухо сказал он. – Вы, Энниок. Ну, вот мы и вместе. Я рад.
Два человека, стоя друг против друга, тоскливо бледнели, улыбаясь улыбкой стиснутых ртов.
– Вырвался! – крикнул Энниок. Это был болезненный вопль раненого. Он сильно ударил кулаком о стол, разбив руку; собрав всю силу воли, овладел, насколько это было возможно, заплясавшими нервами и выпрямился. Он был вне себя.
– Это вы! – наслаждаясь повторил Гнор. – Вот вы. От головы до пяток, во весь рост. Молчите. Я восемь лет ждал встречи. – Нервное взбешенное лицо его дергала судорога. – Вы ждали меня?
– Нет. – Энниок подошел к Гнору. – Вы знаете – это катастрофа. – Обуздав страх, он вдруг резко переменился и стал как всегда. – Я лгу. Я очень рад видеть вас, Гнор.
Гнор засмеялся.
– Энниок, едва ли вы рады мне. Много, слишком много поднимается в душе чувств и мыслей… Если бы я мог все сразу обрушить на вашу голову! Довольно крика. Я стих.
Он помолчал; страшное спокойствие, похожее на неподвижность работающего парового котла, дало ему силы говорить дальше.
– Энниок, – сказал Гнор, – продолжим нашу игру.
– Я живу в гостинице. – Энниок пожал плечами в знак сожаления. – Неудобно мешать соседям. Выстрелы – мало популярная музыка. Но мы, конечно, изобретем что-нибудь.
Гнор не ответил; опустив голову, он думал о том, что может не выйти живым отсюда. «Зато я буду до конца прав – и Кармен узнает об этом. Кусочек свинца осмыслит все мои восемь лет, как точка».
Энниок долго смотрел на него. Любопытство неистребимо.
– Как вы?… – хотел спросить Энниок; Гнор перебил его:
– Не все ли равно? Я здесь. А вы – как вы зажали рты?
– Деньги, – коротко сказал Энниок.
– Вы страшны мне, – заговорил Гнор. – С виду я, может быть, теперь и спокоен, но мне душно и тесно с вами; воздух, которым вы дышите, мне противен. Вы мне больше, чем враг, – вы ужас мой. Можете смотреть на меня сколько угодно. Я не из тех, кто прощает.
– Зачем прощение? – сказал Энниок. – Я всегда готов заплатить. Слова теперь бессильны. Нас захватил ураган; кто не разобьет лоб, тот и прав.
Он закурил слегка дрожащими пальцами сигару и усиленно затянулся, жадно глотая дым.
– Бросим жребий.
Энниок кивнул головой, позвонил и сказал лакею:
– Дайте вино, сигары и карты.
Гнор сел у стола; тягостное оцепенение приковало его к стулу; он долго сидел, понурившись, сжав руки между колен, стараясь представить, как произойдет все; поднос звякнул у его локтя; Энниок отошел от окна.
– Мы сделаем все прилично, – не повышая голоса, сказал он. – Вино это старше вас, Гнор; вы томились в лесах, целовали Кармен, учились и родились, а оно уже лежало в погребе. – Он налил себе и Гнору, стараясь не расплескать. – Мы, Гнор, любим одну женщину. Она предпочла вас; а моя страсть поэтому выросла до чудовищных размеров. И это, может быть, мое оправдание. А вы бьете в точку.
– Энниок, – заговорил Гнор, – мне только теперь пришло в голову, что при других обстоятельствах мы, может быть, не были бы врагами. Но это так, к слову. Я требую справедливости. Слезы и кровь бросаются мне в голову при мысли о том, что перенес я. Но я перенес – слава Богу, и ставлю жизнь против жизни. Мне снова есть чем рисковать – не по вашей вине. У меня много седых волос, а ведь мне нет еще тридцати. Я вас искал упорно и долго, работая, как лошадь, чтобы достать денег, переезжая из города в город. Вы снились мне. Вы и Кармен.
Энниок сел против него; держа стакан в левой руке, он правой распечатал колоду.
– Черная ответит за все.
– Хорошо. – Гнор протянул руку. – Позвольте начать мне. А перед этим я выпью.
Взяв стакан и прихлебывая, он потянул карту. Энниок удержал его руку, сказав:
– Колода не тасована.
Он стал тасовать карты, долго мешал их, потом веером развернул на столе, крапом вверх.
– Если хотите, вы первый.
Гнор взял карту, не раздумывая, – первую попавшуюся под руку.
– Берите вы.
Энниок выбрал из середины, хотел взглянуть, но раздумал и посмотрел на партнера. Их глаза встретились. Рука каждого лежала на карте. Поднять ее было не так просто. Пальцы не повиновались Энниоку. Он сделал усилие, заставив их слушаться, и выбросил туза червей. Красное очко блеснуло, как молния, радостно – одному, мраком – другому.
– Шестерка бубей, – сказал Гнор, открывая свою. – Начнем снова.
– Это – как бы двойной выстрел. – Энниок взмахнул пальцами над колодой и, помедлив, взял крайнюю.
– Вот та лежала с ней рядом, – заметил Гнор, – та и будет моя.
– Черви и бубны светятся в ваших глазах, – сказал Энниок, – пики – в моих. – Он успокоился, первая карта была страшнее, но чувствовал где-то внутри, что кончится это для него плохо. – Откройте сначала вы, мне хочется продлить удовольствие.
Гнор поднял руку, показал валета червей и бросил его на стол. Конвульсия сжала ему горло; но он сдержался, только глаза его блеснули странным и жутким весельем.
– Так и есть, – сказал Энниок, – карта моя тяжела; предчувствие, кажется, не обманет. Двойка пик.
Он разорвал ее на множество клочков, подбросил вверх – и белые струйки, исчертив воздух, осели на стол белыми неровными пятнами.
– Смерть двойке, – проговорил Энниок, – смерть и мне.
Гнор пристально посмотрел на него, встал и надел шляпу. В душе его не было жалости, но ощущение близкой чужой смерти заставило его пережить скверную минуту. Он укрепил себя воспоминаниями; бледные дни отчаяния, поднявшись из могилы Аша, грозным хороводом окружали Гнора; прав он.
– Энниок, – осторожно сказал Гнор, – я выиграл и удаляюсь. Отдайте долг судьбе без меня. Но есть у меня просьба: скажите, почему проснулись мы трое в один день, когда вы, по-видимому, уже решили мою участь? Можете и не отвечать, я не настаиваю.
– Это цветок из Ванкувера, – не сразу ответил Энниок, беря третью сигару. – Я сделаю вам нечто вроде маленькой исповеди. Цветок был привезен мной; я не помню его названия; он невелик, зеленый, с коричневыми тычинками. Венчик распускается каждый день утром, свертываясь к одиннадцати. Накануне я сказал той, которую продолжаю любить: «Встаньте рано, я покажу вам каприз растительного мира». Вы знаете Кармен, Гнор; ей трудно отказать другому в маленьком удовольствии. Кроме того, это ведь действительно интересно. Утром она была сама как цветок; мы вышли на террасу; я нес в руках ящик с растением. Венчик, похожий на саранчу, медленно расправлял лепестки. Они выровнялись, напряглись – и цветок стал покачиваться от ветерка. Он был не совсем красив, но оригинален. Кармен смотрела и улыбалась. «Он дышит, – сказала она, – такой маленький». Тогда я взял ее за руку и сказал то, что долго меня терзало; я сказал ей о своей любви. Она покраснела, смотря на меня в упор и отрицательно качая головой. Ее лицо сказало мне больше, чем старое слово «нет», к которому меня совсем не приучили женщины. «Нет, – холодно сказала она, – это невозможно. Прощайте». Она стояла некоторое время задумавшись, потом ушла в сад. Я догнал ее, больной от горя, и продолжал говорить – не знаю что. «Опомнитесь», – сказала она. Вне себя от страсти, я обнял ее и поцеловал. Она замерла; я прижал ее к сердцу и поцеловал в губы, но силы к ней тотчас вернулись, она закричала и вырвалась. Так было. Я мог только мстить – вам; я мстил. Будьте уверены, что, если бы вы споткнулись о черную масть, я не остановил бы вас.
– Я знаю это, – спокойно возразил Гнор. – Вдвоем нам не жить на свете. Прощайте.
Детское живет в человеке до седых волос – Энниок удержал Гнора взглядом и загородил дверь.
– Вы, – самолюбиво сказал он, – вы, гибкая человеческая сталь, должны помнить, что у вас был достойный противник.
– Верно, – сухо ответил Гнор, – пощечина и пожатие руки – этим я выразил бы всего вас. В силу известной причины я не делаю первого. Возьмите второе.
Они протянули руки, стиснув друг другу пальцы; это было странное, злое и задумчивое пожатие сильных врагов.
Последний взгляд их оборвала закрытая Гнором дверь; Энниок опустил голову.
– Я остаюсь с таким чувством, – прошептал он, – как будто был шумный, головокружительный, грозной красоты бал; он длился долго, и все устали. Гости разъехались, хозяин остался один; одна за другой гаснут свечи, грядет мрак.
Он подошел к столу, отыскал, расшвыряв карты, револьвер и почесал дулом висок. Прикосновение холодной стали к пылающей коже было почти приятным. Потом стал припоминать жизнь и удивился: все казалось в ней старообразным и глупым.
– Я мог бы обмануть его, – сказал Энниок, – но не привык бегать и прятаться. А это было бы неизбежно. К чему? Я взял от жизни все, что хотел, кроме одного. И на этом «одном» сломал шею. Нет, все вышло как-то совсем кстати и импозантно.
– Глупая смерть, – продолжал Энниок, вертя барабан револьвера. – Скучно умирать так – от выстрела. Я могу изобрести что-нибудь. Что – не знаю; надо пройтись.
Он быстро оделся, вышел и стал бродить по улицам. В туземных кварталах горели масляные фонари из красной и голубой бумаги; воняло горелым маслом, отбросами, жирной пылью. Липкий мрак наполнял переулки; стучали одинокие ручные тележки; фантастические контуры храмов теплились редкими огоньками. Мостовая, усеянная шелухой фруктов, соломой и клочками газет, окружала подножья уличных фонарей светлыми дисками; сновали прохожие; высокие, закутанные до переносья женщины шли медленной поступью; черные глаза их, подернутые влажным блеском, звали к истасканным циновкам, куче голых ребят и грязному петуху семьи, поглаживающему бороду за стаканом апельсинной воды.
Энниок шел, привыкая к мысли о близкой смерти. За углом раздался меланхолический стон туземного барабана, пронзительный вой рожков: адская музыка сопровождала ночную религиозную процессию. Тотчас же из-за старого дома высыпала густая толпа; впереди, кривляясь и размахивая палками, сновали юродивые; туча мальчишек брела сбоку; на высоких резных палках качались маленькие фонари, изображения святых, скорченные темные идолы, напоминавшие свирепых младенцев в материнской утробе; полуосвещенное море голов теснилось вокруг них, вопя и рыдая; блестела тусклая позолота дерева; металлические хоругви, задевая друг друга, звенели и дребезжали.
Энниок остановился и усмехнулся: дерзкая мысль пришла ему в голову. Решив умереть шумно, он быстро отыскал глазами наиболее почтенного, увешанного погремушками старика. У старика было строгое, взволнованное и молитвенное лицо; Энниок рассмеялся; тяжкие перебои сердца на мгновение стеснили дыхание; затем, чувствуя, что рушится связь с жизнью и темная жуть кружит голову, он бросился в середину толпы.
Процессия остановилась; смуглые плечи толкали Энниока со всех сторон; смешанное горячее дыхание, запах пота и воска ошеломили его, он зашатался, но не упал, поднял руки и, потрясая вырванным у старика идолом, крикнул изо всей силы:
– Плясунчики, голые обезьяны! Плюньте на своих деревяшек! Вы очень забавны, но надоели!
Свирепый рев возбудил его; в исступлении, уже не сознавая, что делает, он швырнул идола в первое, искаженное злобой, коричневое лицо; глиняный бог, встретив мостовую, разлетелся кусками. В то же время режущий удар по лицу свалил Энниока; взрыв ярости пронесся над ним; тело затрепетало и вытянулось.
Принимая последние, добивающие удары фанатиков, Энниок, охватив руками голову, залитую кровью, услышал явственный, идущий как бы издалека голос; голос этот повторил его собственные недавние слова:
– Бал кончился, разъехались гости, хозяин остается один. И мрак одевает залы.
«Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек».
Подумав это, Гнор обратился к прошлому. Там была юность; нежные, озаряющие душу голоса ясной любви; заманчиво кружащая голову жуткость все полнее и радостнее звучащей жизни; темный ад горя, – восемь лет потрясения, исступленной жажды, слез и проклятий, чудовищный, безобразный жребий; проказа времени; гора, обрушенная на ребенка; солнце, песок, безмолвие. Дни и ночи молитв, обращенных к себе: «спасайся!»
Он стоял теперь как бы на вершине горы, еще дыша часто и утомленно, но с отдыхающим телом и раскрепощенной душой. Прошлое лежало на западе, в стране светлых возгласов и уродливых теней; он долго смотрел туда, всему было одно имя – Кармен.
И, простив прошлому, уничтожая его, оставил он одно имя – Кармен.
В настоящем Гнор видел себя, сожженного безгласной любовью, страданием многих лет, окаменевшего в одном желании, более сильном, чем закон и радость. Он был одержим тоской, увеличивающей изо дня в день силы переносить ее. Это был юг жизни, ее знойный полдень; жаркие голубые тени, жажда и шум невидимого еще ключа. Всему было одно имя – Кармен. Только одно было у него в настоящем – имя, обвеянное волнением, боготворимое имя женщины с золотой кожей – Кармен.
Будущее – красный восток, утренний ветер, звезда, гаснущая над чудесным туманом, радостная бодрость зари, слезы и смех земли; будущему могло быть только одно-единственное имя – Кармен.
Гнор встал. Звонкая тяжесть секунд душила его. Время от времени полный огонь сознания ставил его на ноги во весь рост перед закрытой дверью не наступившего еще счастья; он припоминал, что находится здесь, в этом доме, где все знакомо и все в страшной близости с ним, а сам он чужой и будет чужой до тех пор, пока не выйдет из двери та, для которой он свой, родной, близкий, потерянный, жданный, любимый.
Так ли это? Острая волна мысли падала, уничтожаемая волнением, и Гнор мучился новым, ужасным, что отвергала его душа, как религиозный человек отвергает кощунство, навязчиво сверлящее мозг. Восемь лет легло между ними; своя, независимая от него, текла жизнь Кармен – и он уже видел ее, взявшую счастье с другим, вспоминающую о нем изредка в сонных грезах или, может быть, в минуты задумчивости, когда грустная неудовлетворенность жизнью перебивается мимолетным развлечением, смехом гостя, заботой дня, интересом минуты. Комната, в которой сидел Гнор, напоминала ему лучшие его дни; низкая, под цвет сумерек мебель, бледные стены, задумчивое вечернее окно, полуспущенная портьера с нырнувшим под нее светом соседней залы – все жило так же, как он, – болезненно неподвижной жизнью, замирая от ожидания. Гнор просил только одного – чуда, чуда любви, встречи, убивающей горе, огненного удара – того, о чем бессильно умолкает язык, так как нет в мире радости больше и невыразимее, чем взволнованное лицо женщины. Он ждал ее кротко, как дитя; жадно, как истомленный любовник; грозно и молча, как восстановляющий право. Секундой он переживал годы; мир, полный терпеливой любви, окружал его; больной от надежды, растерянный, улыбающийся, Гнор, стоя, ждал – и ожидание мертвило его.
Рука, откинувшая портьеру, сделала то, что было выше сил Гнора; он бросился вперед и остановился, отступил назад и стал нем; все последующее навеки поработило его память. Та же, та самая, что много лет назад играла ему первую половину старинной песенки, вошла в комнату. Ее лицо выделилось и удесятерилось Гнору; он взял ее за плечи, не помня себя, забыв, что сказал; звук собственного голоса казался ему диким и слабым, и с криком, с невыразимым отчаянием счастья, берущего глухо и слепо первую, еще тягостную от рыданий ласку, он склонился к ногам Кармен, обнимая их ревнивым кольцом вздрагивающих измученных рук. Сквозь шелк платья нежное тепло колен прильнуло к его щеке; он упивался им, крепче прижимал голову и, с мокрым от бешеных слез лицом, молчал, потерянный для всего.
Маленькие мягкие руки уперлись ему в голову, оттолкнули ее, схватили и обняли.
– Гнор, мой дорогой, мой мальчик, – услышал он после вечности блаженной тоски. – Ты ли это? Я ждала тебя, ждала долго-долго, и ты пришел.
– Молчи, – сказал Гнор, – дай умереть мне здесь, у твоих ног. Я не могу удержать слез, прости меня. Что было со мной? Сон? Нет, хуже. Я еще не хочу видеть твоего взгляда, Кармен; не подымай меня, мне хорошо так, я был твой всегда.
Тоненькая, высокая девушка нагнулась к целующему ее платье человеку. Мгновенно и чудесно изменилось ее лицо: прекрасное раньше, оно было теперь более чем прекрасным, – радостным, страстно живущим лицом женщины. Как дети, сели они на полу, не замечая этого, сжимая руки, глядя друг другу в лицо, и все, чем жили оба до встречи, стало для них пустым.
– Гнор, куда уходил ты, где твоя жизнь? Я не слышу, не чувствую ее… Ведь она моя, с первой до последней минуты… Что было с тобой?
Гнор поднял девушку высоко на руках, прижимая к себе, целуя в глаза и губы; тонкие сильные руки ее держали его голову не отрываясь, притягивая к темным глазам.
– Кармен, – сказал Гнор, – настало время доиграть арию. Я шел к тебе долгим любящим усилием; возьми меня, лиши жизни, сделай что хочешь – я дожил свое. Смотри на меня, Кармен, смотри и запомни. Я не тот, ты та же; но выправится моя душа – и в первое же раннее утро не будет нашей разлуки. Ее покроет любовь. Не спрашивай; потом, когда схлынет это безумие – безумие твоих колен, твоего тела, тебя, твоих глаз и слов, первых слов за восемь лет, – я расскажу тебе сказку – и ты поплачешь. Не надо плакать теперь. Пусть все живут так. Вчера ты играла мне, а сегодня я видел сон, что мы никогда больше не встретимся. Я поседел от этого сна – значит, люблю. Это ты, ты!..
Их слезы смешались еще раз – завидные, редкие слезы, – и тогда, медленно отстранив девушку, Гнор первый раз, улыбаясь, посмотрел в ее кинувшееся к нему, бледное от долгих призывов, тоскующее, родное лицо.
– Как мог я жить без тебя, – сказал Гнор, – теперь я не пойму этого.
– Я никогда не думала, что ты умер.
– Ты жила в моем сердце. Мы будем всегда вместе. Я не отойду от тебя на шаг. – Он поцеловал ее ресницы; они были мокрые, милые и соленые. – Не спрашивай ни о чем, я еще не владею собой. Я забыл все, что хотел сказать тебе, идя сюда. Вот еще немного слез, это последние. Я счастлив… но не надо об этом думать. Простим жизни, Кармен; она – нищая перед нами. Дай мне обнять тебя. Вот так. И молчи.
Около того времени, но, стало быть, немного позже описанной нами сцены по улице шел прохожий – гладко выбритый господин с живыми глазами; внимание его было привлечено звуками музыки. В глубине большого высокого дома неизвестный музыкант играл на рояле вторую половину арии, хорошо известной прохожему. Прохожий остановился, как останавливаются, придираясь к первому случаю, малозанятые люди, послушал немного и пошел далее, напевая вполголоса эту же песенку:
Зурбаганский стрелок
Я знаю, что такое отчаяние. Наследственность подготовила мне для него почву, люди разрыхлили и удобрили ее, а жизнь бросила смертельные семена, из коих годам к тридцати созрело черное душевное состояние, называемое отчаянием.
Мой дед, лишившись рассудка на восьмидесятом году жизни, поджег свои собственные дома и умер в пламени, спасая забытую в спальне трубку, единственную вещь, к которой он относился разумно. Мой отец сильно пил, последние его дни омрачились галлюцинациями и ужасными мозговыми болями. Мать, когда мне было семнадцать лет, ушла в монастырь; как говорили, ее религиозный экстаз сопровождался удивительными явлениями: ранами на руках и ногах. Я был единственным ребенком в семье; воспитание мое отличалось крайностями: меня или окружали самыми заботливыми попечениями, исполняя малейшие прихоти, или забывали о моем существовании настолько, что я должен был напоминать о себе во всех требующих постороннего внимания случаях. В общих, отрывочных сведениях трудно дать представление о жизни моей с матерью и отцом, скажу лишь, что страсть к чтению и играм, изображающим роковые события, как, например, смертельная опасность, болезнь, смерть, убийство, разрушение всякого рода и т. п. играм, требующим весьма небольшого числа одинаково настроенных соучастников, – рано и болезненно обострила мою впечатлительность, наметив характер замкнутый, сосредоточенный и недоверчивый. Мой отец был корабельный механик; я видел его не часто и не подолгу – он плавал зимой и летом. Кроме весьма хорошего заработка, отец имел небольшие, но существенные по тому времени деньги; мать же, которую я очень любил, редко выходила из спальни, где проводила вечера и дни за чтением Священного Писания, изнурительными молитвами и раздумьем. Отец иногда бессвязно и нежно говорил со мною, что бывало с ним в моменты сильного опьянения; как помню, он рассказывал о своих плаваниях, случаях корабельной жизни и, неизменно стуча в конце беседы по столу кулаком, прибавлял: «Валу, все они свиньи, запомни это».
Я не получил никакого стройного и существенного образования; оно, волею судеб, ограничилось начальной школой и пятью тысячами книг библиотеки моего товарища Андрея Фильса, сына инспектора речной полиции. Фильс был крупноголовый, спокойный и сильный мальчик, я же, как многие говорили мне, лицом и смехом напоминал девочку, хотя в силе не уступал Фильсу. Сдружились мы и познакомились после драки из-за узорных обрезков жести, в изобилии валявшихся вокруг слесарных портовых мастерских. В играх Фильс предпочитал тюремное заключение, плен или смерть от укуса змеи; последнее он изображал вдохновенно и не совсем плохо. Часто мы пропадали сутками в соседнем лесу, поклоняясь огню, шепча странные для детей, у пылающего костра, молитвы, сочиненные мною с Фильсом; одну из них благодаря ее лаконичности я запомнил до сего дня; вот она:
«Огонь, источник жизни! От холодной воды, пустого воздуха и твердой земли мы прибегаем к тебе с горячей просьбой сохранить нас от всяких болезней и бед».
Между тем местность, в которой я жил с матерью и отцом, была очень жизнерадостного, веселого вида и не располагала к настроению мрачности. Наш дом стоял у реки, в трех верстах от взморья и гавани; небольшой фруктовый сад зеленел вокруг окон, благоухая в периоде цветения душистыми запахами; просторная, окрыленная парусами река несла чистую лиловатую воду – россыпи аметистов; за садом начинались овраги, поросшие буками, ольхой, жасмином и кленом; старые, розовые от шиповника изгороди пестрели прихотливым рисунком вдоль каменистых дорог с золотой под ярким солнцем пылью, и в пыли этой ершисто топорщились воробьи, подскакивая к невидимой пище.
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец сказал: «Валу, завтра ты пойдешь со мною на „Святой Георгий“; тебе найдется какое-нибудь там дело». Я не особенно огорчился этим. Мне давно хотелось уехать из Зурбагана и прочно стать собственными ногами в густоте жизни; однако я не мог, положа руку на сердце, сказать, что профессия моряка мне приятна: в ней много зависимости и фатальности. Я был настолько горд, что не показал этого, – я думал, что, если отец тяготится мною, лучше всего уходить в первую дверь.
Мое прощание с матерью было тяжело тем, что она, сдерживаясь, заплакала в тот момент, когда отец закрывал дверь, и мне было поздно утешить ее. Она, прощаясь, сказала: «Валу, делай себе зло сколько угодно, но никогда, без причины, другим; сторонись людей». Мы прибыли на катере к пароходу, и отец представил меня грузному человеку; этот человек, полузакрыв глаза, снисходительно смотрел на меня. «Примите его кочегаром, господин Пракс, он будет работать», – сказал отец. Пракс, бывший старшим механиком, сказал: «Хорошо», – и этим все кончилось… Отец, натянуто улыбаясь, отошел со мной к борту и стал рассказывать, как он сам, начав простым угольщиком, возвысился до механика, и советовал мне сделать то же. «Скучно жить без дела, Валу», – прибавил он, и это прозвучало у него искренне. Затем, пообещав прислать мне все необходимое – белье, одежду и деньги, – он сдержанно поцеловал меня в голову и уехал.
Так началась самостоятельная моя жизнь. «Святой Георгий» после шестимесячного грузового плавания попал в Китай, где, скопив небольшую сумму денег, я рассчитался. Меланхолическое настроение мое за это время несколько ослабело, я окреп внутренне и физически, стал разговорчивее и живее. Я рассчитался потому, что хотел попробовать счастья на материке, где, как я хорошо знал и слышал, для умного человека гораздо больше простора, чем на ограниченном пространстве затерянного в океане машинного отделения.
С врожденным недоверием к людям, с полумечтательным, полупрактическим складом ума, с небольшим, но хорошо всосанным житейским опытом и большим любопытством к судьбе приступил я к работе в богатой чайной фирме, начав с развески. Совершенствуясь и постигая эту отрасль промышленности, я скоро понял секрет всяческого успеха: необходимо сосредоточить на том, что делаешь, наибольшее внимание наибольшего количества заинтересованных прямо и косвенно людей. Благодаря этому, весьма элементарному, правилу я через пять лет стал младшим доверенным своего хозяина и, как это часто бывает, женился на его дочери, девушке с тяжелым характером, своевольной и вспыльчивой. Нас сблизило то, что оба мы были людьми замкнутыми и высокомерными; более нежное чувство оказалось крайне непрочно. Мы развелись и после смерти отца жены поделили имущество.
Здоровый, свободный и богатый, я прожил несколько следующих лет так, что для меня не осталось ничего неизведанного в могуществе денег. Я часто размышлял над своей судьбой. С внешней стороны, по удачливости и быстро наступившему благополучию, судьба эта покрыла меня блеском, а из многочисленных столкновений с людьми я вынес прочное убеждение в том, что у меня нет с ними ничего общего. Я взвесил их прихоти, желания, стремления, страсти – и не нашел у себя ничего похожего на вечные эти пружины, и передо мной самым недвусмысленным образом встал дикий на первый взгляд короткий вопрос: «Как и чем жить?» – потому что я не знал «как» и не видел «чем».
Да, постепенно я пришел к тому состоянию, когда знание людей, жизни и отсутствие цели, в связи с сухим, ушедшим на бесплодную работу прошлым, – приводят к утомлению и отчаянию. Напрасно искал я живой связи с жизнью – ее не было. Снисходительно я вспоминал свои удовольствия, наслаждения и увлечения; идеи, вовлекающие целые поколения в ожесточенную борьбу с миром, не имели для меня никакой цены: я знал, что реальное осуществление идеи есть ее гибельное противоречие, ее болезнь и карикатура; в отвлечении же она имела не более смысла, чем вечное, никогда не выполняемое, томительное и лукавое обещание. Звездное небо, смерть и роковое бессилие человека твердили мне о смертном отчаянии. С сомнением я обратился к науке, но и наука была – отчаяние. Я искал ответа в книгах людей, точно установивших причину, следствие, развитие и сущность явлений; они знали не больше, чем я, и в мысли их таилось отчаяние. Я слушал музыку, вдохновенные мелодии людей потрясенных и гениальных; слушал так, как слушают взволнованный голос признаний; твердил строфы поэтов, смотрел на гибкие, мраморные тела чудесных по выразительности и линиям изваяний, но в звуках, словах, красках и линиях видел только отчаяние; я открывал его везде, всюду, я был в те дни высохшей, мертвой рекой с ненужными берегами.
В 189… году я посетил Зурбаган, где не был пятнадцать лет. Я хотел окончить жизнь там, откуда начал ее, и в этом возвращении к первоисточнику прошлого, после многолетних попыток создать радость жизни, была острая печаль неверующего, которому перед смертью подносят к губам памятный в детстве крест.
Остановиться у родителей я не мог – они давно умерли, а в доме поселилась старуха, родственница отца, которую я менее всего хотел беспокоить. Я взял лучший номер в лучшей гостинице Зурбагана. На следующий день я обошел город; он вырос, изменил несколько вид и характер улиц в сторону банального штампа цивилизации – электричества, ярких плакатов, больших домов, увеселительных мест и испорченного фабричными трубами воздуха, но в целом не утратил оригинальности. Множество тенистых садов, кольцеобразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или на брошенные через улицу мосты, – делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы крыш, у каменной набережной теснилась плавучая, над раскаленными палубами, заросль мачт; здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы.
Я посетил Зурбаган в самый разгар войны. Причины ее, как и все остальное, мало интересовали меня. Очаг сражений, весьма далекий еще от гостиницы «Веселого Странника», где я поселился, напоминал о себе лишь телеграммами газет и спорами в соседней кофейне, где каждый посетитель знал точно, что нужно делать каждому генералу, и яростно следил за действиями, восклицая: «Я это предвидел!» или «Совершенно правильная диверсия!». Между тем ходили слухи, что Брен отброшен к лесам Хассавера, и Зурбагану, если вторая армия не овладеет вовремя покинутыми позициями, грозит опасность вторжения.
Я вскользь думал обо всем этом, сидя у раскрытого окна с газетой в руках, текст которой, надо сознаться, более интересовал меня оригинальным размещением объявлений, чем датами атак и приступов. Эти объявления были тщательно подогнаны под упоминание в тексте о каком-либо предмете; например, сообщение об автомобильной катастрофе после слов «лопнули шины» прерывалось рекламным рисунком и приглашением купить шины в магазине X.
В дверь постучали. Я встал и сказал: «Войдите», после чего, ожидая появления слуги, увидел высокого, с белым цветком в петлице, крупного, широкоплечего человека. Он, слегка нагнув голову, всматривался в меня с очень деловым, спокойным выражением худого лица. Я тоже пристально смотрел на него, пока оба не улыбнулись.
– Фильс! Валуэр! – разом произнесли мы, и этим наше удивление кончилось. Время сильно изменило товарища детских игр, виски его поседели, а глаза, с навсегда застывшим выражением скупого смеха, обнажали над зрачком узкую полоску белка. Мы помолчали, как бы привыкая путем взаимного осмотра к тому, что от последней встречи до этой прошло много лет.
– Я прочитал твою фамилию на доске гостиницы, – сказал Фильс.
Мы сели.
– Как дышишь, Валу?
– Как попало, – сказал я. – А ты?
– Так же. – Он понюхал цветок и сморщился. – Отвратительный запах, сладкий, как муха в патоке. Слушай, Валу, давай спокойно, по очереди рассказывать о себе. Это, не в пример экспансивным возгласам, сократит нам время. Начинай ты.
Я стал рассказывать, а Фильс тихо покачивал головой и, когда я остановился, заметил:
– Я ждал этого; помнишь, Валу, еще мальчиками мы делились предчувствиями, уверенные, что наша судьба лежит в сторону зигзага, а не прямой линии. Вот что произошло со мной. Я был счастлив так, как могут быть счастливы только ангелы на небесах, и потерял все. В моем несчастии была какая-то свирепая стремительность. После смерти жены один за другим умирали дети, и я с огромной высоты упал вниз, искалеченный навсегда.
Он посмотрел на цветок, вынул его из петлицы и бросил в окно.
– Подарок девицы, – объяснил он. – Я вовсе ее не просил об этом, но старые привычки способны еще заставить меня из вежливости связать кочергу узлом.
Мы помолчали. Я думал о судьбе Фильса и наших пламенных молитвах огню об избавлении нас от всяких бед и несчастий, ясно представляя себе двух босоногих, серьезных мальчиков в тихом лесу, пытающихся, предчувствуя будущее, уйти от холода жизни к жарким вихрям костра. Но огонь потух, зажигать его снова не было ни сил, ни желания.
– Что же у тебя впереди? – спросил Фильс.
– Ничего, – сказал я, – и это без всякой жалобы.
Фильс кивнул головой, зевая так азартно, что прослезился. Расспрашивать далее друг друга было неинтересно и даже навязчиво; все, что еще могли мы сказать о себе, было бы повторением хорошо усвоенного мотива.
– Хочешь развлечься? – сказал Фильс. – Если хочешь, я покажу тебе забавные вещи.
– Где?
– Здесь, и не далее десяти минут ходьбы.
– Шуты? Клоуны? Акробаты?
– Совсем нет.
– Женщины?
– Если ты вспомнил про цветок, которым теперь уже наверное украсил себя первый поэтически настроенный трубочист, то это более выдает тебя, чем меня.
– Я сам женщина, – сказал я, – хотя бы потому, что нуждаюсь в них не более женщины. Какого сорта твои развлечения? Говори начистоту, Фильс!
– Так не годится, – кротко улыбнулся Фильс, и я в этой улыбке понял его характер более, чем в словах; он улыбнулся с выражением совершенной покорности. Я никогда не видел более выразительной и жуткой улыбки. – Не годится. Всякое приличное развлечение требует тайны и неожиданности. Что скажешь ты, если приготовления к зрелищу будут происходить на твоих глазах? Итак, сделайся неосведомленным зрителем. Я могу лишь, для усиления твоего любопытства, а косвенно – для некоторых наводящих размышлений, поведать тебе следующее: странные вещи происходят в стране. Исчезло материнское отношение к жизни; развились скрытность, подозрительность, замкнутость, холодный сарказм, одинокость во взглядах, симпатиях и мировоззрении, и в то же время усилилась, как следствие одиночества, – тоска. Герой времени – человек одинокий, бессильный и гордый этим, – совершенно так, как много лет назад гордились традициями, силой, кастовыми воззрениями и стройным порядком жизни. Все это напоминает внезапно наступившую, дурную, дождливую погоду, когда каждый открывает свой зонтик. Происходят все более и более утонченные, сложные и зверские преступления, достойные преисподней. Изобретательность самоубийц или, наоборот, неразборчивость их в средствах лишения себя жизни – два полюса одного настроения – указывают на решительность и обдуманность; число самоубийств огромно. Простонародье освирепело; насилия, ножевые драки, убийства, часто бессмысленные и дикие, как сон тигра, дают хроникерам недурной заработок. Усилилось суеверие: появились колдуны, знахари, ясновидящие и гипнотизеры; любовь, проанализированная теоретически, стала делом и спортом. Но есть люди без зонтика…
Пока он говорил, смерклось, на улице появились неподвижный свет фонарей, беглые тени, силуэты в окнах. Я слушал Фильса без удивления и тревоги, подобный зеркалу, равно холодному перед лицом гримасы и горя.
– Это понятно, – сказал я, – время от времени человека неудержимо тянет назад; он конфузится, но недолго; богатая коллекция столетий сидит в нем; так, собственник музея подчас пьет, не пытаясь даже объяснить себе – почему, – пьет кофе из черепа египетского сапожника.
– Зачем объяснения? – сказал Фильс. – Нам в нашей жизни они не нужны. Не так ли?
– Я согласен с тобой.
– Прими же мое приглашение. Я покажу тебе взамен старых зонтиков новый. Соблазнись, так как это заманчиво.
– Хорошо, – сказал я, – пойдем, и если еще есть на свете для меня зонтик, я, пожалуй, возьму его.
Покинув освещенный подъезд гостиницы, я и Фильс, взявшись под руку, спустились на улицу Гладиатора и шли некоторое время вдоль канала, соединяющего рукава реки. Здесь было мало прохожих, и я, всегда чувствовавший неприязнь к толпе, находился в очень спокойном настроении. Вполголоса, так как оба не любили разговаривать громко, делились мы многими впечатлениями истекших пятнадцати лет. После жаркого дня холодный, сухой воздух ночи освежал голову, и все воспоминания были отчетливы. Через несколько минут Фильс заставил меня свернуть меж двух каменных заборов в небольшой переулок; у дальнего конца его мы остановились; передо мной была высокая, над каменными ступенями, дверь. Фильс поднялся и дернул ручку звонка. Очень скоро я услыхал поворот ключа, и из неяркого света лестницы к нам в темноту нагнулась, с темным от уличного мрака лицом, большая голова на тонкой, костлявой шее. Вполне женским голосом эта голова спросила, дымя зажатою в зубах трубкой:
– Почему вы опоздали, милейший, и кто это с вами?
– Он может, – сказал Фильс. – Ну-ка, пропустите меня.
Мы вошли и стали подыматься по лестнице, а за нами шел хозяин большой головы, одетый в пестрый халат. Невольно я оглянулся и увидел назойливо, с непередаваемой рассеянностью устремленные на меня блестящие голубые глаза. Он смотрел так, как смотрят на карандаши или огрызок яблока.
До сих пор все текло обычным порядком, и я не видел ничего достопримечательного. По обыкновенной лестнице прошел я за Андреем Фильсом в маленький коридор; в самом конце его освещенными щелями рисовалось римское I закрытой двери, за нею слышались разговор, смех и свист. От Фильса мистификации я не ожидал и потому приготовился серьезно отнестись ко всему, что мне придется увидеть. Человек с большой головой, замыкая шествие, что-то сказал; думая, что это относится ко мне, я спросил:
– Что именно?
– А? – вяло отозвался он.
– Я говорю, что не расслышал, что вы сказали.
– А! – Он зашипел трубкой. – Я сказал «тру-ту-ту» и «брилли-брилли», – и, так как я, опешив, молчал, добавил: – Моцион языка.
Мне некогда было принять это в шутку или всерьез, потому что Фильс уже тянул меня за рукав, распахнув дверь. Я вошел и увидел следующее.
В большой, с плотно занавешенными окнами комнате стоял посредине ее маленький стол. Пол был покрыт старым ковром, у стен, на плетеных стульях, сидели четыре человека; еще двое ходили из угла в угол с руками, заложенными за спину; один из сидевших, держа на коленях цитру, играл водевильную арию; сосед его, вытянув ноги и заложив руки в карманы, подсвистывал весьма искусным, мелодическим свистом. Третий играл сам с собой в орлянку, подбрасывая и ловя рукой серебряную монету. Двое, расхаживающие из угла в угол, – громко, тоном спора говорили друг с другом. Шестой из этой компании, склонившись на подоконник, спал или старался уснуть. Когда мы вошли, Фильс сказал:
– Друзья, вот этот человек, который пришел со мной, – наш гость. Его зовут Валуэр. – Затем, обращаясь ко мне, продолжал: – Валу, представляю тебе ради забавы и поучения очень скромных и хороших людей, вполне достойных, благовоспитанных и приличных.
Нельзя сказать, чтобы я что-нибудь понял из всего этого. Раскланиваясь и пожимая руки, я с недоумением посмотрел на Фильса. Он подмигнул мне, как бы говоря: «Ничего, все будет ясно». Затем, не зная, что делать дальше, я отошел в угол, а Фильс сел за стол, послал мне воздушный поцелуй и стал серьезен.
Прежде чем рассказывать дальше, я должен изобразить наружность каждого члена собрания. Их имена были: Фильс, Эсмен, Суарт, Гельвий, Бартон, Мюргит, Стабер и Карминер. Фильса вы знаете. Эсмен, с толстой нижней губой, небольшим, но округлым брюшком и кривыми ногами, напоминал гордого лавочника. Суарт, человек приблизительно сорока лет, был слеп и мужественно красив; темные очки на его безукоризненно правильном лице производили маскарадное впечатление. Высокий, сутуловатый Гельвий имел тонкие, бескровные губы, длинные, медного цвета волосы, серые глаза и высоко поставленные, монгольские брови. Бартон, с короткой, бычьей шеей, сильным дыханием, усталым, багровым лицом, пухлыми от пьянства глазами, грузный, неряшливо одетый, был совершенной противоположностью женственному, пепельному блондину Мюргиту, похожему на переодетую девушку. Певучая улыбка Мюргита дышала утонченным, ласковым вниманием. Стабер, вполне актер по наружности, избегал в костюме обычных для этого сословия ярких галстуков и очень модных покроев. Наконец, Карминер, тот самый, что открыл дверь на улицу, был низкого роста; большой, умный и чистый лоб его давил маленькие голубые глаза и всю остальную миниатюрную часть лица, оканчивающуюся младенческим подбородком.
Но самым замечательным и общим для наружности всех этих людей были глаза. Их выражение не менялось: открытый, прямой и ровный взгляд их поражал неестественной живостью, затаенной иронией и (вероятно, бессознательным) холодным высокомерием. Я долго ломал голову, пытаясь вспомнить, где и когда я видел людей с такими глазами; наконец вспомнил: то были каторжники на пыльной дороге между Бардом и Зурбаганом. Вырванные из жизни, в цепях, глухо звеневших при каждом шаге, шли они, вне мира, к бессмысленному труду.
Фильс тоном учителя произнес:
– Валуэр, в коротких словах я объясню тебе, кто с тобой в этой комнате. Я и все остальные, каждый по личным, одному ему известным причинам, образовали «Союз для никого и ничего», лишенный в отличие от других союзов и обществ так называемой «разумной цели». Первоначально нас было семнадцать человек, но те, кого не хватает здесь по числу, удалились вследствие неудачных опытов и более не придут. Мы производим опыты. Цель этих опытов – испытать, сколько дней может прожить человек, пускаясь в различные рискованные предприятия. Я думаю, что дальше идти некуда. Мы проповедуем безграничное издевательство над собой, смертью и жизнью. Банальный самоубийца перед нами то же, что маляр перед Лувром. Отвага, решительность, самообладание, храбрость – все это для нас пустые и лишние понятия, об этом говорить так же странно, как о шестом пальце безрукого; ничего этого у нас нет, есть только спокойствие; мы работаем аккуратно и хладнокровно.
Единодушные аплодисменты залпом грянули в комнате. Фильс корректно раскланялся, а я хорошо понял сказанное им, но для выражения этого понимания нет сильных и стройных слов; я словно заглянул в белую, дымчатую пустоту без дна и эха.
– Прилично взвешено, – сказал толстый Бартон.
– Слог и стиль, – подхватил Эсмен.
– Венчать его крапивой и розгами, – отозвался Гельвий.
– Перехожу к моей выдумке, – сказал Фильс. – На заводе Северного Акционерного Общества есть паровой молот весом в шестьсот пудов, делающий в секунду с четвертью два удара. Я предлагаю, установив эту скорость движения, прыгать через наковальню с завязанными глазами.
– Пыль и брызги! – расхохотался Стабер. – Недурна выдумка, Фильс, но кто же нас пустит к молоту? Нам просто дадут по шее.
– Деньги пустят, – сказал Фильс. – Зачем нам деньги?
– Мы это обсудим, – решил Карминер. – Давайте отчет.
– Да, отчет, давайте отчет! – заговорили вокруг стола, усаживаясь на стульях.
– Три месяца хожу, а каждый раз интересно, – сказал, облизываясь, Эсмен.
Фильс вынул из ящика стола лист бумаги. С карандашом за ухом, деловито поджатыми губами и бесстрастным взглядом он напоминал аукционного маклера.
– Говорите, – сказал Фильс. – Ну, вы первый, что ли, Карминер.
– Я, – заговорил ворчащим голосом Карминер, – играл с бешеной собакой около бойни.
– Что вышло из этого?
– Укусила она меня.
– Прививку будете делать?
– Нет.
– Хорошо. Но лучше вам недели через три застрелиться.
– Я утоплюсь.
– Дело ваше. Свидетели кто?
– Два мясника, – Леер и Саваро, Приморская улица, № 16.
Болезненный, неудержимый смех готов был вырваться из моей груди при этом лаконическом диалоге, но я быстро подавил его. Лица членов собрания остались невозмутимо серьезны, даже торжественны.
– Мюргит, – сказал Фильс, – вы как?
– Почти ничего, – простодушно ответил юноша, краснея. – Я только обошел перила речной башни.
– Свидетели?
– Стабер и полицейский Гунк.
– Эсмен, вы?
– Я, – сказал Эсмен, – увлекся мелким спортом. Я останавливал спиной трамвай и автомобили. Ни один не переехал меня.
– Это и видно, – заметил Фильс, улыбаясь мне. – Свидетели?
– Трое мальчишек-газетчиков №№ 87, 104 и 26.
– Стабер!
– Была дуэль. Я стрелял вверх, а враг мимо в двадцати шагах.
– Свидетели?
– Капитан Хонс, полковник Риго и врач Зичи.
– Бартон!
– Вчера, – загудел Бартон, – я выплыл через пороги у Двухколенного поворота при низкой воде и прибыл к Новому мосту уже без весел. Свидетели: хроника газеты «Курьер».
– Почтенно, – сказал Фильс. – Ну, а вы, господин Суарт?
Слепой поднял голову, направляя стекла очков мимо лица Фильса.
– Я, – тихо заговорил он, – выпил из трех стаканов один: два были с чистым вином, а третий с не совсем чистым.
– Свидетели?
– Мой брат.
– Теперь Гельвий.
– Я ничего не делал, – сказал Гельвий, – я спал. И видел во сне, что ем хлеб, вымазанный змеиным ядом.
– Свидетелей не было, – кратко заметил Фильс. – А я, господа, повторил несколько раз вот что, – Фильс показал револьвер. – Он на шесть гнезд. Я вкладывал один патрон, поворачивал барабан несколько раз и спускал курок, держа дуло у виска. Именно это я хочу сделать сейчас.
– Если не будет выстрела – только чикнет, – заметил Эсмен.
– Да, чикнет, – спокойно возразил Фильс, – но ведь это интересно мне.
– Разумеется, – подтвердил Гельвий. – Ну, покажите!
Как ни был я равнодушен к своей и чужой жизни, все же последующая сцена произвела на меня весьма неприятное впечатление. Фильс, под внимательными взглядами членов оригинального союза, сунул в блестящий барабан револьвера один патрон, перевернул барабан быстрым движением руки и взял дуло в рот. Не желая быть смешным, я воздержался от всякого вмешательства, хотя несколько волновался. Глаза всех были устремлены на движения пальцев правой руки Фильса; он сдвинул брови, как бы сосредоточиваясь на чем-то важном и известном только ему, затем кивнул головой и нажал спуск.
Правда, был лишь один шанс против пяти, что безумец размозжит себе череп, но я почему-то приготовился именно к этому, и напряжение мое, встретившее вместо ожидаемого – по чувству нервного сопротивления – выстрела металлический спуск курка, осталось неразрешенным. Неожиданно меня потянуло сделать то же, что сделал Фильс, отчасти из солидарности; но в большей степени толкнул меня к этому острый зуд риска, родственный неудержимому стремлению некоторых людей переходить трамвайные рельсы почти вплотную к пробегающему вагону. Пока члены союза критиковали выходку Фильса, находя ее, в общем, мало эффектной, хотя серьезной, я, выбросив из своего револьвера пять патронов и перекрутив барабан, сказал:
– Фильс, мы всегда ведь играли вместе, посмотри, что будет со мной.
– А?! – сказал Фильс печально. – Тебя тоже знобит? Хорошо; прощай или до свидания.
Я закрыл глаза и, невольно холодея, нажал спуск. Курок щелкнул возле уха отвратительным звуком; я опустил руку, поморщившись. В забаве был скверный цинизм.
Никто не повторил за мной этого опыта, и разговор после некоторого молчания стал общим. Через полчаса Карминер прочел нам коротенькую диссертацию о «Законах Мертвого Духа», а Бартон затеял с Гельвием спор о гашише; Гельвий сказал:
– Гашиш плюс я – другой человек. Я желаю быть я.
Бартон возразил:
– Я же не хочу этого, я надоел себе.
Устав, я условился с Фильсом относительно следующего нашего свидания.
– Что же, – сказал на пороге Фильс, – как зонтик?
– Зонтик, – заметил я, – странноват, да. Но лучше смолчим. Я ухожу без сожаления; вкусы различны.
– Так, – сказал он, прощаясь, – к этому не привыкнешь сразу.
И я вышел на улицу.
Вернувшись к себе, я понял, что не усну. Перед моими глазами, сменяясь одно другим, всплывали из темноты, беззвучно говоря что-то, лица членов союза; в выражении глаз их, смотревших на меня, не было ни участия, ни доброжелательства, ни усмешки, ни вражды, ни печали; полное равнодушие скуки отражали эти глаза и совершенное безучастие. Странные на первый взгляд поступки имели для них, в силу болезненного отношения к жизни, значение обыкновенного жеста. Мюргит, прогуливающийся по парапету башни; Бартон, ломающий весла в смертоносных порогах; Фильс с револьвером у виска – все это, по-видимому бессознательно, поддерживало угасающее любопытство к жизни; охладев к ней, они могли принимать ее, как врага, только в постоянных угрозах. Люди эти притягивали и отталкивали меня, что можно сравнить с толпой бродячих цыган на бойкой городской улице: смуглые чуждые лица, непонятный язык, вызывающие движения, серьги в ушах, черные волосы и живописные лохмотья останавливают внимание самых прозаических, традиционно семейных людей, и внимание это не лишено симпатии; но кто пойдет с ними в табор? Индивидуальность противится выражению самых заветных ее порывов в форме, для нее несвойственной, и та же цыганщина, задевшая сердце скромного человека, найдет выход в песне или разгуле.
Глубоко задумавшись, просидел я, не зажигая огня, до рассвета, когда, посмотрев в окно, увидел перед воротами гостиницы серую верховую лошадь под высоким седлом и слугу, державшего ее в поводу. Через минуту из ворот вышел человек.
Я не могу отказать себе в удовольствии описать этого человека подробно. Человечество иногда выдвигает фигуры и лица, достойные глубокого зрительного анализа, без чего заинтересованный наблюдатель не всегда уяснит главное в поразившей его внешности; подобная внешность, лишенная оригинальности дурного тона, очень красноречиво и убедительно заставляет думать, что содержательность зрительных впечатлений не уступает книге; искусство смотреть для очень многих еще тот самый всемирный, но не изученный язык, о котором ревностно твердят нам эсперантисты.
Незнакомцу на взгляд было сорок пять – пятьдесят лет. Плечи его, хотя в остальном он не был ширококостным, угловатые и широкие, позволяли рукам висеть свободно, не прикасаясь к туловищу. Под черными волосами, составляющими как бы продолжение черной шапки, прятались уши; глаза сходились у переносья, линии костлявого носа и лба составляли одну прямую. Глаза резко освещали лицо… От висков до третьей пуговицы жилета струилась бараньим мехом черная борода. В лице вошедшего именно – все струилось; другим выражением я не точно определил бы то общее, что есть в физиономии каждого человека; упомянув уже об отвесной линии лба и носа, я перейду к остальным чертам: опущенные углы бровей, глаз и рта, с твердой линией губ; падающие в бороду усы; волосы, выбивающиеся из-под шапки и дающие, благодаря густоте, подлинную иллюзию тяжести, – все струилось отвесно, подобно скованному льдом водопаду. Незнакомец был одет в черную суконную блузу, серый, поверх блузы, жилет с синими стеклянными пуговицами, кожаные брюки и сапоги на толстых подошвах; единственной роскошью были серебряные шпоры с глухо звеневшими колесцами.
Рассматривая этого человека, я невольно позавидовал ему. Мне предстоял день убийственного безделья; он же, вероятно, собирался делать хорошо известное, нужное для него дело и был поглощен этим. Смутное решение зародилось во мне, скорее – представление о движении, в котором, как всегда, я находил некоторое рассеяние. Я думал, что мои нервы требуют настоящего утомления. Продолжая обдумывать это, я позвонил и спросил заспанного слугу о неизвестном всаднике.
– Это охотник, – сказал слуга, презрительно посмотрев в окно, – дикий и необразованный человек; он когда останавливается у нас, то спит в конюшне вместе со своей лошадью.
– Очень хорошо, – сказал я. – Мне хочется поговорить с ним.
Слуга ушел. Прошло немного времени, и я, услыхав шаги, открыл дверь. Охотник, сняв шапку, остановился на пороге, осматривая меня и мое помещение. Он не сказал ни слова, но, кончив беглый осмотр, встретился со мной взглядом и протянул руку.
– Астарот, – сказал он, и в его лице появилось выражение нетерпеливого ожидания.
– Что вы скажете насчет хорошей охоты?
– Доброе дело.
– Устройте мне это.
– Где?
– Где! – но вы должны лучше меня знать где.
– Я хочу сказать – близко или далеко от города? Чем дальше, тем лучше; если же вы любите стрелять уток, то это можно сделать в первом болоте.
– Я рассчитываю провести с вами три или четыре ночи, за что недурно вам заплачу.
– Что ж! – сказал Астарот после минутного размышления. – Выбирайте сами. По эту сторону гор я разыскал водопой; там найдутся козули, кабаны и козы. По ту сторону много медведей. Еще дальше, вокруг Чистых Озер, я находил бобров и лосей. Если вы легко устаете, лучше не забираться далеко, – дороги мало удобны.
– Возьмем хотя бы медведей.
– Как хотите.
– Сегодня?
– Да.
– Где? Потому что у меня еще нет ни лошади, ни ружья.
Астарот удивленно посмотрел на меня: ему, привыкшему иметь ружье и лошадь всегда, показался, наверное, странным человек, не позаботившийся своевременно обо всем нужном в пустыне.
– Тогда, – холодно сказал он, – я буду ждать вас у реки, в харчевне, на углу Набережной и Полевой улицы, но не долее двух часов дня.
На этом мы и покончили. Астарот уехал, а я, оставшись один, дал комиссионеру несколько поручений, и в полдень у меня было все нужное для похода. Испытав лошадь, я нашел ее выносливой, послушной узде и быстрой; это был четырехлетний гнедой жеребец с белой гривой и нервными, прекрасными глазами; когда его поставили в стойло, он лизнул меня языком по уху, а я сунул руку в мягкую гриву. Поговорив таким образом, мы расстались и выехали в четверть второго. Я не взял с собой ничего, кроме зарядов, штуцера, мешка с провизией и теплого одеяла. Проехав несколько улиц, я мысленно оглянулся, сдержав лошадь. «Не повернуть ли назад?» – твердила усталая мысль… Еще не выполнив случайной затеи, я готов был поддаться скуке и удовлетвориться лишь мыслью, что при желании мне ничего не стоит продолжать путь; остальное дополнялось воображением. В состоянии этом была своеобразная прелесть сознанного и мучительного равнодушия; однако, уступая логике положения, власти вещей и нетерпеливому шагу лошади, я, махнув рукой, подобрал поводья и выехал к реке рысью, разыскивая Астарота.
Когда я зашел в указанную Астаротом харчевню, он благосклонно посмотрел на меня, сидя за огромным столом с кружкой вина. Против него, обернувшись при моем появлении, помещался невзрачный человек с застенчивым и скромным лицом, одетый почти так же, как Астарот, с той разницей, что вместо шапки с головы его свешивались концы туго обвязанного платка. Я подошел и сел к ним за стол.
– Ну, вот, – сказал товарищу Астарот, – видишь, он здесь! – Потом, указывая на застенчивого человека, объяснил мне: – Он, сударь, поедет с нами; его имя – Биг, это – один из отважнейших людей, но он скромен и молчалив.
– Уж ты… скажешь, – краснея, пробормотал Биг унылым голосом. – Вот, честное слово, не люблю я…
Шутливое выражение лица Астарота исчезло, и он, торопливо прикончив кружку, поднялся.
– Биг, нам до заката не успеть в горы, – сказал он. – Выйдем – и марш.
Через кухню мы прошли на маленький двор, где, у коновязей, фыркали и взмахивали хвостами нетерпеливые лошади. Маленькая кобыла Бига исподлобья, как человек, смотрела на своего хозяина. Поговорив о моей лошади и сдержанно похвалив ее, оба охотника простым движением рук очутились в седле, что, несколько медленнее, сделал и я; затем, выехав на солнечную улицу, мы, миновав мост, погрузились в береговые, с высокой травой, луга, направляясь к синему венцу гор, похожему издали на низкие облака.
Держась рядом с Астаротом, я наблюдал спутников. Они были погружены в свои мысли и неохотно отзывались на мои случайные замечания.
Черные глаза Астарота, прячась от солнца, съежились и ушли внутрь, а Биг, рассеянно смотря по сторонам, иногда улыбался и подмигивал мне, как бы желая сказать: «Так-то. Едем». Проехав луг, мы направились далее берегом небольшой речки, причем несколько раз пересекали ее вброд; вода, шумя у ног лошадей, обдавала нас брызгами. Трава заметно редела, переходя в унылую, душную степную равнину, поросшую высохшим кустарником; все чаще попадались серые каменистые бугры, овраги и трещины; от них пахло сыростью и землей; одинокие деревья имели сторожевой вид; холмы, растягиваясь подножиями в сотни сажен, вынуждали нас при подъеме сдерживать лошадей. Из-под копыт, вспыхивая дымком, летела сухая, бурая пыль, а горы, проясняясь, становились пестрыми от хорошо различаемых теперь неровных пятен лесов, но казались почти так же далекими, как от Зурбагана.
Следя за собой, я видел, что отдыхаю в седле душою и телом, как отдыхают от мучительной зубной боли, бегая по комнате. Вещей, о которых я мог бы последовательно и с интересом думать, у меня не было, но голую пустоту воображения и чувств успешно заполняли разные дорожные пустяки. Стремена Астарота, стертые от езды, заставляли меня машинально соображать, сколько времени они ему служат; смотря на голову лошади, я думал, что мысли животных должны напоминать вечно ускользающий из клещей памяти сон. Камни напоминали мне о древности мира, а яркое, как море под солнцем, небо я сравнивал с глухонемым близнецом земли, навеки осужденным без операции смотреть в лицо не понимающему его брату.
Так ехали мы час, и два, и три, и наконец унылая местность, достойная в сумрачный день служить вестибюлем ада, кончилась. Мы двигались в заросли, полной валежника, ям, пенистых горных ключей и стволов, вырванных шквалом. Эти препятствия, живописные, но и надоедливые, заставляли коней идти шагом, и я не без удовольствия убедился в выносливости своей лошади.
– Лет восемь назад, – сказал мне Астарот, – нам не миновать бы потратить сутки на переход через горы. Самое удобное для этого место – шесть тысяч футов, где начинаются ледники. Но мы сделаем переход удачнее. Давно уже я и Биг прошли хребет этот, можно сказать, навылет; мы теперь приближаемся к трещине, выходящей по ту сторону настоящим коридором; она попалась нам, конечно, случайно, но это не помешало мне окрестить ее именем Бига, потому что он первый сунулся в дыру. Я, понятно, ехал за ним, и мы, к нашему удивлению, благополучно перебрались, миновав утомительные высоты.
– Ты же сказал, что не мешало бы исследовать щель, – возразил Биг.
– Прекрасно, не будем спорить.
Он нагнулся, присматриваясь к скалистым хрящам, обросшим кустарниками, и у одного из них повернул вправо. Я увидел нечто вроде узкой долины, стиснутой известковыми выступами; здесь росла густая и сырая трава, но далее картина неожиданно изменялась: лес расступился, трава исчезла, и в темной волне холмов обнаружилось резкое углубление с зубцом голубого неба вверху, – это и был проход Бига, как назвал его Астарот. Здесь все остановились, и Биг стал советоваться с товарищем о месте привала. Поговорив, согласились они, что москиты не дадут спать в кустарнике и измучат лошадей; поэтому решено было пустить животных к ручью, а самим устроить привал в ущелье, а затем увести поевших лошадей к себе.
Астарот – впереди, за ним – Биг и я – сзади – углубились в расселину, оставив лошадей без привязи пастись у ручья; я был спокоен за свою лошадь, зная, что она не уйдет от других, прибегающих, как настоящие лошади бродяг, на первый зов или свист. Дно трещины, усеянное известковыми глыбами, слоями осыпавшегося сверху дерна, корнями и мокрое от выступившей кой-где подпочвенной воды, было весьма неровно. В крутых, тесных изгибах стен, высоко над головой поросших почти скрывающим свет и небо кустарником, образовался воздушный ток, напоминающий мягкий ветер лесов; сырость, застоявшаяся тишина и вечные сумерки придавали этому месту характер мрачный и дикий, вполне отвечающий моему настроению. Но, – что служило для меня развлечением, – я начинал чувствовать голод; когда, пройдя сажен сто, спутники мои остановились на сухом месте – груде земли – и стали, не теряя времени, собирать дерево для костра, я принялся им помогать со всем возможным усердием. Огонь, робко блеснув, разгорелся, наполняя ущелье низко оседающим дымом и красной игрой теней; в этом фантастическом освещении наши лица казались вымазанными алой краской и углем.
Наш ужин был скромен, хотя съеден по-волчьи. Дневной свет, вяло, но внятно позволявший различать внутренность горной расселины, угас; несколько звезд смотрело сверху на густой мрак, окружавший костер.
Астарот, как мне показалось, все время прислушивался, но, заметив, что я вопросительно смотрю на него, принимал свой обыкновенный вид, начиная говорить громче, чем нужно. Он рассказывал о холоде и вьюгах на высоте гор, рыхлых оползнях ледников, прошлогодней экспедиции в поисках медных залежей и недавней охоте, где видел знаменитую волчиху о семи головах, про которую сложилось предание, что она носит в теле двадцать одну пулю и проживет до тех пор, пока не получит свинца прямо в сердце. У этого зверя, по словам охотника, не хватало сущих пустяков: первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой голов, а седьмая была налицо.
– Поэтому она и жива, – заметил Биг, – все стреляли по остальным, кроме седьмой.
– Да, – кратко сказал Астарот и прислушался к тишине, и на этот раз так заметно, что Биг тревожно посмотрел на него. – Ты слышишь что-нибудь, Биг?
Биг закрыл глаза, наклонил голову, затем поднял ее; с минуту они рассматривали один другого, проверяя непонятное для меня – в себе.
Астарот, покачав головой, вытянул шею по направлению к дальнему концу ущелья, хмыкнул и приложил ухо к земле.
– Биг, – прошептал он, – вы подождите здесь, я схожу и скоро вернусь.
– Что случилось? – спросил я.
– Вероятно – обман слуха, – уклончиво, беря ружье, сказал Астарот, – но лучше мне прогуляться.
– Я не думаю, – заметил, привстав, Биг, – это почти невероятно.
Астарот пожал плечами:
– Вот мы увидим, – и он, шурша землей, исчез во тьме.
Биг стал рассеян. Как бы случайно вытаскивал он из костра одну головню за другой и тушил их, засовывая в золу. Не считая уместным праздное любопытство, я молчал. От пламенного костра осталась кучка огненнозорких углей, скупо озарявших землю, складной ножик и бляхи седла, на котором я сидел, прислушиваясь к заунывному шелесту невидимой, над головами, листвы. Зная опытность людей, сопровождавших меня, я мог быть уверен, что без причины они не обнаружили бы беспокойства, и беспокойство это, в силу его законности, передалось мне. Казалось, что очень слабо, похоже на звон в ушах, различаю я далекие и странные звуки, но стоило ослабить внимание, как эти смутные звуковые призраки переходили в потрескивание углей или шелест осыпающейся земли. Устав думать о загадках ущелья, я махнул рукой. Биг пристально посмотрел на меня.
– Вы не слышите? – тихо спросил он.
– Нет. А вы?
– Как будто бы – да!.. – Биг перебил себя: – Но это возвращается Астарот.
Осторожные, медленные шаги, в силу своеобразной акустики прохода, звучали со всех сторон, как будто к нам двигалась толпа. Я испытал неприятное, нервное ощущение, но, когда Астарот вырос у моего плеча во весь рост, эхо шагов умолкло.
– Костер, пожалуй, не помешает, – сказал он, присев на корточки и раздувая брошенную им поверх углей охапку древесного лома; он кивнул головой Бигу далеко не успокоительно, а тот почесал лоб. – Нельзя идти дальше, – заговорил Астарот; он сказал еще несколько слов, но тут, вспыхнув, заполоскали огненными языками дрова, и я с изумлением увидел новое, совсем переродившееся лицо Астарота. Он был ярко бледен, весел без улыбки и оживлен; веселье, поразившее самую глубину его зрачков, не было простым смехом глаз; в нем светилось столько безумной остроты, значительности и мысли, что я в первый момент отнес это на счет изменчивых колебаний пламени; однако не могло быть сомнений, что охотник испытывает нечто в сильнейшей степени. Он посмотрел на меня взглядом человека, рассматривающего горизонт поверх головы собеседника, и тотчас же отвернулся к Бигу.
– Я прошел, – начал он свой рассказ, – так далеко, что уткнулся руками в поворот и пополз. Через минуту я слышал шум, какой бывает, когда о крышу дробится проливной дождь. Шум переходил в голоса. Я не мог ничего расслышать, но там, должно быть, говорило или шепталось вполголоса много людей. Тогда я прополз дальше, пока не увидел своих рук. Это был свет. На камне сидел часовой, судя по форме – из волонтеров Фильбанка; он не видел меня и совал прикладом в горевший перед ним костер сучья, которых у стены я заметил большой запас. С меня было довольно, я отступил в тень и вернулся.
– Хорошо, – медленно сказал Биг, – подумаем обо всем этом. – Он закурил трубку. – Надо отдать справедливость Фильбанку: он знает, что делает. Утром Фильбанк будет хозяином в Зурбагане.
– Утром? – спросил я, но тотчас же, сообразив, понял, что вопрос мой наивен.
Астарот не дал мне времени поправиться.
– Утром светло, – сказал он. – Ночью следует опасаться засады – если не в проходе, то при выходе из него; так поступают звери и люди. Мрак не всегда выгоден, и Фильбанк доволен, я думаю, уже тем, что спрятался до рассвета. Утром он обрушится на Зурбаган и перебьет гарнизон.
– Нам надо вернуться, – сказал Биг. – Эта дорога закрыта. Сам дьявол указал Фильбанку проход. Кого это, интересно бы знать, разбил он по ту сторону гор, прежде чем явился сюда?
Астарот пристально, как бы взвешивая и что-то рассчитывая, смотрел на Бига; оба они не обращали на меня никакого внимания. Но я и не претендовал на это; мне нравилось безответственное положение зрителя; давая же советы или пытаясь – вообще – проявить свое влияние, я этим принимал на себя известные обязательства, относительно которых, не зная пока, куда они могут клониться, решил быть в стороне.
– Мне пришла в голову одна мысль! – Астарот с живостью подошел ко мне. – Сударь, клянусь вам, что это дело чистое и возможное. Не думайте, что я сумасшедший; выслушайте. Можно остановить Фильбанка. В полуверсте отсюда проход образует угол; стены круты и высоки; более чем пять человек не встанут там рядом. Невелика хитрость убить медведя, и это мы всегда успеем, но если вы не очень боитесь потерять жизнь – Фильбанк отступит. До рассвета, играя в четыре руки, мы поставим между собой и им земляной вал.
– Филь… – начал Биг, – их тысячи, Астарот, но мне такая затея нравится. – Он мечтательно улыбнулся. – Знаете, сударь, ружье и глаз Астарота? Вы должны тогда посмотреть на его работу.
Я понял, что это не шутка, и вздрогнул. Спокойствие Бига поразило меня. Он рассматривал замысел с точки зрения техники и работы, – чудовищную опасность затеи, разумеется, приходилось подразумевать. Предложение, интересное своей колоссальной дерзостью, заставило работать воображение с такой силой, что я встрепенулся.
– Хорошо, – сказал я, – мне нет причин отказываться, я с вами.
– Еще раз!
– Да!
– Еще раз!
– Да!
– О, – сказал Астарот, оставляя меня в покое, – если так, Биг, то не будем терять времени! Скачи и дай знать в Зурбагане, но торопись; середина ночи, путь не близок и труден, патронов немного, оставь свой запас. Есть?
– Есть!
Биг, взвалив на плечо седло и ружье, с головней в руке бросился по направлению к выходу. Это было первым шагом, началом действия, после чего некогда было уже ни говорить, ни закреплять впечатления, и ожидание неизвестного вытеснило из моей головы все остальное.
– Спешите, – сказал Астарот, – возьмем по головне – и за дело!
Я видел, что имею дело с людьми решительными и отважными в такой степени, о которой мы, не будучи ими, едва ли можем составить себе ясное представление. Но это-то и увлекало меня. Я вспомнил Фильса и его друзей, проделывающих бесцельно головоломные вещи. Здесь, в деле, затеянном Астаротом, требовалось не одно лишь присутствие духа, а напряжение всего существа человека, исключительная сосредоточенность мысли и осмотрительность. Следуя в потемках за Астаротом, я чувствовал, что проникаюсь глубоким интересом к дальнейшему; обыкновенная стычка, вероятно, не показалась бы мне столь привлекательной.
Идти было трудно и беспокойно. Спотыкаясь о камни, ямы, возвышения, трещины и холмы осыпей, мы шли так скоро, как позволяли условия, и остановились, когда Астарот сказал:
– Мы у поворота. Дальше идти не стоит: здесь наивыгоднейшее для нас место.
Головни, догорев, угасли; по звуку шагов я чувствовал, не видя охотника, что он кружится неподалеку, ощупывая руками стены. Как оказалось потом, он не был вполне уверен, что поворот здесь. Я явственно слышал его и свое дыхание, чего в обычное время не замечаешь, и дыхание это звучало убедительно, как рожок, играющий наступление. Астарот, нащупав меня, сказал, что надо зажечь костер. Долго, ползая на коленях, собирали мы ощупью хворост, гнилье, пни и все, что дождевые потоки годами обрушивали в проход; наконец покончив с этим, я чиркнул спичкой и поджег наваленную у стены груду.
Тогда, выбрав наиболее возвышенное у поворота место (чтобы облегчить труд), мы стали ворочать камни, вкатывая их на возвышение руками и кольями. Поворот уходил влево зубчатым гротом; расстояние между почти совершенно отвесными, с выступами и трещинами, стенами, в том месте, где мы начали кладку, равнялось шести шагам. Тягостное ощущение усиливалось непроницаемым мраком, границы которого далее весьма скудного предела бессилен был раздвинуть огонь.
Охотник укладывал и носил камни, не отдыхая, и я не отставал от него, заражаясь быстротой его движений. Первый ряд, шириною в шесть или семь футов, мы положили легко, второй был возведен уже медленнее;
промежутки мы заполняли землей, разрыхляя ее топором Астарота и палками; чем далее, тем труднее становилась наша работа, и я не мог подымать приблизительно на высоту груди некоторых камней; тогда мы взваливали их вместе, упираясь плечами. Усталости я не чувствовал, напротив – особое нетерпение торопливости подгоняло меня, и в этом было своеобразное упоение. Я двигался в страстном хороводе усилий, ускоряя темп их почти до головокружения; с наслаждением замечал я удобные камни и, взвалив их, шатаясь, в следующий ряд баррикады, спешил за новыми. Иногда, для того чтобы подбросить в огонь дров, мы прекращали работу, – но уже, невольно оглядываясь, разыскивали глазами новый материал; в одну из таких минут охотник сказал:
– Довольно! Заграждение на высоте нашего роста. Устроим еще амбразуры и прекратим.
Это было действительно последнее, что нам оставалось сделать. Амбразуры мы соорудили из самых больших камней, а внизу, у подножия заграждения, устроили несколько грубых ступеней. Когда все было кончено и поперек ущелья вырос настоящий тупик, – я сел, чувствуя слабость: устало колотилось сердце, с трудом разгибались руки. Меня клонило ко сну. Я сделал попытку встряхнуться, но ослабел еще более и, в состоянии полного изнурения, уронил голову на руки.
– Отдохните, я спать не буду, – сказал Астарот, и я, позабыв все, уснул…
– Пора, – сказал, нагибаясь ко мне, Астарот.
Я сознавал, что это говорит он, но тотчас уснул опять, и приснилось мне, что охотник спит, а я расталкиваю его, говоря: «Вставайте!»
– Вставайте! – повторил Астарот, и я нервно вскочил.
Костер потух. Было еще темно, но вверху ясно обозначались на свежем небе силуэты обрыва. Внизу, присмотревшись, можно было различить, хотя с трудом, хаотическое дно прохода; ущелье напоминало разрыв гигантским плугом. Я тотчас припомнил все. Астарот, стоя у заграждения, раскладывал патроны, чтобы иметь их под рукой; у него был очень деловой вид.
Я подошел к нему, взяв ружье, но, видя, что он положил свое, сделал то же.
– Через полчаса, а может быть, и меньше, – сказал охотник, – мы увидим врага. Встреча будет не из приятных, но шумная и – по-своему – оживленная.
Только теперь я обратил внимание на высоту баррикады, и высота эта показалась мне чрезмерной.
– Мы перестарались, Астарот, – заметил я, – можно было устроить тупик пониже.
– Нет!
– Почему?
– Вы недогадливы. Когда люди начнут падать от выстрелов, нужно, чтобы им было как можно более места в высоту. В противном случае они закроют собой цель.
– Астарот, – сказал я, – меня интересует нечто более важное. Почему вы, не солдат, даже не горожанин по привычкам и образу жизни, подвергаете себя немалому риску, выступая против Фильбанка?
– Да. Почему? – рассеянно ответил он. – Три часа тому назад я, пожалуй, не нашел бы, что вам ответить. Пока мы таскали камни, все выяснилось. Разве вы всегда знаете, почему делаете то или другое? Но я теперь знаю. Потому что это не совсем обыкновенное дело. Будет о чем вспомнить и рассказать. Я скоро начну седеть, а что было у меня в жизни? Полдюжины мелких стычек и безопасные охоты? Нет, мне хотелось бы превратить в войну всю жизнь, и чтобы я был всегда один против всех. Увы, это немыслимо. Всегда кто-нибудь скажет: «Вы поступили правильно, Астарот».
Он произнес это с оттенком спокойной грусти. И я понял, как безмерно жаден и горд этот полудикий человек, считающий несчастьем то, о чем мечтают и чего добиваются миллионы.
– Даже так?
– Именно так. Если бы я знал, что есть где-нибудь второй Астарот, полный двойник мой не только по наружности, но и по душе, я бы пришел к нему с предложением кинуть жребий – ему жить или мне? Мы подвергаемся теперь опасности; поэтому я желаю, чтобы вы узнали меня. Где-то, когда и где – не помню, имел один человек редкую книгу и был уверен, что ни у кого больше на всем земном шаре нет такой же второй книги. Но вот приходят к нему и говорят, что в соседнем городе, у богатого помещика, именно такой экземпляр лежит в хрустальной шкатулке. Тотчас же этот человек взял большую сумму денег и приехал к сопернику. Не говоря ему о своей книге, он купил за бешеную цену второй экземпляр и бросил его, на глазах бывшего владельца, в камин; огонь сделал свое дело. Итак, теперь вы поняли, почему я против Фильбанка? Потому, что Фильбанк не скажет: «Правильно, Астарот!»
С глубоким изумлением смотрел я на этого – воистину – загадочного человека. Он отвернулся, прислушиваясь, и положил мне на плечо руку.
– Фильбанк наступает, – сказал Астарот, – будем встречать гостей.
Небо прояснилось; раннее утро наполнило сумрачный проход унылым светом. Я слышал, закладывая патроны, глухой ропот шагов, позвякивание, шорохи, неопределенный протяжный шум и смутные голоса. Астарот не отрываясь смотрел через заграждение; настойчивый взгляд его как бы просил торопиться и не задерживать. Шум превратился в гул; отголоски, проникая эхом позади нас и по всему тревожно оживающему проходу, раздавались со всех сторон. Из-за поворота показались солдаты. Ничего не подозревая, они торопливо, держа ружья наперевес, высыпали на близкое от нас расстояние и с недоумением, а некоторые с испугом – остановились.
Астарот выстрелил, затем – я, целясь в ближайшего; тотчас же два человека, пятясь и вскрикивая, упали назад, и то, что произошло далее, было поистине потрясающе даже для меня, готового ко всему. Проход загудел и взвыл, слабые вначале раскаты гула, полного воплей, крика, звона и угрожающего смятения, отраженные глухим эхом, усилились до громоподобного взрыва. Тысячи людей, стиснутые за поворотом узкими отвесами стен, бились в необычайном волнении. Солдаты, в которых стреляли мы, скрылись; но не прошло и минуты, как новый рой их, стремительно кинувшись вперед, упал на колени, гремя выстрелами, и в тот же момент стоявший за солдатами офицер прислонился к стене, сраженный выстрелом Астарота.
Я был в состоянии никогда мною не испытанного головокружительного увлечения. Мои выстрелы, которые, сдерживаясь, я посылал весьма тщательно, не всегда достигали цели, но Астарот поступал толково. Я не помню в эти минуты ни одного с его стороны промаха. Он хлестал пулями, как бичом, и каждый выстрел его убивал, даже не ранил. Он был вне себя, но меток. Один за другим растягивались, взмахивая руками, солдаты, и в этой сосредоточенно-деловитой стрельбе было столько уверенности, что я невольно взглянул на рассыпанные у локтей Астарота патроны, считая их вместо солдат. В глубине поворота блестели, колыхаясь, штыки, но скоро их и лица солдат туманом окутал пороховой дым, и огонь выстрелов еще ярче заблестел в дыме, принимая красный оттенок. Пули, разбиваясь о камни звонкими, отрывистыми ударами или свистя над головой, напоминали о смерти, но в жестокой жуткости их я ловил звуки очарования и немого восторга перед лицом судьбы, подвергнутой столь гневному испытанию.
Прикрытый камнями, целясь в узкую меж ними, не шире трех пальцев, щель, я мог до времени считать себя в безопасности, но, опасаясь за ружье, могущее быть подбитым случайной пулей, выставлял дуло самым концом. Я целился и стрелял преимущественно в тех, чей прицел видел направленным на себя. Солдаты, постепенно отступая, стреляли теперь из-за угла поворота, подставляя охотнику для прицела лишь часть головы, – но он поражал их и в таком положении, и именно – в голову. Они падали на свои ружья, а на их месте появлялись другие; я же, сберегая патроны, ждал нового открытого выступления. Вдруг Астарот, прицелившись, опустил ружье: ни людей, ни выстрелов не виделось больше в повороте, и перестрелка умолкла. Трупы, один на другом, лежали более чем внушительно.
– Слушайте, вы! – вскричал охотник. – Слушайте! Скажите Фильбанку, что он не пройдет здесь. Я не один; нас двое, и мы устроим вам очень тесную покойницкую! Уходите!
Никто не ответил ему, но и я и он знали, что те, к кому были обращены эти слова, – слышат.
– Вас двое? – неожиданно сказал, появляясь в глубине поворота человек с белым платком в руке; он махнул им несколько раз и подошел ближе. Он был без ружья и всякого другого оружия; как бы вспухшие глаза его на мясистом бледном лице, лишенном растительности, тонкий, словно запечатанный, рот – были презрительны; он смотрел прищурившись и медленно улыбнулся. – Вас двое? Каждого из этих двоих я повешу за ноги; я возьму вас живьем. Я – Фильбанк.
– Разбойник, – сказал Астарот, – если бы не белый платок, я перевязал бы тебе голову красным.
– Бродяга, – ответил, темнея, Фильбанк. – Мундир, который ты видишь на мне, обязывает меня сдержать слово. Долой из этого курятника! Беги!
– Повелитель, – насмешливо возразил охотник, – почему вам хочется идти в эту сторону? Ступайте обратно, там вам не помешает никто. Пока вы идете вперед – сила на нашей стороне, но, разумеется, никакими усилиями не удалось бы нам задержать вас, если вы вздумаете отступить; самое большее, что мы схватим за шиворот двух.
– Хорошо, – сказал Фильбанк. – Помни! – И он скрылся.
– Это – атака, – сказал, хватая меня за руку, Астарот. – Но нам, может быть, не хватит зарядов. Биг не возвращается. Вы готовы?
– Вполне.
Высокий торопливый рожок заиграл в невидимом повороте и смолк. Тогда я увидел, что может сделать один человек, вполне владеющий искусством стрельбы. Толпа, выбежавшая на нас, расступилась, давая упасть мертвым; их было не меньше шести; шесть пуль вылетело из ружья Астарота скорее, чем я прицелился в одного. И так же, как и в первый раз, испуганные солдаты остановились, но охотник еще раз повторил ужасную операцию – и я увидел множество падающих, как пьяные, обезумевших людей; хватаясь друг за друга, вскрикивали они и умирали на наших глазах в то время, как уцелевшие растерянно смотрели на них.
– Попробуйте окопаться! – крикнул охотник.
Некоторые повернулись и побежали. Здесь я убедился в преимуществе магазинных ружей перед однозарядными; у меня же и Астарота были именно магазинки – Шарпа и Консидье. Шарповские значительно легче, но «консидье» для меня был удобнее по устройству прицела, благодаря которому менее опытный стрелок может быть и не вполне точен, зато быстрее ловит, с небольшою ошибкою, мушку.
Воспользовавшись замешательством наступающих, я решил истратить несколько патронов подряд – для впечатления. Из них только один пропал даром. Не знаю, что подумал об этом охотник, но я не претендовал равняться с ним в точности. Вероятно, он не заметил этого. Губительная работа захватила его. Волонтеры стреляли залпами, стараясь держаться дальше и не толпой; некоторые, срываясь, подбегали почти вплотную и не возвращались назад, и я вспомнил слова охотника о высоте заграждения. Иногда, сбитые пулей, каменные брызги хлестали меня в лицо; я вытирал кровь и стрелял снова, торопясь предупредить каждого целившегося в меня.
– Двадцать пуль я могу уделить им, – сказал охотник, – двадцать первая для меня. Приберегите и себе, – прибавил он, помолчав, – а то ведь Фильбанк сказал правду.
Слова его не испугали и не взволновали меня. Я мало надеялся на благополучный исход и, сообразив, что могу выстрелить, без риска остаться живым, еще десять раз, всадил первую из десяти в голову толстого волонтера, только что высунувшегося ползком из-за угла поворота. Солдат дернулся и упал.
– О Биг, Биг! – вскричал Астарот, хватаясь за раненое ухо. – Скоро я не буду ни слышать, ни видеть, ни стрелять, но ты увидишь, Биг, что не зря оставил заряды! Ведь это трупы!
И он, уже не оберегая себя, вскочил на верхнюю ступень заграждения, показывая мне рукой груду, за которой, как за прикрытием, торчали вспыхивающие молниями штуцера. Спрыгнув, Астарот рассмеялся.
– Довольно! – сказал он. – Дело, как мы умели и могли, сделано. Не пора ли? Нет. Вы слышите? Это – Биг и солдаты!
Я оглянулся. Из-за бугров, маленькие на отдалении, торопливо выскакивали, подбегая к нам, вооруженные люди, и я от всего сердца мысленно поздравил их с продолжением удачного дела.
Меня вытеснила толпа солдат, и я очутился у стены, шагах в десяти от заграждения, вместе с охотником. К нам подошел Биг.
– Правильно, Астарот! – сказал он, задыхаясь от изнурительного бега в проходе.
Лицо Астарота, блиставшее перед тем упоением торжества, разом погасло, осунулось, и тень ровной грусти мгновенно изменила выражение глаз, замкнуто, чуждо раскатам свалки смотревших на живую запруду, истребительную возню.
– Я сделал это для себя, – сказал Астарот, подумав, – и более мне делать здесь нечего. Уйдем, Биг. Не следует дожидаться конца.
– Да, – подтвердил Биг, – через полчаса здесь будут орудия.
– Тем лучше. Ты останешься?
– Нет, – это дело сделают без меня.
Усталые, изредка оглядываясь на трескучий дым, мы выбрались из прохода. Неподалеку валялись, играя, лошади. Оседлав их, мы тронулись к югу; затем Биг нагнал ехавшего впереди Астарота, и они, тихо разговаривая о происшествиях дня, шагом погрузились в заросль на склоне горы, а я, следуя за ними, спрашивал себя: точно ли произошло все, в чем был я свидетелем и участником? Я грустил о том, что так скоро кончились пленительный бой и тревога, и тьма ночи, и зловещее утро у заграждения; но ни за что, ни за какое ослепительное счастье не вернулся бы я к солдатам теперь, когда смысл моего участия в стычке делился на число всех прибывших людей. Я пережил страстное увлечение и был счастлив, но не желал просто драться, так же, как Астарот.
Прекрасный день заливал горы живым водопадом солнца, тающего в тесных изгибах чащи крупным дождем золотых пятен, озаренных листьев и отвесных лучей; цветы вздрагивали под копытами, обрызгивая росой траву, а спутанные корни тропинок вились по всем направлениям, уходя в цветущую жимолость, акацию и орешник. Тогда, пристально осматриваясь кругом, я заметил, что наблюдаю, в особом и новом отношении к ним, все явления, которые раньше были мне безразличны. Явления эти неперечислимы, как сокровища мира, и главные из них были: свет, движение, воздух, расстояние и цель движения. Я ехал, но хотел ехать; двигался, но во имя прибытия; смотрел, но смотреть было приятно. Я освобождался от тяжести. Медленно, но безостановочно, как подымаемый домкратом вагон, отпускала меня скучная тяжесть, и я, боясь ее возвращения, с трепетом следил за собой, ожидая внезапного тоскливого вихря, приступа смертельной тоски. Но происходило то, чему я не подберу имени. Я слышал, что копыто стучит звонко и крепко, что ветви трещат упруго, что птица кричит чистым, задорным голосом. Я видел, что шерсть лошади потемнела от пота, что грива ее бела, как молодой снег, что камень дал о подкову желтую искру. Я чувствовал, как легко и прямо сижу, и знал силу своих рук, держащих лишь легкий повод; я был голоден и хотел спать. И все, что я слышал, видел, знал и чувствовал, – было так, как оно есть: непоколебимо, нужно и хорошо.
Это утро я называю началом подлинного, чудесного воскресения. Я подошел к жизни с самой грозной ее стороны: увлечения, пренебрегающего даже смертью, и она вернулась ко мне юная, как всегда. В те минуты я не думал об этом, мне было просто понятно, ясно и желательно все, что ранее встречал я немощной и горькой тоской. Но не мне судить себя в этот момент; я вышел из сумрака, и сумрак отошел прочь.
Невольно, глядя на ехавших впереди ловких и бесстрашных людей, припомнились мне звучавшие раньше безразлично строки Берганца, нищего поэта, умершего из гордости голодной смертью в мансарде, потому что он не хотел просить ни у кого помощи; и я мысленно повторил его строки:
Вспомнив это, я вспомнил и самого Берганца. Он любил смотреть из окна седьмого этажа, где жил, на розовые и синие крыши города и простаивал у окна часами, наблюдая, без изнурительной зависти, с куском хлеба в руке певучее уличное движение, полное ярких соблазнов.
В полдень я простился с охотниками. Они уговаривали меня остаться с ними ради охоты, но я был утомлен, взволнован и, поблагодарив их, остался один с своими новыми мыслями. Только к вечеру я попал в Зурбаган и бросился не раздеваясь в постель. Не каждому удается испытать то, что испытал я в проходе Бига, но это было, и это – судьба души.
Вокруг света
Последние десять миль, отделявшие торжествующего Жиля от шумного Зурбагана, пешеход прошел так быстро и весело, словно после каждого шага его ожидало несравненное удовольствие. Узнавая покинутые два года назад места, он испытывал восхищение больного, чудом возвращенного к жизни, которому блаженное чувство безопасности показывает домашнюю обстановку в звуках ликующего оркестра.
Костюм Жиля в день его возвращения состоял из серых шерстяных чулок до колен, толстых башмаков с пряжками, кожаных коротких штанов, голубой парусиновой блузы и огромной соломенной шляпы, покоробившейся самым причудливым образом. Дыра от пули была единственным его украшением. У пояса, в кожаной кобуре, висел старый друг, семизарядный револьвер, а за плечами – емкая дорожная сумка.
Жиль твердо постукивал суковатой палкой и свистал так пронзительно, что воробьи вспархивали, увидев его, за сто шагов.
Описав дугу кривой дорогой равнины, отделяющей рабочие предместья Зурбагана от лесистых долин Кассета, Жиль вступил наконец в крикливую улицу Полнолуния. Ранний час дня свежим блеском и относительной для этих широт прохладой придавал уличному движению толковую жизнерадостность. Крупная фигура Жиля, особенная стремительная походка, выработанная долгими странствованиями, густой кофейный загар, подавляющее напряжение лица, вызванное волнением, и бессознательная улыбка, столь сложная и заразительная, что заставила бы обернуться мрачнейшего ипохондрика, скоро обратили на путешественника внимание многих прохожих. Жиль взглянул на часы – было половина девятого. «Ассоль спит, – решил он. – Зачем портить восторг встречи смесью сна с действительностью? Я все равно – дома». Заметив, что порядком устал, Жиль, свернув в аллею просторного бульвара, выбрал кабачок попроще и, сев в еще пустом зале за круглый стеклянный стол, сказал, чтобы подали яичницу с луком, бутылку водки и крепких сигар.
Почти тотчас вслед за ним вошли: меланхолический лавочник, держа руки под фартуком; толстый надутый мальчик, лет десяти, красный от нерешительности и любопытства; девушка мужского сложения, в манишке и стоячем воротнике, с мужской тростью, мужским портфелем и мужскими манерами; испитой субъект с длинными волосами; кургузый подвижной господин, свежий и крепкий; две барышни и несколько молодых людей, безлично-галантерейного типа с тросточками и золотыми цепочками.
Хозяин, смотря поверх очков и прижимая пальцем то место газеты, на котором застигло его такое изумительное в ранний час нашествие посетителей, почесал свободной рукой спину, воспрянул и потряс огромным звонком. Слуги, вбежав, принялись кланяться, стирать пыль, принимать заказы и покрикивать друг на друга.
Тем временем посетители, сев в разных местах зала, открыто уставились на Жиля взглядами театральных зрителей. Заметив это, молодой человек смутился, но скоро сообразил, в чем дело. Газеты, видимо, были извещены о нем, – вероятно, выклянчили у Ассоль портрет, тиснули его в рамке барабанных статеек, и экспансивные зурбаганцы, с догадкой, что герой – он, человек воинственно-бродячей наружности, ждали подтверждения этому; ждали, отдадим справедливость, смирно и уважительно, однако при виде стольких глаз, круглых и немигающих, третий глоток водки застрял в горле Жиля. Он думал, что хорошо бы удрать. Сигара заставила его кашлять, а яичница упрямо разваливалась на вилке.
Вдруг положение изменилось, – лопнул пузырь томления: мужевидная девица, понюхав поданный шоколад, крякнула, обвела общество призывным взором, решительно поднялась и, подойдя к Жилю, громко спросила:
– Разрешите мои сомнения. Портрет кругосветного путешественника, Жиля Седира, напечатанный в журнале «Герольд», хроникером которого имею честь состоять я, Дора Минута, очень напоминает ваши черты. Не вы ли славный зурбаганец Седир, два года назад вышедший на стотысячное пари с фабрикантом Фрионом, что совершите кругосветное путешествие без копейки денег, сроком в два года?
Эта тирада заставила даже хозяина покинуть стойку и придержать дыхание.
– Я, я! – сказал взволнованный Жиль, смеясь и раскланиваясь с повскакавшей вокруг публикой.
Послышалось: «Ура! Браво! Приветствуем!» – и Жиль оказался в кругу радостно-любопытных лиц. Все хотели знать, как он путешествовал, с какой целью, что видел и испытал.
Немного можно ответить сотням вопросов и обращений, – однако, настроенный благодушно, Жиль рассказал главное. Его заставило добыть таким способом деньги изобретение, имеющее важное будущее. Никто не давал денег для окончательных опытов. Министерство благосклонно отвертелось, капиталисты не доверяли, а сам изобретатель, вставая поутру, не знал, будет ли сегодня обедать. Эксцентрик Фрион, жестокой забавы ради, предложил ему обогнуть земной шар за сто тысяч, покинув город без денег, съестных припасов и спутников. Нотариус скрепил это условие. Опаздывая сверх двух лет даже на одну минуту (секунды прощались), Жиль не получал ничего.
Но он выполнил задачу неделей раньше условленного. Конец нищете! Начало славы изобретателя пришло к его ногам. Жиль вскользь, но одушевленно и любовно коснулся яркой пестроты двухлетнего путешествия. Прекрасной феерией развернулось в его душе опасное прошлое. Все способы передвижения испытал он: ходьбу, лодку, носилки, слонов, верблюдов, велосипед, барки, пароходы, парусные суда. Храмы и башни, развалины и тоннели, тропические леса, горные цепи, пропасти, водопады, цветы, пальмы, миражи – простое перечисление виденного заставило бы не один раз перевести дух. Настроение опасности, силы, радости, экстаза, величественного покоя, бури и тишины, молитвы и милых воспоминаний, решительности и вызова – всю сложную мелодию их Жиль передавал сердцам слушателей нервными толчками рассказа, стиснутого возбуждением торжества. Пламенное воспоминание это, витая в избранной красоте прошлого, заразило аудиторию. Лица и глаза светились возвышенной завистью людей подневольных, но увлеченных.
– А видели ли вы рыбий храм? – басом сказал толстый мальчик, видимо давно уже державший этот вопрос на спуске своей любознательности. Тотчас же великий конфуз съел его без остатка, и, красный, как помидор, смельчак жалостно запыхтел.
– Какой храм, милочка? – улыбнулся Седир.
– В котором дикари поклоняются рыбам, – с отчаянием проголосил бедняк, прячась за Дору Минуту, так как все пристально посмотрели на его круглую, стриженую голову. – Когда дикари пляшут… – выпискнул он при общем хохоте и исчез, покончил существование как сознательный член общества, утопив свою кругленькую фигуру в путанице угловых стульев.
Жиль встал, пожимая руки поклонников, в воздухе было тесно от восклицаний. За дверью кликнул он на всякий случай извозчика, – и не напрасно, потому что любопытные явно были огорчены этим. Скоро Жиль стучал у бедных дверей на шестом этаже, в комнату жены.
Дверь тихо приоткрылась, показала легкую молодую женщину с блистающими глазами и вдруг стремительно отлетела к стене. Оба чуть не упали с высокого порога, на котором стиснули друг друга теплом, счастьем и стосковавшимися руками. Амур, всхлипывая и визжа от восторга, повис на них с цепкостью уистити, поймавшей бабочку, повернул ключ и опустил занавески.
Еще два года назад решено было в условии меж Фрионом и Жилем, что установление выигрыша пари и получение премии состоятся в редакции «Элеватора». За два часа перед тем, когда Седиру следовало быть на месте триумфа, в дверь постучали корректным, негромким стуком первого посещения.
Вошел человек, скромной, солидной внешности, с привычно висящим в руках портфелем и осмотрел скудную обстановку комнаты неподражаемо пустым взглядом официального лица, обязанного быть бесстрастным во всех, без исключения, положениях.
– Норк Орк, поверенный известного вам Фриона, – ровно сказал он, кланяясь погибче Ассоль и каменным поклоном – Седиру.
Тень предчувствия напрягла нервы Жиля. Он подал стул Орку и сел на другой сам.
– Дело, благодаря которому я имею честь видеть вас, хотя предпочел бы ради удовольствия этого дело совершенно иного рода, – заговорил Орк, – касается столько же вас, сколько и партнера вашего по пари, заключенному меж вами и доверителем моим, бывшим фабрикантом Фрионом. Я уполномочен сообщить – и тороплюсь сделать это, дабы скорее сложить обязанность печального вестника, – что смелые, но неудачные спекуляции ныне совершенно уравняли с вами Фриона в отношении материальном. Он не может заплатить проигрыша.
– Жиль, Жиль! – кричала Ассоль, поворачивая к себе белое лицо мужа не чувствуемыми им маленькими руками. – Жиль, не дрожи и не думай! Перестань думать! Не смей!..
Седир перевел дыхание. Синяя жила билась на его лбу, – он летел в пропасть. Удар был невероятно жесток.
– Так. И никакой пощады? – тоскуя, закричал Жиль.
Норк Орк поднял глаза, опустил их и встал, застегиваясь, с вытянутым лицом.
– Мне поручено еще передать письмо – не от Фриона. Вам пишет известный Аспер. Кажется, это оно… да.
Жиль бросил письмо на стол.
– Как-нибудь прочитаю, – вяло сказал он, обессиленный и уставший. – Вы, конечно, не виноваты. Прощайте.
Орк вышел; прямая спина его несколько времени была видна еще Жилю сквозь дверь. Ассоль громко, безутешно плакала.
– Плачешь? – сказал Жиль. – Я тебя понимаю. Вот судьба моего изобретения, Ассоль! Я обнес его вокруг всей земли, в святом святых сердца, оно радовалось, это металлическое чудо, как живое, спасалось вместе со мною, ликовало и торопилось сюда… – Он осмотрел комнату, бедность которой солнце делало печально-крикливой, и невесело рассмеялся. – Что же? Залепи дырку в кофейнике свежим мякишем. Начнем старую голодную жизнь, украшенную мечтами!
– Не падай духом, – сказала, поднимаясь, Ассоль, – когда худо так, что хуже не может быть, – наверно, что-нибудь повернется к лучшему. Давай подумаем. Твое изобретение не теперь, так через год, два, может быть, оценит же кто-нибудь?! Поверь, не все ведь идиоты, дружок!
– А вдруг?
– Ну, мы посмотрим. Во-первых, что же ты не читаешь письмо?
Жиль содрал конверт, представляя, что это – кожа Фриона: «Жиль Седир приглашается быть сегодня на загородной вилле Кориона Аспера по интересному делу. Секретарь…»
– Секретарь подписывается, как министр, – сказал Жиль, – фамилию эту разберут, и то едва ли, эксперты.
– А вдруг… – сказала Ассоль, но, рассердившись на себя, махнула рукой. – Ты пойдешь?
– Да.
– А понимаешь?
– Нет.
– Я тоже не понимаю.
Жиль подошел к кровати, лег, вытянулся и закрыл глаза. Ему хотелось уснуть – надолго и крепко, чтобы не страдать. Неподвижно, с отвращением к малейшему движению, лежал он, временами думая о письме Аспера. Он пытался истолковать его как таинственную надежду, но о катастрофу этого дня разбивались все попытки самоободрения. «Меня зовут, может быть, как любопытного зверя, гвоздь вечера». Иные имеющие прямое отношение к его цели предположения он изгонял с яростью женоненавистника, обманутого в лучших чувствах и возложившего ответственность за это на всех женщин, от детского до преклонного возраста. Он был оскорблен, раздавлен и уничтожен.
Ассоль, жалея его, молча подошла к кровати и легла рядом, затихнув на груди Жиля. Так, обнявшись, лежали они долго, до вечера; засыпали, пробуждались и засыпали вновь, пока часы за стеной не прозвонили семь. Жиль встал.
– Пойдем вместе, Ассоль, – сказал он, – мне одному горестно оставаться. Пойдем. Уличное движение, может быть, развлечет нас.
Аспер, перейдя те пределы, за которыми понятие богатства так же неуловимо сознанием, как расстояние от земли до Сириуса, тосковал о популярности подобно Нерону, ездившему в Грецию на гастроли.
Владыка материи сидел в обществе двух господ испытанного подобострастия. Был вечер; большая терраса, где произошло вышеописанное, в ясном полном свете серебристых шаров заплыла по контуру теплым глухим мраком.
Когда вошли Жиль и его жена, Аспер встал медленно, точно по принуждению, скупо улыбнулся и сел снова, дав на минуту свободу выжидательному молчанию. Но не он прервал его. Истерзанный Жиль сказал:
– Объясните ваше письмо!
– Оно благосклонно. Вы выиграли пари с Фрионом?
– Да, – безуспешно.
– Фрион – нищий?
– Да… и мошенник, кстати.
– Ах! – любовно прислушиваясь к своему звучному голосу, сказал Аспер. – Право, вы очень суровы к нам, игрушкам фортуны. И мы бываем несчастны. Дорогой Седир, я знаю вашу историю. Я вам сочувствую. Однако нет ничего проще поправить это скверное дело. Если вы, начиная с девяти часов этого вечера, отправитесь второй раз в такое же путешествие, какое выполнили Фриону, на тех же условиях, в двухлетний срок, я уплачиваю вам проигрыш Фриона и свой, то есть не сто тысяч, а двести.
– Как просто! – сказал пораженный Жиль.
– Да, без иронии. Очень просто.
Жиль помолчал.
– Если это шутка, – сказал он, посмотрев на изменившееся лицо Ассоль взглядом, выразившим и жалость и тяжкую борьбу мыслей, – то шутка бесчеловечная. Но и предложение ваше бесчеловечно.
– Что делать? – холодно сказал Аспер. – Хозяин положения вы.
Насмешка взбесила Жиля.
– Да, я вернулся раз хозяином положения, – вскричал он, – только за тем, чтобы надо мной издевались! Гарантия! Я пошел!
Все силы понадобились Ассоль в этот момент, чтобы не разрыдаться от горя и гордости.
– Жиль! – сказала она. – И любить и проклинать буду тебя! Как мало ты был со мною! Впрочем, покажи им! Я заработаю!
– Гарантия? – Аспер взял из рук у одного притихшего подобострастного господина банковскую новую книжку и подал Жилю. – Просмотрите и оставьте себе. Сегодня 13-е апреля 1906 года. Вклад на ваше имя; вы получите его по возвращении, если не позже 9-ти вечера 13-го апреля 1908 года явитесь получить лично.
– Так, – сказал Жиль, – я должен идти сегодня? Не могу ли я получить отсрочку до завтра? Один день… Или это каприз ваш?
– Каприз… – Аспер серьезно кивнул. – У меня не всегда есть время развлечься, завтра я могу забыть или раздумать. Однако без десяти девять; решайте, Седир: спустя десять минут вы направитесь домой или будете идти к горам Ахуан-Скапа.
Жиль ничего не сказал ему, он смотрел на Ассоль взглядом полубезумным, силою которого мог бы, казалось, воскресить и убить.
– Ассоль, – тихо сказал он, – еще один раз… последний, верный удар. Сама судьба вызывает меня. Я тебя утешать не буду, оба мы в горе, – помни только, что такому горю позавидуют два года спустя многие подлецы счастья. Дай руку, губы, – прощай!
Ассоль обняла его крепко, но бережно, словно этот мускулистый гигант мог закачаться в ее руках. Носки ее башмаков еле касались пола. Жиль прочно поставил молодую женщину в двух шагах от себя, вернулся к столу, где подписал предложенное условие, и, пристально посмотрев на Аспера, сошел по широким ступеням в сад.
Но едва ноги его оставили последний лестничный камень, как он твердо остановился в ужасе от задуманного. Он знал, что, сделав только один шаг вперед, больше не остановится, что шаг этот ляжет бременем всего путешествия. Потрясенным сознанием начал он обнимать грозную громаду предпринятого. Если утром, незлопамятный от природы, он переживал в восторге удачи только вдохновенное и красивое, то теперь бился над пыльной, темной изнанкой сверкающего ковра. Пространство стало реальным, ясным во всей необозримости изобилием мучительных переходов; болезни, утомление, скучный попутный труд, изнурительная тоска о письмах, мнительность маниакальной силы, проволочки горше, чем отказ, – все стороны походного угнетения стиснули его сердце.
Аспер стоял несколько позади. Вдруг он побледнел, – состояние Жиля передалось ему с убедительностью внезапно хлынувшего дождя. Он задумался.
– Ну, вот… – сказал Жиль, скрутив слабость всей яростью ослепшей в муках души, – я иду. Ступай домой, милая!
Он шагнул, пошел и временно перестал жить. На мгновение странная иллюзия встряхнула его: ему казалось, что он шагает на одном месте, – но быстро исчезла, когда поворот аллеи устремился к смутно белеющему шоссе.
В глазах его были глаза жены, пульс бился неровно и слабо, сердце молчало, холодные руки встречались одна с другой бесцельно и мертвенно. Он ни о чем не думал. Подобно лунатику, сошел он с шоссе на тропу в том самом месте, где два года назад связал лопнувший ремень сумки. Была весна, странная восприимчивость мрака доносила эхо могучих водопадов Скапа, чувственные благоухания цветущих долин неслись в воздухе, и тысячи звезд вдохновенно жгли тьму огнями отдаленных армад, столпившихся над головой Жиля.
Равнодушный ко всему, ровным, неслабеющим шагом прошел он долину и часть холмов, песчаной тропой вышел на семиверстную лесную дорогу, одолел ее и заночевал в поселке Альми, – первой, как и два года назад, тогда утренней остановке. Хозяин узнал его.
– За постой я пришлю с дороги, – сказал Седир, – дайте вина, свечку и чистое белье на постель, сегодня у меня праздник.
Он сел у окна, пил, не хмелея, курил и слушал, как на дворе влюбленный, должно быть, пастух настраивает гитару.
– Заиграй, запой! – крикнул в окно Жиль. – Нет денег, плачу вином.
Смеясь, поднялась к окну пылкая песня:
Песня развеселила Седира. «Это о тебе, Ассоль, – сказал он. – И ради тебя, право, не пожалею я ног даже для третьего путешествия. Не я один был в таком положении». Он вспомнил ученого, прислуга которого, думая, что старая бумага хороша для растопки, сожгла двадцатилетний труд своего хозяина. Узнав это, он поседел, помолчал и негромко сказал испуганной неграмотной бабе:
– Пожалуйста, не трогайте больше ничего на моем столе.
Разумеется, он повторил труд.
Жиль так задумался, светлея и воскресая, что не слышал, как вошел Аспер. Лишь увидев его, он припомнил стук колеса и голоса на дворе.
– Вернитесь, – побагровев и нервничая, сказал толстяк. – Я скоро поехал догонять вас. Пустой формальностью было бы выжидать два года. Я, так и так, – проиграл; живите, изобретайте.
– Однако, – сказал Асперу в конце недели темный граф Каза-Веккия, – вы, я слышал, поторопились проиграть ваше пари?!
– Нет, меня поторопили! – захохотал Аспер. – И, право, он заслужил это. Конечно, я оторвал деньги от своего сердца, но как хотите – думать два года, что он, может, погиб… Передайте колоду.
– Да, жиловат этот Седир, – неопределенно протянул граф.
– Жиловат? Это – сокрушитель судьбы, и я ему, живому, поставлю памятник в круглой оранжерее. А та разбойница, Ассоль… Увы! Деньгами не сделаешь и живой блохи. Как – бита? Нет, это валет, господин…
Корабли в Лиссе
Есть люди, напоминающие старомодную табакерку. Взяв в руки такую вещь, смотришь на нее с плодотворной задумчивостью. Она – целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещиц и показывают гостям, но редко случится, что ее собственник воспользуется ею, как обиходным предметом. Почему? Столетия остановят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие – геометрически – с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в прикосновение – значит незаметно жить прошлым? Может быть, мелкая мысль о сложном несоответствии? Трудно сказать. Но, – начали мы, – есть люди, напоминающие старинный обиходный предмет, и люди эти, в душевной сути своей, так же чужды окружающей их манере жить, как вышеуказанная табакерка мародеру из гостиницы «Лиссабон». Раз навсегда, в детстве ли или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральным раствором жидкости: легко возмути ее – и вся она в молниеносно возникших кристаллах застыла неизгладимо… в одном ли из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному – душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наивны и поэтичны; цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живется грезам, свободным от придирок момента. Такой человек предпочтет лошадей вагону; свечу – электрической груше; пушистую косу девушки – ее же хитрой прическе, пахнущей горелым и мускусным; розу – хризантеме; неуклюжий парусник с возвышенной громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь по необходимости замкнута, а внешняя состоит во взаимном отталкивании.
Как есть такие люди, так есть семьи, дома и даже города и гавани, подобные вышеприведенному примеру – человеку с его жизненным настроением.
Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе – огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне – о влюбленности и свиданиях; гавань – грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью – магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами – вот Лисс. Здесь две гостиницы: «Колючей подушки» и «Унеси горе». Моряки, естественно, плотней набивались в ту, которая ближе; которая вначале была ближе – трудно сказать; но эти почтенные учреждения, конкурируя, начали скакать к гавани – в буквальном смысле этого слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолела «Унеси горе». С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему «Колючая подушка» остановилась как вкопанная среди гиблых оврагов, а торжествующая «Унеси горе» после десятилетней борьбы воцарилась у самой гавани, погубив три местных харчевни.
Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков; женщины делятся на ангелов и мегер; ангелы, разумеется, молоды, опаляюще красивы и нежны, а мегеры – стары; но и мегеры, не надо забывать этого, полезны бывают жизни. Пример: счастливая свадьба, во время которой строившая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь.
Мы не будем делать разбор причин, в силу которых Лисс посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти – географического и гидрографического свойства; все в общем произвело на нас в городе этом именно то впечатление независимости и поэтической плавности, какое пытались выяснить мы в примере человека с цельными и ясными требованиями.
В тот момент как начался наш рассказ, за столом гостиницы «Унеси горе», в верхнем этаже, пред окном, из которого картинно была видна гавань Лисса, сидели четыре человека. То были: капитан Дюк, весьма грузная и экспансивная личность; капитан Роберт Эстамп; капитан Рениор и капитан, более известный под кличкой: «Я тебя знаю», благодаря именно этой фразе, которой он приветствовал каждого, даже незнакомого человека, если человек тот выказывал намерение загулять. Звали его, однако, Чинчар.
Такое блестящее, даже аристократическое общество, само собой, не могло восседать за пустым столом. Стояли тут разные торжественные бутылки, извлекаемые хозяином гостиницы в особых случаях, именно в подобных настоящему, когда капитаны – вообще народ, недолюбливающий друг друга по причинам профессионального красования, – почему-либо сходились пьянствовать.
Эстамп был пожилой, очень бледный, сероглазый, с рыжими бровями, неразговорчивый человек; Рениор, с длинными черными волосами и глазами навыкате, напоминал переодетого монаха; Чинчар, кривой, ловкий старик с черными зубами и грустным голубым глазом, отличался ехидством.
Трактир был полон; там – шумели, там – пели; время от времени какой-нибудь веселый до беспамятства человек направлялся к выходу, опрокидывая стулья на своем пути; гремела посуда, и в шуме этом два раза уловил Дюк имя «Битт-Бой». Кто-то, видимо, вспоминал славного человека. Имя это пришлось кстати: разговор шел о затруднительном положении.
– Вот с Битт-Боем, – вскричал Дюк, – я не убоялся бы целой эскадры! Но его нет. Братцы-капитаны, я ведь нагружен, страшно сказать, взрывчатыми пакостями. То есть не я, а «Марианна». «Марианна», впрочем, есть я, а я есть «Марианна», так что я нагружен. Ирония судьбы: я – с картечью и порохом! Видит Бог, братцы-капитаны, – продолжал Дюк мрачно одушевленным голосом, – после такого свирепого угощения, какое мне поднесли в интендантстве, я согласился бы фрахтовать даже сельтерскую и содовую!
– Капер[6] снова показался третьего дня, – вставил Эстамп.
– Не понимаю, чего он ищет в этих водах, – сказал Чинчар, – однако боязно подымать якорь.
– Вы чем же больны теперь? – спросил Рениор.
– Сущие пустяки, капитан. Я везу жестяные изделия и духи. Но мне обещана премия!
Чинчар лгал, однако. «Болен» он был не жестью, а страховым полисом, ища удобного места и времени, чтобы потопить своего «Пустынника» за крупную сумму. Такие отвратительные проделки не редкость, хотя требуют большой осмотрительности. Капер тоже волновал Чинчара – он получил сведения, что его страховое общество накануне краха и надо поторапливаться.
– Я знаю, чего ищет разбойник! – заявил Дюк. – Видели вы бригантину, бросившую якорь у самого выхода? «Фелицата». Говорят, что нагружена она золотом.
– Судно мне незнакомо, – сказал Рениор. – Я видел ее, конечно. Кто ее капитан?
Никто не знал этого. Никто его даже не видел. Он не сделал ни одного визита и не приходил в гостиницу. Раз лишь трое матросов «Фелицаты», преследуемые любопытными взглядами, чинные, пожилые люди, приехали с корабля в Лисс, купили табаку и более не показывались.
– Какой-нибудь молокосос, – пробурчал Эстамп. – Невежа! Сиди, сиди, невежа, в каюте, – вдруг разгорячился он, обращаясь к окну, – может, усы и вырастут!
Капитаны захохотали. Когда смех умолк, Рениор сказал:
– Как ни верти, а мы заперты. Я с удовольствием отдам свой груз (на что мне, собственно, чужие лимоны?). Но отдать «Президента»…
– Или «Марианну», – перебил Дюк. – Что, если она взорвется?! – Он побледнел даже и выпил двойную порцию. – Не говорите мне о страшном и роковом, Рениор!
– Вы надоели мне со своей «Марианной», – крикнул Рениор, – до такой степени, что я хотел бы даже и взрыва!
– А ваш «Президент» утопнет!
– Что-о?
– Капитаны, не ссорьтесь, – сказал Эстамп.
– Я тебя знаю! – закричал Чинчар какому-то очень удивившемуся посетителю. – Поди сюда, угости старичишку!
Но посетитель повернулся спиной. Капитаны погрузились в раздумье. У каждого были причины желать покинуть Лисс возможно скорее. Дюка ждала далекая крепость. Чинчар торопился разыграть мошенническую комедию. Рениор жаждал свидания с семьей после двухлетней разлуки, а Эстамп боялся, что разбежится его команда, народ случайного сбора. Двое уже бежали, похваляясь теперь в «Колючей подушке» небывалыми новогвинейскими похождениями.
Эти суда: «Марианна», «Президент», «Пустынник» Чинчара и «Арамея» Эстампа спаслись в Лиссе от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная «Марианна», на другой день приполз «Пустынник», а спустя двое суток бросили, запыхавшись, якорь «Арамея» и «Президент». Всего с таинственной «Фелицатой» в Лиссе стояло пять кораблей, не считая барж и мелких береговых судов.
– Так я говорю, что хочу Битт-Боя, – заговорил охмелевший Дюк. – Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппо Маластино. Маластино сидит в Зурбагане, пьет «боже мой»[7] и держит на коленях Бутузку. Входит Битт-Бой: «Маластино, подымай якорь, я проведу судно через Кассет. Ты будешь в Ахуан-Скапе раньше всех в этом сезоне». Как вы думаете, капитаны? Я хаживал через Кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластино слепо слушать Битт-Боя. Но Беппо думал два дня: «Ах, штормовая полоса… Ах, чики, чики, сорвало бакены»… Но суть-то, братцы, не в бакенах. Али – турок, бывший бепповский боцман – сделал ему в бриге дыру и заклеил варом, как раз против бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец Беппо в обмороке проплыл с Битт-Боем адский пролив; опоздал, разумеется, и деньги Ахуан-Скапа полюбили других больше, чем макаронщика, но… каково же счастье Битт-Боя?! В Кассете их швыряло на рифы… Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в Зурбагане. Бочонки эти лопнули, и тонны четыре меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппо похолодел уже в Ахуан-Скапе, при выгрузке. Слушай-ка, Чинчар, удели мне малость из той бутылки!
– Битт-Бой… я упросил бы его к себе, – заметил Эстамп. – Тебя, Дюк, все равно когда-нибудь повесят за порох, а у меня дети.
– Я вам расскажу про Битт-Боя, – начал Чинчар. – Дело это…
Страшный, веселый гвалт перебил старого плута. Все обернулись к дверям, многие замахали шапками, некоторые бросились навстречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале, а отдельные выкрики, расталкивая восторженный шум, вынеслись светлым воплем:
– Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой, приносящий счастье!
Тот, кого приветствовали таким значительным и прелестным именованием, сильно покраснев, остановился у входа, засмеялся, раскланялся и пошел к столу капитанов. Это был стройный человек, не старше тридцати лет, небольшого роста, с приятным открытым лицом, выражавшим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость, черты лица, фигура и все движения отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего спокойствия, чем привычным усилием характера. Чрезвычайно отчетливо, но негромко звучал его задумчивый голос. На Битт-Бое была лоцманская фуражка, вязаная коричневая фуфайка, голубой пояс и толстые башмаки, через руку перекинут был дождевой плащ.
Битт-Бой пожал десятки, сотни рук… Взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских осклаблений; винтообразные дымы трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его в продолжение нескольких минут животворным облаком сердечной встречи; наконец он высвободился и попал в объятия Дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара, повеселела его ехидная челюсть; размяк солидно-воловий Рениор, и жесткий, самолюбивый Эстамп улыбнулся на грош, но по-детски. Битт-Бой был общим любимцем.
– Ты барабанщик фортуны! – сказал Дюк. – Хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новым Ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай: весь пьяный флот налицо. Но мы застряли, как клин в башке дурака. Упаси «Марианну».
– О капере? – спросил Битт-Бой. – Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов. Вот вам история: вчера взял я в Зурбагане ялик и поплыл к Лиссу; ночь была темная. О каперах слышал я раньше, поэтому, пробираясь вдоль берега за каменьями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. Два раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера, на третий раз изнутри толкнуло опустить парус. Как раз… ялик и я высветились, как муха на блюдечке. Там камни, тени, мох, трещины, меня не отличили от пустоты, но не опусти я свой парус… итак, Битт-Бой сидит здесь благополучно. Рениор, помните фирму «Хевен и Ко»? Она продает тесные башмаки с гвоздями навылет; я вчера купил пару, и теперь у меня пятки в крови.
– Есть, Битт-Бой, – сказал Рениор, – однако смелый вы человек. Битт-Бой, проведите моего «Президента»; если бы вы были женаты…
– Нет, «Пустынника», – заявил Чинчар. – Я же тебя знаю, Битт-Бой. Я нынче богат, Битт-Бой.
– Почему же не «Арамею»? – спросил суровый Эстамп. – Я полезу на нож за право выхода. С Битт-Боем это верное дело.
Молодой лоцман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально-серьезен. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, тихо улыбнулся глазами и, как всегда щадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал:
– Благодарю вас, благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу… Я не ищу ее. Я ничего не скажу вам сейчас, ничего то есть определенного. Есть тому одно обстоятельство. Хотя я и истратил уже все деньги, заработанные весной, но все же… И как мне выбирать среди вас? Дюка?… О, нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе и чтобы всем сказать: нате вам! Согласный ты с морем, старик, как я, Дюка люблю. А вы, Эстамп? Кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг раджи? Люблю и Эстампа, есть у него теплый угол за пазухой. Рениор жил у меня два месяца, а его жена кормила меня полгода, когда я сломал ногу. А ты – «Я тебя знаю», Чинчар, закоренелый грешник – как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой?… Двадцать лет разделило вас да случайная кровь. Выпил я – и болтаю, капитаны: всех вас люблю. Капер, верно, шутить не будет, однако – какой же может быть выбор? Даже представить этого нельзя.
– Жребий, – сказал Эстамп.
– Жребий! Жребий! – закричал стол.
Битт-Бой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за течением разговора; множество локтей лежало на столе, а за ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд Битт-Боя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Взглядом спросив о чем-то, понятном лишь одному ему, таинственную «Фелицату», Битт-Бой сказал:
– Осанистая эта бригантина, Эстамп. Кто ею командует?
– Невежа и неуч. Только никто еще не видел его.
– А ее груз?
– Золото, золото, золото, – забормотал Чинчар, – сладкое золото…
И со стороны некоторые подтвердили тоже:
– Так говорят.
– Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно.
– На нем аккуратная вахта.
– Никого не принимают на борт.
– Тихо на нем…
– Капитаны! – заговорил Битт-Бой. – Совестна мне странная моя слава, и надежды на меня, ей-богу, конфузят сердце. Слушайте: бросьте условный жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками. В живом деле что-нибудь живое взглянет на нас. Как кому выйдет, с тем и поеду, если не изменится одно обстоятельство.
– Валяй им, Битт-Бой, правду-матку! – проснулся кто-то в углу.
Битт-Бой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лисса теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем и затеял «жребий», чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний, рассеяний, моряцкой толкотни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово, «изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на «Фелицату», было еще слишком темно ему самому, и, упомянув о нем, руководствовался он только удивительным инстинктом своим. Так, впечатлительный человек, ожидая друга, читает или работает и вдруг, встав, прямо идет к двери, чтобы ее открыть: идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения.
– Провались твое обстоятельство! – сказал Дюк. – Что же – будем гадать! Но ты не договорил чего-то. Битт-Бой!
– Да. Наступает вечер, – продолжал Битт-Бой, – немного остается ждать выигравшему меня, жалкого лоцмана. С кем мне выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчугана с известием на корабль. Дело в том, что я, может быть, и откажусь прямо. Но все равно, играйте пока.
Все обернулись к окну, в пестрой дали которого Битт-Бой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли: стройная «Марианна», длинный «Президент», с высоким бушпритом; «Пустынник» с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный; легкая, высокая «Арамея» и та благородно-осанистая «Фелицата» с крепким, соразмерным кузовом, с чистотой яхты, удлиненной кормой и джутовыми снастями, – та «Фелицата», о которой спорили в кабаке – есть ли на ней золото.
Как печальны летние вечера! Ровная полутень их бродит, обнявшись с усталым солнцем, по притихшей земле; их эхо протяжно и замедленно-печально; их даль – в беззвучной тоске угасания. На взгляд – все еще бодро вокруг, полно жизни и дела, но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли неслышный ранее стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни… но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне… И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих.
– Вот, – сказал Битт-Бой, – летает баклан; скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе птица. Хорошо ли так, капитаны? Теперь, – продолжал он, получив согласное одобрение, – теперь так и решим. К какому он сядет ближе, того я провожу в эту же ночь, если… как сказано. Ну, ну, толстокрылый!
Тут четыре капитана наших обменялись взглядами, на точке скрещения которых не усидел бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, папа огня и мук. Надо знать суеверие моряков, чтобы понять их в эту минуту. Меж тем не осведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз меж «Президентом» и «Марианной», так близко на середину этого расстояния, что Битт-Бой и все усмехнулись.
– Птичка Божия берет на буксир обоих, – сказал Дюк. – Что ж? Будем вместе плести маты, друг Рениор, так, что ли?
– Погодите! – вскричал Чинчар. – Баклан ведь плавает! Куда он теперь поплывет, знатный вопрос?!
– Хорошо; к которому поплывет, – согласился Эстамп.
Дюк закрылся ладонью, задремал как бы; однако сквозь пальцы зорко ненавидел баклана. Впереди других, ближе к «Фелицате», стояла «Арамея». В ту сторону, держась несколько ближе к бригантине, и направился, ныряя, баклан; Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснув глазами.
– Есть! – кратко определил он. – Все видели?
– Да, да, Эстамп, все!
– Я ухожу, – сказал Битт-Бой, – прощайте пока; меня ждут. Братцы-капитаны! Баклан – глупая птица, но клянусь вам, если бы я мог разорваться на четверо, – я сделал бы это. Итак, прощайте! Эстамп, вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе или… расстанемся, братцы, на «никогда».
Последние слова он проговорил вполголоса – смутно их слышали, смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение. Эстамп нагнулся поднять трубку, и никто, таким образом, не уловил момента прощания. Встав, Битт-Бой махнул шапкой и быстро пошел к выходу.
– Битт-Бой! – закричали вслед.
Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице.
Теперь нам пора объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессией которых был организованный, так сказать, риск.
Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставившим свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полной неразрешенных тайн, – в кроткой и смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие и потрясенные, – наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного. Есть люди, двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо; их речи звучат предчувствиями; их близость навлекает несчастья. Есть такие выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «Легкий человек», «легкая рука» – слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе легких людей проще и ясней настроение; что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживленно-серьезны. Одна есть верная их примета: простой смех – смех потому, что смешно и ничего более; смех, не выражающий отношения к присутствующим.
Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лоцман Битт-Бой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно, как бы ни были тяжелы обстоятельства, иногда даже с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушение в тот рейс, в который он вывел его из гавани. Случай с Беппо, рассказанный Дюком, – не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям; никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лисс и Кассет и все побережье полуострова, но не терялся и в незначительных фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких, где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы Битт-Бой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо верил себе. Назовем это острым инстинктом – не все ли равно… «Битт-Бой, приносящий счастье» – под этим именем знали его везде, где он бывал и работал.
Битт-Бой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу «Колючей подушки», и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов, к короткой каменистой улице. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости, иногда внезапно бледнея под ударами мыслей. Около небольшого дома с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и прошел за низкую каменную ограду.
Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет, у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась было бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, побежав навстречу Битт-Бою. Ей было лет восемнадцать, две темные косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль стройной шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно в движениях и поворотах казалось беспокойным лучом. Ее неправильное полудетское лицо с застенчиво-гордыми глазами было прелестно духом расцветающей женской жизни.
– Режи, Королева Ресниц! – сказал, меж поцелуями, Битт-Бой. – Если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот наш вечер.
– Наш, наш, милый мой, безраздельно мой! – сказала девушка. – Этой ночью я не ложилась, мне думалось после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты.
– Девушка должна много спать и есть, – рассеянно возразил Битт-Бой. Но тут же стряхнул тяжелое угнетение. – Оба ли глаза я поцеловал?
– Ни один ты не целовал, скупец!
– Нет, кажется, целовал левый… Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок… – И он получил его вместе с его сиянием.
Но суть таких разговоров не в словах бедных наших, и мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать – вам будет грустно, завидно и жалко: вы увидите, как бьются две души, пытаясь звуками передать друг другу аромат свой. Режи и Битт-Бой, однако, досыта продолжали разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело.
Наступило, как часто это бывает, молчание: полнота душ и сигнал решениям, если они настойчивы. Битт-Бой счел удобным заговорить, не откладывая, о главном.
Девушка бессознательно помогала ему:
– Сделай же нашу свадьбу, Битт-Бой. У меня будет маленький.
Битт-Бой громко расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило смех этот коротким вздохом.
– Вот что, – сказал он изменившимся голосом, – ты, Режи, не перебивай меня. – Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился: – Я спрашивал и ходил везде… нет сомнения… Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу! Подожди, выслушай! Разве мы не будем друзьями? Режи… ты, глупая, самая лучшая! Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу больше: я пришел ведь только проститься! Я люблю тебя на разрыв сердца и… хоть бы великанского! Оно убито, убито уже, Режи! А разве к тому же я один на свете? Мало ли хороших и честных людей! Нет, нет, Режи; послушай меня, уясни все, согласись… как же иначе?
В таком роде долго говорил он еще, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко слезы, но душевное волнение спутало наконец его мысли.
Он умолк, разбитый нравственно и физически, – умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз ладони.
– Битт-Бой… – рыдая заговорила девушка. – Битт-Бой, ты дурак, глупый болтунишка! Ты еще ведь не знаешь меня совсем. Я тебя не отдам ни беде, ни страху. Вот видишь, – продолжала она, разгорячаясь все более, – ты расстроен. Но я успокою тебя… ну же, ну! – Она схватила его голову и прижала к своей груди. – Здесь ты лежи спокойно, мой маленький. Слушай: будет худо тебе – хочу, чтобы худо и мне. Будет тебе хорошо – и мне давай хорошо. Если ты повесишься – я тоже повешусь. Разделим пополам все, что горько; отдай мне большую половину. Ты всегда будешь для меня фарфоровый, белый… Я не знаю, чем уверить тебя: смертью, быть может?!
Она выпрямилась и сунула за корсаж руку, где, по местному обычаю, девушки носят стилет или небольшой кинжал.
Битт-Бой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму.
– Битт-Бой, – продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного, – ты умница, что молчишь и слушаешь меня. – Она продолжала, приникнув к его плечу: – Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь Битт-Бой, собака Умница и кошка Режи. Из Лисса тебе, собственно, незачем больше бы выезжать. Ты купишь нам всю новую медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде-везде: при врагах, при друзьях, при всех, кто придет, – пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту – как ты хотел улизнуть, негодный, – но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет твой бриг, мы проплывем вокруг света тридцать три раза…
Голос ее звучал сонно и нервно; глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами, затем устроилась поудобнее, поджав ноги, и легонько, зевотно вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду, над яркими подводными цветами.
– … И там много тюленей, Битт-Бой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста, так спокойнее. Ты меня не утопишь,
Битт-Бой, из-за какой-то там, не знаю… турчаночки? Ты сказал – я Королева Ресниц… Возьми их себе, милый, возьми все, все…
Ровное дыхание сна коснулось слуха Битт-Боя. Светила луна. Битт-Бой посмотрел сбоку: ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битт-Бой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилии неощутимой плавности, высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив ни мертв. Однако уходило время; луна поднялась выше… Битт-Бой тихо поцеловал ноги Режи и вышел, со скрученным в душе воплем, на улицу.
По дороге к гавани он на несколько минут завернул в «Колючую подушку».
Было около десяти вечера, когда к «Фелицате», легко стукнув о борт, подплыла шлюпка. Ею правил один человек.
– Эй, на бригантине! – раздался сдержанный окрик.
Вахтенный матрос подошел к борту.
– Есть на бригантине, – сонно ответил он, вглядываясь в темноту. – Кого надо?
– Судя по голосу – это ты, Рексен. Встречай Битт-Боя.
– Битт-Бой?! В самом деле… – Матрос осветил фонарем шлюпку. – Вот так негаданная приятность! Вы давно в Лиссе?
– После поговорим, Рексен. Кто капитан?
– Вы его едва ли знаете, Битт-Бой. Это – Эскирос, из Колумбии.
– Да, не знаю. – Пока матрос спешно спускал трап, Битт-Бой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости. – Так вы таскаетесь с золотом?
Матрос засмеялся.
– О, нет, – мы погружены съестным, собственной провизией нашей да маленьким попутным фрахтом на остров Санди.
Он опустил трап.
– А все-таки золото у вас должно быть… как я понимаю это, – пробормотал Битт-Бой, поднимаясь на палубу.
– Иное мы задумали, лоцман.
– И ты согласен?
– Да, так будет, должно быть, хорошо, думаю.
– Отлично. Спит капитан?
– Нет.
– Ну, веди.
В щели капитанской каюты блестел свет. Битт-Бой постучал, открыл двери и вошел быстрыми прямыми шагами.
Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собою, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, прищурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным и открытым.
– Кто вы? Что привело вас? – спросил он, не повышая голоса.
– Капитан, я – Битт-Бой, – начал лоцман, – может быть, вы слышали обо мне? Я здесь…
Эскирос перебил его:
– Вы? Битт-Бой, «приносящий счастье»? Люди оборачиваются на эти слова. Все слышал я. Сядьте, друг, вот сигара, стакан вина; вот моя рука и признательность.
Битт-Бой сел, на мгновение позабыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток; закурил, насильственно рассмеялся.
– К каким берегам тронется «Фелицата»? – спросил он. – Какой план ее жизни? Скажите мне это, капитан.
Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленной им, – вернее, намерения, – толкают иногда к откровенности. Однако, прежде чем заговорить, капитан прошел взад-вперед, чтобы сосредоточиться.
– Ну, что же… поговорим, – начал он. – Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман.
Мой характер покажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не могли, но благодаря им открылись новые, неведомые желания; взгляд стал обширнее, мир – ближе и доступнее. Влечет он меня – весь, как в гости. Я одинок. Проделал я, лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что позади – известно. К тому же есть у меня – была всегда – большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь свое путешествие. Тридцать бочек чужой солонины мы сдадим еще Скалистому Санди, а там – внимательно, любовно будем обходить без всякого определенного плана моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться, иногда – спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение; стоять в цветущих садах огромных рек, может быть, временно пустить корни в чужой стране, дав якорю обрасти солью, а затем, затосковав, снова сорваться и дать парусам ветер, – ведь хорошо так, Битт-Бой?
– Я слушаю вас, – сказал лоцман.
– Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми, и, один по одному, набрались у меня подходящие. Экипаж задумчивых! Капер нас держит в Лиссе. Я увильнул от него на днях, но лишь благодаря близости порта. Оставайтесь у нас, Битт-Бой, и я тотчас же отдам приказание поднять якорь! Вы сказали, что знали Рексена…
– Я знал его и знаю по «Радиусу», – удивленно проговорил Битт-Бой, – но я еще не сказал этого. Я… подумал об этом.
Эскирос не настаивал, объяснив про себя маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника.
– Значит, есть у вас к Битт-Бою доверие?
– Может быть, я бессознательно ждал вас, друг мой.
Наступило молчание.
– Так в добрый час, капитан! – сказал вдруг Битт-Бой ясным и бодрым голосом. – Пошлите на «Арамею» юнгу с запиской Эстампу.
Приготовив записку, он передал ее Эскиросу.
Там стояло:
«Я глуп, как баклан, милый Эстамп. „Обстоятельство“ совершилось. Прощайте все, – вы, Дюк, Рениор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня».
Отослав записку, Эскирос пожал руку Битт-Бою.
– Снимаемся! – крикнул он зазвеневшим голосом, и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу.
В душе каждого несся, распевая, свой ветер: ветер кладбища у Битт-Боя, ветер движения – у Эскироса. Капитан свистнул боцмана. Палуба, не прошло десяти минут, покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штаговых фонарей. Судно просыпалось впотьмах, хлопая парусами; все меньше звезд мелькало меж рей; треща, совершал круги брашпиль, и якорный трос, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила.
Битт-Бой, взяв руль, в последний раз обернулся в ту сторону, где заснула Королева Ресниц.
«Фелицата» вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий скалистый выход порта, Битт-Бой круто положил руль влево и вел так судно около мили, затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол; затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток.
Здесь произошло нечто странное: за его плечами раздался как бы беззвучный окрик. Он оглянулся, то же сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади них от угольно-черных башен крейсера падал на скалы Лисса огромный голубой луч.
– Не там ищешь, – сказал Битт-Бой. – Однако прибавьте парусов, Эскирос.
Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, шедшую со скоростью двадцати узлов, миль на пять за короткое время. Скоро повернули за мыс.
Битт-Бой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз к капитану. Они откупорили бутылку. Матросы, выпив тоже слегка «на благополучный проскок», пели, теперь не стесняясь, вверху; пение доносилось в каюту. Они пели песню «Джона Манишки».
Когда зачем-то вошел юнга, ездивший с запиской к Эстампу, Битт-Бой спросил:
– Мальчик, он долго шпынял тебя?
– Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее, а я убежал.
Эскирос был весел и оживлен.
– Битт-Бой! – сказал он. – Я думал о том, как должны вы быть счастливы, если чужая удача – сущие пустяки для вас.
Слово бьет иногда насмерть. Битт-Бой медленно побледнел; жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку.
Эскирос вздрогнул. Выше левого соска на побелевшей коже торчала язвенная, безобразная опухоль.
– Рак… – сказал он, трезвея.
Битт-Бой кивнул, и, отвернувшись, стал приводить бинт и одежду в порядок. Руки его тряслись.
Наверху все еще пели, но уже в последний раз, ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее, внизу услышалось только: «Южный Крест там сияет вдали…», и, после смутного эха, в захлопнувшуюся от качки дверь: «… Да помилует нас!»
Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лоцман Битт-Бой, «приносящий счастье».
Канат
Величко
- Посмотри-ка, кто такой
- Там торчит на минарете?
- И решил весь хор детей:
- «Это просто воробей!»
Если бы я был одержим самой ужасной из всевозможных болезней физического порядка – оспой, холерой, чумой, спинной сухоткой, проказой, наконец, – я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим, как в злые дни ужасной и сладкой фантазии, закрепостившей мой мозг грандиозными образами человеческих мировых величин.
Кому не случалось, хоть раз в жизни, встретить на улице блаженно улыбающуюся личность, всегда мужчину, неопределенного или седоволосого возраста, шествующего развинченной, но горделивой походкой, в сопровождении любопытных мальчишек, нагло смакующих подробности нелепого костюма несчастного человека?
Рассмотрим этот костюм: на голове – высокая шляпа, утыканная петушьими и гусиными перьями, ее поля украшают солдатская кокарда, бумажка от карамели и елочная звезда; сюртук, едва скрепленный сиротливо торчащей пуговицей, испещрен обрывками цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные обслужены золотой бумагой. В руке безумца палочка с золотым шариком или сломанный зонтик, перевитый жестяной стружкой.
Это – король, Наполеон, Будда, Христос, Тамерлан… все вместе. Торжественно бушует мозг, сжигаемый ядовитым светом; в глазах – упоение величием; на ногах – рыжие опорки; в душе – престолы и царства. Заговорите с грандиозным прохожим – он метнет взгляд, от которого душа проваливается в пятки пяток; вы закуриваете, а он видит вас стоящего на коленях; он говорит – выкрикивает, весь дергаясь от полноты власти: «Да! Нет! Я! Ты! Молчать!» – и эта отрывистая истерика, мнится ему, заставляет дрожать мир.
Такой-то вот дикой и ужасной болезнью, ужасной потому, что – перевернем понятия – у меня бывали приступы просветления, я был болен два года тому назад, в самую счастливую, со стороны фактов, эпоху моей жизни: брак по любви, смешные и хорошие дети – и золото, много золота в виде бледных желтых монет, – наследство брата, разбогатевшего чайной торговлей.
Я потерял в памяти начало болезни. Я никогда не мог вспоследствии, не могу и теперь восстановить то крайне медлительное наплывание возбужденного самочувствия, в котором постепенно, но ярко меняется оценка впечатления, производимого собой на других. Приличным случаю примером может здесь служить опрокинутость музыкального впечатления, вызываемого избитым мотивом. Нормальный порядок дает вначале сильное удовольствие, понижающееся по мере того, как этот мотив, в повторении оставаясь одним и тем же, заучивается детально до такой степени, что даже беглое воспоминание о нем отбивает всякую охоту повторить его голосом или свистом.
Такая избитость мотива делает его надоедливым и пустым. Теперь – если представить шкалу этого привыкания в обратном порядке – получится нечто похожее на шествие от себя, как от обыкновенного человека, к восхищению собой, – во всех смыслах, – к фантастическому, счастливому упоенью.
Я не могу точно рассказать всего. Меня это волнует. Я как бы вижу себя перед зеркалом в вычурно горделивой позе, с надменным лицом и грозно пляшущими бровями. Но – главное, главное необходимо мне рассказать потому, что в процессе писания я, обнажив это главное от множества перемешанных с ним здоровых моментов, ставлю между ним и собой то решительное расстояние зрителя, когда он знает, что не является частью мрачного и унылого пейзажа.
Отменно хорошее настроение, упорная мысль о чем-либо, поразившем внимание, и особенный род ликующей нервности служили для меня точными признаками надвигающегося безумия. Однако способность к самонаблюдению, неуловимо исчезая, скоро уступала место демону Черного Величия. В период протрезвления я вспоминал все. Отчаяние ума, свирепствующего в бессильной тоске анализа, подобного цифрам бухгалтерской книги, рассказывающей крах предприятия, отчаяние хозяина, видящего, как пожар уничтожает его дом и уют, – вот пытка, которую я переносил три с половиной года.
Демон овладевал мною с помощью следующих ухищрений.
Первое: мир прекрасен. Все на своем месте; все божественно стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне тридцать шестым зрением, но не укладывается в слова.
Второе: я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее.
Третье: впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко, я очаровываю и покоряю. Каждый мой жест, самый незначительный взгляд, даже мое дыхание держат присутствующих в волшебном тумане влюбленного восхищения; их глаза не могут оторваться от моего лица; они уничтожаются и растворяются в моей личности; они для меня – ничто, а я для них – все.
Четвертое: я – владыка, император неизвестной страны, пророк или страшный тиран. Мне угрожают бесчисленные опасности; меня стерегут убийцы; я живу в дворцах сказочной красоты и пользуюсь потайными ходами. Меня любят все красавицы мира.
Пятое: мне поставлен памятник, и памятник этот – я, и я – этот памятник. Чувство жизни не позволяет мне оставаться подвижным на пьедестале, а чувство каменной статуйности заставляет ходить.
Теперь, полностью восстановляя канат и все, что с ним связано, я опишу события на фоне припадка болезни, временами взглядывая на себя со стороны. Это необходимо.
Я шел по набережной. Стоял кроткий апрельский день. Белые балконы, желтые плиты тротуара и голубая река с перекинутыми вдали отчетливыми мостами казались мне в торжественной строгости моего отношения ко всему этому блеску жизни, робкой лестью побежденных неукротимому победителю. Мое предназначение – спасти мир; мои слова и добродетель Великого Пророка стоят неизмеримо выше соблазнов несовершенного человеческого зрения, так как второе, пророческое мое зрение видело «вещи в себе» – потрясающую тайну вселенной.
Я родился в Сирии три тысячи лет тому назад; я бессмертен и всеобъемлющ; не умирал и не умру; мое имя – Амивелех; мое откровение – благостное злодейство; я обладаю способностью превращений и летаю, если того требуют обстоятельства.
Я захотел есть и вошел в кафе.
Низенькое длинное помещение это было отмечено посредине узкой, прилегающей бордюром к стенам и потолку аркой. Я принял ее за зеркало благодаря странному совпадению. Столик, за которым я сидел лицом к арке, одинаковый с другими столиками, помещался геометрически точно против столика, стоявшего за аркой. У того столика, на равном моему расстоянии от бордюра, так же уперев руки в лицо, сидел второй я. Беглый взгляд, каким я обменялся с воображаемым благодаря всему этому зеркалом, вскоре отразил, надо думать, сильнейшее мое изумление, так как мое предполагаемое отражение встало. Тогда я заметил то, чего не замечал раньше: что этот неизвестный – чудовищно похожий на меня человек – одет различно со мной. Иллюзия зеркала исчезла.
Он встал, перешел, внимательно присматриваясь ко мне, узкое, почти лишенное посетителей зало и сел у окна вне поля моего зрения, так что, желая взглядывать на него, я должен был отрываться от еды и поворачивать голову. Я взволнованно ждал. Я знал, кто это с моим взглядом и моими щеками. Это был он, князь мира сего, вечный и ненавистный враг.
Я съел то, что подал издали наблюдавший за моими движениями слуга с чрезвычайно глупым и напряженным лицом, затем решительно повернулся к нему. Я хотел немедленной схватки, борьбы чудесных влияний и торжества Духа.
– Ты – трус! – громко сказал я, стукнув кулаком по столу.
В продолжение всего нашего разговора, начатого так шумно, но оконченного вполголоса, – так как речь шла о полубожеских силах, – в углах залы и за стойкой происходили отвратительные кривляния. Люди шептались, подмигивали друг другу, показывали на нас пальцами и кивали. Зная, что они помешаны, я не обращал на этих жалких отродий особенного внимания. Вся сила моего волнения сосредоточилась на нем. Я повторил:
– Ты – трус!
Он молчал, загадочно улыбаясь, как бы думая обмануть меня относительно истины своего существа, затем встал и пересел за мой столик. Держался он очень скромно; его поза, движения, улыбка и взгляды говорили о могучем притворстве. Я видел его крайне внимательные зрачки и читал в них: казалось, их черный блеск блистал рыжим огнем ада. Однако вся моя пророческая проницательность спасовала перед западней мстительного плана, изобретенного этим Двуличным.
– До удивления, – начал он, – до крайнего удивления похожи мы с вами, сударь. Смею спросить, кто вы и ваше имя?
Мгновение я колебался: сорвать с него маску или притвориться наивным? Подумав, я решил быть самим собой, относительно же него держаться доверчиво, дабы показать врагу все презрение, какое я мог обнаружить таким явно издевательским способом.
Я сказал:
– До крайнего, крайнего удивления. Мое имя – Амивелех. Вы, конечно, не знаете этого. Откуда вы можете иметь, в самом деле, какие-либо сведения обо мне? Наша страна пустынна, это – страна вздохов, и я послан Пророком Пророков ради страшного труда спасительного злодейства. А вы?
– Я – Марч. Канатоходец Марч.
Он говорил, конечно, подобострастно, но в слове «Марч» слышалась профессиональная гордость. Меня сильно забавляло все это. Дьявол на земле должен иметь профессию! Доверия к профессионалу у людей значительно больше, чем к тем, кто на вопрос о себе невразумительно отвечают: «Я… собственно… знаете…» – и тому подобное.
– Итак?
– Совершенно верно. Я зарабатываю хлеб очень трудным искусством.
– Знаю, – сказал я. – Вы появляетесь над толпой в шелковом раззолоченном костюме. В руках у вас шест. Вы бегаете взад и вперед по туго натянутой проволоке, приседаете и приплясываете с похвальной целью доказать зрителю, что это не так легко, как кажется.
– Совершенно верно, господин Амивелех. Я здорово устаю. Когда я был помоложе, мне легко давались такие вещи, как переход Ниагары или подскакивание на одной ноге. А теперь не то. Жаль, что вы, глубокоуважаемый Амивелех, имеете о нашем ремесле туманное представление. Оно очень нелегкое и опасное. Вы, например… хо-хо! Я говорю, что если бы вы… попробовали… Даже вообразить это нельзя без ужаса. Нет, нет, у меня очень мягкое сердце. Одна мысль о том, что вам, например, пришло в голову… У меня даже голова закружилась… тьфу! Какие иногда бывают смешные мысли!
– Марч! – внушительно сказал я. – Я вижу, как извивается и трепещет твоя душа. Спрячь ее!
– Вот так штука! – захохотал он. – Задали же вы мне задачу! Да разве от вас спрячешь что-нибудь? Вы людей насквозь видите!
– А! Ты дрожишь?!
– Дрожу, весь дрожу, господин Амивелех. Дело в том, что у меня, знаете, есть воображение. Воображение – это мое несчастье. Оно меня мучает, господин Амивелех, особенно в те минуты, когда ходишь по проволоке. Ты идешь, а оно тебе говорит: «Марч, твоя левая нога поскользнулась…» И мне нужно крепко стоять этой ногой. Она утомляется, вздрагивает. Опять голос: «Марч, ты теряешь равновесие… наклонился… падаешь… вот твое тело у земли – три фута, фут, дюйм… удар!» Становится очень холодно, господин Амивелех, пот бежит по лицу, шест тяжелеет, канат стремится выскользнуть из-под ног. Я на уровне циферблата соборных часов – раз было так – и я вижу, что стрелки больше не двигаются. Мне нужно еще полчаса увеселять публику. Но стрелки не двигаются… Ах! Вот вам воображение, господин Амивелех, ну его к черту!
– Так далеко? – спросил я. – Конечно, ты шутишь, опасливый Марч. Но я, я могу помочь твоей беде. Повелеваю: расстанься с воображением!
– Готово! – воскликнул он, подняв с выражением необычайного изумления свои, такие же, как мои, черные глаза к потолку. – Ага! Вот оно и улетело… воображение… дымчатый комочек такой. Чуть-чуть осталось его… совсем немного…
Его притворство становилось невыразимо отвратительным. Он потирал руки и вкрадчиво улыбался. Он обшаривал взглядом мое лицо и кривлялся, как продажная женщина.
– Сегодня, в три часа дня, – продолжал он, осторожно понизив голос, – я выступаю на площади Голубого Братства со своей обычной программой. Работая, я буду думать о вас, только о вас, дорогой учитель Амивелех. Я горжусь, что несколько похож на вас, – смел ли я быть совершенно похожим? – что судьба оказала мне великую честь, создав меня как бы в подражение великому вашему существу! О, я преклоняюсь перед вами! Ваша жизнь драгоценна! Одна мысль, что каким-то чудом вы могли бы оказаться на моем месте, не имея ни малейшего представления о том, как надо держаться на канате… что вы шатаетесь, падаете… какой ужас! Вот он, остаток воображения. Да сохранит вас Бог! Пусть никогда нелепая мысль…
Я остановил его жестом, от которого содрогнулись в своих пыльных гробницах египетские цари. Он искушал меня. Он становился железною пятой своего черного духа на белое крыло моего призвания, и я принял вызов с царственной свободой цветка, безначально распространяющего аромат в жадном эфире.
– Марч! – тихо заговорил я. – На наш невиданный поединок смотрит погибающая вселенная. Так надо, и да будет так! Я, а не ты, я в три часа дня сегодня появлюсь на площади Голубого Братства и заменю тебя со всем искусством жалкой твоей профессии!
– Но…
– Ни слова. Ни сло-ва, Марч!
– Я…
– Молчи! Тише!
– Вы…
– Слушай, не думаешь ли ты, что тайна великой борьбы священна? Умолкни! Когда говорит Амивелех, молчат даже амфибии. Мы отправляемся!
Наступило молчание. За прилавком кафе сидели три кобольда[8] – свита ненавистного Марча. Я слышал, как гремит в его душе подлая, трескучая радость. Что касается меня, то я переживал нечто подобное величавому грому – предчувствие пышного торжества. Я знал, что уничтожу черного двойника. Я уже видел его полный отчаяния полет в бездну, откуда он появился.
Мы молча смотрели друг на друга. Нас соединял жуткий ток взаимного понимания. Затем Марч, таинственно подмигнув мне, встал и вышел. Я, не торопясь, последовал за ним.
Когда я очнулся от продолжительного раздумья, в течение которого совершенно не замечал и не мог заметить, что говорю и делаю и что говорил Марч, я увидел, что стою в просторной полотняной палатке у стола, на котором лежал расшитый золотом бархатный костюм Марча. Полуприподнятая занавеска входа позволяла видеть часть площади, черную от массы людей. Неясный, хлопотливый шум проникал в палатку. Я видел еще нижнюю часть столбов, между которыми была протянута проволока; дальний столб казался не толще карандаша, а ближний, почти у самой палатки, толщиной с хорошую мачту. Лестница, приставленная к нему, отбрасывала на столб тень; между лестницей и столбом, среди булыжников, искрилась трава. Помню, меня как бы толкнула эта простота обыкновеннейшего явления: трава, камни. Не более как на момент я содрогнулся от сильнейшей тоски. Не будь со мной Марча, я, может быть, оказался бы в начале реакции, перелома. Я вспомнил о нем, как о дьяволе, и внутренний, неизъяснимый удар безумия тотчас же вернул меня в круг ложного озарения.
Замысел Марча, как искусителя, был ясен до очевидности. Зная, что я бессмертен, хитрец этот надеялся – о, жалкий! – увидеть мое унижение, когда, по злобным его расчетам, я, силой его заклинаний, грохнусь с высоты пятиэтажного дома. Нимало не сомневался я, что именно этим вознамерился вечный мой враг стяжать лавры победителя. Я знал, однако, что не только по проволоке, а по морской буре могу пройтись с легкостью водяной блохи, не замочив ноги. Поэтому, сгорая от нетерпения скорее поразить демона своей властью над послушной материей, я, оглянувшись на Марча с гримасой, надо полагать, не совсем вежливой, стал раздеваться так порывисто, что оборвал несколько пуговиц.
Разумеется, я вел себя как заправский канатоходец. Хотя Марч помогал мне одеваться, я чувствовал, что мог бы отлично справиться без него. На мне появилось трико телесного цвета, короткие штаны голубого бархата с таким обилием позументов, что я напоминал сказочную жар-птицу, и плюшевая зеленая шляпа с белым пером.
Как только Марч пытался подать мне совет касательно баланса или чего другого, я мигом осаживал его, говоря, что все эти указания бесполезны даже попугаю на жердочке, не только мне, поющему хвалу Духу. Я взглянул в зеркало и подбоченился. Затем я стал дрыгать поочередно ногами, любуясь их формами и упругостью. Послав иронический воздушный поцелуй Марчу, смотревшему на меня, – притворно, конечно, – с беспредельным обожанием, я, подняв голову, вышел из палатки и огляделся.
Ха! Гул и рев! Толпа побелела от поднятых для рукоплесканий рук. Здравствуйте, компрачикосы! Я кивнул и стал взбираться по лестнице.
С момента моего выхода меня охватил вдруг подмывающий, как стремительная волна, род нервной насыщенности, заполнившей все видимое пространство. Я как бы двигался в невесомой плотности, став частью среды, единородно слитой и напряженной в той же степени неуловимо быстрых вибраций, какие, – я потрясенно чувствовал это, – пронизывают меня с ног до головы вихренными касаниями. Я сделался легким, как в отчетливом сне, когда отсутствуют ощущения тяжести и мускульных усилий. Мне было ясно, что я лишь делаю вид, будто подымаюсь, пользуясь, с соответственными тому движениями, перекладинами лестницы. Мной двигало желание двигаться. Я не испытывал, не замечал усилий. Я мог, в том же или ином любом темпе, совершить лестничное путешествие на Луну, дыша по окончании его ни чаще, ни медленнее. Только исключительной остротой безумия могу я объяснить такое состояние и то, что произошло дальше.
Подымаясь в подымающемся вместе со мной, застрявшем в ушах обширном гуле толпы, рассматривая ее овал, охвативший линию натянутой между столбов проволоки, я на теплом ветре между небом и землей был соединен с зрителями именно той нервной насыщенностью пространства, о которой упомянул выше. Я не могу объяснить, как я воспринимал токи, подобные электрическим, которые, безостановочно вступая в меня волнистыми усилениями, составляли как бы нечто среднее между настроением, выраженным словами, и яркой догадкой, подтвержденной обострением интуиции. Эти колебания токов, относимые мною тогда за счет пророческого прозрения, я покажу наиудобнее простыми словами, ставя в вину несовершенству человеческого языка вообще то странное обстоятельство, что мы осуждены читать в собственной душе между строк на невероятно фантастическом диалекте.
Я воспринимаю следующее:
Он вышел из палатки.
Он приближается к лестнице.
Он лезет по лестнице.
Он продолжает ловко взбираться по лестнице.
Скоро он перейдет на проволоку.
Неизменным, основным тоном этих поступлений была уверенность, – серьезная, непоколебимая уверенность в том, что я, Марч, искусный канатоходец, покинул палатку и делаю совершенно безошибочно все нужное для того, чтобы произвести ряд опытов напряженного равновесия. Я был патентованным сумасшедшим, но не настолько, чтобы в этом исключительном положении не отмечать некоторою, таившеюся захирело и глухо здоровою частью души своеобразного действия, производимого всплывающим извне массовым тоном уверенности. Представьте человека, связанного по рукам и ногам, в полном неведении относительно срока освобождения, представьте затем, что веревки, стянувшие его тело, чудесно ослабевают в сюрпризной, очаровательно доброй постепенности; что обнадеженный человек, пробуя двигать членами, двигается действительно, встает, ходит, подпрыгивает, и вы получите некоторое приближение к истине моих ощущений, с той разницей, что я нимало не сомневался в родстве своем со всем чудесным и исключительным.
Взобравшись наверх, я уселся в приделанное к концу бревна деревянное кресло, а ноги опустил на толстую блестящую проволоку, тянувшуюся от моих ступней вогнутой воздушной чертой к далекому противоположному столбу с маленьким на нем цветным флагом. Второй флаг, сзади, над моей головой, шелестел под ветром, иногда касаясь лица, и это – близость предмета, с которым вообще соединено понятие высоты, предмета, употребленного согласно своему назначению, – более, чем доказательства глаз, дало мне то острое ощущение высоты, которое одновременно гипнотизирует, туманит и возбуждает, подобно ожиданию выстрела. Я сидел под небом, над охваченной глазами толпой, а предо мной на специальной рогатке лежал поперек каната длинный тяжелый шест, служащий необходимым балансом.
Послав зрителям воздушный поцелуй, я услышал рев и рукоплескания. О, если бы они знали, кто я! Впрочем, я собирался немного погодя сойти к ним с проволоки по воздуху. Все вопросы должно было решить это чудесное схождение небесного ставленника. Я решил дать великое откровение.
Радостно засмеявшись, так как очевидность моего торжества была полной, я встал, взял шест (я должен был до времени быть во всем Марчем) и, отделившись таким образом от последнего прочного основания, ступил на зыбкую проволоку. Не долее как секунду я стоял совершенно неподвижно над пустотой, с чувством немоты мысли и остолбенения; затем двинулся и пошел.
Да, я пошел, и пошел не с большим затруднением, чем то, с каким, расставив руки, способен пройти по ровному толстому бревну всякий человек, вообще способный ходить. Оркестр заиграл марш. Я ставил ноги в такт музыке, колебля шест более для своего развлечения, чем по необходимости, так как, повторяю, после первого впечатления внезапности пустоты я оказался вне губительной нормы. Нормально я должен был оцепенеть, потерять самообладание, зашататься, с отчаянием полететь вниз, не попытавшись, быть может, даже ухватиться за проволоку. Вне нормы я оказался, – необъяснимо и, главное, самоуверенно, – стойким, без тени головокружения и тревоги. Я продолжал быть в фокусе напряженных токов, излучаемых огромной толпой; их незримое действие равнялось физическому. Я двигался в совершенно поглощающем мое телесное сознание незримом хоре уверенности, знания того, что я, Марч, двигаюсь и буду двигаться по канату, не падая, до тех пор, пока мне этого хочется.
Разумеется, в те минуты я не был занят подробным анализом ощущений. Я восстановил и определил их впоследствии. Я думал главным образом о посрамлении Марча, о тех муках, какие должен испытывать он теперь, видя, что его расчеты на мою гибель рассыпались в прах, и о том, что блаженство духовной власти в соединении с маршем «Славные ребята» – предел восторга, выносимого человеком.
При каждом шаге ноги мои, согласно закону тяжести, находились в вершине тупого угла, образуемого проволокой. Она колебалась, отвечая давлению ноги многократным, разливающимся по всей ее длине гибким волнением; я шел как бы по глубокому сену. Постепенно, когда я начал приближаться к середине пути, раскачивания проволоки делались сильнее и глубже. Это, при почти полной атрофии физического сознания, при машинальности движений моих, производило на меня страннейшее впечатление. Мне казалось, что между мной и проволокой нет никакой связи, кроме обманчивого подобия взаимной зависимости, что канат таинственным образом подражает – следует моим движениям, и я, если бы захотел, мог бы успешно шествовать над ним, заставляя проволоку так же колебаться и оттягиваться вниз, как следуя по ее линии.
Я только что собрался произвести этот опыт – опыт окончательного презрения ко всяким точкам опоры, как быстро, но незаметно для себя вынужден был перейти к созерцанию новых, весьма значительных и конкретных прозрений – результату сложности, возникшей в первоначальном однородном тяготении токов. Я мог бы даже сказать, откуда, из какой части толпы шли тяги знаменуемости оригинальной. Остальные видоизменения токов, словесная душа их воспринимались мной на протяжении всего кольца зрителей; иногда лишь незначительные, дрожащие колебания давали в этой среде сгустки подобно скрещиванию лучей рефлекторов.
Первоначально стало навеиваться в меня нечто хмыкающее, ровное, как барабанная трель, что, обострив внимание, я безотчетно стал переводить так: «Это акробат Марч. Марч, чувствующий себя на канате, как дома. Вот мы на него смотрим. Акробаты, говорят (мы говорим, все говорят), показывают иногда чудеса ловкости. Острое восхищение – увидеть чудеса ловкости! Однако этот Марч, видимо, не из тех. Он идет по канату; просто идет. А что же дальше? Нам мало этого. Пусть он станет на голову и завертится волчком. Разве это так трудно – идти по канату? Я не пробовал идти по канату. Я, может быть, попробую. Да. Вдруг это совсем пустяковое дело? Наверное, это не совсем замысловатое дело. Вот он идет, просто идет и держит в руках шест, высоко над землей. Он идет, а мы смотрим (скучно!), как он идет, как будет идти».
Этот чужой идиотизм заставил меня насторожиться. Я охлаждался, начал охлаждаться, как кипяток, когда в него суют ложку, уменьшает бурление. Я осмотрелся. Я был наравне с крышами. Преглупый вид у крыш! Их выпяченные слуховые окна зевали, как беззубые рты. Внизу весело носилась лохматая собачка, взад-вперед, взад-вперед! У меня тоже был фоксик, я о нем вспомнил теперь и удивился. Зачем, собственно, фоксик Амивелеху? Я – кто же такой? Я – Амивелех, да…
Неожиданно в противное густое хмыканье врезался развеселивший меня тонкий вздох радости:
– Весьма приятно, и мы благодарны. Ходите на здоровье! Хорошо видеть ловких людей!
Я не успевал думать. Я был прикован к хору своей души, где смешивались все тяги и перекликались волеизъявления. Это начинало мне мешать двигаться; я подходил к другому столбу, но, находясь от него не далее как в двадцати футах, остановился. Я чувствовал себя мошкой, попавшей в чей-то большой, неподвижно смотрящий глаз, на самое пламя зрения, в то время как должен был держать сам в себе все видимое и невидимое. Я решил немедленно сойти по воздуху к зрителям, сбросив жалкую личину канатоходца. Марч не мог быть в претензии на меня, так как, по моему мнению, я достаточно доказал ему всю невозможность дальнейшей борьбы. Движение по воздуху, надо полагать, окончательно уничтожило бы бессмысленного противника.
Размышляя об этом, я в то же время обратил внимание на суматоху, поднявшуюся слева от меня, сзади толпы. Там бесновалась кучка людей, в средине которой, схваченный за ворот, извивался человек в котелке. Раздавались крики: «Мошенник! Вор! Я тебе покажу! Полицию!» – и т. п. По-видимому, поймали карманника. Потому ли, что это банальное приключение вызвало ряд мыслей практического характера, закрепленных чьим-то пронзительным визгом, или нервная система, перегруженная безумием до отказа, напряженно ждала малейшего движения, чтобы, прорвав плен, излить яд, – только я почувствовал, что внутренние мои движения, их сверкающий вихрь внезапно остановились. Сознание прояснилось. Туча ассоциаций, сопровождающих понятие воровства, во всей их плотно земной зависимости, включительно до размышлений о пользе исправительных тюрем, мгновенно оседлав мозг, разодралась с великими тайнами Амивелеха, прозаически погасила их, и я, продолжая стоять на проволоке с шестом в усталых руках, проникся, несмотря на жару, терпким ознобом. Я потрясенно возвратился к действительности. Видения, жалостно побледнев, взвились подобно волшебному пейзажу театрального занавеса, и за ними сам себе предстал я – лунатик, разбуженный на карнизе крыши, я – чиновник торговой палаты Вениамин Фосс, над грозно ожидающей пустотой, в костюме канатоходца, с головокружением и отчаянием.
Давно уже настойчивый холод (понятия времени, разумеется, здесь очень условны) отвратительного желания, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами. Теперь усилилось людское тяготение. Меня попросту желали видеть убитым. Началось это глухо и спрятанно, как чирканье спички поджигателя, опасающегося произвести шум. Желающие не хотели желать. Они рассматривали свои черные мысли, как неответственную игру ума. Однако хотение это было сильнее принципов гуманности. Раздвигая корни, оно укреплялось в податливом состоянии душ с неуклонностью вожделения. Его зараза действовала взаимно среди всех, объединенных раздражающей зрительной точкой – мной, могущим потерять равновесие. Я читал: «Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы, в сущности, явились сюда затем, чтобы посмотреть, не упадешь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть – надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь кто-то все-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же… ну!.. Падай, а не ходи! Падай!»
Я смутно, с ужасом воспринимал это. Я действительно шатался. Шест бешено прыгал в моих руках. Каждое, казалось бы, целесообразное усилие вызывало неописуемое волнение проволоки. Спина и ноги готовы были сломаться от напряжения. Площадь, заполненная народом, кружилась и опрокидывалась: на нее стремглав падало небо. Солнце пылало у моего лица.
– Спасите! Спасите! – закричал я.
Дальнейшее не во всем подвластно памяти. Я выпустил шест, мгновенно черкнувший воздух; затем, согнувшись, ухватился руками за канат и повис, содрогаясь от потрясения. Канат вследствие сильного толчка бешено раскачался. Проволока резала руки. С воплями, в отчаянии бессмысленной смерти, сопротивляясь падению, я наконец испытал нечто напоминающее насильственное, грубое разжатие пальцев. Это было очень болезненно. Я выпустил канат с ощущением стремительного полета вверх, и сознание мое смолкло.
Я упал в сетку. Помощники Марча успели, подбежав как раз вовремя, растянуть ее подо мной. Суматоха, поднявшаяся после этого несчастного случая, доставила мне множество неприятностей. Марч скрылся. Два дня я доказывал следствию и корреспондентам, что, будучи Фоссом, никак не могу быть Марчем. Самоличность моя, подтвержденная второстепенными физическими различиями и показаниями моей семьи, установила, однако, что я, даже на пристальный взгляд, несомненно разительно схож с Марчем, не исключая голоса и еще кое-чего, заметного при движении.
Я объяснил приключение капризом, похмельной фантазией; хождение объяснил гимнастикой юности… Так ли это? Этот вопрос, может быть, мысленно задавали многие, знающие меня. Но кто им ответит? Я спрятал правду в момент своей болезни, навсегда оставившей меня после каната. Я не испытывал даже легчайших приступов. Идея величия безвозвратно померкла. Я слышу: «Падай!» – всякий раз, когда при мне произносят сколько-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь имя. Между тем я очень люблю людей. Их неудержимо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканиям с пристальностью запоздавшего путника, придерживающего пальцем спуск револьвера. Кислота, а не помада заставляет блестеть железо. Вот, это бы железо…
Поиски Марча привели к полному разъяснению его авантюры. Его жизнь была застрахована крупной суммой – значительным состоянием, а ряд шантажей, жертвами которых являлись богатые истеричные дамы, заставлял думать о безопасности. Раскалив податливого безумца, так заметно похожего на него, Марч после неминуемой, по его расчетам, моей смерти – при первых же шагах по проволоке – получал через жену страховую премию, а через гроб «Фосса-Марча» – загробную жизнь под любым именем.
Мне кажется, мое толкование вполне правильно. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я каждый день пью за его здоровье. Это мой избавитель. Его портрет вы можете видеть в «Вестнике цирковых деятелей» за 1913 год. В нем нет ничего дьявольского.
Словоохотливый домовой
Я стоял у окна, насвистывая песенку об Анне…
X. Хорнунг
Домовой, страдающий зубной болью, – не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но это так, это быль, – маленький грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывшей огонь. Мерно покачивая нечесаной головой, держался он за обвязанную щеку, стонал – жалостно, как ребенок, и в его мутных красных глазах билось страдание.
Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть…
– Теперь все равно, – сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда птица в ударе, – все равно, тебе никто не поверит, что ты видел меня.
Сделав на всякий случай из пальцев рога улитки, то есть «джеттатуру», я ответил:
– Не бойся. Не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст.
– И-ох. Как, несмотря на то, трудно уйти отсюда, – возразил маленький домовой. – Вот послушай. Я расскажу, так и быть. Все равно, у меня болят зубы. Когда говоришь – легче. Значительно легче… ох. Мой милый, это был один час, и из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. Мои-то, мои… – Он плаксиво вздохнул. – Мои-то, ну, – одним словом, наши, давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как ушли отсюда, а я не могу, так как должен понять.
Оглянись – дыры в потолке и стенах, но представь теперь, что все светится чистейшей медной посудой, занавеси белы и прозрачны, а цветов внутри дома столько же, сколько вокруг в лесу; пол ярко натерт;
плита, на которой ты сидишь, как на холодном, могильном памятнике, красна от огня, и клокочущий в кастрюлях обед клубит аппетитным паром.
Неподалеку были каменоломни – гранитные ломки. В этом доме жили муж и жена – пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену – Анни. Ей было двадцать, а ему двадцать пять лет. Вот, если тебе это нравится, то она была точно такая, – здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника из набившейся годами земли, и демонстративно преподнес мне. – Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась, так как не была только хозяйкой; для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. Не удивляйся, в этом есть магия, великое знание прекрасной души, но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки; люди – непроницательны.
«Анни! – весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где служил в конторе. – Я не один, со мной мой Ральф». Но шутка эта повторялась так часто, что Анни, улыбаясь, без замешательства сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга – она бежала к нему, а он приносил ее на руках.
По вечерам он вынимал письма Ральфа – друга своего, с которым провел часть жизни, до того как женился, и перечитывал вслух, а Анни, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море и блеске чудных лучей по ту сторону огромной нашей земли, о вулканах и жемчуге, бурях и сражениях в тени огромных лесов. И каждое слово заключало для нее камень, подобный поющему камню на перекрестке, ударив который слышишь протяжный звон.
«Он скоро приедет, – говорил Филипп, – он будет у нас, когда его трехмачтовый „Синдбад“ попадет в Грес. Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам».
Случалось, что Анни интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа; тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге, причудах, великодушии и о судьбе, напоминающей сказку: нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружево громких легенд, вытканное из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, опасностей и находок. Вечная игра. Вечное волнение. Вечная музыка берега и моря.
Я не слышал, чтобы они ссорились, – а я все слышу. Я не видел, чтобы хоть раз холодно взглянули они, – а я все вижу. «Я хочу спать», – говорила вечером Анни, и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая, она говорила: «Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с тобой?» Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза: «Ворона ходит по крыше; ветер шумит в деревьях; камни блестят в ручье, – спи и не ходи босиком».
Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет; потом умывался, приготовлял дрова и ложился спать, засыпая сразу, и всегда забывал все, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где вьют из пыли и лунных лучей феи замечательные ковры.
– Ну, слушай… Немного осталось досказать мне о трех людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день полного расцвета земли, когда Филипп, с записной книжкой в руке, отмечал груды гранита, а Анни, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиною в половину тебя. Если его ударишь, он долго звенит, все тише и тише, но, думая, что он смолк, стоит лишь приложиться ухом – и различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос.
Наши лесные дороги – это сады. Красота их сжимает сердце, цветы и ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так как глаза устают от него и бродят бесцельно; желтый и лиловатый и темно-зеленый свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего.
Анни остановилась, слушая, как в самой ее груди поет лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что ее не видят, но человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише, наконец он остановился; продолжая улыбаться, взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут.
Он был смугл – очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анни, темнея еще больше и ярче; а светлые глаза женщины кротко блестели.
Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи.
Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука; тогда он протянул руку, и она – медленно – протянула свою, и руки соединили их. Он взял ее голову – осторожно, так осторожно, что я боялся дохнуть, и поцеловал в губы. Ее глаза закрылись.
Потом они разошлись – и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходившего к ним, Анни поспешила к нему:
– Вот Ральф; он пришел.
– Пришел, да. – От радости Филипп не мог даже закричать сразу, но наконец бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца: – Анни ты уже видел, Ральф. Это она.
Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи.
– Ты поживешь у нас, Ральф; мы все покажем тебе. И поговорим всласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя.
Анни положила руку на плечо мужа и взглянула на него самым большим, самым теплым и чистым взглядом своим, затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражения, как будто оба равно были близки ей.
– Я вернусь, – сказал Ральф. – Филь, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге. Потому я не захватил багажа. И я немедленно отправлюсь за ним.
Они условились и расстались. Вот все, охотник, убийца моих друзей, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне.
– Ральф вернулся?
– Его ждали, но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело.
– А те?
– Они умерли, умерли давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она. Он шел за ее гробом, полуседой, потом он исчез; передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Но что до этого?… Зубы болят, и я не могу понять…
– Так и будет, – вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую, немытую лапу. – Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца; домовые – непроницательны.
Сердце пустыни
Открытие алмазных россыпей в Кордон-Брюн сопровождалось тягой к цивилизации. Нам единственно интересно открытие блистательного кафе. Среди прочей публики мы отметим здесь три скептических ума – три художественных натуры, – три погибшие души, несомненно талантливые, но переставшие видеть зерно. Разными путями пришли они к тому, что видели одну шелуху.
Это мировоззрение направило их способности к мистификации, как призванию. Мистификация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства. Так, например, легенда о бриллианте в тысячу восемьсот каратов, ехидно и тонко обработанная ими меж бокалом шампанского и арией «Жоселена», произвела могучее действие, бросив тысячи проходимцев на поиски чуда к водопаду Альпетри, где, будто, над водой, в скале, сверкало чудовище. И так далее. Стелла Дижон благодаря им получила уверенность, что безнадежно влюбленный в нее (чего не было) Гарри Эванс с отчаяния женился на девице О’Нэйль. Произошла драма, позорный исход которой не сделал никому чести; Эванс стал думать о Стелле и застрелился.
Гарт, Вебер и Консейль забавлялись. Видения, возникающие в рисунке дыма из крепких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь. Однажды утром сидели они в кафе в удобных качалках, молча и улыбаясь подобно авгурам[9]; бледные, несмотря на зной, приветливые, задумчивые; без сердца и будущего.
Их яхта еще стояла в Кордон-Руж, и они медлили уезжать, смакуя впечатления бриллиантового азарта среди грязи и хищного блеска глаз.
Утренняя жара уже никла в тени бананов; открытые двери кафе «Конго» выказывали за проулком дымные кучи земли с взлетающей над ней киркой; среди насыпей белели пробковые шлемы и рдели соломенные шляпы; буйволы тащили фургон.
Кафе было одной из немногих деревянных построек Кордон-Брюна. Здесь – зеркала, пианино, красного дерева буфет.
Гарт, Вебер и Консейль пили. Вошел Эммануил Стиль.
Вошедший резко отличался от трех африканских снобов красотой, силой сложения и детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьезных глазах. У него большие и тяжелые руки, фигура воина, лицо простофили. Он был одет в дешевый бумажный костюм и прекрасные сапоги. Под блузой выпиралась рукоять револьвера. Его шляпа, к широким полям которой на затылок был пришит белый платок, выглядела палаткой, вместившей гиганта. Он мало говорил и прелестно кивал, словно склонял голову вместе со всем миром, внимающим его интересу. Короче говоря, когда он входил, хотелось посторониться.
Консейль, мягко качнув ногой, посмотрел на сухое, уклончиво улыбающееся лицо Гарта; Гарт взглянул на мраморное чело и голубые глаза Консейля; затем оба перемигнулись с Вебером, свирепым, желчным и черным; и Вебер в свою очередь метнул им из-под очков тончайшую стрелу, после чего все стали переговариваться.
Несколько дней назад Стиль сидел, пил и говорил с ними, и они знали его. Это был разговор внутреннего, сухого хохота, во весь рост, – с немного наивной верой во все, что поражает и приковывает внимание; но Стиль даже не подозревал, что его вышутили.
– Это он, – сказал Консейль.
– Человек из тумана, – ввернул Гарт.
– В тумане, – поправил Вебер.
– В поисках таинственного угла.
– Или четвертого измерения.
– Нет; это искатель редкостей, – заявил Гарт.
– Что говорил он тогда о лесе? – спросил Вебер.
Консейль, пародируя Стиля, скороговоркой произнес:
– Этот огромный лес, что тянется в глубь материка на тысячи миль, должен таить копи царя Соломона, сказку Шехерезады и тысячу тысяч вещей, ждущих открытия.
– Положим, – сказал Гарт, поливая коньяком муху, уже опьяневшую в лужице пролитого на стол вина, – положим, что он сказал не так. Его мысль неопределенно прозвучала тогда. Но ее суть такова: «в лесном океане этом должен быть центр наибольшего и наипоразительнейшего неизвестного впечатления, некий Гималай впечатлений, рассыпанных непрерывно». И если бы он знал, как разыскать этот зенит, – он бы пошел туда.
– Вот странное настроение в Кордон-Брюне, – заметил Консейль, – и богатый материал для игры. Попробуем этого человека.
– Каким образом?
– Я обдумал вещичку, как это мы не раз делали; думаю, что изложу ее довольно устойчиво. От вас требуется лишь говорить «да» на всякий вопросительный взгляд со стороны материала.
– Хорошо, – сказали Вебер и Гарт.
– Ба! – немедленно воскликнул Консейль. – Стиль! Садитесь к нам.
Стиль, разговаривавший с буфетчиком, обернулся и подошел к компании. Ему подали стул.
Вначале разговор носил обычный характер, затем перешел на более интересные вещи.
– Ленивец, – сказал Консейль, – вы, Стиль! Огребли в одной яме несколько тысяч фунтов и успокоились. Продали вы ваши алмазы?
– Давно уже, – спокойно ответил Стиль, – но нет желания предпринимать что-нибудь еще в этом роде. Как новинка прииск мне нравился.
– А теперь?
– Я – новичок в этой стране. Она страшна и прекрасна. Я жду, когда и к чему потянет меня внутри.
– Особый склад вашей натуры я приметил по прошлому нашему разговору, – сказал Консейль. – Кстати, на другой день после того мне пришлось говорить с охотником Пелегрином. Он взял много слоновой кости по ту сторону реки, миль за пятьсот отсюда, среди лесов, так пленяющих ваше сердце. Он рассказал мне о любопытном явлении. Среди лесов высится небольшое плато с прелестным человеческим гнездом, встречаемым неожиданно, так как тропическая чаща в роскошной полутьме своей неожиданно пресекается высокими бревенчатыми стенами, образующими заднюю сторону зданий, наружные фасады которых выходят в густой внутренний сад, полный цветов. Он пробыл там один день, встретив маленькую колонию уже под вечер. Ему послышался звон гитары. Потрясенный, так как только лес, только один лес мог расстилаться здесь, и во все стороны не было даже негритянской деревни ближе четырнадцати дней пути, Пелегрин двинулся на звук, и ему оказали теплое гостеприимство. Там жили семь семейств, тесно связанные одинаковыми вкусами и любовью к цветущей заброшенности, – большей заброшенности среди почти недоступных недр, конечно, трудно представить. Интересный контраст с вполне культурным устройством и обстановкой домов представляло занятие этих Робинзонов пустыни – охота; единственно охотой промышляли они, сплавляя добычу на лодках в Танкос, где есть промышленные агенты, и обменивая ее на все нужное, вплоть до электрических лампочек.
Как попали они туда, как подобрались, как устроились? Об этом не узнал Пелегрин. Один день – он не более как вспышка магния среди развалин, – поймано и ушло, быть может, существенное. Но труд был велик. Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, – что вам еще?! Казалось, эти люди сошлись петь. И Пелегрин особенно ярко запомнил первое впечатление, подобное глухому рисунку: узкий проход меж бревенчатых стен, слева – маленькая рука, махающая с балкона; впереди – солнце и рай.
Вам случалось, конечно, провести ночь в незнакомой семье. Жизнь, окружающая вас, проходит отрывком, полным очарования, вырванной из неизвестной книги страницей. Мелькнет не появляющееся в вечерней сцене лицо девушки или старухи; особый, о своем, разговор коснется вашего слуха, и вы не поймете его; свои чувства придадите вы явлениям и вещам, о которых знаете лишь, что они приютили вас; вы не вошли в эту жизнь, и потому названа она странной поэзией. Так было и с Пелегрином.
Стиль внимательно слушал, смотря прямо в глаза Консейля.
– Я вижу все это, – просто сказал он, – это огромно. – Не правда ли?
– Да, – сказал Вебер, – да.
– Да, – подтвердил Гарт.
– Нет слов выразить, что чувствуешь, – задумчиво и взволнованно продолжал Стиль, – но как я был прав! Где живет Пелегрин?
– О, он выехал с караваном в Ого.
Стиль провел пальцем по столу прямую черту, сначала тихо, а затем быстро, как бы смахнул что-то.
– Как называлось то место? – спросил он. – Как его нашел Пелегрин?
– Сердце Пустыни, – сказал Консейль. – Он встретил его по прямой линии между Кордон-Брюн и озером Бан. Я не ошибся, Гарт?
– О нет.
– Еще подробность, – сказал Вебер, покусывая губы. – Пелегрин упомянул о трамплине – одностороннем лесистом скате на север, пересекавшем диагональю его путь. Охотник, разыскивая своих, считавших его погибшим, в то время как он был лишь оглушен падением дерева, шел все время на юг.
– Скат переходит в плато? – Стиль поворачивался всем корпусом к тому, кого спрашивал.
Тогда Вебер сделал несколько топографических указаний, столь точных, что Консейль предостерегающе посматривал на него, насвистывая: «Куда торопишься, красотка, еще ведь солнце не взошло…» Однако ничего не случилось.
Стиль выслушал все и несколько раз кивнул своим теплым кивком. Затем он поднялся неожиданно быстро, его взгляд, когда он прощался, напоминал взгляд проснувшегося. Он не замечал, как внимательно схватываются все движения его шестью острыми глазами холодных людей. Впрочем, трудно было решить по его наружности, что он думает, – то был человек сложных движений.
– Откуда, – спросил Консейль Вебера, – откуда у вас эта уверенность в неизвестном, это знание местности?
– Отчет экспедиции Пена. И моя память.
– Так. Ну, что же теперь?
– Это уж его дело, – сказал смеясь Вебер, – но поскольку я знаю людей… Впрочем, в конце недели мы отплываем.
Свет двери пересекла тень. В двери стоял Стиль.
– Я вернулся, но не войду, – быстро сказал он. – Я прочел порт на корме яхты. Консейль – Мельбурн, а еще…
– Флаг-стрит, 2, – также ответил Консейль. – И…
– Все, благодарю.
Стиль исчез.
– Это, пожалуй, выйдет, – хладнокровно заметил Гарт, когда молчание сказало что-то каждому из них по-особому. – И он найдет вас.
– Что?
– Такие не прощают.
– Ба, – кивнул Консейль. – Жизнь коротка. А свет – велик.
Прошло два года, в течение которых Консейль побывал еще во многих местах, наблюдая разнообразие жизни с вечной попыткой насмешливого вмешательства в ее головокружительный лет; но наконец и это утомило его. Тогда он вернулся в свой дом к едкому наслаждению одиночеством без эстетических судорог дез-Эссента, но с горем холодной пустоты, которого не мог сознавать.
Тем временем воскресали и разбивались сердца; гремел мир; и в громе этом выделился звук ровных шагов. Они смолкли у подъезда Консейля; тогда он получил карточку, напоминавшую Кордон-Брюн.
– Я принимаю, – сказал после короткого молчания Консейль, чувствуя среди изысканной неприятности своего положения живительное и острое любопытство. – Пусть войдет Стиль.
Эта встреча произошла на расстоянии десяти сажен огромной залы, серебряный свет которой остановил, казалось, всей прозрачной массой своей показавшегося на пороге Стиля. Так он стоял несколько времени, присматриваясь к замкнутому лицу хозяина. В это мгновение оба почувствовали, что свидание неизбежно; затем быстро сошлись.
– Кордон-Брюн, – любезно сказал Консейль. – Вы исчезли, и я уехал, не подарив вам гравюры Морада, что собирался сделать. Она в вашем вкусе, – я хочу сказать, что фантастический пейзаж Сатурна, изображенный на ней, навевает тайны вселенной.
– Да. – Стиль улыбался. – Как видите, я помнил ваш адрес. Я записал его. Я пришел сказать, что был в Сердце Пустыни и получил то же, что Пелегрин, даже больше, так как я живу там.
– Я виноват, – сухо сказал Консейль, – но мои слова – мое дело, и я отвечаю за них. Я к вашим услугам, Стиль.
Смеясь, Стиль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней.
– Да нет же, – вскричал он, – не то! Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. О чем-то таком, бывало, мечтал и я. Да, я всегда любил открытия, трогающие сердце подобно хорошей песне. Меня называли чудаком – все равно. Признаюсь, я смертельно позавидовал Пелегрину, а потому отправился один, чтобы быть в сходном с ним положении. Да, месяц пути показал мне, что этот лес. Голод… и жажда… один; десять дней лихорадки. Палатки у меня не было. Огонь костра казался цветным, как радуга. Из леса выходили белые лошади. Пришел умерший брат и сидел, смотря на меня; он все шептал, звал куда-то. Я глотал хину и пил. Все это задержало, конечно. Змея укусила руку; как взорвало меня, – смерть. Я взял себя в руки, прислушиваясь, что скажет тело. Тогда, как собаку, потянуло меня к какой-то траве, и я ел ее; так я спасся, но изошел потом и спал. Везло, так сказать. Все было как во сне: звери, усталость, голод и тишина; и я убивал зверей. Но не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота, – есть вещи, о которые слова бьются, как град о стекло, – только звенит…
– Дальше, – тихо сказал Консейль.
– Нужно было, чтобы он был там, – кротко продолжал Стиль. – Поэтому я спустился на плоте к форту и заказал со станционером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал, как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я не мог не найти, раз есть такой я, – это понятно. Так вот, поедемте взглянуть; видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать, так ли вы представляли.
Он выложил все это с ужасающей простотой мальчика, рассказывающего из всемирной истории.
Лицо Консейля порозовело. Давно забытая музыка прозвучала в его душе, и он вышагал неожиданное волнение по диагонали зала, потом остановился как вкопанный.
– Вы – турбина, – сдавленно сказал он. – Вы знаете, что вы – турбина. Это не оскорбление.
– Когда ясно видишь что-нибудь… – начал Стиль.
– Я долго спал, – перебил его сурово Консейль. – Значит… Но как похоже это на грезу! Быть может, надо еще жить, а?
– Советую, – сказал Стиль.
– Но его не было. Не было.
– Был. – Стиль поднял голову без цели произвести впечатление, но от этого жеста оно кинулось и загремело во всех углах. – Он был. Потому, что я его нес в сердце своем.
Из этой встречи и из беседы этой вытекло заключение, сильно напоминающее сухой бред изысканного ума в Кордон-Брюн. Два человека, с глазами, полными оставленного сзади громадного глухого пространства, уперлись в бревенчатую стену, скрытую чащей. Вечерний луч встретил их, и с балкона над природной оранжереей сада прозвучал тихо напевающий голос женщины.
Стиль улыбнулся, и Консейль понял его улыбку.
Крысолов
- На лоне вод стоит Шильон,
- Там, в подземелье, семь колонн
- Покрыты мрачным мохом лет…
Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, – дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени, наверное, будет расспрашивать в редакциях, я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был Сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу потому, что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг – последнее, что у меня было.
Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло. Я бродил более двух часов, встретив только трех человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги, но и те нашли цену пяти фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем начинало темнеть, – обстоятельство менее всего благоприятное для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене.
Справа от меня стояла старуха в бурнусе и старой черной шляпе со стеклярусом. Механически тряся головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я, – книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка – не в пример тем обрезанным по колено вертлявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи, – ее суконный жакет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих, – без улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как покряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумясь чему-то и суя в рот семечки, – все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее.
Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: «Так же, как и у вас».
Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой, затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее «Дон-Кихота»; и тогда она несколько оживилась.
– Никто не знает, что я ношу продавать книги, – сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную меж другими осмотрительным гражданином, и рассеянно ею помахивая, – то есть я не краду их, но беру с полок, когда отец спит. Мать умирала… мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба, и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава Богу, их много. И у вас много?
– Н-нет, – сказал я сквозь дрожь (уже тогда я был простужен и немного хрипел), – не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть.
Она взглянула на меня с наивным вниманием – так, набившись в избу, смотрят деревенские ребятишки на распивающего чай проезжего чиновника – и, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц, я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.
– Вы простудитесь, – сказала она, машинально защипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. – Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин.
Она взяла книги под мышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какое бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.
– Телячьи нежности, – сказала, проходя мимо, грузная баба.
– Ну вот. – Девушка критически посмотрела на свою работу и хмыкнула. – Все. Идите гулять.
Я рассмеялся и удивился. Не много я встречал такой простоты. Мы ей или не верим, или ее не видим; видим же, увы, только когда нам плохо.
Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя.
– Сказать недолго, – ответила она, с жалостью смотря на меня, – только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон; может быть, я попрошу вас продать книги.
Я записал, с улыбкой поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху, учительским тоном выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединила побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой, в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл.
Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери. Еще не утоленный голод заслонял впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была маленькая железная печка. Дрова… в те времена многие ходили на чердаки, – я тоже ходил, гуляя в косой полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпуская запоздавшего посетителя. За стеной комнаты жила прачка; я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивала, часто глубокой ночью – как сошедшие с ума часы – швейная машина. Голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюдца, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель, – довольно этих напоминаний. Дух быта часто отворачивается от зеркала, усердно подставляемого ему безукоризненно грамотными людьми, сквернословящими по новой орфографии с таким же успехом, с каким проделывали они это по старой.
Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного: она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезывают свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок, – это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление.
Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца.
При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но, как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих, как в банном пару, лиц лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть не кто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов, в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза! Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцами в коробке булавку. К утру скончалось пять человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел.
Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. «Он смугл, – пишет Репин, – с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом». Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни, – она происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, – я обыкновенно сидел в стороне.
Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых – путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипятят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий. Но все – и многое, и гораздо более этого – уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня – то, что произошло со мной.
К концу третьей недели я заболел острой бессонницей. Как это началось – сказать трудно, я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча повела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу Мойки и развлекаясь зрелищем рыбной ловли, – мужик с сеткой на длинном шесте степенно обходил гранит, иногда опуская свой снаряд в воду и вытаскивая горсть мелкой рыбешки, – я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке; человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным. Я не сразу узнал его: ни фартука, ни ситцевой рубахи турецкого рисунка, ни бороды и усов; одет был лавочник в строгие изделия военной складки, начисто выбрит и напоминал собой англичанина, однако с ярославским оттенком. Хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет, поэтому предложил пустующие палаты Центрального банка, где двести шестьдесят комнат стоят, как вода в пруде, тихи и пусты.
– Ватикан, – сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру. – Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?
– Эх! – только и сказал экс-лавочник. – Дом этот недалеко; идите и посмотрите.
Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов, огляделся и, так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью; в нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа: потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх, тогда обе половинки расходились, так как не было шпингалетов.
– Ключ есть, – сказал лавочник, – только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите, а запереть можно как изнутри, так и снаружи, стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти – сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко (действительно, на высоте лица в стене около двери чернел васисдас с разбитым стеклом). Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться; знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три; как только разыщу угол – оповещу вас немедленно. Вследствие этого – извините за щекотливость, есть-пить каждому надо – соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств.
Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел, а я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас – воспоминаниями звуков жизни, – уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить.
Я проходил из дверей в двери высоких больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел уже впереди и по сторонам другие, ведущие в тусклый свет далей, с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было уже ступать по ее зыбкому хламу, достигающему высоты колен.
Бумага во всех видах, всех назначений и цветов распространяла здесь вездесущее смешение свое воистину стихийным размахом. Она осыпями взмывалась у стен, висела на подоконниках, с паркета в паркет переходили ее белые разливы, струясь из распахнутых шкафов, наполняя углы, местами образуя барьеры и взрыхленные поля. Блокноты, бланки, гроссбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст – содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами, – взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей, – так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли; окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверями, казались путями ходьбы многих дней, – чувство, обратное тому, с каким мы произносим: «Малая улица» или «Малая площадь». Едва начав обход, уже сравнил я это место с лабиринтом. Все было однообразно – вороха хлама, пустота там и здесь, означенная окнами или дверью, и ожидание многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог, двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупения охваченное ими пространство, и недоставало только собственного лица, выглядывающего из двери как в раме.
Не более двадцати помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться: пласт извести на полу; там – сломанное бюро; вырванная и приставленная к стене дверная доска; подоконник, заваленный лиловыми чернильницами; проволочная корзина; кипы отслужившего клякс-папира; камин; кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться: оглядываясь, с удивлением замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был, устанавливая ошибку только рядом других предметов. Иногда попадался стальной денежный шкаф с отвернутой тяжкой дверцей, как у пустой печи; телефонный аппарат, казавшийся среди опустошения почтовым ящиком или грибом на березе, переносная лестница; я нашел даже черную болванку для шляп, неизвестно как и когда включившую себя в инвентарь.
Уже сумерки коснулись глубины зал с белеющей по их далям бумагой, смежности и коридоры слились с мглой и мутный свет ромбами перекосил паркеты в дверях, но прилегающие к окнам стены сияли еще кое-где напряженным блеском заката. Память о том, что, проходя, я оставлял позади, свертывалась, как молоко, едва новые входы вставали перед глазами, и я в основе только помнил и знал, что иду сквозь строй стен по мусору и бумаге. В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучи скользких под ногой папок; шум, как в кустах. Шагая, оглядывался я с трепетом – так вязок, не отделен от меня был в тишине этой самомалейший звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих метел, прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение. Вначале я шагал по нервному веществу банка, топча черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от Аляски до Ниагары. Я не искал сравнений: они, вызванные незабываемым зрелищем, появлялись и исчезали, как цепь дымных фигур. Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов, или же – что было всего отчетливее и мрачнее – брожу в прошлых столетиях, обернувшихся нынешним днем. Я прошел внутренний коридор, такой извилисто-длинный, что по нему можно было бы кататься на велосипеде. В его конце была лестница, я поднялся в следующий этаж и спустился по другой лестнице, миновав средней величины залу с полом, уставленным арматурой. Здесь виднелись стеклянные матовые шары, абажуры тюльпанами и колоколами, змеевидные бронзовые люстры, свертки проводов, кучи фаянса и меди.
Следующий запутанный переход вывел меня к архиву, где в темной тесноте полок, параллельно пересекавших пространство, соединяя пол с потолком, проход был немыслим. Месиво копировальных книг вздымалось выше груди; даже осмотреться я не мог с должным вниманием – так густо смешалось все.
Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехугольником; едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо, – так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной в игральную карту. Могла здесь танцевать тысяча человек. Посредине стоял фонтан, и его маски, с насмешливо или трагически раскрытыми ртами, казались кучей голов. Примыкая к колоннам, ареной развертывался барьер сплошного прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величины зала. С некоторым трудом взгляд набирал предметы равного всему остальному безжизненного опустошения. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями, – передо мной развертывался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Ее колорит естественно переводил впечатление к внушению, подобно музыкальному внушению оригинального мотива. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Веяние неслыханной дерзости тянулось из дверей в двери – стихийного, неодолимого сокрушения, повернувшегося так же легко, как плющится под ногой яичная скорлупа. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь собой все формы и звоном в ушах следует неотступно, – мысль, напоминающая девиз:
«Сделано – и молчит».
Наконец я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. В одной из кухонь я утолил жажду, повернув кран. К моему удивлению, вода хотя слабо, но заструилась, и этот незначительный живой знак по-своему ободрил меня. Затем я стал выбирать комнату. Это заняло еще несколько минут, пока я не наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. Мебель почти отсутствовала; единственное, на что можно было лечь или сесть – это скальпированный диван без ножек; обрывки срезанной кожи, пружины и волос торчали со всех сторон. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф; он был заперт. Я выкурил папиросу-другую, пока не привел себя к относительному равновесию, и занялся устройством ночлега.
Давно уже я не знал счастья усталости – глубокого и спокойного сна. Пока светил день, я думал о наступлении ночи с осторожностью человека, несущего полный воды сосуд, стараясь не раздражаться, почти уверенный, что на этот раз изнурение победит тягостную бодрость сознания. Но, едва наступал вечер, страх не уснуть овладевал мной с силой навязчивой мысли, и я томился, призывая наступление ночи, чтобы узнать, засну ли я наконец. Однако чем ближе к полуночи, тем явственнее убеждали меня чувства в их неестественной обостренности; тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало мою нервную силу в гулкую при малейшем впечатлении тугую струну, и я как бы просыпался от дня к ночи, с ее долгим путем внутри беспокойного сердца. Усталость рассеивалась, в глазах кололо, как от сухого песка; начало любой мысли немедленно развивалось во всей сложности ее отражений, и предстоящие долгие бездеятельные часы, полные воспоминаний, уже возмущали бессильно, как обязательная и бесплодная работа, которой не избежать. Как только мог, я призывал сон. К утру, с телом, как бы налитым горячей водой, я всасывал обманчивое присутствие сна искусственной зевотой, но, лишь закрывал глаза, испытывал то же, что испытываем мы, закрывая без нужды глаза днем, – бессмысленность этого положения. Я испытал все средства: рассматривание точек стены, счет, неподвижность, повторение одной фразы – и безуспешно.
У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Хотя тускло, но я озарил им холодную высоту помещения, после чего, заложив ямы дивана бумагой, изголовье нагромоздил из книг. Пальто служило мне одеялом. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. К тому же по летнему времени было здесь не довольно тепло. Во всяком случае, я придумал занятие и был рад. Вскоре пачки счетов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой блестящей лужей.
Но бесплодно тайно горел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей, сходим мы к внутреннему теплу и свету души. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая, в кровать. Кроме того, я хотел есть и, чтобы заглушить голод, часто курил.
Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? Печальный опыт с отгоревшими электрическими лампочками, которых я нашел кучу в одном из таких же шкафов, заставил подозревать, что шкаф заперт без всякого намерения, лишь потому, что хозяйственно повернулся ключ. И тем не менее я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий всегда думать по трафарету, свойственному только ему, – так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. Для развлечения я прошел несколько ближайших от меня комнат, но, шаря там при свете огарка, не нашел даже обломка сухаря и вернулся, все более привлекаемый шкафом. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в этом шкафу каравай хлеба, а может быть, чайник, чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте; довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь, а на съестное, что ни говори буква закона, – теперь – теперь я имел право.
Светя огарком, я не торопился, однако, подвергать критике это рассуждение, чтобы не лишиться случайно моральной точки опоры. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину против замка и, нажав, потянул прочь. Защелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся – и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением, я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой.
Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенного, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я увидел склад ценной провизии – шесть полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, – отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр.
Прежде всего я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз; я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом.
Я начал осмотр сверху. Верх, то есть пятая и шестая полки, заняты были четырьмя большими корзинами, откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь, – не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если там было несколько штук, ушли, должно быть, задами шкафа в щели стены – шкаф стоял тихо.
Естественно, я удивлялся этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши (Мurinae) и крысы (Мus decum anus) должны были чувствовать себя дома. Но мой восторг опередил всякие размышления; они едва просачивались, как в плотине вода, сквозь этот апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокровищ, тем более что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкупе разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров – от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой; ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирало горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл восемь голов сахара, ящик с чаем; дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе; корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов.
Следовало если не торопиться, то, во всяком случае, начать есть, так как, понятно, сокровище, имея свежий вид обдуманного запаса, не могло быть брошено кем-то ради желания доставить случайному посетителю этих мест удовольствие огромной находки. Днем ли или ночью, но мог явиться человек с криком и поднятыми руками, если только не чем-нибудь худшим, вроде ножа. Все говорило за темную остроту случая. Многого следовало опасаться мне в этих пространствах, так как я подошел к неизвестному. Между тем голод заговорил на своем языке, и я, прикрыв шкаф, уселся на остатках дивана, окружив себя кусками, положенными вместо тарелок на большие листы бумаги. Я ел самое существенное, то есть сухари, ветчину, яйца и сыр, заедая это печеньем и запивая портвейном, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться с ознобом и нервным тяжелым смехом, но когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как пятнадцать минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями и мыслями. Сытость наступила скоро, гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть, вследствие волнения, утомительного даже для аппетита. Однако я был слишком истощен, чтобы перейти к резиньяции, и насыщение усладило меня вполне, без той сонливой мозговой одури, какая сопутствует ежедневному поглощению обильных блюд. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер хорош.
Между тем, как я ни напрягался в догадках, они, естественно, царапали, подобно тупому ножу, лишь поверхность события, оставляя его суть скрытой непосвященному взору. Расхаживая в спящих громадах банка, я, быть может, довольно верно понял, чем связан мой лавочник с этим писчебумажным клондайком: отсюда можно было вывезти и унести сотни возов обертки, столь ценимой торговцами в целях обвеса; кроме того, электрические шнуры, мелкая арматура составили бы не одну пачку ассигнаций; не без причины были вырваны здесь шнуры и штепселя почти всюду, где я осматривал стены. Поэтому я не делал лавочника собственником тайной провизии; он, вероятно, пользовался ею в другом месте. Но дальше этого я не ступил шага, все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Что ее некоторое время никто не трогал, доказывали следы крыс: их зубы оставили на окороках и сырах обширные ямы.
Насытясь, я принялся тщательно исследовать шкаф, заметив много такого, что я пропустил в минуты открытия. Среди корзин лежали пачки ножей, вилок и салфеток; за головами сахара прятался серебряный самовар; в одном ящике сталкивалось, звеня, множество бокалов, рюмок и узорных стаканов. По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гульливые или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домовых комитетов. В таком случае я должен был держаться настороже. Как мог, я тщательно прибрал шкаф, рассчитывая, что незначительное количество уничтоженного мною на ужин едва ли будет замечено. Однако (не счел я виноватым себя в этом) я взял кое-что вместе с еще одной бутылкой вина, завернул плотным пакетом и спрятал под грудой бумаг в извилине коридора.
Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую душистую папиросу из волокнистого табака с длинным мундштуком – единственная находка, которой я вполне отдал честь, набив дивными папиросами все карманы. Я был в состоянии упоительной, музыкальной тревоги, с мнением о себе как о человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой, – мог ли я забыть это движение? Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесполезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием. Но я не знал, где она, я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрикни она забытым мной номером, не могло помочь здесь при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза: они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Желание совершить глупость не отпускало меня и, как всякий ночной вздор, украсилось эфемеридами бессонной фантазии. Я внушил себе, что должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Кроме того, эти загадочные стенные грибы с каучуковым ртом и металлическим ухом я издавна рассматривал как предметы, разъясненные не вполне, – род суеверия, навеянного, между многим другим, «Атмосферой» Фламмариона, с его рассказом о молнии. Я очень советую всем перечитать эту книгу и задуматься еще раз над странностями электрической грозы; особенно над действиями шаровидной молнии, вешающей, например, на вбитый ею же в стену нож сковородку или башмак или перелицовывающей черепичную крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнией, фотографиях обстановки, в которой произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагерротипам. «Килоуатты» и «амперы» мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы, заволокнутости сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. Итак, я объясняю это теперь, тогда же был лишь подобен железу перед магнитом.
Я снял трубку. Более чем была на самом деле холодной показалась она мне, немая, перед равнодушной стеной. Я поднес ее к уху не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и надавил кнопку. Был ли то звон в голове или звуковое воспоминание, но, вздрогнув, я услышал жужжание мухи, ту, подобную гудению насекомого, вибрацию проводов, какая при этих условиях являлась тем самым абсурдом, к которому я стремился.
Разборчивое усилие понять, как червь точит даже мрамор скульптуры, лишая силы все впечатления с скрытым источником. Старания понять непонятное не было в числе моих добродетелей. Но я проверил себя. Отняв трубку, я воспроизвел этот характерный шум в воображении, получив его вторично лишь когда снова стал слушать по трубке. Шум не скакал, не обрывался, не ослабевал, не усиливался; в трубке, как должно, гудело невидимое пространство, ожидая контакта. Мной овладели смутные представления, странные, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, порванных шквалом и дающих соединение в неуследимых точках своего хаоса; снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам; магнетические вспышки трамвайных линий; ткань и сердце материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли-видения не превышали длительностью толчка сердца, вставшего на дыбы; оно билось, выстукивая на непереводимом языке ощущения ночных сил.
Тогда из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ той девушки. Мог ли я думать, что впечатление окажется таким живучим и стойким? Сто сил человеческих пряло и гудело во мне, когда, воззрясь на стертый номер аппарата, я вел память сквозь вьюгу цифр, тщетно пытаясь установить, какое соединение их напомнит утерянное число. Лукавая, неверная память! Она клянется не забыть ни чисел, ни дней, ни подробностей, ни дорогого лица и взглядом невинности отвечает сомнению. Но наступил срок, и легковерный видит, что заключил сделку с бесстыдной обезьяной, отдающей за горсть орехов бриллиантовый перстень. Неполны, смутны черты вспоминаемого лица, из числа выпадает цифра; обстоятельства смешиваются, и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминанием. Но если бы мы помнили, если бы могли вспомнить все, – какой рассудок выдержит безнаказанно целую жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств?
Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность. Наконец мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера: 107-21. «Сто семь двадцать один», – проговорил я, прислушиваясь, но не знал точно, не ошибаюсь ли вновь. Внезапное сомнение ослепило меня, когда я нажимал кнопку вторично, но уже было поздно – жужжание полилось гулом, что-то звякнув, изменилось в телефонной дали, и прямо в кожу щеки усталый женский контральто сухо сказал: «Станция». «Станция!..» – нетерпеливо повторил он, но и тогда я заговорил не сразу, – так холодно сжалось горло, – потому что в глубине сердца я все еще только играл.
Как бы то ни было, раз я заклял и вызвал духов, – отнести их к «Атмосфере» или к «Килоуаттам» общества 86 года, – я говорил, и мне отвечали. Колеса испорченных часов начали поворачивать шестерню. Над моим ухом двинулись стальные лучи стрел. Кто бы ни толкнул маятник, механизм начал мерно отстукивать. «Сто семь двадцать один», – сказал я глухо, смотря на догорающую среди хлама свечу. «На группу А», – раздался недовольный ответ, и гул прихлопнуло далеким движением усталой руки.
Мне было умственно-жарко в эти минуты. Я нажимал именно кнопку с литерой А; следовательно, не только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность тем, что были спутаны провода, – подробность замечательная для нетерпеливой души. Стремясь соединить А, я нажал Б. Тогда в вой пущенного гулять тока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы, – неведомые оратели, бьющиеся в моей руке, сжимающей резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу. Смешанные фразы напоминали концерт грачей. «А-ла-ла-ла-ла!» – вопило неведомое существо на фоне баритона чьей-то рассудительно-медлительной речи, разделенной паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией. «Я не могу дать»… – «Если увидите»… – «Когда-нибудь»… – «Я говорю, что»… – «Вы слушаете»… – «Размером тридцать и пять»… – «Отбой»… – «Автомобиль выслан»… – «Ничего не понимаю»… – «Повесьте трубку»… В этот рыночный транс слабо, как пение комара, ползли стоны, далекий плач, хохот, рыдания, скрипичные такты, перебор неторопливых шагов, шорох и шепот. Где, на каких улицах звучали эти слова забот, окриков, внушений и жалоб? Наконец звякнуло деловое движение, голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав: «Группа Б».
– «А»! Дайте «А», – сказал я. – Перепутаны провода.
После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил певуче и тише: «Группа А». – «Сто семь двадцать один», – отчеканил я как можно разборчивее.
– Сто восемь ноль один, – внимательным тоном безучастно повторила телефонистка, и я едва удержал готовую отлететь губительную поправку, – эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер, – едва услышав, я признал, вспомнил его, как припоминаем мы встречное лицо.
– Да, да, – сказал я в чрезвычайном волнении, бегущем по высоте, по краю головокружительного обрыва. – Да, именно так – сто восемь ноль один.
Тут все замерло во мне и вокруг. Звук передачи стеснил сердце подступом холодной волны; я даже не слышал обычного «звоню» или «соединила», – я не помню, что было сказано. Я слушал птиц, льющих неотразимые трели. Изнемогая, я прислонился к стене. Тогда, после паузы, равной ожесточению, свежий, как свежий воздух, рассудительный голосок осторожно сказал:
– Это я пробую. Говорю в недействующий телефон, потому что ты слышал, как прозвенело? Кто у телефона? – сказала она, видимо не ожидая ответа, на всякий случай, тоном легкомысленной строгости.
Почти крича, я сказал:
– Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги. Вспомните, прошу вас. Я не знаю имени, – подтвердите, что это вы.
– Чудеса, – ответил, кашлянув, голос в раздумье. – Постойте, не вешайте трубку. Я соображаю. Старик, видел ли ты что-нибудь подобное?
Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты.
– Я встречу припоминаю, – снова обратилась она к моему уху. – Но я не помню, о какой булавке вы говорите. Ах, да! Я не знала, что у вас такая крепкая память. Но странно мне говорить с вами – наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?
– Хорошо ли вы слышите? – ответил я, уклоняясь назвать место, где находился, как будто не понял вопроса, и, получив утверждение, продолжал: – Я не знаю, долог ли будет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей. Поэтому сообщите не откладывая ваш адрес, я не знаю его.
Некоторое время ток ровно жужжал, как будто мои последние слова нарушили передачу. Снова глухой стеной легла даль, – отвратительное чувство досады и стыдливой тоски едва не смутило меня пуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных, простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы. Это самое, может быть, обдумывала и она, пока длилось молчание, после чего я услышал:
– Зачем? Ну, хорошо. Итак, запишите, – не без лукавства сказала она это «запишите», – запишите мой адрес: 5-я линия, 97, кв. 11. Только зачем, зачем понадобился вам мой адрес? Я, откровенно скажу, не понимаю. Вечером я бываю дома…
Голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Я слышал, что она говорит, по-видимому что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя, – наконец едва слышное толкание тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла, аппарат тупо молчал. Передо мной были стена, ящик и трубка. По стеклу выстукивал ночной дождь. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Резонатор умер. Очарование отошло.
Но я слышал, я говорил, что было, того не могло не быть. Впечатления этих минут сошли и ушли вихрем, его отзвуками я был еще полон и сел, сразу устав, как от восхождения по крутой лестнице. Между тем я был еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов.
Еще очень далеко от меня – не в самом ли начале проделанного мною пути? – а может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука, послышались неведомые шаги. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко, знакомой дорогой среди тьмы и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако мысленно я видел его спешащим осторожно, во тьме; он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился ожиданием до боли в висках, я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был бы спокоен, во всяком случае, начал бы успокаиваться, если бы шаги удалялись, но я слышал их все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого пытающего слух томительного, долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания; я встал, сел снова, не зная, что делать. Мой пульс точно следовал отчетливости или перерыву шагов, но, осилив наконец мрачную тупость тела, сердце пошло стучать полным ударом, так что я чувствовал свое состояние в каждом его толчке. Мои намерения смешались; я колебался, потушить свечу или оставить ее гореть, причем не разумные мотивы, а вообще возможность произвести какое-либо действие казалась мне удачно придуманным средством избегнуть опасной встречи. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Одно время я выходил за дверь, стараясь ступать неслышно, с целью посмотреть, в какой из прилегающих комнат могу спрятаться, как будто та комната, где я сидел, заслоняя спиной огарок, была уже намечена к посещению и кто-то знал, что я нахожусь в ней. Я оставил это, сообразив, что, делая переходы, поступлю, как игрок в рулетку, который, переменив номер, видит с досадой, что проиграл только потому, что изменил покинутой цифре. Благоразумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил и стал ожидать во тьме.
Между тем не было уже никакого сомнения, что расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее как за пять или шесть стен от меня, перебегая от дверей к двери с спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему как автомобиль моменту взаимного взгляда – глаза в глаза, и я молил Бога, чтобы то не были зрачки с бешеной полосой белка над их внутренним блеском. Я уже не ожидал, я знал, что увижу его; инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумеречного фантома, и, страшнее всего, ужаснее падения с высоты, ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется и что это отсутствие кого бы то ни было заденет по лицу воздушным толчком. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась; скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли, остановились так близко от двери, и так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в грудах бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось: некто, согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить. Оторопь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками, – я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло как днем. Я получил род нервного сотрясения, но, едва задержась, тотчас прошел вперед. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал: «Идите сюда». Затем прозвучал тихий, задорный смех.
При всем моем изумлении я не ожидал такого конца пытки, только что выдержанной мной в течение, может быть, часа. «Кто зовет?» – тихо спросил я, осторожно приближаясь к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неизвестная женщина. Внимая ей, я представлял ее внешность отвечающей удовольствию слуха и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов: «Идите, идите сюда». Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения: «Идите, о, идите скорей!» – я осмотрел пять или шесть комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты, и только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома. Устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-нибудь действительно грозного среди безмолвно озаренных пустот, я наконец резко сказал:
– Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?
Прежде чем мне ответили, эхо скомкало мое восклицание смутным и глухим гулом. Заботливая тревога слышалась в словах таинственной женщины, когда беспокойно окликнула она меня из неведомого угла: «Спешите не останавливаясь; идите, идите, не возражая». Казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые как плеск, и звонкие в своем полушепоте, как если бы прозвучали над ухом, но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-то врасплох на ускользающее движение женщины, – везде встречал я лишь пустоту, двери и свет. Так продолжалось это, напоминая игру в прятки, и несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная, идти далее или остановиться, остановиться решительно, пока не увижу, с кем говорю так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня; все задушевнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной:
– Сюда, скорее ко мне!
Как ни был я чуток к оттенкам голосов вообще – и особенно в этих обстоятельствах величайшего напряжения, – я не уловил в зовах, в настойчивых подзываниях неслышно убегающей женщины ни издевательства, ни притворства; хотя вела она себя более чем изумительно, у меня не было пока причин думать о зловещем или вообще дурном, так как я не знал вызвавших ее поведение обстоятельств. Скорее можно было подозревать настойчивое желание сообщить или показать что-то наспех, крайне дорожа временем. Если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу вкрадчивым и мягким «Сюда!». Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов, с глазами, устремленными по направлению голоса.
– Я здесь, – сказал наконец голос тоном конца истории. Это было на перекрестке коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше.
– Хорошо, но это последний раз, – предупредил я.
Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет; я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека.
– Где же вы? – всматриваясь, заговорил я. – Остановитесь, вы так спешите. Идите сюда.
– Я не могу, – тихо ответил голос. – Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне.
Действительно, я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книги, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу гроссбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда на невольный мой вскрик вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. Если изумление страха в этот момент отстраняло догадку, то смех, веселый холодный смешок по ту сторону ловушки, немедленно объяснил мою роль. Смех удалялся, затихая с жестокой интонацией, и я более не слышал его.
Я не вскочил, не отполз с шумом, лишним в предполагаемом падении моем; поняв штуку, я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, и я, с великой осторожностью зажегши спичку, увидел четырехугольный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, я определил приблизительно высоту падения в двенадцать метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двойной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства, но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелететь через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода; ширина достигала шести аршин.
Выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издалека свет позволял различать стены, и встал. Я не смел возвращаться к озаренным пространствам. Но я был теперь не в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал пятого акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдие. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина; из крана капала вода; здесь же висело полотенце с сырыми следами только что вытертых рук. Полотенце еще шевелилось; здесь отошел некто, может быть, на расстояние десяти шагов от меня, оставшись незамечен, как и я им, силой случайности. Не следовало более искушать эти места. Оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я наконец отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой. Хотя с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонясь к стене, в нишу заколоченной двери.
Никакой звук, никакое доступное чувствам явление не ускользнули бы от меня в эти минуты – так был я внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле – такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда или же притаилось. Я начал изнемогать, тянуться с нетерпением отчаяния к какому бы то ни было шуму, но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием. Вдруг звуков появилось более чем достаточно в смысле успокоения – если назвать таким словом «покой в бурях», – множество шагов раздалось за стеной, глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов; резко пильнула скрипка; виолончель, флейта и контрабас протянули вразброд несколько тактов, заглушаемых передвиганием мебели.
Среди ночи – я не знал, который теперь час, – это проявление жизни в глубине трех этажей после уже испытанного мною над люком звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неутомимо, я отыскал бы выход из этого бесконечного дома, но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Оно было довольно велико, имея направление через противоположную стену вниз.
Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти, с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанной стеклом; оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница, из тех, что употребляются малярами при болезни потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Как ни было запылено стекло с обеих сторон, протерев его ладонью, сколько и как мог, я получил возможность смотреть, но все же как бы сквозь дым. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась: я смотрел в тот самый центральный зал банка, где был вечером, но не мог видеть его внизу, окошечко это выходило на хоры. Совсем близко нависал пространный лепной потолок; балюстрада, являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывала глубину зала, лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души, меж тем как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвигание стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда; кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации, – да, это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей – что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота с застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке.
Почти уверенный, что никто не придет сюда, в закоулок, имеющий отношение скорее к чердакам, чем к магистрали нижнего перехода, я осмелился удалить стекло. Его рама, удерживаемая двумя согнутыми гвоздями, слабо шаталась. Я отвернул гвозди и выставил заграждение. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо; пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кафешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл «под сурдинку», как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественное усилие и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные – жестокий визг; увесистый деловой хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелий. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней; иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками иного оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики. Настала пауза; несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загремели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами.
– Привет Избавителю! – ревом возгласил хор. – Смерть Крысолову!
– Смерть! – мрачно прозвенели женские голоса. Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не знаю почему, хотя я был устрашенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади; но только глубоко вздохнул – никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться: за углом поворота явственно прошли, без подозрения о моем присутствии, двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившем теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание.
– Он умрет, – сказал неизвестный, – но не сразу. Вот адрес: Пятая линия, девяносто семь, квартира одиннадцать. С ним его дочь. Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут во множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает Освободителю, Крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза!
Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз – бежать, скрыться и лететь вестником на 5-ю линию. При всяком самом разумном сомнении цифры и название улицы не могли бы сообщить мне, есть ли в квартире этой еще другая семья, – довольно, что я думал о той и что она была там. В таком устрашенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз; лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас; музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, которой проник сюда. С силой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение! Начинался рассвет с его первой мутью, указывающий пространство дверей; я мог мчаться до потери дыхания. Но инстинктивно я искал ходов не книзу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более что за мной гнались, – я слышал торопливые переходы сзади и спереди, – этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещая ежесекундно обрушиться мне наперерез. Я ослабевал, отупел от страха и беспрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой, я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара – так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака, немедленно обрушив на люк все, что смутно белело по сторонам; это оказалось грудой оконных рам, двинуть которую с размаха могла лишь сила отчаяния. Они легли, застряв вдоль и поперек непроходимой чащей своих переплетов. Сделав это, я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ям и труб, как в лесу. Наконец я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая, смутная тень; из труб не шел дым, прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась; ее скрепы трещали, когда я начал спускаться; на высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец ноги нащупали тротуар; я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным, поэтому, как только передохнул, пустился бегом.
Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет семи, с личиком, побледневшим от слез; тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: «Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?»
Он, всхлипывая, молчал, смотря исподлобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности я не мог бросить ребенка, тем более что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Гладя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился; он мог только поникать головой и плакать. «Дружок, – сказал я, решась постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка, – посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму». Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое; он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. «Эй ты! – закричал я, стремясь освободить руку. – Брось держать!» И я оттолкнул его. Не плача уже и также молча, уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. «Кто ты?» – угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом, но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного, затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова и, вновь задохнувшись, несся безумным шагом, резким, как бег.
Я уже был на Конногвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.
– Но ведь это вы! – сказала она. – Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!
Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва, – милее было бы мне прийти к ней, туда.
– Слушайте, – сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, – я спешу к вам. Еще не поздно…
Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.
– Сейчас рано, – значительно сказала она, – или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.
Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я, сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты, – нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и, сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.
– Нет, ты не обманешь меня, – сказал я, – она там. Она теперь спит, и я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.
Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Вдали, у противоположной стороны набережной, дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами отчаянным бранным криком, но, лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели воды, я был уже далеко от них; я бежал, пока не достиг ворот.
Тогда или, вернее, спустя некоторое время наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой, простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто; ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойства жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость, я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову, хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: «Должна быть совершенная тишина». Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет; кровь хлынула к голове; раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик. «Хальт!» – крикнул кто-то за дверью. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался.
Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства заговорили. Внутреннее видение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь – разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской голоса спорили, впустить ли меня, – я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии.
Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку желудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий.
Он сказал:
– Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе, он иногда заносится пароходами. «Свободный ход», о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем; два последние дня ход этот действительно был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса: «Кладовая крысиного короля», – книга, представляющая собой отменную редкость. Она издана в Германии четыреста лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене как еретик. Ваш рассказ…
Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил:
– Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода эта опасность, так как я не совсем понимаю ее?
– Меры? – сказала Сузи. – О каких мерах вы говорите?
– Опасность… – начал старик, но остановился, взглянув на дочь. – Я не понимаю.
Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания.
– Я говорю, – начал я неуверенно, – что вам следует остеречься. Кажется, я уже говорил это, но, простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.
Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась с недоумением: «Как это может быть?»
– Он устал, Сузи, – сказал старик. – Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано; и были приняты меры. Если я назову эту крысу, – он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника, – словом «Освободитель», вы будете уже кое-что знать.
– Это шутка, – возразил я, – и шутка, конечно, отвечающая занятию Крысолова. – Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано:
«КРЫСОЛОВ»
Истребление крыс и мышей.
О. Иенсен.
Телеф. 1-08-01.
Я видел ее у входа.
– Вы шутите, так как не думаю, чтобы этот «Освободитель» принес вам столько хлопот.
– Он не шутит, – сказала Сузи, – он знает.
Я сравнивал эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок, – взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебание, продолжать ли разговор так, как он начался.
– Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус. – Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете, с красным обрезом. – Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно.
…«Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и движения, подобные человеческим и даже не уступающие человеку, как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей».
– Но довольно читать, – сказал Крысолов, – и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами.
Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют. Тем временем мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. «Сузи, что с ним?» – раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно, я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос: «Он спит», – слова, с которыми я проснулся после тридцати несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что «для мужчины был очень легок». Меня пожалели; комната соседней квартиры оказалась на тот же, другой день в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие…
И более – ни слова об этом.
Фанданго
Зимой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегает по комнате человек, взглядывая на холодную печь, – хорошо думать о лете, потому что летом тепло.
Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это – июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.
Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед – эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого – мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами – лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.
С. Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С. Т. это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С. Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая «Фанданго».
В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С. Т. важно «кто», а не «что», сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Броком.
С. Т. – грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: «Так, так…» – и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.
С. Т. помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал:
– Вы, это, ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот – ваше.
Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь нолей ставилась тогда после двухсот.
В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что «человек – это звучит гордо». Они весили пятнадцать пудов хлеба – полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.
Я получил толчок к действию, заглянув в шкапчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном.) Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха.
Я боюсь голода, – ненавижу его и боюсь. Он – искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью, – ее образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным, – говорит человек, голодающий жестоко и долго, – потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость – все служит пищеварению. Дети съедят вполовину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой скрадет, больницы – скрадет, склада – скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пар нищей, героически добытой трапезы.
Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его…) нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала. Тот потерял уже все, все исказил: вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: «Я, Я, Я», – подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих «калорий»: они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вожделение.
– Очевидно, – говорил я, – так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку…
Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек влепляет себе умеренную пощечину. Это – неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, – он означает неуважение и к себе и к другим.
Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.
Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что «вот, хорошо быть веселым, потому что…» и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая «Осенние скрипки», «Пожалей ты меня, дорогая», «Чего тебе надо? Ничего не надо» и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижеру, и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:
– Фанданго!
При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке, – рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокое контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: «Пошалей ты мена, торокая», но стук палочки о пюпитр внушал, что с этим покончено.
«Фанданго» – ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он – транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости.
Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло.
По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служащих. «Фанданго» звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта – даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.
Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, – до дыр на игривых щеках, – бойко семенила старуха, подстриженная «в кружок», в желтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый «Зефир». Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: «Потому что меньше снашивается обувь». Другой отвечал: «На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорогу, когда и толкнуть». Третий объяснял просто и мудро: «Потому что лошадей нет» (то есть экипажи не мешают идти). «Идут так все, – заявлял четвертый, – иду и я».
Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкуя между собой. Густобровый, сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом напоминал горца – черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.
Старик нес цимбалы.
Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет.
Кроме мужчин, здесь были две женщины: молодая и старая.
Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали: зеленую и коричневую; из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу, – сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в ее темном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.
Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы ее были не толсты, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы, – так затенено было ее лицо длиной и блеском ресниц. Поверх теплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, висела шаль с бахромой; поверх шали расцветал шелковый турецкий платок. Тяжелые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах; из-под шали, ниже бахромы, спускались черные, жесткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки.
Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старинной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга: кот «ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал». Что им история? эпохи? сполохи? переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы.
Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулок, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были вразрез всякому настроению, прямо пересекали его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину; рынок назначит произвольную цену, и носят ее то весной, то осенью, на разный покрой, но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане – сами в себе – те же, как и вчера, – гортанные, черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов.
Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжал из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед; нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся, как мог скоро, пришел к Броку и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом:
«Звон. не действ. Прошу громко стуч.».
Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими, – эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, надетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатости черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медлительно и низко, как дьякон, смотрел исподлобья, поверх очков, склоняя голову набок, потирал вялые руки.
– Я к вам, – сказал я (в квартире были и другие жильцы). – Позвольте, однако, прежде всего согреться.
– Что, мороз?
– Да, сильный мороз…
На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную оттоманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, поддернул повыше брюки.
Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые, сквозь свет пламени, пальцы, впивал негу тепла.
– Я вас слушаю, – сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.
Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя.
С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная «идея». Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, – в чем предполагался, однако, порыв.
– «Сумерки», – сказал Брок, видя, куда я смотрю. – Величайшая вещь!
– О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?
– Что это? Купить?
– Ну-те!
Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.
– Э… – сказал Брок, косясь на меня через плечо. – У вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за двести, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет!
– Найду, – сказал я. – Я потому и пришел, чтобы поторговаться.
Вдали, на парадной, застучали.
– Ну, это ко мне!
Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул:
– Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами.
Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю «Фанданго», бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека.
Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой, загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх, среди кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма неряшливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка; при дневном свете напоминала она клочок желтой бумаги.
На стенах было много картин, частью написанных Броком. Но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву – «Фанданго». Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я, тем не менее, пристально приближал эту мысль, и чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером ее стекле появилась красная проволока – знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять.
Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего нас пространства, в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.
В то время как я сидел, я испытал – может быть, миллионной дробью мгновения, – что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра, – так, задумавшись, я наконец определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия вышло за пределы, став скрытым.
Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.
– Вы заждались? – сказал Брок. – Ничего, грейтесь, курите.
Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкап, говоря:
– Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил, только чтобы отвязаться.
– А что за картина?
– А, чепуха! Мазня, дурной вкус! – сказал Брок. – Посмотрите лучше мои. Вот написал две в последнее время.
Я подошел к указанному на стене месту. Да! Вот что было в его душе!.. Одна – пейзаж горохового цвета. Смутные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом; и я, покивав, перешел к второму «изделию». Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос, серой и сизой, с зелеными по ней кустиками. Обе картины, лишенные таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.
Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил.
– Вы быстро пишете, – заметил я, чтоб не затянуть молчания. – Ну, что же Горшков?
– Да как сказал, – двести.
– Это за Горшкова-то двести? – сорвалось у меня. – Дорого, Брок!
– Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков… Да вы как на него смотрите?
– Это – картина, – сказал я. – Я намерен ее купить; о том речь.
– Нет, – возразил Брок, уже раздраженный и моими словами, и безразличием к картинам своим. – За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь триста!
Как часто бывает с нервными людьми, я, вспылив, не мог удержаться от острого вопроса:
– Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?
Брок выронил из губ папиросу и длительно, зло посмотрел на меня. Это был тонкий, прокалывающий взгляд вздрогнувшей ненависти.
– Хорошо же вы понимаете… Циник!
– Зачем браниться, – сказал я. – Что плохо, то плохо.
– Ну, все равно, – заявил он, хмурясь и смотря в пол. – Двести, как было, пусть так и будет: двести.
– Не будет двести, – сто будет.
– Вот теперь начинаете вы…
– Хорошо! Сто двадцать пять?!
Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкапу и вытащил из-за него картину, которую принес.
– Эту я отдам даром, – сказал он, потрясая картиной, – на ваш вкус; можете получить за двадцать рублей.
И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.
Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зеленым плюшем, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами; их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города.
Слова «нечто ошеломительное» могут, таким образом, показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да! И тем не менее эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина – эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни, – была передана неощутимой экспрессией; солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки – ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей.
В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой в данном случае немедленно заявил о себе. Эффект этот был – неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.
– Вот именно, – сказал Брок, видя, что я молчу. – Обыкновеннейшая мазня. А вы говорите…
Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел.
– Что же, – сказал я, отставляя картину, – двадцать рублей я достану и, если хотите, зайду вечером. А кто рисовал?
– Не знаю, кто рисовал, – сказал Брок с досадой. – Мало ли таких картин вообще. Ну, так вот: Горшков… Поговоримте об этом деле.
Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен; я стал рассеян и терпелив.
– Да, я куплю Горшкова, – сказал я. – Я непременно его куплю. Так это ваша окончательная цена? Двести? Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги, двести двадцать. А когда вас застать?
– Если наверное, то в семь часов буду вас ждать, – сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль, и, улыбаясь, потер руки. – Вот так люблю: раз, два – и готово, – по-американски.
Если бы С. Т. был теперь дома, я немедленно пошел бы к нему за деньгами, но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, от Брока я направился в Дом ученых, или КУБУ, как сокращенно называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение.
Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле, – все окоченело и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мерз стиснутый город. Воздух был неприятно, голо прозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стеклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломанными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков, – вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркавший на месте, потому что испортился механизм, – и тот, казалось, попал в зубы морозу. Еще более напоминали о нем действия людей, направленные к теплу. По мостовой, тротуарам, на руках, санках и подводах, с скрипучей медленностью привычного отчаяния, ползли дрова. Возы скрипели, как скрипит снег в мороз: пронзительно и ужасно. Заледеневшие бревна тащились по тротуару руками изнемогающих женщин и подростков того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит «прикурить» басом. Между прочим, среди промыслов, каких еще не видел город, за исключением «пастушества на дому» (сено, рассыпанное в помещении, как трава для коз) и «новое-старое» (блестящая иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке «обуви»), о чем говорит А. Ренье в своей любопытной книге «Задворки Парижа», следовало бы теперь отметить также профессию «продавцов щепок». Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более пяти фунтов, держа их под мышкой, для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь: держать, зажигая одну за другой, щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, охапки, – кому что по средствам. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы, и возница, идя рядом, стегал кнутом воров – детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти: к нему мчались сломя голову прохожие, но добычу получал большей частью какой-нибудь усач-проходимец, – того типа, что в солдатстве варят из топора суп.
Я шел быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламливали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился, – был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется: «Валяй, ребята!..» Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно наскакивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошел в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддевке:
– Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?
– Что такое? – сказал тот после долго натянутого молчания. – Я не могу, это слом на артель, а дело от учреждения.
Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут, и, не настаивая, удалился.
«Как?! Едва встретились и уже расстаемся», – подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека: «Встречаемся без радости, расстаемся без печали»…
Меж тем временно изгнанная морозом картина солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к С. Т. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щеки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но все тело ломило и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на Миллионную. Здесь, у ворот КУБУ, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства, но, мучаясь, не так был удивлен этим, как у Брока, – лишь потер лоб.
У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест…
Здесь внимание мое ослабело. Мне показалось еще, что за острой, блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошел в двор, а за моей спиной произошел разговор, тихий, как перебор струн.
– Это тот самый дом, сеньор профессор! Мы прибыли!
– Отлично, сеньор кабалерро! Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эвтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки.
– Немедленно будет исполнено.
Уличные зеваки, глашатаи «непререкаемого» и «достоверного», а также просто любопытные содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха, которым они дышат в тесном проходе ворот, под красной вывеской Дома ученых. Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться.
Вышеуказанный разговор произошел на чистом кастильском наречии, и так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чем говорят эти люди. Дом ученых время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошел в двор, как это соображение подтвердилось.
– Видели испанцев? – сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который в хвосте очереди на соленых лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу. – Говорят, привезено много всего и на следующей неделе будут раздавать нам.
– А что будут давать?
– Шоколад, консервы, сахар и макароны.
Большой двор КУБУ был занят посередине, почти до главного внутреннего подъезда, длинным строением служб великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощенные проходы с лестницами и кладовыми, где время от времени выдавались на паек рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых двора выдавалось главным образом все то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находившейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену КУБУ, в раз навсегда определенный для него день недели и в известный час, вручался основной недельный паек: порции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. Эта любопытная, сильная и деятельная организация еще ждет своего историка, а потому мы не будем скупо изображать то, чему надлежит некогда развернуться полной картиной.
Смысл этих замечаний моих тот, что на дворе было много народа преимущественно интеллигентного типа. Народ этот если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селедок. В одной лавке раздавали лещей, фунтов 10 на человека, и я приметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавший из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем веревку санок, хотел вручить понурой, немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто.
– Постой, Люси, – говорил он с начинающимся раздражением, – посмотрим еще. Гм… гм… розовая – банная карточка, белая – кооперативная, желтая – по основному пайку, коричневая – по семейному, это – талон на сахар, это – на недополученный хлеб, а тут что? – свидетельства домкомбеда, анкета вуза, старый, просроченный талон на селедки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон… Матушки! – вскричал он, – я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!
Так воскликнув, воскликнув горько, потому что, уже в пятый раз листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил:
– Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги!.. Я успею! Я вернусь! Я побегу и буду через час, а ты подожди меня!
Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варежку, засеменил, таща санки, к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал:
– Рыба! Рыба! Вы потеряли рыбу!
Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу первого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о своем заявлении. Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актеры, литераторы и ученые, каждый по своему тоскливому делу (была здесь и особая разновидность – пайковые авантюристы), взрыл наконец груду бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии.
– Еще дело ваше не решено, – сказал он. – Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница.
Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю свою тысячу выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал или банкет с той разницей, что все были в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому, вверху и внизу. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привезшей подарки; о том говорили на каждом повороте, в буфете и кулуарах.
– Вы слышали о делегации из Аргентины?
– Не из Аргентины, а из Испании.
– Из Испании, да.
– Ах, все равно, но скажите – что? что? жиры? А есть ли материя?
– Говорят, много всего и раздавать будут на следующей неделе.
– А что именно?
Некто авторитетный, громкий, с снисходящим взглянуть иногда вокруг сводом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы.
– А не из Саламанки?
– Нет, с Кубы, с Кубы, – говорили, проходя, всеведущие актрисы.
– Как, с Кубы?
Уже родился каламбур, и я слышал его дважды: «КУБУ от Кубы». Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув:
– Шоколад! Да-с!
Оживились даже старухи и те сутуловатые, близорукие люди в очках, с лицами, лишенными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и которым всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица, с напряженной заботой о еде в усталых глазах, спешили повторить новость, а кое-кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всем.
Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой, – ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы не тер хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана «Мадрид». Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица; тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков.
На нем были длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот, шутя, дергал за хвост моего леща.
– С припасцем! – сказал Терпугов. – А я думал сначала – сечка, боялся порезаться, хе-хе-хе!
– А, здравствуйте, Терпугов, – ответил я. – Вы что здесь делаете?
– Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашел ему сказать, что отказываюсь.
– Куда же вы поступили?
– Как куда? – сказал Терпугов. – Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу, – приходите завтра в «Мадрид». Я снял ресторан и открываю его. Кухня – мое почтение! Ну, да вы знаете, вы мои расстегаи, подвыпивши, на память с собой брали, помните? И говорили: «К стенке приколочу, в рамку вставлю». Хе-хе! Бывало! Вот еще польские колдуны с маслом… Ну, ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее – оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу, а уж так и быть, для открытия, сыграем вам испанские танцы.
– Однако, Терпугов, – сказал я, поперхнувшись от изумления, – вы соображаете, что говорите?! Что, вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как «Мадрид»? Это в двадцать-то первом году?
Здесь произошло со мной нечто, подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда все видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден еще далее, и, хотя стоял он рядом со мной, против окна, я видел его на фоне окна, как бы вдали, нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно и не обращаясь ко мне, а в сторону:
– Там как вы хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу – да обработаю под кашу и хрен со сметаной, уж будете вы довольны! Я думаю, что у вас и дров нет.
Продолжая дивиться, я протер глаза и снова овладел зрением.
– Хотя говорите вы чепуху, – сказал я с досадой, – леща, однако, возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите! – повторил я, вручая рыбу.
Терпугов внимательно осмотрел ее, потрепал хвост и даже заглянул в рот.
– Рыба хороша, жирна, – сказал он, пряча леща за пазуху. – Будьте покойны. Терпугов знает свое дело, – все косточки удалю. Пока до свидания! Так не забудьте, завтра в «Мадриде» в восемь часов открытие!
Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьезно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью.
– Бедняга рехнулся! – сказал я, выходя на лестницу к резным дверям Розового Зала. Я отогрелся, голод так не мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая: «Лещ попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба!»
Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошел к ней, как несколько лиц высшей администрации, с портфелями и без оных, ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних, – так все они торопились увидеть нечто, без сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами, в знак равенства степенно вошел и я, как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее.
Обычно занят был этот зал канцелярской работой, но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней, от двери, стене, меж зеркальных окон с видом на занесенную снегом реку. По правому концу стола восседал президиум КУБУ, а по левому – тот рыжий человек в берете и плаще с горностаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что администрация разрешила внести сюда столько товаров.
Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал скоро, набились они все сюда постепенно, но быстро, привлеченные оригиналами – делегатами.
Основное качество «слуха» есть тончайшая эманация факта, всегда истинная по природе своей, какую бы уродливую форму ни придумал ей наш аппарат восприятия и распространения, то есть ум и его лукавый слуга – язык. Поэтому я слушал не безразлично. Дыша мне в затылок, сказал кто-то соседу:
– Этот испанский профессор – странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужаснейшими причудами: ездит по городу на носилках, как в средние века!
– Да профессор ли он? А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдает!
– Вот те на!
– А что прикажете думать?!
Стоявшая впереди меня, протискалась назад, к разговаривающим, подслушивая их, старуха и приняла немедленно участие в обсуждении дела.
– Что же это такое и как же понять? – прошамкала она лягушачьим ртом; серые жадные ее глаза таинственно просветлели. Она понизила голос:
– А мне, мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто, говорят, проверили полномочия, а печать-то не та, нет…
Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шепотам потому, что комиссия потребовала удаления посторонних.
Испанец, встав, кратко повел рукой.
– Мы просим, – сказал он сильным и звучным голосом, – разрешить остаться здесь всем, так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли скромные наши подарки.
Переводчик (это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности) оказался не совсем сведущим в языке. Он перевел: «мы должны быть», неверно, на что, протискавшись вперед, я тотчас же указал.
– Сеньор кабалерро знает испанский язык? – обратился ко мне приезжий с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна неумолимо нащупывает там человек искомый предмет.
– Знаете испанский язык? – повторил иностранец. – Хотите быть переводчиком?
– Сеньор, – возразил я, – я знаю испанский язык, как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки; но ведь переводчик уже есть?!
Произошел общий перекрестный разговор между мной, испанцем, переводчиком и членами комиссии, причем выяснилось, что переводчик сознает несовершенное знание им языка, а потому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. По-видимому, он захотел, чтоб переводил я. Комиссия, устав от переполоха, тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя:
– Профессор Мигуэль-Анна-Мария-Педре-Эстебан-Алонзе-Бам-Гран, – на что ответил я так, как следовало, то есть:
– Александр Каур (мое имя), – после чего заседание вновь приняло официальный характер.
Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых поочередно комиссией и испанцем, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бам-Гран прочел список даров, присланных учеными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. Два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч – маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать – апельсинового варенья, десять – хереса и сто ящиков манильских сигар. Все было уже взвешено и погружено в кладовые. Но те тюки, что лежали перед столом, заключали вещи, о чем Бам-Гран сказал только, что, с разрешения пайковой комиссии, он «будет иметь честь немедленно показать собранию все, что есть в тюках».
Как только перевел я эти слова, в зале прошел гул одобрения: предстояло зрелище, вернее, дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне, стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного жеста, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далекие страны.
Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу.
– Все взрослые – дети, – сказал ему Бам-Гран довольно отчетливо, так что я расслышал эти слова; затем, поняв по моему лицу, что я расслышал, он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул:
Так мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку, и, с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намеке своем особый смысл стихотворению Гейне, – смысл которого безграничен, – я нашелся лишь сказать:
– Правда? Что хотели вы выразить?
– Мы знаем кое-что, – сказал он обычным своим тоном. – Итак, приступите, кабалерро!
Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг тюков, как я был снова погружен в свое дело, внимательно слушая отрывистые слова Бам-Грана. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привез меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев, с уверенностью кошачьих лап, взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами; повернув тюки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг, ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комнаты телеграфически трещит пишущая машинка под угрюмой, ко всему равнодушной рукой.
К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими КУБУ, что видеть действие могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными, короткими свечками.
– Вот! – сказал Бам-Гран, беря одну свечку и ловко зажигая ее. – Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха!
Сухой, бледной рукой поднял он огонек, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых ученых физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали:
– А, свечи, хорошо! Наверное, есть и мыло!
Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование.
– Если все подарки таковы… – сказал седой человек с красным носом багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки, – то что же это такое?
Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал:
– Н-да…
Меж тем работа шла быстро. Еще три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шелка, узорная кисея, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, развертывали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых их рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы. Наконец материи окончились. Лопнули, упав, веревки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком; за ними посыпались красные и белые кораллы.
Я отступил, так были хороши эти цветы дна морского среди складок шелка и полотна, – они хранили блеск подводного луча, проникающего в зеленую воду. Как стало смеркаться, зал был освещен электричеством, что еще больше заставило блестеть груды подарков.
– Это – очень редкие раковины, – сказал Бам-Гран, – и нам будет очень приятно, если вы возьмете их на память о нашем посещении и об океане, который там, далеко!..
Он обратился к помощникам, жестом торопя их:
– Живей, кабалерро! Не задерживайте впечатления! Сеньор Каур, передайте собранию, что пятьдесят гитар и столько же мандолин доставлено нами; вот мы сейчас покажем вам образцы.
Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение; развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких, крепких ящиков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной ватой, лежали новые инструменты. Вынимая гитары, одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шелковыми платками, ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар цвета темной сигары были украшены перламутровой инкрустацией, местами – золотой тонкой резьбой.
Пока с ними возились, стоял смутный звон; иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд.
Скоро появились и мандолины, также украшенные перламутром и золотом. Мандолины, распространяя острый, металлический звон, вызываемый, непроизвольно, движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и все пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно нескоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряженное состояние.
В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Канцелярия, караваи хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные плащи, постное масло и кораллы образовали наглядным путем странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в КУБУ, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намека на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, раскинувшей пестрый свой лагерь в канцелярии «общественного снабжения». Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отовсюду – из лавок, присутственных мест, агентур, кладовых, топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии, и если пришли не все, то без тех, кто не пришел, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочесть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, все и везде пронюхивающих шмыгальцев уже побежали в отделы хлопотать о выдаче им шоколада и хереса, чтобы, получив, таким образом, талоны, избегнуть грядущих очередей.
Хотя я проницал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один тюк – самый длинный, тщательнее всех иных заштукованный, остался нетронутым. Шел четвертый час дня, так что более получаса депутация в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учета и уборки разбросанного товара, а испанцы – перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения КУБУ. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится.
Испанцы ухватились за длинный тюк и поставили его вертикально. Ножи оттянули веревки тупым углом, и они, надрезанные, лопнули, упав вокруг тюка змеей. Тюк был зашит в несколько слоев полотна. Развертывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцвечиваясь и золотясь, вышел из саженного кокона огромный свиток шелка, шириной футов пятнадцать и длиной почти во весь зал. Трепля и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причем один из них, согнувшись, раскатывал сверток, а два других на вытягивающихся все выше руках донесли конец к стене и там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отдаления, лег на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шелку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли – драгоценными перьями Южной Америки. Жемчуг, серебряные и золотые блестки, розовый и темно-зеленый стеклярус в соединении с другим материалом являли дикую и яркую красоту, овеянную нежностью композиции, основной мотив которой, быть может, был заимствован от рисунка кружев.
Шумя, ахая, множа шум шумом и в шуме становясь шумливыми еще больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкающему изделию. Возник беспорядок удовольствия – истинный порядок естества нашего. И покрывало заколыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиасток, требующих немедленно запросить Бам-Грана, кто и где смастерил такую редкую роскошь.
Смотря на меня, Бам-Гран медленно и внушительно произнес:
– Вот работа девушек острова Кубы. Ее сделали двенадцать самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным снисхождением. Прочтите имена рукодельниц!
Он поднял край шелка, чтобы все могли видеть небольшой венок, вышитый латинскими литерами, и я перевел вышитое: «Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара».
– Вот что они просили передать вам, – громко продолжал я, беря поданный мне испанским профессором лист бумаги: «Далекие сестры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых – все мы! Еще мы желаем вам счастья, счастья и счастья! Вот все. Простите нас, неученых, диких испанских девушек, растущих на берегах Кубы!»
Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода не переводимая ни на какие языки речь. Молча течет она…
«Далекие сестры…» Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Двенадцать пар черных глаз склонились издалека над Розовым Залом. Юг, смеясь, кивнул Северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука, пахнущая розой и ванильным стручком, – легкая рука нервного, как коза, создания, носящего двенадцать имен, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон-Томпсон: арабеск из лепестков и лучей.
На острие этого впечатления послышался у дверей шум, – настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала.
– Позвольте пройти! – говорил человек этот сумрачно и многозначительно.
Я еще не видел его. Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали:
– Я говорю вам, – пропустите! Гражданин! Вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти! Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится. Позвольте пройти! Позво… – но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться перед всяким сердитым увальнем, имеющим высокое о себе мнение.
Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, отталкивающий последнего, заслоняющего дорогу профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределенного возраста, с толстыми губами и вздернутой щеткой рыжих усов. Был он мал ростом и как бы надут – очень прямо держал он короткий свой стан; одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал, выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели; под локтем торчал портфель.
Казалось, в лицо этого человека вошло то невыразимое бабье начало, какому обыкновенно сопутствует истерика. Его нос напоминал трефовый туз, выраженный тремя измерениями, дутые щеки стягивались к ноздрям, взгляд блестел таинственно и высокомерно.
– Так вот, – сказал он тем же тоном, каким горячился, протискиваясь, – вы должны знать, кто я. Я – статистик Ершов! Я все слышал и видел! Это какое-то обалдение! Чушь, чепуха, возмутительное явление! Этого быть не может! Я не… верю, не верю ничему! Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фантомы! – прокричал он. – Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горностаев! Нет ничего, никаких фиглей-миглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь! Все равно, можете меня выгнать, проклинать, бить, задарить или повесить, – я говорю: ничего нет! Не реально! Не достоверно! Дым!
Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бам-Гран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченясь, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспамятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза.
– В чем дело? Что с ним? Кто это?! – послышались восклицания.
Бегун, секретарь КУБУ, положил руку на плечо Ершова.
– Вы с ума сошли! – сказал он. – Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик?!
– Он значит, что я более не могу! – закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами. – Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! Покрывало! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности?! Я говорю: это психоз, видение, черт побери, а не испанцы! Я, я – испанец, в таком случае!
Я переводил, как мог, быстро и точно, став ближе к Бам-Грану.
– Да, этот человек – не дитя, – насмешливо сказал Бам-Гран. Он заговорил медленно, чтобы я поспевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его белые зубы. – Я спрашиваю кабалерро Ершова, что имеет он против меня?
– Что я имею? – вскричал Ершов. – А вот что: я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкап, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет, – вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ощипав, испеку! Я… эх! Вас нет, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпься!
Он разошелся, загремел, стал топать ногами. Еще с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, Бам-Гран выпрямился, тихо качая головой.
– Безумный! – сказал он. – Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более – ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим, уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда! Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете! Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти Бам-Грана, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, ученый мир, и да здравствует голубое море!
Так сказав, причем едва ли успел я произнести десять слов перевода, – он нагнулся и взял гитару; его спутники сделали то же самое. Тихо и высокомерно смеясь, они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лица. Их руки коснулись струн… Похолодев, услышал я быстрые, глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии: зазвенело «Фанданго». Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны, и в этот набегающий темп вошло сухое щелканье кастаньет. Вдруг электричество погасло. Сильный толчок в плечо заставил меня потерять равновесие. Я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула, криков, беснования тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания.
Я очнулся тяжело, как прикованный. Я лежал на спине. С потолка светила под зеленым абажуром электрическая лампа.
В голове, около правого виска, стояло неприятное онемение. Когда я повернул голову, онемение перешло в тупую боль.
Я стал осматриваться. Узкая, вся белая комната с покрытым белой клеенкой полом была, по-видимому, амбулаторией. Стоял здесь узкий стеклянный шкап с инструментами и лекарствами, два табурета и белый пустой стол.
Я не был раздет, заключив поэтому, что ничего опасного не произошло. Моя фуражка лежала на табурете. В комнате никого не было. Ощупав голову, я нашел, что она забинтована, следовательно, я рассек кожу об угол стола или о другой твердый предмет. Я снял повязку. За ухом горел сильный, постреливающий ушиб.
На круглых стенных часах стрелки указывали полчаса пятого. Итак, я провел в этой комнате минут десять, пятнадцать.
Меня положили, перевязали, затем оставили одного. Вероятно, это была случайность, и я не сетовал на нее, так как мог немедленно удалиться. Я торопился. Припомнив все, я испытал томительное острое беспокойство и неудержимый порыв к движению. Но я был еще слаб, в чем убедился, привстав и застегивая пальто. Однако медицина и помощь неразделимы. Ключи висели в скважине стеклянного шкапа, и, быстро разыскав спирт, я налил полную большую мензурку, выпив ее с облегчением и великим удовольствием, так как в те времена водка была редкостью.
Я скрыл следы самоуправства, затем вышел по узкому коридору, достиг пустого буфета и спустился по лестнице. Проходя мимо двери Розовой залы, я потянул ее, но дверь была заперта.
Я постоял, прислушался. Служащие уже покинули учреждение. Ни одна душа не попалась мне, пока я шел к выходной двери; лишь в вестибюле сторож подметал сор. Я поостерегся спросить его об испанцах, так как не знал в точности, чем закончилось дело, но сторож дал сам повод для разговора.
– Которые выходят в дверь, – сказал он, – это правильно. Не как духи или нечистая сила!
– В дверь или в окно, – ответил я, – какая разница?!
– В окно… – сказал сторож, задумавшись. – В окно, скажу вам, особь статья, если оно открыто. А испанцы после скандала вышли поперек стены. Так, говорят, прямо на Неву, и в том месте, слышь, где опустились, будто лед лопнул. Побежали смотреть.
– Как же это понять? – сказал я, надеясь что-нибудь разузнать дальше.
– Там разберут! – Сторож поплевал на ладони и стал мести. – Чудасия!
Покинув его одолевать непонятное, я вышел во двор. Сторож у ворот, в огромной шубе, не торопясь поднялся со скамейки с ключами в руке и, всматриваясь в меня, пошел открывать калитку.
– Чего смотришь? – крикнул я, видя, что он назойливо следит за мной.
– Такая моя должность, – заявил он, – смотрю, как приказано не выпускать подозрительных. Слышали ведь?!
– Да, – сказал я, и калитка с треском захлопнулась.
Я остановился, соображая, как и где разыскать цыган. Я хотел видеть Бам-Грана. Это было страстное и безысходное чувство, понятие о котором могут получить игроки, тщетно разыскивающие шляпу, спрятанную женой.
О моя голова! Ей была задана работа в неподходящих условиях улицы, мороза и пустоты, пересекаемой огнями автомобилей. Озадаченный, я должен был бы сесть у камина в глубокое и покойное кресло, способствующее течению мыслей. Я должен был отдаться тихим шагам наития и, прихлебывая столетнее вино вишневого цвета, слушать медленный бой часов, рассматривая золотые угли. Пока я шел, образовался осадок, в котором нельзя уже было откинуть возникающие вопросы. Кто был человек в бархатном плаще, с золотой цепью? Почему он сказал мне стихотворение, вложив в тон своего шепота особый смысл? Наконец, «Фанданго», разыгранное ученой депутацией в разгаре скандала, внезапная тьма и исчезновение, и я, кем-то перенесенный на койку амбулатории, – какое объяснение могло утолить жажду рассудка, в то время как сверхрассудочное беспечно поглощало обильную алмазную влагу, не давая себе труда внушить мыслительному аппарату хотя бы слабое представление об удовольствии, которое оно испытывает беззаконно и абсолютно, – удовольствие той самой бессвязности и необъяснимости, какие составляют горшую муку каждого Ершова, и, как в каждом сидит Ершов, хотя бы и цыкнутый, я был в этом смысле настроен весьма пытливо.
Я остановился, стараясь определить, где нахожусь теперь, после полубеспамятного устремления вперед и без мысли о направлении. По некоторым домам я сообразил, что иду недалеко от вокзала. Я запустил руку в карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого твердого предмета, вытащив который разглядел при свете одного из немногих озаренных окон желтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не менее как два фунта, и лишь горячечностью своей я объясняю то обстоятельство, что не заметил ранее этой оттягивающей карман тяжести. Нажав его, я прощупал сквозь кожу ребра монет. «Теряясь в догадках…» – говорили ранее при таких случаях. Не помню, терялся ли я в догадках тогда. Я думаю, что мое настроение было как нельзя более склонно ожидать необъяснимых вещей, и я поспешил развязать мешочек, думая больше о его содержимом, чем о причинах его появления. Однако было опасно располагаться на улице, как у себя дома. Я присмотрел в стороне развалины и направился к их снежным проломам по холму из сугробов и щебня. Внутри этого хаоса вело в разные стороны множество грязных следов. Здесь валялись тряпки, замерзшие нечистоты; просветы чередовались с простенками и рухнувшими балками. Свет луны сплетал ямы и тени в один мрачный узор. Забравшись поглубже, я сел на кирпичи и, развязав желтый мешок, вытряхнул на ладонь часть монет, тотчас признав в них золотые пиастры. Сосчитав и пересчитав, я определил все количество в двести штук, ни больше ни меньше, и, несколько ослабев, задумался.
Монеты лежали у меня между колен, на поле пальто, и я шевелил их, прислушиваясь к отчетливому прозрачному стуку металла, который звенит только в воображении или когда две монеты лежат на концах пальцев и вы соприкасаете их краями. Итак, в моем беспамятстве меня отыскала чья-то доброжелательная рука, вложив в карман этот небольшой капитал. Еще я не был в состоянии производить мысленные покупки. Я просто смотрел на деньги, пользуясь, может быть, бессознательно наставлением одного замечательного человека, который учил меня искусству смотреть. По его мнению, постичь душу предмета можно лишь, когда взгляд лишен нетерпения и усилия, когда он, спокойно соединясь с вещью, постепенно проникается сложностью и характером, скрытыми в кажущейся простоте общего.
Я так углубился в свое занятие – смотреть и перебирать золотые монеты, – что очень не скоро начал чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, тонкой и точной, как если бы с одной стороны происходило легчайшее давление ветра. Я поднял голову, соображая, что бы это могло быть и не следит ли за моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне свое алчное напряжение? Слева направо я медленным взглядом обвел развалины и не открыл ничего подозрительного, но хотя было тихо, а хрупко застоявшаяся тишина была бы резко нарушена малейшим скрипом снега или шорохом щебня, – я не осмеливался обернуться так долго, что наконец возмутился против себя. Я обернулся вдруг. Стук крови отдался в сердце и голове. Я вскочил, рассыпав монеты, но уже был готов защищать их и схватил камень…
Шагах в десяти, среди смешанной и неверной тени, стоял длинный, худой человек, без шапки, с худым улыбающимся лицом. Он нагнул голову и, опустив руки, молча рассматривал меня. Его зубы блестели. Взгляд был направлен поверх моей головы с таким видом, когда придумывают, что сказать в затруднительном положении. Из-за его затылка шла вверх черная прямая черта, конец ее был скрыт от меня верхним краем амбразуры, через которую я смотрел. Обратный толчок крови, вновь хлынувшей к сердцу, возобновил дыхание, и я, шагнув ближе, рассмотрел труп. Было трудно решить, что это – самоубийство или убийство. Умерший был одет в черную сатиновую рубашку, довольно хорошее пальто, новые штиблеты, неподалеку валялась кожаная фуражка. Ему было лет тридцать. Ноги не достигли земли на фут, а веревка была обвязана вокруг потолочной балки. То, что он не был раздет, а также некая обстоятельность в прикреплении веревки к балке и – особенно – мелкие бесхарактерные черты лица, обведенного по провалам щек русой бородкой, склоняло определить самоубийство.
Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака; затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счета с необъяснимым? Укололся ли он о шип, пытаясь сорвать розу? Или это – отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с веревкой в кармане?! Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший четыре вагона сахара, или изобретатель перпетуум-мобиле, случайно взглянувший в зеркало на свое лицо, когда проверял механизм?! Или хищник, которого родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: «Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!» – а он не снес и уничтожил себя?
И это и все другое могло быть, но мне было уже нестерпимо сидеть здесь, и я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал, – уединенную чайную.
На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительное тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная печь с железной трубой, уходящей под потолком в полутемные недра, а свет шел от потускневших электрических ламп; они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и почесывая под мышкой, простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрепанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было, лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, сидело в углу человек пять плохо одетых людей дорожного вида; у ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдечек с горячим цикорием.
Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зеленой книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету.
– Садитесь, подадут, – сказал он, вновь увлекаясь чтением.
Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком.
– Что вы читаете? – спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова: «принцессу мою светлоокую…»
– Хе-хе! – сказал он. – Так себе, театральная пьеса. «Принцесса Греза». Сочинение Ростанова. Хотите посмотреть?
– Нет, не хочу. Я читал. Вы довольны?
– Да, – сказал он нерешительно, как будто конфузясь своего впечатления, – так, фантазия… О любви. Садитесь, – прибавил он, – сейчас подадут.
Но я не отходил от стойки, заговорив теперь о другом.
– Ходят ли к вам цыгане? – спросил я.
– Цыгане? – переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странен резкий переход к обычному от необычной для него книги. – Ходят. – Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова:
– Это погадать, что ли? Или зачем?
– Хочу сделать рисунок для журнала.
– Понимаю, иллюстрацию. Так вы, гражданин, – художник? Очень приятно!
Но я все же мешал ему, и он, улыбнувшись, как мог широко, прибавил:
– Ходят их тут две шайки, одна почему-то еще не была этот день, должно быть, скоро придет… Вам подано! – и он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду.
Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь.
– Гражданин, – сказал я таинственно, как требовали обстоятельства, – я хочу несколько оживиться, поесть и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нем нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-либо мясное или же рыбное. Приличное количество хлеба, соленых огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей.
Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым, как пила, взглядом.
– Хм… – сказал он. – Чего захотели!.. А что, это какая монета?
– Эта монета испанская, золотой пиастр, – объяснил я. – Ее привез мой дед (здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой, по матери, жил и умер в Толедо), но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками.
– Вот это правильно, – согласился буфетчик. – Обождите, я схожу в одно место.
Он ушел и вернулся через две-три минуты с проясневшим лицом.
– Пожалуйте сюда, – объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения, – вот сидите здесь, сейчас все будет.
Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня привел – узкую комнату с желто-розовыми обоями, табуретами и столом со скатертью в жирных пятнах, – буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми разводами, и такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил.
– Сдачи не будет, – сказал буфетчик, – и, пожалуйста, чтоб тихо и благородно.
– Тихо, благородно, – подтвердил я, наливая вторую порцию.
В это время, проскрипев, хлопнула наружная дверь, и низкий, гортанный голос странно прозвучал среди подвальной тишины русской чайной. Стукнули каблуки, отряхивая снег; несколько человек заговорили сразу громко, быстро и непонятно.
– Явилось, фараоново племя, – сказал буфетчик, – хотите, посмотрите, какие они, может, и не годятся!
Я вышел. Посреди залы, оглядываясь, куда присесть или с чего начать, стояла та компания цыган из пяти человек, которых я видел утром. Заметив, что я пристально рассматриваю их, молодая цыганка быстро пошла ко мне, смотря беззастенчиво и прямо, как кошка, почуявшая рыбный запах.
– Дай погадаю, – сказала она низким, твердым голосом, – счастье тебе будет, что хочешь, скажу, мысли узнаешь, хорошо жить будешь!
Насколько раньше я быстро прекращал этот банальный речитатив, выставив левой рукой так называемую «джеттатуру» – условный знак, изображающий рога улитки двумя пальцами, указательным и мизинцем, – настолько же теперь, поспешно и охотно, ответил:
– Гадать? Ты хочешь гадать? – сказал я. – Но сколько тебе нужно заплатить за это?
В то время как цыгане-мужчины, сверкая чернейшими глазами, уселись вокруг стола в ожидании чая, к нам подошел буфетчик и старуха цыганка.
– Заплатить, – сказала старуха, – заплатить, гражданин, можешь, сколько твое сердце захочет. Мало дашь – хорошо, много дашь – спасибо скажу!
– Что же, погадай, – сказал я, – впрочем, я вперед сам погадаю тебе. Иди сюда!
Я взял молодую цыганку за – о боги! – маленькую, но такую грязную руку, что с нее можно было снять копию, приложив к чистой бумаге, и потащил в свою конуру. Она шла охотно, смеясь и говоря что-то по-цыгански старухе, видимо чувствующей поживу. Войдя, они быстро огляделись, и я усадил их.
– Дай корочку хлеба, – тотчас заговорила моя смуглая пифия и, не дожидаясь ответа, ловко схватила кусок хлеба, оторвав тут же половину огурца; затем принялась есть с характерным и естественным бесстыдством дикой степной натуры. Она жевала, а старуха равномерно твердила:
– Положи на ручку, тебе счастье будет! – и, вытащив колоду черных от грязи карт, обслюнила большой палец.
Буфетчик заглянул в дверь, но, увидев карты, махнул рукой и исчез.
– Цыганки! – сказал я. – Гадать вы будете после меня. Первый гадаю я.
Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смуглой ладони.
– Вот что скажу тебе: ты увидела меня, но не знаешь, что тебе придется сделать в самое ближайшее время.
– Ну, скажи, будешь цыган! – захохотала она.
Я продолжал:
– Ты скажешь мне… – и тихо прибавил, – как найти человека, которого зовут Бам-Гран.
Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, сдернув платок, накрыла лицо, по которому судорогой рванулся страх, и, согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила ее к щеке, смотря прямо и дико. Лицо ее побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, затем, быстро шепнув старухе, поспешно увела ее, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она опомнилась и, уже на пороге, кивнув мне, тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом:
– Молчи! Все скажу, ожидай здесь; тебя не знаем, толковать будем!
Не знаю, струсил ли я, когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои «захолонуло», как будто в ночи над ухом, чутким к молчанию, прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я еще чашку специи, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шепота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое, обе цыганки и старик цыган, кинувший мне еще через порог двусмысленный, резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением, вогнавшим их в пот; его капли блестели на лбу старика и висках цыганок, и, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу, наспех, что скажет мое лицо.
– Зачем такое слово имеешь? – произнес он. – Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь, мы сами скажем; не расскажешь, верить не можем!
Допуская, что это входит почему-либо в план обращения со мной, я, как мог толково и просто, рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причем, увлекшись, на меня тогда не обращали внимания, но, кончив говорить между собой, все разом вцепились в мое лицо тревожными взглядами.
– Все верно говоришь, – сказала мне старуха, – истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы, цыгане, его знаем, только идти не можем. Сам ступай, а как – скоро скажу. По картам тебе будет и что надо делать, – увидишь. Говорить по-русски плохо умею; не все сказать можно; дочка моя тебе объяснять будет!
Она вытащила карты и, потасовав их, пристально заглянула мне в глаза; затем положила четыре ряда карт, один на другой, снова смешала и дала мне снять левой рукой. После этого вытащила она семь карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкуя по-цыгански молодой женщине.
Та, кашлянув, с чрезвычайно серьезным лицом нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха.
– Вот, – сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений, – одно место, где был сегодня, туда снова иди, оттуда к нему пойдешь. Какое место, не знаю, только там твое сердце тронуто. Сердце разгорелось твое, – повторила она, – что там увидел, тебе знать. Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придешь, один будь, никого не пускай. Верно говорю? Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел.
Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной солнечной комнаты и, соглашаясь, кивнул.
– Это правда, – сказал я, – сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше.
– Туда придешь… – она выслушала старуху и стала размышлять, вытерев нос рукой. – Не просто можно прийти. Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дело сделаешь. Что увидишь, ничего не пугайся, что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдешь, – огонь потуши, и какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи, а двери запри, чтобы никто не вошел. Что сделается, что будет, сам поймешь и дорогу найдешь. Теперь денег дай, на карты положи, дай бедной цыганке, не жалей, брат, тебе счастье будет.
Старуха тоже начала попрошайничать.
– Сколько же тебе дать? – сказал я, не от колебания, а чтобы испытать эту силу привычки, не изменяющую им ни в каких случаях.
– Мало дашь – хорошо, много дашь – спасибо скажу! – повторили цыганки с напряжением и настойчивостью.
Запустив руку в карман, я взял в горсть восемь или десять пиастров, сколько захватил сразу.
– Ну, держи, – сказал я красавице.
Взглянув подобострастно и жадно, схватила она монеты. Одна упала, и ее проворно поймал старик; старуха рванулась с места, суя мне согбенную горсть.
– Положи, положи на ручку, не жалей бедной цыганке! – завопила она, пересыпая русские слова восклицаниями на цыганском языке. Все трое дрожали, то рассматривая монеты, то снова протягивая ко мне руки.
– Больше не дам, – сказал я, однако прибавил к даянию своему еще пять штук. – Замолчите, или я скажу Бам-Грану!
Казалось, это слово имеет универсальное действие. Азарт смолк; лишь старуха вздохнула тяжко, как будто у нее умер ребенок. Поспешно спрятав монеты в тайниках своих шалей, молодая цыганка протянула старику руку ладонью вверх, чего-то требуя. Он начал спорить, но старуха прикрикнула, и, медленно расстегнув жилет, старик вытащил небольшой острый конус из белого металла, по которому, когда он блеснул при свете, мелькнула внутренняя зеленая черта. Тотчас цыган завернул конус в синий платок и подал мне.
– Не раскрывай на воздухе, – сказал цыган, – раскрой, как придешь, положи на стол, будешь уходить, снова заверни, а с собой не бери. Все равно у меня будет, место себе найдет. Ну, будь здоров, брат, чего не так сказали, – не сердись.
Он отступил к двери, делая цыганкам знак выйти.
– Скажи мне еще, кто такой Бам-Гран? – спросил я, но он только махнул рукой.
– У него спроси, – сказала старуха, – больше мы ничего не скажем.
Цыгане вышли, говоря друг с другом тихо, взволнованно и опасливо. Их поразил я. Я видел, что их изумление огромно, ошеломленность и поспешность угодить смешаны со страхом, что в их жизни произошло событие. Я сам волновался так сильно, что спирт не действовал. Я вышел и столкнулся с буфетчиком, который неоднократно заглядывал уже в дверь, однако не мешал нам, и я был ему за это крайне признателен. Цыганки обыкновенно уводят выгодного клиента за дверь или в другой укромный уголок, где заставляют его смотреть в воду, а также повторять какое-нибудь нехитрое заклинание, поэтому буфетчик мог думать, что, отложив рисование, поддался я соблазну узнать будущее.
– Убежали, фараоново племя! – сказал он, смотря на меня с мрачным интересом. – Чай им подали, они не стали пить, погорланили и ушли. Испугались они вас или как?
Я поддержал эту догадку, сообщив, что цыгане очень суеверны и их трудно уговорить позволить нарисовать себя незнакомому человеку. На том мы расстались, и я вышел на улицу, выдвинутую из тьмы строем теней.
Луны не было видно, но светлый туман одевал небо, сообщая перспективе сонную белизну, переходящую в мрак.
Я отошел подальше, остановился и вытащил из внутреннего кармана пальто синий платок. В нем прощупывался конус. Я должен был узнать, почему цыгане запрещают обнажать эту вещь прежде, чем приду на место, то есть к Броку, так как указание не поддавалось никакому другому толкованию. Говоря «должен», я подразумеваю долю скептицизма, которая еще осталась во мне вопреки странностям этого дня. К тому же разительная неожиданность, являющаяся, опрокинув сомнение, всегда слаще голой уверенности. Это я знал твердо. Но я не знал, что произойдет, иначе потерпел бы еще не один час.
Остановясь на углу, я развернул платок и увидел, что сверкание зеленой черты в конусе имеет странную форму приближающегося издалека света – точно так, как если бы конус был отверстием, в которое я наблюдаю приближение фонаря. Черта скрывалась, оставляя светлое пятно, или выступала на самой поверхности, разгораясь так ярко, что я видел собственные пальцы, как при свете зеленого угля. Конус был довольно тяжел, высотой дюйма четыре и с основанием в разрез яблока, совершенно гладкий и правильный. Его цвет старого серебра с оливковой тенью был замечателен тем, что при усилении зеленоватого света казался темно-лиловым.
Увлеченный и очарованный, я смотрел на конус, замечая, что вокруг зеленоватого сияния образуется смутный рисунок, движение частей и теней, подобных черному бумажному пеплу, колеблемому в печи при свете углей. Внутри конуса наметилась глубина, мрак, в котором отчетливо двигался ручной фонарь с зеленым огнем. Казалось, он выходит из третьего измерения, приближаясь к поверхности. Его движения были прихотливы и магнетичны; он как бы разыскивал скрытый выход, светя сам себе вверху и внизу. Наконец фонарь стал решительно увеличиваться, устремляясь вперед, и, как это бывает на кинематографическом экране, его контур, выросши, пропал за пределами конуса; резко, прямо мне в глаза сверкнул дивный зеленый луч. Фонарь исчез. Весь конус озарился сильнейшим блеском, и не прошло секунды, как ужасное, зеленое зарево, хлынув из моих пальцев, разлилось над крышами города, превратив ночь в ослепительный блеск стен, снега и воздуха – возник зеленоватый день, в свете которого не было ни одной тени.
Этот безмолвный удар длился одно мгновение, равное судорожному сжатию пальцев, которыми я скрыл поверхность изумительного предмета. И, однако, это мгновение было чревато событиями.
Еще дрожал в моих пораженных глазах всеразрывающий блеск, полный слепых пятен, но, как гигантская стена, рухнул наконец мрак, такой мрак, благодаря мгновенному переходу от пределов сияния к густой тьме, что я, потеряв равновесие, едва не упал. Я шатался, но устоял. Весь трясясь, я завернул конус в платок с чувством человека, только что швырнувшего бомбу и успевшего повернуть за угол. Едва я совершил это немеющими руками, как в разных местах города поднялся шум тревоги. Надо думать, что все, кто был в этот час на улицах, вскрикнули, так как со всех сторон донеслось далекое «а-а-а», затем послышался отскакивающий звук выстрелов. Лай собак, ранее редкий, возвысился до остервенения, как будто все собаки, соединясь, гнали одинокого и редкого зверя, соскучившегося в тесных трущобах. Мимо меня пробежали испуганные прохожие, оглашая улицу неистовыми и жалкими воплями. Нервно вспотев, я кое-как шел вперед. Во тьме сверкнул красный огонь; грохот и звон выскочили из-за угла, и дорогу пересек пожарный обоз, мчась, видимо, наудачу, куда придется. От факелов летел с дымом и искрами волнующий блеск пожара, отражаясь в блестящих касках адским трепетом. Колокольцы дуг били резкий набат, повозки гремели, лошади мчались, и все проскакало, исчезнув, как стремительная атака.
Что произошло еще в этот вечер с перепуганным населением, я не узнал, так как подходил к дому, где жил Брок. Я поднялся по лестнице с тяжким сердцебиением, лишь крайним напряжением воли заставляя слушаться ноги. Наконец я достиг площадки и отдышался. В полной темноте я нащупал дверь, постучал и вошел, но ничего не сказал открывшему. Это был один из жильцов, знавший меня ранее, когда я жил в этой квартире.
– Вам Брока? – сказал он. – Его, кажется, нет. Он был недавно и ждал вас.
Я молчал, боясь произнести хотя одно слово, так как уже не знал, что за этим последует. Разумная мысль пришла мне: приложив руку к щеке, я стал ворочать языком и мычать.
– Ах, эта зубная боль! – сказал жилец. – Я сам хожу с дурной пломбой и часто лезу на стенку. Может быть, вы будете его ждать?
Я кивнул, разрешив, таким образом, затруднение, которое, хотя было пустячным, могло пресечь все мои дальнейшие действия. Брок никогда не запирал комнату, потому что при множестве коммерческих дел интересовался оставляемыми на столе записками. Таким образом, ничто не мешало мне, но если бы я застал Брока дома, на этот случай был мной уже придуман хороший выход: дать ему, ни слова не говоря, золотую монету и показать знаками, что хорошо бы достать вина.
Схватясь за щеку, я вошел в комнату, благодаря впустившего меня кивком и кислой улыбкой, как надлежит человеку, помраченному болью, и тщательно прикрыл дверь. Когда в коридоре затихли шаги, я повернул ключ, чтобы мне никто не мешал. Осветив жилье Брока, я убедился, что картина солнечной комнаты стоит на полу, между двумя стульями, у простенка, за которым лежала ночная улица. Эта подробность имеет безусловное значение.
Подступив к картине, я всмотрелся в нее, стараясь понять связь этого предмета с посещением мною Бам-Грана. Как ни был силен толчок мыслям, произведенный ужасным опытом на улице, даже втрое более раскаленный мозг не привел бы сколько-нибудь сносной догадки. Еще раз подивился я великой и легкой живости прекрасной картины. Она была полна летним воздухом, распространяющим изящную полуденную дремоту вещей, ее мелочи, недопустимые строгим мастерством, особенно бросались теперь в глаза. Так, на одном из подоконников лежала снятая женская перчатка, – не на виду, как поместил бы такую вещь искатель легких эффектов, но за деревом открытой оконной рамы; сквозь стекло я видел ее, снятую, маленькую, существующую особо, как существовал особо каждый предмет на этом диковинном полотне. Более того, следя взглядом возле окна с перчаткой, я приметил медный шарнир, каким укрепляются рамы на своем месте, и шляпки винтов шарнира, причем было заметно, что поперечное углубление шляпок замазано высохшей белой краской. Отчетливость всего изображения была не меньше, чем те цветные отражения зеркальных шаров, какие ставят в садах. Уже начал я размышлять об этой отчетливости и подозревать, не расстроено ли собственное мое зрение, но, спохватясь, извлек из платка конус и стал, оцепенев, всматриваться в его поверхность.
Зеленая черта едва блистала теперь, как бы подстерегая момент снова ослепить меня изумрудным блеском, с силой и красотой которого я не сравню даже молнию. Черта разгорелась, и из тьмы конуса выбежал зеленый фонарь. Тогда, положась на судьбу, я утвердил конус посередине стола и сел в ожидании.
Прошло немного времени, как от конуса начал исходить свет, возрастая с силой и быстротой направляемого в лицо рефлектора. Я находился как бы внутри зеленого фонаря. Все, за исключением электрической лампы, казалось зеленым. В окнах до отдаленнейших крыш протянулись яркие зеленые коридоры. Это было озарением такой силы, что, казалось, развалится и сгорит дом. Странное дело! Вокруг электрической лампы начала сгущаться желтая масса, дымящаяся золотым паром; она, казалось, проникает в стекло, крутясь там, как кипящее масло. Уже не было видно проволочной раскаленной петли, вся лампочка была подобна пылающей золотой груше. Вдруг она треснула звуком выстрела; осколки стекла разлетелись вокруг, причем один из них попал в мои волосы, и на пол пролились пламенные желтые сгустки, как будто сбросили со сковороды кипящие яичные желтки. Они мгновенно потухли, и один зеленый свет, едва дрогнув при этом, стал теперь вокруг меня как потоп.
Излишне говорить, что мои мысли и чувства лишь отдаленно напоминали обычное человеческое сознание.
Любое, самое причудливое сравнение даст понятие лишь об усилиях моих сравнить, но ничего – по существу. Надо пережить самому такие минуты, чтобы иметь право говорить о никогда не испытанном. Но, может быть, вы оцените мое напряженное, все отмечающее смятение, если я сообщу, что, задев случайно рукой о стул, я не почувствовал прикосновения так, как если бы был бестелесен. Следовательно, нервная система моя была поражена до физического бесчувствия. Поэтому здесь предел памяти о том, что было испытано мной душевно, с чем согласится всякий, участвовавший хотя бы в штыковом бою: о себе не помнят, действуя тем не менее точно так, как следует действовать в опасной борьбе.
То, что произошло затем, я приведу в моей последовательности, не ручаясь за достоверность.
– Откройте! – кричал голос из непонятного мира и как бы по телефону, издалека.
Но это ломились в дверь. Я узнал голос Брока. Последовал стук кулаком. Я не двигался. Рассмотрев дверь, я не узнал этой части стены. Она поднялась выше, имея вид арки с запертыми железными воротами, сквозь верхний ажур которых я видел глубокий свод. Больше я не слышал ни стука, ни голоса. Теперь, куда я ни оглядывался, везде наметились разительные перемены. С потолка спускалась бронзовая массивная люстра. Часть стены, выходящей на улицу, была как бы уничтожена светом, и я видел в открывшемся пространстве перспективу высоких деревьев, за которыми сиял морской залив. Направо от меня возник мраморный балкон с цветами вокруг решетки; из-под него вышел матадор с обнаженной шпагой и бросился сквозь пол, вниз, за убегающим быком. Вокруг люстры сверкала живопись. Это смешение несоединимых явлений образовало подобие набросков, оставляемых ленью или задумчивостью на бумаге, где профили, пейзажи и арабески смешаны в условном порядке минутного настроения. То, что оставалось от комнаты, было едва видимо и с изменившимся существом. Так, например, часть картин, висевших на правой от входа стене, осыпалась изображениями фигур; из рам вывалились подобия кукол, предметов, образовав глубокую пустоту. Я запустил руку в картину Горшкова, имевшую внутри форму чайного цыбика, и убедился, что ели картины вставлены в деревянную основу с помощью столярного клея. Я без труда отломил их, разрушив по пути избу с огоньком в окне, оказавшимся просто красной бумагой. Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засохшие мухи, которых раньше я принимал за классическую «пару ворон». В самой глубине ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы.
Я повернулся, не зная, что предстоит сделать, так как, согласно указаниям, мое положение было лишь выжидательным.
Вокруг сверкал движущийся световой хаос. Под роялем стояли дикий камень и лесной пень, обросший травой. Все колебалось, являлось, меняло форму. По каменистой тропе мимо меня пробежал осел, нагруженный мехами с вином; его погонщик бежал сзади, загорелый босой детина с повязкой на голове из красной бумажной материи. Против меня открылось внутрь комнаты окно с железной решеткой, и женская рука выплеснула с тарелки помои. В воздухе, под углом, горизонтально, вертикально, против меня и из-за моих плеч проходили, исчезая в пропастях зеленого блеска, неизвестные люди южного типа; все это было отчетливо, но прозрачно, как окрашенное стекло. Ни звука: движение и молчание. Среди этого зрелища едва заметной чертой лежал угол стола с блистающим конусом. Находя, что потрудился довольно, и опасаясь также за целость рассудка, я бросил на конус свой карманный платок. Но не наступил мрак, как я ожидал, лишь пропал разом зеленый блеск и окружающее восстало вновь в прежнем виде. Картина солнечной комнаты, приняв несравненно большие размеры, напоминала теперь открытую дверь. Из нее шел ясный дневной свет, в то время как окна броковского жилища были по-ночному черны.
Я говорю: «Свет шел из нее», потому что он действительно шел с этой стороны, от открытых внутри картины высоких окон. Там был день, и этот день сообщал свое ясное озарение моей территории. Казалось, это и есть путь. Я взял монету и бросил ее в задний план того, что продолжал называть картиной; и я видел, как монета покатилась через весь пол к полуоткрытой в конце помещения стеклянной двери. Мне оставалось только поднять ее. Я перешагнул раму с чувством сопротивления встречных вихрей, бесшумно ошеломивших меня, когда я находился в плоскостях рамы; затем все стало, как по ту сторону дня. Я стоял на твердом полу и машинально взял с круглого лакированного стола несколько лепестков, ощутив их шелковистую влажность. Здесь мной овладело изнеможение. Я сел на плюшевый стул, смотря в ту сторону, откуда пришел. Там была обыкновенная глухая стена, обтянутая обоями с лиловой полоской, и на ней, в черной узкой раме, висела небольшая картина, имевшая, бессознательно для меня, отношение к моим чувствам, так как, совладав с слабостью, естественной для всякого в моем положении, я поспешно встал и рассмотрел, что было изображено на картине. Я увидел изображение, сделанное превосходно: вид плохой, плохо обставленной комнаты, погруженной в едва прорезанные лучом топящейся печи сумерки; и это была железная печь в той комнате, из которой я перешел сюда.
Я принадлежу к числу людей, которых загадочное не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Уже было довольно загадочного в этот зимний день с воткнутым в самое его горло льдистым ножом мороза, но ничто не было так красноречиво загадочно, как это явление скрытой без следа комнаты, отраженной изображением. Я кончил тем, что завязал в памяти узелок: спокойно я подошел к окну и твердой рукой отвел раму, чтобы разглядеть город. Каково было мое спокойствие, если теперь, только вспоминая о нем, я волнуюсь неимоверно, нетрудно представить. Но тогда это было спокойствие – состояние, в каком я мог двигаться и смотреть.
Как можно понять уже из прежних описаний моих, помещение, залитое резким золотым светом, было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращенной к постройкам. Я дышал веселым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря, блестящего чеканной синевой волн, стучали колеса, пели петухи, нестройно голосили прохожие.
Ниже галереи, выступая из-под нее, лежала терраса, окруженная садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте и в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной.
Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил двенадцать часов.
Тогда я все понял. Мое понимание не было ни расчетом, ни доказательством, и мозг в нем не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку.
В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях, характером невиданного узора.
Затем оно стало уходить вниз, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих ее ступеней лестницы прощальный привет.
Я был снова в границе обычных чувств. Они вернулись из огненной сферы опаленные, но собранные твердо и точно. Мое состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде.
Я прошел в дверь и пересек сумерки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью, с диванами и цветами. Ее стены были обиты пестрым шелком. На полпути я был остановлен взглядом Бам-Грана, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке; он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем, в восторге и от неудач и от ожидания.
Бам-Гран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе.
– Я знал, что увижу вас, – сказал он, – и, хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это – Зурбаган, Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев, хороший Зурбаган шутников, подобных мне!
Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку.
– Вы смелы, дон Каур, – воскликнул он, – и это мне нравится, как все значительное. Что чувствуете вы, одолев тысячи миль?
– Жажду, – сказал я. – Воздушное давление изменилось, а волнение было велико!
– Я понимаю.
Он сжал мордочку фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал:
– Ступай, скажи Ремму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду.
Собака, тявкнув, унеслась прочь.
– Нет, нет, – сказал Бам-Гран, заметив мое невольное движение, – это лишь отличная дрессировка. Слово «Ремм» значит – бежать к Ремму, а Ремм знает сам, что сделать, завидев Пли-Пли. Между тем дорожите временем, сеньор Каур, – вы можете пробыть здесь только тридцать минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во всяком случае, мы успеем выпить по стакану вина. Ремм, как умилительна твоя быстрота!
Вошел слуга. Он был в белой пижаме, с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенный соломинками, он отступил и посмотрел на Бам-Грана взглядом обожания.
– Лед весь вышел, сеньор!
– Возьми в Норвежском фиорде или у Сибирской реки!
– Я взял Ремма с Тристан д’Акунья, – сказал Бам-Гран, когда тот ушел, – я взял его из страшной тайны зеркального стекла, куда он засмотрелся в особую для себя минуту. Выпьем!
Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал ее, но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот.
– Итак, – сказал он, – «Фанданго»! Это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим ее в исполнении барселонского оркестра Ван-Герда.
Я взглянул с изумлением, так как действительно думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрывался Бам-Гран. И я мысленно напевал его.
– Барселона не Зурбаган, – сказал я, – а потому не знаю, каким радио вы дадите этот оркестр!
– О простота! – заметил Бам-Гран, вставая с несколько заносчивым видом. – Ван-Герд, сыграйте нам «Фанданго» в переложении Вальтера.
Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты:
– Очень хорошо! Сейчас.
Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов, Бам-Гран, закусив губу, прислушивался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижерского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но, вспомнив все, откинулся и стал ждать.
Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынуло наконец полной мерой единственное «Фанданго», о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств, и тем не менее оно еще подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с совершенной оркестровкой заставила онеметь ноги. Я сам звучал, как зазвеневшее от грома стекло. С трудом понимал я, что говорит рядом Бам-Гран, и бессмысленно посмотрел на него, кружась в стремительных кругообразных наплывах блестящего ритма. «Все уносит, – сказал тот, кто вел меня в этот час, подобно твердой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию, – уносит, разбрасывает и разрывает, – говорит он, – гонит ветер и внушает любовь. Бьет по крепчайшим скрепам. Держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовет, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное „Фанданго“!»
Оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода. Она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования. Музыка взяла обаятельный верх, перенеслась там из вышины в вышину и трогательно, гордо сошла вниз, сдерживая экспрессию. Наступила тишина поезда, остановившегося у станции; тишина, резко обрывающая мелодию, напеваемую под стук бегущих колес.
Я очнулся, как приведенный в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник.
– Вы видите, – сказал Бам-Гран, – что у Ван-Герда действительно лучший оркестр в мире, и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь еще десять минут, то, может быть, пожалеете о гостеприимстве Бам-Грана!
Он встал, я тоже поднялся с дымом в голове, все еще полный быстрым, как полет, ритмом фантастического оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида.
– Теперь мне не следует оставаться здесь, – сказал Бам-Гран, отходя в тень, где стал рисунком обвалившейся на стене известки, рисунком, имеющим, правда, отдаленное сходство с его острой фигурой. – Прощайте!
Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей внизу двери, и я был снова один…
Лестница шла вниз узким семиэтажным пролетом.
В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал очень знакомый двор – двор дома, в котором я жил.
Я осмотрел три двери, выходящие на площадку. На одной из них, под № 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки: «Марья Степановна Кузнецова».
Под этой доской висела моя визитная карточка, которую я прикрепил кнопками. Карточка была на своем месте, но сама она изменилась.
Я прочел: «Александр Каур» и «и», выведенное чернилами «и». Оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединенная в смысле своем с верхней строкой этим союзом, была тоже прописана чернилами. Она гласила: «и Елизавета Антоновна Каур». Так! Я был у двери, за которой в отдаленной небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, получив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончивших владеть мною событий ярко текла взад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое, закричавшее существо. Я ожил исчезнувшей без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня; между тем два вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни.
Я вскочил внутрь и обнял жену.
– Это ты? – сказал я. – Это ты, это ты?
Я сжимал ее, повторяя:
– Ты, ты, ты?…
– Что с тобой? – сказала она, освобождаясь, с пораженным, бледным лицом. – Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?
– Скоро?!
– Пойдем. – Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом.
В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть; я прошел в комнату и сел на кровать.
Я сидел не двигаясь. Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела ее в руках.
– Слушай, что произошло? – сказала она глухо, в разрастающемся испуге. – На голове присохли волосы. Тебе больно? Обо что ты ударился?
– Лиза, скажи мне, – заговорил я, взяв ее за руку, – и не пугайся вопросов: когда я вышел из дома?
Она побледнела, но тотчас подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Ее голос был неестественно звонок; не отрываясь, она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры.
– Ты вышел в почтовое отделение минут двадцать назад, может быть, полчаса.
– Я сказал что-нибудь, уходя?
– Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насвистываешь «Фанданго».
Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошел сдать заказное письмо.
– Какой теперь год?
– Двадцать третий год, – сказала она, заплакав, но не утирая слез и, вероятно, не замечая, что плачет.
Необычным было напряжение ее взгляда.
– Месяц?
– Май.
– Число?
– 23-е мая 1923 года. Я схожу в аптеку.
Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги. Я не мешал. Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал ее быстрые шаги к выходной двери.
Пока ее не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было мое прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту минуту. Однако мне предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели выражалось желтым кожаным мешочком, который весил на моей руке те же два фунта, как и какое-то время тому назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью между отдельными моментами мелькнувших двух лет и историей каждого предмета, как она ввязывает свою петлю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пережил прожитое, как бы небывшее.
– Саша! – Лиза стояла передо мной, протягивая пузырек. – Это капли, прими двадцать пять капель. Прими…
Но следовало наконец дать движение и выход всему. Я посадил ее рядом с собой, сказав:
– Слушай и думай. Я вышел сегодня утром не из этой комнаты. Я вышел из той комнаты, в которой жил до встречи с тобой в январе 1921 года.
Сказав так, я взял желтый мешочек и высыпал на колени жены сверкающие пиастры.
Изобразить наш разговор и наше волнение после такого доказательства истины может только повторение этого разговора при тех же условиях. Мы садились, вставали, садились опять и перебивали друг друга, пока я не рассказал случившегося со мной с начала до конца. Жена несколько раз вскрикивала:
– Ты бредишь! Ты пугаешь меня! И ты хочешь, чтобы я поверила?
Тогда я указывал ей на золотые монеты.
– Да, правда, – говорила она, закруженная безвыходным положением рассудка так, что могла только сказать: – Фу! Если я ничего не пойму, я умру!
Наконец она стала спрашивать и переспрашивать в глубоком утомлении, почти механически, то смеясь, то падая головой на руки и обливаясь слезами. Я был спокойнее. Мое спокойствие постепенно передалось ей. Уже стало темнеть, когда она подняла голову с расстроенным и значительным видом, озаренным улыбкой.
– Ну, я просто дура! – сказала она, прерывисто вздыхая и начиная поправлять волосы, – признак конца душевной бури. – Очень понятно! Все перевернулось и в перевернутии оказалось на своем месте!
Я подивился женской способности определять положение двумя словами и должен был согласиться, что точность ее определения не оставляет желать ничего лучшего.
После этого она снова заплакала, и я спросил – почему?
– Но ведь тебя не было два года! – проговорила она с ужасом, сердито вертя пуговицу моего жилета.
– Ты сама знаешь, что я не был дома тридцать минут.
– А все-таки…
С этим я согласился, и, еще немного поговорив, Лиза, как сраженная, уснула крепчайшим сном. Я вышел быстро и тихо, – стремясь по следам жизни или видения? На это, ощупывая в жилетном кармане золотые кружки, я не мог и не могу дать положительного ответа.
Я достиг «Мадрида» почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов; увидев меня, он бросился ко мне, тряся мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи.
– Вот и вы, – сказал он. – Присядьте, сейчас подадут. Ваня! Ихнего леща! Поди, спроси у Нефедина, готов ли?
Мы сели, стали говорить о разных вещах, и я сделал вид, что объяснять нечего. Все было просто, как в обыкновенный день. Официант принес кушанье, открыл бутылку мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ, и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал Терпугову, так как запомнил сломанную поперек жабру.
– Итак, – сказал я, не утерпев, – вы сдержали, Терпугов, свое слово, которое дали мне два года назад!
Он хитро посмотрел на меня.
– Хе-хе! – сказал бывший повар. – О чем вспомнили! Мы с вами вчера встретились, и леща вы несли с рынка, а я был выпивши и пристал к вам, ну, скажу прямо, чтобы вас затащить!
Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я был тоже прав, и о правоте своей, склоняясь к уху Терпугова, шепнул:
– Хе-хе! – сказал он, наливая в стакан мадеру, – шутить изволите!
Был вечер. Моросил дождь.
Зеленая лампа
В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра.
Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.
– Стильтон! – брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. – Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.
– Я голоден… и я жив, – пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. – Это был обморок.
– Реймер! – сказал Стильтон. – Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.
Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.
Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился с Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кеб.
Экипаж направился к одному из трактиров Гай-стрита.
Бродягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали – кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.
Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов.
То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.
Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:
– Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же наймете комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу. Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дома, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить, я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. Моего имени я вам не скажу.
– Если вы не шутите, – отвечал Ив, страшно изумленный предложением, – то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, как долго будет длиться такое мое благоденствие?
– Это неизвестно. Может быть, год, может быть, – всю жизнь.
– Еще лучше. Но – смею спросить – для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?
– Тайна! – ответил Стильтон. – Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.
– Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!
Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.
Прощаясь, Стильтон сказал:
– Напишите до востребования так: «3-33-6». Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, через год, – словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как – я объяснить не имею права. Но это случится…
– Черт возьми! – пробормотал Ив, глядя вслед кебу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовый билет. – Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный! Наобещать такую кучу благодати только за то, что я сожгу в день поллитра керосина!
Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома № 52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме.
Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:
– Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума… но будет ждать сам не зная чего. Да вот и он!
Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придет?»
– Однако вы тоже дурак, милейший, – сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. – Что веселого в этой шутке?
– Игрушка… игрушка из живого человека, – сказал Стильтон, – самое сладкое кушанье!
В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона.
Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезным, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.
По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.
– Так вот как пришлось нам встретиться! – сказал доктор, серьезный, высокий человек с грустным взглядом. – Узнаёте ли вы меня, мистер Стильтон? Я – Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда.
– Тысяча чертей! – пробормотал, вглядываясь, Стильтон. – Что произошло? Возможно ли это?
– Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?
– Я разорился… несколько крупных проигрышей… паника на бирже… Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?
– Я несколько лет зажигал лампу, – улыбнулся Ив, – и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.». Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.
К тому времени я уже два года жег зеленую лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно не то с досадой, не то с презрением.
«Ив – классический дурак! – пробормотал тот человек, не замечая меня. – Он ждет обещанных чудесных вещей… да, он хоть имеет надежды, а я… я почти разорен!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».
У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком…
– А дальше? – тихо спросил Стильтон.
– Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком…
Наступило молчание.
– Я давно не подходил к вашему окну, – произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон, – давно… очень давно. Но мне теперь кажется, что там все еще горит зеленая лампа… лампа, озаряющая темноту ночи… Простите меня.
Ив вынул часы.
– Десять часов. Вам пора спать, – сказал он. – Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, – быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте… хотя бы спичку.
11 июля 1930 г.