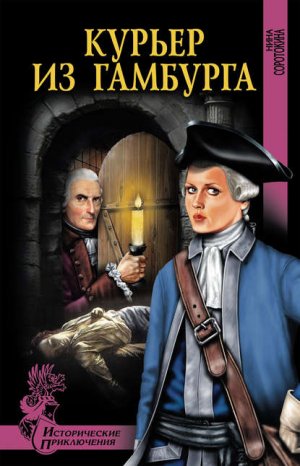
© Сороткина Н. М., 2010
© ООО «Издательство «Вече», 2014
Часть первая
Ну вот, еще и ноготь сломала до самого мяса… больно! Кто знал, что у дорожной сумы есть потайной карман с металлическим замком. Глафира сунула палец в рот. За окном, стоя по колено в тумане, за ней наблюдали яблони. С листьев их стекала роса, и казалось, идет дождь.
В кармане лежали паспорт на имя Альберта фон Шлоса, запечатанный сургучом пакет, какое-то письмо и деньги в сафьяновом кошеле. Золото…
Глафира вернулась к покойнику. Странно, она его совсем не боялась. Альберт… Казалось, что смерть сделала его моложе, совсем мальчишка, и только отросшая за три дня щетина на подбородке (впрочем, довольно хилая) выдавала в нем взрослого мужчину. Казалось, он удобно лежит на топчане, тетка не пожалела хорошего белья, поэтому смерть выглядела опрятно. Если бы не широко открытые, странно выпуклые, глядящие в никуда глаза, можно было подумать, что он спит.
Пальцем с обломанным ногтем Глафира дотронулась до шелковистого на ощупь века. Она боялась, что глаза не закроются. Но они покорно закрылись, словно на немецкой фарфоровой кукле, которой она играла в детстве.
Этот юноша, Альберт Шлос, появился в их забытой Богом усадьбе три дня назад, когда гроза уже пошла на убыль. Солнце давно село, но в доме не спали, ожидая, когда отгремят дальние громы. Мало того, что неожиданный гость промок до нитки, он еще был донельзя измучен и, казалось, чудом держится в седле. Из всех домочадцев только Глафира поняла его невнятную речь, хотя и без знания немецкого можно было догадаться: он заблудился, устал и просит крова. Понятное дело – заблудился, псковские леса шутят с чужаками странные шутки. Еще удивительно, как он пробрался через Варнавинскую гать.
Тетка Марья, существо глупое, вздорное, но незлобивое, душа ее не находила радости в чужих бедах (последнее качество соседи принимали за доброту), при виде всадника смертельно испугалась. В каждом незнакомце ей чудился разбойник, но потом, услышав чужой язык, и зацепив взглядом обвисшие кружева на манжетах, и уловив в жесте измученной руки ночного гостя манеры изящные, опомнилась и принялась орать на дворню. Шутка ли – к ним пожаловал иностранец собственной персоной, так надо же принять подобающе!
В дом незнакомец вошел собственными ногами, стекающая с плаща его вода оставляла мокрую полосу на крашеном полу. Его сразу повели в крохотную комнатенку, которую тетка гордо называла гостевой: стены без обоев, мебели кой-каковские, в углу топчан, рядом с топчаном стул, одна радость – окна выходят в сад.
Здесь незнакомца переодели в сухое. Он так и рухнул на лежанку. От еды отказался, выпил только клюквенной настойки, стуча зубами о края бокала. Несмотря на летнюю теплынь, он дрожал от холода. Его закрыли пуховиком, нянька Татьяна приладила к ногам его голландскую грелку с оплетенной соломой ручкой, а для услуг усадила на стул сенную девку – мало ли что, хоть воды поднести. К утру незнакомец был уже в полном беспамятстве.
И что прикажите делать? Надо было посылать за лекарем, а это двадцать с лишним верст. Да и лекарь в их округе – чистое наказание. Все болезни лечит одним способом – кровопусканием. А куда немцу пускать кровь, в нем и так чуть душа держится. И опять же – денежки плати! Поохав для приличия, Марья велела привезти деревенского знахаря, он в травах понимает. Оно, может, и полезнее будет для больного, чем скальпель.
Привели знахаря. Он выпростал из седой гривы ухо и припал к груди больного, которая так и сотрясалась от кашля. Далее на стул были поставлены две склянки с бурой жидкостью – одна от жара, другая для выхода грудной мокроты. Ничего обнадеживающего знахарь не сказал, но присовокупил вещь крайне неприятную, де, может быть, сия лихорадка заразительная, а потому без нужды в комнату больного не шастать.
Свои страшные слова знахарь сказал барыне на ухо, но через полчаса про плохую болезнь знали все обитатели усадьбы. Сенную девку как ветром сдуло от постели страдальца, и не было той силы, которая заставила бы ее вернуться обратно. Марья Викторовна решила было перенести незнакомца в курную избу к знахарю, но устыдилась, там народу жило душ пятнадцать. В господском доме было решено устроить подобие карантина. Для сих нужд в коридорчике, ведущем в гостевую, повесили мокрые простыни, которым надлежало препятствовать проникновению заразительных миазмов на здоровую половину дома. Дворне было запрещено ходить в гостевую под угрозой порки, и только сердобольная нянька Татьяна шмыгала, ровно мышь, за влажные полотна. На самодеятельность строптивой старухи барыня закрыла глаза. На все воля Божья. И потом, кто-то же должен давать больному лекарство.
Вторым человеком, посещавшим гостевую, была Глафира. Делала она это тайно, когда весь дом уже спал. Свечу не зажигала, чтобы не привлекать внимания. Благо, ночи были светлые. Она садилась рядом с больным на краешек топчана и ждала, что он попросит ее о чем-нибудь, ну, хоть бы воды попить, но он ничего не просил, только бредил. Лежал спокойно, но иногда руки его приходили в движение, он необычайно быстро начинал шарить по одеялу, словно что-то искал в его складках и не мог найти. При этом он явно пытался сесть. Глафира пугалась этой активности и подсовывала под его потную ладонь свою руку. Он хватал ее цепко и тут же с улыбкой на устах начинал производить странные пассы. Поочередно прикасаясь к суставам ее указательного пальца, он шептал непонятное: «я-а-кин». Повторив этот свой «яакин» несколько раз, он несколько затихал на время, но потом опять начинал шептать вздор. Может, он на непонятном языке бредит? Что такое означает, например, «ардарел» или «кастаран»?
Поначалу бред его казался Глафире совершенно бессвязным, но долгое и терпеливое прослушивание вернули обрывкам речей смысл. Девушка уловила в бормотании больного три основные темы. С истовостью шамана он твердил какой-то адрес и фамилию, присовокупляя к ней имя и отчество. В немецком исполнении русское имя звучало очень странно, и Глафира с трудом добралась до сути. Наумов Андрей Иванович, капитан, живет на Стремянной улице (или что-то похожее) в собственном дому у ведерного кабака. А теперь этот неведомый юноша терзался из опасения забыть сей адрес и само имя человека, который был ему очень нужен, причем нужен в каком-то высоком мистическом смысле. Больной ощущал себя не обычным курьером, другом или родственником капитана Наумова. На юношу была кем-то возложена высокая миссия.
Вторая тема бреда носила характер оправдательный. Некая дама терзала его душу. Потом Глафира поняла, что участницей романтического сюжета была всего лишь маменька. Какие-то у них были странные отношения, или он ее обидел, или она сына не поняла, но была надежда, что когда он вернется, то все само собой объясниться и претензий больше у маменьки не будет.
Третья мелодия бреда была, пожалуй, трагической. Альберт фон Шлос говорил о высоких задачах, каких-то градусах и циркулях (инженер, наверное), о поиске справедливости и счастья. Слова сыпались словно их продырявленного мешка, в который в беспорядке были напиханы все термины, высокопарно трактующие о святом назначение человека на земле. Но помимо высокой радости, которую обретает человек в братстве со всем миром, в словах Альберта присутствовали также тьма, смерть, тлен, могила и крест.
– Тит – государь милосердный, Сарданапал – тиран сладострастный, Зоил – злобный критик. Достойное возмездия порока на земле… – шептал он истово.
И в поведении рук больного Глафира уловила некоторое нарочитое постоянство. Проведет ладонью по лбу, всегда правой рукой с оттопыренным большим пальцем, а потом долго и напряженно держит руку в том же положении. И еще был знак… Он сплетал пальцы обеих рук, выставлял их ладонями наружу, а потом закрывал лицо свое, словно в смущении. А то вдруг прикроет правый глаз ногтем большего пальца, большой палец мудрено оттопырит и шепчет: «Я измеряю расстояние до солнца».
– Милый, чего тебе измерять-то? Ты и так чуть живой, – волновалась Глафира.
Слушая шепот юноши, Глафира находила тайное удовольствие в том, что никто в их доме, а может быть, и во всей округе не смог бы понять его речей. Здесь в отдаленном уголке Псковской губернии если кто и знает иностранный язык, то только французский, и конечно, в самом обыденном, вульгарном исполнении. А для Глафиры немецкий с детства был родным, а потому именно ее судьба назначила хранительницей тайн бедного, больного юноши.
За три дня пребывания молодого человека в их усадьбе она успела влюбиться в него без памяти. Конечно, это была любовь выдуманная, на одном мечтании построенная, но если ты в свои двадцать без малого лет не видишь вокруг никого, на ком можно остановить взор, то, разумеется, ночной гость покажется принцем.
Был, правда, некий молодой человек, на котором Глафира против воли однажды задержала взгляд. Ну, ладно, не однажды, а несколько раз. Степка Кокошкин. Всего-то и было в нем достоинств, что фигурой строен да поет хорошо. Было и третье достоинство, которого все, включая самого Степана, стеснялись. Он виртуозно играл на балалайке – у дворни выучился.
Возьмет, бывало, балалайку и затянет:
И этому-то балалаечнику Глафира позволяла делать любовные намеки! Тетка приметила чего-то, родители Степана тоже взволновались. Поднялся невообразимый гвалт, даже перебранка. Для Марьи Викторовны Кокошкины были бедны и непрезентабельны, а те, в свою очередь, воротили нос от Глафиры – незаконная дочь, кто ж на такую позарится! Впрочем, Степан скоро оставил отчий дом и отбыл в армию. Глафира о нем и не вспоминала, только сейчас в этой пропахшей болезнью комнатенке он вдруг пришел на ум, словно из тумана выплыл.
Куда Степке Кокошкину тягаться с прекрасным, поверженным болезнью юношей. Он хоть и не атлет, но возвышен душой, даже в бреду (значит, не врет!) толкует о высоком, о счастье и справедливости. Он выздоровеет. Непременно! В мечтах Глафире уже рисовалась необыкновенная судьба, слезы умиления подступали к глазам. Ах, кабы не происки опекуна, как прекрасна могла бы быть ее жизнь.
Был человек, который позарился на Глафиру и которого она боялась больше огня. Жениха подыскал опекун, и теперь беззастенчиво писал тетке, что «устроил счастье Глафиры», что дело не надо откладывать и что он сам явится в усадьбу Вешенки, чтоб отвести молодых к венцу.
Петр Ефграфович Баранов, вот как его звали. Он, конечно, титулованный дворян и в юности послужил на пользу отечеству, и деньжат скопил, и душками крестьянскими обзавелся, но дед его, несмотря на титул, служил дьячком, а отец вообще ходил в приживалах у князей Оболенских. Не будь в родословном дереве Барановых этих диких веток, может быть, и не польстился бы Петр Ефграфович на девицу Турлину.
Но на эти изъяны жениха Глафире было наплевать. Она видела перед собой пятидесятилетнего старика с жирным, в складки собранным затылком, по которому елозила оплетенная в черную ленту коса. Лента казалась сальной, взгляд круглых, как у рыбы глаз, плотоядным, а в задушевных интонациях, которыми он непременно приправлял любые, обращенные к Глафире слова, слышалась отвратительная похоть. Он просил за столом передать мясо или вдруг начинал сетовать на дождь, а она прямо-таки корчилась от брезгливости. Мало того, он пытался шутить, то есть употреблял юмор, а у самого бородавка за ухом! Глафира сама видела, как он старательно прикрывал ее буклей нечистого парика.
Неожиданно в гостевую явилась нянька. Глафира успела шмыгнуть в темный угол, притаилась за шкапчиком, с головой закутавшись в темную шаль. По счастью, старуха была подслеповата. Под шалью было душно, девушка открыла лицо. В утреннем полумраке Глафира увидела, что нянька ловко вытащила из-под больного мокрую простынь, с потом с превеликим трудом стала подсовывать под голые бедра молодого человека сухое. Господи, да он в одной рубахе лежит! Вид мужского голого тела вызвал жгучий стыд и еще какое-то странное, пугающее ощущение, из-за чего у Глафиры вдруг заломило затылок, и она поклясться была готова, что губы ее распухли, как от укуса слепня. Может быть, когда он ее за руку хватал, ему, бедному, надо было нужду справить, а она себе Бог знает что вообразила.
Поменяв простынку, нянька влила в бескровные губы больного лекарственную настойку, положила мокрое полотенце на лоб, потом перекрестила страдальца широким крестом и вышла. Глафира боялась дышать.
На следующую ночь девушка опять явилась в гостевую. Теперь бормот больного воспринимался как обращенный лично к ней. Особенно волновало слово «amore», и не важно, что толковал он о любви к человечеству, а не к русской незнакомой девице. Каждый слышит то, что хочет.
А потом все кончилось. Черная дама с косой всегда является неожиданной и нельзя уследить, когда перерубает она нить жизни. А ведь казалось, что дело пошло на поправку. На третью ночь больной был покоен и почти перестал бредить. Иногда только шептал что-то невнятное, тяжело поворачивая головой. По примеру няньки Глафира подносила к губам его чашку с питьем, но он не пил, оставаясь совершенно бесчувственным.
Двенадцать было, не больше, когда бедный Альберт впал в беспокойство. Она попробовала предложить ему свою руку, но он оттолкнул ее с негодованием и стал нервно поправлять на груди рубаху. Глафира вспомнила неприятное слово «обираться». Говорят, умирающий обирает себя», словно собирает в щепотку все грехи с тела и выбрасывает их вон. Да какие у тебя грехи, у такого молоденького?
– Святой Жако Моле, сожженный Жако Моле, иду за тобой, – произнес вдруг Альберт внятно.
Девушка только успела крикнуть: «Что, что, какой Моле-то? Кем сожженный?», как грудь юноши поднялась последний раз и тихо, без хрипа опала. Глафире не надо было подносить зеркальце к его устам, не надо было искать пульс, она знала, что он умер.
Правы люди, придумавшие фразу – время остановилось. Сколько просидела она в оцепенении рядом с покойным – пять минут или час? Нет, меньше часа, потому что именно в эти минуты как вспышка, как озарение, к ней пришла мысль о побеге. Не случись у нее этого потрясения, можно даже сказать – шока при виде смерти, она никогда не решилась бы на столь решительное предприятие. А здесь все разом в мозгу выстроилось. А как выстроилось, ей ничего другого не оставалось, как действовать. Побегом из теткиного дома она не только избавит себя от ненавистного брака, но исполнит волю покойного. Она приедет в Петербург, придет по названному в бреду адресу и расскажет все о трагической судьбе молодого немца.
Скоро начнет светать. Осторожно на цыпочках, боясь, что старая лестница предательски скрипнет, Глафира поднялась к себе в светелку. Далеко внизу хлопнула дверь, видно, кто-то из слуг выбежал во двор по нужде.
Ну вот, прощайся! Десять лет она прожила невольной пленницей этой комнаты. Ее выпускали на волю, и к соседям в гости водили, даже позволяли конные прогулки. И мадама у нее была. Считалось, что она учит Глашеньку французскому языку, а также истории с географией. На самом деле учителями девочки были книги. Мадама явилась в дом с полным сундуком французских книг, по счастью, там были и учебники. Потом опекун решил, что Глафира вполне образована для деревенской жизни, и мадама с сундуком и книгами исчезла так же внезапно, как появилась.
И все-таки Глафира жила здесь пленницей. Не по любви, а по обязанности опекун сочинил ей будущее, придумал топографию, очертив невидимой чертой место, где она выйдет замуж, нарожает детей, состарится и успокоится на деревенском погосте.
В углу под иконой стояла корзина с рукодельем. Три дня назад Глафира воткнула иголку в распятые на полотне анютины глазки. Видно, не суждено этим цветкам распуститься, некому будет закончить вышивку. Она отодвинула корзину и опустилась на колени перед иконой.
У Богоматери на иконе была пугающая Глафиру особенность. Выражение лика менялось в зависимости от времени суток и освещения. Сейчас в призрачном свете белесой ночи и розовом отблеске лампады она была как всегда прекрасна, и главное, что уловила Глафира, – доброжелательна. В иные ясные и жаркие дни лицо Ее было скорбным, трагическим. Она прижимала к себе младенца, страдая и за него, и, казалось, все беды человеческие умещались в ее чистом, высоком лбу. А сейчас Богоматерь была не только сострадательна, но и великодушна. Она благословляла. Более того, она улыбалась!
Теперь быстрее, каждая секунда на счету! Глафира вернулась в гостевую, которую уже мысленно называла мертвецкой, и, стараясь на смотреть на покойника, стала быстро раздеваться. Потом отошла за шкапчик. По правде говоря, она стеснялась покойника. В мечтах ее между живым Альбертом и мертвым было мало разницы.
Выстиранная и выглаженная одежда его лежала на столике, рядом стояли сапоги со шпорами. Уверенно, словно не единожды облачалась в мужской костюм, Глафира надела рубаху (запасная сыскалась в дорожной суме) кюлоты, вязанные чулки и кафтан. Небольшая заминка произошла, когда она выбирала обувь. В суме обнаружились туфли с пряжками. Сапоги Альберта ей были велики, особенно в икрах. Но туфли с пряжками мало подходили для поездки верхом. И потом, забери она их, в чем будут хоронить несчастного?
Тут же Глафира обругала себя за лицемерие. Бедный господин фон Шлос. Его и так будут хоронить в чужом камзоле, на чужбине. Прости меня, милый Альберт. Я ограбила тебя, но ты для меня путеводная звезда, мое счастье и надежда. Всего-то было у меня с тобой три ночи любви, но они будут залогом моего дальнейшего благополучия.
Глафира подумала и подпоясалась шпагой. Потом подошла к покойнику и поцеловала его в губы. Странно, они еще не утратили тепла и казались живыми. Прощай, рыцарь, и прости.
Она надела шляпу, взяла в руки дорожную суму Альберта. Взгляд ее упал на брошенную за шкапчиком собственную одежду. Что подумает Марья Викторовна, обнаружив в комнате больного не только ее платье, но и нижнюю сорочку? Щеки Глафиры невольно зарделись. Она быстро уложила свою одежду в шаль. Относить узел в светелку уже не было времени. Придется взять узел с собой. Потом выкинет где-нибудь по дороге.
Глафира не решилась идти через дверь, вылезла через окно. Яблони были союзницами, ветки их, полные листьев, сразу скрыли ее от чужих глаз. К конюшне из осторожности пробиралась через заросли сныти, и каждый зонтик прыснул на нее росой. Этот холодный душ был приятен, он остудил лицо и затылок. Сердце колотилось с такой силой, что она всерьез боялась, что от его стука пробудятся не только лошади, но и собаки.
Был большой соблазн взять собственного Вороного, но она не стала этого делать. Вороной стоял в дальнем стойле, чтобы до него добраться, надо было пройти мимо закутка, где спал конюх Сергей. А конь Альберта здесь, рядом. Он покосился на Глафиру и, как показалось ей, вежливо махнул мордой, видно, уловил запах хозяина.
Сергей учил ее седлать лошадь и прилаживать верховую сбрую, беда только, что тренировки у нее было маловато. Но конь был покорен ее усилиям, главное, хватило бы сил подтянуть как следует подпругу. Она приторочила к седлу груз и тихо вышла из конюшни, ведя за собой коня, которого мысленно назвала Добрым.
Идти по просеке к главным воротам Глафира не рискнула, а пошла через сад к березовой рощице. Там она вскочила в седло и выехала на знакомую тропку.
Ближайшую округу девушка знала хорошо. Она поедет мимо теткиной деревеньки Пинино, далее начинаются чужие владения, Билибино она объедет стороной. В ближайший городок Д. тоже не стоит заезжать. Вдруг встретится кто-то из знакомых, и ей придется объяснять свой маскарад.
Утро было ясным, солнечным, настроение отличны. Даже воспоминания о вдруг вспыхнувшей и умершей любви не тревожили душу. Об этом она подумает после. Пока надо как можно дальше уехать от теткиной усадьбы.
Через три часа Глафира позволила себе привал у темного, зажатого елками озерца. Умылась, попила воды. Место было красивым, но бестравным, только узорная кислица пробивалась через усыпанную иголками землю. Взяв под уздцы лошадь, она двинулась дальше и вскоре вышла на круглую зеленую поляну. Вот достойное место для отдыха!
Вы пробовали когда-нибудь использовать шпагу для цирюльничьих нужд? А Глафира попробовала. Трудной была эта работа. Девушка думала, что если заплести волосы в косу, то можно будет отрезать их разом. Не получилось. Может быть, шпага была тупа, но, скорее всего, у Глафиры просто не хватало сноровки. Но любое дело требует терпения и времени. А этого Глафире было не занимать. Обкорнав наконец волосы так, что они чуть-чуть доставали ей до плеча, она закинула остатки косы в осинник.
Теперь можно расслабиться. Привалившись к березе, Глафира с удовольствием наблюдала, как Добрый смачно хрумкает молодой травой. Самой ей не хотелось есть, но она понимала, что голод со временем заставит ее выйти к людям. И как она не сообразила, что нужно прихватить в дорогу какой-нибудь еды!
При мысли о хлебе и куске вареной говядины, который с вечера был оставлен на кухне и закрыт мисой от мышей, она вдруг живо представила себе дом, тетку, гостевую с покойником. Надо наконец внимательно посмотреть его багаж. И выучить имя так, чтоб от губ отскакивало.
Она принесла суму к березе. Письмо явно от маменьки, строгая дама, проживает в Любеке! Кошель: деньги Глафира берет их взаймы. Как получит наследство, так и отошлет всю сумму с подобающими объяснениями его маменьке. Паспорт Альберту выписали в Гамбурге. А пока произнеси его имя вслух – Альберт фон Шлос. Неожиданно слезы подступили к ее глазам, а потом и горло словно судорогой сжало, и она разрыдалась. Она оплакивала несчастную судьбу свою, кроткого юношу, которого оставила в одиночестве в стылой теткиной усадьбе, теперь не бросит она горсть земли на его гроб, а более всего ее пугала неизвестность, которая ждет ее в парадном и негостеприимном Санкт-Петербурге.
Пропажу Глафиры в усадьбе обнаружили не сразу. В летнее время она часто пропускала завтрак, предпочитая отдавать утреннее время прогулке. Переполох начался, когда перед Марьей Викторовной предстала перепуганная нянька.
– Барыня, беда! Немецкий господин странен стал. Лежит вот так, – нянька вытянулась, словно солдат перед капралом, – глаза закрыты, и не дышит.
– Помер, что ли? В моем доме помер! Ой, страхи какие! Мало у меня неприятностей…
– Не знаю, помер или нет, но теплый, и руки-ноги гнутся.
Тут же послали за знахарем. На этот раз старику было велено находиться при больном неотлучно. Если вылечишь – лечи, а не вылечишь, так подтверди смерть. Не век же немцу в доме бревном бесчувственным лежать!
Тут и время обеда подошло. Глафира опять не вышла к столу. Барыня топнула ногой – сыскать немедля! Что это за шутки такие? У нее и так нервы в полном расстройстве, так еще эта девчонка масла в огонь подливает. Нет на нее никакой управы!
Немедля были обысканы дом, двор, сад, голубятня, наведались в беседку над нижним прудом, кто-то расторопный даже на мельницу сбегал. Барышни нигде не было. Марья Викторовна, предположила, что своевольница ускакала в гости к ближайшим соседям. Четыре версты, если через гать, а в объезд все восемь наберется. Да и что Глафире там делать-то? И все-таки Марья Викторовна послала дворовых верхами к Кокошкиным. Дворовые вернулись ни с чем.
Тогда стали объезжать прочих соседей. На поиски ушел весь день. К ночи у Марьи Викторовны нервы были в таком состоянии, что знахарь вынужден был переселиться в спаленку хозяйки. Немец лежал в том же виде, то есть не подавал признаков жизни, ну и пусть его. Барыня, напротив, признаки жизни подавала очень активно, но при этом явно требовала не только сострадания, но и медицинской помощи. Она плакала, причитала, заламывала руки и уверяла всех, что не доживет до утра, потому что подозревает худшее.
В середине мая Марья Викторовна получила письмо от опекуна. Ипполит Иванович писал, что вскорости направится в Рим или в Венецию, но по дороге непременно заедет в Вешенки, дабы уладить дела своей подопечной – «поставит последний штрих». Этим штрихом был вполне определенно названный день свадьбы – на Петра Афонского, то есть 12 июня. Дата эта, оказывается, была заранее оговорена женихом, поскольку он мыслил, что женитьба в день его ангела будет особенно удачной. Когда до приезда Ипполита Ивановича осталось всего ничего, Марья Викторовна решила наконец оповестить о предстоящем счастье невесту. А случилось это как раз три, теперь уже четыре, дня назад перед грозой.
Глафира тогда молча выслушала сладкие речи тетушки, а потом, как бы и вовсе без эмоций, сказала одно только слово: «Никогда» и хотела выйти из комнаты, но Марья Викторовна встала в дверях.
– Это что же ты говоришь такое? Иль на мне поупражняться решила? Ведь не посмеешь же ты бросить в лицо своему благодетелю то же самое слово?
– А я ему говорить ничего не буду. Я просто к венцу не пойду. А заставлять станете, уйду в монастырь. Или того хуже, утоплюсь, чтоб вас совесть потом загрызла.
На слове «утоплюсь» и грянул тогда первый гром, так что слова про совесть услышаны не были. Гроза и появление незнакомца не позволили довести важный разговор до конца, а на следующий день Татьяна Викторовна решила к нему не возвращаться. В конце концов ее дело сторона, пусть девчонка сама разбирается со своим опекуном. А теперь оказывается, что слова Глафиры не были пустой угрозой.
На утро к барыне в комнату не заходили, она лежала с компрессом на лбу, с пиявками на затылке и стонала. Сыском стала руководить нянька Татьяна. Искали записку, не могла же Глафира просто так уйти из мира. Никаких записок нигде не было. Как последнее средство, уже не надеясь на успех, но для собственного успокоения, мол, все что могли, сделали, снарядили экспедицию в дальний монастырь. Экспедиция тоже закончилась неудачей.
Теперь, когда до предполагаемой свадьбы оставалась неделя, а следовательно, с минуту на минуту надо было ждать приезда опекуна, Марья Викторовна впала в совершеннейшую прострацию. Она уже не сомневалась, что Глафира наложила на себя руки: либо повесилась где-нибудь в лесу, либо сиганула в пруд. А что теперь сказать Ипполиту Ивановичу?
С того самого дня, как привез он Марью Викторовну в усадьбу Вешенки и объявил ее хозяйкой, и очертил в общих словах обязанности, у них установились странные отношения. Ипполит Иванович был вежлив, терпелив, никогда не повышал голоса, но она пласталась перед ним словно перед каким-нибудь шахом бухарским, боялась его панически и знала, что она раба его, раба в полном смысле слова.
Потом привезли девочку: угловатую, длинную, чернявую. Нужды нет, что она красотой не блистала, но то существенно, что Глаша была неприветлива, своевольная, обидчива, ах, всего не перечислишь. «А вы лаской, – посоветовал, вежливо осклабившись, Ипполит Иванович, – лаской многого можно достичь. Для всех в округе она ваша племянница. Полюбите девочку, и она ответит вам добротой». Не скажешь, что Марье Викторовне удалось как-то особенно сблизиться с мнимой племянницей и в душу ее заглянуть, но все эти годы совместная жизнь их была вполне сносной.
Марья Викторовна оказалась хорошей хозяйкой, усадьба при ней расцвела. Уже подходил к концу срок, когда она должна была доглядывать за строптивой девицей. Это и была ее главная обязанность, за которую в свое время получила большие посулы. А теперь что? Живой нет, так хоть труп надо предъявить опекуну. Наскучив лежать, Мария Викторовна перебралась из спальни в гостиную и уже оттуда давала распоряжения. Нянька Татьяна Авдеевна заикнулась было, что следует позвать по помощь полицейскую команду, но барыня даже ногами затопала от негодования.
– В своем ли ты уме, старая? Это же срам на всю губернию. Дворня пусть ищет.
И дворня принялась шарить по окрестным лесам, плавать в лодках с багром по нижнему пруду, по дальнему. Про больного немца, что валялся в гостевой ни живой ни мертвый, вообще забыли. Да и как вспомнить, если усадьба в эти дни превратилась в истинный сумасшедший дом. Ели не вовремя, спали где попало, если вообще спали, на кухне горы грязной посуды, полы неметены, а среди этого разгрома сидит барыня, вид мрачнее тучи, и все с криком и рукоприкладством. «Быстрей, пошевеливайтесь олухи, недоумки!» – торопила она дворню, и нетерпение ее было больным, истерическим. Совсем помешалась женщина! И так всю неделю.
И вдруг… не скажешь «повезло», потому что какое в этом может быть везенье – труп найти, но тут все сразу как-то приутихли. Утопленница сама всплыла. Случилось это на лесном Длинном озере. Мальцы-малолетки пошли окуней ловить и увидели страшный предмет. Лицо и руки несчастной до неузнаваемости обглодали сомы, а может, щуки, но прибежавшие на крик мужики и бабы сразу признали и розовое муслиновое платье, и шейную косынку, отороченную кружевами.
О находке сообщили барыне. Она первым делом упала в обморок, а когда очнулась, потребовала самого подробного рассказа. Самой смотреть на утопленницу она не пожелала, но к утру совсем успокоилась, можно сказать, перевела дух, и первый раз за эту страшную неделю кофий выпила почти с удовольствием. На все воля Божья. Что ж теперь судить да рядить?
Ипполит Иванович и раньше в своих обещаниях был не точен, а здесь хоть и опоздал, но явился словно подгадал – на следующий день после похорон. Накануне Мария Викторовна долго увещевала попа, чтобы отпел покойницу по всем правилам и похоронил по-человечески. Какой-никакой обряд отец Георгий совершил, но хоронить в кладбищенской ограде категорически отказался, поскольку самоубийцам лежать рядом с православными не положено.
Больше всего Мария Викторовна боялась первых слов опекуна, сурового его взгляда и справедливых упреков. Ведь вообще не понятно, как повернется все дело. Но никакого сурового взгляда не было, а в первых словах Ипполита Ивановича звучало более участие, чем недовольство. Он и в гостиную явился с этим самым постным выражением на лице, поскольку видно был заранее уведомлен о грустном событии. Вопрос только – кем?
Далее все пошло очень быстро. Мария Викторовна привезла его к неприметному холмику, притаившемуся за кривой березой.
– Тут Глашенька лежит, – прошептала она, вытирая непритворные слезы и шмыгая носом. – Место сухое, чистое. Здесь нашей девочке будет покойно.
Опекун покивал головой, обошел холмик кругом.
– А нет ли за всем этим признаков болезни?
Мария Викторовна с готовностью согласилась. Как не быть. Глашенька вообще была неуравновешенной.
– А сообщили ли о происшедшем жениху Петру Евграфовичу?
Да, они сообщили, и Петр Евграфович горевали искренне. И пролили чистые слезы, и сказали, что все это ужасно, ужасно…
– А какие разговоры в округе среди соседей?
– Да какие разговоры, батюшка Ипполит Иванович? Здесь у нас соседей-то раз два и обчелся. Ко мне с визитами не ездили, да я бы и не приняла никого. Я думаю, посудачат недельку, да и затихнут. Это наше частное дело.
На этом важный разговор и кончился.
Мария Викторовна ожидала, что в связи с горестным событием Ипполит Иванович отложит свой отъезд в дальние края и займется улаживанием опекунских дел, но, оказывается, тот не собирался ломать свои планы. Уже вечером первого дня он сказал хозяйке, что завтра же с утра отправится в дальний путь, а делами о наследстве займется по возвращении.
– Пока о смерти Глафиры в Петербурге никто не знает, – сказал он доверительно, – а это значит, что и торопиться некуда. Я ведь тоже узнал о случившемся, можно сказать, случайно. Мог бы и вообще не заехать в Вешенки.
Марья Викторовна хотела было возразить, мол, какая же здесь сударь, случайность? Не оповестите вы нас всех о своем приезде и свадьбе, Глашенька наверняка бы жива была. Но здравомыслие взяло верх, и она промолчала.
Однако утром Ипполит Иванович не уехал из усадьбы. Помешал ему в этом больной немец, о котором хозяйка и думать забыла. Оказывается, он пришел в себя еще три дня назад. Вначале только воду пил и мычал, а теперь настолько очухался, что все время машет руками, злится и что-то говорит на своем тарабарском языке. Ясно, что это уже не горячечный бред, но от этого слова его не становятся понятнее. Вот тут-то Марья Викторовна и рассказала опекуну все подробности о незнакомце. Понятное дело, Ипполит Иванович отправился в гостевую.
С первых же слов больного опекун понял, в чем дело, молодой человек требовал свою дорожную сумку.
– Да как вас зовут и кто вы такой?
Немец отрекомендовался, сказал, что он едет в Петербург и безмерно благодарит хозяйку дома, которая спасла ему жизнь и честь. Меж тем сумка не находилась, и фон Шлос опять начал нервничать. При этот лоб его покрылся испариной, проступили синяки под глазами, он отчаянно заламывал руки и заверял Ипполита Ивановича, что без сумки он погиб.
– Не волнуйтесь так. Найдется ваша пропажа. А пока выпейте вина. Это вас подкрепит.
Фон Шлос с удовольствием опорожнил стакан, засмеялся по-детски и опять принялся жаловаться.
– В Гамбурге мне говорили – в России императрица немка, и там все, включая мужиков, говорят по-немецки. А теперь такой конфуз. Здесь никто не понимает ни слова! А без дорожной сумки я вообще не человек. Там у меня все – паспорт, деньги, и… неважно. Словом – все!
Тут как-то само собой обнаружилось, что исчезла не только дорожная сума, но и костюм его, и сапоги, более того, даже конь, на котором он прискакал в тот роковой вечер. Тут Марья Викторовна перепугалась не на шутку. Нервы ее опять пришли в совершеннейшее расстройство. Она, грешным делом, подозревала, что кто-то из дворни засунул немецкое барахло куда-нибудь в сундук. Но коня-то в сундук не спрячешь! На лицо откровенное воровство.
Только тут нянька Татьяна отважилась рассказать о видении, рассказом про которого конюх Сергей уже несколько дней смущал дворню. Оказывается, конюх собственными глазами видел, как ночью в конюшню явился этот самый господин, собственноручно оседлал свою лошадь и скрылся в неизвестном направлении.
Сергея призвали к барыне, он повторил слово в слово свой рассказ.
– Что же не доложил мне сразу о происшедшем?
Сергей повалился ноги. Да как же он мог доложить, если утром узнал, что немец как лежал в гостиной, так и лежит без признаков жизни, а это значит, что дух его принял телесный облик и стал шляться по усадьбе. Марья Викторовна хотела для острастки всыпать Сергею пару плетей, но передумала, не до того было.
Ипполит Иванович сам вызвался сообщить фон Шлосу о пропаже (да и кто бы это мог сделать кроме него?).
– А не было ли у вас, господин фон Шлос, недоброжелателя, который следовал бы за вами на всем пути? А потом выбрал момент и решил вас ограбить?
Вопрос это Ипполит Иванович задал чисто риторически, надо ведь что-то говорить. В их губернии своего ворья полно, но такого шустрого, чтобы он проник тайком в гостевую и взял бы только вещи фон Шлоса, а потом еще и лошадь его, а на все прочее не позарился – таких злоумышленников во всей округе не сыскать. Немец дважды выслушал заданный ему вопрос, потом ужасно взволновался и, наконец, расплакался.
О! Его предупреждали! Он выполнял секретное поручение, и его заклинали быть осторожным. А он пренебрег. То есть не пренебрег, а не сумел. Он несчастный человек, лучше бы он умер! Да он и умрет, можете поверить на слово. Вот только матушка, несчастная женщина, так и не узнает, что он был прав. Маменька не может понять, что он уже вырос, и не пустое равнодушие заставляет его жить по новым правилам, а высокий долг! И так далее, и в том же духе…
Ипполит Иванович решил отложить поездку на несколько дней, то есть на тот срок, когда больной достаточной окрепнет и можно будет взять его с собой. Удивительное участие употреблял этот убеленный сединами человек к несчастному юноше. И главное, слепому видно, что руководило Ипполитом Ивановичем только человеколюбие и полное бескорыстие, и любовь, чистое отеческое чувство. А может быть, и не отеческое.
На восстановление сил ушло пять дней. За это время Ипполит Иванович проявил необычайную прыткость. Он успел съездить в уездный город, где не только заявил о смерти опекаемой им девицы, но и выправил для Шлоса временный паспорт, дабы не было задержки на границе.
И фон Шлос тем временем измывался над дворней. Пока он лежал в бреду, его все жалели: такой молоденький, хорошенький, чистый херувим, а вот привязалась же заразительная лихорадка! Помрет, бедняжка! Но когда херувим пошел на поправку и понял, что и деньгами ему помогут, и до дому довезут, он стал совершенно невозможен. С утра до вечера он ворчал и капризничал. Усвоив несколько русских слов, в основном бранных, он совал их к месту и не к месту. Ему не нравилась купленная для него одежда. Вор словно в насмешку оставил ему только башмаки. Что же ему в одних башмаках ехать? Для острастки он изорвал батистовую новую рубаху, а собственным башмаком запустил в старого слугу. Словом, он всем смертельно надоел, и когда, наконец, опекун со своим новым подопечным отбыл со двора. Мария Викторовна вздохнула с облегчением. Тем более что накануне отъезда Ипполит Иванович прямо сказал, что до его возвращения в отечестве она остается хозяйкой в Вешенках, а также намекнул, что службой ее доволен и обещанное вознаграждение она получит сполна, а может быть, и более того.
Глафира Турлина перестала существовать. Как говорится, земля ей пухом. И только два человека в усадьбе знали подноготную последних событий, а все прочие как-то забыли, что дней за десять от начала нашего повествования, а именно появления немца Шлоса, случилась грустная, в общем-то, семейная история. Негодницу Катерину, что убирала в комнате барышни, уличили в воровстве и с криком и бранью выслали прочь из усадьбы. Воровство было незначительным, а главное, сама Катерина божилась, что бусы копеечные, так, пустяк, подарил ей конюх Сергей. Последнее разозлило барыню больше, чем обвинение в краже. Завести беззастенчивые любовные шашни с женатым мужиком – это уж ни в какие ворота! Сам конюх и слова не сказал в защиту девки, а супружница его расцарапала обидчице нахальную ее харю. Правда, Катерина тоже в долгу не осталась. Словом, скандал был страшный.
Марья Викторовна сочла за благо выслать негодницу в дальнюю деревню, куда девка и отбыла на возу с сеном. С собой она взяла подарок барышни – платье розовое, мало ношенное, и приклад к нему в виде косынки и башмаков. В этом наряде, пробежав пятнадцать верст, и явилась ночью к конюху для серьезного, окончательного объяснения. Чем это объяснение кончилось, и так понятно.
Когда в пруду нашли утопленницу, конюх Сергей все понял и, понятное дело, навесил на рот замок. Да и кто бы посмел упрекнуть его в молчании? Катерину не вернешь, а неприятностей на свою голову он уже получил с избытком. К тому же умный мужик быстро понял, что правда его никому не нужна. О Глафире пожалела разве что старая нянька, а все прочие, включая дворню, отнеслись к гибели барышни с завидной стойкостью.
Но тайна распирала грудь, мучила, совесть-то в карман не спрячешь. По прошествии двух недель, когда уж и опекун с немцем съехали со двора, Сергей раскрыл рот. Он зазвал няньку в конюшню и рассказал о подаренном платье и о последнем свидании. Татьяна Авдеевна удивилась гораздо меньше, чем он ожидал.
– Жива наша девочка! Я чувствовала. Слава тебе, Всемилостивый Боже! А ты, Серега, забудь обо всем до времени. Видно, сам Господь этого хочет.
Больше она конюху ни слова не сказала, а могла бы порассказать и про Ипполитовы козни, и про Марьину подлость. Обобрать хотели сироту. Но не такова Глафира. Она за себя сумеет постоять, только мешать ей в этом не надо. А пока надо жить-поживать, молиться Всевышнему, ждать, как будут развиваться события, а как настанет нужный момент, так и подать голос в защиту юной барышни.
Пора наконец познакомить читателя с происхождением нашей героини. Глафира была внебрачной дочерью весьма уважаемого человека, богатого, знатного, обласканного государыней, и заезжей немецкой актрисы. Тогда все были помешаны на театре, подмостки были главным развлечением света.
Немка была молода, пригожа. Осиная талия, розовые щечки, пухлые губки, именно такой она была изображена на фарфоровой миниатюре. Грета, так ее звали, великолепно пела, но ангельский голосок ее замечательно уживался с бюргерским практицизмом. Заметив ухаживание графа, она ответила на них со всем пылом и, несмотря на разницу в тридцать лет, смогла уверить поклонника в абсолютной своей искренности.
Связь их была вполне в духе современных нравов. Вельможи брали пример с обожаемой императрицы, поэтому иметь содержанку при живой жене было дело не только обычным, но и необходимым. Разумеется, о браке не могла быть и речи, таких поступков свет не прощал, но умненькая Гретхен верила в свою звезду. По слухам графиня, мало того, что бездетна, при этом ее еще мучают какие-то хвори. Она то призывала целый штат просвещенных докторов, то ездила по монастырям, а случалось, обращалась к колдуньям-знахаркам, рассчитывая, что уж кто-нибудь из этой троицы вернет ей женскую силу.
А пока граф снял любовнице особняк, не роскошный, но очень приличный. У нее был свой выезд, свои слуги, про наряды Греты судачил весь Петербург, и вообще она жила припеваючи.
Через год к радости графа родилась Глория. Отец сразу стал звать девочку Глашей. У Глории, то есть победы, уменьшительного имени нет. Обращение «Глорочка» не звучало ласково, а дребезжало, словно из жести вырезанное, а от «Глаши», как от домашней печки, веяло теплом. Теперь многие вечера граф проводил не в спальне своей обожаемой, а в детской, балуя дочку игрушками, разговорами и даже сказками.
Тем не менее супружеская жизнь благополучно продолжалась, у хворой графини хватило ума смотреть сквозь пальцы на закулисную жизнь мужа. За терпение ли ее, а может, страстная молитва помогла, но спустя три с небольшим года после рождения Глории Господь послал чете Бутурлиных дочь.
После появления Вареньки граф не то, чтобы охладел к старшей дочери, но стал появляться в особняке сожительницы гораздо реже. Пораженный своей плодоносностью, он очень воспрял духом и уже подумывал о сыне. Бутурлин был возраста преклонного, за пятьдесят перевалило, он уже не ждал, что у него будут дети. А здесь как-то помолодел разом, обновил гардероб, стал чаще появляться при дворе, а на балах и маскерадах танцевал менуэты уж и вовсе с бутончиками.
Грета закатывала графу сцена, а бедная графиня словно и не замечала молодеческого возрождения мужа. Роды были трудными, она перенесла родильную горячку, чудом выжила и теперь была очень слаба. Как часто Господь, исполняя дословно наши молитвы, требует за это слишком большой платы. Хотела ребенка – на тебе! Словом, графиня чахла-чахла и угасла, благословляя на жизнь свою дочь. Хорошая была женщина графиня Бутурлина, земля ей пухом.
Грета поняла, что дождалась своего часа. Решив, что долгожданный брак может состояться, она буквально пошла атакой на графа, угрожая, что вернется на сцену, но и это не возымело своего действия. Граф был непреклонен. Одно дело амуры крутить и живые деньги тратить, а совсем иное ставить на кон накопленное предками богатство. Кроме того, он тяжело переживал смерть жены. Словом, немка услышала твердое «нет».
Глафире было шесть лет, когда кончилась ее жизнь с маменькой. Надо сказать, что Грета действительно тосковала по сцене. Ей давно наскучила жизнь в золотой клетке, она жаждала оваций, цветов и поклонников. Не будем описывать новый жаркий роман актрисы, все было очень традиционно. Австрийский офицер, занесенный неведомым ветром в Петербург, оказался поклонником оперы. Грета сбежала с ним за границу, бросив Глафиру на руках у нянек, оставив графу кучу долгов и каких-то неправдоподобных, иногда не очень приличных историй о своих недавних похождениях. Шумный был побег.
О дальнейшей судьбе Гретхен мы не можем рассказать со всей достоверностью. Людское любопытство неиссякаемо, рассказы о судьбе знаменитой певички продолжали порхать в гостиных. Но в сплетнях этих есть серьезные расхождения. Иные говорили, что Гретхен живет в браке и все у нее благополучно, другие утверждали, что видели ее где-то в Саксонии или в Боварии в бродячей труппе, но были люди, которые клялись, что они знают наверное: сладкоголосая Гретхен умерла родами. При этом божились, что чуть ли не сами присутствовали на ее похоронах.
Глашенька переживала побег матери, но по малолетству быстро о нем забыла, тем более, что граф забрал ее в свой дом и стал воспитывать вместе с младшей дочерью Варей. Более того, он удочерил Глафиру, имя Глория было навсегда забыто, а фамилии, которая значилась в бумагах, был придан надлежащий вид. По обычаю того времени отбросили две первые буквы, и получилась Турлина.
Отношения у сестер сложились, можно сказать, они друг в дружке души не чаяли. Так они и жили до того часа, когда смерть прибрала старого Бутурлина. Удар случился с ним на охоте, переоценил граф свои силы.
Далее опекунский совет, весь Бутурлинский клан принял активное участие в судьбе девочек. Участие вылилось в основном в шумные обсуждения. Несмотря на то, что смерть графа была внезапной, завещание его было оформлено по всем правилам. Главной наследницей была, конечно, Варенька, но и Глафиру отец не обидел, оставив девочке и деревни, и души, и деньги в векселях и ассигнациях.
В свете часто закрывали глаза на внебрачные отношения, но когда дело доходило до дележа наследства, тут каждый вдруг становился необычайно нравственным и нетерпимым. Если Глафиру раньше просто не замечали, то тут разом как-то и возненавидели, даже обвинили ее в ранней смерти графини. Родня единодушно решила, что Варенька достойна со временем стать фрейлиной при дворе, для чего ее шестилетнюю отдали в только что открывшееся Воспитательное общество благородных девиц, а Глафиру решили отправить куда-нибудь с глаз долой. Пусть она в сельской тиши возрастает до своего совершеннолетия, а там можно будет быстро спровадить ее замуж, осчастливив какого-нибудь дворянина неожиданным богатством. Опекуны у девочек были разные. Престарелый Ипполит Иванович тоже каким-то дальним боком принадлежал к семье. Его давно опочившая супруга в девичестве носила фамилию Бутурлина. Ипполит Иванович взял на себя опеку неохотно, только уступая чужим просьбам. Он давно почитал себя закоренелым холостяком, был равнодушен к женщинам, понятия не имел, что такое детская. Свет знал его как человека порядочного, с уважением относился к его познаниям в области искусств. Ипполит Иванович был принят во всех знатных домах, уступая условностям своей среды, играл, но без азарта, не доверял докторам, но все время лечился, много тратя на мази и кремы, держал отличного повара, словом, как говорят в двадцатом веке, жил для себя, то есть был законченным эгоистом.
Поначалу он перевез в Вешенки свою дальнюю родственницу, женщину небогатую, глупую и пугливую, потом доставил туда же Глафиру, скрыв от девочки, что деревня назначена ей в собственность.
С Глафирой он держался ровно, был внимателен, но девочка его не любила. Ей казалось, что в ее присутствии опекун принимал насупленный и надменный вид. С прочими людьми он улыбался и даже говорил любезности, а рядом с Глашей сразу как-то тускнел. Она почему-то смертельно боялась встретиться с ним глазами. При самом первом знакомстве Ипполит Иванович сказал:
– Ну-ка, крошка, покажись, какая ты есть Глафира Турлина? – и тут же сунул ей под нос руку. От неожиданности, хоть и не хотелось ей этого, девочка поцеловала надушенные пальцы. До сего дня она целовала руку только у папеньки, а здесь так и повелось – при встрече и расставании Глафира не видела лица опекуна, но руку, которую касалась губами, запомнила во всех подробностях. Она была в мелкой сетке морщин, между которыми, как горошек на чашке, были рассыпаны коричневые старческие пятна – гречка, костяшки пальцев были лиловыми, а ногти не гладкие, а словно рифленые. Рука опекуна выглядела мертвой, и только перстни были живыми, камни сияли синими и рубиновыми огнями. Казалось, что эти веселые огни и давали жизнь всему телу, искусственно питая их светом.
Пять лет, а может быть более того, опекун исправно выполнял свои обязанности, но потом эта добровольная служба дала трещину. Ипполит Иванович не был злодеем, в обычае которого обворовывать сирот. Можно даже сказать, что он был задуман природой как честный человек, но было в его жизни нечто, из-за чего он забывал обо всем и даже душу дьяволу готов был заложить, чтобы получить желаемое. Насмешница фортуна наградила его очень дорогостоящей страстью – он собирал картины, то есть живопись, гравюры, рисунки и гобелены. Знай родственники Глафиры цену его новым приобретениям, они, может быть, и усомнились бы в честности опекуна, но мало кто в Петербурге мог оценить по достоинству его новые итальянские полотна. Купил – и купил, а что картины относятся к неведомому им раннему возрождению, прозванному чинквеченто, это его дело. Может, он эти картинки на пшеницу от нового урожая выменял.
Страсть не до конца заглушила в Ипполите Ивановиче голос рассудка. Уж перед самим собой он, во всяком случае, хотел быть честным, а потому заискивал со своей совестью: «Я не вор. Я просто вкладываю Глафирины деньги в новые приобретения. После моей смерти эти дивные полона наверняка возрастут в цене. Я завещаю их Глафире, и она сможет сполна получить свои деньги. Не забыть бы только написать завещание. А может быть, Глафира и не захочет их продавать, а будет жить рядом с картинами, любоваться дивными красками и беседовать, подобно мне, с изображенными на холсте людьми. Только бы не обнаружилась растрата!» Вроде бы совестливые слова, но глянь в эти минуты Ипполит Иванович в зеркало, он бы с удивлением увидел, что на лице его написано злое, акулье выражение.
К счастью, он сыскал Глафире достойного жениха и разговоры о наследстве невесты будет вести с господином Барановым. Господин этот хоть и скуп, но у самого рыльце в пушку. Ипполит Иванович уже нащупал к нему безопасные подходы.
А тут вдруг неожиданность – невеста возьми да и утони. С одной стороны, это приятная новость, но с другой – разговоров не оберешься. Начнут доискивать, как и что, но если деликатно повести дело, то можно будет скрыть истинную причину смерти. Лето, жара, все купаются, иные и тонут, дело житейское. И некому будет предъявить иск по растраченным деньгам. Глафирина родня вряд ли затеет тяжбу. Оставшиеся деньги и недвижимое имущество поступят в казну. И кончено дело.
Вторая неожиданность была и вовсе оглушительной и совершенно смутила душу старого мецената. Ожил герой с портрета. Вот он, перед глазами, дивный юноша с полотна Джироламо Савольдо. Те же глаза, тот же задумчивый прекрасный взгляд и дивный профиль, только у юноши на портрете шея несколько толстовата. Высокое возрождение ценило в людях мужественность, а этот, живой, весь как благоуханный цветок на тонком стебле. Он приценялся к портрету кисти Савольдо в свой прошлый наезд в Рим, но не столковались в цене. Небольшое полотно, а цену заломили немыслимую. Как же, 1520 год! Но сейчас он готов на любые затраты. Он усыновит этого прекрасного немецкого мальчика, и он будет жить в его доме на Большом проспекте, а в гостиной будет висеть портрет кисти незабвенного Савольдо.
Иного жизнь тащит за собой по ухабам и рытвинам, а Ипполита Ивановича судьба вела за собой, обходя все преграды. И вдруг на старости лет такая напасть – безоглядная любовь.
Ипполит Иванович не скоро вернется на наши страницы, поскольку у него полно дел и в Венеции, и в Риме, а еще в Пизу надо заехать к одному известному коллекционеру. Но как только он вернется в отечество, мы более подробно поговорим об этом человеке и вспомним повадки его, и серповидный рот, полный мелких и чистых, несмотря на преклонные годы, зубов, и умный опасный взгляд карих глаз, притаившихся за монгольскими, сбористыми веками.
Удивительно выглядит мир за оконным стеклом, по которому бежит дождь. Вода все время меняет очертание предметов, придавая им странные оттенки. А может, это только кажется, и воображение само добавляет бирюзы в зелень травы и добавляет голубоватый оттенок в листья молодого клена. Мир колышется, как мираж, как тень, бегущая по стене. Мечется ветка в окне, да что ветка, все дерево пришло в движение, словно ветер задался целью склонить его до самой земли.
Выйди на улицу и рассматривай весь город через водяную линзу. И дома, и кровли слегка колышутся, словно отраженные в каналах. Шпиль на башне извивается, как гигантская змея. Золотое яблоко на конце его подпрыгивает, как мяч, и кораблик, венчающий яблоко, скользит, покачиваясь, по дождевым струям, как по волнам. Много в Петербурге дождя, много.
Глафира сняла комнаты на Большой Мещанской в деревянном флигельке, принадлежавшем немцу-каретнику. Рядом находился хозяйский дом и служебный двор. Флигелек был скромен, но зато имел садик с парой деревьев, а главное, конюшню, в которой, Доброму, а как вы помните, именно так Глафира назвала коня, было предоставлено место. Впрочем, нашей героине не из чего было выбирать.
Не будем описывать трудности, которые ей пришлось пережить в дороге. На постоялом дворе почти невозможно добыть отдельную комнату. Камзол и штаны обязывали Глафиру ночевать в мужской компании. Мужчины разговаривали грубо, откровенно и со смаком обсуждали интимные стороны жизни. Иногда девушка не знала, куда глаза деть.
Будущее рисовалось смутно. В Вешенках в роковую ночь побега она ясно представляла, как по приезде в Петербург тут же направится в дом князя К., бросится к его ногам, напомнит, как дружен он был с ее покойным батюшкой, как носил ее малюткой на руках и очень смешил, делая растопыренными пальцами «козу». Князь подымет ее с колен, заверит, что защитит сироту от посягательств развратника Баранова и ненавистного брака, и они вместе заплачут слезами умиления. Нет совершенства в мире, но эта придуманная картинка выглядела идеальной и вполне правдоподобной.
Но на подходах к этой счастливой сцене возникала масса вопросов. В каком обличье она явится к князю – в мужском или женском? Если идти сразу, то, разумеется, в мужском, но одежда загрязнилась в дороге, на плаще жирные пятна, пропахшие щами волосы торчат, как солома, на сапогах слой пыли. Кроме того, князю придется объяснять мужской костюм, а этого Глафире совсем не хотелось. Но прежде чем попадешь в гостиную князя К., надобно будет объясняться со слугами, а столичные холопы народ дерзкий, могут вообще не доложить о визите незнакомого, непрезентабельного просителя.
Петербург потряс и оглушил Глафиру. Ей казалось, что она сразу узнает улицы, по которым гуляла ребенком, но перед ее глазами предстал совершенно другой пейзаж. Там, где был пустырь, выросла слобода обывателей или дворец с парком за чугунной решеткой. Она забыла, как много в этом городе каналов и рек. Отраженные в воде дома, деревья, церкви, мосты и набережные создавали зыбкую перспективу, от которой у Глафиры кружилась голова.
Тут она с благодарностью вспомнила немца каретника, с которым познакомилась в дороге. На постоялом дворе он показался ей некрасивым, облезлым каким-то, а главное, навязчивым. Узнав в Глафире соотечественника, он прилип как банный лист, описывая в самых ярких красках свое жилье. И от центра города недалеко, и дешево. Может быть, у вас в Петербургах это дешево, а у нас в Вешенках – сумасшедшие деньги!
Устав мотаться по городу Глафира, не слезая с лошади, стала расспрашивать прохожих, как проехать на Большую Мещанскую. Каретник принял «юношу» с распростертыми объятиями, предложил стол, то есть обед и ужин и даже цену скостил, против ранее названной.
Каретник только начал разговор, а продолжила его жена – пышная особа в русском платье. Расписывая достоинства флигелька, она внимательно вглядывалась в Глафиру, насмешливо морща губы. Девушке очень не понравился этот взгляд. Но скоро она и думать об этом забыла. Жилье и в самом деле было очень приличным.
Две маленькие комнаты, на стенах обои с диковинными птицами и ягодами, на окнах солнечные желтые занавески. Но главное достоинство нового жилья виделось в том, что оно имело отдельный вход. Мнимый Шлос был не единственным квартирантом. За стеной жил молодой чиновник Сената, некто Озеров, разбитной и любопытный, причем оба эти качества очень подходили к его тучной фигуре. Круглые глаза на круглом лице, ямочки на розовых щеках, короткие руки с пухлыми пальцами, колобок, одним словом. Чиновник обрадовался новому постояльцу и тут же стал навязывать свое знакомство. Мой юный друг… что за обращение такое? И вообще по какому праву?
Глафира приняла совершенно неприступный вид, но чиновник не обратил на это внимания и вечером того же дня явился в гости с какой-то дрянью в кувшинце, уверяя, что это английский ром. Потом за разговором он сам эту дрянь и выкушал. И опять… «мой юный друг»! Он, вишь, знает все окрестные кабаки, научит, где играть по маленькой, а где вообще не брать карты в руки, потому что, мой милый юноша, шулера… Глафира не поддержала темы, и Озеров принялся перемывать кости хозяевам.
– Сам-то каретник совершенный тюфяк и недотепа, правда, руки у него золотые. А сама-то хозяйка, чистое безобразие. Что это за имя такое – Феврония? Я мысленно и зову ее на букву «Ф» – фурия! Рыбу готовить не умеет, без конца ворчит и покои мне сдала кой-каковские. У вас я вижу не в пример лучше. Вы за какую плату сговорились?
Глафира промямлила что-то нечленораздельное, но Озеров не отставал, вцепился в тему, как весенний клещ. Но дрянь из кувшинца оказала свое действие, и чиновник сполз на разговор о женщинах.
– Не вздумайте знакомиться с кем попало! Упреждаю вас с полной ответственностью. Если будет нужда, ну, вы меня понимаете, я познакомлю вас с отличными девочками, чистые барышни.
Вскоре и девицы были отставлены, и Озеров настойчиво стал уговаривать приезжего мальца «прямо завтрева» идти записываться в кирасирский Измайловский полк.
– Я могу поспособствовать. Там вашего брата немца пруд пруди. И по-русски вы лопочите, дай Бог каждому. Но главное, у вас фигура отличная, костюм будет сидеть как влитой. Сам я тоже хотел в гвардию, но не был принят по здоровью. А военных я страсть как люблю. Кираса с вензелям вам, в виду вашей субтильности, может быть и тяжеловата. Но ведь вы еще юноша, а со временем войдете в сок. А уж в шляпе с медной тульей вы будете истинный красавчик!
Язык у него заплетался. Глафира решительно заявила, что ни в какую армию не пойдет и вообще у нее другие планы.
– Какие же?
– Отдохнуть наконец с дороги!
– Кисель вы, братец, а с виду сокол, – на этом и расстались.
Она закрыла дверь на два оборота ключи и расхохоталась. Разглагольствования соседа не только развеселили ее, но и успокоили. Ранее думалось, что мужской костюм ей понадобится только в дороге, а в Петербурге она опять станет Глафирой Турлиной. Но судьба подсказывала ей – не торопись! Уж если этот колобок за два часа общения не распознал в ней девицу, более того, стал уговаривать идти в гвардию, так не разумнее ли ей оставаться до лучших времен в мужском обличии? И опять же – Добрый. Она лихо ездит в мужском седле, а это значит сможет беспрепятственно передвигаться по городу.
Визит к князю К. был отложен на день, потом на два. Глафира решила обновить свой гардероб. Она наведалась в модную лавку на Невской перспективе и купила новый камзол. Обычный бархат, отделка золотой тесьмой самая скромная, а цена запредельная. Торговец уверял, что камзол имеет какую-то особую модную линию, посмотрите, сударь, как изящно обужена талия, а фарфоровые пуговицы, а шлица! Все так, но за эти деньги в Вешенках можно корову купить. Ну и шут с ним со всем! Она не в деревне теперь живет, а в столице. Глафира купила еще и башмаки, и смену чулок, и даже парик, в котором неожиданно для себя очень похорошела.
Женскими платьями торговала тонкая, как стрекоза, мамзель. Конечно, глаза зацепились за зеленую юбку-полонез с маргаритками по подолу, сбоку прорези, а через них пропущены воланы темного шелка – очень красиво! Но эту покупку она решила отложить.
Только на четвертый день по приезде она отправилась на Почтовую улицу к князю К. Дом нашла с трудом. Он словно уменьшился в размере, потускнел, и мраморный лев на бронзовом шаре смотрелся уже не таким страшным, как в детстве. На стук дверного молотка вышел слуга в богатой лазоревой ливрее и белых чулках. Богато стали одевать прислугу. Вид у холопа был строгий, но доброжелательный, правда, по неприметным признакам было заметно, что доброжелательность эта была привитой, как ветка садовой яблони на дичке. Не исключено, что эту любовь к человечеству носителю лазоревого камзола не один раз внушали батогами на конюшне. Глафира знала, что князь К. был строгим человеком.
Глафира откашлялась, стараясь говорить низким голосом.
– Доложи, братец, их сиятельству, что кавалер фон Шлос, прибывший из Гамбурга, просит аудиенции по неотложному делу. Да поторапливайся. У меня нет времени ждать.
Слуга сложился в поклоне, не извольте, сударь гневаться, но доложить никак нельзя, понеже их сиятельство находится в отсутствии.
– И когда же он вернется?
– Нам знать не дано.
– А где же сейчас Николай Афанасьевич? – перепугалась вдруг Глафира.
Слуга посмотрел на молодого человека внимательно, потом потряс головой, словно отгоняя наваждение. Раз юнец называет хозяина по имени-отчеству, то, стало быть, имеет на это право. Да и сам он может позволить себе быть более словоохотливым.
– Их сиятельство обретаются сейчас в Англии, куда приняли вояж по дипломатическим делам. При них молодая княгиня. Раньше зимы они никак не воротятся, но и этот срок хоть и самый ранний, но отнюдь не надежный.
Этого Глафира никак не ожидала. Она уже привыкла к мысли, что ей сопутствует удача, и внезапный отъезд князя за границу показался ей чуть ли не предательством. На ватных ногах она спустилась с лестницы, отвязала лошадь. Рядом кипела жизнь. Катились кареты, ругались кучера, протяжно крича: «Остерегись», сновали лотошники с пирогами и ягодами, две смешливые девы в кисейных нарядах пробежали мимо и скрылись за углом. Никому в этом городе не было до Глафиры дела.
Она тронула лошадь и не спеша поехала по улице. Умный конь запомнил дорогу к своему стойлу и закромам с овсом, поэтому уверенно свернул в правый переулок, но Глафира направила его в другую сторону. Не надо отчаиваться, уговаривала она себя, отчаяние есть грех. Что, собственно, случилось. Нет князя Николая на месте, бывает…. Еще неизвестно, помог бы он ей. Жена у него молодая, значит, Николай Афанасьевич продолжает амуры крутить Седина в бороду, бес в ребро. Очень может быть, что желая несчастной сироте блага, он оповестил бы о ее побеге всю Батурлинскую рать, и Глафиру чуть ли не под конвоем доставили назад в родную деревню. А сейчас она вольна в своем выборе, и деньги у нее есть. Если быть экономной, то хватит на год жизни в Петербурге. Ну, если не на год, то на пять месяцев – точно. Если не безумствовать, конечно. Главное, дотянуть до совершеннолетия, а там она сама заявит о своих правах.
А пока она решила хоть издали увидеть то место, где живет кровная сестра ее Варенька Бутурлина. Пусть к Смольному воспитательному обществу был не близкий, о месте его расположения Глафира имела самые общие понятия. Но, говорят, и до Киева можно доехать, если спрашивать дорогу.
В том месте, где Нева круто изгибается в сторону Финского залива, еще при Петре I был построен смольный двор, на котором хранили и варили смолу для кораблей Адмиралтейской верфи. Рядом был построен изрядный дом для царя, который прозывался Смольный дворец.
После смерти Великого дворец перешел в собственность супруга Екатерины, а потом дочери – цесаревны Елизаветы Петровны. Смольный двор со складами, оборудованием и производственными чанами перенесли в другое место, но название осталось. Именно из Смольного стылой ноябрьской ночью шла Елизавета с гвардейцами-преображенцами в Зимний брать власть.
Потом Смольный дворец сгорел, и в память знаменательного события Елизавета решила на месте погорелья построить обитель – Воскресенский Новодевичий монастырь. Строил его любимый императрицей Бартоломео Растрелли. В конце жизни великий архитектор составил «Общее описание всех зданий, дворцов и садов», то есть список своих работ. Про Воскресенский Новодевичий монастырь он написал: «По моему возвращению из Москвы я начал большое здание Монастыря для благородных девиц, который должен был содержать 120 келий, кроме того, большое здание для госпожи настоятельницы с большой трапезной. Это здание имело в плане параллелограмм, в каждом из четырех углов которого была построена часовня; для удобства воспитанниц имелось, посредством большого коридора, сообщение с каждой церковью. В центре большого внутреннего двора я построил большую церковь с куполом, причем капители, колонны и их базы были сделаны из чугуна, большая колокольня, которая была выстроена при въезде в названный монастырь, должна была иметь высоту в 560 английских футов».
Растрелли возвел истинное чудо, хоть и не успел довести дело до конца. Великолепный пятиглавый собор и по после смерти создателя стоял без отделки, но кельи для монахинь были полностью обустроены. Для народа Вознесенский монастырь так и остался в прежнем прозвании – Смольный.
Вот в нем и решила императрица Екатерина II, слегка потеснив монашек, разместить Воспитательное общество благородных девиц. Это был смелый поступок. В середине XVIII века мысль о специальном женском образовании просто никому не приходила в голову. А Екатерине пришла. Кто главный воспитатель мальчиков в семье? Конечно, мать, и желательно, чтобы она была образованной. Если посмотреть на картину русского общества в целом, то со всей ответственностью можно сказать, что образованная мать поможет императрице в ее великих планах улучшения общественных нравов.
В основу воспитания девиц было положено учение Руссо: человек от природы добр, в младенчестве он не имеет дурных наклонностей, и только окружающая его действительность и порочные люди оказывают на него дурное влияние. А потому единственный инструмент, с помощью которого можно уничтожить в характере зло и пробудить добро, – воспитание.
Логично, не правда ли? В XVIII веке понятия не имели о генах, но удивительно, что человечество и дальше продолжало вставать на те же грабли. «Среда заела» – говорили в XIX веке, а в двадцатом пошли дальше. Спора нет, толковое воспитание хорошая и необходимая вещь, но нельзя человеку, как к яблоне, привить любое, нужное государству качество. А в Советском Союзе искренне верили, что если елку «правильно растить», то можно ее со временем переделать в сосну, а если постараться, то и в кокос. Авторы «Кодекса строителей коммунизма» придумали себе идеального человека и считали, что при правильном воспитании можно такового создать из любого материала, и не будет жадности, ревности, зависти, страсти к убийств, эгоизма, равнодушия, а будет славный боец за счастье коммунизма. Страшная вещь – утопия. Но это так, шаг в сторону.
Словом, Екатерина II и верный ей господин Бецкий решили, что для «создания нового поколения» девочек следует в самом раннем возрасте изолировать от грубой действительности, а также от родителей, и поместить в закрытое учебное заведение.
В эту обитель мудрости и направила Глафира своего коня. Ехала долго, петляла, вконец замучила Доброго. Но ведь добралась!
Высоченный собор с центральным куполом она увидела издали и двигалась к нему, как в маяку. Вблизи собор выглядел уже не столь величественно. Необлицованный и неокрашенный, он казался неприлично голым. Высокие монастырские стены прерывались чугунной оградой. Через решетку был виден угол двора и нарядные двухэтажные здания. Окна украшал замысловатый декор, на бирюзовой поверхности стен ярко выделялись белые колонны. Двор выглядел пустым – ни деревца, ни куста. Парк располагался дальше, ближе к Неве, а за монастырскими стенами раскинулась целая березовая роща. Стволы деревьев были ослепительно белыми, но зеленые кроны их были изуродованы огромными неряшливыми гнездами. При появлении Глафиры вороны стали тревожно кричать, замахали крыльями, какая-то мелкая дрянь полетела на голову. Кыш, проклятые! Среди берез вилась хорошо вытоптанная тропка, которая упиралась в скрытую кустами бузины калитку.
Глафира спешилась, дала коню отдохнуть, а сама внимательно осмотрела калитку. Закрыто, разумеется. Право слово, крепость. Интересно, водят ли воспитанниц гулять сюда, на берег Невы, или они так и сидят взаперти в своих кельях?
Еще бы хорошо представить, как выглядит сейчас Варенька. В свои шесть лет девочка была не по возрасту мала. Она много болела и полнота ее казалась нездоровой, но при этом была она фантазерка и выдумщица. Слуги про нее говорили – веселый ребенок. Когда расставались, обе они боялись плакать, только стояли обнявшись, глядя на незнакомых, до приторности вежливых, но неумолимых в своих действиях родственников. Вареньку отлепляли от Глафиры силой, она пыхтела, не желая оставлять шею сестры, потом цеплялась за ее подол, фартук. Сейчас ей шестнадцать. Глафира, пожалуй, и не узнает ее с первого взгляда. Но это не важно. Не узнает с первого, узнает со второго. Только бы проникнуть как-нибудь за эти высокие стены.
Когда Глафира, уже направлялась домой, опять проезжала мимо чугунной решетки, воспитанниц вывели на прогулку. Вначале их не было видно за собором, слышен был только гомон. Потом показалась стайка девушек в белых платьях. Куда-то они бежали со смехом, может, в прятки играли, или ловили бабочку, или просто хотели размять ноги. Они добежали до угла здания и тут же понеслись назад. Платье взрослого покроя в пол, шелковые оборки на рукавах, а на самом деле еще дети, котенки несмышленые. Худенькие ручки, грациозные шейки. А одна, поменьше ростом, запнулась за подол, чуть не упав, и сразу отметила неловкость звонким смехом. Это и была Варенька Бутурлина, но Глафира ее не узнала.
Князь К. был в отсутствии, встреча с сестрой тоже откладывалась на неопределенный срок. Понятное дело, со временем Глафира найдет способ встретиться с Варенькой, но для этого надо обжиться в столице, изучить повадки этого города, а потом уж искать пути, которые ведут к юным монастыркам. Говорят, что хоть и редко, но в город их вывозят, а по важным праздникам они и вовсе у себя в Смольном гостей принимают.
Итак, два дела, о котором в дороге думалось, как о простом и естественном, на первом этапе кончились неудачей. Но на повестке дня стояло еще третье предприятие, которое не сулило Глафире никаких выгод, но почиталось ей необычайно важным. Она должна была отнести по адресу пакет, найденный в дорожной суме Альберта. Покойный твердил, что является исполнителем высокой миссии, что с этим, запечатанным сургучом пакетом связано счастье человечества. Теперь это будущее вселенское счастье обреталось в Глафириных руках.
По хорошему-то ей следовало начать жизнь в Петербурге с этого пакета. Адрес отпечатался в сознании, она его до смертного часа не забудет. Но не произнеси она клятвы перед телом Альберта, то, может быть, и не решилась идти к капитану Наумову, а положила бы документ со счастьем под куст и постаралась забыть о нем навсегда. Виной появления этих крамольных мыслей была обыкновенная трусость. Да, она боялась этой встречи. Вручение важного пакета требовало объяснений. А как расскажешь о судьбе несчастного Шлоса, не выдав себя? Правда, можно сочинить историю. Но не надо городить лишнего, а то она непременно собьется. Она все расскажет по порядку: больной юноша приехал в их усадьбу, его лечили, но он был безнадежен, а перед смертью он поручил передать ей пакет по вышеназванному адресу. И совершенно необязательно говорить, что она переодетая девица. Она не племянница хозяйки, а племенник. А лучше вообще – сын. Так ложь будет совсем маленькая, но зато все просто и понятно.
Теперь вопрос – когда ехать. Капитан человек военный, значит, с утра в казармах. Стало быть, самое подходящее время вторая половина дня. Перед выходом из дома Глафира повторила перед зеркалом приготовленную речь, и не единыжды, а несколько раз. Выглядело вполне убедительно.
Дорогу на Стремянную улицу объяснила жена каретника Феврония. Сделала она это вполне толково, только уж слишком подробно. «Стремянная? Так это Астраханская слобода. Там, говорят, когда-то Астраханский полк стоял. Гренадерский, все красавцы под потолок. А потом там Конюшенная контора обжилась. Хорошие построили домы. Их жилье-то огонь пожрал. Вот им и выделили землю под поселение. У меня в этой слободе золовка жила. А кабак ведерный – каменный, двухэтажный. В нем водку ведрами отпускают. И дешево. Вы этот дом стороной обойдите, а то обидеть могу. Там иногда такая рвань собирается, что не приведи Господь. Вы такой молоденький! А напротив кабака пустырь. Далеко ли? Так за Фонтанной речкой. Можно и пешком прогуляться, но лучше верхами. Похоже, что дождь собирается. Ехать надо так… Вначале до Невской першпективы…»
Глафира накинула на себя Альбертов плащ, новым пока не обзавелась, вывела из конюшни Доброго и направилась на Стремянную улицу. Вначале, как и было оговорено, она нашла кабак. Дом капитана Наумова обретался вовсе не рядом, а в некотором отдалении. Большой, деревянный, можно сказать, неказистый на вид, с обширным двором и палисадом. Калитка была не заперта, только притворена. Глафира усомнилась было, тот ли это дом. Бред несчастного Альберта нарисовал в уме если не дворец, то уж, во всяком случае, что-то куда более значительное, чем двор с бурьяном и неубранным конским навозом. У настежь открытой конюшни бродили куры. Она осмотрелась с испугом, нет ли собаки. А куда лошадь-то привязать?
Внезапно дверь в господский дом отворилась, и на пороге, украшенном двумя белыми колоннам, появился старик в немецком платье с ведром в руке. «Неужели в кабак за водкой пошел?» – оторопело подумала Глафира, но старик, не обращая ни малейшего внимания на гостя, решительно направился в глубь двора к колодцу. Закрутился ворот, цепь, лязгая, нырнула в колодезную глубину. Глафира, ведя в поводу Доброго, подошла ближе и услышала, что старик кого-то ругает. Почудилось ли ей или впрямь он бранился по-немецки? А почему бы и нет? Все знают, что в Петербурге половина населения иностранцы. Он с натугой вытащил из колодца бадью.
– Гутен таг, – робко обратилась Глафира.
Старик круто повернулся. Произнеси она «добрый день» по-русски, и судьба вытолкнула ее совсем на другую жизненную тропку, и не влипла бы она в странную и опасную историю. Физики говорят – точка бифуркации. А это такая замысловатая точка, когда изменение мельчайшей величины может привести к совершенно различным результатам. И обидно думать, что у нашей героини этой самой точкой бифуркации было всего лишь дурацкое «гутен таг». Весь дальнейший разговор велся по-немецки, хоть было ясно, старик в этом языке не силен.
– Что надо?
– Я к господину Наумову. Он дома?
– Как доложить?
– Я с письмом от Альберта фон Шлоса.
– Подождите.
Старик перелили воду из бадьи в ведро, поднял его с натугой и заковылял к дому. По дороге он продолжал ворчать, и делал это на чистейшем русском языке.
– Шляются тут всякие. Не сидится им дома. Овса на вас не напасешься. Каждого накорми…
Глафира со смущением поняла, что последние слова относятся именно к ней. Минуты не прошло, как на порог выбежал рыжий молодой человек в партикулярном платье, зорко осмотрел Глафиру с головы до ног и бойко затрещал по-немецки.
– Здравстуйте, наконец-то! Как доехали? Мы вас давно ждем, господин Шлос.
– Вы ошибаетесь, я только посыльный, – проговорила Глафира, пытаясь одной рукой вытащить секретный пакет из слишком тесной новой сумки. Добрый топтался на месте, стесняя ее движения.
Хлопнула дверь, и на пороге возник второй, постарше, вид строгий, офицерский кафтан застегнут на все пуговицы. Он тоже внимательно осмотрел Глафиру и, ни слова ни говоря, выставил вперед правую руку и неторопливо, явно со значением оттопырил под прямым углом большой палец. Глафира наконец достала пакет и сунула его под мышку, как обычное письмо. Только гипнозом, модным в то время словом, она потом могла себе объяснить, почему с точностью повторила жест больного Альберта, то есть провела правой ладонью по лбу и точно так же, как сделал это капитан, оттопырила большой палец. Мужчина опустил руку и улыбнулся.
– Я капитан Наумов Андрей Иванович. Хозяин сего жилища, – сказал он на вполне сносном немецком.
Глафира перевела дух. Вот сейчас она все объяснит. Только надо вспомнить, как она репетировала речь перед зеркалом. Какая там была первая фраза-то?
– Вначале выслушайте меня. Я стал невольным свидетелем, – начала Глафира, настойчиво протягивая пакет капитану, и очень удивилась, видя, что тот оттолкнул пакет и даже отступил на шаг назад.
– Нет, нет, мы не уполномочены получать ваши объяснения, мое благодарение Всемогущему, – опять затрещал рыжий. – Сейте семена света, – добавил он, неожиданно подмигнув. – Сейчас мы предпримем небольшое путешествие. Вы не против? Вашего славного коня мы оставим здесь. Не волнуйтесь, его накормят, а вечером вы получите его в целости и сохранности. Единственное условие, мы должны завязать вам глаза. Надеюсь вы не против? – он так же, как Наумов, отсалютовал пятерней с оттопыренным большим пальцем.
А дальше все стало происходить со стремительной быстротой. Доброго куда-то увели, из конюшни выехала карета, такая-же неказистая, как Наумовский дом, Глафире завязали черным крепом глаза, мужчины сели рядом с двух сторон, хлопнули дверцы. Все, поехали.
Сказать, что им было очень тесно втроем на узком сидении, это ничего не сказать. Плечи попутчиков казались чугунными, сжатым легким ощутимо не хватало воздуха. К лежащему на коленях пакету они вообще не притронулись. Вот тебе и высокая миссия! Понятно, что Глафира их пленница. Повязка на глазах была плотной. Сидишь, как в каменном мешке, вокруг полный мрак. Вначале ехали молча, потом завели странный разговор. Начал рыжий, он, видно, вообще не мог долго молчать.
– Что у тебя Захар такой вредный?
– Да уж какой есть.
– Все ворчит, ворчит, злющий, как Пифон.
– Тьфу на тебя. Никогда не поминай всуе гения зла, – проворчал Наумов.
– Только бы Всеправедный был на месте.
– Гринька, не болтай лишнего!
– Да он же немец, по-русски не понимает ни черта.
– Иногда и палка стреляет, – ответствовал Наумов значительно и вздохнул.
Глафира уже запомнила за капитаном эту особенность, вздыхал он часто и как-то значительно, словно скорбел за все людские пороки.
– Предупредить надо.
– Ты же послал с Захаром записку? Твой слуга хоть и злющий, но расторопный. Уверяю тебя, все соберутся, слетятся, как мухи на мед.
– Ладно, успокойся, – Наумов застучал кулаком в переднюю стенку кареты.
Кучер покорно остановил.
– Посиди в карете. Я выйду, наведаюсь к ритору.
– А секретаря, а казначея, а стуартов и милостине-собирателей мы тоже будем объезжать?
– Это уже не наша забота. Главное, ритора известить. Я так думаю, если Всеправедного не застанем, то первый надзиратель точно будет на месте. Он и воспримет тайну.
Что значит – воспримет тайну? Глафира не знает никакой тайны. Куда ее везут? И главное, два этих молодца ведут себя так, словно она тварь бессловесная, пустое место. Всеправедный, слово-то какое замысловатое! Будем надеется, что этот всеправедный не пырнет ее ножом при встрече. Правда, если бы ее везли к палачу, они бы иначе его называли. Но все равно страшно. И потом, у них есть еще первый надзиратель, а это значит есть еще второй, третий, а может быть и четвертый, и все они будут за ней надзирать?
Наумов вернулся быстро, карета покатила дальше. Разговор мужчин продолжился, но теперь он тек в понятном бытовом ключе. Наумов попрекал Гриньку, что тот взял моду пренебрегать военным мундиром в пользу атласного камзола и шелкового жабо. Григорий весело оправдывался, де, обрыдло ему носить парик с косой, сей парик ему уши стер и жарко в нем, как в треухе, а потом, простите, он в отпуске.
– На следующей неделе казармы в палаточный городок переводят. Тогда и отпуску конец, и опять в мундир влезу.
Сквозь закрытые двери в кареты проник влажный воздух, колеса монотонно подпрыгивали на скрепах деревянного настила. Они ехали по мосту.
– Гроссмейстер ждет Розенберга, а не этого мальчишку, – проворчал вдруг Наумов и вздохнул.
– Не болтай лишнего, – прикрикнул Гринька, явно передразнивая друга. – Говори шифром!
– Зачем шифр. Посмотри на его рожу. Ты был прав, он ни слова не понимает. Сидит, как язык проглотил. Хоть бы из вежливости что-нибудь спросил. Не понимаю, что она там думают в Гамбурге, поручая ответственные задания малышам.
– А это не нашего ума дело, – сказал Григорий рассудительно. – И вовсе у него не рожа, а вполне симпатичное личико. Ой, у тебя ножны новые.
– Купил.
– Дорого?
– Пятьдесят копеек.
– Дорого. И рисунок простецкий. А старые ножны где?
– У пышечки Анхен забыл.
– И не отдала?
– Через ее дом знаешь сколько народу проходит!
– А зачем, позволю себе полюбопытствовать, ты шпагу снял? – игриво просил Григорий. – При шпаге неудобно с пышечкой забавляться?
К ужасу Глафиры Наумов развернулся всем корпусом и ткнул Гриньку в плечо. Пахнувший табаком и конюшней рукав бесцеремонно прошелся по ее лицу. От неожиданности она вскрикнула. Если господа офицеры в эдакой тесноте затеют драку, они раздавят ее, как букашку. Но оказывается, они и не думали драться, им просто захотелось размять косточки.
– Лучше бы бедным помогал, чем по зазорным домам шляться, – хохотал Гринька, последний раз ткнув Наумова в бок. От рукава Гриньки пахло кофейней, сдобным тестом и одеколоном жасмин.
Карета опять встала.
– Все, сударь, выходите, – переходя на немецкий, сказал Григорий, беря Глафиру за руку. – Осторожно, ступенька. Нет, нет, не торопитесь снимать повязку. Наш путь еще не окончен.
Они сделали шагов десять, не более, как могучий Наумов к ужасу Глафиры подхватил ее на руки и понес… Куда? В лодку, вот куда. Они уже плывут. Скрипят уключины, капли воды срываются с весел и кропят разгоряченное лицо.
Плыли не долго. Наумов опять подхватил Глафиру на руки. Скрещенными руками они прижимала к себе сумку, защищая не столько секретный пакет, сколько собственное тело. Как ни малы у нее груди, Наумов мог почувствовать, что держит на руках существо противоположного пола. Обошлось, кажется. А впрочем, кто их поймет?
Капитан поставил Глафиру на землю как куклу, взял за руку. Пошли. Кто бы знал, как она устала от переживаний! Сколько можно испытывать ее физические и моральные силы?
– А немец-то не трус, – сказал Гринька Наумову.
– Судя по тому, что штаны у него сухие, он отчаянный малый, – отозвался Наумов.
Ах, как Глафире хотелось ответить, но она смолчала. И глупо, конечно, но похвала капитана была ей приятна. Она даже приободрилась несколько. Под ногами вначале был гравий, потом песок, потом широкие ступени лестницы и, наконец, ковер. Но на этом путь не кончился. Ее повели куда-то вниз по узким неудобным ступеням.
– Все. Мы пришли. Ждите здесь, – сказал Гринька приглушенным голосом. – Можете снять повязку.
Глафира с трудом развязала тугой узел, стащила с глаз черный креп. В комнате никого не было. Прямо на нее пялился пустыми глазницами череп. Из зубастой челюсти его вправо и влево торчали скрещенные берцовые кости. Оскал желтых зубов был отвратителен и страшен. У Глафиры подкосились ноги, и она упала без чувств.
О том, что ее привели в дом высокочтимого Провинциального Великого мастера его превосходительства статского советника Елагина Ивана Перфильевича, Глафира узнала много позднее. Да, она попала к масонам, то есть вольным каменщикам.
Непосвященному читателю пригодятся и энциклопедические знания. Вот буквально «два слова» о возникновении масонства. Орден франк-масонов возник во втором десятилетии XVIII века. Происхождение его тонет в легендах. Вот одна их них, так сказать, с научной подкладкой (я имею в виду труды немецкого историка Бегемана и его книгу «Краткая история франкмасонства»).
Термин «free mason», то есть «свободный каменщик», встречается еще в английских документах XIII века. Это профессиональное обозначение ремесленников, объединенных в гильдии и братства. В эпоху строительства готических соборов работа каменщиков требовала знаний и уменья, в арсенале гильдии было много чисто профессиональных тайн. Старинные братства каменщиков со временем выделились в особую организацию, которая благополучно дожила до XVIII века. Организация эта была известна и знати. Надо ли говорить, что последние не имели никакого отношения к циркулю, мастерку и откосу. Но ритуалы, терминология, тайна показались заманчивыми для членов некого клуба в Англии. Тогда же стали возникать кружки или ложи, и диву даешься, с какой скоростью эти ложи распространились по всей Европе.
Со временем они проникли и в Россию. Русское масонство – это еще одна попытка объединиться с Западом, жить так, как у них в Европах. Прорубленное Петром окно работало в двух направлениях.
Уже в эпоху Александра I, когда русское масонство переживало второй расцвет, министр полиции в отчете пишет: «Система их ничего осудительного в себе не заключает, бумаги их состоят из одних обрядов и церемониалов, ученья в них мало, а предмету никакого, в чем сами начальники согласуются». Там же, кстати, отмечено: «В похвалу сих братств сказать должно, что они делают много благодеяний, посещают тюрьмы, помогают бедным и прочее…»
Но на заре русского масонства членам братства было не до посещения тюрем. Тогда члены общества искали тайную истину. Век просвещения – это время великого любопытства, но и страшного информационного голода. Истина шла с Запада каплями, немецкие, шведские, английские и прочие европейские масоны не хотели сразу раскрывать знания варварской России. И не только потому, что жадничали. Есть подозрение, что сами они, как и все в этом мире, полной истины не знали и только наводили тень на плетень. Тайна – хороший товар.
О масонах столько трезвонили! Что я здесь не напиши, будет повтор. Однако все авторы, и нейтральные и настроенные откровенно отрицательно, ничего не знают наверняка, потому что масонские организации всегда были строго засекречены и держали свои знания, а именно цели, ритуалы, традиции и обряды под семью замками.
Большая часть русских материалов по масонам вообще была уничтожена в эпоху гонений, поэтому часто источником информации для нас служит частная переписка и обрывки протоколов собраний. Вообще масонство в некотором роде фольклор. Часть знаний в ложах вообще передавалась изустно, поэтому не лучше ли оставить масонские знания за бортом и сосредоточимся на обрядах, которые донельзя напугали Глафиру.
Кажется, чего проще. Вам из-за границы пришло письмо, которое вы давно ждете. Примите пакет, задайте необходимые вопросы – и дело с концом. Оказывается – нет! «Ритуальны танцы» были для масонов насущной необходимостью. Именно ритуал, а не словесное общение позволяло вольным каменщикам узнать своего. И тут нечему удивляться. Это было вполне у духе времени. В конце концов именно с церковной обрядности начал Никон свои преобразования, которые привели Русь к религиозному расколу. А масонский обряд выражал главные идеи ордена, и для выражения этих идей каждому члену братства была назначена своя роль.
Полный текст обрядов знали лишь мастера и братья-обрядоначальники. Прочие члены ложи, как то риторы, старшие и младшие надзиратели, секретари и ученики, имели на руках только часть обряда, который соответствовал их должности и рангу. Причем эта часть, как бы незначительна она ни была, оформлялась в виде прошитой шелком тетрадки, скрепленной печатями ордена и мастера. Выполнено все это было очень нарядно, написанный прописными буквами текст украшался рисунками. От масонов, хоть и много было уничтожено, к началу ХХ века осталось множество гравюр, рисунков, ковров, печатей, вышивок, крестов, фартуков-запонов и филигранно оформленных грамот. Кто все это вышивал, рисовал, лепил, стругал? Кто эти безвестные герои?
Тайна, вот что стояло во главе угла. Это-то и злило, и раздражало светское общество. Позднее Екатерина Великая устроила масонам полный разгром. Но об этом после.
Все происшедшее в доме Елагина Глафира вспоминала, как в тумане. Четкими были только первые впечатления, когда наша героиня очнулась от обморока и осмотрелась. Она находилась в небольшом помещении без окон, более того, без дверей, поэтому было совершенно непонятно, куда делись ее провожатые. Стены комнаты были обиты шелковыми голубыми обоями. Три подставки в виде обрубленных греческих колонн венчали шандалы о трех рожках. Свет от свечей казался необычайно ярким. Напугавший Глафиру череп, на черном матерчатом треугольнике, непонятно, как все это крепилось к стене, был явно искусственным, скорее всего, гипсовым. Помимо черепа в комнате находилось еще несколько необычайно оформленных предметов, например, часы.
Глафира не сразу догадалась, что это такое, потому циферблат был выполнен в виде шара, а стрелки заменяла изогнувшаяся змея с жалом. Тьфу на тебя! Шар очень медленно вращался, змея оставалась неподвижной. Часы стояли на кресте черного дерева, на котором были наклеенные фигурки из слоновой кости: треугольник с глазом внутри, звезды, улыбающееся солнце с лучами, молодой месяц с человеческим лицом, раскрытая книга. На массивном основании часов тоже изображения ремесленных инструментов, из которых Глафира знала только циркуль. И опять череп. Что они привязались к этим черепам?
Кто-то задышал ей в затылок. Глафира стремительно обернулась. Невозможно было понять, как попал в комнату этот человек: круглая шляпа, длинная епанча, белые перчатки и прокислое выражение носатого лица. Он молча поклонился, потом неожиданно ловким движением откинул подол Альбертового плаща, раздвинул слегка шов, и Глафира с удивлением увидела белый знак, который полностью соответствовал рисунку оттиска на сургуче принесенного ей пакета. С лица пришельца сошло выражение озабоченности. Он взмахнул рукой, приглашая Глафиру следовать за собой.
Она не поняла, как одна из деревянных панелей открылась, очевидно, мужчина надавил на скрытую пружину. Короткая лестница (удивительно, что по дороге вниз, она казалась Глафире бесконечной), затем узкий коридор, высокая дверь… а далее она вообще перестала соображать, только глазела с открытым ртом. Представьте себе ярко освещенную залу, но при этом один конец ее как бы в полутьме. Посередине залы разложен расписной ковер, над ним на цепях висит золоченая шестиконечная звезда. Вдоль стен – треугольные столы, выкрашенные в голубой цвет. В торце залы на возвышении, к которому ведут три ступени, важный как трон, стул. Рядом со стулом высокий человек в седом пышном парике, в лазоревой короткой накидке на плечах, вышитом фартуке на чреслах и с молотком в руке. А вокруг полно народу…
Их было всего-то двенадцать человек, большее количество мастер не счел нужным собрать, но у Глафиры от волнения двоилось в глазах. Все мужчины были в ярких белых перчатках, бедра их украшали белые же кожаные фартуки, на ремешках у пояса висели крошечные железные мастерки. Как повара, честное слово. Куда же это она попала, что за сатанинская кухня? В зале стояла абсолютная тишина.
– Подойдите, – прошептал кто-то сзади по-немецки и слегка подтолкнул вперед.
Глафира неуверенно сделала два шага по направлении к «трону». Наверное, это и есть Всеправедный. Да возьмите же вы у меня проклятый пакет и отпустите подобру-по-здорову!
– Ближе, ближе…
Седой господин не стал дожидаться, когда Глафира поднимется по ступеням, сам спустился с постамента, внимательно заглянул в глаза и протянул руку. В ответ Глафира покорно протянула свою. Мастер осторожно коснулся костяшки ее указательного пальца. И Глафира узнала этот жест. Покойный Альберт помогал ей находить правильный ответ. Только закрой глаза, и ты снова очутишься в гостевой в Вешенках, где больной Шлос шепчет непонятные слова. Ей оставалось только повторить их.
Теперь Глафира уже сама уверенно обхватила средний палец мастера.
– Бо, – прошептала она, потом средний сустав. Косточка сухая и острая. – хо… – «Це» на третьем суставе прозвучал как свист сверчка за печкой.
Чушь, конечно, но если вам нравится играть в эти игры, я подыграю. Дочь актрисы, Глафира воспринимала происходящее как театр, а разница была только в том, что она не знала конца трагедии, в которой ей выпало исполнять главную роль.
Мастер кивнул головой, коснулся молотком Глафириного лба и сделал шаг назад.
Надо бы перевести дух и кое-что объяснить читателю. По мере освоения братьями масонской науки им присваивали степени или градусы, как говорили в России. На заре масонского движения этих степеней было всего три. Позднее, когда западные ложи стали активно развиваться, а истина продолжала ускользать от внятного понимания, количество степеней для ее постижения стало расти, достигнув числа тридцать, а может, и того более.
Каждая степень имела свои опознавательные знаки, особые слова и прикосновения. По мере увеличения степеней число знаков тоже увеличивалось. Иногда посвященным трудно было все запомнить. Попробуй, вызубри: семь прикосновений со словами, лишенными на первый взгляд какого-либо смысла, семь знаков, для изображений которых требовалась не только память, но и гимнастическое уменье.
Но оставим эти подробности, потому что в Елагинской ложе «Урания», принадлежавшей Иоанновскому масонству, было всего три степени. Более того, сам Елагин находился тогда в состоянии духовного поиска, его одолевали вопросы и сомнения, поэтому он несколько поохладел к чистой символике. Приезжий Шлос хорошо показал «прикосновение силы», на прикосновении «Мак и Ве» слегка споткнулся, но его можно извинить, он слишком молод и взволнован.
Затем перед Глафирой положили три ковра. Все тот же загадочный голос, не Гринькин ли, прошептал:
– Выбери.
Что значит – выбери? Не в лавку же она пришла! Матерь Божья Заступница, батюшка покойный – вразумите! Седовласый лучится доброжелательностью, а глаза непонятные, так и сверлят, обвислые щеки подрагивают в нетерпении. Не угадаешь, что будет? Прибьют, и косточек никто не найдет.
Ковер, что справа, был страшен: вышитый череп с костями, летящие по черному фону серебряные капли – не то дождь, не то кровь, внизу непонятный предмет, увенчанный ветвью. (Добавим, что не опознанный Глафирой предмет был гроб. Смысл сей аллегории – скорбь человечества по утраченной истине.) Средний ковер был попроще, какие-то треугольники, усеченные колонны, глобус, стежком вышитая вполне мирная беседка. Левый ковер Глафира вообще не стала рассматривать. Ткнула пальцем в средний с беседкой, а дальше будь что будет.
И мастеру стула, и настоятелю было ясно, что приехавший из Гамбурга есть мастер, то есть освоил третью степень. Как только ковры убрали, седовласый обратился ко всем присутствующим:
– Братья, поздравим себя, мы узнали одного из собратьев наших – вольного каменщика.
Все разом согнулись в поклоне, Глафира ответила им тем же. Ну вот, теперь она оказывается еще и каменщик! С величайшей важностью из рук ее был принят пакет. Мастер стула вернулся к своему трону.
– Сноситель и корреспондент, согласен ли ты ответить на мои вопросы?
– Спрашивайте, – выдохнула Глафира и мысленно перекрестилась.
– Труден путь добродетели, – сказал седовласый, и она с готовностью согласилась – труден.
Вопросов было много. Вначале – кто? Когда? Откуда? Здесь Глафира отвечала без запинки. Потом начались трудности. Мастера стула очень интересовала «Золотая роза». Знать бы что это такое: названье кабака, модной лавки или скопища таких же безумцев? Неведомо как из уст седовласого выпорхнуло слова «ложа». Может, «Золотая роза» название оперы? Вряд ли… Если они здесь все заядлые меломаны, то зачем черепа?
– Кто у вас префект, а кто провинциал?
– Я не волен отвечать на этот вопрос, – твердо ответила Глафира.
– Видел ли ты сам мастера Циннендорфа?
– Нет, не видел.
А далее опять: «это не в моей компетенции», или «я не уполномочен давать пояснения». Глафира твердила как по заученному. А сама думала: «Почему они мне верят? Любому нормальному человеку было бы ясно, что я просто морочу им голову? Ну, хватит, хватит вопросов! Неужели они не видят, что я еле держусь на ногах?»
Допрос подходил к концу, все ее хитрости и уловки воспринимались как должное, но нельзя бесконечно водить людей за нос. Глафира таки попала впросак. Вопрос мастера стула касался каких-то планов немецкого высокочтимого, а может, и не планов вовсе, а раздумий по непонятному Глафире поводу. В ответ она затянула привычную ей песню, мол, это не моя тайна, но неожиданно для себя самой добавила:
– Вот уже Высокочтимый сам приедет, то все разом и объяснит.
Этот ответ взволновал всех присутствующих до крайности:
– Мы его давно ждем? Так он собирается посетить Россию?
В описываемое время в Петербурге образовалось уже много лож: помимо «Урании», о которой мы уже говорили, Елагину еще принадлежала ложа «Девять муз», в «Марсе» мастером стула был Мелиссино, еще была ложа «Трех сердец», ложа «Гарпократа» – всех не перечислишь. Каждая ложа по-своему трактовала путь и цели ордена, то есть имела собственную «систему». Но в масонской среде уже наметились серьезные разногласия. Вопрос касался высшей цели ордена. Каждая ложа хотела на свой лад бороться со злом. Споры о сущем любимое времяпровождение русских.
Теперь спор шел вокруг новой ценнедорфской системы. Исповедывал эту систему некто Рейхель, гвардейский генерал-аудитор, поступивший на русскую службу четыре года назад. Рейхель и основал ложу «Гарпократа».
Немецкая система Ценнедорфа образовалась как отдельная ветвь тамплиерства и была очень соблазнительна логичностью, древностью идей и красотой обрядов. Елагин серьезно задумывался об объединении своих лож с «Гарпократом». Дело было за малым. Елагину казалось, что для объединения лож мало согласия Рейхеля. Необходимо еще получить «конституцию», то есть формальное утверждение из-за границы от главного начальства – от Генриха Розенберга, которого Глафира всуе помянула в своем ответе. Сей Розенберг был заметной личностью. Он организовал в Гамбурге ложу «Трех золотых роз» и получил конституцию из рук самого Циннедорфа. Вот это-ту учредительную грамоту-конституцию и вез в Петербург Альберт фон Шлос.
Добавим еще, что Глафиру благополучно доставили на Стремянную улицу к коню Доброму. Глаза на этот раз тоже завязали, но креп с глаз сняли сразу после лодки.
И еще, так сказать, постскриптум. Если читатель в моем рассказе о масонах уловил откровенную насмешку, так это все издержки современного сознания. Всемирное тайное общество вольных каменщиков ставило своей главной целью достижение земного рая, золотого царства любви и истины – царства Астрел. Смешные термины, но если по-простому – масоны хотели сделать всех счастливыми. Пока все попытки человечества обеспечить всех без исключения этим дорогостоящим товаром – счастьем, кончились крахом. А в XVIII веке титло вольного каменщика носили многие весьма достойные. Русское масонство вообще пошло своим путем – трагическим. И если в ХХ веке их цели и ритуалы кажутся нам откровенно смешными и наивными, то они, во всяком случае, куда безобиднее, чем концлагеря, с помощью которых нас вели к счастью и общему благоденствию.
Глафира вернулась домой ни жива ни мертва. Все случившееся с ней казалось кошмаром, из которого она чудом выпрыгнула. Куда она попала-то, помилуй Бог? Бесовская сходка, не иначе. Правда, она своими глазами видела Библию с крестом на голубом, треугольном столе. Вначале книга была закрыта, а потом носатый господин, который явился за мнимым Шлосом в комнату без дверей, открыл ее и прочитал небольшой текст из Ветхого Завета.
А может быть, это вовсе и не Библия была. Одно дело Евангелие, здесь Глафиру не обманешь, а Ветхий Завет она плохо знала. Помнила только отдельные истории. Мать рассказывала перед сном про Авраама и Сару, и про Якова с Рахилью, и про лестницу в небо к самому Богу, и про страшный город Иерихон. Эти рассказы заменяли ей сказки. Вспомнив их, Глафира вдруг поняла, что мать была религиозна.
В порыве отчаяния Глафира бросилась на колени перед иконой и долго молилась, но, сама того не замечая, обращалась не к Всевышнему, а к покойному отцу: «Батюшка, вразуми, помоги, толкни на путь истинный». Указания отца были однозначны: «Забудь этот день, забудь дом на Стремянной улице и считай, что всего этого не было. Ты хотела отдать Альбертов пакет – отдала, а остальное тебя не касается».
Однако очень скоро она убедилась, что ничего в жизни не проходит бесследно, одно событие тянет за собой другое. Как ни была Глафира напугана в загадочном особняке, она успела приметить в числе братьев фигуру, показавшуюся ей знакомой. После песни, довольно заунывной, но мелодичной, присутствующие исполнили ритуал прощания и гуськом потянулись к выходу. «Как на Озерова похож», – подумала она об одном из них и тут же забыла об этом. В карете она опять вспомнила круглую спину, покатые плечи и характерную манеру отставлять в сторону локти. Но нет, не может быть, померещилось. Просто она тогда очень устала.
Но прошло два дня, и опасения ее подтвердились. Озеров явился под вечер. На этот раз он долго и деликатно стучал в дверь, терпеливо ждал ответа и, не получив его, подошел к окну.
– Впустите, пожалуйста, господин Шлос. Я знаю, вы дома. Мне необходимо видеть вас для приватного разговора.
Глафира сжалилась, пустила соседа. В дом он вошел на цыпочках, а к столу пробирался боком, словно боялся потревожить жидковато расставленную мебель.
– Здрасте, – проворчала Глафира неприветливо.
Вместо ответа Озеров с натугой сплел пальцы рук, выставил их ладонями наружу и закрыл искаженное гримасой боли лицо. Ладонь правой руки была испачкана чернилами. Что-то подобное делал со своими руками Альберт. У Озерова был такой страдающий вид, что Глафира невольно воскликнула:
– Что? Что случилось? Да опустите вы руки!
– Ничего не случилось, – смутился Озеров. – Разве вы не так показываете жест отчаяния, коему следует ответствовать знаком воздуха?
– Покажите. Ну что вы на меня уставились? Как вы показываете знак воздуха?
Озеров покорно поднял правую руку и вытянул ее вбок на уровне плеч:
– Тело как бы изображает прямой угол, то есть наугольник. А разве у вас другие знаки?
– Я люблю этот, – она вскинула руку с оттопыренным прямым пальцем.
– Ну, это общий знак масонов, знак циркуля.
Только здесь Глафира наконец услышала это слово – масон… каменщик, значит.
– Вы хотели говорить со мной, господин Озеров?
– Константин. Зовите меня Константин, – отозвался тот с готовностью, потом набрал воздуху в грудь и добавил проникновенно: – Ты прости меня, брат, что я начал знакомство с тобой со слов суетных. Трактиры я, конечно, не обхожу стороной, но что до дев зазорных, то я их давно не посещаю. И карты в руки стараюсь не брать. Это я по легкомыслию павлиний хвост распустил. Но ведь я не знал, кто ты. Прости, брат.
– Прощаю.
– А не донесешь? Нет, ты головой не тряси. Ты слово дай, что не донесешь по инстанции. Мне без масонства никак нельзя. Потому что «если дух твой благородный, возвышаясь к небесам, есть тот каменщик свободный, что сердечный строит храм…» Ну и так далее… – он утер нижнюю губу. – Даешь слово?
– Даю, – невольно улыбнулась Глафира.
Он явно заискивал перед ней, и она решила этим воспользоваться, вызвав соседа на откровенность. И потом Озеров со своими коровьими глазами, мясистой нижней губой, которой она смешно прихлопывал в минуты волнения, был совсем не страшен.
– Вот и славно, и славно, – гость полез в карман и не без усилия вытащил бутылку. – Розовое. Это нам можно. Братьям на праздничных трапезах ставят каждому по полбутылки. Официально! Бокальчики-то дайте. Ты не донесешь на меня, а я, в свою очередь, никому не скажу, что ты по-русски болтаешь, как истинный русак. Они-то уверены, что ты природный немец.
«Ах ты бестия мокрогубая! Так ты шантажировать меня пришел?» – разозлилась Глафира, но не произнесла ругательства вслух.
– Я и есть природный немец. Просто я в детстве жил в России. Так что в этом нет никакой тайны. А про наше первое знакомство вообще забудем. Я отношусь к вам лично с глубоким уважением.
– Да, мы достойны уважения. Мы суть голубые братья ионниты и восприемники тамплиеров. Лазурь и золото наши цвета. Работа идет очень ответственная.
– И в чем ее смысл?
– Как – в чем смысл? – удивился Озеров. – Ты хочешь спросить, по какой системе мы работаем?
– Именно, – заторопилась Глафира. – А спрашиваю про вашу систему.
– У нас английская систем, – он пожал плечами. – Брат, разве ты не знаешь, что гроссмейстер наш, Иван Перфильевич Елагин, ты же сам с ним говорил, есть Провинциальный Великий мастер, то есть глава всех русских лож?
– Он сам себя назначил… главой лож?
– Почему сам? Он это звание в Англии получил два года назад. Я сам видел диплом на пергаменте, за подписью самого герцога Бофортского, тогдашнего гроссмейстера английской ложи-матери. Брат, ты меня испытываешь, что ли? Ведь тебе о тайнах вольных каменщиков должно быть известно более моего.
– С чего ты взял?
– Но ведь ты уже третью степень постиг, а я только на пороге принятия. У меня пока первый чин ресепции.
Разговаривать с Озеровым было то же, что вести утлый челн меж водный бурунов. Того и гляди, перевернешься, а потом и не вынырнешь, пожалуй, на чистый воздух. Правда, фон Шлос приехал из Гамбурга. Положим, он «работает по другой системе», а это значит, он имеет право на любой вопрос и даже на ошибку. И, буквально ткнув пальцем в небо, она спросила с наигранным удивлением:
– Что же ты тогда в зале делал? Разве на таких церемониях присутствуют ученики?
Озеров несколько смутился.
– Правда твоя, брат. Я на пороге принятия третьей степени. Пройду всю процедуры и буду мастер. Я ведь просто испытать тебя хотел.
– Зачем тебе меня испытывать?
– Вся наша жизнь есть испытание. Ты про нашего Провинциального мастера спрашивал. Неужели особа, тебя к нам пославшая, не дала столь важных сведений?
– Ты о какой особе-то толкуешь?
Так Глафира услышала важное для нее имя – Генрих Розенберг. С точки зрения масонской этики Озеров не имел права называть его. Но розовое вино уже оказало свое действие. Кроме того, юнец раздражал своей заносчивостью. Сидит важно, нога на ногу, розовое только пригубил, европеец, понимаешь! И скромному протоколисту сената тоже захотелось показать, что он не лыком шит.
– Мы ведь вначале по системе Мелиссино работали. Это чисто русские дела. Мелиссино, артиллерийский генерал, отличный человек! – продолжал Озеров. – Теперь ты привез нам конституцию – и хорошо! Про Розенберга и его «Три золотые розы» у нас в «Урании» невесть что болтают. Это ведь только название – «новая шотландская система», а у нас говорят, что высшие французские степени Розенберг получил в Меце? Говорят у него этих градусов более десяти. Мозг в силах освоить такую кучу знаний? Э, ты все равно не скажешь. И еще говорят, что ложа «Строгого наблюдения» весьма вашим гроссмейстером недовольна, очень недовольна.
– Почему недовольна?
– А это тебе должно быть лучше известно. Мы тут знаем, что в Европе развелось много мнимых, поддельных лож, которыми заправляют проходимцы сребролюбивые. Кому верить-то? Шведы обещали оказать нам содействие в получении высших знаний, но обманули. От шведов хорошего не жди, они нам и по сей день Полтавы простить не могут.
– Ну, это ты слишком, брат, – промямлила Глафира.
– Теперь вот немцы с французской подкладкой. А у нас в Петербурге раздрай. Русское масонство с безбожниками борется и главным французским скептиком Вольтером. Он, вишь, атеист. А нам скептики не нужны. Вольтерьянство есть мода, не более. Нам надо истину искать. Разгони пороков мрачность, возроди любви прозрачность, ею в нас зажги сердца! Вот так вот! Франция заражена любострастием и нравственность отрицает. А как жить без десяти заповедей? Уж лучше тамплиеры, чем вольтерьянцы. Тамплиеры рыцари духа, хоть и католики. И еще мученики, сожгли их всех бедных, вместе с Жаком Моле.
Озеров совсем захмелел. Он выпил и собственную порцию, опорожнил затем бокал Глафиры, а далее достал из левого кармана плоскую фляжку, в которой было очевидно что-то более крепкое, чем розовое венгерское. Он ждал, что немец будет спорить, и состоится хороший, откровенный разговор, но мальчишка больше молчал, разве что-то поддакивал невпопад. Все они такие, заграничные умники. А Глафира старалась как можно больше вытянуть из болтливого соседа и мысленно загибала пальцы: об этом потом спрошу, пусть подробнее расскажет, да не забыть бы наведаться в книжную лавку. Наверняка там есть что-нибудь и о тамплиерах, и про неведомого Жака Моле, и еще Вольтера надо почитать.
В порыве откровенности Озеров сполз с масонской темы на историю собственной жизни. Здесь он перешел на «вы», сразу стал самим собой, на лице его появилось тюленье, добродушное и глуповатое выражение. Начал он свое карьеру в Москве, устроился секретарем к князю Щебатову. Следил за библиотекой, отвечал на письма, переписывал бумаги, жалование 250 рублей в год и стол. И все бы хорошо, если б не злая «привязанность к зеленому сукну». Он проигрался в прах и уже стал подбираться к отцовской деревеньке. Не долго думая, родитель перевел его в Петербург, подальше от шулерской компании. Теперь он протоколист в сенате и жизнью вполне доволен. О новой свой беде – «привязанности к зеленому змею», Озеров не упомянул, но это было и так видно.
В орден вольных каменщиков он был принят по рекомендации все того же князя Щербатова, которым руководило желание спасти духовно своего секретаря.
– Принятие мое в братство было очень торжественным. И в гробу, как положено, лежал, а встал потом при общем плескании рук, обновленный. Мастер трижды произнес «Тьму победим светом». А потом вручил мне все масонские атрибуты. Ну, там запон, лопатку, и разумеется перчатки белые мужские и женские. Что удивляешься? Женские перчатки для избранницы сердца моего, с коей сочетаться буду священным браком яко с небесной девой Софией. А вам не вручают женские перчатки?
– Не вручают, – на всякий случай согласилась Глафира.
– У нас говорят, что в Европах хотят женские ложи организовать. Врут, наверное.
– Врут, – подтвердила Глафира, но подумала: «Если о женщинах забоятся, то, пожалуй не прибьют, узнав про мой обман».
Далее опять пошла масонская тема, которая вызывала у Глафиры живейший интерес. Дева юная, а как искусная в обмане!. Ведь это грех, пожалуй, так притворяться. Но Всевышний поймет, у нее не было выхода.
В каждодневном притворстве жила она последние десять лет. Словно маменьке на сцене, приходилось ей играть какую-нибудь роль. Даже перед отцом, пока тот был еще жив, ей приходилось выказывать чувства, которые она в данный момент не испытывала, а уж Марью Викторовну обмануть или опекуна, почитала делом совсем привычным. Ни одного вопроса она не задавала, не обдумав его прежде. И ответ свой всегда прокручивала в уме, прежде чем произнести его с показной непосредственностью. Теперь этот опыт и пригодился. Можно даже сказать, что она получала удовольствие от беседы с Озеровым. Подожди, милый, я из тебя все по нитке выдерну.
– Путь из черной храмины в ложу есть путь из тьмы к свету, от безобразия к красоте, от слабости к силе, от невежества к мудрости. А храм премудрости держится на трех столбах, – бубнил Озеров, а Глафира думала, какая скука, все это общие слова, за ними ничего не стоит. Потом все-таки не удержалась, спросила:
– В чем премудрость-то? Скажи наконец!
– В истине.
– А истина в чем?
Озеров умолк, тараща глаза, а потом сказал веско.
– Работать надо, искать. Истина скрыта. Но я тебе скажу, как я это понимаю. И тебе так понимать советую, – он потряс пустую фляжку и отложил ее прочь. – Главную истину знал Адам, потому что ему тайну сам Господь передал. Но Адам пал и забыл. Но что-то важное потом вспомнил и детям своим по частям передал. Вот мы эти части и пытаемся соединить.
– Как в детской игре, – рассмеялась Глафира., – кубики с картинками.
– У-у-у… смеешься. Вот все вы так. Все хотят, чтобы непонятно, но красиво. Пожалуйста, скажу красиво, – Озеров приосанился, сотворил крест. – Падение Адама было тройственное – по духу, по душе и по телу. Прельстившись Змеем, он соединился с материей и, утратив дух Создателя, стал смертным. Но помнил еще о красоте Эдема, о высшей справедливости и нес в себе луч света. Единый луч, – Озеров вдруг заплакал.
– А дальше. Ну не реви!
– А что дальше? Тупик дальше. Он передал детям своим этот луч света, но дети плодились шибко и уплотнялись частицы материи, луч сей тускнул. И мудрецы заключили истину в символы. А ты кто такой, чтобы вопросы задавать? Ты чужак, достойный сомнения, – заорал он вдруг.
– Так зачем ты со мной говоришь? – хмыкнула Глафира.
– А интересно. Ты брат. Ты свой. И местожительство твое известно. Видишь, как все хорошо совпало. Теперь ты наш гость. А по уставу сердца наши, открытые для добра, равно как и кошельки в полном твоем распоряжении. Только заранее скажу. Мой кошелек пуст. Хватит разве на то, чтобы вместе милостыню подавать.
Пьяный разговор закончился далеко за полночь. Когда дверь за Озеровым закрылась, Глафира поняла, что уже достаточно много знает от вольных каменщиках. Пожалуй, даже потянет на вторую степень. И еще она поняла, что Озерову назначено следить за ней.
Передо мной «Памятные записки» Алымовой, одной из лучших воспитанниц-смолянок первого выпуска: «Счастливые времена! Приют невинности и мира! Вы были для меня источником самых чистых наслаждений. Благоговею перед вами… Это была община сестер, подчиненных одним правилам, единственным отличием служили достоинства и таланты».
Вот такие «воспоминания пионерки». Читаешь эти записки и удивляешься. Ведь не овечек собрали за высокие стены Воскресенского монастыря. Дети иногда поступают более жестко, чем взрослые. Если мерило талант, а у тебя его нет, то ты не только «пьешь слезы надежды», но и завидуешь отчаянно. Зависть – сильное и страшное чувство, оно порождает злобу, приводящую к дерзким поступкам. А уж как душа-то страдает! Или, например, одна чистюля, другая неряха, иная гордячка, а та и вовсе так умеет ластиться к начальству, что вызывает общее негодование. Ну и так далее.
Но я вовсе не хочу упрекать Глафиру Алымову в неискренности. Человеческая память избирательна. Мы очень легко умеем забывать собственные дурные поступки и неприятные события, а юных смолянок учили не просто забывать, а попросту их не видеть. Говорить о плохом было неприлично. В Смольном Обществе сразу установился особый стиль поведения, и этому стилю воспитанницы вольно или невольно начинали следовать. В каком-то смысле жизнь их разыгрывалась как на театре, и каждой была дана добродетельная роль.
Позднее смолянок, которые были образованны, естественны в общении, не жеманны и любознательны, обвинили в том, что они совершенно не знают реальной жизни. Императрица хотела с их помощью улучшить нравы общества, поэтому старательно ограждала воспитанниц от всего низменного, страшного и грязного. Например, они понятия не имели, что три года назад на старую столицу навалилась чума. Мертвые тела валялись на улицах, здоровых людей держали в карантинах. Кончилось дело бунтом, когда обезумевшая толпа забила насмерть архиепископа московского Амвросия. За что? Он в целях гигиены запретил всем подряд прикладываться к иконе на Варварке. А народ лобызал Богородицу и верил, что он принесет исцеление.
Или, скажем, Пугачев. В июне 1774 года императрица уже понимала, что не шайка разбойников хозяйничают в Оренбургском крае, которых с легкостью может уничтожить тысяча верных ей казаков (так она писала Вольтеру), а народная армия, сметающая все на своем пути. О жестокостях Пугачева в Петербурге рассказывали такое, что у обывателей волосы становились дыбом, а в Смольном были как обычно тишь и гладь, о злодее никто и не слыхивал. Понятное дело, реальной жизни не увидишь из-за резной чугунной решетки или с палубы прогулочного ялика.
И надо помнить, что девочек забирали на двенадцать лет при обязательном условии – они не будут общаться с родителями – никаких летних отпусков. Даже краткие свидания с родными были запрещены.
Но вернемся к нашим героям. Варенька Бутурлина отличалась от прочих воспитанниц тем, что не только не хотела, а попросту не могла играть навязанную ей Обществом роль. Жизнь наградила ее естественностью, а если хотите, наивностью. Она не понимала, как черное можно называть серым, а белое называть белым, даже если оно испачкано грязью. Иногда Варенька так себя вела, что просто заводила в тупик бессменную начальницу Смольного госпожу де Лафон, женщину добрейшую. Да и не будь Софья де Лафон, немолодая уже дама, от природы справедливой, она все равно не осмелилась бы исправлять характер девочек грубым нареканием, поскольку устав Общества рекомендовал «относиться к воспитанницам с кротостью, благопристойностью, учтивостью, справедливостью, а также с непритворной веселостью и отсутствием лишней важности в обращении».
А что скажешь маленькой Бутурлиной, которая еще в голубом ходила, вдруг расплакалась в голос и не наедине, а в присутствии подруг, обвинила другую воспитанницу в воровстве.
– Мадемуазель Бутурлина, не говорите таких грубых слов. Что значит – украла? Мадемуазель Рогозина просто взяла у вас на время перо. У вас перо правильно оточено, а она решила красиво оформить пропись.
– Да ваша мадемуазель у меня все крадет. Вчера искала шелковый воскресный пояс – нету! И где нашла? В ее, Веркином, шкапчике. И еще она ногти грызет. Вчера на меня классной даме наябедничала. У… злыдня!
Скандал замяли, более того, испуганная Вера Рогозина перестала покушаться на чужое добро, но зато утром пришпилила к рукаву Бутурлиной чей-то дырявый чулок. Такое наказание придумали классные дамы для воспитанниц, которые не штопали свои чулки. Знай Варенька, что каверзу эту сочинила Рогозина, то опять бы устроила скандал. А здесь ничего не докажешь. Но обиды она не простила и во время уроков танца регулярно наступала Верке на задники башмаков, все пятки обтоптала.
Но и тут умная Софья де Лофен охарактеризовала поступок Бутурлиной как излишнюю веселость и непоседливость, и ограничилась приватным, доброжелательным разговором.
В свободное от классов время воспитанницы развлекались по-своему. Всякие были игры, и прятки, и догонялки, но были и специфические, чисто девчоночьи. Например, очень любили «перечисления», в которых назывались самые красивые и некрасивые воспитанницы. На прогулке или в дортуаре собирались в кучки и выкрикивали в голос: «Глаша Алимова первая по красоте!», «А вот и нет, первая по красоте Катенька Нелидова, она лучше всех делает книксен!» И неизменно Вера Рогозина выкрикивала звонко: «А Варя Бутурлина – первая по уродству!» Дальше начинались споры, кто в классе «на самом» деле первая красавица, кто вторая, кто третья. Красота уже в младших классах ценилась больше, чем прилежание и ум. Под шумок Варя не упускала случая толкнуть Рогозину, та, естественно, отвечала. Потом появлялась «синявка», так девочки звали классных дам, одетых неизменно в синие платья, разнимала дерущихся. И опять Бутурлина виновата, потому что «первая начала».
В Смольном воспитанницы имели четыре возрастных цвета: первый голубой, второй коричневый (девам больше нравилось говорить кофейный), третий серый, и, наконец, четвертый, в котором воспитанницы, словно невесты Христовы, носили белые платья.
В коричневом возрасте (уже одиннадцать лет) мадемуазель Бутурлина опрокинула на классную даму кувшин с водой. Объяснение было простым – «я нечаянно». Как же нечаянно, если кувшин кто-то принес в дортуар и на шкаф поставил, а на самый краешек. Чуть качни, он и перевернется. А шкаф толкнули так ловко, что нелюбимой классной даме облили не только платье, но и сложную прическу, упрятанную в чепец, и насурьмленные брови. Видно, черная краска была дешева и поплыла самым вульгарным образом.
Бутурлина стояла рядом со шкафом и уверяла, что ее толкнули. Иначе она бы никак не ударилась головой о шкаф, «посмотрите какая шишка»! Бедная классная дама не только не имела права дать виновнице затрещину, но даже поднять крик не могла, потому что в присутствии воспитанниц унынье, грусть и уж, конечно, досада и гнев недопустимы. Так и стояла, плача черными слезами.
Училась Варя неважно, но за это не наказывали, а с удивительным, как казалось девочке, занудством допытывались, почему ей не нравятся уроки географии. Она честно отвечала: «Да потому что скучно!» Ей объясняли, что скука пагубное качество, что надо пытаться достигнуть сути предмета, понять, что такое широты и меридианы, и тогда радивость и знания, ровно птицы, сами влетят в голову. Не влетали… Уж кто-кто, а Варя знала, что знания получаются «долбней» – зазубриванием наизусть целых абзацев непроговариваемых терминов. А зачем ей знать, на какой «широте и долготе» она живет? От этого не будешь ни красивее, ни счастливее.
Императрица большое значение придавала самостоятельному чтению книг, поэтому присылала их в Смольный в большом количестве. Девочек учили французскому, немецкому и итальянскому, поэтому перечень авторов был велик. Особым почтением пользовались французские книги философов-просветителей. «Читать и думать о прочитанном» – таков был лозунг Общества. Варя читала и даже с охотой, но думать о прочитанном ей было скучно. И ее можно понять. Четырнадцать лет – какой там Монтескье с его «Энциклопедией»!
В «сером» возрасте Бутурлина была наказана по всей форме «пристыжением» перед классом. В Смольном не было более тяжелой кары. Все произошло на утренней молитве, зимой, в пост. Объясняя свое поведение, Варя потом говорила, что ненавидит эти «грибочки в горшочках», что от них у нее живот болит, а потому она не могла достоять службы до конца.
А случилась вещь обычная. Шесть утра, в соборе так холодно, что нос ледяной и зубы выбивают дробь, свечи горят тускло, монашки, как тени стоят по углам. Ужасно хотелось спать. Все знали, что Верка Рогозина влюблена в попа. В Смольном Обществе все были в кого-нибудь влюблены. Но обычно предметом обожания были старшие смолянки или классные дамы. Больше всего обожали красавиц. Им откровенно прислуживали, сшивали тетрадки, чинили перья, приносили вкусненькое, если удавалось уговорить горничную купить что-нибудь в городской лавке. И все вместе, все до одной воспитанницы, голубые, коричневые и серые, до умиления, до непритворных слез, обожали императрицу.
А Рогозина обожала попа. Все зевали, крестили рот, одна Верка смотрела на священника с восторгом. Кто-то из девочек хихикнул: «Хорошо Рогозиной, она в церковь как на свидание ходит». В любовном и религиозном экстазе Вера не разобралась, кто именно это сказал, но больно, с вывертом ущипнула стоящую рядом девицу за бедро. Надо ли говорить, что это была Бутурлна. Спросонья не соразмерив голос с торжественностью обстановки, Варя крикнула:
– Ты что, белены объелась? Больно ведь! Вот ведь гадюка!
Не успело бранчливое эхо вознестись вверх, как монашки уже волокли негодницу Бутурлину из церкви. На следующий день Варя стояла перед классом и каялась «в нарушение благонравного поведения во время молитвы». Она могла бы объяснить свое поведение и показать синяк, но жаловаться, да еще при этом задирать подол перед классной дамой – никогда!
Конечно, Варя Бутурлина была проказницей, но не более, чем другие. Воспитанницы ее любили, знали, что Бутурлина в нужную минуту придет на помощь, и умеет хранить чужие секреты, и никогда не врет. Правда, последнее качество в детстве почитается всегда сомнительным. Скоро Вареньке Бутурлиной придется врать очень часто, и делать это она будет с легкостью.
И произошло это, когда воспитанниц старших классов обрядили в белые платья. У белых девиц были две главные заботы: выступить хорошо на театре и получить при окончании золотую медаль и шифр – золотой знак с вензелем Екатерины, которые давались за особые успехи в учебе и поведении. На шифр и медаль Варя не рассчитывала, да это особенно ее и не огорчало, а то, что в театре ее задвинули на второстепенные роли, стало для девушки истинной мукой. В пятнадцать лет Варя вдруг располнела. Не скажешь, что она была тучной или рыхлой, полнота ее была здоровой, ядреной. По меркам допетровской Руси она была красавицей. В стародавние времена девы по сто толщиной надевали, чтоб только не обозвали их «худосочными» Если ты плоская, как селедка, то и потомство от тебя пойдет некудышное. Но в XVIII веке были совсем другие каноны красоты. Надобно, чтобы талия была осиная, ножка изящная, стан подвижный и гибкий и интересная бледность в лице. И наплевала бы Варя на свою внешность, если бы ее опять, как раньше, приглашали танцевать в балете. Теперь же ей остались только роли комических старух.
Варя тайно плакала и завидовала Наташе Борщовой. Мордашка простенькая, нос пуговкой, а сколько изящества в жесте. Или Алимушка – обворожительная Глаша Алимова, голос дивный, и на арфе играет, и на клавесине, а в танце легка, как пушинка. Это о них, Борщовой и Алимовой написали «Санкт-Петербургские ведомости», что «в балете девицы белого цвета можно сказать составлены были из Грациев». А Бутурлина теперь не танцует, а если поет, так только в хоре.
Варя решила похудеть. Впрочем, этим была одержима ни она одна. Кормили воспитанниц сытно, но однообразно, поэтому не так уж трудно было отказаться от еды. В Смольном существовала твердая легенда: чтобы похудеть, надо есть глину, мел, особенно хорош толченый грифель. Про грифель Варя не могла думать без содрогания, но мел – куда ни шло. Главное, отказаться полностью от ужина. Хочешь есть – закуси мелом и прочитай молитву.
Мучилась Варя не напрасно. Уже через месяц мадам, глядя на Варю, сказала озабоченно:
– Что ты дохленькая такая? Даже жилки на лбу просвечивают. И румянец пропал? Ты не заболела?
Ура! Румянец и здоровый вид были уничтожены! Но мечтать о шифре все равно бессмысленно. Даже если она приналяжет на учебу и разберется в ненавистной опытной физике, и одолеет геральдику, то все равно не видеть ей главных наград. В чем она действительно преуспела, так это в рисовании и «домашней экономии». Варенька с удовольствием посещала в учебные часы кухню, с толком выбрила нужные продукты для приготовления блюда, а потом готовила быстро, ловко и вкусно. И не какие-нибудь простые блюда, она умела приготовить все четыре подачи: и холодное, и горячее, и жареное, и взвары любые. Но талант этот не оценивали по-должному. Ее похлебку из рябчиков с каштанами классные дамы съели до капельки, а Варе сказали, что барышне самой готовить не пристало, что в задачу воспитанницы Смольного общества входит уметь платить поставщикам, вести запись расходов, смотреть, чтобы в кухне были порядок и чистота, а у плиты должны стоять повара. Словом, опять начальству не угодила.
А сейчас, когда ее талию можно двумя руками обхватить, она домашнюю экономию вообще забросила. Только и осталось одно – рисование. Не в художницы же благородной девице идти?
Жизнь не удалась, это точно. В таком настроении находилась Варя Бутурлина, когда садовник Архип, в обязанности которого входило ухаживать за садом, чистить фонтан и подновлять беседки и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не иметь сношений с воспитанницами, передал ей записку.
Во время вечерней прогулки она спряталась от подруг за куст шиповника и, зажимая рот, чтобы не рассмеяться, следила, как они ищут ее в зарослях у беседки. Рыхливший рядом землю садовник вдруг сунул руку в фартук, вытащил из него конверт и подошел к Варе с заговорщицким видом.
– Что? – пошептала она испуганно.
– Это вам, барышня. За все уплачено. Не извольте беспокоиться. Завтра же в это время передайте мне ответ.
Варя была потрясена. Она получала письма от опекуна. Но письма от него приходили на имя госпожи де Лафон и читать их надлежало в ее присутствии. Девушка хотела разорвать конверт, но подруги уже бежали к ней с криком: «Тебе водить! Теперь ты водишь». Она только и успела, что спрятать бумагу за лиф.
До самой ночи ее не на секунду не оставили одну, и весь вечер ей пришлось ломать голову, вычисляя автора тайного послания. Первой пришла мысль о розовощеком кадете, с которым танцевала менуэт на Рождество. Тогда в старшие классы были приглашены выпускники Сухопутного корпуса. Весело было. Она будет беспристрастна, во всяком случае, постарается, но это же очевидно, кадет Николай, фамилию забыла, явно оказывал ей знаки внимания. Подтверждение этому можно найти и в замечании Рогозиной, которая походя бросила: «У твоего кадета ноги кривые». Верка в простоте ни одного слова не скажет, а замечание ее означает, что она отчаянно завидует Вариному успеху. И вовсе не кривые у него были ноги, Варя потом внимательно посмотрела. С того бала почти полгода прошло. Но если она за пять месяцев не забыла кадета, то очень может быть, что и он помнит о ней.
Был еще один образ, воспоминание о котором волновало Вареньку гораздо сильнее, чем рождественский бал. Два года назад воспитанницам сделали несравненный подарок – разрешили наконец свидание с родителями. К Смольному монастырю потянулись кареты. Варя никого не ждала. В крайнем случае к ней мог явиться кто-нибудь из дальней отцовской родни, но родственники не проявили к ней никакого любопытства, а вместо них приехал опекун с сыном. Зачем старый Бакунин взял с собой красавца сына, было непонятно. Видно, он решил, что обделенной родителями Вареньке будет приятно провести вечер как бы в семейной атмосфере. В четырнадцать лет девочки очень впечатлительны, а Федор Бакунин был поистине великолепен. Во-первых он был, как уже говорилось, красив, и еще как-то не по-русски опрятен, от него великолепно пахло. Да, и еще голос! Варя не представляла, что можно влюбиться в человека за его голос. Но сейчас, став взрослой, а именно таковой она себя почитала, Варя понимала – мечтать о записке от Бакунина смешно и наивно.
Но то, что она узнала по прочтении письма – при огарке свечи, в дортуаре, – превзошло все ее ожидания. Воспоминания о розовощеком кадете и красавчике Бакунине совершенно стушевались, а потом и вовсе исчезли из головы. Сестра, Глория… Глашенька! Варя давно уже считала ее если не погибшей, то потерянной для себя безвозвратно. Попав в Смольный, она вспоминала сестру ежечасно, ежедневно, но время делает свое. «Все проходит», сказал царь Соломон. Воспоминания о счастливой жизни в доме отца рассыпались, превратились из единой картины в блестящие осколки, а образ сестры ушел куда-то за окаем и слился с чужим, непонятным миром.
Варя привыкла к мысли, что она одинока в этом мире, и вдруг родная душа!.. Глафира писала, что любит ее по-прежнему, что сейчас находится в Петербурге и просит о встрече.
Чтобы объяснить, как случилось, что садовник Архип стал почтальоном и вестником счастья, мы должны вернуться несколько назад, в тот день, когда жена каретника Феврония истопила баню и пригласила своего юного постояльца помыться и попариться на русский манер.
– С обеда протопила. Сейчас самый жар. Можете вместе с мужем мыться, он славно веником орудовать выучился. А можете и в одиночестве.
Глафира не посмела отказаться.
– В одиночестве, – проблеяла она чуть испуганно. – Я не люблю, когда очень жарко.
– И хорошо. Бельишко чистое приготовьте и ждите. Я вас позову. Мыло, мочало и прочее можете не покупать. У нас все есть.
Феврония, несмотря на свой скверный характер, недаром Озеров называл ее фурией, оказывала Глафире всяческие знаки внимания. Мало того, что кормила недорого и сытно, так еще имела обыкновение в отсутствии постояльца занести в его комнаты то кувшин с молоком и свежие пирожки на оловянном блюде, то связку баранок с маком повесить на гвоздик. Озеров знал об этом и люто завидовал. Глафира объясняла нелюбовь Февронии к протоколисту тем, он все норовил зажать хозяйку в угол и ущипнуть своими толстенными пальцами за грудь, а юный Шлос был тих, застенчив и за квартиру заплатил вперед за два месяца.
Правда, мнимый Шлос не мог избавиться от ощущения, что хозяйка его в чем-то подозревает. Уж слишком иной раз она внимательно рассматривала юного постояльца. И еще Глафира примечала, что кто-то роется в ее вещах, но поскольку вещей было мало, а женское платье вообще было спрятано в чулане среди дров, то нашу героиню это мало волновало.
В установленный час, часы девять отбили, но было еще светло, хозяйка повела Глафиру в баню, расположенную в дальнем конце сада на берегу малой речки. Банька была маленькая, чистая, летний вечер не убавил в ней жару. Горячая вода в котле, холодная в двух кадках – раздолье!
Глафира сидела на полке, опустив ноги в корыто, блаженно плескала на плечи горячей водой и смотрела на запотевшее треснутое стекло, закрывающее малое оконце. Чья-то тень пробежала по стеклу, потом что-то лязгнуло в предбаннике. Этот звук не насторожил, потому что она твердо помнила, что закрыла дверь на щеколду. Но не успела Глафира додумать мысль о безопасности до конца, как на пороге мыльни появилась Феврония в исподней рубахе. В руках у нее был огромный медный таз с дубовым веником. Глафира пискнула и закрыла грудь руками.
– Тепло у тебя, – сказала хозяйка удовлетворенно. – Да ты не суетись. Я с первого взгляда поняла, что ты девица. Ну, давай мыться, что ли.
Феврония стащила рубаху и прошлепала босыми ногами к котлу. Художника Кустодиева знаете? Его «Красавицу», что находится в нижегородском музее, видели? Тогда вы отлично можете представить Февронью в бане. Правда, красавице следует накинуть пятнадцать лет, появились морщинки у глаз, как говорят, «лапки», но кожа все так же атласна, и бедра округлы, а груди, превратившиеся из яблок в груши не утратили для мужеского пола былой притягательности.
Хозяйка уселась на полку, обширный зад фурии смачно чмокнул. Глафира смутилась только на мгновенье. А чего ей бояться? Ну, догадалась Феврония о ее тайне, что с того? Если той не по нраву маскарад, завтра же съедет со двора. Можно и другую квартиру найти. Поэтому она улыбнулась, расслабилась и опрокинула на голову ковш воды. Будем голову мыть.
– Ну, чадо, рассказывай.
– Что рассказывать?
– Зачем в Петербург приехала? Зачем в мужской костюм обрядилась? По-немецки трещишь как скворец, но ведь ты русская. Угадала я иль нет?
– А это не твоего ума дело, – резко оборвала ее Глафира.
– Не скажешь, в полицейскую часть донесу. Ты ведь по мужскому паспорту живешь. Я видела. А это дело подсудное. Мало ли с какими умыслами ты сюда явилась! Может, со злобными.
– Нет у меня никаких злобных умыслов.
– Догадываюсь, зачем ты здесь. Ты, дева, от родителей сбежала. За дружком. Правильно говоря? Большой вины в этом нет, но если я родителям сообщу, то ты, пожалуй, и не обрадуешься.
– Не обрадуюсь, – согласилась Глафира.
Вода каплями стекала с волос на плечи и живот, и хоть в бане было очень жарко, ее вдруг передернуло, как от озноба.
– Хорошо, я заплачу, – сказала она наконец. – Говори, сколько?
– Да сговоримся, – покладисто бросила Феврония. – Ложись на лавку-то. Похлещу тебя веничком. Пару мало, надо угли вздуть.
Глафира покорно растянулась на теплых досках. Что теперь капризничать? Вениками Феврония работала мастерски. «Вот так и забьет меня эта стерва насмерть, – подумала вдруг девушка. – Не в физическом смысле, в духовном. Забьет и ограбит, все выжмет, выдавит до капли. Бежать надо. Бежать ночью, тайно. Правда, задатка жалко, да и помнить надо, что Альбертов кошелек не бездонный».
Феврония отбросила веник, отерла пот со лба и, размягчившись вдруг сказала участливо:
– Ты лучше расскажи мне, в чем дело-то. Может, я тебе и помогу. Я же вижу, ты одна как перст. И сосед к тебе шляется. Ты с Озеровым компании не води. Он мужчина гнилой и тайный, – она перешла на шепот. – Со странной компанией связан.
Конечно, Глафиру подкупило, что Феврония стала разговаривать с ней участливым тоном. Не похожа она на злодейку, но если бы этот разговор происходил не в бане, то дева наша ни за что не стала откровенничать. А здесь само с языка потекло. И объяснение этому простое. Во-первых, куда ей бежать-то? От себя не убежишь. А во-вторых, и это главное, голый человек совсем не то, что одетый. Когда мы во сне себя голыми видим, то ощущаем полную свою незащищенность. Нянька Татьяна говорила, что во сне мы в потустороннем мире пребываем. Иначе, зачем сон? Голыми мы будем стоять перед ангелами, и перед Господом Богом в Страшный суд предстанем, в чем мать родила, чтобы сказать голую правду.
– Не сбежала я с молодым кавалером, а если и любила кого, то сроку моей любви было три дня. Но помер мой избранник, а я в столицу подалась. Правду искать.
– Это какую же правду?
Феврония меж тем размочила в мисе ржаной хлеб и ловко облепила им волосы Глафире, чтобы привить им мягкость и шелковистость. Потом сама парилась, повторяя время от времени: «ты говори, говори…». Потом прополоскала волосы девушки душистой водой и расчесала частым гребнем, хорошие волосы, но обрезаны кое-как, а Глафира, поеживаясь от ласковых прикосновений, рассказала и про Альберта, и про свой побег, и про Марью Викторовну и ненавистного Баранова. Так, слово за слово, Феврония из нее все и вытянула.
– Единой помошницей мне может быть сестра. Она в Смольном воспитательном обществе живет.
Рука Февронии на мгновение замерла, а с губ готовы были сорваться упредительные слова. В лексиконе двадцатого века они прозвучали бы: «С этого места поподробнее, пожалуйста», но умная женщина промолчала, опять принялась тереть мочалкой плечи, которые слегка поскрипывали из-за полной их чистоты.
– Но я не знаю, как до сестры добраться. Она, конечно, молода, всего шестнадцать лет, но все воспитанницы пребывают под опекой самой государыни. А значит, Варя могла бы мне дать разумный совет и вообще оказать содействие. Но пока я даже не знаю, как сообщить Вареньке о своем приезде.
– Как зовут твою сестру?
– Варвара Бутурлина.
– Вона… фамилия знатная. Встречу с сестрой я тебе устрою. Для начала надо записку написать. Правда, это будет стоить денег.
– Я заплачу, – с готовностью воскликнула Глафира. – Но как вы все это устроите?
– А это тебя не касается. Ты мне вот что скажи. Сестра твоя богатая. Но ты ведь сбоку припеку. Так ведь?
Глафира даже обиделась. Она не с припеку. Она есть законная наследница, поскольку ее удочерили и бумаги оформили по всем правилам. И все те бумаги, включая отцовское завещание, находятся в опекунском совете, а руководит дальнейшей судьбой ее опекун Ипполит Иванович Веселовский, человек крутой и бесчестный, проще говоря, гад подколодный. Но ужо достигнет Глафира совершенства лет и «буде невенчанной», сама вступит в права наследства.
– Когда же будет твое совершеннолетие?
– Опекунский совет постановил, что в двадцать лет. Поскольку я актерская дочь и, может быть, изберу сцену.
– Сейчас-то тебе сколько?
– Девятнадцать. В октябре будет двадцать. Вот так-то!
– Ну вот и ладушки, – решительно подвела итог Феврония. – Пойдем в сенцы. У меня там мята со смородиновым листом заварена, и квас холодный есть.
Непонятно было, когда хозяйка успела закрыть льняной скатеркой грубую столешницу, когда бросила подушки на лавку. Тон ее, доселе вкрадчивый, доверительный, сменился на деловой и серьезный.
– Что стоишь? Бери полотенца, укрывайся, садись, – сказала она, укутывая чресла простыней. – Помогать буду до самого твоего совершеннолетия, но давай с тобой договор заключим по всей форме.
– Договор? – не поняла Глафира.
– Заверять его в конторе не требуется. Главное, чтобы бумага была написана твоей рукой и тобой же подписана. А в бумаге напишешь, что ты мне от своего наследства отстегнешь.
– Что значит – отстегнешь?
– Заплатишь сумму, которую я назову.
– Какую же сумму вы назовете?
– Этого я пока не знаю. Долю дашь.
– Какую еще долю?
– Половины я у тебя не потребую. На это и опекунский совет не пойдет. А пятую часть от наследства – подавай. Я думаю, что это справедливо. Пятая часть от земельных угодий, векселей, бумаг и живых денег.
– А не подавишься? – разозлилась Глафира.
Феврония неожиданно как-то гортанно, хрипло расхохоталась и хлопнула девушку по голой коленке.
– Не подавлюсь. Мне в самый раз. Ты хорошо подумай, прежде чем от моих услуг отказываться. А то ведь донесу.
– Ну и доносите.
Феврония не смутилась.
– А вот это уже глупость. Ты хоть девица и решительная, но без моей помощи тебе никак не обойтись. Ты даже личность свою без меня подтвердить не сможешь. Да и помощницы тебе лучше, чем я, не найти. Я этого города дочь, здесь родилась и взросла, я Петербург как свои пять пальцев знаю. Миром правят богатые, они приказы рассылают, а бумаги-то составляют и пишут люди мелкие. И каждый хочет свою выгоду иметь. Я с тобой хитрить не буду. Мне, чтоб свою долю получить, выгоднее честной быть.
Глафире казалось, что все вещи в комнатенке притихли, ожидая ее решения, и даже квас потерял шипучесть, пена беззвучно растаяла в только что налитой кружке, и фитилек в плошке горит без обычного потрескивания. Загляни сюда сторонний наблюдатель и вслушайся в их разговор, он бы язык проглотил от удивления. Две полуголые тетки затеяли в бане деловой разговор и теперь лениво перепираются, ища свою выгоду. У Февронии глаза рыжие, рысьи, и хоть не подходит она на роль бабы Яги, она эта самая Яга и есть, поскольку сама судьба поставила ее на эту должность. А Глафира не иначе как Иванушка-Шлос, предназначенный в жертвенную печь. Думай, отрок, как живым остаться и беды избежать.
– Так нести письмо сестрице иль нет?
– О моем наследстве мы потом поговорим. А пока я буду платить за доставку отдельную плату.
– Ты на это переписку половину своих денег изведешь, а я прошу у тебя часть от богатства будущего, которое еще, может, будет, а может, и нет.
– А если вы меня обманете?
– А если ты меня обманешь? – обе повернулись дружка к дружке, глядя в глаза.
Глафира первой опустила взгляд.
– Ну, вот и решили, – удовлетворенно произнесла Феврония. – Дай я тебя оботру. Переодевайся в сухое. Завтра с утречка все и напишем. О договоре нашем молчок. Ни полслова никому не сболтни. Ты людям-то не больно верь. Здесь в столице все зубастые, каждый свою выгоду ищет. Моргнуть не успеешь, как оберут тебя о нитки.
Теперь самое время сказать несколько слов о Февронии. Если закрутится сюжет в штопор, то, пожалуй, и не достанет в нашем повествовании для этого рассказа места.
Начнем с имени. Старое поверье утверждает, что данное человеку имя строго определяет судьбу его. Но из каждого правила есть исключение. Девочку назвали Февронией вовсе не в честь героини древности, просто по святцам совпало, но батюшка, возвратившись с Турецкой войны, где славно потрудился под руководством фельдмаршала Миниха, очень был доволен, что дочки, ей уж четыре годка было, дали такое прекрасное имя.
«Повестью о Петре и Февронии Муромских», славном сочинении Ермолая Еразма, зачитывались еще предки наши. Была та дева Феврония тиха, мудра, умела походя творить чудеса и в браке была весьма счастлива. Это батюшка по простоте своей и предрекал четырехлетней дочери.
Но все вышло не так. Девочка с самого детства характер имела решительный, можно даже сказать, крутой. Жизнь матушки рано пресеклась, и отрочество свое Феврония провела в гарнизоне среди васильковых драгунских мундиров, штандартов, завтракала под звук трубы, обедала под барабанный бой. Девушка не имела творить чудеса, не прорастали в одну ночь в дерево воткнутые в землю ветки, не превращались крохи хлеба на ладони ее в ладан, но юная Феврония была отличной хозяйкой. А житейская мудрость ее проявилась не в иносказаниях и загадках, к которым прибегала древняя героиня, дабы не оскорбить людей открытым поучением, а уменьем хоть мытьем, хоть катаньем настоять на своем. Словом, никакой тихости.
Батюшка успел выдать дочь замуж и погиб в пятьдесят шесть лет на Семилетней войне в Германии. Муж Февронии, как и батюшка, был унтер-офицером, но служил не в полевых войсках, а в гарнизонных. Брак был неудачным. Оказалось, что муж человек крутого нрава, на руку невоздержан, а что особенно грустно – пьяница. Пил он не каждодневно, но запоями, и в эти срамные минуты, когда ноги еще держат, а разум отказывает, он и подымал руку не только на жену, но и на дочь, малолетнюю Наталью. Последнего Феврония никак не могла стерпеть и вступала с мужем в драку. А однажды навела на него, косматого дурака, фузею и пообещала спустить курок. Унтер-офицер струсил, поджал хвост, но пить не перестал.