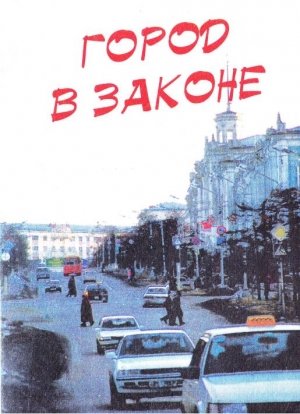
Вступившись за девушку, герой триллера едва не погибает. Следствие заходит в тупик, но когда Федяй вместе с друзьями пытается самостоятельно найти злодея, оказывается, что противостоит им магаданская мафия. И не только. Получается, что в борьбе за справедливость герой сам нарушает нравственные заповеди и едва не становится таким же, как и его враги… Месть не приносит ему радости, но надежда на лучшее остается.
Автор
Глава I
Клянусь говорить все, кроме правды.
Нестерпимый до этого свет бестеневых ламп задрожал и стал удаляться. Стены и потолок, напротив, сблизились и всей своей многотонной тяжестью навалились на меня, медленно ломая и сплющивая кости и мышцы, дикой болью гася разум.
Я умирал.
Еще огонек тлел в сознании, вяло, будто раздумывая, стукало сердце, проталкивая по сосудам остатки крови, но уже лед и холод поднимались по рукам и ногам и тяжкая смертная тоска перед неизбежным охватывала меня.
Уходила кровь — уходила душа.
Но я еще что-то слышал и чувствовал.
— Нет смысла поднимать, — произнес молодой крепкий басок. Наверное, дежурный врач, а поднимать, стало быть, в операционную: она была — я это знал — на втором этаже. — Пульс не прощупывается, давление меньше сорока. Большая кровопотеря…
Я не верил дежурному, потому что он говорил не то, что думал. А думал врач, что для всех них будет лучше, если потерпевший умрет в приемном покое, не приходя в сознание, чем на операционном столе. Слишком малы, мизерны были мои шансы!
Но я то так, черт подери, не думал! Я хотел жить! Последним усилием воли я отталкивался от темноты, забытья, смерти. Я заставлял сердце биться, помогал ему прокачивать эти упрямые артерии и вены, и я заставил свой язык, легкие, гортань и, что там еще в этом участвует, прохрипеть:
— Харитона! Вызовите Харитона!
Это был как пароль. Харитоном звали в больнице главного хирурга только его хорошо знакомые. Мои слова слышали санитарка и сестра. Теперь дежурный не рискнет записать "не приходя в сознание".
Санитарка оживилась, наклонилась над каталкой и я услышал ее голос и почувствовал ее несвежее, смешанное с алкоголем дыхание
— Больной, что твоим передать?
— Похмелись, — прошептал я и угадал, что дежурный улыбнулся. Во всяком случае, след улыбки еще слышался в его распоряжениях…
— Два кубика кордиамина. Внутривенно, а как еще? Поднимайте давление и на стол!
Теперь, когда я добился маленькой победы в этом безнадежном почти сражении за свою жизнь, можно было бы и отдаться спасительному забытью. Но я боялся, что у них опять что-то застопорится. Застряла же "скорая помощь", не доехав до больницы всего квартал, и, как на беду, не оказалось в машине системы переливания.
И я держал себя до того момента, когда маска легла на лицо и участливый женский голос не произнес:
— Держись за мою руку и все будет хорошо! Мы выплывем!
И из последних сил вцепившись в ее ладонь, я поплыл…
Могучая река легко несла меня вниз. Как обрубленные, высились крутые берега. Где-то впереди шумела на порогах вода. Крутые волны захлестывали с головой, я захлебывался, терял дыхание…
— Держись, — слышал я в этот миг и женская ладонь крепче охватывала мою.
А река все несла, а берега ее сужались и вырастали, и вскоре я уже мог разглядеть насколько они разны. Если правый был из какого-то светлого, теплого на восприятие камня и за ним угадывались летний луг и птицы, и цветы, и вольная воля, то от левого дышало мраком и холодом, и странные символы, зверские дебильные физиономии и рожи, что только в кошмаре или с кошмарного похмелья могут привидеться, смутно мелькали на его плоскости. Беда еще заключалась в том, что в то время, как инстинктивно я рвался к правому берегу, отбойная волна сносила меня в противоположную сторону.
Женская рука удерживала меня на стрежне, но был момент, когда я приблизился к левому берегу настолько, что смог разглядеть его и ужаснуться увиденному со всей силой чувств, что во мне еще сохранились. Дьявольская рожа в черной звериной щетине с нечеловеческим обрезом скул и горящими глазами мелькнула вдруг и… странно, кого-то она мне напомнила.
"Маска, я тебя знаю".
А берега все сходились и вскоре стенами нависали с обеих сторон, и было ощущение, что вот-вот они сомкнутся и вверху. Впереди в узком, как каньон, русле ослепительно сверкнула грива водопада.
Держись!
И я было рухнул вниз, в бездонную бесконечную даль. И странно, что уже не пугала ни бесконечность, ни бездонность. Каким-то чувством я понимал, что чем дольше будет продолжаться мое падение, мой полет, тем для меня Лучше. Главное — не отпустить руку!
Врач-анестезиолог Вален тина Ивановна, Валечка, а это она была тогда моим ангелом-спасителем, показала потом мне свою узкую ладошку. Даже через неделю заметны были на ней следы синяков от моих пальцев.
И еще был миг, когда с высоты своего птичьего полета увидел я барахтающегося в реке человека и угадал в нем себя, но угадал как-то отстраненно, без всякого сожаления, без желания вернуться и помочь… Вернуться и помочь!
Хорошо, сладко было лететь, но, видно, еще не закончена была моя земная дорога и я вернулся к себе — в страдания, боль, кровь и грязь…
Через двое суток я очнулся в реанимации.
Было тихо, сумрачно, из соседней комнаты доносились голоса и музыка — телевизор работал. Правая рука моя была крепко привязана к кровати — капельница стояла. Тонкий катетер из-под одеяла бежал вниз и, скосив глаза, я увидел переполненную банку и уловил запах мочи.
— Сестра, — пискнул я.
Вряд ли сестры услышали меня, но сосед продублировал, да еще с дополнениями…
— Больной зовет, шалавы!
Сестра пулей влетела в палату и, поскользнувшись на мокром полу, со всего маху плюхнулась у кровати.
Я неудержимо расхохотался и от резкой боли опять потерял сознание.
— Дурак, разве тебе сейчас можно напрягаться! Ты дышать должен как мышь, как любовник в шкафу! Ты знаешь, сколько швов тебе положили. Только по правому бедру рана глубиной в ладонь, а распахана аж на шестнадцать сантиметров, а на ребре, да и на локтевом сгибе левом — тоже вены сшивали. У тебя же сердце останавливалось, еле с того света вытащили.
Лечащего врача звали Владимир Иванович. А оперировал меня Осипов, а консультировал сам Харитон Гаврилович, пришел все-таки. Хотя мог бы и не прийти — не сердце сшивали — задницу!
Да еще левое подреберье, да руку.
Правда тяжел я был, тяжел…
— Как же это произошло, Валентин Михайлович?
Я так и не понял, сам я у себя спросил или это сказал молодой, с короткой стрижкой парень, деловито примостившийся у моей кровати. Из милиции, как я понял…
…Циклон обрушился на город, как снег на голову, в буквальном и переносном смысле. С утра сверкающее зимней холодной синевой небо затянули вытянутые в полете облака, ветер подул сначала порывами, как бы пробуя свою силу, а потом окреп, загудел в проводах и трубах, и посыпался снег. Часу не прошло, как снеговые заносы перегородили улицы, запорошили дворы. Недавно отшумевший праздник был ли тому виной или синоптики проморгали, но коммунальные службы развернулись только к вечеру. Мощные грейдеры и снегоочистители появились на улицах, пробивая дорогу автобусам и редким в этот день легковым автомобилям.
Мне всегда хорошо спится в снегопад или в дождь. Жена говорит, что это оттого, что я гипотоник. Рабочее давление у меня всего сто десять. И если атмосферное давление снижается, то уменьшается разница между атмосферным и моим собственным. И мы. с природой находим гармонию.
Но и безо всяких давлений по старой морской привычке после обеда люблю расслабиться и немного вздремнуть. Кстати, улыбаться над этой привычкой не стоит. Тут что-то есть, идущее, может быть, еще от наших пращуров. Набив брюхо, наши предки заваливались у костра. Ни охотиться, ни вообще двигаться они не могли, да и не желали в таком состоянии. У многих народов эти привычки переросли в традиции. У итальянцев, например, сиеста. Да и кто из нас не помнит популярную поговорку "После вкусного обеда по закону Архимеда…"
Не был исключением и сегодняшний день. Лениво полистав газеты, я уже прицелился на диван, но тут ко мне подошел семилетний Илья и, озабоченно почесывая затылок, сообщил:
— Щеня пропал!
Надо сказать, что к словам младшего сына я отношусь очень серьезно — говорит он исключительно по делу, когда уже невтерпеж. Лет до четырех он вообще молчал и когда мы забеспокоились и забегали по врачам, оказалось, что свободно владеть языком (тем, что во рту) ему мешала "уздечка". Легкая хирургическая операция все привела в норму, но молчуном он так и остался… Глядя на него, я всегда вспоминаю анекдот, как в одной семье сын молчал до семи лет и родные из-за этого очень, понятное дело, переживали. И вдруг однажды за завтраком он вымолвил — каша несолена. Тут все сначала опешили, а потом зарадовались, закричали и спрашивают: а что ж ты раньше молчал, сынок?
— Раньше солена была, — ответил сын.
Лучше не придумаешь. Нашим бы политикам поучиться. Нет повода для речей — помолчи.
Хотя вряд ли они этот совет одобрят. Ведь тогда надо будет работать…. Нельзя же молчать и ничего не делать, даже не говорить. Не поймут.
— За диваном смотрел?
Сын кивнул.
— Под шкафом?
— Да.
— Ну пойдем на кухню к маме, там поглядим.
Мама мыла посуду и на наши вопросы ответила, что никаких щенков она не видела — на кухне она их не терпит но, может быть, когда Иван со товарищи уходил на тренировку — старший у нас вольной борьбой занимается — выскочил за дверь и теперь бедный где нибудь в подъезде, а то и в подвале скулит. Вон какая пурга разыгрывается.
После этого мне ничего не оставалось, как взять фонарик и, накинув куртку, пойти в подвал.
Подвал у нас не закрывается — отголосок далеких времен, когда и замки на квартиры ставили для проформы. А сейчас все мы в железных дверях и решетках на окнах. Добровольные зэки. Одной бригаде сварщиков ночи хватит, чтобы весь Магадан превратить в тюрьму. По электроду на подъезд.
Я распахнул дверь и позвал: — Роки, Роки…
Ответа не было, но мне послышался шорох и я спустился по ступенькам и пошел вглубь, подсвечивая себе фонариком.
И за первым же поворотом сразу увидел их.
Темная фигура метнулась мимо меня и, как крыса, моментально скрылась в темноте подвала. Второй вскочил на ноги и отшатнулся к стене. Бледный луч фонаря — батарейки уже садились — выхватил маленькую, совсем еще девчонка, фигурку, сжавшуюся в углу. Я заметил, что куртка на ней была распахнута, а юбка задралась до пояса, обнажая низ живота и белые бедра. Она всхлипывала и, судорожно икая, пыталась что-то сказать…
— Они… Они…
Все стало до омерзения ясно и когда парень у стенки кинулся на меня, я крепко приложил его фонарем. Удар пришелся ему прямо в переносицу и он рухнул мне на руки, но еще пытался барахтаться.
Левой рукой я обхватил его шею так, что он захрипел, и бросил девчонке:
— Одевайся, я милицию вызову.
Парня я потащил за собой. Он был, наверное, не старше своей жертвы, так что особых хлопот мне не доставил.
Только орал так, как будто это не он, а его пытались изнасиловать.
Телефон в нашем подъезде на первом этаже был только у Нины и когда я звонил ей, одной рукой придерживая злодея, услышал как хлопнула входная дверь. И тут же острая боль пронзила мою спину.
Я развернулся и свободной рукой успел отбить второй удар, но не до конца. Нож ударил мне в локоть и, скользнув вниз, резанул по левому боку.
Левая рука повисла сразу как плеть и я почувствовал как густо, потоком пошла из меня кровь.
Я еще успел осветить фонарем лицо нападавшего и сказать:
— Что же ты наделал, сволочь!
Дальнейшее урывками. Я лежу в прихожей, надо мной две пары милицейских сапог.
— Куда побежали? Как выглядят?
Прямо в лицо мне жарко дышала овчарка.
— …Да, — вздохнул опер, — не густо. Собака след потеряла у остановки, такой снегопад, на мой взгляд, они там машину поймали. Ну, а описать вы их сможете?
— Того, которого я пытался задержать, смогу. Совсем пацан — лет шестнадцать, от силы семнадцать, лицо девчоночье, китайский пуховик песочного цвета, шапка норковая… Все, вроде.
— А особых примет никаких… Ну там усы, брови?
— Да, кажется, родинка была… только не помню — справа или слева от носа, прямо посредине щеки.
— Ну, это уже что-то.
— А девчонка?
— Девчонка? — переспросил я, — а разве она…
— Разве! — Веско ответил опер и я вдруг понял, что устал и потерял интерес к разговору. И подошедшая сестра, почувствовав мое состояние, заторопила собеседника.
— Все, больному надо на перевязку, успеете еще, наговоритесь.
После перевязки меня перевезли в палату. Тихая светлая комната на четыре койки. Две из них не заняты и мне предложили на выбор — у окна или у двери. Конечно, у окна. Медсестра и ходячий больной осторожно перевалили меня с каталки на кровать. Мы познакомились — Сергей тянул срочную в погранцах и здесь добивал последние дни до дембеля — рана у него была не из серьезных, чирей на руке вскрывали. Вторым моим соседом оказался дедок с трассы — из Усть-Омчуга — он еще дожидался операции.
Здесь, в палате правила были помягче, к лежачим разрешались посещения и, конечно, одной из первых прорвалась ко мне жена. Как она вошла, я нс слышал, дремал наверное. Но надо сказать, что Люда все в жизни делает без излишнего шума и спецэффектов. Мы познакомились с ней двадцать лет назад еще в Брусовом, тогда она двадцатипятилетняя девушка была ни много ни мало главврачом сельской больницы. И как главврачу, несмотря на то, что специальность у нее стоматолог, приходилось ей и роды принимать, и раны зашивать. Больница была на шестьдесят мест и почти всегда они были заняты. А коллектив — почти тридцать человек и попробуй со всем управиться.
Но управлялась, за что ее даже орденом "Знак Почета " наградили и прочили повышение в районную больницу, да вот я вмешался, на Север увез. В Магадане она работала в городской стоматологии, но от времен своего главврачества сохранила и властные интонации, и способность принимать четкие решения. Правда, сейчас проявлялись эти качества больше на ниве семейной — ребят она держала в ежовых рукавицах и у нас с ней из-за этого частенько возникали разногласия.
А сейчас она сидела в ногах тихая заплаканная, я впервые увидел ее такой и острая жалость подступила к самому сердцу.
— Ну что ты, все обошлось…
Я взял ее за руку и так держал все время, пока она рассказывала о домашних делах, как учатся ребята и что Иван — ему уже исполнилось пятнадцать — с друзьями ходит по квартирам и расспрашивает не видел ли кто чего в тот день. Шерлок Холмс нашелся…
— Скажи ему, что я запретил. А лучше возьми ребят в следующий раз с собой, чтобы они успокоились, ладно. И передай им, что все у меня хорошо.
— Хорошо-то хорошо, — вздохнула жена, — Крови ты много потерял, теперь набирай свои лейкоциты.
И уже у самой двери, уходя, сообщила: — А Роки под батареей спал, пригрелся, видно.
Прозвучало это так, что, мол, незачем было мне шляться по подвалам и ввязываться в разные истории.
Но я к этому уже привык и, все равно ввязываюсь.
Потом лечащий врач мне сказал:
— А вообще первой спасла тебя она — как смогла, остановила кровотечение, где жгутами, где тампонами, Иначе тебя бы, просто не довезли и до больницы.
Под вечер пришла Лариса, увидев меня, всплеснула руками и затараторила:
— Ой, какой ты бледный. Бедный мой, как же это тебя угораздило. Сволочи — надо же чуть не зарезали, что творится, на нашей улице таксиста вчера убили. Они перед этим магазин элаевский ограбили, а потом схватили машину, а мужика из обреза грохнули и у новоапостольской церкви выкинули, а самих их взяли уже на Соколе. Мужика жалко — случайно он попал, потаксовать после дежурства хотел, а сам пожарник…
Рассказывая, она навела порядок в тумбочке, разложила там все по-своему и уселась в ногах, как час назад моя жена. Мне это почему-то не понравилось.
— Пересядь, — и она послушно пересела на стул.
Непростые однако у меня с этими двумя женщинами отношения. Если я все пытаюсь понять свою жену, как-то облегчить и украсить нашу жизнь, то мои знаки внимания наталкиваются чаще всего на холодное… "Ну и к чему все это".
И у меня опускаются руки
С Ларисой же всё легко и просто. До того легко, что и не замечается — есть она рядом или нет. Но если по-настоящему, то я просто жалею ее, иду на поводу. Или нет — вру? Как женщина она мне очень и очень симпатична — этакая пышная блондинка с двумя волейбольными мячами под кофточкой.
Смешно, но мы с ней на волейболе в спортзале и познакомились. Знакомый привел, а я ее сразу и заметил, проводил после игры домой раз, другой. Она с маленьким сынишкой живет, муж сбежал на материк. А дальше все как обычно — мужчина и женщина и у каждого есть чем друг с другом поделиться, особенно, если это невостребованно…
— Да, — вдруг сделала страшные глаза Лариса. — Ты знаешь — тебя же похоронили!
— Ты чего мелешь, — опешил я. — Как это… похоронили?
— А вот читай! — Она сунула мне в руки газету, одно из тех коммерческо-политических изданий, что расплодились сегодня в Магадане: две странички и один раз в неделю, зато своя реклама, свой амбиоз. Либералы, демократы, борцы за права человека… Чем они яростнее борятся, тем хуже мы живем. Раньше вот вроде борьбы не было, да людей среди бела дня не убивали и с голоду в обмороки дети не падали и страна, была как страна: кто работал или пенсию получал мог о завтрашнем дне не беспокоиться…
На самой последней страничке я прочитал курсивом набранный и в черной рамке текст…
"Редакция сообщает о трагической смерти директора книжного издательства имярек и приносит соболезнование семье и близким".
Как бывший газетчик я. понимал, как это произошло. Они что-то узнали, а газета уже подписывалась в номер, позвонили в справочное больницы, им ответили невразумительно и редактор решил вставить фитиля коллегам. В старое время поостерегся бы, за такое с работы полетел бы как птичка, а сейчас всем все до фени и никто ни за что не отвечает. Ни за клевету, ни тем более за ошибки.
— Ну что ж, — я попытался улыбнуться, хотя ничего веселого во всем этом не было, — Значит, жить мне до ста лет.
На том мы и расстались — подошло опять время подставляться под уколы.
Опер приходил еще раз, приносил альбом со снимками разных преступников, но я среди них своего не нашел. Тогда он предложил мне.
— А попробуйте нарисовать… ведь что-то вы видели.
— Я попробовал. Убил два часа и с десяток листов бумаги, рисую я вроде неплохо, но тут у меня ничего не выходило. Так я и сказал оперативнику,
Он внимательно просмотрел мои наброски и вдруг заметил:
— А вот это лицо почему-то везде повторяется.
Я взглянул на рисунки — это была та самая страшная рожа из моего кошмара в операционной. Я ничего не смог сразу ответить, но должно быть вид у меня был достаточно красноречив…
— Ну ладно, на сегодня хватит.
И ушел, унося мои листки.
За первой операцией последовала вторая, за второй — третья… Сшивали сухожилия, нервы. На каждой последующей операции устраняли ошибки предыдущей. Я потерял счет уколам, процедурам, а таблеток, наверное, съел тонну. Но вот наступил момент, когда я почувствовал, что медленно, но уверенно поправляюсь. В этот день я проснулся и заметил игру солнечных лучей на свежевымытом полу, услышал как хрустит накрахмаленный халат у процедурной сестры, и как волнующе мягок ее голос… я почувствовал жизнь и неодолимую тягу к ней.
Прошло больничных полгода.
И вот однажды я, придерживаясь за стенку, сам добрел до туалета и в этот же день стал торопить врача с выпиской. Конечно, он только посмеялся надо мной, но все-таки швы мне сняли пораньше и уже через две недели я оказался в родном доме, в нормальной прежней жизни.
Но это мне только так казалось, что в прежней…
ГЛАВА II
Дайте вино огорченному душой.
Притчи Соломона
Я не могу сказать, что меня здесь не ждали — наоборот. Но не ждали так рано, поэтому когда машина подвезла меня к подъезду и с помощью водителя я поднялся к себе и позвонил, дома оказался один Илюха. Он долго, как бы не веря глазам, смотрел на меня, а потом уткнулся лицом в колени и заплакал, повторяя сквозь всхлипывания:
— Папка мой… пап…
Я был так растроган, что чуть сам не заревел. Это мой- то железокаменный упрямец, который не плакал даже, когда без наркоза ему сшивали разорванное собакой ухо, когда его наказывали или когда он терпел фиаско в безнадежном поединке с Иваном. Слезинки не проронит, а тут, вишь, как по отцу соскучился. Да только ради этого сыновнего признания стоило все пережить!
Я был еще слаб, голова кружилась и пришлось лечь на тот самый диван, на который я прицеливался в то злополучное воскресенье. Но уже через несколько минут я пододвинул к себе телефон и позвонил в издательство.
— Ты откуда, Михалыч, — заорал Дунаев, мой новый заместитель. — О, уже из дома. А не рано ли? Да нет, знаю я эти больницы, нечего там валяться — дома и стены лечат. А зайти к тебе можно — тут новостей столько накопилось, еле выгребаю.
Мы договорились встретиться завтра и тут подошла жена. Я ожидал, что она сделает мне нахлобучку за то, что удрал из больницы, но она, напротив, обрадовалась…
— Ну и нечего. На перевязки в поликлинику шофер отвезет, а уколы я и сама смогу. Да и Илюха с тобой посидит дома — в садике карантин.
Но глядя как я, волоча ногу, пробираюсь по комнате, покачала головой.
— А может, все-таки на операцию в нейрохирургии согласиться… Горячкин же предлагал, хирург он замечательный.
Это продолжался наш старый еще больничный спор. После консультации с нейрохирургом встал вопрос о новой операции — я категорически отказался по причине, в которой сам себе не хотел признаться: я просто боялся.
Наверное, я сумел бы потом преодолеть себя, но неожиданно на мою сторону встал Харитон Гаврилович. Покашливая в свои платиновые усы, он сказал буквально следующее:
— Пока не советую. Хотя операция сама по себе опасности не представляет — хуже не будет. Но тут вот какая деталь — мы этому молодому человеку всю кровь фактически перелили, самую разную, что под рукой оказалась, тут не до чистоты было, жизнь спасали. Это ли повлияло, еще что — только мы его из наркоза больше суток вывести не могли. Экспериментировать не стоит, вот время пройдет, картина станет ясной, да и силенок Валентину Михайловичу поднабраться не мешает. А там посмотрим.
На том и порешили.
— Заживет как на собаке, — отмахнулся я. Жив, и это главное…
Иван мое решение тоже одобрил.
— Наш тренер говорит, что человек силой воли может с собой что угодно сделать, — заявил он. — А у папки ее хватит, да?
Возражать было нечем и я силой воли стал делать из себя нормального человека. Дело это заключалось в ежедневных занятиях, массаже и аккуратном поглощении уймы лекарств…
На другой день, дожидаясь приезда Дунаева, опираясь на массивную трость, подаренную мне женой, я вышел во двор. Мороз стоял градусов под тридцать, северный ветерок обжигал лицо и редкие прохожие пробегали, как на соревнованиях. Я постоял немного, пережидая головокружение — так подействовал на меня свежий воздух — и медленно побрел в сторону детского садика, надо было повидать человека.
Устиныч был на месте. Обернувшись на скрип открываемой двери, он едва кружку с кипятком не выронил, но успел поставить ее на верстак и всплеснул руками.
— Батенька мой! Что я вижу… жив-здоров и на ногах.
— Ну, насчет на ногах ты, предположим, угадал процентов только на семьдесят, Устиныч. А в остальном ты прав — слухи о моей смерти сильно преувеличены…
Мы рассмеялись и пожали друг другу руки. Хозяин достал вторую чашку, тщательно сполоснул ее, вылил свой чай в банку и в руках у него оказался заветный штоф.
— Ради такого случая, можно и по одной.
Мы выпили "устиновки", как называл ее дед. Ни до ни после ничего подобного пить мне не приходилось. Чище и крепче водки, это безусловно: бражку, начальный продукт, Устиныч делал из пророщенной пшеницы, затем несколько раз перегонял, очищал различными присадками, потом в темноте настаивал на одному ему известных травах…
"Установка" пахла летней степью и пьянила меня как летняя степь… Много раз я пытался выведать секрет ее, но творец был непреклонен.
— Чабрец… донник… полынь
— Всего понемножку, — уклонялся Устиныч. — Вы, батенька мой, как и все современные люди, любите, чтобы все было ясно и просто. Тайна вас раздражает, вам неуютно и боязно с ней, потому что она непредсказуема, она неуправляема, она беременна будущим, что скрыто от смертного. Вы забываете, что и сама жизнь есть тайна величайшая…
— Тайна, — хмыкнул я. — Ножом пырнул в спину катсой- то наркоман или алкаш, вот и вся тайна.
Похоже, я чуть захмелел. Или слаб еще?
— Что у нас в городе, Устиныч? Белые или красные? А то за этой поножовщиной я совсем от жизни отстал.
Вопрос я задал серьезно и отвечал мне Устиныч тоже серьезно. Жена прозвала его моим тайным советником.
И надо сказать, что она не намного ошибалась. По уму, начитанности, умению делать неожиданные и точные выводы из совершенно не связанных между собой фактов, детсадовский сторож далеко превосходил многих знакомых мне (по телевидению, конечно) политиков и аналитиков. Дед размышлял и выдавал информацию не службы ради, не в русле политических химер, а так как он думал — очищенной, не хуже "устиновки" от всех посторонних примесей.
— Значит так… Мафия добилась власти, протащила своего человека на пост губернатора и теперь начинает требовать от него отработки потраченных средств и сил.
— Ну, скажешь, мафия… Сидор крепкий хозяйственник, в Москве на виду был, что ему, не хватало — уголовщиной пачкаться.
— Да при чем тут уголовщина! Ныне это называется правильно распорядиться возможностями и силами. Создать мощный блок, укрепить власть… взять регион в свои руки. А руки у него — ого-го. И не только руки. Первое, что он сделал в своем кабинете — кресло заменил. Под заказ ему изготовили — вдвое шире обычного. И кстати, что делает ему честь — от охраны отказался. Правда, кобель у него — не чета твоему, не в обиду будь сказано, но ведь кобеля каждый может завести.
— И все-таки… что он из белокаменной в провинцию?
— Тут дело такое — в Москве на виду, в Магадане — царь! Есть разница?
— И с чего, как ты полагаешь, они начнут?
— Не начнут — продолжат. Губернаторы приходят и уходят, а теневой бизнес остается. Тактика проста — своих людей на все ключевые посты, потом прибрать к рукам все доходные отрасли — рыбу, золото, спиртное, горючее. Рыб- пром разрушат, а его суда по частным фирмам разбросают… да, кстати, что плавбаза " Комсомолец Магадана" сгорела — это вам, батенька мой, ни о чем не говорит. Или верите в байку о сумасшедшем матросе. Ну, а с золотом и того проще — сейчас свою аффинажку построят и заставят всех туда — и артели, и гоки — шлих сдавать. А не сдашь — лицензии лишат. Власть!
— Ладно, Устиныч, картину ты нарисовал мрачную. Но не верю, что до этого докатимся. Ну какой смысл в том, чтобы все разрушить, кому от этого будет лучше.
— Кому-то будет, — задумчиво произнес сторож.
— Что на нашем рынке? — Имелись в виду книги. — Я что- то почитывал, но за новинками, сам понимаешь, следить не мог.
— "Книжное обозрение" в числе победителей по тиражу называет Доренко, Воронина. Но, на мой взгляд, это больше успех рекламы и денег, чем таланта. Уровень ниже среднего — убил, трахнул, изнасиловал, застрелил. Русским языком — стилем каким-то даже не пахнет. Бабочка-однодневка.
Много шума о книге "Новая Россия в постели". Я специально ходил в библиотеку, прочитал. На уровне журнального очерка. Судьбы проституток… альковные сцены и тут же публицистический пафос. Книга не коммерческая, это уже не тот Тополь.
Хорош питерский опер — Кивинов, чем-то напоминает раннего Корецкого. Только Корецкий уже на излете — повторяется, — а этот наоборот, еще и форсаж не включил. Так что можно взять на заметку.
— Что у него вышло?
— "Танцы на льду", "Кошмар на улице Стачек", да я что тебе — компьютер. Фамилию запиши — Кивинов… А вооб- ще-то, я не в первый раз тебе говорю — ставку делать на ту литературу, без которой народу не обойтись — учебники, справочники и так далее.
— Магаданские писатели где-то засветились?
— Во, это я тебе на закуску. Новосибирск издал книгу "Менты" Горбаня, майора милиции из нашего ОМОНа. Читал взахлеб — что значат свежий глаз и хорошее перо. И ясно — профессиональное знание дела. Что же вы-то прошляпили?
— Знаю я этого майора. Приходил. Денег у нас не нашлось на тот момент.
— Ну вот, — злорадно сказал дед, — теперь ищите деньги покупать его книги, если на рукопись не нашлось. А остальные писатели бедствуют в поисках спонсоров и пьянствуют. Повезло только пока Ледовскому — выпустил в нашей типографии вторую свою книгу "Луна удлиняет тени". Книга интересная, на материале Чукотки. Хороший язык… но мягкая обложка, серый вид.
— Баринов ничего не издал?
— Молчит наш Александр Михайлович. Новый роман пишет, должно быть.
Александр Михайлович Баринов — мэтр и прижизненный классик нашей магаданской литературы. У меня к нему отношение особое. Двадцать лет назад мой первый рассказ попал в альманах "На Севере Дальнем", который он редактировал. На ответ я особенно не надеялся, но вдруг в очередном номере рассказ был опубликован.
Для меня это было полной неожиданностью, как и то, что меня приглашали на семинар молодых авторов, но тогдашний редактор нашей районки Дудко, что бы не терять активное перо, приглашение это от меня утаил.
Просто спрятал.
Мне вообще в этом плане не везло… Через семь лет моя рукопись победила в конкурсе молодых авторов России, что тогда автоматически означало книгу в центральном издательстве. Для этого всего надо было вылететь в Москву и участвовать в какой-то писательской конференции. Но Ман- журин, редактор Магаданки тоже не отпустил меня, так же мотивируя свой отказ производственной необходимостью.
На мою судьбу им обоим было глубоко наплевать. И если бы не Александр Михайлович, который искренне интересовался моими трудами, помогал публиковаться и готовить первую книжку и сам к ней написал предисловие — которое, я считаю, еще не заслужил — я, наверное, забросил бы писательство. Жизнь журналистская, ее вечная суета и хлопоты засасывали и сил на что-то свое почти не оставалось.
К тому времени у самого Баринова были опубликованы десятки книг и я только удивляюсь, почему они не обогатили его, не вознесли на писательский олимп страны. Единственное объяснение этому — он писал не то, что в данный момент требовалось, а то, что ему хотелось.
А таких у нас не любят.
Вдобавок, Баринов — столичная интеллигенция — был умен и ум свой не скрывал.
Это тоже у нас не любят.
И не терпел мэтр, когда лезут в душу или пытаются командовать. А оружие против подобных покушений у него было одно — высокомерие.
И эта черта не прибавляла ему любви власть имущих.
…Мы выпили с Устинычем еще по одной и я заковылял к дому — должен был уже подъехать Дунаев.
Моему заму под сорок, но по его виду никогда возраста его не угадаешь. Крепкий, плотный как гриб-боровичок, а щербатинка на передних зубах придавала ему совсем мальчишеский вид. И энергии у него на троих. Осторожно обняв меня, промолвил:
— Мы все очень переживали. И гордились.
— Чем? Что под нож полез…
— Именно этим… что полез!
— Ладно, выкладывай новости. А то мне без привычки на свежем воздухе уже не по себе.
— В основном все в порядке. Пришли контейнера из Новосибирска, завтра отправляем их обратно. Отсылаем им Куваева, Мифтахутдинова, "Леди", "Крутой маршрут" и детскую литературу.
Потом Дунаев подал мне глянцевый в ярко-красной бумвиниловой обложке томик.
— Сигнальный экземпляр. Думаю, он вас обрадует, "Сын Сатаны".
— Ну да… — проворчал я, чтобы скрыть приятное удивление, — а… рисунок. У нас же на обложке церквушка должна быть, а не эта страхолюдина. Действительно, сын Сатаны.
— Ну, это вы уж с редактором разбирайтесь. И с художником.
— Разберусь. С зарплатой как?
— Вчера отдали за октябрь. Сейчас сибирские книги раскидаем — авансируем ноябрь. Но на два месяца, как и было, отстаем — неплательщиков много. Та же администрация на наши письма даже не отвечает, а за нею почти триста тысяч — полугодовой фонд зарплаты. Магазины тоже расплачиваются со скрипом — выбивать приходится. Оправдываются, плохая выручка. Так что, все ждем вас. Пора уже и повоевать.
ГЛАВА III
Друзьям своим, безвременно ушедшим,
Успевшим много — больше не успевшим.
Кого во снах я трепетно зову —
Вы умерли, а я еще живу…
При Дунаеве я своих чувств не показал, но, когда остался один, долго листал книгу и грустные тревожащие воспоминания теснились в голове. Этой книжке был бы рад
Володя Паршин, бывший главный редактор, по большому счету, будущий директор издательства. Это была его идея — поселить под одной крышей два добротных романа, где мистика и детектив и хорошая философия несомненно привлекли бы к себе внимание взыскательного читателя. Но день, когда он подписал документы на издание "Сына Сатаны", стал для него трагическим…
Тогда я работал в "Петите" — малом издательском предприятии. Дела у меня шли неплохо, мы издавали не только книги, но и фотообои, дававшие солидную выручку, не гнушались рекламными кампаниями, причем составление текстов и программ в основном брали на себя, выручая таким образом своих многочисленных клиентов, знавших, что им хотелось, но не умевшим как… Одному кандидату в районную думу мы вложили такие глобальные проблемы в его программу, как всемирное разоружение, борьба с наркомафией и защита озонового слоя над Антарктидой. И к нашему громадному изумлению он прошел на ура — масштабы народ наш уважает и масштабные личности тоже.
После работы я зашел в Союз писателей. По крутой деревянной лестнице, с которой в разные времена и с разной периодичностью скатывались известные и малоизвестные труженики пера, поднялся к Толе Шмелеву. Окутанный сигаретным дымом, Толя сидел За громадным деревянным столом, оставшимся еще со времен Дальстроя. Ошую его возвышалась на шесте деревянная скульптура северной совы, с иронической мудростью глядевшей на стенку с портретами магаданских писателей. Тех, кто помоложе или не так давно умер, я знал достаточно хорошо. С особым чувством всматривался я в лица Владилена Леонтьева и Альберта Мифтахутдинова. Леонтьев был моим учителем, прекрасным человеком и еще до конца не оцененным ученым- этнографом. Писательство составляло для него только часть — и, наверное, не самую главную его жизни. И можно было только предполагать, чтобы он выдал, какие книги, займись ими он в полную силу…
Открытым и грустным взглядом смотрел на меня с портрета Альберт Валеевич. Он умер, едва перевалив пятидесятилетний рубеж. Мне нравились его книги, его герои, добрые, веселые, бесхитростные души. Последнее время мы жили на одной улице и так как оба любили шахматы, нередко встречались, чаще всего у меня. Когда Люда перый раз увидела его, она сказала мне потом:
— А ты знаешь, похоже, у него больное сердце.
Она угадала. Хотя в болячках своих Мифта, как называли его друзья, не признавался никогда. Но те, кто внимательно перечитает его рассказы, найдет в них и эту боль сердца.
Умер Альберт Валеевич в Москве, на квартире у сына, которого в тот день, к несчастью, не оказалось рядом… никого не оказалось, и я с ужасом представляю его последние минуты.
В Магадан прислали урну с его прахом.
Услышав мои шаги, секретарь писательской организации Анатолий Шмелев поднял голову и улыбнулся:
— А, бизнесмен! Привет-привет!
У него было хорошее настроение, у меня тоже и мы решили его еще улучшить, тем более что впереди маячили выходные дни.
А тут подоспел и Володя Паршин. Дорога его из издательства домой лежала мимо ДК "Строитель" и он частенько забегал на огонек. Это почти в буквальном смысле. Вечером ярко освещенные окна угловой писательской комнаты были видны от магазина "Цветы", а когда сгорел двухэтажный флигель пожарников, то и с более дальнего расстояния.
И Шмелев, и Паршин были яростными спорщиками. Паршин нервный, горячий, не стеснялся в выражениях, а более рассудительный и хладнокровный Шмелев, похоже, нарочно заводил его. Причиной спора мог быть любой предмет, от моды на женское белье до эстетики Ренессанса, но все-таки чаще всего ею служили дела издательские. Шмелев, и во многом справедливо, критиковал издательство, не стесняясь в выражениях…
— Да вы там трутни. Собрались двадцать пять человек, сидите, ни хрена не делаете, наши книги не печатаете, а всякую галиматью, вроде особенностей социалистического соревнования на Северо-Востоке, издаете.
Обычно поначалу Паршин отбивался вяло, но завести его было нетрудно и уже после первых рюмок спор переходил на крик… Но в этот раз…
— Да чтоб ты сдох! — не найдя видно других аргументов, выдал Он Шмелеву.
— Володь, ну ты чего, — пытался я его урезонить. — Нехорошо же так — смерти желать.
— Ничего, он понарошку, — успокоил меня Анатолий, но выпив еще рюмку, я заспешил домой. Надоели! Еще не хватало мне в их разборки встревать.
Ранним утром меня разбудил телефонный звонок. Звонил Анатолий.
— Вы что, еще гужуете! — изумился я.
— Да, гужуем, — ответил он и твердо заявил: — И ты нам в этом поможешь.
Помочь в такой ситуации — дело святое, по себе знаю. Взял такси и отвез им пару пузырей.
Утром в понедельник, пробегая мимо "Строителя", я вспомнил, что оставил на столе у Шмелева нужную мне бумагу, кажется, письмо в архитектуру о выделении писательской организации участка в районе Кедрового ключа под базу отдыха — была тогда у Анатолия такая задумка и он просил меня помочь.
Я подошел к вахтерше за ключом, но она мне сказала, что ключи на выходные писатели не сдавали и там кто-то есть.
Недоумевая и одновременно изумляясь — неужели еще пьют — я поднялся наверх.
…Паршин сидел на полу, спиной опираясь на диван, и молча смотрел на меня.
— Что с тобой, Володя? — но он ничего не ответил и только по его страдающим трезвым глазам я понял, что дело неладно.
Я позвонил другу, врачу "Скорой помощи" Виталию Приходько, коротко растолковал ему ситуацию. Тот посоветовал:
— Попробуй согнуть ему правую руку или ногу.
Я попробовал — ничего не получалось.
— Срочно вызывай "скорую", похоже, инсульт.
И больше того прежнего Володю, поэта и спорщика и в целом хорошего человека, я не увидел. Инсульт оказался очень тяжелым, каким-то каскадным и обширным, то есть, как я понял, приступы шли волнами и будь возле него кто- то, помощь могла бы прийти своевременно.
Как тут не вспомнить горькую поговорку "Каждый погибает в одиночку". Его жена Ольга, хрупкая миловидная женщина, которую он любил и боготворил, даже работать не разрешал, что по нашим меркам было непривычным, четыре тяжелых года боролась за него, пыталась выходить, восстановить речь, движения, но болезнь прогрессировала и осложнилась на последнем году раком горла… так что умер он в страшных муках.
От стихов его в памяти у меня осталась одна строчка… "Этот странный шестигранный Магадан". Почему шестигранный? Может быть, потому что металлические плитки, которыми был покрыт тротуар по улице Ленина, как раз и представляли собой шестигранники…
Или потому, что с материка подходили к городу три дороги — Колымская, Ольская и Арманская трассы, а с моря драгоценными оправами замыкали его три бухты — Гертне- ра, Светлая и Нагаевская.
А в принципе, это не так уж и мало — одна строчка. У меня одна, у второго одна-две, так и живут его стихи в нашей памяти и живет с ними он. Вот Анатолий — по классу куда вроде бы значительней, хотя для поэзии всякие классы и авторитеты вещь достаточно скользкая. Пишет он просто прекрасно — и мысль, и чувство, и юмор. Как он сам выражается, мастер может все… А поди ж ты — ни одной строчки его прекрасных стихов я не помню…
…Я пролистал книгу. Хорошая бумага, печать, если бы не этот рисунок. Чем дольше я смотрел на обложку, тем больше охватывало меня странное беспокойное чувство. Есть, наверное, вещи в мире, на которые нельзя смотреть подолгу и нельзя смотреть совсем. Душа не принимает, а ведь как раз-то глаза — зеркало души.
И еще я упорно отмахивался от мысли, что и этот рисунок напоминает мне лицо моего злодея, мои кошмары. Это уже становилось похожим на манию.
Время уже давно перевалило за полночь, все в доме спали, но меня даже снотворное не брало. Я подошел к окну и вгляделся в контуры ночного города.
Мой дом, "хрущевка", был построен еще в начале семидесятых по старому проекту и в угловых комнатах было по два окна. Потом строители спохватились и серии такой больше не повторяли, ну, а мне моя квартира этим самым наличием двух окон очень нравилась еще и потому, что выходили они на южную сторону. Летом было светло и тепло, а зимой все зависело от того как топили и какой силы были морозы.
Сейчас за окнами, несмотря на март, трещал тридцатиградусный мороз, батареи еле-еле дышали, крыши и стены окружающих домов парили, через вентиляционные системы, разбитые двери, незаделанные окна, отдавая наружу остатки тепла.
В доме напротив кое-где светились окна и у меня возникло ощущение, что в одном из них кто-то смотрит в мою сторону. Я открыл ящик письменного стола и взял мощный морской бинокль — его вместе с ракетницей подарили мне, когда я уходил с моря.
Я поднес бинокль к глазам, и навел резкость. И в тот момент, когда лицо смотревшего из окна человека приблизилось на расстояние вытянутой руки, он медленно повернулся и пошел в глубину комнаты.
Я лег в постель и встревоженная моим отсутствием жена спросонья потянулась ко мне. Теплые ласковые руки обняли мою шею и запах родного тела окутал меня как вуаль…
— Ты хочешь? — шепнула она.
Я промолчал. Я совершенно ничего не чувствовал.
ГЛАВА IV
Вот место суда, а там беззаконие.
Эклесиаст
Происшедшее ночью расстроило меня больше, чем я ожидал. А ведь Харитон, напутствуя меня перед уходом из больницы, все предвидел и обо всем целую лекцию прочитал.
— Не хочу пугать вас, но предупредить обязан — чтобы потом не испугаться еще больше. Последствия такого шока могут быть самыми разнообразными… и страх, и нечто похожее на манию преследования. Потребуется длительное время на реабилитацию. Это со стороны психической. Долго будет беспокоить и нога. И как мужчина первое время вы будете испытывать дискомфорт. Задеты нервы и вы просто потеряли чувствительность в определенных зонах. Но не зацикливайтесь на этом, все остальные функции сохранены… А чувствительность — ведь это вас будет касаться, а не вашей женщины.
Помолчав, усмехнулся чему-то своему.
— А женщины, они ведь, в большинстве своем, эгоистки… дошло?
Ни черта до меня не дошло, но я кивнул головой. Потом разберусь.
Дважды навещал меня и старый мой кореш — еще с трассы, с Усть-Омчуга сдружились — полковник милиции Саша Борщев. Грузный, неповоротливый, сказывались годы сидячей работы, последнее время он возглавлял технический отдел в управлении, сам злодеев давно не ловил и это сказалось, он занимал почти полпалаты.
— Я интересовался твоим делом. "Глухарь". Но не стопроцентный. Тот бандюга сначала ушел по подвалу во второй подъезд, но почему-то вернулся, рискнул, пошел на такое… Вывод один — очень боялся засветиться, значит, за ним висит что-то капитальное. Второе — пацан, которого ты взял…
— Пытался, — перебил я его.
— Пытался взять, живет неподалеку. Он знал, что подвал не закрывается, знал, что есть проход в другой подъезд.
И третье — главную опасность представляешь сейчас для них ты. Только ты можешь опознать их. Так что будь поосторожней и никакой самодеятельности… Это тебе не при коммуняках вести журналистское расследование — голову враз свернут, а на телохранителей, насколько я знаю, ты еще не заработал…
И, судя по возрасту, пацан призывник и фотографию его можно найти в военкомате. Начнешь ковылять, попробуй.
— Легко сказать… их там тысячи, наверное.
— Поменьше. Призывник сейчас — вид исчезающий, как горный козел. Папы и мамы любыми путями отмазывают своих чад от армии.
Наверное, Борщев кому-то звонил и договаривался, потому что в военкомате необходимые документы мне предоставили без проволочек.
Памятуя о его предположении, что пацан живет или учится рядом со мной, я и начал рассматривать снимки тех, кто учился в соседней школе, училище или институте, обращая внимание на прописку.
— На третьем Десятке я его нашел.
Зря я грешил на свою память. Все точно — лицо, родинка, только на фотографии он был еще моложе — совсем дитя.
Я записал его данные… Жил он возле "Салюта", в ста метрах от моего дома. Учился в третьем училище на плотника, а практику проходил, должно быть, по подвалам.
Я вернулся домой и хотел уже было порадовать Сашу столь быстрыми результатами, но, прочитав свои записи еще раз, обратил внимание на фамилию. И не потому, что она была редкой, как раз наоборот — Сергеевых в городе не меньше сотни, наверное, а потому что был у меня в этом районе старый знакомый, мастер завода монтажных заготовок Сергеев Александр Сергеевич.
А будущего плотника и настоящего, а может быть, еще несостоявшегося насильника звали Александр Александрович.
И еще я знал, что незадолго до моей истории Сергей
Александрович тяжело заболел. Одни говорили туберкулез, другие рак легких.
Теперь я вспомнил, что как-то в бане, после нескольких рюмок, когда разговор зашел о нынешней молодежи, Сергей Александрович обмолвился, что сын его на учете в милиции — связался с какими-то темными личностями, от рук отбился, на все уговоры и советы дерзит… Скорее всего, я попал в точку.
Ситуация.
И я рассказал все, но не Борщеву, а Устинычу.
— Сколько ему? — переспросил он.
— Семнадцать.
— Я был на год моложе, когда меня привезли на Колыму. Статьи страшнее не бывает — пятьдесят восьмая "а", измена Родине. Слышал о лесных братьях?
Я кивнул. Бендеровцы.
— Ну да. Только представь себе глухое село и мне четырнадцать лет. И мать посылает тебе отнести еду в лес твоему брату. А там в лесу уже почти все твои ровесники и друзья и идеи, за которые им своих жизней не жалко, самые благородные — освобождение Родины от захватчиков. Ведь как ни крути, а в то время Советский Союз оккупировал Прибалтику. И тут же романтика, оружие… И повадился я в лес то в роли связного, то просто пропитание поставлял. Но в людей не стрелял, может, просто не успел. Быстро энкэвэдешники отряд тот размолотили и брат мой погиб тогда, а меня мать под печкой почти год держала, как поросенка. Может, как-нибудь потом оно бы и обошлось, да не выдержал я, однажды ночью выполз и на речку, порыбачить. Солнышко взошло я и разомлел, уснул прямо с удочкой. Соседка меня увидела…
Я помолчал, представляя, что он перенес в своей жизни. И какая сила духа потребовалась ему, чтобы не озло- бясь на мир, выжить и сделать себя как человека. Среди грязи лагерей, в унижении и бесправии, с вечным клеймом преступника… Его реабилитировали только через восемь лет.
— Так что тут я тебе не советчик, решай сам. Да мне кажется ты и решил. Просто утвердиться пришел в своем.
Я кивнул и Устиныч, кряхтя, полез за бутылочкой. Это означало, что официальная часть беседы закончена и сейчас хозяин начнет вещать, что и надлежало делать тайному советнику.
— … Вы, батенька мой, страдаете поздним зажиганием, иначе непонятно, почему проработав пять лет руководителем очень серьезного, на мой взгляд, предприятия — книжного издательства — только сейчас заинтересовались раскладом сил в городе. Она, политика, дело грязное, а мы, караси-идеалисты, очень руки боимся запачкать. Но ведь ты журналист и понимать должен, что без информации и решения никакого не примешь, впросак попадешь. Да, согласен, ты все равно его примешь, исходя из своих принципов, но ведь это большая разница — вслепую что-то делать или с учетом обстановки… Хоть последствия знать будешь.
Тут я с ним согласился. Господи, да семь раз на дню ломлюсь в открытые двери или, наоборот, стучусь туда, где и дверей давно нет — стена.
— Итак, о магаданской мафии. Или, скажем мягче, кто в городе хбзяин. Вот я тебе интересное фото из газеты "Магаданская правда" вырезал. Групповый снимок делегатов последней двадцать девятой конференции в мае 1990 года — времечко какое, улавливаешь. Ну и, батенька мой, пройдемся… Начнем с первого ряда, впереди тузы обычно располагались. Тебе как, по часовой стрелке или наоборот?
— Давай по часовой, — заинтригованно сказал я. Первым слева сидел мой старый знакомый.
— Последний секретарь горкома партии. На должности пробыл всего полгода — партию запретили. Подался в бизнес, хотя по складу характера мужик был хоть и безвредный, но безалаберный. Лох. В нормальное время его к кормилу за милю бы не подпустили, а он в бизнес. Бросили, естественно. Взял кредит на сорок миллионов — тогда это серьезные деньги — а контейнера с закупленным товаром застряли — не случайно застряли, поверь. Ему счетчик и ультиматум: или-или. Или семья или сам. Нашли его в ванной, повесился, да еше для верности и вены перерезал. Да об этом-то ты знаешь.
О самоубийстве Ивана Васильевича я знал, конечно. И очень жалел — знакомы мы были еще с трассы, когда Ваня работал директором средней школы в Усть-Омчуге. Мой ровесник, часто общались и по службе, и вне ее — за столом, на охоте, рыбалке, в бане. Общительный веселый парень, серьезно занимался историей — тема его кандидатской диссертации "История партийной организации Камчатки". Дурь в голове у него присутствовала, но по молодости это прощалось. Тогда прощалось!
— Контейнера после его гибели пришли и пошли в погашение кредита. Так что на его смерти кто-то очень хорошо погрелся. Кто там следующий… Демин? Умнейший мужик, кстати. Командовал обществом "Знание". В двадцать семь лет кандидатская по вопросам права. Хорошо воспитан, разбирается во всех течениях нашего общества как хороший лоцман. Но в первые годы развала запаниковал и сделал слишком уж крутой вираж — пошел в юрконсультанты к одному из первых тогда "новых русских" Минякову. Почуял, чем все это может кончиться, переложил рули, но, на мой взгляд, этот маневр ему не простили, до сих пор где-то в замах по хозяйству обретается. Дальше, в центре, две ключевые фигуры — Редькин, первый секретарь обкома и тогдашний секретарь горкома Веселов. Первый быстро уехал на материк, в Краснодарском крае устроился в администрации, затем попал в Думу — опыт и связи были. Но вот примечательный факт… Когда после расстрела Белого дома, Ельцин, охмеленный победой, пригласил депутатов, согласных с ним сотрудничать, приходить за получкой, первым у кассы стоял он, Николай Иванович, и все телевидение страны его показывало… А ведь в области гроза мужик был, как он на бюро выступал, за чистоту рядов, за партийную принципиальность! И так, эх, облажался… обидно.
А вот Веселов у меня вызывает симпатию. Ушел он еще до разгона партии — видел, к чему дело клонится. Собрал бюро и заявил, что не согласен с ренегатской политикой Горбачева, считает его предателем не только партийных, но и национальных интересов — согласитесь, батенька мой, нужна была смелость тогда заявить это. И ушел работать в банк, точнее, в филиал банка "Бамкредит". Филиал просуществавал недолго, но ему хватило времени набраться опыта и завести новые связи… Сейчас он в Липецке, управляющий крупным банком "Промстрой". Но его тогдашний поступок даром для него не прошел: травля была организована по всем правилам охоты на инакомыслящих, только ленивый не лягал. И особенно преуспел в ней его коллега по партии Виктор Борисович Мутаков — ренегат из ренегатов, представитель сексуального меньшинства, как потом выяснилось. Он написал книгу "Кровавое лето в Магадане", где все свои пороки успешно приписал Веселову и другим партийным боссам области. И хотя художественная ценность на уровне докладной записки, а о нравственности я даже не говорю — плевать хотелось, книжонка пошла нарасхват — любителей клубнички у нас достаточно. И пред-ставь, никто из обиженных в суд не обратился и даже морду Мутакову не набил. Только один журналист Павлов написал фельетон на эту книжку "Мертвого льва и шакал не боится" и три года отбивался от продажных судей — Мутаков на него в суд подал за оскорбления и клевету, во дал!
И только когда позорные пристрастия самого Мутако- ва вылезли наружу и он вынужден был из области бежать, суд наконец-то иск его отклонил. Кстати, сам Мутаков во втором ряду, можешь полюбоваться…
— Да знаю я эту сволочь, давай дальше.
Очень я хорошо знал Виктора Борисовича, завсектором по печати обкома партии. Сколько он крови испортил нашему брату, сколько судеб погубил!.. И все под партийным флагом, святей папы римского казался. Помню случай на сенокосе… Неплохая тогда традиция была, независимо где ты работаешь, но в заготовку кормов вклад сделай. И вот свела нас судьба с Мутаковым в одной бригаде в верховьях Дукчи и, конечно, во время работы и вечерами о чем мы только не разговаривали. Я любил стихи читать и слушать разных поэтов, в том числе и тех, которых считали диссидентами. А он больше слушал, но какой разнос после сенокоса мне устроили за подпевание вражеским голосам в секторе печати, надо было видеть и уж даже не знаю, что там в личное дело записали, только дальше литсотрудника я так и не продвинулся. В редакторы районной газеты просился — это из города! — и то не доверили. А книжонку свою о партийной элите написал он, я полагаю, по заказу. Много раз выезжал за рубеж и, скорее всего, поймали Мутакова на подленьких его слабостях. И шантажировали.
— А вот обрати внимание — заведующий отделом обкома. В девяносто первом году колонну КамАЗов, что были предназначены для Магадана, успешно продал в… Киргизию и с тех пор о нем ни слуху ни духу.
Короче, после роспуска партии в городе стала править… партийная мафия. Все средства и силы принадлежали ей. Но тем и хорош город Магадан, что в нем как нигде высока концентрация людей неординарных — умных, не боящихся риска и волевых. К сожалению, направления ума и воли далеко не совпадали с нравственными категориями. Буквально года через три партийную мафию стали подпирать "новые русские", тесно связанные с криминалом. Обрати внимание на последний ряд, найдешь там знакомые лица…
— Обожди, Устиныч. Но даже если принять на веру, все что ты рассказываешь, это же все равно далеко не все делегаты… Разве мало среди них честных тогда и оставшихся честными сегодня? Нормальных работяг, талантливых ученых, просто неравнодушных людей-романтиков, энтузиастов.
— Не спорю. Но такие не умеют и не любят сколачиваться в стаи. Разве что в минуты смертельной опасности и если найдется лидер.
— И что — такая опасность подступает?
Устиныч только усмехнулся. А то сам не видишь, что творится.
— Спасибо, Устиныч, просветил. Ну, а что про сегодняшнюю новую власть. Как она тебе?
— В следующий раз. Пока приглядываюсь, мало информации — много изменений. Да ты сам вот выйдешь на работу, увидишь что к чему…
И я вышел на работу.
…Магадан еще и тем хорош, что в любой конец города можно меньше чем за час добраться пешком. Что я всегда и делал, если, конечно, время не поджимало. Приятно утром, особенно летом, выйти из дома, поздороваться с дворничихой Аллой — в жизни не видел более трудолюбивого дворника — она что-то метет и убирает или гоняет пацанов, что бы не мусорили и не лезли в подвал — и не торопясь выйти на улицу Наровчатова. На доме номер шесть, напротив магазина "Салют", прикреплена мемориальная доска с барельефом поэта, который в школьные годы жил в нашем городе. Но изображен на ней поэт уже в годы преклонные, с усталым одутловатым лицом… В чем тут был замысел художника, до меня не доходит. Наверное, с фотографии срисовывал.
Слева возвышается белое здание медсанчасти Мага- данрыбпрома. Я помню, как долго и в муках строилась она. Сначала планировалось поставить ее в моргородке, рядом с гостиницей "Океан", чтобы с видом непременно на бухту. И возвели уже первые этажи, но потом стройку заморозили и медсанчасть построили совсем в другом месте. Вышла поликлиника красавицей — просторная, удобная для больных и медиков, с современным оборудованием и достаточно высоким для нашего города уровнем обслуживания. Другой такой в Магадане я не знаю.
За поликлиникой сквер. По красоте и размерам уступает только парку культуры. Я специально и хожу здесь, чтобы подышать чистым воздухом, глазом отдохнуть на зелени лиственниц. И с грустью вижу, что с каждым годом деревьев становится меньше и меньше. Вот врезалась в сквер шлакоблочная, с причудливыми башенками, новостройка — бизнесцентр хотели возвести, но то ли духа для претворения замысла, то ли денег не хватило. Так и стоит по сей день этот замок, пугая ночных прохожих пустыми глазницами оконных проемов.
Вообще, незавершенка для города настоящее бедствие. Школы, общежития, жилые дома и никогда в них не будет ни учеников, ни жильцов. С высоты птичьего полета вид как после беспощадной бомбежки — остовы зданий, как серые скелеты, особенно мрачные на фоне летнего зеленого или зимнего белого города. Большинство из них ровесники перестройки, именно в эти годы было заморожено строительство и разрушен трест "Магадангорстрой". Две тысячи высококвалифицированных строителей в одночасье потеряли работу и стали в очередь за нищенским пособием в… родную контору. Здесь разместился Центр занятости населения.
Еще немного и эти недоноски начнуть рушиться и у мэра уже сейчас болит голова, где взять деньги на их снос и деньги немалые. Тоже примета времени: раньше искали деньги на стройки — и находили, а сегодня ищем на снос и не находим.
И, конечно, самым замечательным во всех смыслах памятником недостройки является громадное четырнадцатиэтажное здание Дома Советов. С какой бы стороны ни въезжал ты в Магадан, белая махина Дома издалека встречает тебя. А ведь в 90-м году готовность стройки была девяносто процентов, оставались отделочные работы и кровля. Эх, опоздай путчисты на год — получил бы Магадан этот дворец.
Или наоборот — выступи они раньше…
А сейчас в подвалах Дома обитают бичи, а самую верхотуру облюбовали самоубийцы.
Зато издательство и еще с пяток контор обитают в самом старом в городе здании бывшего первого почтамта, построенного еще в годы войны. От древности двухэтажное, буквой "Г" здание накренилось в сторону улицы Ленина, крыша просела, потолки во время дождей текут безбожно, а когда по улице проезжает тяжелый грузовик, все оно дрожит и качается. Каждый год городские власти грозятся его снести, но… находятся дырки и пошире.
Я поднимаюсь по вытертым миллионами подошв ступеням, здороваюсь с коллегами и уже через час шквал больших и малых забот охватывает меня, как будто я и не уходил с работы.
…В общем-то, попал я сюда случайно.
Через месяц после несчастья с главным редактором Уходил на пенсию Борис Михайлович Черных, тогдашний директор издательства. Мы с ним были в хороших отношениях, давно знали друг друга. Именно здесь были опубликованы мои первые две книжки и окончательно загублена третья, что в общем-то тень на наше знакомство не бросило — время было такое, а директор тоже человек подневольный.
И вот он позвонил и попросил зайти к нему. Черных был не один — в кабинете находилась Нина Петровна Щербак, опекавшая тогда культуру и печать, и она с ходу предложила мне занять директорское кресло.
Я опешил от неожиданности…
— Но я же не издатель, а журналист.
— С "Петитом" справляешься, значит, и здесь справишься.
— Как сравнивать, там малое предприятие, совсем другие масштабы…
— Справишься!
Но я колебался, так как через неделю уезжал в отпуск. Договорились, однако, что на раздумье мне дается месяц. Но уже через две недели я дал из деревни, где мы отдыхали всей семьей, короткую телеграмму: "Согласен".
Давалось директорство мне трудно. По характеру я не руководитель. Я не могу требовать, а тем более наказывать. А тут пришлось начинать с сокращения половины работников — не было объемов работ, изменились взаимотноше- ния между предприятиями, исчезли всевозможные нормативы и прейскуранты, а вместе с ними из издательства тихо пропал целый планово-экономический отдел.
Рухнула система реализации книжной продукции. Бывший книготорг обрел самостоятельность и… отказался от нас, занявшись прямой спекуляцией, как назвали бы это раньше, но сейчас это уже была коммерческая деятельность… Пришлось нам самим выходить на магазины и более того мы организовали свой книжный магазин и занялись книгообменом с другими издательствами России, попавшими в такие же условия.
Мои новшества коллектив воспринял в штыки. Он увидел в этом дух торгашества и угрозу издательству как та ковому… Интеллигенты… они не хотели воспринимать жестоких реалий дня и боялись неминуемых перемен. Во мне они видели "нового русского" — пришел то я из частной конторы — и считали, что движет мной только голая нажива. Как водится, письма, жалобы, многочисленные в связи с этим проверки. Но Щербачиха меня тогда поддерживала, и я выиграл время и выдержал до того момента, когда мои начинания дали первые плоды.
Помню день, когда мы "слезли" с картотеки и день, когда мы подписали договор с корейскими издателями. Тогда большинство редакторов и корректоров, участвовавших в выполнении заказа, получили солидную премию — а принял я издательство с задолженностью по зарплате почти за полгода!
У нас исчезли проблемы с наличными. Магазин, который сегодня снабжали едва ли не десяток издательств Сибири и Дальнего Востока, прекрасно конкурировал с мелкими книжными кооперативами и магазинами города.
На годовом отчетном собрании я предложил всю прибыль направить на обновление оборудования и закупку сырья.
— Если мы не сделаем этого сегодня, — убеждал я, — завтра мы сделать этого просто не сможем. Обвальный рост цен неминуем и пока у нас действуют прямые договора с поставщиками, пока мы еще носим статус государственного предприятия, надо спешить этим воспользоваться.
Ответом мне было гробовое молчание. Потом выступила моя секретарша и предложила повысить оклады, так как цены растут.
Воспитанный в духе коллективизма, в преклонении перед его авторитетом, я не мог поверить… Как же так? Неужели мы, все вместе, не можем понять, что если все проедим сегодня, завтра мы умрем. Да, я не интеллигент в полном понимании этого слова, отец мой крестьянин и корни мои из деревни, но я видел и запомнил, что даже голодающие семьи не трогали семенную картошку!
Коллективный эгоизм?
Толпа?
Стадо?
— Вы максималист, батенька мой. Они обычные наши люди, но их столько раз обманывали — государство, газеты, начальники, что они никому не верят. Они хотят взять все и сегодня и поверь мне, они правы.
— Что?! — Ошарашенно переспросил я. От кого-кого, а от Устиныча таких слов я не ожидал.
— Да, — они правы. И оклады ты им повысишь. Их простые человеческие желания — досыта есть и пить, одевать детей, вообще, жить достойно — законны и понятны. А чего добиваешься ты, ответь?
— Как чего! — Возмутился я. — Сохранить издательство, пережить эти смутные времена, а там что-то изменится… Наши придут, — пошутил я, но Устиныч на шутку не отреагировал.
— А ты ведь больший слепец, чем они. Они не знают, но твердо чувствуют, что будет только хуже. И что ты понимаешь под "нашими"?
— Ну, наверное, все уже поняли, что сейчас единственная сила и надежда народа — коммунисты, — заученно произнес я.
— И где ж эта сила была в августе? Сам рассказывал, какая публика защищала Белый дом… Бичи, бандиты, кучка диссидентов — достаточно было слова, призыва партийного деятеля средней руки, чтобы коммунисты с ближайшего завода щелчком смахнули этих защитничков. Так и этой малости не нашлось. Партия, которая не может себя защитить, обречена на погибель!
— И государство?
— Да, и государство, и нация, и человечество в конце концов. Жизнь есть борьба — это не пустая поговорка, поверь — это закон.
Тогда он меня не убедил, но все, что происходило потом, увы, подтверждало его правоту.
Не мою.
Но мало-помалу в издательстве все образовалось. Женский коллектив непредсказуем и… однажды я нечаянно подслушал как наш главный редактор отчитывала кого-то пс телефону.
— А наш директор, если и выпьет когда — тут я покраснел — зато порядочный человек и в книгах и вообще в деле своем разбирается. И сплетни нам передавать не надо, у самих голова есть на плечах…
Больше всего меня изумило, что это говорила Мигу нова. Дня не проходило, чтобы у нас не вспыхивали жесточайшие баталии по самым разным вопросам. А ведь грех признаться, она нравилась мне не только как редактор. Тридцатипятилетняя в самом соку женщина, с чувственным изгибом полных губ, вызывающий бюст и соразмерные ему бедра и все это при почти всегда опущенном монашеском взоре, тихом голосе и неброской одежде. Длинная черная юбка, темная кофточка, никакого макияжа… Создавалось впечатление, что делает это она нарочно. Муж у нее рыбак, по полгода не бывал дома, а когда и приходил, ударялся в жестокие загулы, так что дочку воспитывала она одна и, как женщина, вряд ли была счастлива… Впрочем, это только мои домыслы, а что на самом деле, я не знал и никогда уже не узнаю.
А что она не только редактор до меня дошло, когда мы вместе перетаскивали шкафы и, разворачиваясь в узком коридоре, нечаянно прижались друг к другу. Всего на мгновение я почувствовал даже через кофточку жар ее груди, упругость бедер… всю ее фигуру и то необъяснимое, что вспыхивает верно между людьми, неосознанно симпатизирующими друг другу.
Всего мгновение.
Продолжение ему не было. Я не ловелас и даже, говоря честно, побаиваюсь женщин. Точнее, даже не женщин, а легких связей. Трус, вычитал я где-то, это человек, который предвидит последствия.
У меня получается как в том анекдоте…
У холостяка перегорел утюг. Надо было пойти к соседке и одолжить у нее. Холостяк, к несчастью, размышлял логично…
— Вот я позвоню — она откроет. На пороге разговаривать не будет, женщина воспитанная, предложит войти. Я войду — угостит чаем. Мужа дома нет. Слови за слово — предложит выпить. Отказываться неудобно. Потом включит музыку — я должен пригласить потанцевать, значит, придется обнять, а там… Муж, местком, позор, конец карьеры.
Не выдержав, холостяк решительно поднялся с места и позвонил соседке. Когда она открыла дверь, он произнес:
— А иди ты куда подальше со своим утюгом!
Продолжения не было, но секунда запомнилась.
Мое отношение к ней неуловимо изменилось. Я старался не курить при ней и избегать грубых слов. Вообще, стал как бы это выразиться, помягче.
Мое возвращение из больницы женщины отметили на уровне. Был торт и чай, и что покрепче. Люда — техред лезла со мной целоваться и, напившись, грозилась совратить меня окончательно — я кричал, что мне все отрезали и теперь они могут приглашать с собой в баню.
Тогда я впервые почувствовал себя своим. Они меня приняли!
Мог ли я предположить или хотя бы предчувствовать, что нас ждет…
— Татьяна Викторовна, — спросил я после очередной планерки. — А откуда взялся рисунок на обложку "Сына Сатаны". Мы же говорили с художником о совсем другом эскизе… помните — церквушка, молния…по сюжету.
Таня замялась. Кого-то подставлять она не любила и не умела.
— Это другой художник. Лысов вовремя не принес рисунок, пришлось отдавать Бычкову.
— А что случилось с Лысовым? Запой?
Главный редактор кивнула. Совсем спился — в диспансер положили.
— А где Бычкова найти? У меня к нему пара вопросов…
— Я сама ищу, — вздохнула Татьяна. — Телефон в мастерской не отвечает, идти без звонка неудобно.
— Ладно, я к нему схожу, — взглянув на часы, решил я.
Мастерская находилась во дворе "Чайки", в трех шагах от издательства, но на пятом этаже. Так что пока я добрался до мастерской, аж взмок.
Дверь мастерской была открыта и оттуда слышались пьяные голоса.
За громадным столом, сдвинув в сторону краски и бумаги, бражничали художник и какие-то замызганные личности. Бычков, когда напивался, приводил к себе всех, кого встречал, а прямо напротив мастерских размещался пункт приема стеклотары, так что контингент у него был самый непредсказуемый.
Стоя спиной ко мне, с кружкой в руке художник произносил речь, которую с почтением и вниманием слушали трое бичей.
— Федяй был мужик нормальный, а не то что некоторые. И нас понимал, и пузырь завсегда поставит. И щас мы — куда лезешь — не чокаются! Выпьем за то, чтобы там, у верхних людей, ему было хорошо..
Тут он повернулся и увидел меня.
— Мать твою… допился!
Кружка у него выпала из рук и сам он, как-то странно захрипев, опустился на диван.
Я поддержал его, похлопал по щекам и влил ему едва ли не насильно из кружки. Водку он проглотил, но глаз не открыл и только слабым голосом спросил:
— Федяй, ты что — живой?
— Живей тебя, — буркнул я. — Народ! Допиваем и по домам, у нас дела.
Бичи безропотно поднялись, а Бычков сказал:
— А ведь я как прочитал, так и пью.
— Календари врут, Саша, а тут бульварная газетенка. Нашел кому верить — Гиндасову…
— Ну что ж, — Саша покосился на пустые бутылки. — Теперь надо бы за твое счастливое, нет, чудесное второе рождение. За воскрешение, брат!
Я, вздохнув, вытащил бутылку "Посольской". Уж если пить, так хоть не травиться. Не "установка", конечно, но потреблять можно.
И мы с ним славно надрались за мое воскрешение. Но перед этим я сумел выпытать с кого он срисовал ту рожу на обложку книги. Как я и предполагал по своей давней привычке собирать типы, рисовал он ее по памяти, а натура ему попалась в ресторане "Империал", уж очень мужик крутым показался. Нет, ни как звать, ни кто он не знает, но встречал его там не раз.
Завсегдатай "Империала" — это уже было что-то…
ГЛАВА V
Хотим как лучше, а получается как всегда.
Из народного юмора
Плавбаза "Феликс Кон" возвращалась с осенней путины в родной порт.
Это было громадное судно старой, еще конца семидесятых годов, польской постройки. Длина его достигала ста шестидесяти четырех метров, а полное водоизмещение составляло почти двадцать тысяч тонн.
Рассчитанная на тогдашние рыбные запасы и соответствующие объемы переработки плавбаза в лучшие годы имела экипаж до трехсот человек и была главной кормилицей Магаданрыбпрома. Но вместе с рыбой ушла и ее слава. Усилиями браконьеров всего мира, черпавшими из Охотского моря как из собственного Садка, стадо минтая было подорвано и с добычей вполне справлялись сто обработчи-ков, а половина оборудования была законсервирована за ненадобностью.
Судно становилось низкорентабельным, но тем не менее еще приносило доход.
И сейчас в трюмах плавбазы находилось более ста тонн сельди, но в порт капитан заходил не затем, чтобы ее сдать, а чтобы подготовиться к основной — минтаевой путине.
Комсостав срочно оформлял заявки на оборудование, горючее, продовольствие, хотя и все знали, что получит "Феликс Кон" самый мизер-то, без чего просто нельзя выйти в море.
А экипаж готовился к берегу. В каютах гремела музыка, в который раз перебирались вещи. Свободные от вахты отсыпались.
Последние мили их сопровождал крепкий шторм и хотя в бухте волнение было меньше, качало ощутимо.
По курсу уже твердели очертания причалов торгового порта, когда в рубке раздалось:
— ЦПУ — мостику. Перегрев двигателя.
В машине была вахта пятого механика.
— Ну прими меры, — лениво отозвались сверху. — Мы сейчас на рейд станем.
Причина повышения температуры для пятого механика Стебловского была ясна. Почти сутки шли по шуге и фильтры кингстонов забились. Надо их прочистить и все дела.
Правда, кингстоны находились в заведовании второго механика, но стоит ли из-за такой мелочи его беспокоить. У него сейчас и так хлопот полон рот.
Стебловский отдал команду и кингстон закрыли. Он сам проверил задвижку — она была закрыта направо до упора.
Тяжелая, килограммов под тридцать чугунная крышка фильтра подавалась медленно — гайки прикипели. Но когда их сорвали с места, раздался громкий хлопок, крышка как бумажная взлетела вверх и в машинное отделение ударил мощный фонтан воды.
Ввиду своей малоопытности пятый не учел, что этот кингстон был левого вращения и закрывался, естественно, налево. И сейчас в полностью распахнутую пасть кингстона диаметром почти полметра под давлением в десятки атмосфер ударила забортная вода.
Потом посчитали, что в час в машинное отделение поступало до тысячи тонн воды.
Через пятнадцать минут судно было обесточено, а машинное отделение затоплено. Капитан принял решение для спасения плавбазы выброситься на отмель. Два портовых буксира подхватили его под усы и, врезавшись килем в дно, судно тяжело завалилось на левый борт.
Морская история "Феликса Кона" на этом была закрыта.
Но завязалась другая — детективная.
На борту поверженного гиганта находилось свыше тысячи тонн соляры и мазута, аммиак. Нагаевской бухте грозила экологическая катастрофа. От удара в корпусе появились многочисленные мелкие трещины и горючка медленно дренировала в море. Волны окрасились фиолетовыми пятнами.
При городской администрации был создан штаб по спасению судна и предотвращению загрязнения акватории бухты. Возглавил его один из замов мэра.
Требовалось прежде всего очистить судно от аммиака, откатать горючее.
Камчатские спасатели заломили за спасение плавбазы почти полмиллиона долларов. Их коллеги из Владивостока в два раза больше. Как будто дело происходило в чужих водах… государство, как всегда в таких случаях, хранило гордое молчание. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Магаданский предприниматель Репьев взялся за эту проблему. Он был патриот и согласился спасти судно почти "задаром" — за само судно. Не затрудняясь расчетами и подсчетами, он нанял водолазов, те закрыли кингстон. Откатали воду и… судно, покачавшись, встало на киль.
Все действия Репьева были авантюрой, но авантюрой удачной. В девяноста случаях из ста эта операция должна была закончиться оверкилем…
Плавбазу продали на металлолом и вся выручка пошла спасателям. По подсчетам специалистов это более десяти тысяч тонн черного металла, сотни тонн меди, алюминия, олова и цинка. И еще около тысячи тонн горючки и мазута. Миллионные суммы в долларах, разумеется. Из них рыбаки не получили ни копейки. Городской бюджет тоже.
А потеря последней плавбазы поставила предприятие на грань банкротства. Имущество его пошло с молотка, суда разобрали частные фирмы, а рыбаки остались без работы, зато задолженность по зарплате им была почти трехлетней.
Устиныч как в воду глядел.
Молодой, еще не обломавший рога, следователь транспортной прокуратуры Синцов ретиво взялся за дело — ему казалось, что все лежит на поверхности. Были опрошены десятки свидетелей, перелопачены килограммы документов, до обвинительного заключения оставались считанные шаги.
Они — эти шаги — так и остались несделанными. Свидетели разъехались, Синцов уволился из органов, хотя ранее никогда намерения такового не выказывал, а даже наоборот. Судьба нарытых им материалов осталась неизвестной.
Вдобавок ко всему главный обвиняемый — пятый механик — был выпущен под залог и… тоже пропал. Единственное, что установил розыск, это тот факт, что из города он не выезжал.
По показаниям его жены, вечером за ним кто-то заехал, он вышел в шлепанцах потолковать и… Наверное, уже и шлепанцы сгнили.
И правда о кингстоне давно уже переплавилась в японских печах.
ГЛАВА VI
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души тончайшие приметы
Переносить на полотно.
Профессиональная память художника была моей последней надеждой. За день до встречи с ним у меня была другая. Я все-таки собрался с духом и решился пойти к Сергеевым. Надо было принимать какое-то решение, а для этого убедиться в правильности своих догадок.
Сергея Александровича я едва узнал, настолько он похудел и вообще изменился. Глаза ввалились, грязно-седая щетина покрывала впалые щеки. Дышал хозяин часто и тяжело, как загнанный кобель. Приход мой его не столько обрадовал, сколько встревожил.
— Как ты?
— Догниваю, — выдохнул он, — В жизнь бы об этом не подумал!
В этом не "подумал" для него звучало очень многое. Времена, когда молодой и здоровый каждую неделю бегал он на свидания из райцентра в леспромхозовский поселок за сорок километров к своей Даше, день когда дали ему орден — первому из строителей Теньки и самому молодому, тогда я и познакомился с ним — очерк писал — день, когда родился у него сын и весь поселок гулял на крестинах. И черный провал после нелепой смерти жены и вся остальная жизнь, как крутой спуск с Расковского перевала без тормозов…
— Ну, чего ты раньше времени себя хоронишь, неужели так все безнадежно — есть же институты, врачи, лекарства…
— Все есть, Валя… да не про нашу честь. Таких денег на операцию я никогда не найду да и скажу по честному, не стою. Даже если бы нашелся какой доброхот и дал мне их- я бы их сыну оставил, ему сейчас, ох, как будет нелегко.
— Молодой, выдюжит, чего ты про него. Да и сам, может, еще внуков нянчить у него будешь.
Хозяин только усмехнулся.
Я помолчал. Еще в прихожей, среди груды сброшенной в кучу одежды — у сына были в гостях кореша — я увидел знакомые пуховик и норковую шапку. Так что все стало на свои места.
— Давай, Сереж, может, еще увидимся. И вот что — какие лекарства нужны — ты запиши сейчас, я тебе принесу… Денег у меня больших нет, а насчет этой чепухи — с медиками я дружу.
А в прихожей, стиснув мою ладонь горячими влажными руками, он неожиданно сказал:
— Ты ведь не за этим приходил, Валь… Ты ведь на сына хотел посмотреть, а?
Ни соврать, ни сказать правды я не мог.
— Это не он, успокойся.
— Нет, я хочу знать — он в комнате с ребятами — пройди. Ты же ведь на него не посмотрел!
— А это что, — я показал на большую цветную фотографию. Сфотографировался его сын, наверное, когда выпускные сдал. — Посмотрел. Не он! Родинка меня сбила. Но там была не родинка, а целый пятак, да еще фиолетовый. Так что успокойся, Сереж.
Мы так и расстались. Потом я узнал, что старые тень- кинцы собрали-таки деньги ему на операцию и он уехал в Москву. Операция была неудачной…
Сын его живет там же, на старой квартире. Так что частенько я встречаю его то в компании ребят, то с девушкой. В последнее время больше с девушкой. Меня он не узнает, я его стараюсь тоже. Наверное, так для нас обоих лучше…
Борщов, когда я рассказал ему о своих поисках и находках, только улыбнулся…
— Все-таки ты за свое. Пустой номер. Даже если ты и найдешь кого-то похожего, ничего никогда не докажешь. Особенно в том случае, если это действительно будет злодей, понимашь.
Последнее слово он под Ельцина произнес. Не любит его Борщов. Анекдоты рассказывает, телевизор выключает, когда он народ, понимашь, поздравляет. Нехорошо так полковнику милиции себя вести, а вдруг какая сволочь, то бишь честный гражданин, стучать начнет.
— Проходили, — махнул рукой полковник, — Им сейчас ни стук, ни гром не поможет. А на молнию силы у народа нет.
Но рисунок Бычкова он у меня забрал. Сказал, что попробует по своим каналам.
Острота первых послебольничных дней прошла. Я втянулся в работу — рукописи, авторы, финансы. Месяц пролетел мигом, и я вдруг поймал себя на мысли, что спать стал как младенец, ем за двоих и однажды… забыл свою трость и больше уже не брал ее.
— А куда ты по ночам ходишь? — Вдруг ни с того ни с сего сказала мне жена. — Гуляешь?
— Окстись! — Опешил я, — Сплю я.
— Нет, Валь, я серьезно. Я уже раза три замечаю — ты встаешь, ноги в валенки, полушубок накинешь и на улицу. Спросишь тебя, ты что-то буркнешь…
— Может, Роки поднимает.
— Наоборот, ты его будишь.
Она помолчала, а потом добавила:
— Может, стоит к врачу показаться.
— Да брось ты, пройдет, — отмахнулся я.
Сама мысль о врачах и о больнице казалась мне издевательской.
А на дворе подоспел февраль, и для меня это значит много — конец зимы.
Для кого как, а мне самые тяжелые месяцы на Колыме — январь и декабрь. Холодно, сумрачно, солнца почти не видишь. Так, яичным желтком на минуту повисит над Марче- канской сопкой и опять темнота. В квартирах как на улице. Калориферы не спасают, улицу не обогреешь. Да еще свет повадились выключать, а современному горожанину без энергии — медленная смерть.
Но вот постепенно, потихоньку начинает прибавляться день. И в конце января узкая розовая полоска робко брезжит на востоке в ту самую минуту, когда я выхожу гулять с Роки. Часы природы начинают укладываться в мой жизненный ритм. И морозы слабеют, и люди уже не трусцой бегут по своим делам, а даже как бы прогуливаясь…
А в этот субботний день еще и снежок выпал. Я решил купить газеты и стал одеваться. Роки, почуяв прогулку, радостно повизгивая, запрыгал вокруг.
Маршрут наш обычен. Идем с ним к парку "соматики". Пометив все свои заповедные места, причем ногу мой доберман задирает выше головы — и как ему это удается — кобель с радостным лаем помчался между лиственниц. За это время он хорошо подрос, раздался в груди и смотрелся внушительно… Во всяком случае, прохожие приостанавливались, когда он, играясь, подскакивал к ним. Они не знали, что по характеру Роки был самый настоящий добряк, несмотря на грозный вид.
— Валя!
Странно, как я не заметил Ларису. Обычно в любой сутолоке и толпе я первым выглядывал ее волейбольную фигурку.
— Извини, задумался. Как ты?
— Я-то ничего, а вот ты не звонишь, не заходишь… Как твоя нога?
— Спасибо, все уже в норме.
Разговаривая, она взяла меня под руку, и меня, как и раньше, взволновал запах ее духов и блеск ее глаз и тепло ее пальцев. И пес кругами носился вокруг, и мы шли куда- то, пока я не понял, что идем мы к ее дому.
Странно, но в ее маленькой однокомнатной квартире было тепло. Я с удовольствием разделся, а Роки с ворчанием принялся грызть кость в прихожей.
И Лариса меня поцеловала. И не только.
— Обожди, — отбивался я, — а сын.
— Он в школе, до часу.
— А собака?
— Ей не до нас.
Правда, беспокоил меня не сын и не собака, а больше я сам. Но только до той секунды, когда ощутил под пальцами ее гладкую кожу и ее мягкие губы коснулись моей груди.
Потом она обнаженная сидела на кровати, перебирая мои волосы и говорила, говорила, а я в полудреме слушал ее, пока не почувствал как я сам и все остальное во мне стало неумолимо просыпаться и желать.
— Если ты и изменился, — сказала она в конце нашего праздника плоти, — то в лучшую сторону. Ты стал Оолее сдержанным, мне это нравится.
Я только вздохнул. А дальше? Сколько может это продолжаться… Не могу я на ней жениться. Лариса полагает, что я не ухожу от жены из жалости, но я-то знаю, что это далеко не вся правда, а правды не сказать вслух — любишь, а по чужим постелям шастаешь…
Впрочем, каждому дню хватит своей заботы. Разберемся.
Мне иногда бывает страшно за легкий лёт наших мыслей. Ну откуда мне, человеку грешному, предвидеть что со мной сбудется… Откуда? И ведь прекрасно понимаю, что все это чушь собачья — планировать и предсказывать — все- таки каждый год и месяц и день с маниакальной настойчивостью заводим календари и ежедневники и записываем в них кому позвонить, что сделать и что сказать. Этим мы приносим как бы жертву будущему, умоляя его, в соответствии с нашими планами принять их и, хоть в какой-то мере, исполнить.
Древлянин во мне живуч и чтобы там я ни делал, в самые ответственные минуты ни говорил или ни писал, остаюсь в глубине души язычником.
Лариса работает учительницей. И не просто учительницей — в методическом кабинете составляет программы и указания для всех школ Магадана и области. Очень умные рекомендации и программы, смею вас заверить, потому что с ними она не одна бьется, но и весь методический кабинет, а руководит им Тамара Федоровна Леонтьева… да, да, та самая, жена писателя и ученого Владилена Леонтьева. И, кстати, она догадывается о наших отношениях с Ларисой, но мудро молчит, представляя делать вывод самой жизни…
Не по сегодняшней должности своей и не потому, что жена моя врач, но больше всего меня всегда привлекала и привлекает жизнь именно этих людей — учителей и медиков.
Теоретически и эмоционально — Это понятно.
"Учитель — перед именем твоим…"
Не навреди — клятва Гиппократа…
И то и другое относится к человеку, то есть и ко мне.
Себя я не знаю, но коли я любознателен, то и начинать надо с себя.
Разве каждый из нас в бессонную ли ночь, в бесстрастный ли день не судил себя или хотя бы не пытался понять…
Кто я есть?
Или — как я дошел до жизни такой?
А вот так и дошел… ножками.
ГЛАВА VII
Я слышу небесную музыку,
Не зная ее творца.
Сначала, то есть с того момента, как я себя помню — больше босиком. Насчет обувки в послевоенной деревеньке было туго — донашивали, что останется от старших, а от них, как правило, ничего не оставалось. И потому зимой сидели на печке, а летом… Если я напишу слово "цыпки", вряд ли его кто сегодня поймет из молодых. От постоянного контакта с грязью, землей, водой кожа настолько огрубевает, что трескается. Боль адская, помню, как мачеха меня каждую неделю лечила — отмачивала, парила, компрессы прикладывала. А свои первые ботинки я получил, когда пошел в школу. И носил их, пока большой палец не проткнул носок. Я в семье был самым младшим и потому ботинки с сожалением выбросили.
Затем в детдоме, мне уже было одиннадцать лет, я ходил в грубых с металлическими заклепками башмаках-гав- нодавах, как их называли. Крепости и тяжести необычайной, как каторжные колоды… В них я доходил до девятого класса, когда директор, маленький лысый человек по прозвищу Бонапарт, собрал выпускников и произнес короткую, но емкую речь:
— Государство вас выкормило — пора слезать с его шеи.
И мы слезли с шеи государства и рассыпались кто куда. Я лично в ремесленное училище и этим самым продлил с^эй союз с гавнодавами.
Затем была армия, и в кирзовых сапогах три с лишним года я топал по Украине, а в конце августа шестьдесят восьмого года и по Чехословакии. Нет, стрелять нам, к счастью, там не пришлось — если бы наш полк стрельнул, третьей мировой не избежать бы. Служил я тогда в полку тактической ядерной авиации технарем. Наши бомбардировщики Ил-18 могли приземляться на любом колхозном поле, но брали по две пятитонных ядерных бомбы, каждая из которых могла смести с лица земли такой город как Злата Прага. А в Чехословакии мы шли за танкистами, вторым эшелоном. Колонны двигались по ночам, а днем прятались в рощах и перелесках. Где-то под Брно приготовили полевой аэродром и ждали прилета своих… Но через две недели, так же соблюдая все меры скрытности, убрались на базу, в Староконстантинов.
Сейчас этот стратегический аэродром в Староконстан- тинове независимая Украина продала американцам. И войны не потребовалось — достаточно оказалось одной перестройки.
После дембеля я учился в Воронежском университете и путь на лекции лежал у меня мимо обувного магазина. Выставленные в витрине сверкающие лаком туфли за тридцать рублей казались мне тогда верхом роскоши…
И журналистские пути-дороги Колымы и Чукотки — это унты и болотники, кроссовки и валенки… Самолеты и автомобили, железной дороги у нас, как известно, нет. Она существует только в книге Жириновского "Последний вагон на Анадырь", но с политика что возьмешь…
Все это есть и в моих анкетах. Нет ответа на главное — кто я? Трость ли, колеблемая ветром? Стрела, летящая во мраке? Иль бежишь ты, прах несчастный, как прохожий по земле…
Как только начнешь задумываться над этими вещами, считай, что материалист в тебе умер. Ты перешагиваешь грань, за которой начинается страна Духа. Ни в кирзовых сапогах, ни в лакированных туфлях там не ходят… только как в детстве — босым и голым, потому что важна суть…
Для меня эта страна приоткрылась в районной газете в Понырях Курской области. Вчерашний студент я со всем жаром и максимализмом молодости ринулся в газетную жизнь. Я хватался за любую тему и за любой жанр — от очерка до фельетона и считал себя в свои двадцать три года умудренным и всезнающим. И меня нисколько не смутило задание редактора написать разгромную статью о местном священнике. Священник был молод и вел себя непотребным образом — выпивал, гонял на мотоцикле и даже — о ужас! — похаживал к деревенским молодкам.
Я съездил в деревню — на мотоцикле, кстати, побывал в церкви, поговорил с прихожанами и колхозным активом, собрал материал. Затем попросил у хозяйки Библию и нич- тоже сумняшеся написал фельетон "Грешный пастырь". Фельетон очень понравился в райисполкоме, а редактор даже дал мне премию.
А вскоре из Курской епархии в адрес редакции пришло благодарственное письмо, в котором меня благодарили за то, что я помогаю бороться за чистоту рядов священнослужителей, что-то в этом духе. Провинившийся был смещен, а на его место пришел другой пастырь, который так понравился прихожанам, что религиозность в селе выросла вдвое.
Как говорится, за что боролись…
А я увидел, как я темен.
И сколько бы я потом ни штудировал Библию, ни читал Коран или буддистские книги, ни слушал лекций, — а то и сам даже читал их, во! — ощущение этой темноты не проходило. "Многие знания приводят к раздражению", — так сказал Соломон.
А малые знания отдаляют от веры.
Меня они привели к сомнениям. Была в религии истина мне недоступная… Звезды над миром кружатся и замирают сердца, я слышу небесную музыку, не зная ее Творца.
Как ни странно, но даже то, что я слышал эту музыку, спасло меня от миссионерского яда перестройки. Тогда в Россию и, прежде всего, в приграничные порубежные города толпой хлынули проповедники всех мастей — от кришнаитов до церкви святого Муна. Только в Магадане за несколько лет были выстроены адвентистская, баптистская, новоапостольская церкви, католический приход, баптистский молитвенный дом… Дело доходило до курьезов — к примеру, мощное большое здание адвентистской церкви было выстроено на участке, отведенном по проекту развития города под Дом творчества… Была такая благая задумка у наших градоначальников — собрать под одну крышу писателей, художников, композиторов, словом, все творческие союзы. Но построили чужую церковь и самый главный атеист области — уполномоченный по делам религии Яковлев — первым прискакал на ее презентацию. Впрочем, не намного отстали от него и другие вожди — с легкой руки самого президента освящения всех мало-мальски значимых событий стали нормой и уже никого не удивляли. И назвали их — новых верующих — подсвечниками, ибо большего смысла, чем служить подставкой для дешевой свечи, в их присутствии не было…
Для меня это тоже оказалось загадкой. Оказывается, стоит поменяться политическому ветру и человек, что флюгер, поворачивается за ним. А как же внушенные с детства истины, идеалы, взгляды. Или их не было вовсе, и всю жизнь рядом со мной жили другие люди, не те, которых я знал, — друзья, знакомые, сограждане, а те, у которых вообще не было никакого нравственного закона! А просто был страх перед наказанием или общественным мнением, запрет… Сняли его и сущность каждого обнажилась, как если бы поцарапали лакировку и увидели обычную трухлявую древ- плиту.
Многие, многие изменили себе и дедовским заповедям. Об отцовских я не говорю. Изменять им считается на Руси обычным делом.
И еще цунами обрушились на свободное от всех и вся предрассудков общество, бесовство, от которого Европа избавилась еще два века тому, астрология, спиритизм, колдовство, ведьмачество — и все на полном серьезе обсуждалось в газетах, на телевидении, радио. С экрана телевизора Кашпировские и Чумаки заговаривали и лечили всю страну и заговорили-таки…
Астрологом и колдуном у нас в одночасье стать мог любой человек, с мало-мальски подвешенным языком. Вот типичный пример такой карьеры.
В газете "Вечерний Магадан" работал художником Саша Рожков — совсем молоденький паренек, вчерашний студент пединститута. Художник посредственный, но нос по ветру держал и однажды пришел ко мне в "Петит" с идеей — выпустить астрологический календарь. Когда стали разговаривать, выяснилось, что об астрологии знает он понаслышке. Тогда я собрал ему всю литературу, что у меня была и подарил — просвещайся, для меня это был этап пройденный. Через несколько месяцев я с удивлением узнал, что Оаша организовал бюро астрологических услуг — предсказывает будущее, разыскивает пропавших и преступников, составляет персональные астрологические календари. Язык у него, подчеркиваю, был подвешен и народ к нему пошел… измученный, замордованный неопределенностью своей жизни народ, что ему больше оставалось. Через два года он уже поднялся настолько, что без телохранителя нигде не появлялся. Причем иногда его пророчества были настолько нелепы, что диву даешься — как им могли верить. К примеру, родителей утонувшей в Сусумане девочки он уверял, что она жива и находится в Америке.
Прокололся Саша на одном из крутых новых русских. Крутой дал ему несколько фотографий и попросил рассказать Сашу, что стало с этими людьми. О покойных родителях астролог сказал, что они благоденствуют и могут причинить посетителю неприятности, а взглянув на фото его самого — не угадал! — посочувствовал, что тот так рано и в муках скончглся.
Возмущенный своей преждевременной смертью крутой обложил астролога такой данью, что, наверное, вытряс из него все неправедные гонорары. Саша попытался обратиться в милицию, но и там его уже знали за мошенника и поддержки он не получил. Пришлось ему срочно исчезнуть с магаданского горизонта.
А однажды у себя в почтовом ящике я нашел такую листовку:
"Даже если ты здоров — ты болен! И каждый твой день — упущенный для лечения! Только Мы можем избавить тебя от тысячелетних болезней человечества.
Абсолютно новый метод! Стопроцентная гарантия! Мы понимаем твое недоверие — ведь и паровозы Черепанова принимали за нечистую силу.
Поэтому три первых сеанса бесплатно! А дальше решишь сам!" И адрес.
Из любопытства я пошел.
Давно чесались руки написать ехидный фельетон на эту тему: нажива шарлатана на чужой беде. Ведь зачастую идут к таким люди, потерявшие всякую надежду на выздоровление себя, а чаще своих детей. Голос разума в таких случаях бессилен…
Нас собралось человек двадцать в большой, без мебели, комнате. Ковры и разбросанные на них подушки напоминали о Средней Азии.
— Ложитесь! — Как нечто само собой разумеющееся пригласил нас… врач… учитель… проповедник или един в трех лицах. — Это тоже часть лечения.
И мы возлегли на подушки и ковры, довольно чистые, кстати, и он начал говорить.
Признаюсь, давно я не слышал ничего более занимательного.
— В листовке, которую вы все получили, сказано о тысячелетних болезнях. Это, конечно, неправда. Возраст многих заболеваний, о которых мы будем говорить, равен сотням тысячелетиям и в сущности возникли они одновременно с тем моментом, как человек выпрямился, встал на задние конечности. С одной стороны, это решило его дальнейшую эволюцию — освободились руки, а с другой — произошло революционное перераспределение нагрузки на позвоночник человека и не только. Сравните, как у вас располагаются внутренние органы сейчас и как они располагаются, когда вы стоите.
Мы задумывались, сравнивая свои ощущения.
— Когда человек стоит вертикально, то внутренние органы находятся друг над другом или точнее друг на друге. Сердце давит на желудок, желудок на диафрагму, диафрагма на кишечник и печень и так далее, вплоть до мочевого пузыря. Отсюда великое множество болезней, присущих только человеку.
Наиболее распространенной и страшной из них является остеохондроз. Сравните столб и арку и скажите, в каком случае больше нагрузка? Разумеется, на столб. И ведь мы не просто стоим и не просто двигаемся в вертикальном положении — так мы едем в тряских автомобилях, так мы прыгаем с высоты, так мы даже работаем. А ведь наш позвоночник — это спинной мозг и все болезни как известно…
— От нервов, — хихикнул кто-то.
— Совершенно верно. И первая задача, которую я ставлю в процессе лечения, чисто психологическая: отучить вас от мысли, что передвигаться можно только на задних конечностях.
— А вторая?
— Приучить вас к мысли, что передвигаться и вообще делать все надо на четвереньках.
Мы задумались, представляя как это будет выглядеть.
Но наш гуру, звали его, как потом выяснилось, очень традиционно — Иван Иванович — помог нам.
— Вот вы, женщина, подойдите ко мне поближе… да нет, не подползите. Встаньте на четвереньки, ничего, это с непривычки кажется неприличным, на уровне подсознания поза вам хорошо знакома и…
Отклячив зад, женщина сделала в направлении Ивана Ивановича несколько шагов. То есть это были не шаги в традиционном понимании и мы хохотали так, как давно, наверное, не смеялись. Но Иван Иванович быстро нас унял.
— А теперь все построились на четвереньках друг за другом и попробуйте пройти хотя бы один круг. Не старайтесь представить как вы выглядите — все это дело, привычки и потом, не забывайте — вы больные, а я ваш врач. А врача стесняться не принято.
И мы пошли! Жаль, что у меня не было кинокамеры…
— Думаю, на сегодня вам достаточно — я уже вижу, что кое-кто жалеет о потраченном времени. Но кто-то придет сюда и еще. Для утешения могу вам напомнить, что все важнейшие дела в своей жизни — рождение, любовь и смерть — человек совершает лежа. Остальное от лукавого.
Я не написал фельетон. Во-первых, многое мне понравилось. Во-вторых, Иван Иванович действительно был врачом, работал в больничке в Оротукане хирургом. А после того, как больничку закрыли, перебрался в Магадан. Работы ему здесь не нашлось, да и те, кто работал, зарплаты не получали. Тогда-то он обратился к своим студенческим еще идеям и решился на такую вот авантюру…
— Почему это авантюру? — обиделся даже он. — Многим очень даже помогает.
Я уже и забыл об этом целителе, когда однажды, войдя к знакомому чиновнику в кабинет, едва не споткнулся об него.
— Обожди, — крикнул мне чиновник, описывая очередной виток вокруг письменного стола.
На четвереньках, конечно.
— Помогает? — озадаченно спросил я, когда запыхавшийся чиновник полуулегся в кресло.
— Еще как! То по утрам еле разгибался, а сейчас встаю и ничего. Чего… чего ты ржешь?
— Ничего… я просто себе представил. Громадная страна, улицы, магазины, очереди, совещания, приемы, встречи и на четвереньках к микрофону подползает наш президент. Или эта американка Олбрайт — ха-ха…
Мы уже заливались вместе.
— Президент, ха-ха, ему-то это привычней, а вот той…
Не знаю, скольких магаданцев вылечили идеи Ивана Ивановича, но если кто-то над ними улыбнулся, это уже плюс.
Вспомнил я об Иван Ивановиче, когда в телевизионных новостях вдруг промелькнуло, что в одной из европейских стран создан институт болезней позвоночника. И одним из самых перспективных его направлений указывалось "снижение нагрузки путем изменения традиционных положений". Читай, та же ходьба на четвереньках.
Вот такая каша варилась в то время в Магадане. Общее впечатление было такое, что все мы немного сдвинулись по фазе. Картину дополняли и взаправдашние психические больные, от которых по причине бескормицы старались избавляться лечебницы, и новый контингент свихнувшихся в результате реформ.
Тем паче, что в этой сфере наша медицина, напуганная воплями заинтересованных лиц о нарушениях прав человека, из одной крайности бросилась в другую, уже и явно больного боялась признать таковым. И они, психи, расползлись по учреждениям, партиям, движениям. Бросались с четырнадцатого этажа Дома Советов, взрывались на площади и призывали к народной войне против полтергейста в лице нового губернатора Сидора Букетова. Или еврейско-масон- ского засилья в администрации роддома.
Досталось и мне. Как-то после обеденного перерыва Мигунова по селектору попросила меня принять автора. Вообще-то авторы — дело редактора, я старался эту традицию не нарушать, тем более что и редакторы к таким нарушениям относились болезненно, видя в них посягательство на их исключительность, но коли сама просит…
— Я вам принесла романы, — прямо с порога возбужденно начала средних лет неброско одетая посетительница, а мне…
Я усадил ее за стол. Попросил секретаршу принести чай. Не каждый день в местное издательство приносят… романы.
— Ну показывайте.
Она вытащила из дамской сумочки тетрадный листок и начала читать заголовки, как я понял.
— Ночь над Магаданом. Рассвет над Магаданом. Обед над Магаданом. Отбой над Магаданом.
— А… рукописи?
— А это что! — агрессивно кинулась в атаку писательница — с двадцать третьего километра, как до меня дошло. К несчастью, в этот момент вошла Тамара с чайным подносом. Ради такого случая она надела белый передник и видимо он ввел в заблуждение мою гостью…
— А-а, сразу за уколы! — взвыла она и одним ударом вышибла поднос из рук секретарши. Тут же вскочила и. выбежала в коридор, расточая на бегу проклятия всем и вся.
Но были случаи и другого рода. Помню, как долго ожидал меня в приемной молодой еще, худощавый парень в телогрейке.
— Бич, — шепнула мне секретарша, — я ему сказала, что вы сегодня заняты.
Я и впрямь был занят, надо бежать в типографию, затем встреча с банкиром, затем…
Словом, я решительно вышел в приемную и сказал, что ухожу и вряд ли сегодня появлюсь.
Парень поднялся и его синие глаза, особенно яркие на потемневшем от ветра и морозов лице, пронзительно полоснули меня.
— Я все-таки подожду.
Но в этот день я действительно в кабинете так и не появился.
— Вот он оставил, — на другой день Тамара протянула мне бумажную папку. — Просил вам лично.
Я развязал тесемки. На серой оберточной бумаге крупным почерком в подбор были написаны стихи. Стихи ли?
"…Сегодня самый ясный день и настроение не хуже, и меньше пакостных людей, встречаются так кое-где, но я размяк и безоружен, весь нараспашку, и снаружи сиянье благостных идей… Сейчас я ими осчастливлю, себя и всех подобно ливню, что без разбора льет везде — всю ночь, все утро и весь день.
О, философия невежды — она проста как экскремент, в ней нет хулы и нет надежды и никакого смысла нет — зато запечатлен момент, как проститутка без одежды.
Но в этот день не так как в прежний, чуть-чуть вольней, чуть-чуть небрежней, иду по нашей мостовой и не один иду — с тобой!
Вот странно мне — ну что такого, ошую женщина идет… плывет иль нет такого слова и нет сравненья никакого… плывет идя? Идет плывучи? Она судьба иль только участь… Любя, слепя, страдая, мучась, жена, любовница, попутчик, она со мной как солнца лучик до самых темных смертных кручей она идет!
Перебирая, быстрее чтобы не отстать, но в этом грация такая и вдохновение, и стать, что рядом с ней козлом зыкая, так хочется оленем стать.
Олень — оно поблагородней, серьезней как-то, красивей… козлы-герои для пародий, они чертей рогатых вроде. Да-да, увы, есть и такие, чего лишь только в мире нет, многообразен белый свет, все может быть и в масть, и в цвет, а можешь век искать ответ и не найти
И что такого? Мы в нашем теле как в оковах, как тать в темнице стеснены, как неестественны штаны, что жмут и трут в местах иных, что так и тянет скинуть их.
Не зря шотландцы носят юбки и шаровары любят турки.
А скажем, в южные края, нам заглянуть, душа моя — все черные, как тени ада и все буквально голозады!
Но если вдуматься всерьез… нам без штанов в такой мороз! Так что все это только сказки, каприз репризы, мина маски. Я сам люблю тепло и ласки, что негой нежности полны.
При чем тут негры и штаны?
Ведь в этот день как небо ясный все опасения напрасны — я знаю, ты взрывоопасна и наша связь, хоть и прекрасна, обречена, но тянет властно оленем мне погарцевать.
…Все это нетрадиционно, заметит кто-то, так нескромно выпячиваться из рядов. Здесь рваный ритм и нет размера, безумство рифм и похоть стервы так вот и лезут между строк и был бы, прямо скажем, прок, а то один расход бумаги — ни вдохновенья, ни отваги.
А я пишу как мне диктуют душа и дождевые струи, что за окном листву полощат, о, сколько их прошло, дождей, но почему-то этот дождик вдруг мне напомнил ясный день, тот самый день, когда к тебе несло, увы, традиционно и в размышленьях о штанах, а вот писать, увы, и ах, хотелось мне не так как раньше. Быть может, в этом меньше фальши, чем в лесенках и этажах проверенной литературы… да, ныне дорога бумага, но разве там нужна отвага, чтоб сделав лишь четыре шага, остановиться, отдохнуть и снова тот же мерный путь.
Хорей иль ямб — мне без разбора, но только подголоском хора быть не хочу, пусть и влачу убогое существованье… Оно мое! Я сборщик дани и раб, и царь, и вечный странник в полях поэзии родной сам по себе
Страны иной не видно мне в сплошном тумане и все сильнее манит память.
А что до стиля — он не нов, сегодня об анжабемане сосед мой знает, Иванов.
Он занимается торговлей, но бывший кандидат наук — филологических, конечно, хоть пьет, но все мы в этом грешны. Он разбирается в предлогах, стихи умеет излагать и всяких гребаных налогов умеет, сволочь, избегать.
Он мне сказал — анжабеман. Вот так ты пишешь, милый сударь, и мы с ним звякнули посудой и хоть торгаш он и паскуда и прямо лазит в мой карман, запомнил я — анжабеман.
Но слов французская порода нас не смутит, не возмутит: черта у нашего народа любого черта и урода умеем мы переварить и превратить в простой и ясный, как жест доходчивый, язык, как лист траве ему подвластны и академик, и мужик.
А жизнь летит и новым светом окрашен мир и ты и я.
Взлетает лето как монета и долго кружится маня таинственным — орел иль решка, судьбы улыбка иль насмешка — чем ты обрадуешь меня?
Есть, есть вопросы без ответа, навек наложенное вето на все загадки бытия. Но тайн тайн в тебе таится, моя рабыня и царица. В ней жизни смысл, валы и гладь, всех океанов благодать нельзя попробовать рукою, она в полете ли, в покое, перед последним смертным боем и так редка, что никакое нельзя явленье с ней сравнить.
Сверкай же, жизненная нить! Ткачи судьбы — поосторожней, обрыв'исправить невозможно — дешевле нитку заменить.
За этот день, кого мне, Боже! Кого мне отблагодарить!"
Были и еще стихи. Не прочитав и части их, я понял, что судьба столкнула меня с поэтом милостью Божьей.
— Он оставил адрес или телефон? — Спросил я у Тамары.
— Нет, — она пожала плечами. — Вообще, какой-то странный тип. Даже до свиданья не сказал.
— Он придет, — думалось мне.
Но больше я никогда не встретил этого парня с синими глазами и часто думаю, что, может быть, мир лишился поэта по моей вине…
Что о больных и о поэтах, когда я видел как и обычные здоровые люди день изо дня сталкиваясь с проблемами — работа, деньги, еда, лекарства — потихоньку менялись. В зависимости от характера одни становились злыми и агрессивными, другие тихо опускались, уже ни на что не надеясь. Таких было большинство.
Будто какое то проклятие нависло над страной!
ГЛАВА VIII
Темны страницы
Книги судеб,
И строк ее не знают люди.
В этот "черный понедельник" я прихватил на работу старую куртку. В пятницу пришли контейнера с книгой "Сын Сатаны" и мужчинам издательства предстояло попахать на разгрузке. Я чувствовал себя уже достаточно хорошо и не собирался в этот раз поддаваться уговорам сердобольных женщин. Но в этот раз и попотеть не пришлось — помогли мальчишки с "Подвига" — их руководитель прислал нам помощь в обмен на новые книги для библиотеки. К обеду мы отправили контейнера в порт и тут ко мне подошла Татьяна Мигунова.
— Я сегодня пораньше уйду на обед. Дочка что-то прихварывает.
Я только головой кивнул. О такой мелочи могла бы и не говорить. Тем более, что с самых первых дней своего директорства я провозгласил приоритет работы над дисциплиной. Можешь делать что угодно и где угодно находиться, была бы выполнена работа…
— Новые книги с собой взяла, — продолжала Таня. — Заскочу после обеда на телевидение, покажу девчатам, пусть рекламку дадут.
Она ушла, а я спустился в склад, посмотреть, что там творится.
В складе было тихо, полутемно. Пожарники заставили нас отключить все розетки и патроны и слабый свет еле струился из-за штабелей с книгами. Комнаты были забиты под самый потолок и я ломал голову, куда буду девать следующую партию.
Этот вопрос возникает каждый раз, когда мы планируем новое издание. С одной стороны, хочется выпустить книгу большим тиражом — тогда она значительно дешевле и для нас, и для покупателей. Но в том-то и беда, что на Магадан даже очень ходовой книги требуется всего семь-де- сять тысяч экземпляров. После отделения Чукотки и развала системы книготорга говорить о книжной торговле области не приходится, а в самом Магадане живет всего ничего — менее двухсот тысяч человек, включая младенцев и древних стариков. Мы усиленно ищем выход из положения — наладили книгообмен с другими издательствами, организовали уличную торговлю, открываем другой магазин, но реализация с каждым годом все падает.
— А что ты хочешь, батенька мой, — говорит мне Устиныч, — Народу жрать нечего, а ты о книгах.
Я c ним не соглашаюсь. Хлеб и книга неотделимы друг от друга. Если без одного человеку не выжить, без другого ему не быть человеком.
Для меня, во всяком случае, это бесспорно. Многим обделила меня жизнь… матери не помню, молодость не баловала меня легкими удачами и победами — ремеслуха, общага, армия, — но книги всегда были со мной и вместе с ними огромный, в фантастических красках мир. И он нисколько не противоречил настоящему, реальному, а чудесным образом изменял его, я видел куда больше, чем меня окружало… Глядя на осеннюю лесополосу за стенами детдома, я знал что за ней есть железная дорога и она ведет в большие города, и еще там есть океаны и пустыни и вообще неизведанные края. И облака, проносившиеся по небу, очертаниями своими напоминали мне о сказочных зверях и космических пришельцах, а в бормотании лесного ручья слышались мне иные мелодии и песни.
Я плакал над Темой и Жучкой, воевал с пиратами, страдал вместе с Вертером и замирал от чеканного волшебства пушкинских строк. Я читал взахлеб, как пьяницы пьют вино, и главным счастьем было ощущение, что этот источник бездонен.
Книгам я обязан своей профессией. Выбор ее дался мне нелегко. Методом тыка я перепробовал множество занятий — токарь, слесарь, сторож, охранник, дверевой — не путать со швейцаром — грузчик, художник, тракторист. Двух вкладышей в трудовую не хватило, чтобы их записать, пока я не нашел себя в газете. В захудалой районке на Курщине я понял, что это — мое. Встречи с людьми, до которых я был так жаден, дороги, которыми я бредил, и слово… чудесное, упрямое, неожиданное слово, в котором можно выразить и людей, и дороги, и себя.
И не просто выразить… По молодости лет мир казался мне крайне несовершенным и со всем юношеским максимализмом неудержимо хотелось его переделать. А слово как нельзя лучше для этого подходило. Глаголом жечь сердца людей, помните.
Жечь сердца в районке мне не пришлось, но мне нравилась моя работа, я чувствовал ее нужность, и если когда-то удавалось статьей или фельетоном защитить человека, восстановить справедливость, я полагал, что мое бытие оправдано на сто процентов.
И слова, и книги тоже были разными — они тоже принадлежали разным лагерям в затянувшейся войне Добра и Зла. Нынешние времена, когда хлынула на книжные прилавки низкопробная литература, славящая насильников и садистов, проповедующая самую темную скотскую. сторону человеческого бытия, рассчитанная на самые низменные инстинкты, я воспринимал как личное оскорбление. Всякую попытку ради скорой выгоды издать супермодный бестселлер того же Доценко или Воронина я воспринимал в штыки. Я верил, что временное помешательство пройдет и мы опять вернемся в ясный нормальный мир, где дно и небо занимают свои, положенные им от Бога, места.
А книга будет учить только хорошему.
Я и не заметил, что в своих раздумьях-воспоминаниях долго уже стою перед свежеуложенным штабелем. Что принесет читателям этот сборник? Чего в нем больше — злого или доброго?
Но я и не ожидал, что получу ответ так скоро.
…В книжном магазине покупательница взволнованно рассказывала:
— Прямо передо мной, пять минут назад женщину на перекрестке машиной как ударит. Аж на капот подкинуло и об лобовое стекло — все в крови. Сумка, книжки все разлетелось по асфальту.
Услышав о книжках, я пулей вылетел из издательства.
Толпа на перекрестке еще не разошлась, стояли две милицейских машины, и "скорая помощь" с леденящим душу воем разворачивалась в сторону больницы. Расталкивая зевак, я добрался до мостовой. Сумку милиция уже подобрала, а книги лежали как подбитые птицы, трепеща страницами под ветром. Я подобрал одну из них и подошел к сержанту.
— Вы знаете ее? — Спросил он.
Я молча кивнул головой. Сил говорить не было.
Свидетели показали, что машина, сбившая Татьяну, мчалась на красный. Водитель не остановился, но номер автомобиля запомнили. Автомобиль принадлежал городскому управлению культуры.
Она еще дышала, когда ее привезли в хирургическое отделение и что-то даже пыталась сказать в горячке. Врачи расслышали… мне надо домой… дочка одна.
Прощались мы с Таней Мигуновой во Дворце профсоюзов.
В этот день я напился так, как давно не пил.
И стал пить все чаще.
На поминках Люда Панова вдруг сказала:
— А я следующая за Таней.
И заплакала навзрыд горькими пьяными слезами.
Гнетущее тяжелое молчание воцарилось в издательстве. Будто какое облако повисло над нами. Реже рассказывал анекдоты зам, реже мы улыбались, почти отошли в прошлое посиделки по дням рождения и вообще по праздникам.
После работы все торопились по своим делам. А раньше могли еще проговорить, доспорить, не глядя на часы.
Танина смерть отпечатком легла на душу каждого.
Природа между тем без устали вершила свой круг и в город пришла весна. Я как-то и не заметил поначалу, только когда услышал гусиный гогот и понял, что в меховой куртке мне становится жарко, поверил и солнцу, и птицам. А вот уже и на теплом асфальте дети рисуют классики, и майская трава зеленеет на газонах, и от густого воздуха легко кружится голова. Лес на сопках покрылся сиреневой дымкой — это зацветали лиственницы. И вместе с лиственницами в летних платьях расцвели магаданские женщины.
Для меня эта весна совпала с выборами городского мэра. Памятуя предсказание Устиныча "что новая власть будет везде расставлять своих людей"", я время от времени отрывал голову от рукописей, балансовых отчетов и договоров и с любопытством следил за разворачивающейся на моих глазах баталией.
Сначала в качестве наблюдателя, но вот однажды мне позвонил один из замов нынешнего мэра — он и баллотировался — и попросил сделать макет выборной газеты.
— У вас же есть Данила-мастер, — удивился я. — Он что — заболел?
Я имел в виду пресс-секретаря городской администрации Данилова.
Заместитель промямлил что-то неопределенное и я понял, что Данила-мастер опять увильнул от острых событий. Это он делал классно — лизал только стоячих, бил только лежачих и вмешиваться при неясном исходе в драку было не в его принципах, если они вообще у него были.
Просьба заместителя была явно некорректной. Областное издательство во многом зависит от губернатора. Дотации, квартиры и вообще. И ссориться я с Сидором Ьуке- товым не собирался. Пусть и помимо воли, но так получилось, что я новому губернатору даже и голосами в свое время подсобил… Я участвовал в команде выдвиженца от Союза предпринимателей, бывшего председателя облисполко-ма Кранца Вячеслава Ивановича — нормального делового мужика, бывшего первого Чукотки, на мой взгляд, далеко неглупого и опытного. Его поддерживали и коммунисты. Но в решающую минуту наш выдвиженец решил не рисковать и сдал свою команду в распоряжение Букетова, чем и решил борьбу в его пользу. Кранц стал вице-губернатором и обещал своим сторонникам, а значит и мне тоже, всяческую поддержку в наших планах и проектах. Мне даже говорили, что обещания бывшего губернатора дать мне трехкомнатную квартиру — мы до сих пор теснились вчетвером в двухкомнатной хрущевке — исполнятся при новой власти. Чему я не очень-то поверил и был прав.
Я поначалу отказался. Тогда зам принес мне подборку газетных статей и попросил ознакомиться, и только потом уже что-то решать. Я прочитал.
Сказать, что газеты лили грязь на мэра, мало. Дружное охаивание Тарасенко, обвинение его во всех бедах, что стряслись с городом в последние годы — развал экономики, крах строительного комплекса, обнищание горожан — превращалось порой в самую настоящую травлю. В действиях всей этой хорошо организованной своры виделась умелая направляющая рука и я ее угадал сразу. Безусловно, это был Гена Шкурников — фамилия не в бровь, а в глаз — давний мой враг, продажный журналист, давно поставивший свое перо на службу власть имущим и своему карману. Я только удивился скорости, с которой он сумел перестроиться на сто восемьдесят градусов и снискать доверие у нового губернатора. Вчера ли еще в кампании за Михайлова он хлестко клеймил кандидата в губернаторы Букетова, да как!
Вот в газете " Территория" в статье с ехидным названием "Голосуем за Букетова — благодетеля родного!" он ни много ни мало упрекает кандидата в крупном мошенничестве, в хищении у бюджета города еще при мэре Дорофееве пятисот миллионов рублей — не уплатил налоги, показывает его как лживого, беспринципного человека. Думалось, что после одного этого, придя к власти, Букетов в порошок со-трет Гену… а он его, что называется, приблизил, дал при администрации должность и, похоже, большие полномочия.
Чудны дела твои, Господи…
Замешан был Шкурников и в вымогательствах. Так одно время он публиковал в "Магаданке" так называемый рейтинг местных банков. А перед этим ходил по банкирам и предлагал…
— Если хотите, чтобы рейтинг вашего банка в моих обзорах повысился, платите.
Ходил до тех пор, пока не нарвался на заместителя управляющего Внешторгбанком Сашу Быхаленко. Тот умудрился записать дельца на магнитофон, а затем выступил со статьей в той же "Магаданке". После этого обзоры прекратились.
Уже одно то, что против мэра выступает такая фигура, было способно поколебать мой нейтралитет, но тут заговорила и тяжелая артиллерия: столь важно было губернатору видеть на посту мэра непокорного города — Магадан прокатил Букетова, голоса он набрал, в основном, за счет трассы — своего человека, что он не выдержал, вмешался, нарушая все законы и юридические, и нравственные, в кампа-нию сам. Выступления в газетах, на радио, а больше всего по телевидению — любил Букетов покрасоваться на экране — напоминали начальственные разносы, только что без матерщины, ее операторы, наверное, вырезали. В политику — Букетов пришел с должности крупного хозяйственника с репутацией тоже крупного грубияна.
Когда кодлой на одного, это уже неприлично и, махнув рукой на все свои соображения, я согласился помочь Тарасенко. И по мере сил помогал — редактировал, макетировал, писал передовицы и организовывал выступления трудящихся и не очень.
Конечно, и без моих статей Тарасенко стал бы мэром — в городе он пользовался хорошей репутацией — тем не менее после выборов новый городской голова поблагодарил издательство и меня лично за поддержку и как водится тоже пообещал всяческое содействие в решении наших проблем.
Зато в отношениях с областной администрацией сразу почувствовался холодок. Реже стали приглашать на всевозможные совещания для приближенных, застряла запланированная в бюджете дотация на новую книгу, и, самое важное, куда-то пропала моя докладная по учебникам.
Это для издательства и не только было чревато…
С учебниками я связывал будущее издательство. Только они могли обеспечить нам устойчивый доход, не говоря уж о том, что для покупателей они стали бы просто дешевле.
Но тут были подводные камни…
С первых дней прихода в издательство я заинтересовался, по какой схеме обеспечиваются учебниками наши школы, прежде всего, федеральным комплектом. То есть таким набором учебников, который гарантированно оплачивается государством.
Выяснилось много любопытного…
Матрицы на учебники получал крупнейший в регионе полиграфический комбинат "Дальпресс", руководил которым до недавнего времени Юрий Бондаренко. Затем эти учебники приобретала частная издательская фирма "Уссури", а почему именно она, догадаться труда не составляло. Ею заправляла жена Бондаренко.
Пройдя сквозь семейное сито, учебники попадали в "Магаданкнигу" и только оттуда непосредственно в управление образования.
И все получали свой навар. Надежный. Постоянный. И крупный — стоимость вопроса была в пределах десяти миллионов рублей.
Во время очередной командировки в Москву я высказал заместителю нашего министра свои соображения. Мол, мы — издательство, у нас есть свои производственные базы — во Владивостоке и Иркутске. Почему бы не решать проблему напрямую — и дешевле и быстрее.
В Комитете печати этим заинтересовались и свели меня с директором издательства "Просвещение", — И мы с ним заключили договор, что по согласованию с областной администрацией матрицы учебников будут предоставляться в наше распоряжение.
По согласованию с администрацией…
Я долго ходил за этими согласованиями к Щербак и недоумевал, почему ясный и выгодный для области вариант тормозится. Я никак не мог поверить, что личная выгода чиновника куда важнее и областной и, осмелюсь заявить, государственной.
А ведь уже тогда за учебники стали стрелять. Был убит коммерческий директор издательства "Дрофа", понесло потери и "Просвещение".
Надо ли говорить, что когда на Олимпе воцарились новые боги, я сразу побежал с этими бумагами к Кранцу. Вячеслав Иванович внимательно меня выслушал и тут же дал команду департаменту образования разобраться с этим вопросом и ответить на мои предложения.
Разобрались и… мне посоветовали оставить их, как неперспективные. А когда я стал допытываться, что да почему, один из замов губернатора — Чеснокова — прямо посоветовала мне для собственного спокойствия забыть об учебниках.
Через неделю примерно в гороно мне показали постановление губернатора об обеспечении федеральным комплектом учебников школ Магаданской области. Там было сказано, что конкурс по завозу учебников в область выиграл частный магазин "Знание". По слухам, магазин принадлежал одному из родственников Букетова, ныне директору пивзавода. Но это по слухам — никаких доказательств у меня не было, да я и не сыщик, проблем хватало и своих.
Единственное, что я точно знаю, на этом рутинном постановлении был гриф "Секретно". Все-таки огласки они побаивались и это меня чуть-чуть утешило.
ГЛАВА IX
Ты глуп еще и молоденек,
И не тебя меня учить —
Ведь мы играем не из денег,
А чтобы вечность проводить.
А. С. Пушкин
Мы сидели у Поручика на даче и играли в преферанс. Кроме меня приехали еще Бухгалтер и Джентльмен. Вообще, цель нашего визита была самая благородная — поздравить Поручика с днем рождения и выпить по рюмке, но всем известно — где картежники, там и карты.
Жена Поручика Валентина — статная русая русская женщина, как будто сошедшая с полотен Васнецова, приготовив нам стол, исчезла во дворе, а мы принялись расслабляться…
Преферанс — традиционная игра северян, особенно в поездках. Простота правил, гибкость условий и вместе с тем отличный отдых, когда ты сидишь в певекской, к примеру, гостинице, а за окном вторую неделю бушует южак. Полярная ночь замазывает одной белесой краской день и ночь и тогда время определяется количеством пуль и бутылок. С бутылками в те времена бывали проблемы, а с преферан-сом проблем не помню. Всегда находилась пара таких командированных страдальцев. Но условия были чаще всего благородные — проигравший ставил стол.
Примерно в таких же обстоятельствах родилась и наша компания. Свободное время, желание отдохнуть… со смыслом. И конечно, все то, что несут в себе карты для русского человека — азарт, возможность риска, на кон поставить все и…
— Риск полирует кровь, — говаривает Поручик. Шоферюга-дальнобойщик, за плечами ничего кроме средней школы, но в наше время, когда кроме анкет стали интересоваться и человеком, природный ум, общительный характер плюс отличное знание дела помогли ему продвинуться до должности главного механика автобазы — и он прекрасно справляется со своей должностью. Кроме всего прочего, он еще и остряк и из него, как из травяного мешка, сыплются шутки-прибаутки. Я всерьез говорю, что он ошибся профессией. Нам, мол, далеко до него, особенно в знании русского фольклора.
— А не надо было в школе на ранцах кататься, — парирует Поручик и широким движением веером бросает карточную колоду.
На хозяина пули. У кого младшая карта, тот выбирает место и заказывает игру.
У меня король пик, но у остальных старшие масти и я сажусь напротив окна и записываю игру — сорок очков. Потом договариваемся расписать еще одну.
— У нас сейчас стоимость виста ноль пять, — подсказывает мне Поручик.
Для меня это новость. Раньше ставки были на порядок меньше.
— Инфляция, — вздыхает Джентльмен.
Игра началась.
Слева от меня Поручик, напротив Джентльмен и рядом Бухгалтер. Геннадий Михайлович действительно работает бухгалтером. В нашей компании он недавно, я с ним играл всего один раз.
Расклад для меня не самый худший. Плохо, когда я попадаю между Поручиком и Джентльменом. Они прекрасно понимают друг друга и втемную играют с одинаковой силой как в открытую.
Поручик берет карты — его слово — и бросив короткий взгляд на них, протягивает мне.
— Не хочешь?
То есть он предлагает мне мизер — не брать взяток — напополам. Никакого мизера у него конечно и близко нет. Даже игру можно играть, но рискованно.
Его предложение — явная провокация. Партнеры, еще не поднявшие карт, подумают, что у него очень слабые — а как иначе идти на мизер — и логично предположат, что у них сильные. И возможно, заявят игру втемную, на удвоенных ставках. Бухгалтер клюнет вряд ли, а вот Джентльмен не прочь иногда испытать судьбу, чем он мне и симпатичен — сам такой!
— Первый ремиз на вес золота, — провозглашает Джентльмен и решительно придвигает к себе прикуп.
— Взял на раз!
Но прикуп пока ничей. Последнее слово все-таки не сказано.
Бухгалтер, задумчиво шевеля губами, разглядывает свои карты. Поручик торопит…
— Запор, что ли… Слепому дорогу не переходят. Или играй семь!
Вообще, такие вещи в серьезной игре не произносятся. Женщины, скатерть и шум — враги преферанса. А к шуму традиционно относится все, что не связано непосредственно с игрой.
— Пас!
— Семь червей! — заявляет Джентльмен и я рад за него. Теперь точно сыграет, если бы не было карты — сказал бы шесть. Но тогда и его партнерам пришлось бы играть втемную..
— Пас! — слово Бухгалтера.
— Вист! — решает Поручик, — На семерной вся деревня вистует. Ложись!
Карты вистующих открыты и я вижу… вариант. У Бухгалтера нет одной масти и значит взятка тузом пик, на которую несомненно рассчитывает Джентльмен, уходит на мелкий козырь противника.
— Ай-яй, — причитает Поручик, бросая семерку пик, — корова пукнула — рога отвалились
— А теперь передавай мне ход по бубям, — командует он, — Без двух! Мельница закрутилась!
На семерной втемную без двух — это серьезно! В гору проигравший пишет сразу удвоенный штраф да висты — я произвожу нехитрые подсчеты… игра обошлась ему в триста двадцать восемь вистов или сто шестьдесят четыре рубля.
— Несчастный случай! — Джентльмен поднимается из-за стола. — Приглашаю.
— Вот так горбатых лечат, — разливает водку Поручик. — В мешок и шилом!
Игра началась.
Теперь сдает он.
Я поднимаю карты.
Есть особая магия в этом нехитром действе. Никогда не знаешь, что на этот раз дарит тебе судьба. Жирных тузов со смеющимися дамами в окружении чванных королей, или мелочь семерок и десяток, неожиданно выстраивающихся в непробиваемую схему мизера — помощи равных тогда тузам и королям. Или голяк — пас, когда впору поплакаться в жилетку Валентине на невезуху. Я думаю, чтобы по-нять Достоевского и Пушкина и многих, и многих, надо тоже быть игроком. Впрочем, необязательно в карты. В жизни всем нам выпадают моменты, когда на кон ставишь многое, даже саму ее…
Но в картах мне видится модель жизни, ее микрокосм.
Ты надеешься, строишь план и терпишь крушение.
Надо уметь проигрывать, держать удар. Удача повернется к тебе лицом.
Ты выигрываешь, все за тебя… потерял осторожность и все потеряно.
Наполните эту схему любыми обстоятельствами и деталями, дайте костям мясо и музыку включите — от плясовой до Шопена… Вся жизнь — игра!
У меня четыре масти и все по трц. Максимум три взятки без учета прикупа. А в прикупе может быть твоя удача, а может, и наоборот… Знал бы прикуп, жил бы в Одессе, — гласит игроцкая заповедь. Всего две карты бросает игрок посреди стола — они пока ничьи, они того, кто отважится на игру и сделает вызов судьбе.
Две карты! Приди ко мне две червушки — капитальный ремонт! Семь игры.
А не приди?
Но ведь что-то там есть.
А первый ремиз — золото. Я объявляю…
— Раз!
Все уже пропасовали и Поручик открывает мне прикуп. Два короля. Один червей, они и будут козырь, а второй — к тузу. Взятка. Шесть железных.
А если и расклад мне благоприятствует, могу и привезти.
— Шесть на червях.
— Вист.
— Второй.
Ну что ж, втемную даже интересней. Что-то они пронесут, может.
Взял семь взяток. Джентльмен опять без взятки, лезет на двоечку в гору.
Бухгалтер пишет висты на меня.
Сдача.
— Пас!
— Раз!
— Вист!
— Семь треф!
— Сыграно!
— Без лапы! Шесть да без одной, да за приглашение…
— Попка трусики сжевала, — комментирует нашу осторожность Поручик.
— Раз!
— Два!
— Отдаю все четыре на треф…
Пуля потихоньку заполняется, крупные игры редки и к столу мы поднимаемся тоже не часто, но поднимаемся и выпитое оживляет игру. Чуть-чуть раскованнее, чуть небрежнее. Единственный, на кого водка кажется не действует совсем — это Джентльмен. Даже наоборот. Чем больше он выпьет, тем кажется собранней. Только говорит несколько медленней.
Бухгалтера поймали на мизере, всучили две взятки. От этого или спиртного он побагровел, движения стали размашистыми и опять пишет висты на меня.
— Обожди, Геннадий Михайлович, я же не играл!
— Ох, черт, не туда!
Игра примерно равная. Джентльмен удачно все-таки сыграл несколько крупных темных и за счет разницы пули и горы выглядит наравне со всеми. В игре остается немногим больше двадцати.
И тут ко мне подваливает карта.
Даже без прикупа — девять на руках!
Прикуп практически ничего не дает и я оставляю его сдающему — пусть потренируется.
Все ждут, какой козырь я объявлю.
— Девять бубен!
— Вист, — мгновенно реагирует Поручик.
Боже, что я натворил. Вместо червей заказал бубен! а их у меня всего две штуки
— А могу я поднимать?
— Можешь, но в той же масти, — Поручик беспощаден. — Игра завистована.
Это уже раздевание. Без пяти на гору, то есть на девяносто.
Через несколько минут Бухгалтер, сыграв все-таки свой мизер, закрывает игру. Поднимаемся к столу, с огорчения я выпиваю полстакана водки — был в выигрыше, а сел почти, на пятьсот рублей из-за глупой оговорки.
Джентльмен утешает меня:
— Да брось ты, я в прошлый раз на тысячу влетел тоже так — на руках одна масть, а я ляпнул другую.
— Да я не из денег, Володь, так, настроение…
А настроение исчезло потому что я вижу — и тут мы изменились. И тут во главе угла нажива. Обмани ближнего, иначе дальний приблизится и обманет тебя дважды. Еще год назад на такие оговорки мы и внимания не обратили бы, что же с нами делает время!
И водка.
Легкий туман поплыл перед глазами, огорчение исчезло. Сам виноват — пять раз подумай, а потом скажи. Да сначала про себя-то ли говоришь, проверь. Язык мой — враг мой.
У Поручика язык чешет без остановки:
— Ну вот кто из вас скажет, где в Магадане находится подземный переход? — Он озирает нас круглыми от спиртного глазами и останавливает свой взгляд на мне.
— Ну скажи, краевед.
Это продолжается наше давнее соперничество. Мы с ним оба четверть века на Колыме и оба достаточно поколесили по ее дорогам, иногда спорим, где находится то или иное озеро или река, или перевал. У него преимущество по трассам, понятно, дальнобойщик, у меня по общей картине.
Вопрос, действительно, интересный. Я пролистываю в памяти наши улицы — ничего и близко нет. Знаю, что тогда были прожекты построить переходы на Колымском шоссе, затем на Ленина у Полярного, но они так и остались прожектами.
Но то, что рассказывает Поручик, для многих открытие.
— В девяносто втором году собрались строить на Нага- евской школу. Тогда в моргородке много детей жило да и Шанхай поставлял учеников, а школа получалась через дорогу. И тут начальник второго строительного управления, возглавлял его тогда Шапкин, с проектом и вышел. Его поддержали и отвалили пятьсот тысяч рублей. По тем временам большие деньги, особенно если на доллары по тогдашнему курсу перевести.
Потом все строительство в городе лопнуло и школа осталась на уровне первого этажа, можете съездить посмотреть. Исчезла надобность и в переходе. Деньги, понятное дело, остались у подрядчика.
— Ну хоть что-то было сделано, — интересуюсь я.
— Яму большую выкопали, прямо напротив магазина. Но после того, как прошлый год в нее две машины влетели, засыпали.
Поручик торжествует. Похоже, в этот раз он меня на лопатки положит.
Ага, как же!
— Ну так вот, — нарочито небрежно говорю я. — С этим начальником стройки я водку вчера пил. И не надо обижать мужика, ни к чему. Они всего метра до сбойки не дошли — бетон кончился. А потом дожди, а потом борьба за демократию, кому оно на хрен, то строительство нужно!
— И еще! Есть и второй подземный переход, куда более древний. И вел он от нынешнего обкома партии во двор магазина "Алмаз", там раньше следственный изолятор' НКВД находился.
— Из бюро и в БУР, — каламбурит кто-то, но никто даже не улыбнулся.
БУР — барак усиленного режима. Старые колымчане это знают. Бараки эти, как правило, из дикого камня с коваными решетками еще и сейчас стоят по старым лагерям..
— Два-один, — резюмирует, вздохнув чему-то, Джентльмен.
Я выхожу на веранду, подышать свежим воздухом. Вид отсюда замечательный. Дача расположена высоко на сопке, у кожзавода и отсюда хорошо видно синюю подкову бухты Гертнера и город вплоть до Пионерного. Улицы, площади, зеленые огоньки скверов, белые девятиэтажки восклицательными знаками расставленные по Набережной. В обозримом будущем ее планировали одеть в бетон, очистить от мусора, на всем протяжении разбить бульвары… Сейчас, когда городской бюджет задыхается без денег, об этих дерзких проектах уже никто и не заикается — завезти бы уголь на зиму, заплатить бы чем учителям и медикам.
Со стороны моря медленно поднималась громадная фиолетовая туча. Лучи заходящего солнца, как прожектора, били в ее толстое шевелящееся нутро и не в силах пробить ее расплывались как масло по воде. От этого казалось, что там, в глубине бушует фантастический пожар. Его длинные языки едва не достигали тихих мирных улиц, плоских крыш девятиэтажек, зеленых лиственниц городского парка.
Я написал — мирных улиц… Должно быть, задумался.
ГЛАВА X
Бывали хуже времена,
Но не было подлей.
Сын известного магаданского писателя Станислава Оч- каса был убит прямо на службе, а служил он как никак в ФСБ и дежурил в гараже этого солидного и грозного некогда заведения. Официальная версия — самоубийство.
Я был на похоронах и слышал как причитала, прощаясь с сыном, мать. И слух мой резанула ее горькая жалоба:
— И сам ты, бедный, эту пулю искал.
Потерянный отец, враз потерявший лоск и стать, мотался по комнате, не зная куда себя деть.
Мы обнялись и он шепнул мне…
— Какое самоубийство, Валя! Два выстрела было, два…
А сын другого моего коллеги был расстрелян среди белого дня у магазина "Универсам" автоматной очередью, как в тире. Говорили, бандитские разборки.
И тут начались взрывы. Первый грянул прямо у окна моего дома — взорвали кооперативный гараж. Было это теплым летним вечером, на крыше гаража обычно в это время резвились дети, рядом общежитие, через пять метров — остановка. Но жертв не было и спас людей, как ни странно, комиссар Катани. Да-да, в это время начиналась очередная серия "Спрута" и люди уже восседали у телевизоров. Они еще не знали, что проснулся наш родненький спрут — не спрут, но тоже не подарочек.
А потом пошло. Взрывали, как водится, машины, оффисы конкурирующих фирм… взорвали даже фасад почтамта.
Но один случай стоит особняком…
Сереньким осенним днем в приемную мэрии вошел такой же серенький мужичок в толстой болоневой куртке. Он осведомился у секретарши, на месте ли Дорофеев и терпеливо стал дожидаться своей очереди.
— Да не сможет он вас принять, — в который раз объясняла ему секретарша.
— Сможет, — бурчал, пряча глаза, посетитель, — Мне надо. V
Что изменило его планы, неизвестно. Но, просидев почти полтора часа, — у мэра шло совещание — посетитель поднялся и вышел из приемной.
Он дошел до автобусной остановки "Цветы", несколько раз нервно прошелся мимо жидкой группы ожидающих пассажиров и отдалился к зданию детского сада.
И тут рвануло. Да так, что по всей округе со звоном посыпались стекла, взрывной волной стоящих на остановке людей смело, как городки битой…
Когда воцарилась тишина и прошло смятение первых минут, кто-то поискал глазами странного мужичка в странно толстой куртке и не нашел… Его не было.
Нет, конечно, он был… На траве, на листьях, на стене ближнего дома… может быть, даже в воздухе, смешиваясь с дождевыми каплями, медленно опускался вниз.
— Там и собирать было совершенно нечего, — сказал мне потом один из оперативников. — Два полиэтиленовых пакета.
Но после того, как гранатные взрывы прогремели у подъезда горотдела милиции, аторитеты решили положить конец беспределу. Завязавшаяся ожесточенная борьба как между группировками, с одной стороны, так и между бандами и милицией, с другой, мешала серьезному бизнесу… В Магадане состоялся сход воров в законе.
Был он приурочен к очередному турниру Попенчен- ко. Может быть, авторитеты хотели сочетать полезное с приятным, а может, и просто потому, что среди нынешних крутых немало и вчерашних спортсменов. Тем не менее сход состоялся, по городу был назначен смотрящий и в мутной клубящейся мгле криминального мира наметились какие- то очертания… В городе стало относительно спокойнее… если покоем можно назвать, когда каждый день либо погибают, либо исчезают без вести люди:
…Однажды у кассы администрации президента — пришлось мне просить друзей, чтобы устроили билет на Магадан — я встретил бывшего секретаря обкома Шайдурова.
— Сергей Афанасьевич, — удивился я, — вы в Магадан?
А удивился я тому, что знал — Шайдуров последнее время тяжело болел, у него нелады с памятью и что ему делать в Магадане, если работает старик в президентском общепите.
Но ретроспективная память у бывшего первого секретаря области оказалась прекрасной и он даже вспомнил меня, то есть не совсем меня, а тот эпизод, когда из-за моей статьи судили редакцию районной газеты.
— Не хватало еще, чтобы партийные газеты судили, — изрек тогда Шайдуров, и дело, как по мановению волшебной палочки, рассыпалось.
Как и всякий северянин, возвращался я с изрядным перегрузом, а денег было в обрез и, поколебавшись, я подошел к Шайдурову.
— Вы не против, если мой чемодан вместе с вашим проедет регистрацию.
Шайдуров был не против, но когда мы уже уселись в самолет и наши места оказались по соседству, он мне пожаловался:
— Какой-то мудак дал мне чемодан на регистрацию, а что в нем — не сказал. Меня спрашивают, а я не знаю, что ответить.
Я благоразумно умолчал, что этим мудаком был я. Мы разговорились.
Выяснилось, что летел Шайдуров разыскивать своего сына. Вот уже год, как его не могли нигде — ни среди живых, ни среди мертвых — отыскать.
Краем уха я эту историю слышал.
Сын его был врачом. Пил безбожно. Развелся с женой и забичевал. И пропал. Милиция, КГБ — найти его не могли. И вот Шайдуров летел сам попросить губернатора помочь в этих поисках.
Я знаю, что и этот его визит был бесполезным.
Сына его нашел много позже один из следователей прокуратуры — Жуков. Зная образ жизни пропавшего, он правильно предположил, что искать его надо среди неопознанных трупов. Он поднял горы дел, вычленил из них кандидатов — по возрасту, по описаниям. Это была адская работа — мало кто знает, что в иной год таких неопознанных, особенно "подснежников" — трупы, обнаруженные по весне, — в Магадане набирается до ста и выше человек.
Опрашивая людей, знавших младшего Шайдурова, Жуков выяснил, что пропал тот вскоре после того, как продал квартиру. Либо убили из-за денег, либо "сгорел" от водки… Это дало ему примерное время исчезновения.
И он нашел его. Нет, Шайдурова не убили — он умер сам, спился на одной из бичевских хат.
Но для достоверного ответа необходимо было опознание. На эксгумацию прилетела мать и она сына опознала.
Вскоре после этого Сергей Афанасьевич умер.
— …Тогда же, на сходе, — рассказывал мне Устиныч, — и были приняты эти судьбоносные для города решения… идти во власть, разделить сферы влияния — кому золото, кому рыба, кому топливо, кому водка… Не знаю врут или нет, но были даже намечены кандидатуры для внедрения в городскую и областную администрации и думы, выделены громадные деньги для поддержки одних и дискредитации других кандидатов.
— Устиныч, откуда у тебя такие сведения? Какой воробышек тебе чирикает, как пишут детективисты?
— Старые связи, — полыценно улыбнулся Устиныч. — И я стараюсь пользоваться всеми тремя источниками информации.
— То есть?
— Но это же азбучная истина. Официальная — газеты там, телевидение, радио. Народная — слухи, сплетни, разговоры и, наконец, забугорная. Сравниваю, так сказать, три к одному и вычленяю алгоритм.
— Конечно, — усмехнулся я, — времени у тебя достаточно.
— Ну это ты зря, — ничуть не обиделся сторож. — Голову тоже иметь надо.
— Сейчас тебе один из источников перекроют, — кивнул я на стопку газет и журналов, — Пенсии не хватит.
— В библиотеку пойду.
— А библиотеки тоже платными станут, — злорадствовал я. — Им жить не на что, даже книги продавать стали — ценнейшие раритеты…
— Быть не может!
— А я говорю. Сотрудники в суд подали — зарплаты, мол, нет. Судья решение принял. Пристав пришел — а что у вас, маму вашу, ценное есть. А что ценного в библиотеке, Устиныч, как ты думаешь?
— Да-а, — загоревал Устиныч, — и впрямь труба дело, если библиотеки распродавать будут. В войну, я слышал, люди умирали, а книги берегли.
— А сейчас и идет война, — подытожил я. — Третья мировая. На уничтожение нашего народа. Экономики. Культуры. Науки. И самое страшное — нравственности — ты посмотри как за десять лет этой гребаной перестройки народ одичал — будто не отцом-матерью рожденные, все что было святым в грязь втаптывают, что осуждалось — восхваляется. Свобода! Свобода чего?! Блуда. Блуда слова, мысли, совести.
— Заблудился народ, — вздохнул Устиныч.
— В каком смысле? — Неожиданное толкование меня позабавило: — Блуждать или блудить?
— И то и другое. Пришел Сусанин с родимым пятном на лбу…
Вот так мы славненько поговорили.
А жизнь бежала своим чередом. И в издательстве тоже. Мы вовсю добивали восьмитомник Кира Булычева, на подходе была первая книжка из задуманного нами трехтомника Олега Куваева и совсем было забыл о "Сыне Сатаны".
…Заболела Люда Панова. Заболела русской популярной болезнью, которая именуется у нас запоем. Она и раньше маленько подливала, но мы как-то старались этого не замечать. Работник она была безотказный, человек простодушный, если сегодня проштрафилась — завтра втрое наверстает. А тут нет и нет, болеет, говорят.
Самое странное, что она не пришла даже за авансом, что по нынешним меркам дело неслыханное.
— Позвони домой, — попросил я кассиршу Раю Большакову.
Рая позвонила и через минуту с перекошенным лицом ворвалась ко мне в кабинет.
— Она умерла!
— Что? — не врубился я, — кто умер?
— Люда умерла!
— Да ты что, кто это тебе ляпнул?!
Я спешно набрал номер телефона Панова. Ответил ее муж Борис Борисович.
— Позовите Люду, Борис Борисович!
— Ее нет! — Пьяным голосом ответил он.
— А где она?
— Умерла.
— Когда? — все еще не веря допытывался я.
— Давно, неделю назад.
— Так она в морге?
— Нет, дома…
Поняв, что от него толку не добиться, я бросил трубку.
— Рая, бери еще кого-нибудь с собой и срочно к ней домой. Что-то там случилось.
Вместе с бухгалтером они пулей умчались на Кольцевую, где тогда жила техред.
Вернулись они только часа через два и все это время я места себе не находил. Пытался звонить Пановым, но номер не отвечал.
Еще не услышав от них ни слова, я понял — случилось страшное. Настолько, что даже наша сдержанная, как это и полагается представителям этой профессии, бухгалтерша рыдала в голос.
Рая с трудом, настолько она была потрясена, рассказала следующее.
…Уже на лестничной площадке они поняли недоброе: тяжелый трупный запах просачивался из-под двери. На звонок долго никто не отвечал. Затем прошаркали неуверенные шаги и безумно пьяный Борис Борисович долго возился с запорами. Когда он открыл, они едва не попадали в обморок. Рая, как наиболее храбрая, кинулась в первую очередь к окнам, расшторила их и открыла форточки.
— Где Люда? — Тряханула она качающегося С бессмысленным выражением мужика.
— Там… — Он показал в направлении спальни.
Рая кинулась в спальню и не могла удержаться от кри-. ка. Раздувшейся глыбой — она и при жизни-то была ой-ой Люда лежала поперек кровати, а под боком у нее — мертвая ли, живая ли — семилетняя ее дочка Оля. Женщины не растерялись, пока одна вызывала "скорую", вторая пыталась оказать помощь девочке — та еще дышала.
Подъехала "скорая", за ней милиция. Олю увезли в со- матику — тяжелое трупное отравление, ее маму в морг…
Выяснилось, что умерла наша техред почти неделю назад. И все это время, прижавшись к разлагающемуся телу матери, спала с ней девочка.
Почему Борис Борисович не вызвал "скорую"? Не может быть человек настолько пьян, чтобы не понять, что рядом с ним труп! А ребенок!
Косвенно на этот вопрос мне ответил паталогоанатом:
— На теле умершей было множество ушибов и синяков. — Но состояние трупа — неделя, представьте себе, — не дает достаточных оснований утверждать их происхождение.
— Да, неглупый мужик…
— Сволочь… чтобы скрыть следы, он даже ребенком готов был пожертвовать! Три дня откачивали.
Через два дня после похорон Борис Борисович явился за зарплатой жены.
Я отказал ему и написал письмо в городскую администрацию с просьбой решить вопрос о попечительстве над дочерью Люды.
Ответа я не получил.
Борис Борисович подал в суд, в прокуратуру, написал жалобы во все мыслимые и немыслимые инстанции. А с целью ускорения вопроса регулярно звонил мне с угрозами разобраться… найдутся, мол, ребята!
Но мне и так было страшно!
…Еще на кладбище подошел ко мне Слава Пыжов и как- то странно на меня посмотрел. Когда закончилась печальная церемония и я решил один пройти по кладбищу, где уже много знакомых ждут не дождутся меня, он присоединился. У могилы Виктора Николенко мы задержались.
Поэзия Николенко — особая, мало пока кому известная страничка в русской литературе. Есть поэты — вулканы, водопады, ураганы… Его стихи — огонек свечи, почти неслышное бормотание лесного ручья, слабое дуновение ветерка… Писал он мало, жил трудно, умер в одиночестве… Хоронило его человек пять и я хорошо помню тот промороженный день и то состояние духа, которое мной тогда овладело. К сожалению, дожив до полтинника, человек уже приобретает печальный опыт прощаний с друзьями и близкими, ему знакома атмосфера отчаяния, горя, безвозвратной потери. На похоронах Виктора этого не было — было ощущение примирения с природой, с миром, ощущение долгожданного покоя и отдыха. Как будто сама его душа — он был очень добрый и миролюбивый человек — в этот миг снизошла до нас и утешила среди этой юдоли.
Но говорили мы с Пыжовым не о Николенко.
— Три смерти за полгода, — сказал Пыжов, — Тебе не кажется это странным.
— Три с половиной, — сказал я. Мы думали об одном и том же.
Слава Пыжов за последние несколько лет здорово и во многом необъяснимо для меня изменился. Я помню его журналистом молодежки, талантливым литератором, влюбленным в жизнь и в красивых женщин парнем. Очень мягким, тактичным и неукротимым там, где это касалось справедливости… Ради нее он шел в любой бой — с хулиганом ли, с системой ли. По пятам за ним шла слава бесстрашного журналиста, к нему обращались в случаях, когду уже не к кому.
Он и сейчас работал журналистом, но писал в основном на темы религиозные. Он закончил Духовную академию, преподавал в воскресной школе. И о чем не заговори с ним обязательно перейдет на божественное. Помню, на отчетно-выборной конференции журналистов при обсуждении его кандидатуры как делегата на Российскую конференцию, один из коллег назвал его узколобым фанати-ком. Но он таковым не был — я только догадывался, какая громадная мучительная работа творилась в его душе и я едва ли подозревал в результате каких страданий и сомне- ниий, бессонных ночей и тяжелых дней пришел он к своему выбору, пришел к Богу. Уж Пыжов-то не подсвечник, и я знаю, что независимо от последних событий, исход был бы тот же… они, может быть, только ускорили процесс.
— Хотя искусить дух Господень по Симону-волхву и по Анании и Сапфире, яко пес возвращаяся на круги своя и на блевотины своя… да будут дни его малы и злы, и молитва его будет во грех и диавол да станет в десных его и изыдет осужден в роде едином. Да погибнет имя его, да истребится от земли память его. И да приидет проклятство и анафема его не точию сугубо и трегубо, но многогубо!
Да будет ему Каиново трясение, Гиезево прокажение, Иудино удавление, Симона-волхва погибель, Ариево тресновение, Анании и Сапфири внезапное издохновение, да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прощен, и тело его не рассыплется, и земля его да не приимет, и да будет часть его в геене вечной и мучен будет день и нощь…
— Это что? — спросил я у Славы, когда он замолчал. — На молитву не похоже.
— Это анафема, — тихо ответил он. И очень серьезно добавил:
— Я знаю, что книга "Сын Сатаны" проклята.
— Как это… проклята. Она же не человек.
— Зато делали ее люди.
— За что же их, они делали свою работу?
— Это плохая работа… плохая книга.
— И кто же их… проклял?
Этот вопрос остался без ответа. Сам, мол, понимаешь.
— А Люда-то при чем? Она просто технический редактор, она выполняла свои обязанности… по приказу.
— Фашистских генералов за что в Нюрнберге судили? Они ведь тоже приказы выполняли. И судили их за отождествление с приказом.
— Ну ты сравнил…
— Разговор, похоже, зашел в тупик.
Будь это кто-то другой, я бы просто улыбнулся. Но в данный момент мне было не до смеха.
— И… что же делать? Отнести книгу в церковь, снять проклятие?
— Нет, ее надо уничтожить.
— Как ты это представляешь — двадцать тысяч тираж, пятерка — штука. В особо крупных размерах…
— Не знаю — тебе решать. Она еще тебе аукнется.
Вот тут-то я разозлился:
— Слава, я уважаю твои взгляды. Это твое личное дело — вера. Но меня всегда бесит, когда только на том основании, что люди что-то прочитали или услышали, или к чему-то приобщились, они начинают вещать и пророчествовать от имени Бога! Но ты же грамотный в этом отношении человек, ты помнишь, что сказано в Библии. Не буду ссылаться на книги, это твоя епархия, но вспомни…и будут пророчествовать от имени моего лжепророки.
— Второзаконие, глава тринадцатая, — автоматически заметил Слава. — И все равно, подумай.
Вдалеке загудел клаксон. Нас уже ждали.
ГЛАВА XI
Презирающий свою жизнь — хозяин и твоей.
Платон
Говоря Пыжову о трех с половиной смертях, я имел в виду себя и, если он не переспросил, то понял правильно.
Физические раны мои зарубцевались, я уже и на волейбол стал потихоньку ходить и даже танцевать при случае. Но нельзя было сказать этого о душе. Смутное состояние опасности висело, как дамоклов меч, над головой и, хотя я уже давно не ставил ружье в изголовье и не шарахался от подозрительных прохожих, все равно я был далеко не тот беспечный Федяй. И видимо, как я подозревал, уже никогда им не стану.
Занимаясь делами издательскими, суетой наших будней, охваченный в объятиях больших и малых дел, я ждал продолжения… И оно последовало.
— Ну, вот, — вздохнул в трубке Александр Михайлович, — нашел я твоего убивца. Приезжай, поговорим.
Сердце у меня дрогнуло и подкатило к горлу.
— Ладно, — согласился я. — Встретимся там же.
Там же, это значит, у "Салюта". Рядом со стоянкой "Макака". Там всегда многолюдно, одни въезжают, другие выезжают и вряд ли кто обратит внимание на минуту тормознувший автомобиль.
Джип "Чероки" — бандитская машина — подошел через несколько минут. Александр Михайлович распахнул дверцу и мы покатили.
После обмена приветствиями, традиционного полупустого трепа, Саша, вздохнув, начал:
— Сам не пойму, хорошо это или плохо, что я его нашел. Как — рассказывать не буду. По агентурным данным. Можем на него даже сегодня посмотреть, кстати, давно и не расслаблялись.
— "Империал"? — Полувопросительно предположил я.
— Ну да, в других точках ему должно быть западло сидеть. Крутой мэн.
Он явно никак не мог приступить к главному.
— Саша, кто он, тудыт твою… что ты Муму за хвост тянешь — ее давно уже Герасим утопил.
— Да сам-то по себе он шавка, никто.
— Тогда кто за ним. Сто стволов. Так столько у нас и по области не наберется.
— Наберется-наберется, не волнуйся. И стволы бы не смутили, сам знаешь, есть пока силенки и у нас, а надо — товарищи подсобят. Есть тут две заковыки.
— Первая?
— Первая в том, что ничего ты, конечно, уже не докажешь. Даже если опознаешь. И время прошло, и в случае нужды алиби он всегда организует. А улик других никаких.
— А девка?
— А где она, твоя девка! И даже если найдешь, вот тебе моя голова — либо она не признается, что это она, либо побоится выступить как свидетель… хотела бы, давно объявилась.
Я помолчал, переваривая услышанное.
— Так, а вторая?
— Он сын этого… — и Саша назвал фамилию, которую ну никак я при всем том понимании, что и страна бандитская, и нравы волчьи — не мог услышать.
— Не может быть!
— К несчастью, может.
— И ты думаешь… — нерешительно спросил я, — Он его
начнет отмазывать.
— Нет, не начнет, — после некоторого раздумья произнес Саша, — он начнет размазывать тебя. То есть он просто тебя размажет — впереди выборы, ему светит ох большая и не на нашем уровне карьера.
— Саша, — ну я же его хорошо знаю. Он всю жизнь был порядочным мужиком.
— Дурак, — заорал наконец Саша и едва не проскочил на красный свет — мы уже летели к Пионерному — ты что не понимаешь, что за ним кодла! И что бы он не решил, будет так, как кодла эта хочет. Так, а не иначе.
— Все равно, я с ним хочу поговорить.
— С кем — с ним. С убивцем или с этим…
— С этим.
— Ну предложит он тебе, в лучшем случае отступного, за все твои, так сказать, рыдания, хотя нет — не предложит. Ведь он тебя тоже хорошо знает и знает, что и ты опасен. А в такой ситуации, как у него сейчас, опасен вдвойне.
— И что же делать?
— А что делать — живи. Проглоти и живи. Как все… глянь, целому народу по морде дали и еще плюнули туда же — ничего, проглотил. А ты что себя — выше народа считаешь.
Я поневоле улыбнулся. Этой фразой он напомнил мне один из далеких эпизодов, когда меня разбирали на бюро в Тенькинском райкоме партии за фельетон "Лесной барин" о распоясавшемся директоре леспромхоза. Именно так сказал тогда второй секретарь Гагаринов. Я ему ответил:
— Народ, народ, а я навоз, что ли?
За эти слова меня вдобавок ко всему чуть ли в политической незрелости не обвинили, спасибо, что кто-то из членов бюро подсказал секретарю, что это не я, а Базаров, точнее, Тургенев. Против Ивана Сергеевича Виктор Тихонович не попер, замяли.
Мы сделали круг по объездной и Саша высадил меня там же, где взял.
— Значит, в семь в "Империале"?
— Угу. А туда как, свободно?
— Прорвемся. Там меня должны еще помнить.
Но на пути к ресторану у меня было еще препятствие.
— Люда, — осторожно начал я. — Я сегодня вечером должен пойти.
— Это куда еще?
— Ну, понимаешь, по делам.
— Что это за дела по вечерам? — жену явно не обрадовало мое сообщение.
— Так не по бабам же, — попытался я пошутить и это было самым неудачным, что я мог в этой ситуации сказать.
— Ах, он еще мне одолжение делает, что не по бабам. Что пойдет водку жрать или в карты играть или все вместе. А дома, глянь, сын совсем от рук отбился — неизвестно где пропадает. Младший книжки не раскрывал. Духовка не отремонтирована..
— Корова недоена… — поддразнил я.
И тут на мою бедную голову обрушилось все, что говорится в таких случаях. И загубленная жизнь, когда сидишь одна-одинешенька, и все мои прегрешения вольные и невольные, явные и тайные, и что все мужики как мужики.
Вот тут-то я не выдержал и принялся хохотать. Наверное, реакция была не совсем предсказуемой, так как жена сначала умолкла, а потом, на всякий случай всхлипнув в передник, спросила:
— И чего же я такого смешного сказала?
— Слушай анекдот… На перемене в учительской веселый треп. О разном. И о том, что у мужика яйца должны быть холодными — чтобы семя лучше хранилось. И слушает своих коллег, разинув рот, молоденькая учителка.
Ну посмеялись и разошлись, а на другой день она с агромадным таким фингалом в школу приходит. Все к ней - что, да кто?
— Муж, — всхлипывает.
— Пьяный, что ли?
— Не, трезвый.
— Ну так рассказывай!
Рассказывает. Как легли спать, а она мужа за яйца хвать и спрашивает:
— Вась, а Вась, а чего это у всех мужиков яйца холодные, а у тебя горячие?
Ну, а остальное понятно.
Вот что значит вовремя пошутить. Жена поулыбалась и разрешила мне хоть до часу, но сама она сходит к подруге в гости… Последнее мне не совсем понравилось… совсем не понравилось.
Н-да, такой я оказывается стал человек — и рыбку съесть…
…Ресторан "Империал" располагался на месте старого ресторана "Магадан". В допотопные времена случалось и мне навещать его. Но сейчас я никогда бы не признал здесь ни одной знакомой детали, кроме, разве, колонн. Прямо посредине зала бил затейливо подсвеченный фонтан, за столиками вперемежку с роскошными зелеными пальмами размещалась небольшая сцена, на которой потихоньку наигрывал немудреную мелодию оркестр, причем играл на достаточно высоком уровне, труба, так прямо меня очаровала. Между столиками сновали вышколенные, одетые в униформу официанты.
— Никак растерялся? — ехидно спросил меня одетый как дипломат на президентском рауте Саша. — А вот они каждый вечер здесь околачиваются.
Я проследил за его взглядом. У сдвинутых возле окна столов бражничала компания. В основном молодежь. Половина нерусские. То ли ингуши, то ли азербайджанцы.
— Ты думаешь, тот с ними?
Однако я изрядно заволновался. Шутка ли — увижу эту рожу. Заодно сравню со своими кошмарами.
Саша был невозмутим. Жестом подозвав официанта, спросил у меня:
— Водку? Коньяк?
— Водку, чего уж.
— Значит так, бутылку "Посольской", салат из крабов, селедочку, ясно, помидоры и нежирной буженинки — это для начала. Эдак через полчаса подашь горячее. Потом разберемся.
— Саша, мы сюда зачем пришли? — Пытался я его образумить.
Цены, как я успел заметить, здесь были астрономические.
— И за этим, и за тем, — ответствовал полковник. — А насчет денег не волнуйся, я тебя пригласил. Сколько мы с тобой вот так не сидели…
Мы чокнулись. И несколько минут молчали, отдавая дань закуске. Цены ценами, но порции были щедрыми.
— Между первой и второй… — рюмки опять были налиты и мы снова "вздрогнули".
Анализируя потом этот вечер, я все-таки думаю, что выпито было слишком много. Для меня слишком много.
Однако тогда я так не полагал. Пил, ел, слушал полушутливый треп и чувствовал, как пружина во мне начала разжиматься. Все воспринималось в каком-то не то чтобы розовом, но в сиреневом цвете точно… Ага, как раз оркестр ее и играл "Сиреневый туман над нами проплывает…"
— А ты знаешь как он погиб?
— Кто?
— Автор этих стихов, Коля Рубцов.
— Расскажи, если знаешь.
— Любовница бутылкой шампанского убила.
— М-да, — хмыкнул полковник. — Бытовуха. Вот он садится рядом с блондинкой, — без перехода продолжил он, — в серой паре, галстук красный.
Я впился взглядом в парня. Обычное лицо, густые черные брови, нос крючком и небольшие аккуратные усики… Вот усов у него тогда не было, это точно.
На минуту я засомневался, тот ли?
Тут парень, усевшись, потянулся к чему-то невидимому для меня на столе и в памяти у меня щелкнуло. Движение! Движение хищника — именно так, правой рукой с поворотом корпуса достал он меня.
А когда он окончательно угнездившись, повернулся в профиль, остатки сомнений развеялись. Это был он!
— Спокойней! — Положил свою ладонь поверх моей полковник, — Не так пялься, не девка. У таких зверей чувство слежки и наблюдения на уровне подсознания.
Ай да, Бычков, ай да, художник! Вывел-таки меня на злодея. Вот ведь странное дело — покажи мне его фотографию — не признал бы. А художник… он глядел глубже, он видел, ощущал ту недобрую силу, исходящую от натуры и, как смог, отобразил ее.
— Жандармов Виктор. Год рождения — одна тысяча девятьсот семьдесят второй, мать русская, отец, ну отца ты сам знаешь. Две судимости — первая за хулиганку и изнасилование, вторая — соучастие в убийстве. Как-то вышло, что потом из соучастника он превратился в свидетеля. Кстати, эту историю ты должен помнить: в "Астре" человека прирезали. А судья, теперь он уже не судья, выпустил убийцу под залог. Конечно, тот руки в ноги, тем более уроженец Кавказа, его оттуда уже не достать. А этот сейчас глава фирмы "Блек", посреднические услуги. Учится в юридическом, видно, крепко хочет знать, на каком основании его когда-нибудь шлепнут. Был женат. Жена исчезла примерно год назад — поехала отдыхать на Таиланд и в Москве уже по возвращении исчезла.
Но это еще не все. Расстрел азербайджанцев у Центробанка помнишь?
— Еще бы мне не помнить. Двоих прямо на лестничной площадке рядом с издательством хлопнули…
— Да, те приехали — группа из семи человек — доллары меняли на рубли. Все у них было отлажено. Четверо с машиной работают возле банка, еще трое страхуют из окна на той самой лестничной площадке — вид оттуда на подъезд к банку прекрасный. Как только набирается сумма — курьер передает страхующим, те отправляют деньги в безопасное место. Налетчики проследили их цепочку и в момент передачи денег одновременно застрелили охрану, что была в автомобиле и тех, что подстраховывали сверху. Учитывая, что день уже заканчивался, взяли они тогда немало.
— И Жандармов в этом участвовал.
— О нем сказать точно не могу, то есть о степени его участия, но один человек из его конторы засветился.
— Слушай, я вот все понимаю — но смотри, раньше государство за доллар могло в тюрьму угрести — валютные операции, — а сейчас эти, к любому банку подойди, торгуют, нередко и фальшивками. Я в Беларуси недавно был, там если тебя поймают с этим делом, не только все доллары конфискуют, но еще и срок могут намотать. А у нас что?
— Нет закона. И потом. Беларусь — государство, а у нас — обломки империи. Улавливаешь разницу?
— Да… печально. Печально то, что все здравомыслящие люди это понимают, а ничего не предпринимают.
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков".
Но тут-то буйные и появились. Я пропустил момент, когда и с чего это началось, драка вспыхнула, как бензин от спички. За теми как раз столами, где сидел наш объект. Дрались и весьма неплохо — удары были вполне профессиональны — сначала двое, но тут к ним подключились с визгом их девицы, к девицам официанты, охрана, со звоном полетела со столов посуда, а потом и сами столы и через, минуту буквально в центре ресторана бушевал маленький смерч из воя, матерщины, мечущихся тел и кулаков.
— Пошли отсюда, больше нам делать нечего, — хмуро сказал полковник. Положил на стол деньги и мы встали.
Путь на выход лежал мимо дерущихся. Можно было обойти, но для этого требовалось чуть-чуть, всего два шага, обогнуть колонну. Но меня как кто под ноги толкал и я пошел напрямую.
Наверное, влекла нас к друг другу неодолимая сила и я не понимаю, как на моем пути вдруг оказался Жандармов. Замахнулся ли он на меня в горячке драки, приняв за противника, еще что, но только в следующее мгновение я сам развернулся и изо всей силы по-русски влепил ему в ухо. Да, я мог бы вспомнить молодость, и как правильно бить — крюк, там, хук — но в этот момент я забыл все, одно желание — врезать этой сволочи, руководило мной. Теперь я понимаю, как в состоянии аффекта может человек убить.
Сдавленно хрюкнув, Жандармов свалился на пол.
И как по указке драка мгновенно прекратилась.
И все стояли и смотрели на меня, а я на упавшего злодея.
И тут же появилась милиция.
…В кутузку я не попал только благодаря полковнику. Но акт на меня составили. Жандармова привели в чувство.
— Ну, бля, — только и сказал он, взглянув на меня. Но за этим стояло многое.
Обсуждали ситуацию на кухне у полковника. Благо, квартира его была в трех шагах от ресторана.
— Все плохо, — подытожил Саша. — Плохо уже было с этой швалью связываться, они ребята мстительные, раз. Плохо, что ты засветился. Теперь все твои реквизиты, как принято выражаться, ему уже известны. Не понравилось мне, что он тебе не угрожал… очень не понравилось.
И мы разлили по последней. Бутылку полковник прихватил из ресторана — уплачено.
— А в общем, нормально. Врезал и врезал. Невозможно жить и все наперед рассчитывать — так и с глузду зъихать недолго, как одна моя знакомая говорит. А там посмотрим. Оружие у тебя есть?
— Вертикалка.
— Угу и ты с ней на работу будешь ходить или сына вечером из школы встречать…
— Не пугай, слушай. Если бы каждая разборка заканчивалась так страшно, у нас в городе давно бы людей не осталось.
— Береженого Бог бережет. С другой стороны — меня они тоже зафиксировали, так что фифти-фифти. Сдерживающий фактор налицо.
С этими словами он встал и откуда-то из кухонного шкафчика вытащил сверток. Аккуратно размотал холстину и в руке оказался пистолет и размерами и формой напоминающий наш "Макаров".
— Газовый. Маде ин не наше. Точная модификация "Астра" "Констебль". По деталям очень похож на Вальтер ПП. Калибр в газовом варианте девять, в нормальном семь шестьдесят пять. Используется в Испании. С трех метров завалит на пол хлеще твоей оплеухи, в упор бить не советую — можно и того. В магазин входит двадцать два патрона. Гром исключительный — всю округу на ноги поднимешь.
Он протянул пистолет мне. Я не стал отнекиваться и ломаться. Я просто обнял своего старого друга.
— Ну-ну, — похлопал он меня по спине, — не раскисай, прорвемся. А вся эта накипь — явление временное. Нам бы ночь простоять, да день продержаться.
Домой я шел пешком. Захотелось прогуляться, да и заодно проветрить мозги. Я нисколько не жалел о происшедшем — как сложилось, так и сложилось.
Вернулся я раньше жены — она еще развлекалась у подруги. Когда я предложил ее встретить — теперь я был вооружен и очень опасен — она сказала, что ее подвезут.
…Конечно, какие-то меры безопасности я принял. Поставил железную дверь. Нагнал страху на ребят, что в округе действует маньяк, они только надо мной посмеялись, впрочем, подумал я, они уже не малыши и в какой-то степени, особенно старший, себя защитить смогут.
Но гроза пришла совсем с другой стороны.
ГЛАВА XII
Кто станет доносить, тому голову не сносить.
Каждый раз, когда нам удается выпустить новую книгу, я рассматриваю ее как маленькое чудо. Оно так и есть — разве не чудо сегодня, без копейки оборотных средств, при общей нищете и инфляции выпустить хорошую книгу. Последнее время чудеса случаются все реже и реже и вины моей здесь нет. Половина издательств России неплатежеспособны. Нельзя быть счастливым в отдельной каюте, когда корабль опускается на дно.
Поясню проще. Мы выпускаем книгу и рассчитываем, что она будет куплена. Только тогда мы погасим все расходы, уплатим налоги, получим зарплату и приступим к следующей книге. Но если нашему потенциальному покупателю, простите, жрать нечего, не говоря уж о других насущных потребностях, книгу нашу он не купит. И денег у нас не будет, и мы не начнем работать над следующей рукописью.
Склады издательства затоварены под жвак. Вместо пятидесяти позиций в год, как это было раньше в застойные времена, мы скатились до пяти-семи. Да и то половина литературы заказной или дотационной. Какие бы меры мы не предпринимали, они убиваются неплатежеспособностью северян.
И все-таки дело можно было вести лучше. Но для этого вести его надо жестче. Минимум людей, минимум зарплаты, минимум расходов.
И максимум требовательности — выжимать из сотрудников все, что можно.
Вот этого как раз я не умею. Ни выжимать, ни требовать. Мне кажется, что взрослый человек сам понимает свои обязанности. Как это я буду его воспитывать? И потом, я, так уж получается, вхожу в его положение. Семья, дети, болезнь, бескормица, плохое настроение — всегда можно понять и простить.
Да лучше уж я сам что-то сделаю, чем буду его огорчать.
И я постоянно забываю, что за доброе дело на Руси морду бьют.
Издательство долгое время мучилось без главного инженера. Специальность достаточно узкая, из окрестных вузов таких специалистов выпускает только Омский технологический институт. Но когда я обратился туда, то убедился, что запросы у выпускников такие, что нам их не удовлетворить. Квартира, оклады… Тогда я дал объявление в "Магаданскую правду" — вдруг с какой-то оказией залетел в наш город такой инженер — и стал ждать.
Залетных не оказалось, зато ко мне обратилась мастер из областной типографии Альбина Голякова.
Я посмотрел ее документы — она окончила полиграфический техникум заочно… Главным инженером никогда не — работала — для этого необходимо высшее образование. Но выбирать мне не приходилось и, поколебавшись несколько дней, я дал согласие.
Проверить ее по месту предыдущей работы я как-то постеснялся.
Буквально месяца не прошло, как я убедился не только в ее полной некомпетентности, но и чудовищной лени. Единственное, что она делала с удовольствием на работе — гоняла шары на компьютере. Однако, когда я сделал ей замечание, Альбина посмотрела на меня как удав на кролика и предупредила:
— Я живу на одной площадке с прокурором области и с Минкиным. И со всеми у меня дружба, естественно.
Это у нее приговорка такая была — "естественно". Причем произносила она ее со свистом на "с". Получалось нечто вроде змеиного предупреждения — с-с-с.
Минкин был одним из крупных авторитетов области. Так что я, выходит, сразу попал между двух огней.
В панике я кинулся к директору типографии, старому моему знакомому "щирому хохлу" Василию Дмитриевичу Овдейчуку. Признаюсь, никогда я еще не слышал столь заразительного смеха…
— Вся типография, затаив дыхание, ждала, когда вы ее возьмете… три года она нас третировала. Доносы, проверки, ревизии. Никакого житья и небось прокурором стращает.
— И не только, — кивнул я горестно. — Еще и авторитетами пугает.
— Растет человек, — констангировал Василий Дмитриевич.
И пообещал:
— Мы тебе за это медаль отольем!
Меня это не утешило.
Я попытался уволить Голякову — во все инстанции посыпались письма и жалобы, причем подписанные от имени коллектива.
Зачастили проверки. Инспекция по труду, налоговые, прокуратура слали свои грозные предупреждения… Но до инциндента в ресторане все это не выходило за рамки рутинной деятельности — вы нам писали, мы вам отвечаем.
А тут неожиданно заявляется контролер КРУ вместе с оперативником, арестовывают все документы и переворачивают все буквально вверх дном — склады, магазины и как я узнал через несколько дней — развернулась широкая встречная ревизия, то есть проверялись наши партнерские связи.
Смело заявляю, что если сегодня копнуть любое предприятие, нарушений можно найти массу. И не потому, что директор плох или махинатор — сегодня невозможно выжить, не нарушая что-то. Если работать строго по правилам, платить все налоги и отчисления, то от заработанного рубля я получу пять копеек. Из этих копеек мне надо:
— отдать зарплату,
— оплатить аренду,
— телефон,
— расходные материалы,
— новые заказы и т. п.
Те, кто все платил, давно уже исчезли. И странное дело — кому же это выгодно? Люди потеряли работу, государство — один из источников налогов. Или наоборот, выгодна всеобщая разруха и безработица?
И еще. У любого руководителя достаточно и таких расходов, что ни в одну графу не вставишь — обмыли договор, вручили презент, заказали такси, цветы на день рождения и венок на похороны и многое-многое другое. Напуганный декларациями народ не желает из-за копейки оформлять трудовые отношения — опять-таки надо платить наличкой, а самому ломать голову, как их списать.
При умном толковом бухгалтере этой проблемы не существовало. Я знал, что надо делать, бухгалтер — как это надо сделать.
Пока главбухом была в издательстве Люда Дегтева хлопот я не знал.
Но вот ее переманили в более богатую фирму и мне пришлось взять нового бухгалтера. В гостях у наших приятелей Кучеровых я посетовал на то, как трудно жить без бухгалтера, и неожиданно Оленька Кучерова предложила:
— А возьмите меня, Валентин Михайлович!
Я опешил и было отчего.
Я вспомнил, как мы познакомились.
…Когда двадцать лет назад из Теньки мы переехали в город, нашими соседями сверху оказались Жильцовы. Любителям бокса эта фамилия говорит о многом. Евгений Жильцов — международный мастер спорта, чемпион Вооруженных Сил СССР и стран Варшавского Договора, неоднократный призер многих и многих международных соревнований.
Я заметил — когда муж и жена живут душа в душу, даже внешне они становятся похожими друг на друга. Женя и Александра яркое тому подтверждение. Не только характерами, но и внешностью. Хотя, казалось бы, чем полная смешливая Саша походила на своего крепкого малоразговорчивого мужа. Но когда Женя улыбался, лицо его преображалось и даже кривой шрам на левой щеке не портил общего обаяния. Выпив, Женя неизменно пел частушки и особенно свою любимую "Шел я лесом, просекой…"
И так далее. Не смущаясь. И если бы эту частушку запел я, клянусь, это выглядело бы глупо и грубо, а у него все как-то получалось к месту. Обезоруживало его простодушие.
Правда, наши жены старались, что бы во время совместных гуляний — праздники, дни рождения и так далее — детей в компании не было.
Во всем остальном Евгений был настоящий парень, надежный и твердый. Он был настолько влюблен в бокс, что даже меня заразил этим. Я-то полагал, что голова у боксера нужна для того, чтобы ею хавать!
А потом, когда я поближе с ним познакомился — Жильцов работал тренером в школе бокса — я увидел, какой это умный, захватывающий и мужественный вид спорта.
— Удар в боксе, — говорил он мне, — это итог, а начало — начало характер. Не знаю, как кто, а я определяю пацана — годится он или не годится — по тому, как он реагирует на перчатку. Если зажмурился, плохо дело. Удержал взгляд — отлично. Нет-нет, это не значит, что я его отсеиваю, просто я понимаю, что мне придется повозиться с его характером.
Как это ни странно, более добрых людей, чем чемпиона по боксу Евгения Жильцова мне встречать не приходилось и это не преувеличение. Пацаны его буквально боготворили, а друзей у него было, наверное, половина Магадана.
В том числе и участковый инспектор Леня со своей молодой супругой Оленькой. Это была настоящая красавица, в которой кипела молдавская, украинская, да, наверное, и цыганская кровь. И запросы у нее были соответствующие. Супругом она просто помыкала. И однажды, как мечту заветную, посреди застолья высказала:
— Вот найду себе академика и ничего мне больше не надо…
Академиком в ее институте был только директор и глаз она на него положила. Как гласит поговорка "иметь, так королеву" или короля, суть не меняется. И буквально через несколько месяцев развелась с Леней, а затем… наверное, больших трудов соблазнить Кучерова ей не стоило. Супруге его тогда было уже за пятьдесят, а Оленька едва перевалила за тридцать и была она в самом расцвете своей женской прелести.
Грешен и мне она нравилась.
Жильцовы уехали, а их квартиру заняли молодожены
Кучеровы и таким образом автоматически они оказались в наших друзьях. Мне даже пришлось быть свидетелем на их регистрации. И не только — по служебному положению Виталию Ивановичу полагался автомобиль и вчетвером мы постоянно выезжали то по грибы, то по ягоды, то на рыбалку.
По характеру Виталий Иванович был мужик, что надо. Он являл собой тип настоящего ученого, много и плодотворно работавшего в геологии. Огромная эрудиция, знание языков, умение четко сформулировать проблему — согласитесь, такое встречается нечасто. И я особенно не удивился, когда он выставил свою кандидатуру в депутаты областной Думы и играючи опередил соперников. Больше того, его избрали председателем Думы, но тем не менее научную свою деятельность он не бросал.
Оленька забрала над своим мужем безграничную власть. Она, что называется, вертела им как шея головой. Академик мыл посуду, пылесосил, бегал, как мальчишка, по магазинам — домработницу из экономии они не держали, как бухгалтер Оленька считать умела. Любые ее капризы и прихоти седовласый академик исполнял, галопируя.
Я понимал, что Оленька — лебединая песня мужика и старался не замечать этого.
Однажды, после вечеринки, Виталий Иванович долго уговаривал нас остаться ночевать. К тому времени академик получил трехкомнатую квартиру в Нагаево, почти на берегу моря и комната для гостей у них всегда была наготове. Жена не соглашалась — дома нас ждали — и, исчерпав все доводы, подвыпивший академик тихонько мне признался:
— Вы комнату займете, я с Олей лягу — глядишь и мне что достанется.
Мне его стало от души жалко. Я позвонил домой и предупредил ребят, что мы не приедем. Они были в восторге и, как я понимаю, тут же включили видик, намереваясь крутить его до утра.
Звукоизоляции в наших квартирах никакой и ночью я отчетливо услышал звучный шлепок пощечины и злой шепот хозяйки:
— Пьяный ко мне не лезь — у тебя и у трезвого не стоит.
С новым директором института у Оли начались какие- то распри. Однажды она принесла мне кипу актов и сказала — надо написать статью о новом директоре, он жулик.
Я прочитал документы. Незаконные списания компьютерной техники, разбазаривание имущества, прием студентов за взятки.
— Оля, — сказал я, — но ведь большинство этих документов подписываешь ты…
Больше она к этому разговору не возвращалась, но как- то обмолвилась, что у них работает КРУ и дело по всей видимости передадут следствию.
И вот вскоре после этого Оля предложила:
— Возьмите меня главбухом, Валентин Михайлович. Мы с вами такое развернем…
Я подумал, что ослышался. Уходить из института — громадного по сравнению с издательством учреждения, менять приличный оклад на скромную и нерегулярную зарплату, по крайней мере, странно. Но присущая мне, к сожалению, готовность помочь, даже вопреки здравому смыслу пересилила и я согласился.
Дегтева, узнав о том, кто придет на ее место, печально произнесла:
— Она уже не одного подставила, Валентин Михайлович.
Неделю Оля поприсутствовала на работе, обновила кабинет, познакомилась с сотрудниками и, забрав документы, ушла домой — мол, ей там легче работать.
С тех пор она практически превратилась в надомницу — то болела, то семейные обстоятельства. За подписью мы ездили к ней. Но балансовые отчеты она как-то умудрялась сдавать — потом выяснилось, что она их просто переписывала. Правда, меня ее домашний образ работы особенно не беспокоил — было бы дело сделано.
Затем она активно принялась обрабатывать меня, предлагая, на мой взгляд, авантюры на грани с преступлением.
Начиналось с преамбулы, что все вокруг жулики, что государство нас кинуло, значит, и мы должны реагировать адекватно. То она предлагала продать технику издательства частной фирме, а потом списать ее, или перевести деньги куда-то, а затем получить как возврат за невыполненные обязательства — получить нам лично, а так как к тому времени это предприятие исчезнет, то и концы в воду.
Я только посмеивался над ее идеями, но Виталий Иванович, зная видимо о ней побольше, не на шутку тревожился. Его эти бредни супруги раздражали.
— Виталий Иванович, — сказал я ему как-то, — да вы не беспокойтесь… Я же не идиот и никогда на это не пойду.
Прошло полгода ее "работы" и вдруг без объяснения причин Ольга уволилась.
Причина стала ясна уже с первых дней работы контролера. Это был по выражению инспектора Шифоньеровой антиучет. То есть абсолютно ничего не делалось. Даже на тех документах, что автоматически проходили через бухгалтерию, подпись главбуха отсутствовала. Зато она самостоятельно повысила себе зарплату — она стала куда больше моей, выдала себе несколько раз материальную помощь и оплатила несуществующую дорогу — в отпуск она у нас никуда не ездила, понятно.
Надо ли говорить, какая картина сложилась по линии директора, если ни один мой подотчет не был проведен, а многие документы так и вообще отсутствовали.
Дело пахло керосином и я пошел к Виталию Ивановичу. Супруга его к тому времени укатила в Молдавию, где обретались ее бывший муж и сын. Видимо, на время ревизии.
Виталий Иванович встретил меня настороженно, он уже был в курсе.
— Виталий Иванович, — взял я быка за рога, — идет проверка. Как я понимаю, по доносу и целенаправленно. Выявленные и те, которые будут выявлены, огрехи на совести Ольги. В вашей власти именно сейчас погасить этот скандал в зародыше.
— А Ольга мне сказала по-другому, — помолчав, сообщил академик.
— Но кроме ее слов есть документы. И потом, вы же сами видели, как она работала…
— Я ей верю, — торжественно заявил Виталий Иванович.
Это означало, что он не верит мне и говорить, стало быть, не о чем.
Больше я с ним никогда не встречался.
"Ночь лишь с бабой провозжался, сам на утро бабой стал…"
КРУ работало почти два месяца и в начале декабря меня вызвала Шифоньерова.
— Вот вам акт. Я передаю дело в шестой отдел. На объяснительную записку даю вам два дня.
— Но сегодня пятница, я просто не успею, — я взвесил на руках пачку листов — страниц двадцать, не меньше.
— Меня это не касается, таков порядок.
Дома я внимательно перечитал акт. В мою вину ставились две вещи — нецелевое расходование средств в размере двухсот тысяч и присвоение шести тысяч по доверенностям, которые я выписал сам и расписался за бухгалтера.
Первое я воспринял спокойно. Деньги ушли по назначению, и если проверяющая не нашла платежки, то следы их все равно отыскать нетрудно, даже запросив предприятия, куда мы отправляли деньги. Со вторым дело обстояло хуже, если главбух не провела мои авансовые отчеты, так оно потом и оказалось. Но эти деньги пошли на резку бумаги — наличными — приобретение компьютера и как выручка за книги, выданные мне в порядке заработной платы… Документы должны быть.
И они были, но не у меня, а у Шифоньеровой. Выдать их на руки или скопировать она отказалась и через неделю меня вызвал следователь из шестого отдела — по борьбе с организованной преступностью. Вот так, ни больше ни меньше!
ГЛАВА XIII
Ни от сумы, ни от тюрьмы не зарекайся.
Народная поговорка
.. Когда человек совершает преступление и в конце концов попадается, чувства его понятны: в душе он готов к такому повороту событий, он знал, на что шел. Когда обвиняют в преступлении невиновного, он испытывает потрясение — ведь он невиновен!
Я испытал шок — я был не только невиновен, я делал прямо противоположное тому, в чем меня обвиняли. Все силы я тратил на то, чтобы в этой мутной сегодняшней жизни сохранить издательство, а насчет денег, так я не только их не мог присвоить, я свои вкладывал в самые критические моменты нашей работы. То есть, своих-то у меня не было, но было много друзей, которые давали взаймы. К примеру, приходит контейнер, надо срочно оплатить — каждый день простоя грозит солидными штрафами. Я занимал деньги на оплату, оформлял их как заемные средства и потом долго и терпеливо мои кредиторы ждали, когда издательство сможет вернуть долги.
Ждали, правда, не все. Сосед по подъезду Виталий Борисович одолжил издательству пять тысяч, получил их через месяц, расписку вернуть "забыл", а ровно через год подал на меня в суд, требуя возврата денег и умопомрачительных процентов за использование в течение этого времени его денег.
— На то он и Рабинович, — философски заметила моя жена, — Они сейчас силу взяли, все у них куплено — жди русских погромов.
Куплено или нет, но судья Сикорская полностью удовлетворила иск Рабиновича, отмев все мои доводы и свидетелей. Так что ведомость по зарплате и я почти год не встречались. Деньги уходили судебному приставу.
— А как же совесть? — приставал я к Устинычу. — Неужели сам-то он не понимает, что поступил нехорошо, неправедно, что с любой точки зрения он совершил подлость… Как ему спится да и вообще, он же должен понимать, что я имею моральное право на ответный шаг в любом исполнении.
— Что бы это, батенька мой, значило — в любом исполнении?
— Морду набью…
— Вряд ли. И он это знает, что ты с ним не свяжешься… Опять же хулиганство.
— Тогда плюну в лицо..
— Оботрется.
Тема Устиныча увлекла и он выдал мне целую проповедь по этому поводу:
— Я никогда, батенька мой, не был антисемитом и, дай Бог, не стану. Я определяю человека по тому каков он есть, а не потому, что у него в графе национальность записано. Знаю я и подонков русских и весьма мною уважаемых евреев… Но глупо отрицать тот факт, что человек воспитывается народом, его традициями, его моралью, его верой. А главная мысль иудаизма — богоизбранность народа! Иудеев то есть. Ну вот скажи, если бы тебе с детства внушали, что ты на голову выше украинцев, грузин, французов и так далее, какой-никакой след у тебя в душе остался бы или нет?
Пойдем далее. Христианство в борьбе с иудаизмом успешно вбило нам в голову мысль о еврейской вине — Христа распяли. И ничего смешного в этом нет — именно эта идея служила моральным оправданием двухтысячелетнего преследования этого маленького, в общем-то народа. Примеры не буду приводить, одного Гитлера достаточно. И выбор у евреев был невелик — либо исчезнуть с лица земли, либо в борьбе со все миром победить его. Чтобы победить, потребовались ум, хитрость, сплоченность и беспринципность. Их трудно судить — они боролись за жизнь, иногда в буквальном смысле слова. И человечество само воспитало современное еврейство, хозяина третьего тысячелетия.
— Прям уж хозяина… — Усомнился я.
— Америкой командуют евреи, Россией сам знаешь кто, мировой капитал принадлежит им. А кто платит, тот и заказывает музыку…
— И кто же может им противостоять?
— Татары, — храбро ответил Устиныч. — Под копытами их коней лежал мир и они хорошо это помнят.
— А как же быть с экономикой, капиталами… ты что-то загнул, дед.
— Татары, это значит ислам… Другой силы, другой такой сплачивающей идеи пока я не вижу. Если Армагеддон не досужая выдумка, то на нашей стороне и причем впереди будут сражаться именно мусульмане. Американцы панически боятся возможности нашего союза с исламским миром и, как видишь, всячески провоцируют на ссору с ним. Возьми хоть Афган, Чечню…
— Какую же роль ты отводишь нам, христианам?
Устиныч, помолчав, обдумывал вопрос…
— Римляне дали миру право, евреи — религию, христианство — мораль. Только благодаря христианству человек станет Человеком. Произойдет это, правда, не скоро.
…Мой следователь был русским человеком. Звали его Андрей Викторович.
— Вызывали, Андрей Викторович?
— Да, у меня есть к вам пара вопросов, — небрежно, как будто речь шла о пустяках, вроде того с каким счетом сыграла сборная Перу со сборной Мозамбика, ответил Андрей Викторович. — По акту КРУ. Но давайте заполним бланк допроса.
Допрос от пары вопросов, наверное, отличается. Но тогда я не придал этому значения.
— В феврале года по доверенности без номера вы получали деньги в сумме один миллион или одна тысяча деноминированных рублей в магазине "Луч". Это так?
— Да, получал.
— Доверенность не регистрировалась?
— Нет.
— За бухгалтера вы расписались сами, то есть подделали подпись…
— Я не подделывал подпись, я сам расписался, это разные вещи.
— Вы считаете это правильным, законным?
— Что именно?
— Я повторяю свой вопрос — вы считаете правильным, что вы подделали подпись бухгалтера.
— Я, во-первых, ее не подделывал, я расписался за бухгалтера, как обычно расписываюсь, а во-вторых, бухгалтер была в отпуске, наконец, как директор, я имею право вообще работать без доверенности.
— И присваивать деньги!
— Я уже писал в объяснительной, что эти деньги пошли на приобретение бумаги в Химлесстрое.
Следователь порылся в бумагах и вытащил листок.
— А они вот пишут, что вообще за наличные никогда с вами не работали.
Я опешил. Не на тысячу рублей — на десятки тысяч приобретали мы в тот год бумагу в этой фирме. И все за наличку.
— Но как же, ведь у нас должны быть приходные ордера. У них что же, двойная бухгалтерия?
— Приходных ордеров ваших я не нашел, а с обвинениями в чужой адрес не торопитесь — наказуемо.
— И вот доверенность за август уже девяносто седьмого года. Тоже на магазин "Луч" на полторы тысячи рублей. Тоже без регистрации. Подпись тоже ваша. Что, и в этот раз бухгалтер была в командировке?
— Она уже уволилась, проверьте….
— Вы признаете, что и эти деньги вы присвоили.
— Это были мои деньги, я их получил за реализацию телефонных справочников, которые получил как зарплату.
И опять Андрей Викторович вытащил какую-то бумажку, близко поднес ее к глазам и медленно с расстановкой прочитал:
— Никаких телефонных справочников в порядке погашения зарплаты мы в этом году, то есть в 1997, не получали… Это ваш бухгалтер, однако, пишет. А уж кому как не ей знать, что вы получали, а что нет!
— У не-е! — только и смог произнести я.
С телефонным справочником была целая эпопея. Я еще в "Петите" мечтал переиздать его — но не хватало сил и начальник городской телефонки опасливо относился ко всякого рода малым предприятиям и товариществам, не без оснований полагая, что сегодня они есть, а завтра нет и связываться с ними не имеет смысла — себе дороже.
Идею эту пытался похитить у меня Овдейчук, но он не сошелся с телефонкой в распределении будущей прибыли. И когда я стал директором областного книжного издательства, такой договор с ГТС был наконец подписан.
Тогда мы и представить себе не могли, какую махину надо поднять. В дискете, которую нам согласно договору подготовили телефонисты, было не менее тридцати тысяч абонентов. И тысячи самых разных предприятий и организаций. Они рождались и исчезали как бульки на воде и вместе с ними появлялись и исчезали телефонные номера. В частном секторе шла невиданная для Магадана ротация населения — горожане бежали на материк, а трассовские спешили приобрести квартиры в городе.
Не успели мы сделать первую корректуру, как справочник уже устарел.
Со второй получилось то же самое.
Тогда мы решили окончательную правку внести в самый последний момент и… нам пришлось переделывать почти половину справочника.
Почти год мы возились с этой книгой, практически забросив все остальные дела. Но иного выхода не было — вбухали мы в это издание почти полмиллиона рублей, а прибыль надеялись получить столько же.
— Эти деньги, — соловьем разливался я на летучках, когда получив тощий аванс, сотрудники с кислыми физиономиями взирали на своего босса, — помогут нам не только рассчитаться со всеми нашими долгами, включая и зарплату, но и позволят оплатить новые заказы, обновить оборудование, купить нуждающимся квартиры…
Поэтому, когда тираж отпечатали, три тысячи экземпляров мы привезли, невзирая на расходы, самолетом. Дали рекламу на радио, телевидение, в газетах и результаты превзошли самые смелые наши ожидания. При себестоимости двадцать рублей мы продавали его по сорок и в первый же день продали тысячу экземпляров…
Тут же на меня обрушился шквал звонков.
Областная администрация — надо сто штук, потом расплатимся.
Городской я выделил и без звонка — они нам помогли с деньгами и с фрахтом самолета для перевозки книги.
Совет ветеранов — дай.
Библиотекам — положено.
Школам, больницам, милиции, ФСБ… не откажешь.
Не менее трехсот экземпляров таким образом я раздал. Все письма-заявки как оправдательные документы сдал в бухгалтерию. Но оправдательными они были для меня, а для Оли — пустые бумажки и, скорее всего, она просто их выкинула.
В порядке поощрения я выделил всем работникам по сто экземпляров и… они стали их продавать по сто рублей.
Пришлось и в магазинах повысить цену до семидесяти и все равно в течение двух недель первая партия улетела со скоростью пули.
Ждали прибытия основного тиража — по договоренности с Приморским издательством они должны нам отправить контейнер. Но вдруг позвонила директор комбината и сообщила, что в связи с инфляцией повышаются цены за изготовление справочника, а если мы не рассчитаемся, то они продадут наш справочник магаданским бизнесменам.
Это уже было третье одностороннее повышение расценок и если с первыми я как-то скрепя сердце соглашался, то это меня возмутило до глубины души.
— Тираж отпечатан, какие могут быть повышения?
— Не хотите — не платите, мы вас предупредили.
— Это шантаж!
Трубку во Владивостоке бросили.
На другой день я вылетел во Владивосток.
В этот же день из Находки из нашего представительства в порту выехал туда же контейнеровоз.
В Артемове меня встретил Денис, бывший мой третий штурман, земляк, друг, ныне один из авторитетов Владивостока. Проблему я ему изложил еще в Магадане и на пути в город мы просто трепались о жизни.
— Страшно становится, — откровенничал Денис. — Страшно оттого, что в городе из-за двоевластия — ну, знаешь, война между Наздратенко и Черепковым, — вообще нет никакой власти. Громадный город, порт, сотни крупных заводов, более миллиона людей — форпост страны, блин, и без хозяина. Вот приедешь, посмотришь, что творится!
Но сначала мы посмотрели, что творится с нашим грузом. Контейнеровоз пришел чуть раньше и когда мы подъехали, его уже начали загружать.
В кабинет директора Денис зашел без стука. Раиса Ивановна, пожилая полная женщина, знал- я ее давно, поднялась нам навстречу и в глазах у нее был если и не страх, то тревога точно.
— Мы решили, не дожидаясь вас, начать погрузку, — заискивающим тоном сказала она. — Документы при вас.
Я отдал ей доверенность, она мне фактуру на получение справочника. Я мельком взглянул на нее и вернул.
— Не пойдет. В договоре такие цены не предусмотрены и со сроками вы нас подвели, придется переписывать. Со штрафными санкциями возиться я не собираюсь, давайте вернемся к договорным ценам.
Она поджала губы и вызвала бухгалтера. В течение пяти минут фактура была переписана, подписана и скреплена печатью. Все это время Денис молчал, рассматривая книги на стеллажах, но взгляд директора, как кролик за удавом, неотступно следовал за ним.
Когда мы уже распрощались и Денис вышел впереди меня, Раиса Ивановна прошипела:
— Вы бандит!
— А вы лучше, — огрызнулся я. — Думаете, мне удовольствие за три тысячи верст к вам лететь, разборки эти устраивать.
На том мы и расстались.
Контейнер закрыли, запломбировали и в тот же день он уехал в Находку и буквально через сутки его погрузили на попутный борт.
Денис, как гостеприимный хозяин, повез меня сначала на Матросский пляж, затем в ресторан "Амур", где мы с ним славно посидели. Пили немного, Денис был практически трезвенником, но японской кухне отдали должное.
— Власти в городе нет, — сетовал Денис. — Заметил, какая грязища в городе?
Я кивнул головой, почти у всех подъездов высились горы мусора. Над ними вились тучи мух, а вонь перебивала все остальные запахи.
— Коммунальщики уже месяц как бастуют, — пояснил он, — Так и до эпидемии недалеко. Полный бардак. Две головы друг с другом воюют, а заднице достается. По ночам автоматная стрельба как на фронте: то китайцы, то азеры, то наши с теми или с другими сцепятся.
— И кто берет?
— Наверное, все-таки китайцы. Их в городе уже не меньше ста тысяч, три рынка открыли, есть целые китайские кварталы. Внедрение этих граждан планируется и осуществляется, наверняка, на государственном уровне. Во всяком случае, для этого китайцу дается субсидия в размере шестидесяти тысяч долларов. А потом он привозит семью, как правило, человек десять-пятнадцать, а потом к ним присоединяются дальние и ближние родственники, а к тем еще. Словом, лет так через пять, если этот процесс не остановить — а останавливать, как видишь, его некому, вместо Владивостока получим Шанхай.
— Как твои дела?
— Нормально. Пока. Гоняю иномарки на материк — почти с каждым бортом из Японии везут, старые связи еще работают.
— Не посягают?
— Пытались, но мои партнеры в Москве ну очень солидные люди… враз порядок восстановили. Им со мной дело иметь надежней — давно знают, многим повязаны, да и родственничек там у меня в системе этой обретается.
Больше я его расспрашивать не стал. А он и не откровенничал. Что, в сущности, нас объединяло. Два года совместной работы на рыбацкой коробке… Вахты и подвах- ты… Шторма и туманы… Эхо молодости…
Во всяком случае, мне он помог крепко и я был ему за это благодарен.
— Да брось, — говаривал Денис. — Нынче я тебе, завтра ты мне.
Когда я прилетел в Магадан, контейнер был уже разгружен. Но заглянув в складскую ведомость, я ахнул. Недоставало три тысячи экземпляров. По самым скромным меркам тысяч на сто пятьдесят.
Контейнер принимал мой зам по коммерции Пильпук, а на склад оприходовала Манаева. Ее я знал плохо — работала она у нар всего ничего, а вот о заме мнение у меня сложилось давно — мимо того, что плохо лежит, не пройдет.
Помню, однажды он предложил нам с Дегтевой бизнес. Взял у нас по три тысячи для приобретения китайского товара — ручки, фломастеры, карандаши и прочая канцелярия. То, что продавалось, продал, прокрученные деньги и прибыль забрал в основном себе, а нам с бухгалтером в порядке расплаты оставил неликвиды.
Больше мы с ним связываться в плане личного бизнеса не рисковали.
…Я вызвал его к себе и попросил объяснений по поводу контейнера.
— Так столько там и было, — нагло воззрился он на меня.
При нем я набрал номер телефона транспортной прокуратуры и изложил суть дела.
— Пишите заявление, — сказал следователь. — Будем искать.
Мембрана в моем телефоне сильная и весь разговор Пильпук слушал.
— Знаешь, Михалыч, — сказал он, — Ты не торопись, мы сейчас еще раз пересчитаем, может и ошиблись.
Через два часа на моем столе лежала новая фактура и недостачи в ней как не бывало.
Я задумался.
Вариантов такого скорострельного решения проблемы могло быть только два. Либо справочники были спрятаны на складах для дальнейшей продажи налево либо их и сейчас там нет, а фактуру просто переделали, в надежде на то, что пересчитывать, проводить ревизию никто не будет.
Предположим, я такую ревизию проведу и тогда буду просто обязан принять меры, то есть посадить Пильпука в тюрьму.
Два года назад у моего зама умерла жена. Рак. Я знаю, как самоотверженно в течение многих лет боролся он за ее жизнь, знаю, куда уходили все деньги, заработанные им праведным и неправедным трудами. Почти вслед за нею от СПИДа умер его сын где-то в Алуште. И совсем недавно от второго брака у Пильпука родился сын, а ему под пятьдесят.
Выходит, Пильпук будет чалиться на нарах, сын расти сиротой — это в наше-то время! — а книги, первопричина всего — пылиться в дальнем углу склада, продать такой тираж мы все равно не сможем.
Я не люблю Пильпука, но еще больше я не люблю тюрьму и всякого рода насилие, включая и государственное.
Зам мое молчание истолковал правильно и на другое утро принес заявление "по собственному желанию…"
Сейчас он работает в какой-то солидной фирме, связанной с ценными бумагами, и при встречах мы здороваемся и расспрашиваем друг друга о делах.
Это жизнь.
В порядке погашения зарплаты я тут же издал приказ выделить по себестоимости сотрудникам по сто экземпляров и временно придержал сдачу тиража в магазины — чтобы мы успели сбыть книги. Свою долю по сорок рублей за штуку я продал через "Петит", благо директором там был — да и то формально — старый мой знакомый Святослав Яворский.
Зато Ольга поступила куда мудрее. Она уломала своего мужа приобрести справочники для областной Думы по цене сто рублей за экземпляр. Оправдательные документы выписали ей тоже через "Петит". Имелась также копия приказа о выделении справочников и копии приходного чека и счет-фактуры для Думы.
Все это я, понятное дело, и преподнес следователю.
Как со мной, так и я.
На другое же утро раздался телефонный звонок. Междугородка.
— Гад, сволочь! — истеричным голосом прокричала Ольга и бросила, понятно, трубку. Боялась, что я ей тоже что- нибудь скажу.
Связь между следствием, академиком и его женой была исключительно оперативной.
И тогда в первый раз я видел Борщева злым.
— Ты что, не мог посоветоваться, прежде чем топать к следаку. Ты что, не понимаешь, что тебя начали доставать и машина будет работать по полной программе с соблюдением всех бюрократических тонкостей. И единственный путь борьбы с нею — ее же оружие… Формальное соблюдение всех азов и запятых! Какое право он тебя допрашивал как обвиняемого, хотя ты вызван и предупрежден об этом как свидетель. А если и предъявят обвинение, то тебе надо закрыть рот и требовать адвоката, ясно?
Успокоился и сказал:
— Вернется из командировки Павленко Валера, возьмешь его адвокатом. Я с ним поговорю, да ты и сам его должен помнить — он в Провидении прокурором работал, сейчас на пенсии, подрабатывает в частной адвокатской конторе.
— У меня и денег на адвоката нет…
— Он не рвач, договоритесь.
На следующем нашем свидании Виктор Андреевич попросил написать подробную объяснительную, туманно намекнул, что в основном они прицепились к бухгалтеру, за ней след, оказывается еще с института тянется я отпустил меня с Богом. Позднее я узнал, что начальник следственного отдела УВД полковник Гусев дело прикрыл ввиду отсутствия состава преступления.
Однако история на этом не закончилась. Буквально через день мой работодатель, председатель областного комитета по имуществу Жандармов, жулик сбежавший от следствия в Благовещенске, вместе с Чесноковой Верой, курировавшей связи администрации с общественностью, приехали снимать меня с работы.
Собрали людей и Чеснокова огласила постановление вице-губернатора и приказ Жандармова о снятии меня с работы по 254 — й статье — за однократное грубое нарушение. По итогам все того же акта КРУ
В этом же постановлении было прямое предписание органам, теперь уже городской прокуратуры опять возбудить следствие.
И снова пошли допросы.
Но тут наконец подъехал и мой адвокат.
— Ничего не объясняй. — Настоял он.
— Почему… ведь вины моей нет. Свидетелей вполне достаточно и бумаги можно восстановить.
— Их можно восстановить, но так же можно и утерять. И свидетелей. Побеседует с ними доверительно опер и глядишь они от своих показаний быстренько откажутся. И на суде ты окажешься голенький.
Так мы и поступили. И следователь, накатав обвинительное заключение, передала его судье. Взяли с меня, как с заправского подследственного, подписку о невыезде.
И повис я между землей и небом, между честным человеком и преступником. Клеймо подследственного давило на меня в плане моральном, на издательство, хотя через две недели губернатор и отменил постановление своего зама, в финансовом — кому хочется связываться с фирмой, что под колпаком. А ходить и бить себя в грудь, вопия о своей невиновности, было противно.
Проба была достаточно жесткая и для моих приятелей. Увы, многих в тот момент я потерял. Скажу так — чем выше было положение, тем легче оказывалось предательство.
Но прошло какое-то время и я плюнул на свои интеллигентские терзания и с головой окунулся в работу. Умный человек, думалось мне, сам разберется, что к чему, а с дурака какой спрос.
К своему положению я почти привык, затишье меня устраивало.
Меня, но не моих "друзей".
Начались звонки.
Звонили поздно вечером, чтобы наверняка застать. Сын первый схватил трубку и недоуменно протянул:
— Тут какого-то козла спрашивают…
— Положи трубку, сынок, это хулиганье резвится.
Длинный звонок раздался снова. Я ответил.
— Ну ты, козел, мы тебя предупреждаем, будешь волну гнать…
И дикая циничная матерщина, поясняющая, что будет со мной и моей семьей в этом случае.
В диалог я с ним не вступал.
— Кто звонил? — встревоженно спросила жена.
— Да так, по работе, — как можно безразличнее ответил я.
— Не ври, я по твоему лицу вижу… И кстати, какой-то Идиот звонил и днем. Интересовался моим здоровьем и ребят. Чего они от тебя хотят?
— Не бери в голову, это мои проблемы.
— Твои, а пугают нас, — резюмировала Люда и надолго задумалась.
Борщев на мое сообщение отреагировал, на мой взгляд, неадекватно.
— Давно пора, — сказал он, как будто услышал долгожданную весть. — А то я уже забеспокоился, какую такую неординарную подлянку они выдумывают. А тут пугают, значит, ни на что решиться не могут.
— Пока, — подчеркнул я.
— Вся жизнь состоит из пока. Придется потерпеть. Телефон дома выключай, когда без надобности. Домашним твоим лишние стрессы ни к чему.
— А как с этим можно бороться? Есть же какая-то аппаратура — и прослушивающая, и фиксирующая. Может, поставить аппарат с определителем номеров.
— В Магадане это не проходит — не тот уровень связи. Да и не дураки же они — с автомата, скорее всего, звякают. А ставить тебя на прослушку пока тоже оснований нет. У нас такая аппаратура на вес золота.
Я внял его совету. Правда, телефон не отключил, а только вырубил звонок. Так что теперь он работал в одну сторону.
Когда мои знакомые стали жаловаться, что до меня не дозвониться, я шутил:
— Телефон я ставил не для вашего, а для своего удовольствия.
Затем, опять-таки по совету Саши приобрел автоответчик и вскоре телефонная осада прекратилась. Светиться на магнитофонной пленке не хотелось никому.
Звонки прекратились, но однажды старший пришел из школы раньше обычного и явно не в себе.
— А у нас Костю убило, — крикнул он прямо с порога, бросив на пол полиэтиленовый пакет с книгами. По традиции выпускников дипломат он уже на занятия не носил.
— Как это убило?
— Током.
На перемене они пошли покурить за трансформаторной будкой. Тут подъехала какая-то машина, из нее вылез монтер, открыл трансформаторную и потом крикнул:
— Ребята, помогите, подержите провод.
И протянул провод тому, кто стоял ближе — Ивану.
— Но ты же не знаешь Костю, он вечно вперед всех норовит и тут тоже — за провод схватил, он как бухнет и огонь, и Костя…
Неожиданно сын замолчал и заплакал. Пережитое дошло до него только сейчас.
Я не мешал ему. Пусть, легче станет. Потом, кое-как успокоившись, Иван продолжил:
— А монтер кричит — бежите быстрей, "скорую" вызывайте. Мы и побежали. А Костю уже не откачали.
— А монтер?
— А он уехал. Я когда бежал, заметил — он в машину сел и уехал.
Я торопливо оделся и пошел в школу, благо, находилась она через двор.
Там было уже милиционеров — не протолкаться. И в учительской, и в коридоре, и возле кабинета директора. Столько милиции в школе, только не в нашей, а в Омсук- чанской я видел пятнадцать лет назад, когда снежной лавиной накрыло сразу восемь девятиклассников и несчастные, обезумевшие от горя родители пришли убивать директора за то, что во время занятий он отпустил их без присмотра кататься с горы.
Я дождался, пока директор осталась одна, и зашел в кабинет.
Галина Николаевна сидела за столом, обхватив голову руками, и когда на мой голос она подняла лицо, в глазах у нее блеснули слезы.
— Вот, Валентин Михайлович, беда-то какая.
Я давно и достаточно хорошо знал Галину Николаевну. Она стала директором, когда мой сын пошел в первый класс. С тех пор прошло десять лет и так получилось, что заботы школы стали и моими заботами… Я участвовал в их мероприятиях, вел уроки по профессии, в последние трудные годы помогал чем мог — книгами, бумагой… Я видел, какой груз — и мужчина бы сломался — выпал на плечи этой симпатичной худенькой женщине. А тут еще это.
И я понял, что должен ей все рассказать.
— Галина Николаевна, это предназначалось Ване.
Она обдумала услышанное.
— А милиция склоняется к версии, что это месть… вы знаете, кто отец Кости?
Я смутно слышал, что бизнесмен.
— И не просто бизнесмен, он один из этих, как их сегодня называют — авторитетов. И говорят, что это разборки и что, скорее всего, попугать хотели, да переборщили. Боже мой, слышали бы вы, как он страшно орал на меня.
— Галина Николаевна! А вы бы не орали?!
Потом, успокаивая ее, Добавил:
— Если он бизнесмен, значит, голова на плечах есть. Сам поймет, откуда что. А вы тут ни при чем.
После разговора с директором я передумал идти в милицию — вряд ли они поверят мне, тем более у них уже есть; своя, устраивающая их версия.
На ней они и будут стоять.
ГЛАВА XIV
Хочешь мира, готовься к войне.
Всю жизнь я был рохлей, даже в детдоме, когда только от твоих кулаков и зубов зависело, будешь ли ты сегодня сыт или голоден, драться не любил. Не люблю и сейчас — ударить человека в лицо для меня все равно, что убить его — нужен сходный по уровню накал ненависти.
Но последний год изменил меня. Я знал, что добром дело не кончится, но если и был у меня страх — то только за своих. Сам я был готов ко всему.
…Вот это-то состояние повышенной боеготовности и спасло меня в тот вечер, когда я возвращался домой. Всей кожей я почувствовал опасность, едва взглянув на внешне неприметные светлые "Жигули", стоявшие прямо у арки, через которую я, чтобы сократить дорогу, спешил от автобусной остановки домой. Машины в этом месте никогда обычно не ставили и я это вспомнил.
А когда навстречу мне неторопливой безмятежной походкой пошли двое, я был уже взведен как курок — аллегория? — и палец мой лежал на взведенном курке безо всяких аллегорий.
Пройди они мимо и ударь со спины, я ничего бы не смог сделать. Но видимо у кого-то из них был свой кодекс чести и шедший немного впереди плотный светлорусый парень лет под тридцать, заступил мне дорогу…
— Мужик, — и тут же поперхнулся, уставившись в ствол моего "Констебля". Боковым зрением я заметил как нырнула в карман рука его напарника и, не раздумывая, нажал курок. Громовое эхо от выстрела еще не стихло под бетонными сводами арки, а я уже перевел ствол на второго бойца.
Один уже лежал, а второй, царапая стенку, сползал на землю. Минуты мне хватило, чтобы вытащить у обоих пистолеты и еще у одного нож. На дальнейший обыск я не рискнул и, развернувшись, выскочил из арки. Слава Богу, на улице никого не было и, усмирив дыхание, я спокойно пересек ее. Затем вошел в магазин "Удача", смешался с покупателями. В водочном отделе купил бутылку "Наша водка", большой пакет и буханку хлеба. На ходу бросил в пакет добычу и подошел к грузчику.
— Слушай, брат, выручай. Трясет, а одному много, — я кивнул на пузырь.
Лицо грузчика просветлело. Он, видно, сначала предположил, что я у него рубль просить буду. Зыркнул по сторонам.
— Иди в подсобку, я сейчас.
Этого мне и надо было. В подсобке я вытащил из пакета хлеб и водку, а трофеи замаскировал сверху оберточной бумагой, рулон которой стоял тут же.
Стакан водки я выпил как воду.
— Тебя как зовут?
— Толяном кличут.
Мне понравилось, что парень ни о чем не спрашивает и на бутылку жадно не смотрит.
— Все, мне хватит. А то по новой загужу, — сказал я, — Это тебе, допивай.
— Благодарю, — церемонно сказал Толян. — Если еще такая же помощь потребуется, заходи… Да сейчас не иди ты через торговый — вон, крюк отбрось и прямо во дворе будешь.
Так я и сделал. Пересек двор и подошел к телефону- автомату.
— Саша, надо срочно встретиться.
Через десять минут к "Макаке" подъехал борщевский "Лендровер".
К моему недоумению, выслушав мой перепуганный косноязычный лепет, Борщев разулыбался.
— Значит, завалил. Обоих. Ну-ка, давай проедем, так сказать, на место преступления.
— Да ты что, там же, наверное, милиции полно.
— А я тебе кто — хрен с горы?
Он развернул машину и вскоре мы въехали во двор.
Милицейских машин видно не было.
Исчезли и "Жигули".
И ни тел бойцов и вообще ничего в арке не проглядывалось.
— Они очухались буквально через пять минут, — пояснил полковник. — Нервно-паралитический газ. Но еще сутки будут как с похмелья. Ну-ка, давай, что ты там у них выгреб.
Я протянул ему один пистолет и нож.
— Отдам экспертам. Пусть прокрутят по всем параметрам. Думается, много любопытного нам эта пушка расскажет. А ты его случаем, не лапал?
Я не помнил.
— Ну да ладно, твоих отпечатков пока в картотеке нет, а вот с чьими может совпасть, я уже примерно предполагаю.
Почему я не отдал ему второй ствол, я и сам не знаю.
— Знаешь что, — сказал на прощанье Саша: — Тебе, пожалуй, надо напиться. Сбрось стресс и, как это в песне поется, все плохое забудь.
— Да я уже начал.
— Ну и продолжай… Но только так, чтобы ситуация под контролем. Деньги-то есть, интеллигенция рассейская?
Деньги у меня были и рассейская интеллигенция загудела. Да еще как!
Помню, что взял две бутылки кристалловской водки и зашел к Ларисе. Любви не получилось. Просто мы сидели, выпивали и оттого, что оба понимали, что это наша последняя встреча, было грустно.
— Чем же я тебя не устраиваю? — наконец, не выдержав, тихо спросила она.
— Да не в тебе дело, — с досадой, что она не понимает таких простых вещей, ответил я. — Во мне. Не могу я уйти от своих, ребят бросить, да и жену — сколько она меня раз спасала от всего, а жить вот так, на два фронта, устал. Душа устала разламываться.
— Красиво говоришь.
От нее я пошел к Устинычу. Но его почему-то не было на работе уже целую неделю.
Напарник, еще не старый, заросший серой щетиной, высокий худой Алексеич тревожился:
— Не заболел бы. А то один живет — окочурится, никто и не узнает.
Я узнал его адрес, взял такси и поехал на тридцать первый квартал. Он жил в желтом четырехэтажном доме во дворе продовольственного магазина.
Я упорно нажимал на кнопку звонка до тех пор, пока за обитой дермантином дверью не послышалось какое-то движение.
— Эка ты растрезвонился, батенька мой, — Устиныч открыл мне дверь. — А я тебя и так второй день жду.
— Как… второй день, — спросил я, проходя в комнату. — Я только сейчас адрес твой узнал, от Алексеича. Извини уж, Устиныч, что непрошеным гостем.
— Как же непрошеным, — запротестовал старик, — когда я тебе письмо специально отправил. Не получил, что ли?
— Не-е. Да я и дома сегодня еще не был.
— Ну да ладно, главное, что приехал.
Я заметил, что передвигался Устиныч с трудом, дышал тяжело, с присвистом. На лбу у него даже испарина выступила.
Заболел мой главный советник.
Я огляделся. Обстановка была более чем простая. Стол, диван, два кресла, на полу самотканые коврики. Вдоль всей стены на полках из толстых сороковок стояли рядами, как солдаты, книги. Много книг. Тысячи две, а то и больше. Я с любопытством пригляделся.
— Это все мое богатство, — улыбнулся хозяин. — Ничего с собой не брал, когда куда переезжал, а книги — обязательно.
Толковые и энциклопедические словари, собрания сочинений русских классиков, толстые в суперобложках тома "всемирки". Одну полку занимали философы — начиная с греческих и кончая современными мыслителями. И еще литература по философии, психологии, религии…
— И ты, Устиныч, все это, — я обвел рукой стеллажи, - прочитал?
— Прочитать прочитал, — вздохнул Устиныч. — Да не всегда все понимаю. Вот Ницше — он кто — поэт или философ, реакционный, как его у нас окрестили. А что же в нем реакционного? Наоборот, с точки зрения марксиста, он наш человек, потому что против религии. А что он воспевает сверхчеловека, так что ж в этом плохого? Горький тоже этим занимался…
Спорить я с ним не стал… не в том состоянии был.
— Я, Устиныч, за тебя забеспокоился. Что с тобой?
— Захандрил маленько. Но начальница в курсе — я ей звонил от соседей. Сказала, чтобы я лечился и ни о чем не беспокоился. А о чем мне, собственно говоря, беспокоиться?
Горечь прозвучала в его последних словах. Горечь человека, пришедшего к закату своей жизни бобылем.
И, несомненно, заслуживающего лучшей доли.
— Давай лучше выпьем, Устиныч.
— А ты уже не того, — внимательно пригляделся ко мне Устиныч. — А то у меня ведь разговор к тебе серьезный, Валентин.
— Успеем, — отмахнулся я. — До утра времени много. А мне сегодня посоветовали надраться.
Устиныч поставил на стол граненые стаканы, порезал огурцы, сало, картошку в мундирах вывалил в большую железную миску.
Мы чокнулись и выпили. За все хорошее.
— Я ведь чуть человека не убил, Устиныч. Во всяком случае, подумал, что убил. Уж очень он нехорошо падал.
— Что за человек?
Я рассказал ему о событиях последних дней.
Устиныч молча слушал, кряхтел от избытка чувств, время от времени наполнял мой стакан, сам, однако, не пил. Я чувствовал, как вместе с опьянением все во мне расслабляется, уходит тревога и… заснул.
Устиныч помог мне добраться до дивана, а себе поставил раскладушку.
Ночью я проснулся от его стона.
— Устиныч, — сообразив наконец, где я нахожусь, позвал я. — Что с тобой?
— Да мотор, мать его… Да ты спи-спи, пройдет само.
Но само не проходило и к утру я настоял вызвать "скорую".
Дожидаясь ее приезда, Устиныч, через слово останавливаясь, говорил:
— Валя… ведь у меня никого нет. А ты мне как сын. Возьмешь ключи от квартиры… цветы поливай и еще. Если случится что, проводишь по-человечески. Столы во дворе поставь, чтобы помянули — соседи у меня хорошие. Ну и крест там, могилку.
— Устиныч, — пытался я его прервать, но он властным жестом велел мне замолчать и продолжил:
— Деньги и завещание — в "Капитале", там же и акции — посмотри, может, на что годятся. Тебе они сейчас нужны, деньги. Семью главное отправь пока на материк, от беды подальше… И тебе бы надо, да ты ведь теперь, я понял, не уедешь… злой ты стал, может, так и надо с этой нечистью, не знаю… не знаю… грех не возьми на душу.
— Бредит, — понял я и тут подъехала "скорая".
Даже не сняв кардиограмму, молодой худощавый врач в очках приказал сестре:
— Позовите водителя — повезем в отделение. А вы, — обратился он ко мне, — соберите белье, чашку, ложку. Если есть какие лекарства, тоже возьмите. Сами знаете, что сейчас в больнице ничего нет.
Устинычу тем временем сделали уколы и он то ли был в забытьи, то ли спал.
— У него… как он? — спросил я у врача.
— А что вы хотите?.. — вопросом на вопрос ответил он. — Семьдесят лет, сердечко изношенное. Это же у него не первый инфаркт?
Я только руками развел — откуда мне было знать.
Меня они с собой не взяли, я добирался на такси и когда наконец вошел в приемный покой и спросил в какую палату разместили только что привезенного "скорой" Ладиса Сергея Устиновича, дежурная взглянула на меня так, что все стало понятно без слов.
— Ничего не смогли, — вздохнула она — и дефибрилля- ТоР не подействовал.
— Где он сейчас?
— Да уж поди в морг отвезли, тесно у нас там стало… Как мухи люди мрут.
Черный год, повторял я, черный год. Я и не замечал, что говорю вслух и прохожие шарахаются от меня. Что же это творится, а?
У кого я спрашивал — не знаю.
Похоронил я Устиныча на новом кладбище, на самом краю его. Кладбище размещалось на склоне сопки над Колымской трассой и вечные его обитатели обречены были спать под непреходящий гул моторов. Но Устиныч сам был дальнобойщиком и я справедливо полагал, что эта дорожная музыка придется ему по душе.
На большом деревянном кресте знакомый художник по моей просьбе вырезал:
"Спи, пока Бог не разбудит".
Так хотел Устиныч. Он верил.
— Каждому по делам его, батенька мой. Бог ли, судьба, совесть — назови как угодно. В мире не пропадает ни добро, ни зло. Ни одна крупица, поверь!
До сих пор звучит у меня в ушах его голос.
После поминок я занялся его бумагами. Большую часть библиотеки Устиныч завещал детскому дому, кое-что из домашней утвари и личных вещей — соседям, а квартиру, деньги и сто штук акций Ветренского месторождения мне.
На определенных условиях.
Пока я живу в Магадане, я должен был ухаживать за его могилой и поминать во все родительские дни. И ставить за упокой души его свечи и заказывать молебны.
Он хотел, чтобы его помнили.
Не знаю, почему он выбрал меня, но в одном он не ошибся: я его не забыл.
А теперь вместе со мной будете помнить его и вы.
ГЛАВА XV
Руки её — тенета,
глаза её — сети.
Денег у покойного, для человека прожившего на Колыме всю жизнь, было не так уж и много — около тридцати тысяч. Но мне их хватило, с благодарностью вспоминая Устиныча, чтобы отправить жену и ребят на все лето к родственникам в Беларусь. Максимовна, наша тетка и Ваньки- на крестная, давно плакалась в письмах, что мы ее забыли. На время похорон я как-то забыл о тучах, висевших над моей головой, но когда самолет наконец взмыл в воздух, испытал облегчение. Страх за родных — эта пудовая тяжесть на душе — сразу исчез. В Домодедово их встретит мой друг и отправит дальше, до Гомеля, а там Максимовна на своей машине.
И тут же, будто дожидался когда я разделаюсь со своими делами, нарисовался Борщев.
Он посочувствовал мне в связи со смертью Устиныча — я о нем ему частенько рассказывал, — одобрил отъезд семьи и сообщил последние новости:
— Ты знаешь, чей это был ствол. Помнишь, пять лет назад капитана милиции у своего гаража грохнули и его пистолет забрали. Вот так-то. Сегодня все органы на ушах стоят, разыскивают… у как его, склероз чертов, ну неважно, того, чьи отпечатки на нем нашли. Твоих не было, кстати. По картотеке определили, бандит тот еще. Конечно, утверждать, что он и убил капитана, трудно — ствол мог и попутешествовать, но ниточка начинается с него. Так что если бы — во, вспомнил — Шачкин! Если бы ты этого Шачкина и грохнул, тебе бы спасибо сказали. А я-то думаю, что это они в норы запрятались, храброго нашего портняжку испугались. А испугались-то они нас!
Тут редкой силы мстительное выражение появилось на его лице и я Шачкину не позавидовал.
— Ты его знал?
— Кого, капитана? Учились вместе в Омской школе милиции. У него два пацана остались, вот как у тебя.
— Ты чего… у меня еще не остались, не хорони.
— Извини, — смутился полковник. — Я не то хотел сказать.
— Да ладно, сказал и сказал. — Недалеко, я полагаю, и от правды отклонился.
— Брось, — уверенно сказал Саша. — Им теперь не до тебя — свои подпаленные задницы надо спасать. Голову на отруб даю, что их теперь в радиусе тысячи миль ни одного, ни второго нет. Но далеко не уйдут, ребята приметные.
— А этот… он как-то связан с ними?
— По нынешним делам — безусловно. А по тому убийству, вряд ли. По возрасту не подходит, тогда он совсем сопляком был.
— Но как-то они познакомились…
— Вот и будем выяснять — как и что. А ты можешь своего злодея в покое оставить, сами разберемся.
— Я его вроде первый и не задевал, — усмехнулся я.
— Ну вот и расслабься, все, практически, кончено.
У меня на этот счет было несколько иное мнение.
За всеми этими событиями распустил я вожжи издательские. Хозяин за порог и домочадцы по соседям. Куда-то скрылась "Авеста", с которой мы затеяли грандиозный проект переиздания фотоальбома "Берег двух океанов" на русском и английском языках. А по договору директор этой фирмы должен был уплатить нам 457 тысяч рублей и вернуть фотоматериалы. Застряли без меня на мертвой точке переговоры с Сиэтлом — американцы намеревались купить у нас книгу "Новая жизнь древних легенд Чукотки" и я еще не мог прийти ни к какому решению насчет "Сына Сатаны".
— Слушай, — предложил мне Дунаев. — Мне все равно за бумагой лететь в Иркутск — давай я дюжину образцов возьму, пошастаю по магазинам, да хоть по три рубля его сдам — все лучше, чем впустую лежит.
— Кого его? — насмешливо спросил я, но в сердце мне кольнуло: значит, не пустые мои домыслы…
— Да книжку "Сын Сатаны", — досадуя на мое непонимание, уточнил зам.
Предложение мне показалось резонным и вскоре Юра улетел в Иркутск.
— Все нормально, — позвонил он мне оттуда через неделю. — Тысяч десять почти разбросал оптовикам — у них, оказывается, и краевой книготорг еще работает, сохранился. Они вообще готовы весь тираж забрать, но на реализацию… соглашаться?
— Если на реализацию, то на рубль подороже — инфляция-то идет. Или в договоре укажи сроки и обязательно с учетом ставки рефинансирования Центробанка.
— Понял, — бодро отрапортовал по телефону Юра.
И больше я с ним не разговаривал.
Впервые за последние месяцы мне стало светлее на душе и я поднял голову и огляделся.
В городе властвовал июль. Ярко-зеленая трава на газонах, кричащая желтизна ромашек, изумрудные ветви лиственниц и надо всем этим бездонное, какое бывает только на севере, нежно-голубое небо. Солнце грело не хуже, чем на юге, женщины вырядились в легкие летние платья и вдруг оказалось, что в Магадане живут только красавицы.
Тут-то меня и разыскал Хан.
Вообще его фамилия Кутылов, а по имени Валерий, но я его зову Хан и он с этим милостиво соглашается. Ему, на мой взгляд, это второе имя даже нравится.
Представьте себе мужика метра под два ростом, пудов десять весом, с восточным разрезом глаз и лукавой дружелюбной усмешкой. Оденьте на его лысую голову тюбетейку, посадите ему на колени пару длинноногих девиц, а в руки дайте чашу с кумысом и плетку, и получится точный портрет Кутылова.
Интереснейшая судьба у человека.
Начав с прораба на Магаданской ТЭЦ, он затем строил радиорелейные пункты по линии БАМа и буквально через несколько лет стал лауреатом премии ЦК комсомола за выдающиеся достижения в этом деле. После этого ему доверили сверхсекретную стройку командного пункта управления военной спутниковой связи под Красноярском — десять Уровней только под землей. За эту стройку он получил ор- Ден Трудовой славы — представляли к Государственной премии, но по молодости лет отклонили. Мол, успеешь еще, заработаешь. На очереди есть и куда более заслуженные. За его стройку премию получили другие.
После этого строил военный объект в Монголии на принципиально новых системах космической связи и наведения… таких, что он и сейчас от греха подальше, предпочитает о них не упоминать. Просто однажды он посмеялся над хвастовством американцев — речь шла о наведении крылатых ракет — и сказал, что эксперимент на его полигоне дал результат плюс-минус спичечный коробок. Дальнейшее совершенствование возможно, но просто не имеет смысла — разве что если использовать ракеты для иглоукалывания местным верблюдам.
После того, как в девяносто третьем году министр обороны провел американскую делегацию по всем этажам его красноярской сверхсекретной стройки, а полигон в Монголии забросили по причине сворачивания финансирования, Валерий плюнул на все и подался в коммерцию. Деньги, которые он не успел потратить из-за вечной своей занятости, все вложил в сигареты — покупал во Владивостоке и каждую неделю привозил их самолетом в Магадан и продавал в три раза дороже.
Через год у него образовался стартовый капитал, и он построил собственный цех по производству кондитерских изделий и одновременно открыл сеть для их продажи, завершив таким образом всю цепочку. Он сам изготавливал и сам продавал. Через пять лет Кутылову в городе принадлежало двадцать магазинов и киосков. Попутно он организовал и небольшой участок по производству пива.
Мощный аналитический ум, прекрасное знание человеческой психологии и какое-то звериное предвидение возможных вариантов развития событий и умение подстраховаться от неожиданностей создало его фирме ореол непотопляемости и абсолютной лояльности в смысле закона. Он единственный из знакомых мне бизнесменов честно платил все налоги, но его дело было построено так, что налоги оказывались минимальными.
Как финансист был жесток и руководствовался принципом "копейка рубль бережет" и копейку эту искал и находил повсюду. В этом плане для него не было ни родни, ни друзей, ни знакомых. Его не могли обмануть ни продавцы, ни бухгалтер… Принимал на работу только с залогом — деньги, квартира, автомобиль… Так что до суда в его фирме доходило редко.
Вместе с тем он был в полном смысле этого слова эпикурейцем — любил жизнь, веселье, держал баню и имел множество друзей, которых раз в неделю собирал в этой бане. И не только друзей, но и подруг.
Меня он приглашал не в первый раз, как-никак, а знакомы мы были ровно со дня рождения моего старшего сына — он гулял на его крестинах. Но я отнекивался — смущало его условие.
— Пропуск в баню — женщина.
Для меня это было слишком.
Но в этот раз он был настойчив и к тому же условие свое снял.
— Приходи хоть один, очень надо поговорить.
И я пошел.
В холле громадного особняка меня встретила охрана.
— Куда, к кому?
— В баню.
Охранник спросил имя — имя, а не фамилию, видно фамилии здесь не назывались и куда-то позвонил. Положив трубку, перекроил лицо в приветливое — удалось это ему с трудом и сделал приглашающий жест. Тогда я еще не знал, что Кутылов уже прошел и через шантаж, и через разборки — все прелести дикого рынка — и эти предосторожности были отнюдь нелишними.
В предбаннике меня встретил сам хозяин, с опоясанным поперек громадного живота полотенцем. Показал мне мою кабину и, когда я разделся, повел в парную. По пути мы последовательно прошествовали мимо трапезной, комнаты отдыха, бассейна, душевых и туалета и, наконец, нырнули в парную.
Я огляделся и почувствовал, как лицо мое загорелось.
И не только от стоградусного пара…
В бане было человек семь — большинство молоденькие девицы и… все абсолютно голые. Они уставились на меня и я машинально прикрыл веником причинное место.
Раздался дружный хохот.
— Чего ржете, — вступился за меня хозяин. — Человек первый раз, к тому же в отличие от вас, скромный.
— Перекуем, — заверила одна из компании.
Кое-как я справился с неловкостью, веник стал использовать по назначению, но в сторону девиц осмелился взглянуть только в трапезной, когда мы уселись за стол — там совсем нагишом ходить не разрешалось.
Все мужчины были мне знакомы — врач, художник и еще один, кажется, из таможни. Насколько я помнил, все они были людьми семейными. Девушки были не старше лет двадцати, это точно. А то и моложе. Блондинка, брюнетка, шатенка, опять брюнетка. Высокая, среднего роста, маленькая. Полная, худощавая… на любой вкус.
— Блондинка твоя, — вполголоса сказал мне Валера. — Так что действуй.
Я пригляделся к девушке. Хорошее неиспорченное лицо. Серые спокойные глаза. Высокая полная грудь, чистая кожа. Да, вкус мой Кутылов угадал… но возраст.
— Валера, она же мне в дочери годится.
— А тебе что, нужно, чтобы в бабушки!
Я заткнулся. Бабушка мне не требовалась…
Мы пили, рассказывали анекдоты, ходили в парную и ныряли в бассейн. И после трех рюмок Галя мне начала нравиться и даже очень.
— Не спеши, — прервал мои жеребячьи устремления Валера. — На пять минут разговор.
Мы уединились и он изложил проблему.
…С приходом к кормилу новой администрации, на него стали давить. Для них он был чужаком — во-первых, не дал в свое время деньги на выборную компанию, во-вторых открыто критиковал всех их представителей.
— Как же ты так… лопухнулся.
— Я не мог поверить, что они пройдут. И больше чем уверен, что по-честному они и не прошли бы. Подтасовка. Голоса-то он "заработал" на трассе и мне известно, как на прииске, где всего с грудными и стариками — двести человек, за него голосуют пятьсот!
У меня отнимают лицензию на водку, натравили все контролирующие службы, штрафы за штрафами, в общем, допекли. И все направляет этот… Жандармов.
— Чем я могу помочь?
— Я дам компромат, пиши на него во все центральные газеты — если и не опубликуют, какой-никакой шум будет. Шум ему не нужен!
— Это я уже слышал, но тогда… в отношении меня только успокоились, опять начнется.
— Успокоились! Тебя ославили на весь город. Ворье и проститутка обозвали тебя самого чуть ли не вором, а ты и утерся. Если ты сейчас займешь оборонительную, а того хуже выжидательную позу, то таким и останешься до удобного для них момента… Помнишь анекдот, а у него что-то что-то было. Пальто украли у него, вот что было!
И второе. Я хочу в депутаты городской Думы. У тебя опыт и положительный. Пойдешь моим доверенным лицом.
— Статус неприкосновенности?
— Нет, тут я чист. Хотя от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Дело в другом — чтобы не бандиты и купленные командовали в Думе, а нормальные, обладающие здравым смыслом мужики.
Я подумал и согласился. Хотя я и понимал — не дурак же — что мной Кутылов затыкает свою проблему.
И еще я помнил слова Устиныча насчет татар. Может, он и прав.
Мы вернулись к столу. И обмыли наше соглашение.
И я поехал с Галей к ней на квартиру, жила она рядом с торговым центром.
.. Раньше я не верил приятелям, утверждавшим, что молодая баба и тебя делает моложе. Обычный, мол, треп — какой ты есть, таким ты и будешь. Галя мой скептицизм развеяла. Мы начали целоваться еще в такси, затем на лестничной площадке и, почти не разнимая губ, добрались до кровати. С жадной страстью, которой я давно в себе не помню я целовал ее груди, живот, бедра и она всем телом благодарно отзывалась на мои ласки. Мощная симфония соития подняла нас на самый гребень волны и понесла как одно целое куда-то в сладкую сумасшедшую даль. Она оказалась настолько любвеобильной, раскрепощенной и… умелой, что порой я не знал, кто из нас старше и опытнее.
Волна рухнула на земной берег, ночь кончилась и на зорьке, опустошенный, я плелся домой. Удивительно, но усталости я почти не чувствовал.
Пес уже ждал меня за закрытой дверью, но обнюхав мои штаны, как-то странно посмотрел и отошел, зевнув. Чем-то я ему не понравился… Может, перегар… пьяным он меня не любил — не видел логики в поведении. А может…
— И наши верные собаки измену чуют раньше нас…
Угрызения совести меня не мучили.
ГЛАВА XVI
Огонь очищает всё!
Дунаев не вернулся из Иркутска в назначенный срок, я пытался дозвониться ему в гостиницу, но номер был уже занят другим жильцом.
— Наверное, какие-то личные дела, — предположил я. — Мало ли что может быть.
И со смущением вспомнил свою блондинку. Пропуск в баню теперь мне был обеспечен.
Но когда он не прилетел и следующим рейсом, я позвонил его жене — моложавой вертлявой женщине, торговке со "швейки". Знал я ее плохо, в гости к себе Дунаев никогда не приглашал, но по косвенным признакам я предполагал, что в семье у них не все гладко.
— Антонина Евлампьевна, — я еле выговорил ее отчество, — а Юра из Иркутска не звонил?
— Он здесь не проживает! — рявкнула мембрана.
Тогда я нашел его сестру, она работала в родильном доме, а жила через двор. Нелли Ивановна.
— Что происходит, где Юрий?
— Плохо, Валерий Михайлович, все плохо. — Полная сорокалетняя женщина со следами былой красоты в чертах уже начинающего оплывать лица, была на грани слез. — Юра прилетел в среду — три дня назад, а его чемоданы стоят на лестничной площадке — уходи, мол.
— А… причина. Что за причина?
— Не знаю я их дел, но, похоже, она с бывшим своим мужем сошлась.
— Вот как, а где Юра?
— Где-то у товарища старого, в общежитии. Тот на квартиру перебрался, а комнату пока не сдал — так мне Юра объяснил. Может, запил…
— А он что, пьет?
— Не пьет он, да лучше бы пил — все в себе носит, переживает.
— Ты бы сходила к нему, Нелли.
— Я уже ходила, — призналась она, — стучала стучала — никто не открывает.
— Сходи еще, вечером, ладно.
Вечером она позвонила мне домой — свет не горит, на стук в дверь никакой реакции.
Я поговорил с Борщевым…
— Что делают в этих случаях, Саша?
— Пишется заявление на имя начальника милиции. Излагаешь суть дела и просишь с учетом твоих тревожных предположений вскрыть дверь… А этого, хозяина комнаты разыскать нельзя?
— Да на рыбалке он в Балаганном, а жена не знает, где запасной ключ и есть ли он вообще.
— Ну, тогда действуй, как я сказал. Иного варианта нет.
Через два часа у меня в кабинете собралась тревожная группа — оперативник из убойного отдела, мастер ЖЭУ со слесарем и подошла по моей просьбе Нелли.
Мучимый недобрыми предчувствиями, я увязался с ними.
…Юра повесился в кухне на тонком брючном ремне — привязал его прямо за крюк, предназначенный для люстры. Судьбу, что ли испытывал — обычно такие крюки и люстры- то порядочной не выдерживают, а в нем килограммов под девяноста таки было. Висел он уже видно давно — в комнате стоял приторно-сладкий запашок.
В комнате было почти пусто. Стояли его нераспакованные чемоданы. На кухонном столе почти полная бутылка водки, на подоконнике — стопка книг. Те образцы, что он возил с собой в Иркутск.
Те самые.
Будь они прокляты… Я зацепился за это слово — прокляты. Теперь я в это твердо поверил.
Я не знал, верующий был мой зам или нет, я не знаю, сам верю или только ищу надежды и успокоения в вере, но в, этот день я долго молился и просил Бога простить Юру.
— Он и так мучился на земле, — говорил я. — Что же ему теперь и там такое же. Ведь он не злой был и помогал всегда — вот сестре своей, как она по нем убивается, был плохой — разве бы убивалась.
Вот так горячо и беспорядочно — послушал бы кто со стороны — ходатайствовал я за Юру. И мне стало легче.
Поднявшись с коленей я подошел к переднему углу, где у меня стояли две иконы и внимательно, как будто первый раз их увидел, стал рассматривать.
Большая икона Христа-Спасителя с окладом из золотой фольги была передана мне моей мачехой, незадолго до ее смерти. Тогда'я приехал в деревню вместе в первенцем Иваном — показать ей внука.
Родной матери я своей не знал — она умерла, когда мне и года не было — и мачеха заменила мне ее и звал я ее мама и она ею была. И то, что рано я пошел в люди — интернат, училище, завод — не ее вина: было нас пятеро, а отец — инвалид войны первой группы, а как жили в то время в деревне, людям знающим рассказывать не надо.
Мы прогостили в деревне всего неделю, как прослышав о моем приезде, залетел на своей машине мой двоюродный брат Колька и уговорил переехать к нему в городской поселок, а уж оттуда я собирался в Москву.
Мачеха печально посмотрела на меня и сказала:
— Не думала я, что так скоро расстанемся. Чует мое сердце — не увижу вас больше. Вот, возьми эту икону.
Я начал было отнекиваться, большая, громоздкая, не довезу… но тут мачеха проявила твердость, вообще-то ей не присущую.
— Иконой этой венчалась твоя мама, а перешла она к ней от бабки Маринки, а той от ее бабки — так что по праву она твоя.
И добавила:
— Бери, сынок. Я вижу — тебе она нужней, чем другим.
И теперь темные строгие глаза Спасителя смотрели прямо на меня, как бы спрашивая, как я буду жить дальше.
И вторая икона, гораздо меньших размеров — книжного формата — тоже подарена мне родной сестрой отца, тетей Машей. Слово о ней — отдельная повесть или поэма, но вряд ли без ее помощи, без ее пышек, без ее сказок выжил бы я в этой жизни. Старшая моя сестренка Зойка рассказывала, что когда я, трехлетний карапуз, тяжело заболел и был практически у смертной грани, она каждый день приходила ко мне — а жила в другом селе замужем за столяром-пьяницей и на руках у нее были две дочки и все хозяйство. Расстояние между селами было около десяти километров и еще по послевоенной поре водились в наших краях волки.
И когда я — тоже в последний раз — навестил ее, она, пригорюнившись — мы вспоминали отца и мою маму, сказала:
— Валечка, — она меня так звала, — подарить мне тебе нечего… возьми на память любую из иконок, что глянется тебе.
Тетка моя была глубоко верующим человеком и иконостас у нее был громадный. Но глянулась мне вот эта маленькая, с необычно яркими красками. Высокая стройная женщина в торжественных церковных одеждах и нимбом над головой шла ко мне и за ней виделись города, церкви, горы и реки и синеее бездонное небо. И в небе, над золотым обрезом рамки восседал на белом пушистом облаке ангел.
Дерево иконы почернело от времени, левкас покоробился и то тут, то там по полю проявились тонкие белые трещины.
— Святая мученица Александра, — прочитал я надпись.
Тетка вздохнула:
— Это самая дорогая для меня… Думала, при жизни не расстанусь. Но тебе отдам.
Лет семь назад, когда начался бум на все русское, икона эта попалась на глаза одному американскому бизнесмену, с которым я намеревался завязать деловые отношения по издательской тематике. По его просьбе я снял ее, он долго щупал, осматривал, едва ли на язык не пробовал, а потом попросил — продай.
— Не могу, — развел я руками. — Память.
Для него это было непонятно — память памятью, а деньги деньгами — и он трижды набавлял цену и испугавшись, что не устою перед четырехзначной суммой, я довольно грубо прервал его. Только тогда он отстал.
— Что в ней такого? — спросил я у Бычкова. Я принес ему икону с тем, чтобы он как-то замаскировал трещины, для реставрации, словом.
Глаза у художника загорелись и, осмотрев икону, он твердо сказал:
— Конец семнадцатого, начало восемнадцатого века как минимум.
— Почему так решил?
— И материал, и дерево… Но прежде всего манера письма. Тогда писали в духе византийских традиций — радостные, светлые краски. А уже в более позднее время Священный Синод решил, что по канону не о жизненных греховных радостях должна напоминать верующему икона, а о наказаниях за грехи, об искуплении их… об аскетизме и монашестве. И краски должны быть соответствующими.
И тут же без перехода:
— Продай, а. Я тебе и деньги дам хорошие, и икону — на выбор — подарю взамен.
В деньгах я тогда очень нуждался — родился уже Илюшка, жена не работала, долги, а журналистская моя зарплата равнялась ста двадцати рублям. Приводным ремням партии и платили как за трансмиссию.
Но это искушение я преодолел.
И думаю, хочу в это верить, что преодолеют и мои сыновья.
И внуки.
…Прошла неделя со смерти Юры, а его поступок не выходил у меня из головы.
Почему?
Ну да, разрыв с женой. Но ведь не вдруг это произошло и не мальчик он, что бы из-за этого лишать себя жизни.
Сестра сказала, что он должен был деньги и якобы ему включили счетчик.
Я видел его кредитора, он специально приходил ко мне жаловаться, дед лет под шестьдесят, его бывший начальник отдела по институту. На счетчик вряд ли он был способен, да и сумма показалась мне смехотворной.
— Сколько? — спросил я тогда у него.
Он назвал цифру. Она равнялась двум окладам Юры.
Я вызвал должника. Дунаев вошел и смутился — он явно не ожидал у меня увидеть своего бывшего начальника. Поздоровались они сдержанно, но безо всякой неприязни.
Я дал каждому по чистому листу бумаги и предложил.
— Пишите мне заявление. Вы, о том, что Дунаев должен вам деньги, а ты Юра, что просишь удерживать долг из своей зарплаты. Думаю, месяца через два, максимум три долг будет выплачен.
Так что версия о долге не выдерживает никакой критики.
И вообще, что это за сила, что толкает человека на добровольный уход из жизни.
Суицид… Справочник по психологии трактует это следующим образом…
…Акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания: осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая ценность теряет всякий смысл.
В нашем государстве всех покушавшихся на самоубийство просто считали психами. Это было легче, чем изучать эту беду, искать ее корни и причины.
А как же тогда cати — самосожжение женщин в Индии после смерти мужа или харакири самураев?
В основе индийского варианта суицида лежит красивая легенда. Сати — первая и самая любимая жена Шивы. В переводе с древнеидийского означает "сущая". Но выбрала она мужа вопреки воле отца — всемогущего Дакши и потому тесть и зять сразу, мягко говоря, не понравились друг другу. Дакши оскорбил Шиву, а последний в отместку сорвал ему жертвоприношение богам и убил. А голову Дакши закинул так далеко, что потом, когда оживлял всех умерших, не нашел и приставил к его туловищу козлиную. Так вот, Сати, что бы оправдать мужа, бросилась в жертвенный огонь и сожгла себя в его честь.
С обгоревшим телом Сати Шива долго ходил по земле, пока Вишну не разрубил тело на куски и не разбросал останки, сделав места, где они упали, центрами паломничества.
Принцип харакири звучит достаточно лаконично: "Жить, когда правомерно жить, и умереть, когда правомерно умереть". С детства воспитанный в духе бусидо-специфическо- го мировоззрения самураев — идеальный воин хладнокровно следовал его законам.
Своеобразное преломление этих принципов мы видим на примере камикадзе-летчика на один вылет.
А чем тогда считать подвиги наших героев — Матросова или Гастелло или сотен других известных и безымянных героев осознанно и добровольно шедших на смерть?
А кем являются наркоманы, алкоголики, да даже заурядные курильщики, прекрасно осознающие, что их привычки или пороки сокращают жизнь — медленное самоубийство — и тем не менее и не пытающиеся от них избавиться…
Так что вопрос далеко не праздный и ждущий своих исследователей — философов, психологов, социологов…
Так я размышлял, когда ко мне в кабинет заглянула зав- складша и пожаловалась:
— Там грузчики склад убирали, а мусор не вытащили, так в складе и лежит.
— В каком складе?
— В третьем.
Я взглянул на часы — рабочий день уже заканчивался.
— Идите открывайте, я подойду посмотрю.
Решение созрело почти мгновенно. Я открыл аптечку, вытащил пакетик марганцовки, на глаз отсыпал примерно чайную ложку на лист бумаги, из бутылки с антифризом капнул пару капель, скатал все это в тугой клубок и еще сверху обмотал носовым платком.
Сунул этот колобок в карман и почти бегом спустился в склад. Счет пошел на минуты.
На складе я подошел к горе мусора — в основном бумажный срыв, деловито попинал его ногами и когда завскладом отвернулась, затолкал колобок поглубже под мусор.
— Ладно, завтра я грузчика дам с утра, наведете с ним порядок. А вообще наперед, если не успели к мусоровозке, относите мешки в контейнера у соседних домов, а то пожарники нагрянут, мало не покажется.
Кладовщица закрыла замки и мы распрощались.
На складе, под кучей бумажного мусора уже началась химическая реакция. В складе не было окон, эта часть помещения на ночь закрывалась наглухо железной дверью, так что должно очень хорошо разгореться, прежде чем дым вырвется на свободу и сторож поднимет тревогу.
Каморка сторожа находилась в другом крыле и дежурство свое он начинал, как правило, с бутылки. А потом включал телевизор или заваливался спать. Все зависело от дозы.
Домой я не поехал — не хотелось, чтобы меня поднимали среди ночи. А про квартиру Устиныча не знал никто.
Так что все должно было получиться по-писаному.
При условии, конечно, что я не забыл уроки химии.
На другой день на работу я пошел, как обычно, к девяти.
И уже за квартал почувствовал в воздухе запах гари и ускорил шаг. Не переборщил ли я? Успели ли пожарники потушить, пока не занялось все здание? Не пострадал ли кто ненароком? Последнее меня пугало более всего…
Я вышел из-за почтамта, откуда открывался вид на издательство и замер. Почти все его левое крыло было черным от копоти, а из крайних окон еще тянулись слабые дымы. Во дворе, занимая часть улицы, толпились люди — пожарники, милиция, кое-кто из наших, пораньше подошедших работников.
Кладовщица, с неестественно оживленными глазами и слегка испуганная подскочила ко мне.
— Ой, Валентин Михалыч, что же случилось. Ведь мы с вами вчера заходили в склад, все было нормально. А меня тут уж пытали, бумагу заставили подписать…
Я хотел спросить, о чем пытали да что за бумага, но не успел. Подошедший к нам пожарник козырнул и представился:
— Майор Базюк. А вы, наверное, директор?
— Наверное, — усмехнулся я и мы поднялись в мой кабинет.
Майор был среднего возраста с внушительным брюшком и в речи его легко улавливался акцент жителя Западной Украины.
— Звонок к нам поступил в два ночи. Сторож был пьян и не мог найти ключей от дверей в то крыло, к месту возгорания. Пришлось выламывать. Пока то да се, огонь пробил перекрытия и загорелся кабинет начальника торговой инспекции, пол рухнул, так что все, что там у вас было, превратилось в пепел.
— Все, — недоверчиво спросил я.
— Абсолютно, — мотнул головой Базюк. — Вы наверное, поняли, что вместе с полом вниз свалилось и содержимое верхнего кабинета, а там двадцать ящиков конфискованной водки и питьевого спирта хранилось, не успели, мол, сдать на склад, как положено.
— Вы не западинец? — осторожно спросил я. — Чую ридну мову.
Насчет ридной мовы я, конечно, перегнул, но я сказал в смысле хорошо знакомую и потому легко простил себе этот небольшой загиб. В конце концов все мы братья-славяне.
— А як же, — заулыбался майор. — С пид Тернополя я.
— О, а я в Остроге служил. Гарнэ мисто. — Нажал кнопку селектора и попросил:
— Тамара, принеси нам по кофе и еще что нибудь, сама знаешь… Простите, товарищ майор, а кто позвонил… сторож.
— Да нет же, — удивился моему непониманию служивый. — Он же пьян был. Прохожий какой-то, уже из окон второго этажа стало пламя выбиваться.
Тут было главным не пережать. Тамара принесла поднос — кофе лимон, початую бутылку "Белого аиста" и две рюмки.
— С утра, — засомневался майор, а рука его уже автоматически потянулась к рюмке.
— Коньяк французы и пьют с утра. А потом — для вас-то это уже вечер, вы, наверное, с самого начала здесь.
— Ну, — крякнув и хрустя лимоном ответил Базюк: — Пожаришко так себе, но в центре, под боком у начальства. Они не любят, когда у них что-то под боком случается. В их дворе, в Кремле, Москве. Другое дело, если где-то там, на задворках империи — в Чечне, Магадане. Подальше от собственной задницы.
В другое время я бы с удовольствием развил эту тему. Но сейчас меня интересовало другое.
— А почему вы взяли, что пожар начался снизу, — я налил по второй.
Майор внимательно посмотрел на меня.
— А что, надо чтобы было сверху?
Меня аж холодный пот прошиб. Да, палец ему в рот не клади.
— Да нет, в принципе мне-то все равно, но причина. У нас же там все обесточено, а вверху, наверное, могли остаться включенными компьютеры или там чайник, — бормотал я. — Прости, Александр Федорович, хороший ты человек, но ситуация так поворачивается, что придется тебе отбрыкиваться. Но ведь тебе-то, начальнику торгинспекции, это сделать в тыщу раз легче, а?
И уговорил-таки свою совесть.
— Да, — задумчиво сказал Базюк. — Я как-то выпустил из вида, что ваши склады обесточены, а почему?
— Да ваши же работники во время последней проверки настояли — или сигнализацию ставьте или напругу долой. А сигнализация денег стоит и немалых.
— Да, — сказал майор. — Это стоит денег.
И опять я подивился его прозорливости. Мы словно играли с ним вслепую, но прекрасно знали расклад карт друг у друга и правила игры.
— Давайте составим актик и вы все изложите. Конечно, штрафа вам не миновать. И помочь придется — у нас тоже нехватка всего. Вот, может, изыщите возможность оплатить счет на ремонт нашего автомобиля.
Я записал реквизиты автомастерской и цифру. Сумма была вполне приемлемая.
Мы покончили с формальностями, допили коньяк и расстались как хорошие друзья.
Коньяк на меня подействовал и я потерял осторожность, напоследок не удержался от вопроса.
— Но если не проводка, не чайник, не окурок, то что?..
— Самовозгорание, — сказал пожарник. И ушел.
А наши классические анекдоты все издеваются над поручиками да полковниками. Как он меня размазал!
Я посмотрел на счет. С каких это пор пожарники стали ездить на "хондах"?
Впрочем, майор Базюк ее вполне достоин.
Я прошел на склад и поглядел, что осталось от книг. Зола и уголь. А то, что пощадил огонь, закончила вода. Сегодня грузчики уберут все и вывезут на свалку. А барак и так уже пора сносить — все-таки больше полвека простоял, уже и так трясся, когда машина тяжелая мимо проезжала. И крен давно образовался, как у рыбацкого сейнера в шторм.
Насколько я помню, кроме "Сына Сатаны", ничего стоящего здесь и не было. Так что убытки мы понесли незначительные. И нет худа без добра, может, теперь мэрия или Комитет по имуществу дадут нам хорошее помещение.
Этот огонь выжег все мои колебания и сомнения. Я вернулся к письменному столу и написал следующий список:
1. Жандармов — сын.
2. Жандармов — отец.
3. Ольга.
4. Альбина.
Ибо какой мерой вы мерите, такой и вас будут.
Но, подумав, Альбину вычеркнул. По всем моим наблюдениям она была просто больным человеком, неистово боровшимся за справедивость и ради этой справедливости способной уничтожить и самого человека. Случай достаточно распространенный.
— Бог ей судья.
Зато вместо нее я поставил Чеснокову. Я не знал досто- верно, но было у меня предчувствие, что ее роль во всем едва ли не самая главная. Она, именно она, добивалась дискредитации меня, а через меня и издательства. И никто иной, как Чеснокова предупреждала меня, чтобы я не совался к учебникам, сумела за какой-то час организовать и постановление о моем увольнении, и приказ, а потом лицемерно улыбаясь, поясняла, что поверили не тому человеку и едва ли не на плече моем плакала.
…И я б поверил ей вполне, но словно смутный сон догадка тоскливо брезжила во мне.
Догадка превратилась в уверенность, когда при мне, докладывая наверх, она обрисовала обстановку в Магадане как вполне благополучную — с продовольствием все в порядке и угля хватает… А буквально через пару недель город едва не был разморожен. Лживая тварь, способная ради карьеры поставить на карту — что там меня — целый город!
Последующие события подтвердили мою правоту на все сто.
ГЛАВА XVII
Так не спите же ночью
И помните,
Что среди ночной тишины
Плавает в вашей комнате
Свет голубой луны.
Лето стояло жаркое как никогда. Днем солнце разогревало асфальт до того, что он начинал плавиться. При полном безветрии душная сизая дымка висела над городом и дышалось трудно, как в противогазе. Все, кто мог, разбегались в эти дни по дачам, уезжали на море, благо вода на мелководных бухтах разогревалась до температур, вполне сравнимыми с черноморскими. А если учесть, что вода в Охотском море самая чистая в мире, то улетевшие на юга в этот сезон крупно промахнулись.
Жоржик, по кличке Крысан — в малолетке получил, когда спер у соседа пайку — замахнулся на святое по тюремным да и по общечеловеческим понятиям — в эти дни взаперти сидел в квартире. Он был напуган. Мутант, который вместе с Зеро должен был проучить этого долбаного лоха, позвонил ему в тот день буквально через час и проорал:
— Нас кто-то подставил. Мало того, что эта сволочь с волыной оказалась, так через пять минут красноперые понаехали. Мы сваливаем.
— А баксы? — Только и нашелся спросить Крысан. Он был паталогически жаден и даже в этот момент не забывал о деньгах.
Мутант только хохотнул в трубку и ясно стало, что две тонны баксов придется списать на непредвиденные расходы. Он спросил что-то еще, но ответом ему были короткие гудки.
Мало того, что его обули, Крысан остался и без охраны. И это сейчас-то, когда на его кусок зарятся уже не только свои местные банды, но и хабаровские уже дважды наезжали. Да еще этот — из мертвых восставший, издатель сраный. Ведь бил же наверняка, в печень, но снизу не достал, а вторым ударом точно думал, что сердце зацепил. Дурость, какая дурость и все эта проститутка Зойка — хорошо, что она давно за бугром, подцепила там какого-то богатого австралийца. Не заартачься она тогда, не заори, что с двоими не договаривалась, да еще в подвале и все было бы тип- топ. А причем тут подвал, если приспичило, аж ширинка лопалась.
И батя хорош. Взял проблему на себя, а его лохи облажались. Огласки испугались.
Спать расхотелось.
Он повернулся на бок и спустил ноги, нащупывая у дивана шлепанцы. После вчерашнего перебора спал, как упал — не раздеваясь.
И охнул.
Напротив, в столбе лунного света сидел в кресле человек.
Ночное светило отчетливо выделяло широкие плечи, голову, откинутую на спинку, руки, неподвижно лежащие на коленях. Лица было не разглядеть — либо маска, либо дурацкий как у клоуна грим смазывал черты
— Ты кто? — охрипшим шепотом спросил Крысан.
Человек молчал. Впечатление было такое, что он его не слышит.
Крысан почувствовал, что ладони и спина у него вмиг вспотели, а по ногам, напротив, пополз леденящий холодок.
Он хотел еще что сказать или спросить или попросить, но голос не повиновался.
Незнакомец встал и приказал:
— Идем. — И добавил: Там тебя давно ждут.
Крысан не переспросил, где это там… не осмелился, такой жутью несло от незваного гостя, что ему и в голову не пришло это. Воля его была полностью парализована и когда человек вместо того, чтобы направиться к двери, раскрыл окно и шагнул на подоконник, он последовал за ним.
Падал он тоже молча, и тело его обнаружили только утром.
— Девятый этаж, — как бы оправдываясь перед собравшимися, сказал врач. — Что вы хотите.
Хоронили его с помпой, на Марчеканском кладбище, почти в центре, рядом с заслуженными и почетными гражданами города, с погибшими рыбаками, с первыми строителями и другими хорошими людьми. Смерть его вызвала немало пересудов, но народ единодушно сошелся на том, что и это бандитские разборки. Так было спокойнее: если я не бандит, значит, меня они не затронут. Наивная мечта обывателя.
Кто-то проворчал, за какие такие почести Крысана хоронят с достойными людьми, на что один из могильщиков философски заметил:
— Ничего, там они будут на разных этажах.
Сентенция эта устроила далеко не всех и от граждан пошли жалобы и дело едва не дошло до перезахоронения, но потом так и застряло в коридорах власти. С живыми нет сил разбираться, а тут еще эти проблемы…
Думали, что все приглушил папаша Крысана, но старшему Жандармову в эти дни было не до него. Вдруг в одной из центральных газет появилась статья, да еще на двух страницах, как он украл два миллиона долларов. В отличие от газетных уток статья была крепко оснащена конкретными фактами, цифрами, именами подельников… чувствовалась рука профессионала.
И сразу все разрозненные слухи и версии о банкротстве Рыбпрома, о продаже богатейших месторождений за бесценок иностранным компаниям и о других махинациях обрели жесткий стержень и нашлось много работы следакам.
Но допросить Жандармова им не удалось. Он уже был где-то далеко, а искать его с использованием всей мощи государства не торопились видимо по той причине, что слишком многих влиятельных лиц самого государства мог бы он засветить.
— Ну и как ты воспринял? — Позвонил мне Борщев.
— Собаке собачья смерть. Если ты о Крысане.
— Оно так, конечно. Но тут брат, столько загадок, что даже у меня голова кругом идет…
— Что за загадки?
— Дверные замки у него такие, что не зная секрета даже изнутри не закроешь. А они были закрыты. В квартире никаких следов борьбы, все на месте и ничего вроде не взято.
— Да сам он выпрыгнул. Совесть загрызла.
— Совесть… Гм. Версия неплохая, но к таким, как Кры- сан, она не подходит.
— Тогда страх.
— Тоже возможно. Но чего или кого он испугался, если был один. Правда, слабенькие следы чужой обуви мы нашли, но когда они появились — до или после — неизвестно. Собака даже след взяла и знаешь, что самое удивительное?
— Что?
— След тоже к подоконнику ведет. Трижды ее пускали, а она все равно туда. И впрямь, хорошо посмотрели — есть след. Что они, вместе прыгнули… что ли?
— Может, у того парашют был, — пошутил я.
— Может, а скорее всего, с крыши спустился на веревке. Но ты знаешь — для этого надо альпинистом быть.
— А окно, — поинтересовался я, — как он окно открыл?
— Для профессионала это не проблема. Да возможно его сам Крысан и открыл. Жарко стало.
Он помолчал, будто что-то обдумывая и еще спросил:
— Тебе зла он немало принес — правда, не только тебе. И вот скажи, ты в эту ночь ничего не чувствовал. Ты же натура творческая, тонкая…
— Не издевайся. Если у человека в такие моменты и срабатывает биополе какое-то, то, наверное, в связи с людьми близкими.
— Тоже верно. Ну давай, звони. А может, ближе к выходным на рыбалку рванем. Возьмем адвоката и поехали.
— Так чего откладывать, — заволновался я. Рыбалка для меня была страстью, куда большей чем преферанс, — Давай завтра, а. У меня сеть есть финская на горбушу, ну прямо паутинка, еще даже не пробовал. Ты сможешь?
— Завтра, — он еще помедлил. — Наверное, да. И Павлович на месте. Хорошо, жди звонка вечером, а выедем… так, где у меня карта приливы — отливы… в пять утра, устраивает?
— Отлично.
Остаток вечера я провел в сборах. Достал рюкзак, сложил в него котелок для ухи, специи, пару бутылок водки, хлеб, огурцы, помидоры.
Затем проверил сети.
Потом экипировку. Хоть оно лето, но в Магадане погода меняется в день семь раз.
Документы и деньги.
Взглянул на часы — была уже глубокая полночь.
Надо было бы отдохнуть, но возбужденный сборами, предстоящей рыбалкой спать я не хотел. Включил телевизор, по "Карибу" шел очередной порнофильм — и куда это наша общественность смотрит, наверно, тоже в экран. Выключил, прошелся по комнате и решил позвонить в Беларусь, как там мои. Тем более разница в часах была подходящая.
Речицу дали быстро. Трубку подняла Максимовна.
— Как там у тебя, Валя? — В голосе ее слышалась неподдельная тревога. Наверное, жена успела понарассказывать.
— А что, все нормально.
— Отстали от тебя?
— Один отстал, — ответил я и машинально уточнил, — Совсем.
Тут она совсем, расстроилась и стала уговаривать, чтобы я тоже приехал к ним. Сейчас там красота — ягоды, грибы, на даче виноград вызревает. Ребята целый день на Днепре или на стадионе. Я пообещал приехать.
Трубку перехватила жена. Как дела, здоровье, нужны ли деньги… Деньги в отпуске всегда нужны, что тут спрашивать. Я пообещал на днях выслать.
Ребята и впрямь пропадали в городе и пообщаться с ними не удалось.
Тем временем за окнами совсем стало светло. Белая магаданская ночь плавно переходила в день. Тут и телефон тренькнул.
— Через полчаса будем у подъезда.
Борщев, наверное, тоже почти не спал.
…Рыбачат магаданцы чаще всего на Ольском лимане, Нюкле, Армани и Балаганном. Но года три назад открылся еще один лицензионный участок — на ручье Колчаковском. Я один раз побывал на нем и влюбился в это место окончательно и, как говорится, бесповоротно. Представьте себе узкую долину ручья, сжатого с двух сторон зелеными сопками, и желтую ленту песка под обрывистым, защищающим от ветров, берегом и море, лениво играющее бирюзовыми волнами. Вдали виднеются величавые очертания полуострова Кони, а правее — остров Завьялова громадным пароходом выплывает из тумана. В отлив море обнажается почти на километр и в солнечный день вода на мелководье, как парное молоко. Купайся — не хочу или иди собирай грибы и ягоды, коли рыбалка надоела.
И народу здесь всегда немного, не то что на Нюкле. А ведь бежим мы не только к природе, но и от толпы, от нее устаешь больше, чем от городского смога, пыли и шума.
Мы проехали семнадцатый километр Ольской трассы и на траверзе бывшего собачьего питомника свернули на таежную дорогу. Прихотливой лентой бежала она, повторяя русло небольшого ручья, то ныряющего в заросли стланика, то деловито журчавшего по чистым камням перекатов. Густые волны вейника и розовые поляны иван-чая ковром стлались под лиственницами. Остановившись набрать воды, мы услышали, как из зарослей, где-то совсем рядом раздался чистый звучный голос кукушки.
— Кукушка-кукушка, сколько мне жить? — крикнул я.
— Ку, — начала кукушка, но тут Павленко загремел ведром и она замолчала.
— Спугнул мое счастье, — укорил я адвоката.
— Мы у другой спросим, — утешил меня сидевший за рулем Борщев, — Ты сейчас и так счастливый… холостякуешь. О, новый анекдот… Два мужика друг другу жалуются:
— Ты знаешь, я недавно жену с грабителем перепутал.
— И что?
— В форточку ее выкинул!
— Это ерунда, говорит другой. Вот я грабителя с женой перепутал. — Слышал бы ты как он орал, как упирался.
Мы посмеялись.
На берег мы выехали, когда уже совсем рассвело. Егерь еще спал, но, услышав мотор, вышел к нам. Мы хорошо знали друг друга и лицензию на самое удобную точку получили без проволочек.
Я разбирал сеть, Борщев выгружал наши припасы, а Павленко занимался костром.
Притащив рюкзаки, Александр Михайлович подошел ко мне.
— Это что, вся сетка? — он скептически оглядел финскую сеть — в сложенном состоянии она легко вмещалась в полиэтиленовый пакет, — Ею только комаров ловить и то сомнительно.
— Посмотрим-посмотрим, — Я связал концы блочного фала и сетки и приказал ему:
— Давай потихоньку тяни левый, а я буду подтравливать.
Фал натянулся и сеть бесшумно поползла в волны. Привычных, как у наших сетей, наплавов на ней не было и потому казалось, что она тонет. Но это было обманом — вместо поплавков держал ее весь верхний плавучий фал, а нижний как раз был грузовым. А рыбаки знают, что именно грузила и поплавки и являются причиной зацепов, перехлестов, запутывания сети.
— Ладно, — не сдавался Саша, — Посмотрим, как ты угадаешь, попало что к тебе или нет.
И посмотрели! Буквально через секунду спокойная изумрудная гладь над сеткой взорвалась белым кипящим гейзером. Попавший в западню косяк тугой струной натянул фал, литые рыбины торпедами метались в разные стороны, а с моря, я уже успел заметить, устремились к нам головастые нерпы.
— Освобождай фал! — Заорал я и кинулся к сетке. На помощь мне бежал адвокат Но и вдвоем мы с громадным трудом вытянули, наконец, сеть на песок. Она была как мотня трала набита крупными сверкающими рыбинами.
— Серебрянка, — прикинул я, — Неплохой косячок!
Косячок был не просто неплохой — выдающийся. Мы сразу обловили лицензию — пятьдесят две рыбины и больше сорока из них самки.
Мы набили мешки и пока Саша с Павленко ставили их в воду, я аккуратно расправил сетку, очистил ее от водорослей и сам отбуксировал в море. На этот раз подальше к бую — там могла попасть нам и нерка, и первая кета, и ки- жуч.
И уже котелок закипал на бойком костерке, и Саша раскупоривал водку, и тепло летнего дня размаривало и разнеживало. И никаких тебе проблем, следаков, проверок, несправедливости и запутанности человеческих отношений. Все это осталось далеко-далеко, за синими морями, за высокими горами.
В Магадане.
— За нас! — традиционно произнес Борщев.
Но не успели мы осушить по первой, как над нашей сеткой, у самого оранжевого буя опять мощно выплеснул вверх столб брызг.
Нет, не передать словом рыбацкого азарта. Сердце у меня так и подпрыгнуло, как пойманная кетина. Да-да, нам повезло — кета, да и не рядовая. В россыпи горбуши она была как гаубичный снаряд среди автоматных патронов.
Вот ее-то мы, не пожадничав, и бросили в котелок. Туда же полетел и небольшой горбыль и пара окуней, случайно затесавшихся в сетку.
Поспорили, бросать ли картошку в уху. Борщев настаивал, я был категорически против — весь вкус отшибет. Меня поддержал Павленко.
И мы сварили двойную уху.
И пили водку. К нам подобрел егерь и принес гитару, и Валера — у него оказался совсем недурной голос — пел песни нашей молодости и мы даже слегка загрустили. И запьянели.
Но это были легкая грусть, и легкое опьянение. Оно было таким же естественным, как этот плеск волны, нежное прикосновение ветерка, высота июньского неба, в которое, если смотреть долго-долго, можно и ненароком, как вот это белое облачко, улететь.
Но люди редко смотрят в небо подолгу. В лучшем случае, бросив взгляд — как, мол, там облака, какую погоду сулят. А то обычно под ноги, на землю или вперед — поверх земли.
А жаль…
Там, наверху, вечность и бесконечность, мириады звезд и игра облаков. И что человек, и что его беды и страдания, и сама жизнь по сравнению с космосом.
Но если я могу все это представить и прочувствовать, и плакать над красотой мира, значит, мы с ним сопоставимы? Как это у Канта о двух великих тайнах: небо над головой и нравственный закон внутри нас. Нравственный закон внутри нас… Или мы в нем? Если есть вор в законе, то почему бы не быть в нем и просто человеку.
Человек в законе — звучит?
Пришел час отлива и мы купались. А потом загорали. А потом сладко выспались и довольные проведенным днем, отдохнувшие и подобревшие к миру и к себе, вернулись в город.
Он предстал перед нами уже с Ольского перевала, весь закутанный в вечерний белый туман. Город весь в тумане, как в вуали, город молится незримой пустоте.
Мы постояли немного, любуясь видом.
Но каждый из нас — и я, книжный червь, и бывший прокурор, и сегодняшний мент — знали: город пьет, работает, ссорится и обнимается, рожает и убивает, любит, сидит в сортирах и за обеденными столами… Все что угодно, но не молится. Это не Новый Афон, а портовый с мрачной колымской славой, на пороге третьего тысячелетия Магадан.
Город в законе.
Но для меня он, пронизанный солнцем и свежим морским ветром, вымытый дождями и отглаженный снегом, — родной город. Здесь вся моя жизнь и это, как говорится, неизлечимо.
Когда уже свернули на объездную, Саша сказал:
— А эта… Ольга, у вас работала.
Он назвал фамилию.
— Ну да, а чего ты спрашиваешь.
Мне в этот вечер даже мысль о ней была неприятна.
— Да вот, звонят в отделение на Нагаевской, у соседей кричат, убивают кого-то. Патруль подъехал, поднялся на третий этаж и точно — из-за дверей крики, женские вопли, грохот. Позвонили — не открывают. Один из постовых — детина килограммов под сто пятьдесят, разогнался и в дверь, а она, оказывается, двойная. Сверху дерево, а в основе сталь. Не вышиб, но шуму наделал. Дверь скандалистам пришлось открыть. Баба, избитая донельзя, на полу. Мужик пьяный — петухом вокруг нее скачет, шлюха, кричит, сволочь, убью. Пришлось его в отделение, ее в трамвпункт. И кем ты думаешь он оказался?
— Академик, — пробурчал я, — Но это сказки. Он если и пьет, то в меру. А уж в роли дебошира…
— Тем не менее. И не просто академик, членкорр, наверное, таких один-два на наш город. В отделении он пояснил, что на работу ему пришел конверт с фотографиями, на которых его жена изображена в самых непотребных позах с каким-то мужиком. Причем конверт был уже кем-то вскрыт и фотографии оказались рассыпанными на столе в приемной. То есть народу много их увидело, пока секретарша не подошла. Ну вот он и взвился, принял штоф коньяку для храбрости и решил жену поучить.
— А ты знаешь, что он раньше Думу возглавлял?
— Да знаю. А наши пока разобрались, мужику плохо стало. Отвезли в больницу, с сердцем что-то.
— Да, — покачал головой я, — Тут и инфаркт может хватить.
— А ты что думаешь, — взглянул на меня Борщев, — Реально это?
— Если ты об Ольге, то нет. Жадная — да. Лживая — да. Но не б… — твердо ответил я, — У меня вообще ощущение, что она мужиков презирала, что ли. А так… чужая душа потемки.
— Ну, сами разберутся.
— Уже разобрались, — подал голос дремавший Павленко, — Он заявление на развод подал, а она в коллегию прискакала после больницы — адвоката нанимать, чтобы имущество потом делить правильно.
— Все равно тогда стерва, — подвел черту Борщев, — Муж еще в больнице, а она об имуществе… Вот бабы.
И каждый подумал о своем.
…Июнь плавно перекатился в июль. Я еще раз съездил с друзьями на рыбалку, тоже удачно. Сделал несколько банок икры, засолил стокилограммовую бочку рыбы и штук пять подкоптил — собирался уже в отпуск.
Но тут события закрутились с такой скоростью, что би- лет мне пришлось переоформить на другой рейс.
Как-то утром, раскрыв свежий номер "Магаданской правды", я с громадным удивлением прочитал колонку редактора. Напечатано было буквально следующее:
"В редакцию приходят письма, в которых читатели спрашивают, на каком основании газета "Защита и Право" и прежде всего ее редактор Виктор Гиндасов будут поливать грязью наши славные правоохранительные органы, нашу власть и наших достойных граждан. Некоторые из них даже требуют принятия карательных мер за клевету и диффамацию.
Редакция сообщает, что мер принять никаких невозможно, так как В. Гиндасов является человеком больным шизофренией с непрерывно-прегредитным течением и в отношении своих действий, совершенных в болезненном состоянии, не может нести ответственности, то есть является невменяемым и до сего времени находится поэтому на учете в психологическом диспансере.
А особая его неприязнь к правоохранительным органам объясняется тем, что еще в 1968 году Гиндасов был осужден на три года за воровство вещей у своего сослуживца.
Вопросы о закрытии на этом основании газеты "Защита и Право" являются компетенцией других органов, куда и следует обращаться".
Я глазам своим поверить не смог. Неужели редактор "Магаданки", Саша Тюфяков, мог решиться на такую публикацию.
Ситуацию мне разъяснил мой друг, ответственный секретарь "Магаданки", Юра.
…Эту статью принес курьер из администрации с припиской самой Чесноковой, что ее надо опубликовать в ближайшем номере газеты. Саша знал, что Чеснокова в командировке, а подождать ее, чтобы уточнить, не осмелился… Тут столько грома было.
— А кто гремел?
— Сначала сама явилась — как, почему… Но, на мой взгляд, она осталась даже довольна таким поворотом событий — он уже всех, этот правозащитничек, достал. А когда уже все улеглось — Гиндасов явился к Саше, да не один, а с группой "возмущенных читателей" — требовал назвать ав- TOpa, опубликовать опровержение… Тюфяков терпел-терпел, а потом и не выдержал — обращайтесь, дескать, к зам- губернатору, она все объяснит. Не знаю, объяснялись они или нет, но то что у Веры теперь появился еще один смертельный враг — это точно.
— А кто другой?
— Сам знаешь, — Юра отвел глаза.
— Юр, ты такими словами не бросайся. Она почему-то ко мне неровно дышит, но… смертельный враг, это уж слишком. Я вообще против слова с корнем смерть. И потом, что- то стиль мне очень знаком — это не ты случайно все подстроил, а?
— Кончай, Федяй, а то еще услышит кто, вправду подумает.
Я и не думал, что Юрины слова станут пророческими.
.. День для митинга медики выбрали как по заказу.
Утром прошел дождь и теплое июльское солнце сверкало на лужах, зеленой листве, отражалось в громадных стеклах почтамта и зайчиками прыгало на волнах ленивой Магаданки. На море стоял штиль, ближайший циклон еще только зарождался где-то в середине Индийского океана и природа спешила насладиться покоем и тишиной.
И день был субботний, но "людей в белых халатах" собралось на площади Ленина, под стены недостроенного Дома Советов, много, вся площадь была запружена. Как всегда, среди митингующих находилось немало любопытных, примазавшихся и просто любителей пошуметь. Сами- то медики вышли то ли протестовать, то ли просить зарплату — они ее не видели почти полгода. Все было чинно, организованно и больше походило на дежурную демонстрацию. Мэр города пообещал сделать все возможное, чтобы улучшить жизнь врачам и медсестрам. Замгубернатора Чеснокова в свою очередь заверила собравшихся в кратчайшие сроки погасить задолженность по зарплате. Сама она прекрасно понимала, что это невозможно, так как львиная доля бюджета уже ушла на строительство аффинажки, частного, кстати, предприятия. Говоря это, она уже представляла, как ровно через месяц на этом же месте соберутся учителя — именно у них планировалось на этот раз "занять" деньги.
И вот тут-то, под занавес митинга, это и произошло.
Когда уже отзвучали речи с обеих сторон и демонстранты стали сворачивать плакаты и знамена, сбиваясь в группки, к Чесноковой, что-то оживленно обсуждавшей с профсоюзными лидерами, неожиданно подбежал человек и, выкрикивая ругань, из пузырька плеснул в ее лицо. Она громко вскрикнула и обеими ладонями закрыла лицо. Мгновенно вокруг нее забурлил водоворот из человеческих тел — это охрана запоздало вцепилась в нападавшего, скрутила его, а медики пытались помочь тем временем Чесноковой.
Не поняв случившегося, группа молодых парней пыталась отбить "террориста". Блюстители порядка пустили в ход "демократизаторы", пролетариат, как и положено ему, схватился за булыжники. Благо, строительного мусора у ограждения Дома Советов высились горы.
В подкрепление милиция вызвала ОМОН, но в потасовку втягивались все новые и новые люди и вскоре на площади развернулось настоящее побоище.
Вначале перевес был на стороне демонстрантов.
Неуправляемая толпа буквально смела с пути жиденький милицейский кордон и выплеснулась на прилегающую Пролетарскую улицу. Опять зазвенели многострадальные стекла почтамта, гостиницы, витрины киосков. Навороченные тачки, парковавшиеся у гостиницы как ветром сдуло, а те, владельцы которых отсутствовали, в мгновение ока оказались перевернутыми.
На перекрестке Пролетарской и Ленина толпу блокировали омоновцы. Они стояли в несколько рядов в полной боевой экипировке и первая разгоряченная волна демонстрантов ударилась в них, как в скалу.
Толпа замедлила было движение, но тут за спинами омоновцев раздались крики:
— Не ссы, мужики, мы с вами. Бей ментов!
В тылу у стражей правопорядка оказались боевики РНЕ.
Хорошо организованные, физически крепкие боевики вклинились в строй омоновцев и на мгновение те замешкались.
Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы воодушевленные поддержкой демонстранты опрокинули омоновцев.
Положение спасли пожарники. Буквально через секунду, завывая сиренами, красные автомобили перекрыли обе улицы и выплеснули в толпу кинжальные струи воды. Сила напора была такова, что людей валило и переворачивало по асфальту как снопы.
Спасаясь от воды и резиновых дубинок, люди дворами, через Магаданку, где вброд, а где вплавь, уходили от центра.
Очухавшаяся милиция подбирала отставших. Появившиеся машины "скорой помощи" увозили пострадавших.
На удивление их оказалось не так много.
И сами травмы были средней тяжести. Переломанные ребра, носы, кровоподтеки. Серьезно пострадавших было несколько человек и в их числе зам. губернатора.
Но это было первое открытое столкновение горожан и власти. Для власти оно больше явилось проверкой силы, для демонстрантов — проверкой решимости.
Как ни странно, результатами были удовлетворены обе стороны.
Мы можем — понял народ.
Мы сильнее — сделала вывод власть. Но добавила — пока.
СМИ России представили случившееся как имевшие место беспорядки. Местные газеты о столкновении практически умолчали. Похоже, журналисты сами были ошарашены. Одно дело писать о народном гневе, а другое воочию лицезреть его.
Гром ударов их пугает…
Будь я вулканологом, непременно сравнил эту ситуацию с извержением. Последовал только первый толчок, но уже по нему можно было судить о силе, скопившейся там, в темных недрах… И чем крепче земная кора, тем страшнее будет взрыв.
…А злоумышленником оказался Виктор Гиндасов.;
В пузырьке была серная кислота и быть бы Чесноковой до конца дней своих обезображенной, а то и не дай Бог слепой, но ее спасло то, что в этот момент она инстинктивно заслонилась рукой и большая часть кислоты попала на рукав. Но левая сторона лица и левый глаз пострадали серьезно. Ближайшим же рейсом Чеснокову отправили в глазной центр в Сиэтле, она долго лечилась там и как-то так вышло потом, что вернувшись, оказалась не у дел и уехала на материк.
Те, кто видел ее после лечения, говорят, что левый глаз стал у нее косить, да так, что собеседнику самому хотелось заглянуть вслед за ним и получалось очень конфузно.
От этого с ней старались не разговаривать, но я думаю, что причина здесь была все-таки в другом…
Гиндасова опять заточили на принудиловку, но дело его не пропало. Газету "Защита и Право" стала редактировать его жена… Как мне рассказывали, на выпуске газеты очень настаивали ее организаторы и спонсоры из Анкориджа. Оказывается, материалы этого издания питали десятки разнокалиберных газет Америки, нагнетая на слухах и клевете истерию о гонениях на инакомыслящих в России.
Я на этом митинге не был и во всех дальнейших этих событиях не участвовал по весьма уважительной причине — запил.
ГЛАВА XVIII
Нет молодца, чтоб одолел винца.
Народная мудрость
Как я теперь понимаю, я подкрадывался к этому давно, но если раньше меня выручало лошадиное здоровье и контроль жены, то тут, оказавшись один и в отпуске, распустил, что называется, удила.
Причиной, если можно назвать это причиной, послужила унизительная для меня встреча с судьей. Так как был под подпиской, я вынужден был просить у нее разрешения выехать на материк. Павленко такое письмо мне сочинил и сам хотел все организовать, но судья пожелала лицезреть меня.
— Зачем вам выезжать? — Полная сорокалетняя и надо признать симпатичная женщина меня удивила. Как это зачем?
— Ну, семья там… — промямлил я. И помня наставления адвоката добавил: — И лечусь я каждый год.
— Нужна справка от врача.
— Послушайте… Справку я принесу. Но неужели, ознакомившись с материалами, вы всерьез считаете меня таким опасным преступником, которому даже в отпуск нельзя съездить…
— Я не смотрела дело, — холодно произнесла судья. — У меня люди годами дожидаются очереди, а вы враз хотите.
Приемный день у судьи был один в неделю и когда я со справкой пришел к знакомому кабинету, в коридоре уже толпились люди. Своей очереди я так и не дождался.
Пришлось опять идти менять билеты.
Павленко взял у меня справку и в этот же день принес подписанное председателем суда мое заявление.
Конечно, это дело мы обмыли.
— Послушай, Валера. Меня убивали — я своего следователя в глаза не видел. Дважды меня обворовывали — так все и заглохло. Это что касается меня лично. Но едва ты затронул интерес власти, как тут же и следователь, и суд и ты уже преступник — система срабатывает автоматом. Но счет- то получается пять ноль не в мою пользу. А ведь милицию, прокуратуру, судей кормлю я своими налогами, тем, что я работаю и продукта в стране прибавляется. Так откуда же такое неуважение к кормильцу.
— В Беларуси, когда маньяка ловили, двоих под эту марку к вышаку приговорили и исполнить поторопились, а ты о мелочах, — бывший прокурор разлил по новой.
— А вот, смотри, в Америке, — не унимался я, — В любом фильме чуть что к полиции претензии — так-то вы мои налоги используете! Американцы считать умеют и знают, куда идут их деньги.;
— Да тоже они ни хрена не знают. Ездил я не раз через пролив к тамошним полицаям, так мы соревнования устраивали по всем видам и ни разу — ни разу! они у нас не выиграли.
— Ну тогда давай, за нашу милицию.
Мы пили за милицию, за полицию, за реакцию и эрекцию. На моей расстроенной гитаре Валера как-то умудрялся играть и мы пели наши песни…
Потом Павленко порывался заказать девочек, но вместо девочек нам опять привезли водку и пришлось ее пить.
Наверное уже под утро я усадил своего адвоката в такси, а уж как сам добрался до постели — не помню. Должно быть, на автопилоте.
Наверное, сам я на другой день и не проснулся бы — звонок в дверь разбудил. Я не хотел открывать, но звонили настойчиво, пришлось пересилить себя.
Кое-как я добрался до двери.
У порога стоял Костя-сосед с третьего этажа. Одного взгляда на него было достаточно: человеку плохо. Я в такой ситуации отказать не могу.
Я пригласил его на кухню, налил стакан водки и отвернулся — меня едва не вырвало от ее запаха. Но Костя храбро выпил стакан и прямо на глазах изменился. Спина распрямилась, глаза просветлели и голос даже прорезался.
— А ты чего, Михалыч. Я ж вижу, ты тоже вчера квакнул.
Я кивнул и заколебался. Слишком уж заразителен был пример. Хоть и знаю, что с утра чревато… А, спишем день.
Первая колом, вторая соколом. Между первой и второй промежуток небольшой. Я в отпуске, а Костя вообще без работы и, судя по его поведению, менять образ жизни не собирается.
Его двоих детей и жену кормили старики. Дед служил на тринадцатом сторожем, а мать что-то шила на дому.
— Костя, ты когда работать пойдешь?
— А куда, Михалыч? И кто меня возьмет? Я вот у грека Панафиди месяц отпахал, так он мне сто рублей заплатил, а работал с утра до темна. Лучше уж я бутылки буду собирать.
— Конкуренция, наверное, большая? — поинтересовался я.
— Да не скажу. У нас же у каждого своя зона. Чужого поймаю на своем участке — могу и поколотить, моя правда.
Пьянка развернулась нешуточная. Я зарядил Костю в магазин и он вернулся через секунду, как мне показалось, да не один, а со товарищи.
— Пропадает Борис, — пояснил он.
Где двое, там и трое. Тем более, Борис показался мне вполне приличным человеком, правда, багровая одутловатая физиономия бесстыдно рассказывала о своем хозяине всю его подноготную.
Впрочем, Борис и сам ее не скрывал.
— Я после медицинского на Теньку попал, паталогоана- томом. Первое время не пил, держался, ну, а работа такая. спирт под рукой всегда и тогда с ним свободней было. Спортом занимался, бегом… Да я тебя помню, — неожиданно обратился он ко мне, — В семьдесят пятом ты второе место на три километра занял, а я первое. Ну?
— Балашов, что ли, — неуверенно сказал я.
— А кто же. Ну, со встречей, — и он полез сам разливать.
Я автоматически выпил, все еще обалдело поглядывая на Балашова. Я помнил этот кросс и помню победителя — молодой поджарый симпатичный парень, недавно приехавший в поселок. Помню его белые югославские кроссовки, они мелькали передо мной всю трассу и как только я не пытался обогнать Бориса, не смог.
А сейчас передо мной сидел самый натуральный бомж, обрюзглый старикашка лет на вид под все шестьдесят, в седой щетине и маленькие синие глазки утопали между щек с кровавыми прожилками. Дошел, брат, дошел!
— Очень просто — пил, вот и дошел. Работа какая — с трупами возись, а спирт стрессы снимал, потом привык и уже пил не только после работы. Жена уехала и из больницы выгнали, когда пса у главврача отравил.
— Зачем? Пес-то чем виноват?
При этих словах мой Роки проснулся от спячки и внимательно, явно не одобряя пьянку и гостей, посмотрел на нас из своего угла.
— Да я не нарошно, — оправдался Борис, — Надо было прививку делать, а я в шприц чего-то другое нафуговал с похмела. Ну, меня и поперли.
Затем переехал в Магадан и долго работал, скитаясь из одного медучреждения в другое. Специалистом он был неплохим и в сухие периоды его жизни по работе ценился. А последнее время даже замещал главврача станции переливания крови.
— А потом как на три месяца ушел в запой, то со стыда и на станции не появился. Мне трудовую домой прислали.
— А живешь на что?
— Пенсию дали и вот как он, — кивнул на Костю, — Правда, я больше по банкам. Есть постоянные клиенты — им банка нужна для торговли. Вот я и снабжаю, у тебя, кстати, нет, а то я сегодня и на хлеб не заработал.
— Найдем, — успокоил я его, — Все найдем.
— А ты знаешь, — вдруг сказал Балашов, — А я с месяц назад тебя в своем дворе видел, ночью. Ты откуда-то с веревкой шел. Поздоровался, а ты не ответил. Ну, ты знаешь в этом доме у нас самоубийца еще из окна прыгнул… кстати, в тот же день или утром.
— Я по ночам сплю, — ответил я. — А кто самоубийца?
— Да сын какого-то шишки с администрации.
Я дал Косте с Борисом ключи от подвала и вырубился. А дальше полный отпад — я просыпался только, чтобы выпустить или впустить пса — он понимал, что на меня надежды нет и гулял сам по себе — или пропустить рюмку. После спиртного наступала минутная ясность и я осознавал, что и сгореть могу, но странное безразличие к себе не давало этой мысли оформиться в действие.
— Ну и пусть. И… никаких проблем.
Наконец наступил день, когда я не смог проглотить очередной стакан, я не смог не только выпить, но даже поначалу и встать — сердце начинало молотить так, что, казалось, вот-вот вырвется из груди. Несколько часов я пролежал на диване в полубессознательном положении. Кликнул Роки, но его не было и я вспомнил, что приезжал Гриша — оказывается, мы успели с ним договориться, — и он забрал собаку к себе на поле до моего приезда из отпуска.
— Какое же сегодня число? — мучительно пытался я вспомнить, — Какой день я пью?
Кухонное радио напомнило мне, что сегодня семнадцатое июля, воскресенье.
— Мать моя, — охнул я, — через два дня самолет.
Пил я уже пятый день.
Все, точка. Надо выходить.
Это оказалось не так-то просто.
Сначала мне послышались голоса. Так явственно, что я подумал — кто-то разговаривает в прихожей. Я посмотрел — никого.
Наверное, соседи… Но какая акустика.
Соседи ругались. Жена упрекала мужа в том, что какой-то Вале он отдал последние деньги. Мужчина лениво огрызался, но когда голос женщины взвился до истеричных высот, послышался глухой шлепок удара.
— Убью, падла!
— А-а, — завопила женщина.^Помогите, убивают!..
Это я перенести не мог — сунул ноги в шлепанцы и поднялся наверх. На звонок никто не ответил и вообще было тихо. Я постоял в раздумье — никого и ничего.
Послышалось, что ли…
Я вернулся в комнату и прилег на диван. Надо заснуть. Тогда все пройдет, по опыту знаю, что сон — лучший лекарь.
Но сон не шел. Едва я пытался прикрыть глаза, как сразу по углам начинали шевелиться тени, слышались неясные голоса — они спорили, требовали, упрашивали и все это было так четко, что подмывало вмешаться в их оживленный разговор.
Я открывал глаза и смотрел на висевшую над кроватью картину Вызова… Тихий мирный пейзаж. Перекат горной реки и сопки уже в багрянце осени. И вот река начинала течь, я видел, как светлые струи подмывали песок, неуловимо менялись краски, как будто ветер шевелил листья и ветви.
— Если я выпью, — размышлял я, — Все это пройдет… на время. Нет, надо держаться.
Но я чувствовал, что не удержусь, и тогда опять, и тогда уж точно никакого тебе самолета и выходит радость твоим врагам и горе твоим близким… Позорная смерть… с перепоя.
— Владимир Наумович, — позвонил я приятелю, он работал в наркологии. — Выручай. Один остался, запил. Боюсь…
Владимир Наумович не заставил себя ждать. Буквально через несколько минут будто вихрь ворвался в мою квартиру. Несмотря на свои почти шестьдесят лет, доктор был подвижен как ртуть и говорлив как утренний голубь.
— Э, дорогой мой. Круто ты взялся… Сколько уже пьешь.
— Дней пять.
— Так-так, и говоришь — рейс на вторник.
— Ага.
— Ну, в таком состоянии я тебя не пущу. Либо кандидат в покойники либо квакнешь во излечение перед полетом и в хлам превратишься со всеми вытекающими обстоятельствами и непредсказуемыми последствиям, самым безобидным из которых будет вытрезвитель — либо наш, либо столичный. А сердечко может и не выдержать — этого хочешь?
— Что делать?
— Сейчас поедем со мной в диспансер. Там почистим кровь, придется под капельницей полежать, потом поспишь под контролем наших сестричек и будешь долечиваться дома.
Он вызвал машину и мы поехали с ним в диспансер. О голосах я ему ничего не сказал — тогда уж точно на неделю закатает меня.
Наркологический диспансер оказался мрачным желтым зданием. На окнах были решетки, у входа стоял охранник.
— Обожди, — вцепился я в рукав врача, — Это же… тюрьма. Меня отсюда не выпустят.
— Не паникуй, Михалыч, — улыбнулся моему испугу Владимир Наумович. — Это обычное лечебное учреждение. А решетки и охрана — у нас же есть отделение наркоманов и отделение буйных. За ними глаз да глаз.
Мы прошли через это отделение для буйных. Почти все они лежали в своих кроватях крепко принайтованные к спинкам кто полотенцами, а кто прочным широкими бинтами. Они дергались, хрипели, матюкались, умоляли, бредили… я шел как в дурном сне и еле расслышал голос провожатого.
— Ну что, хочешь таким стать. Овощем.
Он кивнул головой в сторону окна. Там на корточках между стеной и мусорным ведром сидел пожилой алкаш с бессмысленным выражением лица и, глядя в пустоту и подвывая, анонировал.
Меня стошнило.
Врач кого-то позвал, подскочил дюжий санитар и подзатычинами погнал больного в палату
Меня положили в палате для легких и, как я понял, для блатных. Стояло всего три койки, телевизор и было довольно чисто. Не успел и глазом моргнуть, как поставили капельницу и я вскоре забылся в долгом исцеляющем сне.
Через сутки с дурной от депрессантов головой, но уже без алкогольного тумана, я вернулся домой. Проходя мимо женщин, собравшихся у четвертого подъезда, услышал:
— А ведь жаловалась Валя, что бьет он ее. И вот добил- таки, скотина.
— Эх, водка-водка, что она с русскими мужиками сделала.
Мне показалось, что их взгляды прожигают мне спину.
Валя… Да это же ее голос звал о помощи!
Выходит, это не галлюцинация.
Но как же я мог услышать их голоса через три подъезда?
— Все! — Сказал я себе. — Завязал!
От принятого решения полегчало и я стал собираться в дорогу.
Однако, проверив свой бумажник, присвистнул. Денег было в обрез. Выходило, что я за неделю прокутил почти все отпускные — десять тысяч рублей.
И тут я вспомнил об акциях Устиныча. Почти через номер "Магаданка" давала объявления о покупке банками и какой-то компанией акций "Школьного", но я не торопился их продавать, справедливо полагая, что ценность их будет расти и далее. Теперь обстоятельства складывались так, что дальше я тянуть не мог.
Пришлось ехать на квартиру Устиныча.
Я не был здесь почти месяц. Все покрылось пылью, надо бы прибраться, но теперь уже после возвращения.
Я забрал акции — их оказалось ровно сто штук. Если газета не врет, пять тысяч баксов у меня на кармане, с этими деньгами можно и в Таиланд. Ну, в Таиланд не в Таиланд, а в Германию и Чехию я своих свожу точно.
На кухонном столе лежали бумаги и я машинально взглянул на них.
Сверху находился список. Фамилии…
Жандармов — младший.
Жандармов — старший.
Ольга.
Гиндасов.
Чеснокова.
И напротив каждой — галочка красным фломастером и дата.
Под списком машинописный вариант заметки в "Магаданке" с подписью Чесноковой. Черновик, что ли… Но это же моя подпись, моя рука… я что — пытался ее подделать?
Что-то колыхнулось в моей памяти, а когда в корзине для мусора я обнаружил обрезки фотографий, на каждой из которых позировала Ольга, все стало на свои места.
И рыбацкий прочный фал с монтажным поясом нашелся. Он лежал тут же, под столом, брошенный второпях.
Выходит… сделал это все я. Я смог это сделать!
Странно, никакой радости мне это открытие не принесло.
Была пустота. Туман серый. Но в тумане этом проглядывалось нечто зловещее и постыдное, и создателем его был я.
Я попытался рассуждать. Конечно, с позиций оправдательных.
Крысан — убийца и насильник. По нем давно тюрьма плакала. И вряд ли о нем кто пожалел даже. Так что приговор суров, но справедлив.
— А кто ты такой? — Тут же спросил я у себя, — Судья и палач в одном лице? Кто тебе дал это право. А если все будут считать себя судьями и палачами, что тогда? Мало из-за этого невинно загубленных и уничтоженных?
Не человек дает жизнь другому, не ему и отнимать.
А Ольга? Какое здесь оправдание? Ах, использовал ее оружие, — клевету, ложь. И чем же ты тогда лучше ее! А если не лучше, то опять-таки какое право имел судить. Академик при чем? Ведь, наверное, по своему он был счастлив с ней… Кто тебе разрешил со свиным рылом в калашный ряд.
Гиндасов ладно, ему хуже не стало. Скорее, наоборот. Он теперь упивается положением мученика, а Вера Чеснокова? Изуродовал и лицо, и жизнь — ведь это твоими руками Гиндасов плеснул в нее кислоту. Так что теперь живи и грызи себя.
И даже Жандармов-отец. Тебе подсунули компромат, ты и рад стараться, столько рвения проявил, всех своих друзей столичных и связи задействовал. А ты проверял эти факты? Или ставим вопрос иначе — нужна ли аффинажка области? Нет вопроса — нужна. Сам знаешь, как обманывали, давили, задерживали расчет с нашими горняками мате- риковские аффинажные заводы. Ну и что же, что из бюджета — ты сам директор, мало тебе приходилось, чтобы заштопать дыру, за оплату телефонов, к примеру, заимствовать из фонда зарплаты. Ты ведь как рассуждал — не будет связи, не будет работы, не будет работы и денег на зарплату не будет. Главное, чтобы машина крутилась. И уж тут-то понять руководителя можно. Не себе же в карман эти деньги он положил.
Муторно было у меня на душе. Когда и как я перешагнул эту невидимую грань, отделяющую меня от нормальных людей. И даже дело не в том, что грехи свои совершал я в болезненном состоянии — значит, я был готов их совершить. Ведь даже под гипнозом обычный человек не может, не способен, к примеру, ударить ножом другого.
Я оказался способен.
И ребят тех, будь у меня вместо газового настоящий ствол, как пить дать, завалил бы.
Ставим вопрос так… Борясь со злом, уменьшил ли его я?
Ответ отрицательный.
Кому-то лучше стало от моих действий? Не говорю о тех, кого ты не уважаешь, но даже твоим близким — им счастья прибавилось?
Ответ отрицательный.
А тебе… тебе самому лучше стало?
Вопросов было много и разные, ответ один. Все впустую.
Сон разума рождает чудовищ. Я слишком долго спал. И пробуждение мое было мучительным, но неизбежным. Не химера, почудившаяся мне в книжке, — сами мы своими руками уродуем и коверкаем жизнь.
А все остальное от лукавого.
Раздираемый сомнениями, метался я по квартире.
— Успокойся, — сказал я себе. — Надо это перетерпеть. Самоедство ни к чему хорошему никого не приводило.
Кстати, трофейный пистолет надо перепрятать — он лежал здесь в мусорном ведре, на самом низу. Отвезу его на дачу и там подыщу тайник.
Я вытащил пакет из ведра и развернул его.
Внешне пистолет напоминал "Макарова", но был несколько меньше и легче. Я выщелкнул обойму и выключил предохранитель. И одновременно взвелся курок. Пистолет был самозарядным. И патроны были у него не в пример легче и меньше — на 5,45 миллиметра.
Прокурлыкал дверной звонок.
Я торопливо вернул обойму на место и бросил пистолет в сумку.
Сумку ногой задвинул под стол.
Интересно, кто бы это мог быть. Что эта квартира принадлежит мне, знали только в ЖЭУ.
Я открыл дверь — на пороге стоял Борщев.
— Саша… — Я растерялся. — Как ты меня вычислил?
— Работа такая. Мне входить или как?
— Давай-давай, только, извини, не прибрано. Я здесь почти не бываю, квартира мне недавно досталась, еще не решил, что с ней делать.
— Продай, чего. А хочешь подари…
Его глаза обежали комнату.
— Ты один?
— Теперь нет, — ты пришел. Садись, чего стоишь.
Борщев послушно уселся в кресло, стоящее у окна, спросил:
— Следы убрал?
— Какие… следы?
— Там, на кухне.
Я молчал. Я был ошеломлен, но это ошеломление не парализовало меня, а наоборот — включился защитный механизм и я, или это уже был не я, с четкостью робота рассчитал ситуацию.
— Так, значит, ты все знал, ты все время меня пас, — дикая ярость охватила меня и я выхватил из сумки пистолет. — Этот не газовый, Иуда!
— Посмотри на себя в зеркало, — тихо сказал Саша. Он даже не попытался встать.
Я невольно перевел взгляд.
Дьявольская рожа в черной щетине с нечеловеческим обрезом скул и горящими глазами вызверилась на меня из темной глубины стекла. Не помня себя, я нажал на курок и не отпускал его, пока не закончилась обойма.
Я положил пистолет на стол.
Мы долго молчали.
— Ну что ж, — наконец зашевелился в кресле Борщев, — давай убираться, а то друзья мои сейчас подъедут, наверняка, кто-то из соседей уже звякнул.
— Соседи… — усмехнулся я, медленно приходя в себя, — хоть бомбу взрывай, лишь бы это их не коснулось.
— Все равно. Хоть подметем.
Мы собрали стекло, гильзы, открыли форточки, чтобы выветрился пороховой смрад.
— Пошли, — сказал полковник.
И мы пошли.
— …И ничего я тебя не пас, — с легкой обидой сказал полковник, когда мы уже уселись в его машину. — Ты сам мне позвонил ночью и все рассказал. Так сказать, душу облегчил. Я с утра сразу не мог, а когда подъехал — тебя нет. Три раза подъезжал — ну, думаю, у какой нибудь молодки ошвартовался. — Ты где был, что на этот раз натворил? И правда ли все, что ты рассказал?
— Я ничего не помню.
— Оно и понятно. В сомнамбулическом состоянии. Хотя имеет право на жизнь и предположение о симуляции… Чтобы ответственности избежать.
— И что ты собираешься делать? Хоть пару часов мне дашь — акции продать, деньги своим отправить…
Мы уже выехали на улицу Ленина.
— Иди, банк открыт. Я пока в "Роспечать" зайду.
Я заскочил в банк. Все необходимые бумаги у меня были приготовлены и сам процесс продажи много времени не занял. Борщев терпеливо дожидался меня в машине, листая газету.
— Теперь, если можно, к почте.
— Не стоит, — подумал он. — Сам довезешь — и дешевле, и надежней.
— Ты что же, не собираешься меня сдавать. А как же долг, присяга?
— Я со вчерашнего дня в отставке, — негромко сказал полковник. — Вольный стрелок. И потом как я объясню, что зная о преступлении, я не предотвратил его… Как ни крути, выходит соучастие.
Мы приехали ко мне домой, я быстро собрался и покатили в аэропорт. Ехали молча. У каждого было о чем поразмыслить.
Безусловно, одной из причин его спешной отставки мог быть и я. Встав перед дилеммой — я или закон — Борщев решил ее в пользу меня. Но, скорее всего, были и иные причины. Не нравились нынешние порядки и нынешняя власть полковнику и служить ей он не захотел. Я давно замечал — как только речь заходила о бардаке в органах, Саша мрачнел и уклонялся от темы. Все чаще в его суждениях прорезались скепсис и разочарование. А саму службу иначе как "левоохранительные" органы он и не называл. Но если уйдут такие, как он, то кто останется?
— И куда ты теперь? Ты же без своего дела не сможешь.
— Была бы шея… Вот возьму и махну добровольцем в Югославию, — полушутя-полусерьезно ответил он. — Все не без пользы дожигать жизнь.
Регистрация уже заканчивалась. Я сдал багаж и мы обнялись.
— Следствие закончено, забудьте? Все уже позади…
— Нет, — серьезно ответил полковник в отставке. — Все еще только начинается.
И пошел к выходу. Я еще видел, как он толкнул стеклянную крутящуюся дверь, повернул к автомобильной стоянке, смешался с толпой пассажиров, выгрузившихся из автобуса, и пропал…
Больше я его не встречал.
— Пассажиров, следующих рейсом номер шестьдесят два Магадан — Москва, просьба пройти на посадку.
ЭПИЛОГ
Лучше ужасный конец,
чем ужас без конца.
Поздней осенью я возвращался домой.
Я летел в первом салоне, в бизнес-классе. Я позволил себе эту маленькую роскошь, хотя бизнес-класс вряд ли чем отличался от остальных. Разве что спиртное давали бесплатно, но от этого соблазна я воздержался. Достаточно погулял.
Мои остались в Беларуси. Если бы я не привез тогда этих денег, ничего бы не случилось отдохнули бы у Максимовны и вернулись восвояси.
Но тут подвернулась трехкомнатная квартира всего за три тысячи баксов. И когда мы — сначала любопытства ради — пошли посмотреть, то отказаться уже не смогли.
Квартира располагалась на втором этаже старого прочной постройки трехэтажного дома. С одной стороны примыкал к дому старый парк, а прямо из окон открывалась гладь Днепра и бесконечная зеленая пойма на другом берегу.
Меня очаровал вид из окон, жену — просторная с выходом на застекленную лоджию кухня, а ребят дом и то, что рядом парк. И мы решились — оседать все равно где-то надо, почему не здесь.
За несколько дней мы одолели все формальности купли-продажи и справили новоселье. Остаток денег ушел на мебель.
На семейном совете ребята наотрез отказались возвращаться в Магадан. Жена помалкивала, но ее желание мне тоже было ясно.
Максимовна давила на то, что сейчас с Севера все бегут и что рядом Гомель с его институтами и университетами. А сыновьям надо учиться.
В душе мне тоже нравился этот маленький древний городок. Но слишком много нитей связывало меня с Магаданом, чтобы вот так, в одночасье я мог порвать их.
Остановились на том, что я полечу один, уволю жену, продам квартиру, рассчитаюсь сам. О работе я не беспокоился — в городке на русском языке выходило пять газет и я полагал, что место старому газетному волку в них найдется.
Я глядел в иллюминатор, но внизу насколько хватало глаз тянулась облачная равнина. Ярко светило солнце и не верилось, что подо мной больше десяти километров высоты и случись что, от нас и косточек не останется.
Я думал, что наше поколение запросто можно назвать летающим. Еще отец мой в жизни ни разу не побывал выше крыши своего дома, разве что во время войны, когда их сбрасывали в немецкий тыл. Но то можно считать исключением. А я за свою жизнь намотал по воздуху куда больше полмиллиона километров только до Москвы и обратно.
А полетов стал бояться еще больше, чем в первый раз.
Умом все понимаю. И что аварийность здесь в десятки раз по сравнению с автотранспортом меньше, и надежность выше. А вот спать в самолете не могу и от каждого толчка и воздушной ямы чуть ли не холодным потом обливаюсь. Всем своим хребтом я ощущаю неестественность и беспомощность своего положения. Ведь на самом деле я не лечу — я как мышь в консервной банке, которую запулили с одного края земли на другой. Я бывал в авариях на земле, тонул на рыбацком сейнере, в страшный тайфун у Курил, но такого унизительного страха никогда не испытывал.
Небо для нас стихия враждебная — человек вышел из воды и освоил землю, но крыльев у него никогда не было. И здесь я полностью завишу от мотора, от керосина, от того, не выпил ли сегодня на службе диспетчер и не сидит ли за штурвалом маньяк.
А состояние нынешней российской авиации таково, что у самолетов крылья на лету стали отваливаться, а горючего часто еле хватает до порта назначения.
Надежда только одна — на Бога и, прочитав про себя молитву, сцепив зубы, ты считаешь часы до долгожданного — "наш самолет начал снижение". Как только в иллюминаторе я вижу близко землю, все мои страхи улетучиваются, хотя тут-то именно — на посадке и взлете — и происходит большая часть катастроф.
Но мне на эти расчеты наплевать. Главное, что земля родная — вот она, под носом. И чтобы там ни суждено, произойдет все быстро и не предстоит кувыркаться с высоты поднебесной, позоря свои последние минуты паническим страшным криком.
Последнего я боялся больше всего.
Однажды зимой вместе с Сашей Светченко, нынешним начальником областного Центра занятости, мы летели в столицу. Он — в отпуск, я в командировку. Нас долго не выпускали из Магадана — только что в сторону материка прошел сильный циклон и на летном поле гудела снегоочистительная техника.
После набора высота мы расставили шахматы — у Саши первый разряд, он прекрасный знаток дебютов, но мне не терпелось доказать, что теория в этой игре не самое главное.
Мы разыграли ферзевый гамбит. У меня были черные и вопреки все канонам я решил сохранить лишнюю пешку. Завязалась интереснейшая интрига.
И тут самолет резко тряхнуло и через секунду камнем, не побоюсь этого слова, он пошел вниз.
Не успевшие застегнуться пассажиры вываливались из кресел, сверху посыпались сумки, пакеты, кто-то истошно завопил.
Потом точно с такой скоростью и легкостью самолет подкинуло вверх, да так, что я почувствовал себя в невесомости.
— Самолет проходит район со сложными метеусловия- ми, просьба всем пристегнуться, детей взять на руки, — раздался встревоженный голос стюардессы.
А мы летали то вверх, то вниз, как на гигантских качелях. Ощущение полной неуправляемости судна, как будто это не многотонный Ил-62, а перышко, попавшее в ураган, овладело мной.
Я почувствовал обреченность.
А самолет бросало так, что фюзеляж — я это слышал явственно — начал трещать. Какую перегрузку он мог выдержать, я не знал, но каждый пируэт мог стать последним.
Я закрыл глаза и вцепившись в подлокотники молил только об одном, чтобы скорее все кончилось. Я чувствовал, что вот-вот закричу, наверное, только присутствие Саши сдерживало меня.
Через двадцать минут, показавшиеся мне вечностью, болтанка прекратилась. По трансляции раздался голос командира:
— Самолет неожиданно попал в хвост циклона. От имени экипажа приношу извинения за причиненные неудобства. — На остальной части маршрута погода хорошая.
Мы подобрали рассыпанные шахматы, но играть я уже не мог. Саша вытащил из дипломата бутылку водки и мы молча выпили. Молча потому, что каждый знал за что, но говорить об этом не хотел.
В этот раз полет проходил без приключений. Грозы уже отошли, а пора осенних циклонов еще не наступила. Строго по расписанию мы вышли на дальний привод и вот уже щелкнули, открываясь, шасси и нос самолета нацелился на посадочную полосу.
Я включил транзистор и ведущий Магаданских новостей Бухаркин — привет, старина! — сообщил:
— Нами получено приятное известие. Президент подписал Закон о свободной экономической зоне города Магадана. Теперь перед магаданцами открываются широчайшие перспективы.
Но это был один источник. Два остальных — народный и забугорный сообщали совсем о другом. Бюджет оголен, трансферты разворованы, цены на золото стремительно падают и возможно Магадан ожидает судьба брошенных городов.
Представить себе я этого не мог.
Неужели труд, усилия многих тысяч и миллионов людей, невиданные жертвы и лишения, положенные на алтарь Севера судьбы, в том числе и моих друзей, и моя — все впустую!
Это невозможно.
Должен же быть какой-то выход. Люди со здравым смыслом. Не все же сошли с ума и продались!
Проклятие… по привычке подумал я и сплюнул. Какое там проклятие, все от нас самих — нашего равнодушия, лени… ожидания, что придет добрый дядя и все за нас решит. А мы тем временем в теплые края. А еще считаешь эту землю своей родиной…
Но ведь я еще не сбежал.
И кто знает…
Легкий толчок и за иллюминаторами побежали ангары, самолеты, здание аэропорта и люди возле него.
Меня не встречали, но я шел сквозь толпу и видел знакомые лица, улыбался и мне улыбались в ответ, жал руки, меня похлопывали по плечу и говорили: привет, с прилетом!
Да, я прилетел. Я был дома.
И как это говорил Борщев…
— Все еще только начинается.
РАССКАЗЫ
АНИКА-ВОИН
Маленькая человеческая фигурка наконец-то вскарабкалась на вершину, секунду помаячила на молочной плоскости неба и с криком ринулась вниз…
— Есть упоение…
Крик и полет оборвались вместе. Только снежный фонтан ударил и, вынырнув из него, стремительно покатилась вниз красная лыжа…
— Цел? — Я помог Володьке выбраться из сугроба.
Он что-то буркнул, отряхиваясь, и заковылял за лыжей. Потом опять полез вверх.
— Есть упоение…
— Может, хватит?
— Нет, ты понимаешь, в чем тут дело! Главное, допеть фразу, и будешь уже внизу. Пока поешь — удержаться на ногах? Всего две секунды — "Есть упоение в бою и мрачной бездны на краю".
— Лучше ори "мужик что бык"! Короче и точней.
— Нет, это не то, как-то не вдохновляет.
Шут с тобой. Я расчистил площадку, собрал сушняк. Благо в русле и на островах Детрина его пропасть.
— Есть упоение в бою…
— Трах-бах, — машинально отметил я.
В большой закопченный чайник натолкал снега, пристроил его на рогатину, чиркнул спичкой. Слабенький задыхающийся огонек нерешительно подрожал, лизнул бересту, сухие ветки — пых-пых-пых — прямо на глазах стал расти, раздуваться, с победным гулом- замахал дымным хвостом.
— И мрачной бездны…
— Трах-бах!
Тут до меня дошло, что песня стала куда длиннее. Я с любопытством приподнялся.
— Есть упоение в бою и мрачной бездны на кр-р-ры… ах. Чуть-чуть не устоял. Самую кручу пролетел, а на сочленение горы с берегом не среагировал.
И все-таки он допел. Лихо развернулся на вираже и подкатил к костру. Весь в снегу, с царапиной на щеке, но счастливый — как международное первенство выиграл.
— Хочешь попробовать?
— Слуха нет, — отшутился я, всей спиной вдруг почувствовав громадину склона.
…Забулькал на костре чайник. Мы долго смотрели на огонь и пили черный обжигающий чай. До тех пор пока наверху, на сопках, не зашумели лиственницы.
— Ветерок пошел, — перехватил мой встревоженный взгляд Володька, — Пурга будет.
Быстро собрались, погасили костер. Что такое мартовская пурга на Колыме — мы знали. А до жилья километров десять по целине.
Накрыло нас на полпути. Будто хлестнуло по долине, и в снегу мгновенно исчезли, пропали и небо, и земля. Ветер летел с такой силой, что казалось — ляг на него — удержит.
— Может, закопаемся, — прокричал я на ухо Володьке.
Он отрицательно мотнул головой и опять пошел впереди, пробивая сугробы.
Так продолжалось час, два… вечность.
Я устал уже проклинать себя за эту легкомысленную вылазку, за то, что поддался уговорам, что вообще связался с Володькой, как вдруг ткнулся носом прямо в его спину.
— База, — постучал он лыжной палкой по высокому деревянному забору. — Сейчас ко мне, отогреешься.
Скорее в тепло. Сбросить рюкзак, лыжи, сесть, а еще лучше бы лечь, упасть…
Жил Володька в одном из балков, щедрой пригоршнью рассыпанных по окраине нашего маленького северного городка. Вагончик, а к нему уже сам он соорудил пристройку — коридор и комнатку для себя. Был в комнатке стол, скамейка, накрытая толстым войлоком. На полу двухпудовка, на стене гитара и цветные картинки из журналов.
Пока я негнущимися пальцами расстегивал пуговицы и замки, Володька зашел в балок и вернулся с подносом, заставленным тарелками. Из ниши в стене — чем не холодильник — вытащил заиндевелую бутылку.
— Мои уже спят, — вполголоса сообщил он, — придется самим хозяйничать.
Ухала за тонкими стенками пурга.
— Прекрасно погуляли, — заключил Володька.
— Да уж!..
— Что ты, что ты! — загорячился он, — Ведь это же здорово, когда пурга, дождь, гроза. По мне хуже нет, когда погода стоит монотонная, серая, как мертвая. А тишина, туман — знаешь, как они давят. Будто гирю на шею положили и сгибают, сгибают. Любую речку переплыть можно, с любой пургой побороться. А как бороться с тем, что нельзя ухватить, а?
В чем-то я его понимал.
— Да ты, никак, поэт.
Володька замолчал, будто споткнувшись. Потом, поколебавшись, достал толстую общую тетрадь.
— Давно хотел показать, да как-то не решался. Посмотришь?
Он робел. Чувствовалось, как важен для него этот шаг и как страшно ему услышать приговор.
…Всего — кроме робости — я мог ожидать от Володьки Рудакова. Помню, как впервые появился он в нашей редакции. Я как раз расшифровывал диктофонную запись. Перебивая диктофон, рявкнул селектор:
— Зайди ко мне!
Рявканье редактора меня не напугало. Все знали, что у него неладно со слухом.
Но сейчас шеф был явно рассержен. Перед ним лежал вчерашний номер газеты, и я увидел, что мой очерк — на целую полосу — которым я втайне гордился — густо перекрещен красным.
— Ошибка? — виноватым и в то же время будничным голосом спросил я. Когда ошибка, то только так и надо. Мол, виноват, но в нашей работе без накладок не обойдешься. Так что явление нормальное.
— Вранье! — раздался молодой басок, и тут только я заметил незнакомца. В углу сидел коренастый паренек в белом подшлемнике и рабочей спецовке. — Но не по вашей вине, — заторопился он и поднялся. — Вас просто ввели в заблуждение, обманули.
Это он по наивности своей думал, что если журналист наврал потому, что его обманули, кому-то легче. Мало того, что для читателей в любом случае ты так и останешься лжецом, а для обманувших и для себя самого ты еще и дурак.
— В общем, разбирайтесь, — сказал редактор, — Потом доложишь.
— Я из этой бригады, — представился паренек, — Рудаков. А дело тут такое.
Он стал рассказывать…
Да, провели меня как мальчишку.
То, за что я хвалил бригаду, оказалось липой и элементарной припиской. На выемке грунта работал экскаватор, а показали ручной труд. Жилой дом по Советской и вправду бригада раньше срока сдала — только до сих пор там одно звено держат — недоделки устраняют.
— Ну и насчет хозрасчета, — закончил Володька. — Совсем перебор. Никто и никогда не считал, сколько мы расходуем бетона, досок, энергии. Выводят средний, а для "маяков" чуть-чуть и натягивают. Да у нас на площадке даже счетчика нет, о чем речь.
— Ваши замечания все?
— А это не мои замечания, — чуть обидевшись, сказал Володька. — Бригады.
— Ну уж, бригады. Что ж вы, о липовых нарядах только узнали? А когда в ведомости расписывались, что же не возмутились?
— …Словом, так, — заключил редактор, — пусть бригада соберется и обсудит очерк. Я с управляющим трестом договорюсь. Думаю, им самим интересно будет…
Бригада отделывала школу и собралась прямо в одном из классов. Для начальства притащили откуда-то стол, накрыли газетами. Положили доски на козлы, и начальник участка сказал, что очерк вызвал споры и надо обменяться мнениями.
— Дак я-то что, — простодушно развел руками Антоныч. — Сказали — зачитай, я исполняю.
Рабочие засмеялись. Бригадир аккуратно свернул листочек и спрятал его.
— С приписками надо кончать. Мне-то старому (он пропустил крепкое словцо — начальник укоризненно покачал головой), а вот молодых портим. Они уже иногда — и работа есть — не работают: напишут, говорят.
Но тут поднялся начальник планового. Я знал, о чем он будет говорить.
— Стройка, мужики, процесс сложный. Где-то что-то не состыковалось у одного — из наших субподрядчиков, а страдаем мы. Цемент на район не дали, техника поломалась. Да, приходится иногда выводить, брать, так сказать, в долг у будущего. Но давайте сделаем перерасчет хотя бы за последний месяц. Хотите, скажу, чем все это кончится.
— Давай, чего уж.
— Из нас кое-кого накажут, так. Вас попросят добровольно вернуть незаконно полученные деньги — премии, так! Зарплата будет тю-тю! И вы со стройки побежите, так? Ведь побежите?
Собрание молчало.
— А значит, и школу эту вовремя не сдадут. И дом, где многие из вас, в том числе Рудаков, ждут квартиры, — тоже.
— Это что? — опять не выдержал Рудаков, — вы приписки, махинации оправдываете?
— Ну, насчет махинаций еще надо доказывать. Тут пока ты один, Рудаков, это утверждаешь. А Антоныч, он больше об этом в целях профилактики, что ли. Теоретически.
Антоныч только головой дернул да шеей покрутил, будто воротник ему мал стал, но смолчал.
И все смолчали. А потом недовольный чей-то голос пробурчал:
— Давай завязывай. На смену завтра.
И все собрание. Я облегченно вздохнул. В решении, копию которого мне вручил потом секретарь парткома, только и было: "обсудили, сочли правильным… решили работать еще лучше".
А Володьке я сказал, что в общем-то он во многом прав, но плетью обуха не перешибешь, нет. Тут система нужна и долгая кропотливая работа.
Вряд ли он тогда внял моему совету. Но отношения наши заладились… мы оказались соседями, оба любили по сопкам в выходные побродить, в футбол погонять.
…И вот стихи. Я перевернул несколько страниц. Конечно, "кровь-любовь", страсти-мордасти, весь набор из жестокого романса поэта-дилетанта.
— Ты не здесь, — поморщился Володька, — в покое.
Тетрадь я захватил с собой.
Разумеется, на следующий день мне выпала командировка на отдаленный прииск, а потом надо было срочно писать в номер, после в другой, пока еще свежи в памяти лица, звучат в ушах голоса, пока еще можно остановить фразу, так удачно подслушанную в поездке. А потом приспели другие дела… и не было, не было времени взяться за Володину общую тетрадь. Да мало ли подобных тетрадок и стихов прошло через мои руки. Десятки, сотни. Школьницы, торопящиеся загнать в клетку рифм свою весну, пенсионеры с поэмами-инструкциями… Боже, что это за тяжкий труд искать в них поэзию, да просто живое человеческое слово. И отвечать…
"Уважаемый товарищ имярек. Внимательно прочел Ваши стихи. Что-то понравилось (а что, убей Бог, не скажу!). Но поэзия — дело нелегкое (в грамм добыча — в год труды). Надо учиться, читать классиков.
Ждем новых писем…"
Я столкнулся с Рудаковым уже весной, на депутатской сессии. Володька, оказывается, депутат горсовета.
Крепкий, плотный, Володька навис надо мной, на его лице читалась робкая надежда.
— Ну как?
— А знаешь, ничего, — нахально соврал я, — Кое-что, может, отберу для публикации. Но, понимаешь, стихи — дело серьезное.
Дотронулся до его плеча и — как откровение:
— Учиться надо.
Именно так — похлопать по плечу и дать мудрый совет — назидание старшего товарища: учиться надо.
Он радостно встряхнул своим белобрысым чубчиком, заторопился:
— Да я понимаю, читаю — поступать надумал и…
Ах, каким счастьем бывает иногда звонок даже на очень скучное совещание.
А на совещании он отчудил. Уже и проект прочитали. "Дополнения есть?" — спрашивает председательствующий. — "Нету!" — хором кричат все. Но тут поднялся Володька. "Как это нет? — говорит, — я сказать хочу".
Председательствующий пожал плечами. Дело-то обсуждалось простое — помещение для спецмагазина выделяли. Для обслуживания ветеранов войны.
Начал Володька странно — с вопроса:
— А куда сначала это помещение хотели?
Заместитель председатели горисполкома Анохин — дородный, умный мужик, давно бы в председателях ходил, если бы за браконьерство не погорел, властно оборвать хотел:
— Товарищ… э Рыбаков. Мы же договорились — вопросы в письменном виде.
— Рудаков я. А магазин этот под молочную кухню планировался. Я-то строил, знаю. И знаю, что в нынешней молочке творится. По два часа женщины с колясками — на улице — в очереди.
Помолчал и совсем тихо:
— На месте фронтовика, если он настоящий, я бы в такой магазин не пошел.
И все — сел.
Ну тут ему и досталось. Во-первых, он еще не на месте, во-вторых, недопонимает, в-третьих…
Мне его даже жалко стало. И досадно. Аника-воин выискался.
Так я ему потом, на бегу — торопился в номер отчет сдать с сессии — и сказал:
— Аника-воин!
А потом меня перевели в областную газету, и все дела, в том числе и стихи в общей тетради, были отложены и… забыты.
…После долгого отсутствия всегда находишь перемены. Как похорошел, подрос мой городок. Пятиэтажки шагнули и самому берегу. И на том месте, где стояли балки строителей, уже зиял громадный котлован.
Я порадовался за Володьку — теперь квартиру точно получил. Двое детей, да и на стройке лет восемь — имеет право.
Но несколько вагончиков, в том числе и его, приметный, стояли на окраине, правда, уже не на северной, а на южной стороне.
Он был дома. Строгал какой-то брусок.
Поздоровались. Выглянула из балка его тонкобровая Ольга, кивнула и исчезла.
— Дуется, — сказал Володька. — Что квартиру не получил. А чего — так когда-нибудь нас и в Сочи завезут. А там знаешь сколько такой вагончик, да с пропиской — ого! Вот только стенки ободрали, без меня перетаскивали.
— А ты где был?
— На установочной сессии, — небрежно сказал Володька. — В Дальневосточный, на филфак поступил.
Но слова эти он произнес и поздравления мои принял как-то слишком уж ровно. Равнодушно, точнее. Что-то его мучило, и даже о стихах своих, к моему облегчению, не спросил.
Это "что-то" я узнал от других. При распределении жилья против Володькиной кандидатуры был Анохин. Есть, мол, более нуждающиеся. Рассказали и о причине. В составе комиссии Володька проверял мясозавод. Выяснил, что уплывает "налево" мясо-колбаса. Прижатая к стенке, директор огрызнулась: "Вы же и берете, Анохин, к примеру".
На очередной сессии молодой депутат Рудаков встал и громогласно все изложил.
Возмущенный Анохин потребовал разбирательства.
Районная комиссия обвинения Рудакова не подтвердила.
Я представил себе, как оно шло, это разбирательство. Директор мясозавода от своих устных обвинений отказалась, конечно, а взять с нее письменное объяснение еще при проверке — у Володьки опыта не хватило. Наверное, Думал, что если в присутствии людей один что-то скажет, то сказанное всегда легко подтвердить. Он вообще хорошо о многом думал.
Но я уже влезать в это дело не стал, слава Богу, ученый. Да и что я мог поделать — рядовой газетчик.
А тут отпуск, командировки одна за другой — оглянуться некогда.
И то ли от переутомления, то ли от чего другого, но я вдруг надолго заболел, и сразу появилась уйма времени — читай, решай кроссворды, смотри телевизор, а надоест — спи.
И тогда-то, перебирая бумаги, наткнулся я на общую тетрадь.
Взглянул мельком. И этого было достаточно, чтобы тренированный взгляд схватил строчку:
Я сюда прихожу не просто…
Дальше уже сработало любопытство. Куда это "сюда" и почему "не просто"?
Я сюда прихожу не просто посидеть, посмотреть в ручей — здесь слезает с меня короста всяких жизненных мелочей.
Да! Я даже на обложку тетради посмотрел. Точно — В. Рудаков.
Стал читать все подряд.
"Нас нельзя упрекнуть неудачной судьбой — сами выбрали путь к высоте голубой. Ясно видим мечту — хоть глаза завяжи — высоту, высоту, этажи, этажи…" "Дом скрипел, гремел, работал. Брызги, стружки, перестук. "Не робей! — хохочет кто-то. — Подходи, закурим, друг!"
Это были стихи.
"Жизни его этап — упрямые этажи. Строил дома прораб — сам во времянке жил. Строил в жару и снег, наперекор дождям, строил прораб для всех — и не успел для себя!"
Болван, что мне стоило заглянуть тогда дальше первых страниц — тут же наверняка его ранние стихи. Ну да, вот и дата — 1970 год. Это ему лет шестнадцать было…
А вот еще: "Летят над миром чьи-то жены, стучат на стыках их вагоны… Глаза их строги и ясны. Мужья в беде — о женах сны. К ним тянутся чужие руки — стареет женщина в разлуке".
Я читал долго. Почти всю ночь. И люто завидовал. И потом, даже не пытаясь заснуть, думал. Конечно, у него недостает техники. Техника есть у меня, но так я писать никогда не буду…
Конечно же, я заторопился ему ответить. Сразу. Немедленно. Откровенно и подробно. Испортил несколько листов и остановился.
Как я ему объясню, почему больше года держал тетрадь… не читал? А если читал, то где были мои восторги раньше? Чем я оправдаюсь за то, что у него — поэта! — украл его Время.
Нет-нет, надо сначала дать подборку в газете. Тогда Володьке можно заявить, что боялся высказать свое мнение, ждал вывода редколлегии. Да он тут, после публикации, на седьмом небе от радости будет. Еще бы — сразу в областной газете, а то и в альманахе.
Я сделал эти подборки. Почистил по мелочам, отпечатал в двух экземплярах и, как только выздоровел, разнес по редакциям.
В альманахе сказали "почитаем", а в газете взяли, и вскоре в праздничной полосе вышли Володькины стихи.
И на следующий же день с первым утренним автобусом ехал я к Рудакову. В портфеле лежали свежие, еще краской пахнущие газеты.
В городке, на автобусной остановке, встретил бывшего своего соседа, лейтенанта милиции Петра Кулешова. Он был на машине.
— О, как кстати. Помоги добраться до южной окраины. У меня встреча с Рудаковым, а времени в обрез.
— С кем-с-кем встреча? — переспросил он.
— С Рудаковым. Да ты знаешь его.
Петр секунду поразмыслил и газанул. Но вырулил почему-то в другую сторону.
— Он что, уже не живет там?
— Не живет.
— Квартиру получил?
Кулешов опять как-то непонятно буркнул:
— Получил.
И тут же резко, так что я в ветровое стекло лбом въехал, остановился.
— Вылазь.
Я оцепенело сидел. Мы были у ворот кладбища.
Какая-то надежда еще догорала во мне, и я жалко, глупо, по инерции продолжал:
— Они что тут, работают?
— Нет, — философски сказал Кулешов. — Они свое отработали.
Он провел меня к могилке, без него я бы не нашел. Маленький деревянный обелиск безо всяких надписей и знаков.
— Фотография была, — вздохнул Кулешов, — Да видно, ветром сорвало.
…В маленькой тесной кухоньке Кулешова мы пили водку и он рассказывал:
— Тут вообще-то темная история: убийство — самоубийство. Жену с детьми к родным отправил, а сам "загудел". Прогулы. С работы раз приходят — закрыта дверь. Второй раз — тоже. Обратились в милицию.
— Постой, он не пил вроде.
— Это он до отсидки не пил.
— Какой… отсидки?
— Ты и этого не знаешь! На учебу он поехал во Владивосток. Подрался. Как он объясняет, кого-то обидели, он вмешался, но свидетелей, доказательств — нет. Свидетелей нет, а парень он здоровый, знаешь. Словом, зацепил одного. Полгода железную дорогу строил.
Вернулся, а тут ему наплели — Ольга твоя, мол, гуляет.
Ну, представь его состояние. То депутат, уважаемый человек, счастливый муж и отец и вдруг… такое. Ты же знаешь, как у нас любят: падающего — толкнуть. Закон самбо. Всякая шваль, что и пальца его не стоит, грязь на него лила.
"А как бороться с тем, что нельзя ухватить", — вдруг вспомнилось мне Володькино…
— Так что косвенные доказательства его самоубийства есть.
— А убийства?
— Пил он не один — еще трое. Все птахи перелетные, та еще публика. И ушли почему-то через окно. И магнитофон его забрали.
— Нашли их?
— Нашли. Думаешь, Кулешов зря свой хлеб ест? В Хабаровске взяли. Ну и что! Магнитофон Рудаков им продал — и правда в квартире деньги обнаружили. Через окно вылезали, потому что хозяин ключи спьяну не мог найти. И главное — время их ухода и смерти не совпадает. Не намного, может, часов на пять-шесть, но не совпадает.
— Ну а твое, личное мнение?
— Мое? Как бы там ни было, погиб он потому, что один остался. Совсем один. И он к этому шел.
— Ольга-то как?
— Ольга замуж вышла через месяц, — жестко сказал Петр и в свою очередь спросил:
— А тебе-то зачем он вдруг понадобился? Ты последний год тоже не здорово с ним контачил.
Я попытался объяснить.
— Да-а, — протянул Петр, — Все мы…
И пошел отсыпаться перед дежурством.
…Цветов в поселке я не нашел и перед отъездом положил на могилу газеты с его стихами, крепко придавив их тяжелым камнем.
"…Прощаясь, не видел я взлетных полос, и поезд не бросил мой крик под откос. На шумный перрон не ступила нога, не сдвинул винтами корабль берега…"
Бежали за окном автобуса волны сопок.
И все звучало его, мной полузабытое:
— Главное, пока поёшь, — удержаться на ногах! Я знаю, почему ты не удержался, Володька! Как жить теперь мне?
…К счастью, все это вскоре прошло.
ВОВИК, ИЛИ НЕРПИЧИЙ КОРОЛЬ
В то лето мы рыбачили на полуострове Кони, на речке со странным названием — Умары. Прямо у ее устья возвышался над волнами залива одноименный остров — тесанная со всех сторон каменная громада. В туман остров был похож на линкор, полным ходом прущий на таран.
От материка остров отделяла узкая перемычка. В отлив она обнажалась досуха, зато в полную воду здесь мог спокойно пройти средней руки траулер. Как и многое на Севере, приливной перепад тут был необычайно большим — до десяти метров.
То ли мы приехали рано, то ли опыта не хватало, но рыбалка не клеилась. В закидной невод, который мы, обливаясь потом, тягали без передышки, горбуша почему-то не шла, а ставник мы нашли в таком виде, что на ремонт его требовались недели, да и вряд ли был среди нас специалист по такому тонкому делу.
Разве что бригадир, Старый Мангут, — бронзоволицый узкоглазый бурят. Но ему и так хватало хлопот. С раннего утра до темноты гонял он нас с неводом по берегу залива, сам, никому не доверяя, чинил засольные чаны, ремонтировал то и дело ломавшийся старенький ДТ-54.
Никто не видел, когда Старый Мангут отдыхал. Прикорнет на косе во время перекура минут на пятнадцать и тут же, сна ни в одном глазу, бодро вскакивает:
— Кончай ночевать, сон на ходу. Давай шлюпку — заводи.
— Это же зверь, — плевался Коляня, — я в лагерях и то таких не видел.
Из сил выбивались, с ног валились, а рыбы все равно не было…
С очередным рейсом катера, доставившего нам соль, продукты и бочки, появился в бригаде Вовик. До нас он был здесь, на базе госпромхоза, сторожем, поранил руку и Долго лежал в больнице — оттого и опоздал к началу рыбалки. Я уже слышал о нем — и слышал разное. И что он славно браконьерничал здесь зимой, и что трактор угробил, и что сам — как трактор — моторку один поднимает… Говорили даже, что необычайно удачлив в рыбалке Вовик и даже слово какое-то знает. И все Вовик да Вовик. Представлялся мальчишка, несерьезный и хулиганистый.
Старый Мангут как-то послушал и сказал:
— Моя с Вовиком вместе работал, только у нас его Нерпичий Король звали.
За что, почему? — ничего не объяснил Старый Мангут.
Некогда, говорит.
Вовик оказался здоровенным мужиком, метра под два ростом, белесое безбровое лицо — и вдобавок говорлив и любопытен.
— Э, ребята, — оценил обстановку Вовик. — Без ставника мы каши не сварим.
Будто мы и сами не знали.
Но растерзанный вид невода Вовика не смутил. Трактором вытащил его из сарая, расстелил прямо на косе и начал латать. Бригадир посмотрел, как лихо, не уступая языку, летает его игла, и дал в помощь еще двоих. Впрочем, у меня до сих пор осталась уверенность, что Вовику нужны были не столько помощники, сколько слушатели.
Через пару часов я знал о Вовике, о его жизни, взглядах на природу, женщин и события в Латинской Америке все. Могучий фонтан красноречия извергался из Вовика вне зависимости от времени, места и обстоятельств. О каком-либо сопротивлении этому стихийному явлению не могло быть и речи.
— Жизнь пролетела, — начинал он очередную свою байку, — как птичка мимо окна. Жалею только, что много сил потратил на город и баб. Уж на что моя последняя вроде ничего была, а приехал с охоты и нашел в квартире только дырки от гвоздей, на каких ковры висели. С тех пор я на это дело плюнул — сам себе хозяин.
— Вовик, — спрашивали у него, узнав, что до рыбацкой своей жизни был художником на фабрике сувениров, — как же ты такую клевую работу бросил?
— Заболел, — серьезно рассказывал Вовик, — И как! Чувствую, что поправляться начал, затяжелел, как на сносях. В бане взвешусь — опять на три килограмма. Не верите — полтора центнера уже тянул, каждый месяц новый костюм шил, бабу чуть раз не задавил, она из-за этого и сбежала. Таксисты не брали — рессоры ломал. Пришлось к врачу идти. А тот молодой, но дока: только глянул — каменная болезнь, говорит. Пыль на работе жрете, а она потом внутри оседает. Порошок мне давали, чтобы камень этот вынести. И точно, пуда три песка с меня вышло, дорожку потом возле больницы посыпали.
Мы гоготали. Довольный, улыбался и Вовик.
— А почему Нерпичий Король? — вспомнил я слова Ман- гута.
Тут Вовик неожиданно смутился и, пробормотав что-то вроде "брешут тут всякое, а ставник еще латать да латать", углубился в работу.
Ставник был вскоре готов и установлен в маленькой, облюбованной бригадиром бухточке. И уже к вечеру, глядя на всполошенных чаек, снеговым облаком кружащихся над наплавами, Старый Мангут заторопился:
— Однако, рыба есть.
Он не ошибся. Отборная горбуша — настоящая серебрянка — заполнила тракторную тележку до краев, и до самых поздних звезд мы шкерили, мыли, солили нашу добычу. Холодильника у нас не было и оставлять работу на утро было рискованно — рыба могла испортиться.
Наверное, мне было тяжелее всех. Нож, неудобный, тяжелый, то и дело выскальзывал из мокрых от рыбьей крови пальцев, надрезы шли вкривь и вкось… с каждой рыбиной я возился вдвое дольше, чем остальные.
В артели это опасно, засмеют и выгонят.
— Давай-ка махнем, — Вовик протянул мне свой ножик — обычный, магазинный. Изолентой к ручке со стороны, противоположной лезвию, была прикручена столовая ложка из нержавейки.
— Смотри, — он прижал горбушину носом к упору, одним точным движением располосовал ее, а вторым — обратным — ложкой выгреб внутренности и кровь. — И все.
Дела! А если самка — ястык с икрой двумя пальцами подцепил и…
Пораженный изяществом и легкостью проделанного, я заторопился.
— А ну-ка, дай, я сам.
Вовик еще не раз подходил ко мне, поправлял и, убедившись, что я освоил эту нехитрую науку, похваливал:
— Ну молодец, Студент. Влет схватил.
Теперь мы вообще не разгибались днями, но настроение у всех поднялось. Рыба шла хорошо, пласт за пластом укладывали мы в чан и вскоре забили его доверху. Три чана — план. План — две с половиной тысячи на нос. Есть за что и пахать.
И вдруг что-то произошло. Не кружили уже чайки над ставником, рыбы попадалось в него все меньше и меньше, и все чаще обнаруживали мы в неводе большие — метр на метр — дыры. Спешно латали, но дыры, словно кто смеялся над нами, на другой день появлялись вновь.
— Нерпы, — сплюнул после очередного просмотра бригадир. И погрозил кулаком в сторону моря, на спокойной глади которого круглыми поплавками качались десятки нерпичьих голов. Словно со всего залива собрались к нам стаи этих глазастых тюленей. Я-то считал, что из любопытства.
С этого часа Старый Мангут распорядился охранять ставник. В шторм, в дождь, днем и ночью кто-то из нас, вооруженный дробовиком, в лодке, привязанной к ставнику, должен дежурить на море. Мы поворчали, но деваться некуда — да и прав оказался бригадир: опять наш невод был полон.
А потом Коляня застрелил молодую, слишком неосторожную нерпу и забагрил ее. Вечером на ужин повариха приготовила жаркое из нерпичьей печени.
Все ели и похваливали. Только Вовика почему-то за столом не было.
Нашел я его на косе… В редкую свободную минуту я любил побродить здесь. Море выкидывало на песок стеклянные шары наплавов, обрывки чьих-то сетей, доски, на которых еще заметны были неведомые разноязыкие надписи. Ночами морская вода странно горела голубоватым искристым пламенем — это светился планктон. И фантастический этот огонь, и вечный шум моря, и бесцельные мои шатания по тугой широкой полосе косы были после трудов и суеты дня как прохладная повязка на разгоряченный лоб, как прикосновение к чему-то, чего никогда не постичь нашему праздному уму.
Вовик сидел на перевернутой шлюпке, у самой воды. Легкие волны облизывали носы его рыбацких сапог.
— Т-ш, — прошипел он, заслышав мои шаги, и указал на лодку, — садись.
Я послушно сел.
Вовик приложил к губам какую-то травинку и засвистел. Слабая нежная мелодия родилась в тишине, дрогнула, выправилась и, набирая силу и высоту, пролетела над светящимся в ночи морем.
Ничего подобного я до сих пор не слышал — а от балагура, весельчака и тертого жизнью мужика Вовика — и не ожидал услышать
Была в этой мелодии печаль. И надежда. Будто до того человеку стало невмоготу, что крикнул он, призывая на помощь близкую душу, — так крикнул, что все, что в этом мире было: звезды, трава, волны и скалы, — дрогнуло на миг.
И откликнулось. Такой же слабый, будто вздох, донесся до меня ответный звук.
И еще, но уже значительно ближе, и еще.
— Нерпы, — прошептал Вовик. — Знаешь, как они музыку любят. Коляня их на транзистор и подманивал…
Последние слова он произнес с такой болью, что мне стало стыдно — всего час назад я уплетал эту печенку так, что за ушами трещало, а сейчас разнюнился. Нарочно грубо сказал:
— Фигня все это. Так и рыб, и свиней — и все жалеть? Жить надо проще.
— Просто живет скот. Пожрал, на самку вскочил… что там еще — сортир да логово.
Ничего больше словоохотливый Вовик не сказал. Встал и ушел в палатку. На леске валялся листок чозении — узкий и длинный, как лезвие ножа. Неужели этим он свистел?
Только полвоскресенья Старый Мангут дал нам передохнуть, и мы устроили баню.
Отмывшись и вдоволь напарившись, я решил познакомиться с островом Умары. Был час отлива, и широкая, ровная, как шоссе, перемычка соединила его с материком. Я неторопливо побрел к острову, мимо морских звезд и ракушек, широких листьев морской капусты.
А подойдя к острову, ахнул от изумления.
Глазам моим предстали огромные каменные валы, ярус за ярусом переходившие в широкую удивительно ровную площадку. Тысячи и тысячи лет неутомимое море шлифовало камень, и теперь он был гладким и сверкающим. Будто на лету остановленный, замер и обратился в камень гигантский водяной вал.
Над площадкой угрюмо возвышались утесы, и, поколебавшись мгновение, я начал карабкаться вверх. От старости узкие пластины сланца прямо под ногой ломались, как пересушенная бумага, и мелкой крошкой осыпались вниз. Осторожно, тщательно выбирая площадку для следующего шага и зацепки, я медленно шел все выше и выше.
Вдруг огромная глыба, казавшаяся такой надежной, под моей ногой дрогнула и вначале со змеиным шипом, а потом с гулким грохотом обрушилась вниз. Падая, глыба, как ножом бульдозера, срезала на своем пути все островки и кустики, цепляясь за которые я поднимался сюда.
Затылок мой похолодел — назад дороги не было.
Но не было ее и вперед. Угрюмые каменные глыбы — прямые родственники рухнувшей — нависали надо мной. Думаю, тут дрогнул бы и видавший виды альпинист. Я ткнулся влево, затем вправо и после одного из отчаянных прыжков понял, что еще шаг и все — сорвусь. До земли не меньше пятидесяти метров: мне, чтобы разбиться, хватило бы и куда меньшей высоты.
Руки и ноги мелко дрожали, мысли путались. Еле-еле я заставил себя успокоиться, отдохнул и стал обдумывать ситуацию…
— Ия-ия, — в лихом вираже скользнула мимо чайка, и неощутимый для меня воздушный поток легко подкинул ее вверх, к облачку, безмятежно плывущему над заливом Одян.
С легким шорохом из-под моей ноги скатился камешек и улегся где-то там, в россыпи.
Увы, я — не чайка, не облако и не камень. Никак не решалась моя задача. А время шло. Пробил час отлива, и волны с шипением наступали на землю. Полоска к берегу становилась все уже и уже.
Лагерь был не так уж и далеко, но кричать, звать на помощь мешали стыд и глупое самолюбие, да, наверное, и не долетел бы мой крик, не пробил слитный шум моря, ветра и птиц.
Вдруг я заметил, как от палаток отделился человек, столкнул в воду лодку, через минуту синим дымком стрельнул мотор, и лодка, поставив перед собой белые усы, ринулась к острову. Я угадал в ней Вовика. Он что-то крикнул мне и повернул за остров.
Я растерялся. Неужели Вовик не сообразил, в какую ситуацию я попал?..
Вдруг услышал близкий голос:
— Эгей, Студент! Держи.
Вовик восседал на ближайшем гребешке, крепко оседлав его ногами, и — удивительное дело — ни один камешек не осыпался от его движений.
Шлепнулась рядом веревка, и через минуту я уже был возле Вовика, в безопасности.
— Я за ставником смотрел, — предварил мои расспросы Вовик. — Биноклем повел — дела! Надо было предупредить тебя, а я не допетрил. О, здесь горы коварные. Я раз за баранами пошел, тоже — как ты попал, пришлось до морозов сидеть.
— Почему до морозов? — не понял я.
— Осыпь смерзлась, — серьезно пояснил Вовик, — и я по льду, как в этом… бабслее… А еще, был случай…
Я даже и не помню — сказал тогда хоть "спасибо", так Вовик заговорил меня…
В нашей разношерстной бригаде особо выделялся Ко- ляня — профессиональный охотник и рыбак. Впрочем, насчет рыбака крепко сказано — для этого Коляня был слишком ленив, он постоянно увиливал от тяжелой работы. Вместо шкерки и заметов то помогал поварихе, то вызывался топить баню, то возился в цеху… Ребята ворчали, но больше за глаза — Коляню побаивались. От уголовника и психопата держаться лучше подальше.
На Умары Коляня прибыл с тремя собаками. Шустрые голосистые лайки целыми днями шастали по тайге вокруг лагеря, появляясь возле кухни точно в часы обеда и ужина. Собаками Коляня очень дорожил.
Из-за них вся эта история, собственно, и случилась.
В тот день я дошкеривал последнюю партию серебрянки, а все остальные работали на берегу. Надвигался шторм, и надо было отодвинуть подальше от наката наши припасы — доски, бочки с горючим. Из-под навеса цеха я хорошо видел косу, суетящихся на ней рыбаков и тихое, как всегда в отлив, море, на глади которого то тут, то там показывались нерпы. В редкие перекуры я снимал с гвоздика бинокль и с любопытством, пробудившимся во мне после рассказа Вовика, рассматривал их. Были в стае и седые, видно, старые самцы, эти старались держаться подальше. Беспечно резвился, посвистывая, молодняк. А самые маленькие и любопытные подплывали совсем близко. Один из малышей и выбрался на перемычку. Заглазелся на странные двуногие существа на косе и не заметил, как стремительно отошла вода. Пока сообразил что к чему, пока развернулся нерпе- нок, его учуяли собаки и с громким лаем помчались по перемычке. Это были хорошие собаки, и бежали они, отсекая нерпенка от моря.
Малыш с тревожным писком заметался, и расправа была бы короткой и кровавой. Но тут подоспел Вовик. Как он, немолодой уже, грузный, в тяжелых сапогах, угнался за лайками — ума не приложу.
С ходу, сапогом, он и подцепил передовую, самую злобную старую суку Дайну, прикрикнул на остальных и осторожно перенес нерпенка к воде.
И тут-то на него налетел Коляня.
Вопя "Собаки! Мои собаки!", Коляня вдруг нагнулся и что-то поднял с земли. "Камень", — понял я.
Вовик, защищаясь, поднял руки и громко, отчаянно крикнул:
— Не надо, Коляня! Не надо!
Но, похоже, Коляню это только подстегнуло. Беспомощность жертв всегда подхлестывает подлецов, и молить их о пощаде — пустое дело. Он, как-то странно подпрыгивая, чтобы достать, ударил Вовика в лицо — раз, другой. И только когда Вовик, шатаясь, побежал от него, остановился, подозвал собак и стал осматривать их, демонстрируя свою заботу и любовь.
Все это произошло в минуты.
Никто не успел вмешаться. Старый Мангут как стоял, приподняв доску за один конец, так и застыл.
Широким шагом, прижимая ладонь к лицу, Вовик прошел через цех в нескольких метрах от меня, и я услышал его задыхающийся, рвущийся болью голос:
— Да когда же это… когда подлая эта жизнь кончится?!
Меня он не заметил.
В этот же день Вовик ушел к сенокосчикам. Они давно звали его.
Подошел попрощаться:
— Ты все видел, Студент?
— Видел, — жестко ответил я, — Тряпка ты, а не мужик. Глянь на лопаты свои — разок бы двинул…
— Нет, Студент, — грустно покачал он головой, — не могу я, да и не знаешь ты Коляни — он бы за ружье сразу, и в конторе у него родичи, и…
Он махнул рукой, поправил рюкзак и пошел по косе. Я глядел на его широкую, чуть сутулящуюся под рюкзаком спину, на старенькую шапку, вороньим гнездом черневшую на голове, на всю его маленькую на огромном пространстве моря фигурку, и чувство жалости к этому бездомному, безалаберному и беззащитному человеку все больше и больше захватывало меня.
Кому он нужен на этой земле?
И вдруг… Я глазам своим не поверил: все нерпы, до этого беззаботно кувыркавшиеся в волнах, большие и малые, и всякие, вдруг кинулись к берегу, туда, где шел Вовик. Они Дюжинами выныривали из воды и, шустро перебирая ластами, выползали на песок, а сзади появлялись всс новые и новые.
Это был мираж, сон… Неужели нерпы вылезли прощаться с Вовиком, со своим защитником, а может быть, и впрямь — Королем!!
Но тут Вовик повернулся, показал на море рукой и что-то прокричал. Я глянул.
Недалеко от берега черным парусом стремительно резал волну острый плавник касатки — самого страшного врага нерп. Это ее испугавшись, кинулись они на берег.
Хотелось думать — к своему защитнику.
Только какой уж из Вовика защитник, за себя постоять не смог.
…Когда на другой день Коляня, как всегда, с деловым видом пробегал мимо цеха, заваленного рыбой, — после шторма мы взяли хороший замет, — мимо нас, уже обалдевших от нудной и тяжелой работы, я остановил его.
— Кончай филонить, становись к станку.
— Пошел ты, бугор нашелся! — привычно огрызнулся Коляня.
Сам не понимаю откуда — наверное, злость прибавила — взялись во мне силы. Я сбил Коляню с ног, подтащил к бочке, куда мы сбрасывали рыбьи кишки и кровь, и несколько раз с головой окунул в нее.
Не знаю, что сделал бы Коляня, когда вырвался наконец из моих пальцев. Может быть, схватился за нож и впрямь побежал за ружьем. Но вокруг плотным кольцом встали рыбаки, и выражение их лиц было на редкость одинаковое.
Коляня ополоснул с себя рыбьи потроха и молча взялся за работу.
— Однако, — подвел итог Старый Мангут, — шибко ты нехороший человек, Коляня. Катер придет — уезжай в совхоз.
…Много воды утекло с той рыбалки на Умарах. Вовика я больше не встречал, а от рыбаков, которых иногда видел в городе, слышу разное. Кто говорит, что спился Нерпичий Король, кто — замерз, кто — утонул. И это успокаивает: если говорят разное — значит, неправду. Значит, жив Вовик, жив Нерпичий Король.
И от этого у меня на душе хорошо.
ДЕЖУРНЫЙ ПО ОБКОМУ СЛУШАЕТ
Веру Андреевну он, конечно, застал врасплох. Вот, разложила на столе зеркальце, помаду и всякие другие причиндалы. Красу наводит.
— Добрый вечер, Вера. Есть кто? — кивнул он на плотно прикрытые двери кабинетов.
— Ой, Иван Михайлович! — удивилась Вера. — Как вы рано. Нет уже никого — Сергей Сергеевич в Москве, Топ- ков в отпуске. Все в порядке — распишитесь.
В порядке-то в порядке, а проверить надо. Печати, пакеты, ключи. Сейф. Как сейф? Один раз шифр сбили, потом месяц вскрывали. Иван Михайлович в армии служил, знает, как пост принимать.
Удаляясь, благодарно процокали каблучки Веры. Иван Михайлович вытащил детектив, заварил чай и, покончив с этими приятными хлопотами, включил настольную лампу — за окнами уже синими тенями легли северные сумерки.
Резкий электрический свет вырубил из темноты приемной громадную плоскость полированного стола. Полукругом на нем поблескивали телефоны. Черные, белые, красные, с клавишами и запоминающими устройствами, обычные и специальные. Пожелай он, и в любую минуту могли они соединить с любой точкой огромной области, передать его слово и принести ответное.
Строгая тишина, подчеркиваемая мерным ходом напольных в человеческий рост часов да посвистом начинающейся пурги за стеклами, властвовала в комнате. Это была совсем особенная тишина, ни капельки не похожая на сонный покой и мертвенную глухоту безлюдных кабинетов. Она заставляла напрягать чувства, как перед столкновением с чем-то никогда заранее неизвестным.
В эти ночные часы именно сюда из горняцких поселков и совхозов, из городов и деревень, с моря и тундры тянулись все нити… Ему докладывали о всех происшествиях.
Все, случись и самое страшное, он узнал бы первым.
К полуночи мягко протарахтел городской телефон.
"Началось", — подумал Иван Михайлович.
— Дежурный по обкому Лясота слушает. — Он был уже наготове записывать. Если что важное, конечно.
Все звонки-сообщения Иван Михайлович разделял на три разряда.
Звонок-глупость.
Эти самые частые. Звонят среди ночи по поводу того, что под окнами работает машина — спать мешает. Второй день не приходит слесарь. Не могут заказать такси. Поздно поступает почта. Продали в магазине кислое молоко. Обещали шторм, а его нет.
Если голос в трубке не заплетается, Иван Михайлович терпеливо объясняет гражданину или гражданке, что надо обратиться туда-то, дает номера телефонов.
Пьяным Иван Михайлович сурово говорит, чтобы отсыпались и не мешали ему работать, а иначе ему не стоит труда установить номер телефона, и угроза срабатывает безотказно.
Звонок-беда.
Он раздается, когда несчастье уже произошло и дежурный ничего не может сделать — только записать о случившемся с точностью до запятых. И когда он пишет, рука его словно спотыкается на пожарах, авариях, смертях…
В селе Чаун в 20.00 пожар в Доме культуры. Погибли двое рабочих — Рякокин и Тыненет.
На лодке унесло четверых школьников. В поиске участвуют пять судов и четыре на подходе.
Столяр стройцеха Иван Михайлович Пуговкин, 1951 года рождения, на кухне обвязал шею детонатором и подключился к сети. Жена спала.
"Эх, Иван Михайлович, Иван Михайлович, — жалеет тезку Лясота. — На кого же ты так обиделся, что такую мученическую смерть решился принять? А эта дура — спала. Да разве жена она, что мужнину беду не чует".
— Исчез самолет ледовой разведки Ил-14. На борту восемь человек.
"Может, еще найдут, — надеется дежурный, — Хотя вряд ли… В наше время просто так самолеты не исчезают".
Потом, через день, Иван Михайлович узнает: найдены обломки на Шантарах, люди погибли.
— На АЭС рядовая авария. Пострадало двое.
— Балда, — в сердцах выругался Иван Михайлович прямо в трубку. — С каких пор тебе беда человеческая рядовая?
И так без конца. На тысячи километров раскинулась громадная область. Морозы и огонь, горные реки и штормы, неосторожность одних и злоба других множат, множат печальную статистику. Кто же это не закрыл люк нефтеот- стойника, в котором утонул семилетний мальчик, и кто подсунул бутылку "неизвестной" жидкости четверым скотникам?.. Одного только и откачали.
Жизнь в такие моменты кажется Ивану Михайловичу гигантским вращающимся маховиком, густо облепленным людьми. И с каждым оборотом кто-то, кто ближе к неведомому никому краю, срывается и падает в темноту.
Иное сообщение так действует на Ивана Михайловича, что у него начинает болеть сердце. И долго еще после дежурства ходит он угрюмый, будто по близким горюет.
И еще звонки-просьбы.
Не разгружается теплоход с яблоками. Трюмы открыты, а на улице минус сорок.
Тут у дежурного самая работа.
— Диспетчер порта, в чем дело?
— Пятая колонна не поставила машины.
— Ждите на проводе. — Взлетает трубка второго телефона: — Пятая? С вами говорит дежурный по обкому. С кем?.. Сторож? Начальство спит? Дайте номер домашнего. Нет… Тогда адрес. Да-да, там в дежурке у вас список должен висеть, поторопитесь, пожалуйста.
Теперь звонок в дежурную часть милиции:
— Выручайте — надо разыскать начальника пятой автоколонны. Вот адрес — пусть патрульная завернет и в порт его подбросит. Да, очень срочно.
Диспетчеру:
— Сейчас к вам привезут начальника автоколонны. Как разберетесь — доложите.
…Заливает подвалы аппаратной телефонной станции.
— В водоканал звонили?
— Они уже здесь, но не могут обнаружить течь. Воды по колено, а у их машины откачка не работает.
— А что же у "их работает"? — беззлобно передразнивает Иван Михайлович. Задумывается.
И тут на память ему очень удачно приходит случай… Правда, тогда полигон заливало, но какая разница…
Торопясь, он набирает 01.
Командир пожарной части в нерешительности. А если в то время, когда машины будут работать у телефонки, пожар?
— Зальет телефонку — полгорода сгорит, вы и не узнаете.
Действует.
Но этот, первый сегодняшний звонок привел Ивана Михайловича в недоумение — в рамки не вписывался.
— Задержан в пьяном виде инженер Квитко из совхоза "Маяк", — доложил дежурный горотдела милиции.
— Ну и что, — пробурчал Лясота, — вы мне намерены о каждом пьянице сообщать?
— При нем три знамени… он их вроде в облисполком вез.
— Как-как? — ахнул от удивления Иван Михайлович. Разное приходилось слышать, но чтоб такое! Он покрутил головой.
— Знамена в сейф, инженера в вытрезвитель.
— Они у него вокруг тела обмотаны, — ухмыльнулся милиционер. — Так что повредить боимся, не дает.
И смех и грех. Герой. Его любопытство разобрало.
— А ну-ка, соедините меня с ним… Инженер Квитко, с вами говорит дежурный по обкому. Прошу вас сдать знамена под расписку, а сами отдыхайте.
— Не-е-т. Прав не имею. Только в общую часть облисполкома.
"Что-то непонятно, — насторожился Лясота. — По голосу непохоже, чтобы очень уж пьяный. Хотя, какая тут разница, очень или не очень. Знамена!"
Придется ехать. То есть идти — до горотдела три шага. Хоть и не положено отлучаться, но случай-то какой.
Попросил свободного от смены постового минутку подежурить, поднял, поколебавшись, заведующего общей частью облисполкома — тот чертыхнулся было, но, уловив суть, сказал: бегу.
И вправду, видно, бежал. У входа в милицию встретились. Вот он, голубчик, — инженер-знаменосец Квитко пригорюнился за решетчатой дверью. Высокий, плечистый, с непомерно толстым — от знамен — торсом. И не пьян, не пьян. Запашком, правда, навевает, ну и что?
— Поужинал в ресторане, а эти… — зло крутнулся Квитко.
"Эх ты… может, ребята и перегнули палку, а может, они тебя от больших неприятностей спасли".
Пока облисполкомовец писал расписку, а инженер Квитко раскручивал знамена, милиционер спросил тихонько и вроде виновато:
— А с ним как?
— В гостиницу устройте. Пусть отдохнет… перед завтрашним.
…Наконец-то пауза. Второй час ночи, а детектив так и не раскрыт. Тут жизнь почище детективов винты крутит. Налил в стакан чай, но и глотнуть не успел.
— Вы простите за беспокойство, — старчески дребезжащий голос заставлял напрягать слух, — тут мальчик позвонил, 4-20-20 телефон, просто случайно. Лет пяти, видимо. Плачет, говорит мама с работы не вернулась, отца нет, а с ним еще ребенок, совсем малыш.
— Спасибо… что-нибудь придумаем.
"Но что? Как там… четыре-двадцать-двадцать…"
— Как тебя зовут? Рома? Добрый вечер (хотя какой уж тут вечер), Рома, с тобой говорит самый главный ночной начальник. Ну-ка не хнычь и рассказывай, что случилось.
— Мама не пришла.
— Так… а папа где?
— В больнице.
— Ты с братиком?
— Он уже спит, а мне страшно.
— А вот это ты зря… Ты не бойся, я рядом. Писать цифры умеешь? Ну вот, напиши-ка мой номер. А теперь проверь — набери эти цифры и попадешь ко мне.
— Дежурный по обкому слушает (ах, черт, это же малыш. Долго, однако, он набирал). Видишь, я всю ночь буду рядом с вами. А мама скоро вернется. Она, должно быть, во вторую смену осталась.
"Сучка, — думает про себя Иван Михайлович. — Муж в больнице, а она детей бросила. Или алкоголичка — еще страшнее".
Несчастья он не хочет и подразумевать: хватит их, несчастий!
— Рома, телефонный шнур длинный? Ну вот, поставь аппарат возле кровати, ага, на тумбочку, молодец, ложись, и я тебе сказку расскажу… В некотором царстве, в некотором государстве…
Все, по этому телефону теперь долго не позвонят. Рома слушает, иногда переспрашивает, но голос его все реже и тише, и наконец Иван Михайлович с удовлетворением слышит далекое ровное дыхание — спит.
Он хотел было опустить трубку, но подумал, что тогда там, на другом конце провода, раздадутся гудки, и они разбудят мальчика. Бог с ним, с телефоном, их тут и так много. Кому надо — дозвонятся.
Потревожил телефонную, выяснил фамилию владельца телефона четыре-двадцать-двадцать. Затем милицию — не случилось ли что с Эльвирой Николаевной Николаевой?
Таких сведений нет.
Утром, когда приходит уборщица, Иван Михайлович встряхивается от дремоты — предутренний сон только-только настиг его.
Уборщица старенькая, худенькая и любит поговорить.
— Что это у вас трубка лежит?
— А… эта, — Иван Михайлович только теперь услышал короткие гудки. Значит, Николаева вернулась и положила трубку.
Дежурство закончилось. За ночь выпал свежий снежок, и теперь, после бессонной ночи, блеск его режет глаза. Можно бы уйти домой, да в девять важная планерка, попросили присутствовать, а сейчас восемь — ни туда ни сюда.
И тогда он едет к Роме. Ему хочется знать, что же там все-таки произошло.
Дома никого нет. Вышла соседка, сказала, что они уже ушли в садик. Спрашивает у заведующей, в какой группе Рома Николаев.
— А вот его мама, — показывает заведующая на молоденькую полную женщину с темнеющим над верхней губой пушком.
— Я Николаева. А что вам надо? — раздраженно спрашивает она. — Мне некогда.
— Я ночью тоже был занят, Эльвира Николаевна, — говорит Иван Михайлович и представляется. — …Но пытался вместе с милицией разыскать вас.
Мгновенная, кирпичной густоты краска вспыхивает на щеках и шее женщины. Она хватает Ивана Михайловича за рукав, тянет в сторону, умоляюще шепчет:
— Ради Бога! Ради Бога! Простите — подруга подвела: обещала переночевать и не пришла, подвела.
Иван Михайлович осторожно освобождает рукав и уходит. Винить, осуждать — да кто он и что знает? Просто краешек чужой жизни на мгновение приоткрылся перед ним. Приоткрылся и исчез.
На планерку Иван Михайлович опаздывает и получает первое замечание. Второе — за неправильно — не в тот адрес — составленную бумагу. День еще только начинается, значит, не миновать и третьего… Сердце у Ивана Михайловича начинает болеть, он слушает, слушает размеренную речь своего начальника, но совершенно ничего не понимает. Перед ним цветным калейдоскопом проходят события сегодняшней ночи, слышатся другие, расчеркнутые телефонными звонками, голоса.
— Иван Михайлович! — неожиданно обращается к нему начальник.
— Дежурный по обкому слушает, — автоматически отвечает он.
Все смеются, а начальник безнадежно вздыхает. Как раз вчера в конфиденциальной беседе решался вопрос о Лясо- те. Рекомендовали выдвинуть его на самостоятельную работу. Заведующий это предложение не поддержал: нерешителен, рассеян, словом, не потянет. Теперь видит — не ошибся.
После планерки к Ивану Михайловичу подходит сослуживец, Юрий Иванович Чагип.
— Выручай, Лясота.
— Сколько тебе? — полез тот за бумажником.
— Да не… я тебе еще и так должен. Ты подежурь за меня завтра, а? День рожденья у меня, понимаешь.
Чагин врет. День рождения у него в этом году уже был. Иван Михайлович помнит об этом, но все равно соглашается, и сослуживец долго с преувеличенной благодарностью тискает его руку и говорит:
— А впрочем, дай еще десяточку. Для ровного счета.
ДЯДЯ КОЛЯ
Как всегда мой приезд вызывает маленький переполох. Как-никак единственный брат, к тому же из Магадана. У моей сестры, когда она говорит о Магадане, делаются такие глаза, словно речь идет о том свете. И тогда Зина жалеет меня и при встрече всегда плачет, сотрясаясь своим большим рыхлым телом.
— Ну-ну, Зин, успокойся. Не умер пока.
— Занесло тебя, чертушку. Люди вон и тут устраиваются. А это разве жизнь.
Из своей комнаты выходит Аленка, моя племянница. В девятом классе девка, а ростом скоро меня догонит, — а во мне как-никак сто восемьдесят четыре.
— Все растешь, Аленка. Ох, будут твои женихи плакать.
— Отстаете, дядь Валер, от жизни. Я в классе самая маленькая.
— Да неужто, — удивляюсь я. — Ну, если ты самая маленькая, то вот тебе самый большой на свете шарф.
Ослепительно белой шерсти, он так велик, что им можно обмотаться с головы до ног.
Аленка упорхнула к зеркалу.
Сестре — панно, красивое, из кусочков меха сделано.
— Надо было тебе деньги тратить, — ворчит Зина.
— Ты только Верке не отдавай, — предупреждаю я. — Для нее у меня само собой есть.
Но знаю, что предупреждаю напрасно. Такая уж у меня старшая племянница — все выцыганит у матери. И откуда это — в нашем роду вроде не было. Может, отпечаток профессии — она в торговле работает. Кооперативная квартира, всего в ней хватает, а Верка тащит и тащит. Муж — видел я его всего один раз — был наладчиком пианино, так она его погнала на автобус — зарабатывай, мол, деньги.
— А Василий где?
— Спит. Ждал-ждал тебя, чекушку уговорил и улегся. Он слабый стал, Валер, на водку. Стареет.
Спит и ладно. А то бы сейчас: "Давай разливай! Не хочешь со мной, да, зазнался!" Шум, гром, пьяные пустые разговоры. Сколько помнил Василия, трезвым не видел его ни разу. И иногда думаю — какие же силы потратила Зина, живя с ним, чтобы дом вести, дочек на ноги поставить. Да и мне, в нищей моей юности, чем могла помогала.
— Куда сейчас? — спрашивает сестра. Знает, что в столице я бываю или по делам, или проездом.
— В Чебоксары, там у нас семинар.
— От Павлово это далеко?
— Кажется, нет. Аленка, а ну-ка, дай географический атлас.
По карте выходит километров двести.
— А зачем тебе Павлово?
Сестра задумывается. Потом говорит:
— А ты знаешь, что в Павлово наш дядя живет?
Сказанное не сразу доходит до меня.
— Что еще за дядя?
— Дядя Коля, родной брат матери.
Вот те раз!
— А… почему же я о нем никогда не слышал?
— Да так… Как уехал он в сорок девятом, так и порвалось все.
— А откуда ты знаешь, что он в Павлово? — что-то, кажется мне, недоговаривает сестра.
— Он тете Марусе пишет.
Я молчу, соображаю. День заезда на семинар — понедельник. Сегодня пятница. На дворе осень — с билетами проблем не должно быть.
— Билет я тебе на завтра на пять взяла, — читает мои мысли сестра. Я не удивляюсь, слишком хорошо она меня знает. — До Горького, а там час автобусом.
Признаться, планы у меня на эти дни были другими. Повидать друзей, походить по магазинам — жена заказов надавала.
— Что тебе надо купить в Москве? Ты списочек оставь и деньги.
— Ну, Зин, ну, сестренка, — я растроганно и неловко чмокаю сестру в щеку. — Куда Кулешовой до тебя.
— Это кто еще?
— Да так, телепатка одна.
Утром меня бесцеремонно будит Василий. Сестры уже нет, она поднимается в пять утра — два часа на дорогу. Трамвай, автобус, метро. Я иногда удивляюсь, неужели нельзя работу поближе найти.
— Привыкла, — объясняет сестра, — четверть века на фабрике.
Недавно медалью ее наградили "За трудовую доблесть". Я горжусь, я-то знаю, чего это ей все стоило.
— Ты что, спать сюда приехал?! Давай-давай, поднимайся.
— Василий, еще восьми нет — магазин закрыт.
— Для меня открыт. Эт-та моя Москва!
Приходится вставать. Впрочем, сейчас финансирую его и наверняка полдня не увижу. Вытаскиваю червонец.
— Не надо. Ты пока закусь приготовь.
И исчезает.
Это что-то новое. В прежние приезды Василий стрелял у меня безбожно, да и Зинка держит его в черном теле.
Не проходит и получаса, как Василий возвращается с бутылкой.
— Василий, ты сейчас в каком министерстве работаешь? — выражаю я изумление.
— На хлебовозке.
Все становится ясно. Водку дала продавец ближайшего гастронома, куда он поставляет хлеб, а деньги… деньги тоже от хлеба.
— Понятно, — говорю я Василию. — Грузчики на хлебозаводе дают на три-четыре ящика больше, чем записано в накладной. Ну а в магазине за эти ящики ты получаешь наличными. Так?
— Во, угадал.
— Засыпешься — три года.
— Шиш, — говорит Василий, — Я и с охраной делюсь. Ну чего телишься, наливай. Я в отгуле нынче.
Я разливаю и, дождавшись пока Василий опрокинет свой стакашек, лицемерно вздыхаю:
— Эх, жалко, улетаю я в обед. Сам знаешь, как в самолет — выпивши не пустят.
Раньше бы Василий не отстал от меня — пей и все. А сейчас, похоже, даже доволен — больше достанется. Торопясь и расплескивая, наливает еще.
Я гляжу на его красное опухшее лицо, помутневшие глаза, наполовину уже седые волосы и вспоминаю летний день, когда Зина со своим мужем, с ним то есть, приехала в деревню.
Широкоплечий веселый парень в тельняшке, с лопата- ми-ручищами сразу полюбился мне. Он подарил мне невиданный фонарик-жужжелку, вместе с отцом перекрыл свежей соломой крышу избы, а потом вообще подвиг совершил — опустился в колодец и отремонтировал его. Заодно выбросил оттуда новенькое цинковое ведро, неделю назад упущенное мной. За ведро мне уже влетело, и я пожалел, что Василий не приехал чуть-чуть раньше.
Я даже спать порывался на сеновале вместе с Зинкой и Василием, но сестра, не церемонясь, оттуда меня выперла.
А пил как! Ведрами, и никакой хмель его, казалось, не сокрушит.
Но, как говаривал мой отец, "нет молодца, чтобы одолел винца".
Когда я ухожу, Василий уже дремлет, грузно навалйв- шись на стол. Проспавшись, он опять пойдет в магазин и опять купит вина — и так будет до тех пор, пока не кончатся деньги.
И пока не кончится жизнь…
На материке я езжу только поездами. Люблю сидеть у окна, слушать перестук колес и смотреть, смотреть на тихие поля, зазолотившиеся перелески, на белые церкви, призраками мелькавшие на дальних холмах. Соскучился я по этой земле.
И хотя уже давно не пишу стихи, как-то сами собой начинают складываться строки:
"Мне снятся все чаще и слаще — боюсь даже' веки разнять — поляны с травой настоящей и звонкий сквозной березняк. Я думаю: что за провинность меня завела в эту даль — где радость бедней вполовину и вдвое печальней печаль?.."
Громада Горького, вольно раскинувшегося в долине, поражает меня. Эх, было бы время — побродить, посмотреть.
Надо торопиться. Вперед — к дяде Коле. Кто он, этот неожиданно объявившийся родственник?.. Что он расскажет мне о моей матери, слишком рано ушедшей из этой жизни, о моем детстве? Подгоняемый нетерпением, от Горького я беру такси. Смешно, но это удовольствие обходится мне почти вдвое дешевле, чем от Домодедово до Москвы.
— Переулок Кирпичный, дом семь, не подскажете? — обращаюсь я к седоголовому грузному, рослому мужчине лет под шестьдесят. Присев на корточки, он докрашивал дверь гаража, и мои слова заставили его распрямиться.
— А кто вам нужен?
— Николай Федорович Щедрин.
Какое-то мгновение, охваченный догадкой, я вглядываюсь в его спокойное усталое лицо и…
— Валерка, что ли, — неверяще выдыхает дядя.
И крепко обхватывает меня.
Как, как мы смогли угадать друг друга! Ну я-то ладно — ехал к нему, ждал этой встречи. А он?!
— Я гляжу-гляжу, — после улегшейся суматохи в который раз рассказывает дядя Коля, — что-то знакомое в лице. Ну прям Нюра-покойница. И сердце, сердце как током — племяш.
И опять счастливо обнимает меня. И в этой искренности, открытости я опять угадываю наше родовое, и мне становится легко, будто попал я в свою семью. Родня.
Жена его, тетя Тина, вовсю хлопочет, собирая на стол. Пошептавшись с ней, дядя Коля поднимается:
— Я сейчас, на минуточку.
Идем вместе. Не могу я отпустить его — столько вопросов! И просто — хочу на него смотреть.
В магазине расплачиваться я ему не позволяю. По обстановке дома, по одежде понял: не густо живут. Знаю я эти стариковские пенсии.
— Ну смотри, — смиряется дядя Коля, и что-то гаснет в его лице.
И хотя по магаданскому времени уже утро, сна у меня ни в одном глазу. И долго, как на исповеди, рассказываю о своей жизни. Ни с кем, даже с сестрой, не говорил так никогда.
А дядя Коля спрашивает и спрашивает, как будто всю жизнь мою до самой мелочи хочет понять и узнать.
— Дядя Коля, — осторожно начинаю я о самом главном, — а как же так получилось, что мы только сейчас встретились?
Лучше бы я не спрашивал.
… Листок, вырванный из ученической тетради, мелко исписан химическим карандашом. Отдельные буквы расплылись, стерлись. Это письмо моей матери, незадолго до ее смерти:
"Жизнь наша не дюже веселая, Коля. Я уже третий месяц не встаю, и кружку воды некому подать. Видно, уже не встретимся. И Валерий мой без меня тоже не жилец. Боже, и зачем я его только рожала".
Потрясенный, я поднимаю глаза на дядю Колю. Ничего, ни одной мелочи не осталось мне от мамы, и вдруг это письмо… как с того света.
— Я тогда сразу собрался и поехал к вам. Нюру уже похоронили. Что творилось у вас дома — не расскажешь. Вас четверо — мал мала меньше. Голодные, грязные… Тебе чуть больше года было…
— Четверо? — вопросительно смотрю я на него. — У меня две сестры.
— Была еще Мира — года на три старше тебя. Она в тот же год умерла. Ошиблась Нюра. Не выдержал я тогда, — продолжает он, — обидел Мишу, убийцей прилюдно назвал. И уехал. И с тех пор все. Потом-то я понял, что не прав был. Не прав. Вас вытягивал отец, сутками на работе пропадал. А сам-то инвалид. Какой уж тут уход за больной.
Мы бы, наверное, помирились, да тут еще удар. У нас- то с Тиной к тому времени уже четверо ребятишек было. А в день на всех иногда стакан жмыха да лепешки из мякины с корой. Про одежонку, обувку — и не говори. Из голенищ своих сапог придумал я им сшить тапочки — на все времена года. И вот, помню, сижу, шью, а сосед заходит, посмотрел и спрашивает:
— А сапоги сможешь стачать? Заплачу.
— Было бы из чего, — говорю.
Принес он материалу. Сшил я ему, не помню, пар шесть или семь. И откуда же знать, что кожа та — ворованная. Как соучастнику, дали мне пять лет, и на ордена не посмотрели. Тогда с этим строго было. Ну, а после отсидки и гордость, и стыд; словом, откачнулся я от всех. Да и они, — усмехнулся он, — не очень-то стремились… Отец твой партийный был, зачем ему в анкетах такой родственник…
Так и не спали мы в ту ночь. А там рассвет забрезжил за окнами, и уже пора было мне собираться. До Чебоксар я решил добираться на "Ракете". Мы потихоньку шли через сонный утренний город. Дядя Коля часто останавливался, виновато поглядывал на меня, передыхали. Я знал, что он перенес инфаркт.
— Эх, посмотрела бы на тебя Нюра, — в который раз сказал он уже на пристани. — Ну неужели нельзя им оттуда хоть одним глазком на деток своих, а, Валер?
Я молчал.
— Ну ладно. Вот скоро увижу ее — сам расскажу.
— Ну что вы, дядя Коля. Вам еще жить да жить.
Ни он, ни сам я не верили сказанному.
Матрос бросил сходни, и редкие пассажиры пошли на посадку.
— Деньги-то, деньги у тебя есть? — засуетился дядя Коля. Вчерашние неизрасходованные бумажки толкал мне в ладонь.
— Дядь Коль, — горло у меня перехватило, и я ткнулся лицом в его колючую щеку. — Мы обязательно, приедем… в отпуск, посмотрите на моих…
— Дом твой — хоть весь занимай. А пляж какой летом… золотой, Валера. На югах разве так…
И что-то еще, беспомощное, срывал с губ холодный речной ветер.
Отдали швартовы, и "Ракета", разворачиваясь, медленно пошла на стрежень реки.
Удалялся причал, на котором, прощально подняв руку, стоял старик в старом черном пальто. Так неожиданно обретенный родной мне человек.
Вцепившись в поручни, не отрываясь смотрел я на него. "Ракета" поддала ходу, и вот уже отодвинулся берег, причал, черная одинокая фигурка, и не взглядом — сердцем угадал я последний прощальный взмах.
…В Москву я опять возвращался поездом. Соседями моими оказались тоненький совсем юный парень и смешливые, шумливые девчонки. По туристическим путевкам ехали они из Удмуртии во Францию.
И, конечно же, всю дорогу распевали песни. Особенно хорошо пел Володя.
— Володя, Володя, — стали просить девчонки, — а спой нашу.
Володя не отказывался. Специально для меня он перевел, о чем песня:
— Если у тебя в доме праздник и у души вырастают крылья, вспомни, где сейчас твой брат. Не холодно ли ему, не грустно… Вспомни свою сестру — весна ли в ее сердце. Всех родственников, далеких и близких, созови в дом, на свой праздник. Никого не забудь. Ведь они — родная твоя кровь.
Как он пел!
И без перевода я бы понял — о чем. Была в песне тревога за близкую душу, тоска птицы, отбившейся от стаи, боль ручья, пробивающегося к реке…
Я отвернулся к окну и снова увидел, как неумолимо отлетает в заплаканную дождями даль стариковская фигурка в длинном черном пальто. Вот она становится меньше, меньше, превращается в каплю и исчезает совсем.
Капля родной крови.
…С московскими заказами моими Зинка справилась отлично, даже слишком. Ворох пакетов, коробок, свертков возвышался в углу прихожей.
Как же я это повезу?
Верка, старшая племянница, примчалась сюда прямо с работы. Если что не возьму — ей останется. Ну что ж — приятно доставить человеку радость.
Я стал перебирать покупки, освобождая их от коробок, бумаги, откладывая не очень нужное и громоздкое.
Зинка помогала мне упаковывать чемодан.
О дяде Коле я рассказал ей еще вчера. Она помолчала, а потом мягко посоветовала:
— Ты не суди их, Валер! Нам сейчас их не понять.
Судить-то как раз я никого и не собирался. Но иного, видно, старшая сестра, верная хранительница наших семейных традиций, и сказать не могла. Она не подозревала, что существует иное.
…Торопясь сами и меня подхлестывая, вприпрыжку помчались дни, недели, месяцы. Время от времени от дяди Коли приходили письма, где он передавал всем приветы и рассказывал о своей жизни. Я отвечал ему в том же духе. Поговорил я и с сестрой, по телефону.
— Я тебя понимаю, — невесело говорила она в трубку, — но жизнь сейчас такая, Валер. Мы хлебнули, помнишь, пусть хоть наши дети порадуются.
Голос ее звучал отчетливо, будто между нами и не шесть тысяч километров с хвостиком. Раньше этому факту я не придавал значения, теперь только дошло, как далеки мы друг от друга.
— Ты тоже хочешь радоваться жизни? — поймал я за рукав сына. С футбольным мячом в руках он уже собирался на улицу. — Ну, готовься, поедем в отпуск… на Волгу, к дяде.
— Сейчас? — Сын отбросил мяч и уже порывался вытащить чемодан.
— Да не сегодня, Вань. Недельки через две — иди гуляй.
Говорил с ним, а сам поглядывал на жену. У нее были свои планы на отпуск, и Павлово в эти планы не входило. "Сложно добираться, незнакомые люди, там плохо со снабжением… чем детей кормить будем?"
— А где сейчас хорошо, Люд. И в Молдавии за мясом в очереди постоять надо, а в Крыму что — забыла? И потом — я же обещал приехать.
— А я хочу отдохнуть. Там хоть мама поможет — устала я.
Дело дошло до слез, и мы полетели в Молдавию. Съездили и на Черное море, и у друзей в Киеве погостили — северный отпуск большой. Загорали, купались, наедались впрок витаминов, в дождливые дни отсыпались.
И однажды мне приснилось, будто со сцены громадного концертного зала голосом давнего моего попутчика и на его языке пел дядя Коля. И как тогда горькое и одновременно сладкое чувство подкатило к сердцу и, наверное, я всхлипнул во сне, потому что жена разбудила меня и велела перевернуться на другой бок… Сон переменится.
А дома, перебирая накопившуюся за отпуск корреспонденцию, я увидел письмо из Павлова.
Уже адрес, написанный не угловатым стариковским, а незнакомым округлым почерком, заставил насторожиться: "У нас горе, Валерий Михайлович, 22 августа умер папа. Вечером копался в огороде, потом сел на скамеечку. Мы думали, уснул. Мама пошла звать на ужин, а он уже мертвый… А он до последнего все ждал вас в гости… Вот Валера приедет, посмотрю, какие там у меня внуки на Севере есть… Две комнаты наверху для вас велел убрать и никому не разрешал заходить…"
Я не суеверен, но сразу же вспомнил сон и понял, что то была последняя весть от дяди Коли.
Он со мной, значит, попрощался.
Перечитала письмо и жена, виновато помолчала, вздохнула:
— Ну что же теперь делать, Валер…
— Как что, — хрипло выдавил я, — продолжать радоваться жизни.
КРИЧАЛА КОШКА
Примерно в тринадцать тридцать по местному времени старпом китобойца "Звездный" Иван Иванович возвращался с берега. Был он слегка подшофе — кореша встретил, когда-то вместе в Новую Зеландию ходили, но подшофе так, самую малость. Ни со стороны, ни вблизи ни за что об этом не догадаться… Несмотря на молодые еще годы, ходил старпом так, будто каждой ногой печати ставил, говорил редко и медленно, а действовал хотя и быстро, но опять-таки после некоторого раздумья.
За это да еще за феноменальную силу его Иван Иванычем и звали. В прошедшее воскресенье китобои с торгашами в волейбол схлестнулись, на пять ящиков пива. Играли торгаши лучше, да это и понятно — на их сухогрузе свой спортзал имелся, хоть весь рейс тренируйся. Но пива китобои хотели больше, и потому игра шла на равных. Особенно когда на первую линию, к сетке, выходили старпом и радист и маркони выбрасывал старпому короткий, точный и такой низкий пас, что чужая защита и глазом моргнуть не успевала, как мяч гвоздем втыкался у ее ног.
Рядом с площадкой блестели рельсы заводской узкоколейки, и договаривались в ту сторону не бить, но в горячке игры договор попрали, и был момент когда, поднимая "мертвый" мяч, Иван Иваныч с криком "Советский штурман рельсов не боится" на рельсы эти грудью и бросился.
Мяч отбили, партию выиграли, и только тогда старпом нашим просьбам внял и задрал тельник. И мы ничего не увидели… так, розовая полоса поперек бочкообразной груди.
— Н-да, — оценили соперники и пять ящиков выставили беспрекословно, а сначала, наверное, зажать хотели. Но и китобои в грязь лицом не ударили, торгашей на борт пригласили да еще и брикет вяленой корюшки выставили к пиву.
Протопал-пропечатал Иван Иваныч проходную порта, а тут в аккурат у третьего причала толпа рыбаков и мяуканье кошачье слышится. Отчаянное, как SOS.
Старпом в толпу внедрился, смотрит — метрах в шести от берега между высоченными бортами двух "бармалеев" кошка плавает, совсем котенок, и по стальной обшивке царапает.
С берега и палуб советы подают, но в воду никто не лезет: холодная в ноябре водичка в Охотском море.
Иван Иваныч тоже в море бросаться не стал, огляделся, увидел в стороне к погрузке приготовленный штабель досок, разворотил его играючи и запустил одну корабликом под днище траулера. А кошка, умница, все поняла и, когда доска с ней поравнялась, цап-царап и оседлала ее.
А дальше прибой вынес к причалу доску с кошкой, и сердобольные рыбообработчицы утащили ее отогревать. Старпом тоже собрался путь свой продолжить, его коробка у седьмого причала обреталась, но тут какой-то мужичонка в форме за рукав его прихватил.
— А доску? — говорит.
Доска тем временем опять в море отплыла, и Иван Иванович плечами пожал, но мужичонка пуще прежнего в рукав вцепился и заблажил:
— Держи вора!
Отмахнулся от него старпом как от мухи, но сил не рассчитал — вохровец кувыркнулся с причальной стенки. Для рыбаков опять развлечение — бедолагу вытаскивать.
Развлечением, однако, не кончилось. Пострадавший рапорт подал по команде, и… завели на Иван Иваныча дело. Трудно сказать, чем руководствовался следователь — очередная кампания или, может, тоже на бутылку с кем поспорил, а скорее всего, не понравился ему лично при первой встрече сам Иван Иваныч.
За точность не ручаюсь, но разговор так примерно происходил…
После всякого рода процедурных вопросов — родился, учился, судился — "следак" пугнуть захотел и прямиком в лоб: вам грозит статья такая-то за попытку хищения и еще такая-то — за нападение при исполнении…
Иван Ивыныч подумал-подумал, а потом сочувственно спрашивает:
— Вам что, делать нечего?
И, на беду свою, угадал!
Ну, вправду, нечем было заниматься в этот день начинающему следователю, студенту-заочнику Юрию Юрьевичу. Серьезных дел ему как-то еще не доверяли, а тут случай подвернулся. И нахала проучить надо — на кого он это хавку раскрывает! Власть распирала Юрия Юрьевича: вчера он был слесаришкой Юркой, за пузырем для старших бегал, а сегодня ого-го!
Не портной был Юрий Юрьевич, а дело на старпома сшил.
Почти полгода работал, китобоец в море дважды выходил без своего старпома — визу не открывали, а весной суд состоялся.
И присудили Иван Иванычу, учитывая его упорное нежелание раскаяться и признать свою вину, два года условно!
Самое страшное, что с китобоя списали, товарищей потерял Иван Иваныч. Скорее всего, они и раньше товарищами только притворялись, а все равно обидно. Но нашлись и хорошие люди — посоветовали, подобрали адвоката опытного. И года не прошло, другой суд, более высокий, вчистую оправдал старпома, во всех правах восстановил и заодно веру было утерянную в нашу социалистическую справедливость вернул.
Веру Иван Иванычу вернули, а на китобоец он не вернулся. Перешел даже на другую базу, на обыкновенный рыбацкий сейнер.
Рыбацкая жизнь к воспоминаниям не располагает. Сходили мы к Австралии, а потом в Чукотское море и в Ледовитый океан — надо было чукчам праздник кита обеспечить. Хотя, между нами, обеспечивали мы не чукчей, а зверофермы и колотили в год не меньше сотни кашалотов вопреки всем международным конвенциям и соглашениям. Но наше дело маленькое: прикажут — делаем. Забыли, словом, о старпоме.
И вот после удачной экспедиции в Чукотское море бежали мы домой в Находку.
И уже после Лаперуза маркони дверь рубки открыл и зовет:
— "Туркмения" просит помощи!
Крутнул верньер, и четко послышалось:
— Пожар на борту. Всем судам в квадрате… просим оказать помощь! На борту дети!
Мы далеко, к нам не относится и остается, затаив дыхание, слушать, как развиваются события.
— "Вашгорск" принял! Уточните координаты! Похоже, я рядом!
— Что "Вашгорск", — пробурчал наш капитан, — сейне- ришко. А там человек триста!
Выясняется, что сейнер находится в двух часах хода от горящего теплохода. Капитан "Туркмении" решает:
— Высаживаю детей и часть экипажа на плавсредства. Огонь распространяется на верхнюю палубу!
Уже известно, что там (теплоход терпит бедствие в шестидесяти милях от мыса Поворотный) волнение три балла. Не страшно, но дети…
Еще полчаса — все в шлюпках и ботах. Огонь охватил надстройку!
Еще час — подошел сейнер. Да, теперь поднять всех на борт тоже не простая задача.
В эфире тесно. Откликнулись плавбазы "Прибалтика", "Советская Бурятия", "Рыбак Камчатки"…
Капитан "Прибалтики" предлагает пересадить детей к нему! Капитан "Вашгорска" в резкой форме:
— Вы что, того… ночью — детей! Иду на Находку!
— Это что же он, в трюм их?.. Но прав, прав, — вздыхает наш дед.
Подошли спасатели, начали тушить.
Потом мы уже узнали, что "Туркмения" осталась на плаву, а "Вашгорск" благополучно доставил детей в Находку — 292 школьника!
— Э-э, — кричит нам радист. Капитан-то на "Вашгорске" Иван Иваныч!
— Ну! — изумляется дед, — то-то я чую голос похожий.
Потом мы слышали, что за эту операцию Иван Иваныча наградили орденом. И еще доходили слухи, что на борту сейнера не терпит капитан никакой живности. Особенно кошек.
Ну что ж, на море что ни судно, то свои правила, и у каждого свои странности. Но если когда кричит кошка ли, другая ли живая душа — надо помочь. Что бы там не думал по этому поводу Юрий Юрьевич.
Хотя сейчас он уже в чине старшего советника юстиции и возглавляет городскую прокуратуру.
МЕСТО ДЛЯ МАНЕВРА
Молоковозку я засек километра за три. Подпрыгивая на проселочной дороге, она направлялась к шоссе. Как будто яркая оранжевая капля стекала с зеленой плоскости повернутого ко мне поля. Минут через пять, оставив на перекрестке жирную грязь, она повернет к городу.
Три километра… Чем выше скорость, тем дальше должен смотреть водитель. Если бы я проходил перекресток после молоковозки, обязательно бы учел грязь от нее, а расходясь встречными курсами, взял бы ближе к осевой, освобождая себе на всякий случай место для маневра. По утрам из деревень нередко выезжают или под легким хмельком, или после вчерашнего…
— Всегда оставляй себе время для принятия решения и место для маневра, — насмешливо поучал меня хирург в те далекие дни, когда я первый раз попал в его маленькую больницу в Понырях. — Ты вот пошел на обгон телеги как малоподвижного объекта, а не учел того, что лошадь испугается, а конюх незнаком с Правилами дорожного движения… да что там незнаком — ему просто чихать на них.
Хирург был шахматист, но правила его подходили и для дороги. И вообще для жизни.
…Стрелка спидометра плясала на ста двадцати.
Модернизированный, с форсированным двигателем "Иж-Планета-Спорт" легко мог бы дать и больше. Но я не хотел рисковать: на шоссе еще лежала утренняя роса и на скорости заднее колесо ощутимо погуливало. Непередаваемое чувство — будто я оседлал дикого, рвущегося из-под меня коня. Первобытная радость силы и свободы — вот чем был для меня мотоцикл, вот что ледяным душем смывало с меня накипь жизни. Час гонки по скоростному рокадному шоссе, и я возрожден, как писано, "для битв и для молитв".
— Сколько это может продолжаться, — говорила жена, и близкие слезы стояли за ее словами. — Тебе уже к сорока, солидный человек, двое детей… Всю жизнь ты меня мучаешь этим чудовищем, — и она с ненавистью пинала машину, отчего переднее колесо вдруг начинало медленно, сияя никелем спиц, вращаться.
— А ну-ка, — бормотал я, опускаясь на корточки, — толкни еще раз: не люфт ли?
Конечно, мне было жаль ее. Конечно, я понимал, что не к лицу уже мне чертом носиться по улицам и дорогам, сшибать кур (было, было), в грязи и пыли заявляться домой, когда о тебе бог весть что думают. Но поделать с собой я ничего не мог.
Сильнее, чем пьяниц водка, картежников преферанс, рыбаков река, тянул к себе мотоцикл.
А началось все страхом.
Мне было лет восемь, когда прямо во дворе сбил меня пьяный или неумелый — в данном случае это не имеет значения — мотоциклист. И хотя дело обошлось царапинами, грохочущий, черный, пропахший бензином обидчик внушил такой невообразимый ужас, что стал серьезно мешать мне жить. В кошмарных снах мотоцикл сбивал меня вновь и вновь. На улице, с кем бы я ни был и о чем бы ни разговари-вал, заслышав мотоциклетный треск, шарахался в сторону. Удержаться было свыше моих сил.
Мотоцикл стал моим проклятьем, страх отравлял все радости, и надо было что-то делать.
Победить страх можно только оседлав его.
Я записался в кружок мотоциклистов.
Научился сносно водить старенький "Ковровец", но этого мне казалось мало.
Стал напрашиваться на соревнования.
Заработал, как шутила жена, одну маленькую медаль и неисчислимое множество травм.
Спорт я оставил, страх прошел, но с мотоциклом расстаться не торопился. Все казалось, что отпусти я его, прошлое опять кинется на меня.
Мои сверстники приобретали магнитофоны, кутили в ресторанах, ездили на юг — я покупал мотоциклы и запчасти.
…Утреннее шоссе просыпалось. С легким щелком пролетали мимо "легковушки", ухали, направляясь в карьер, самосвалы, важно прошелестел автобус.
У развилки дежурил мой старый знакомый сержант
Пантелей. И сбавил скорость. Не потому, что боялся его — уважал. Как-то, пару раз меня оштрафовав и не добившись воспитательного эффекта, он разложил передо мной карту города и предложил:
— Слушай, давай как мужик с мужиком.
— Давай, — весело согласился я.
— Ты на Мясникова сколько шел?
— Без протокола?
— Ну…
— Минимум восемьдесят.
— Отсюда выскакивает малыш. Тут садик, он в дырку — и бегом.
Я пожал плечами. Ушел влево, вот и весь маневр. Для мастера спорта семечки.
— А если встречный?
— Три венка.
— Почему три?
— От работы, от соседей и от тебя.
— Я тебе дураку веник не брошу! А если и отсюда одновременно ребенок?
— Как это?
— Ну так. Друг другу навстречу. Что — не может быть?
Я задумался, представил ситуацию и признал:
— Сложно.
На Мясникова я больше не нарушал, сдерживался.
А когда однажды вслед за курицей с реактивной скоростью вылетела на совершенно пустынную улицу женщина и, обходя ее, мотоцикл мой промчался по плетню, по огороду, я вообще перестал гонять. Только в исключительных случаях.
Я приручал машину, а она, похоже, меня.
— Привет! — издали поздоровался со мной Пантелей, подняв руку. Его цвета яичного желтка "Урал" выглядывал, замаскированный травой, из кювета. Уловка для чужаков: Пантелей на этом месте дежурит уже лет десять.
Я тоже поднял левую руку и, управляя одной, лихо развернулся так, что щебень у обочины — заехал-таки — брызнул веером. И пошел, набирая ход. В зеркало заметил, как выкатился на полотно "Урал". Это была наша обычная утренняя разминка. Почуяв свободу, зверь подо мной зарычал и кинулся вперед, глотая дорогу.
— Послушай, Люд, — сказал я однажды жене, — а ведь если бы не мотоцикл, мы бы и не встретились. Помнишь…
Я возвращался в Поныри вечером. И встретил у поселка стайку девчат, видно, с электрички.
— Кого подвезти? — лихо крутнувшись на место, предложил я.
— Меня, меня, — наперебой загалдели они.
Самая смелая уже уселась сзади, и я поддал газу. Подбросил пассажирку до ближайшего села и вернулся за следующей.
Последняя — небольшого росточка, белые волосы до плеч, в руках тяжелый портфель — отказалась.
— Спасибо, я дойду.
— Тут волка видели, — припугнул я.
— Мне далеко… В Брусовое.
— Довезу и далеко, мне все равно обкатывать мотоцикл, так что соглашайтесь.
Двадцать километров мы пролетели одним махом. Но, наверное, в первый раз это меня не обрадовало… хотелось ехать и ехать, чтобы ты, пугливо бойкая на ухабах, крепко обнимала меня.
Я мчался назад, беспричинная радость пела в душе, и даже то, что, страшно сверкнув глазами в свете фары, шарахнулась с дороги большая серая собака, обрадовало — выходит, не соврал насчет волка.
Потом мы встретились на каком-то семинаре, и я стал ездить в твое Брусовое каждый вечер. И если тебя не было в школе, разыскивал в клубе, в домах учеников, и мы возвращались в твою маленькую тесную комнатку, где пахло свежей побелкой, мятой и полевыми цветами.
Боже, как я тебя любил!
Это уж потом узнал, что любил тебя не я один…
Я смотрел вперед и ничего не видел под носом.
А когда увидел — было слишком поздно.
— Если бы и знала, — плакала ты. И тут же страстно клялась: — Нет, для меня был только ты, только с тобой…
Все это выяснилось, когда мы из-за идиота-педиатра едва не потеряли сына. И общая боль, а потом и радость соединили нас — не разорвать.
Места для маневра не оставалось.
И ничего не остается — как только клясть судьбу за то, что не свела нас раньше.
Кто виноват… Я поворачиваю на себя ручку газа.
Шоссе вздрагивает и ныряет под колесо…
Однажды жена подсунула мне газету. Под заголовком "ГАИ предупреждает" курсивом было напечатано:
"В последние месяцы на дорогах района участились случаи дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Так, шестого марта на участке Поныри — Курск водитель мотоцикла превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения с такси мотоциклист пронзил лобовое стекло, пролетел через салон такси и, выбив зад-нее стекло, упал на багажник бездыханным. Пассажиры не пострадали".
— Ну и что, — сказал я, — Пассажиры-то не пострадали.
— Дурак, — кратко заключила жена.
…А вот и моя старая знакомая — молоковозка. Какой-то белый туман едва уловимым шлейфом мелькнул за ней.
На подъеме легко обхожу автобус. За стеклами машут ручонками дети. Наверное, едут в пионерлагерь.
И вдруг — огромное белое пятно на все шоссе. Не лужа — целое море!
Будто по льду, боком понесло мотоцикл. Тормозить нельзя — всем корпусом, отчаянными движениями руля стараюсь удержаться, не грохнуться здесь, на виду у автобуса: испугаю детей… что от меня останется на такой-то скорости?!
Навстречу — черти тебя несут! — выныривают "Жигули". Это все. Не верю! Пронзаю такси… Обещал младшему в кино. Газ!!! Руль на себя!
Нечеловеческим усилием поднимаю переднее колесо и чувствую, как зверь подо мною отрывается от земли… превращается на миг в птицу. Легкий щелк заднего колеса по крыше "жигуленка", и я — невероятно! — приземляюсь на обе точки.
…Я сижу на обочине. Мотоцикл на боку. От него валит пар, как от заморенной лошади. Останавливается автобус. Возвращаются "Жигули". Водитель, маленький, в красной тенниске, с раззявленным от крика ртом, подбегает ко мне, зачем-то хватает за грудки и неумело тычет кулаком в лицо. Наверное, он подонок — нельзя бить в такую минуту. Но он первый человек мира, в который я вновь вернулся. Я не хочу о нем — первом — думать плохо. Я растроганно смотрю ему в глаза, и он опускает руки.
Высыпали из автобуса дети, и один, самый смелый, чем-то смахивающий на моего Ивана, с уважением спрашивает:
— Вы циркач, дядя?
Я мотаю головой. Да, я циркач. Я всю жизнь циркач, клоун, шут! Я выдумал себе страх и тешил его, тешился им. Два колеса, цепь и мотор — это же до какого идиотизма надо докатиться, чтобы всю жизнь — не мою, хрена ли моя жизнь! — на них поставить!
— Успокойся! — Рука Пантелея лежит на моем плече. — Все нормально.
Мир начинает приобретать резкость. Я с усилием разжимаю губы:
— Там… молоко.
Сержант коротко кивает. Понял, мол, приму меры.
« Тогда я поднимаюсь, так же, как моя жена час назад, пинаю мотоцикл и иду в город.
Я иду домой, не знаю к какой, но другой жизни. Но — мама моя! — как же тяжела и бесконечна эта моя дорога.
ПЛАВУЧИЙ МОНАСТЫРЬ
Такая беспечальная у Савелия жизнь — самому не верится, не сон ли? Хорошо еще, что покойный дед Прокофий научил явь ото сна отделять. Очень даже просто: нажми кончиком пальца на глазное яблоко и все предметы и люди вокруг, если они взаправду, двоятся.
— А сновидения, — внушал Прокофий внуку, — они у нут- рях человека гнездятся и никакого касательства к глазам, хучь ты их выколи, не имеют. Вот глянь ты, глянь на меня, ну, каково?
Савелий нажимал, глядел и убеждался. Два деда Про- кофия четырьмя руками вертели две самокрутки и пара синих дымков — столбиком подпирали крышу сарая.
— А чевой-то не ешь? — Спохватывался дед Прокофий за ужином, заметив, как прижав грязную ладошку к глазам, уставился внук на невеличкую горбушку хлеба, хрустально посверкивающую крупицами соли. И хохотал до слез, до надсадного кашля, разгадав нехитрую уловку малого.
Прокашлявшись, говорил ласково:
— Потерпи трошки, Савушка. Зиме скоро капут, солнышко, вишь, как играет. Овощ всякий, травка из земли попрет, рыбачить будем. А там и вообще жизнь наладится… Отец с госпиталя придет, тебя в школу отдадим — двухэтажную, окна — во, как в Панино.
— Нет ее в Панино, — остужал внук деда. — Немцы сожгли, забыл, что ли.
— Построим, — божился дед. — Еще лучшей сделаем, чем была.
— Да мне, — расходился он, — пяток мужиков и через месяц под крышу поставим.
Что правда, то правда. По всей округе знали столяра- краснодеревщика деда Прокофия. До войны редко какая изба не красовалась фигурными наличниками, да резными крылечками, в хату войдешь — шкафчики, столы да тумбочки хоть на выставку. Очередь была к нему не меньше, пожалуй, чем сейчас в зубопротезный.
Но главной своей славы достиг дед Прокофий все-таки через балалайку.
Кажись, хитрый ли инструмент. Фанерный коробок, да гриф — тонкий и долгий, как лебединая шея с тремя тугими струнами. Но до того ладны и певучи были балалайки Прокофия, что из далеких сел приезжали за ними. Птицами выпорхнув из рук мастера, пели его балалайки на свадьбах и вечеринках, а то и на праздничных торжественных концертах.
Над тем, кто купил бы балалайку в магазине, а не заказал у Прокофия, просто бы посмеялись. На одно лицо, унылые, светложелтые казенные изделия рядом с дедовскими выглядели как девы-перестарки перед юными невестами. Дошло до того, что с фабрики этой приехал к деду сам ее главный технолог.
Он долго ощупывал, крутил, только что на зуб не пребывал очередную дедову работу: выспрашивал, как он клей варит, да дерево доводит, а потом прямо предложил ему ехать в город. Квартира, мол, и все, как положено, сразу.
Но и дед отказался тоже сразу.
— Э-э, милок, — сказал он, — ничего ты не понял. Я же по заказу работаю = для человека. Вот приходит он, а я уже прикидываю — какие у него руки, да характер, да манера играть. Люди разные и балалайки разные, оттого у меня интерес к ним не тупится.
— А гитару или скрипку сделать можете? — спрашивал технолог.
— Гитара, — штука нехитрая, — пускался в рассуждения дед. — Грудь у ей большая, настроить на любой голос можно. И не капризная, по этой же причине к дереву. А вот скрипка, скрипка… она особых хитростей требует. Но не было заказов, не было… не идет она в нашей местности. Как мандолина, кстати.
Гость уехал, намереваясь твердо перестроить фабрику на выпуск гитар, скрипок и мандолин исключительно, а деду, чтоб секреты его не пропали, пообещал подослать учеников.
Но приспел сорок первый и фабрику перестроили на выпуск ящиков для мин и снарядов, а дед Прокофий на фронт ушел вместе со своими тремя сынами.
После тяжелой контузии под Майкопом деда списали подчистую и на него-то оставила тогда дочь трехлетнего Савушку и на смертном ее одре поклялся дед Прокофий, что будет жить до тех пор, пока Савушка на ноги не встанет.
На отца к тому времени пришла уже похоронная бумага.
Но бумаге этой дед Прокофий не поверил, как не поверил и таким же извещениям о своих сыновьях. И Савушке пока ничего не говорил, благо еще гремела война, правда уже не на западе, а наоборот — на востоке, с японцами.
И надо же — по дедову сбылось. В сорок шестом вернулся отец. Без орденов, без трофеев, зато костыли — лакированные, кожей обитые — ни у кого в деревне таких нет! — привез.
Жалко, что недолго на них проходил. Маленькую, на год всего, дала ему отсрочку военная смерть.
А Савушка уже в школу пошел. Какой там двухэтажную — в колхозном правлении отгородили досками две комнаты, вот и вся школа. Но все равно — школа. И у деда заказы появились, и смотри-к, наладилась жизнь. Как солнышко тогда засветилось в душе Савушки и с каждым днем все теплее и светлее от него становилось. Не обходилось, понятное дело, и без тучек, но это так — тучка. Дунуло ветром и нет ее.
…Давно уже и деда нет, успокоился за деревянной оградкой кладбища рядом с дочерью — сдержал слово, до шестнадцати лет внука дотянул, и теперь солнышко Савушки- но не гаснет, а наоборот, ярче разгорается,
Вот квартира хорошая в совхозном доме, карапуз Тима носится маленьким вихрем по дорожкам и жена Лена — высокая, красивая, вообще одна такая в мире, хлопочет, накрывая на стол. Вот столярка его с деловитым гулом станков, запахом смолы, дерева, обитая серпантином стружек, наполненная голосами друзей и товарищей.
Вот сам, крепкий и здоровый, счастливый до неприличия, плотник высшего разряда, в следующем году будет сту- дентом-заочником в лесотехническом институте.
Что еще?!
Ощущение полноты жизни и счастья настолько сильны, что Савелий нет-нет, да и прижмет как в детстве пальцы к глазам.
И все вокруг, конечно, двоится, Тимка двоится, Лена двоится и эти две Лены встревоженным голосом спрашивают:
— Ты что, глаз засорил? Дай-ка посмотрю.
Не во сне, значит, взаправду счастье.
Но вот вчера приходит с работы Савелий и жена его, единственная в мире Лена, говорит:
— Давай разводиться, Тимонин. Не люблю я тебя.
На вас когда-нибудь потолок падал?
Однажды увязался Савушка с дедом на работу. Бригадир привел их на склад, показывает — там щиты нарастить, там балку подкрепить — ненадежна стала, изогнулась, как пузо у старого мерина.
А балку прямо на глазах и повело. Дед Савушку в охапку и вместе с ним к стене.
Бригадир отскочить не успел…
Ужас у Савушки остался еще и потому, что до того случая и дом, и стены, и потолок — все казалось ему несокрушимым, вечным. И первые дни Савушка даже спать не мог в комнате, на сеновал перебирался, благо август стоял.
И сейчас старый страх мутной волной качнулся в его душе.
— Ты чего это? — растерялся он. — Ну, задержались нынче, так лес привезли, а разгружать, сама знаешь, некому.
— Да причем тут это, — вздохнула Лена. — Ты хороший человек, но я другого люблю и… любила. Ты знаешь, кого.
Савушка поник головой. Так получилось, что однажды в первые ночи еще, жарко обнимая его, все на свете забыв, шепнула Лена:
— Вовка, милый, любимый…
Обнимала его, а представляла другого.
Пасмурными, новыми глазами взглянул он на Лену.
В другом свете предстали ее отлучки, недомолвки, приступы раздражительности и холодности. И сами собой вдруг легли на стол тяжелые кулаки.
— Савушка, — печально проговорила Лена.
— Уйди! — выдавил он.
И сразу по-другому повернулась жизнь.
Тимку забрала теща, а Савелий ночевал у друга. Боялся не совладать с собой.
Но Лена пришла к нему сама.
— Понимаешь, Савушка, — обычным голосом заговорила она и у него даже ноги дрогнули от близости, и от голоса ее и такого родного запаха волос. — Понимаешь, не хотят нас разводить, нет, говорят, оснований. Ты же больше знаешь, подскажи, как написать заявление.
— А ты что — маленькая? — вскинулся, — Напиши, что изменял, пьянствовал, денег не давал, издевался над вами с Тимкой.
И развернувшись, ушел.
Вот как сказал, так судья на суде и прочитала. Слово в слово. А Савелия и спрашивать не стали — известно, что такой тип скажет.
— Как же вы так могли, — пробился потом к ней Савелий, — ничего не проверив!
— Иди-иди, — не в шутку рассердилась та, а то я сейчас еще тебя за хулиганство!
Савушка домой приехал, в ванну залез и, дождавшись пока она наполнится водой, полоснул себя бритвой по левой руке. Хорошая у него бритва, трофейная от отца осталась, фирма "Золлинген".
Совсем не больно было Савушке.
Спасла его теща. Бог знает зачем приехала. Вызвала "скорую" — успели.
Через месяц совсем здоровым выписали Савушку.
Только солнышко его закатилось.
Но на месте его, свято место пусто не бывает, разгорелся огонек нехороший. Жег он и жег Савушку, и днем и ночью покоя не давал. Пытался вином заливать его Савушка, но огонек от вина еще пуще полыхал.
— Пропаду, — сказал себе Савушка. — Бежать надо.
Пришел за чемоданом в бывший свой дом. После того случая в первый раз.
Дома все оказались. Тима, увидев его, с радостным воплем прыгнул на руки.
— Папка, папка, ты где так долго был. Ты больше не уйдешь? Мама, не отпускай папу-лю…
Лена озлилась, а теща от расстройства чувств заплакала, она поступок дочери не одобряла.
Вытащил Савелий чемодан свой, еще из армии, дембель- ский, нехитрые пожитки собрал. А Тима помогает, от отца ни на шаг, плюшевого любимого медвежонка принес, не пожалел, отцу.
Кроме чемодана, взял еще Савелий балалайку дедову.
А перед тем как уйти, крепко провел ладонью по глазам. Комната, теща, Тимка, жена бывшая — ничего не двоилось.
— Значит, сон все это, — успокоил себя Савелий. — Просто сон.
И поехал, куда глаза глядят.
Что бы с вами было, дальние страны, без таких как Савелий Тимонин?
Редкое, очень редкое дело, чтобы благополучного строя человек отрывался от своих корней и катил в Мирный или на Сахалин, а то и на саму Колыму.
Зачем, спрашивается?
За длинным рублем… Нет, человек знающий в две минуты докажет вам, что нет его сегодня на Северо-Востоке, заработка, а коэффициент и надбавки — все уходят на фрукты-овощи и отпуска. И не просто уходят: уважающий себя северянин с берегов Черного моря без тысячи другой долгу не возвратится.
За романтикой… Так она давно уже понятие не модное и тем более не географическое. Еще говорят, правда, о романтике в профессии, в поиске, но даже самый безответственный болтун не осмелится приладить это слово к поселку Мустах, к примеру, на Колыме.
Какая там к черту романтика в этих унылых низких бараках, в глыбах желтого льда возле общественных уборных, в беспредельной снежной долине, насквозь продутой ветром и до звона выстуженной морозом… градусов, эдак, под шестьдесят.
Попадаются, правда, отдельные чудаки, не забывшие это слово, но погоды они не делают. Делает ее "кадр", как правило, не^юнец, огни и воды прошедший, на все руки мастер. Бурить, рвать, строить, мыть.;, в шахте, на бульдозере, на деляне лесной, у монитора — нигде не оплошает.
Но никогда бы, ни в жизни не уехал из родных краев мастер, если бы… если бы. Крах в личной жизни, стукнулся с начальством, ссора с другом. И вот уже по маршруту "куда подальше", лишь бы с глаз долой мчатся в высокие широты Погорельцы Семейного Очага и Искатели Непрописных Истин.
Работал Савелий на "Мустахе", в каменной промерзшей земле шурфы бил. На Аркагале ТЭЦ строил. На Атке, в поселке колымских шоферов, директор автобазы его даже в начальники столярного цеха вывел.
И комнату дали теплую, и заработок хороший — остановись, передохни, в себя приди, Савушка. Ан нет… жег его огонек и гнал все дальше и дальше.
Бывало, ночью проснется, к окну подойдет, лунку продышит и смотрит. Луна огромная, на полнеба, плывет над темными тихими бараками, льет голубой мертвый свет на дикие сопки, на ледяное полотно трассы. А там, посверкивая фарами, идут и идут машины. Серебристые, на ракеты похожие, наливники, разноцветные рефрижераторы, пэпэ- эры, доверху груженные углем.
— Лена, — забудется он, — глянь, красота-то какая.
Или во сне почудился — пришлепает босыми ножонками Тимка, умостится под отцовский бок и легким, сладким своим посапыванием враз выстроит суматошные скачки Савушкиного сердца в спокойную и крепкую мелодию.
Черт знает, что делают после таких ночей, куда бегут иные!.. Савелий в отдел кадров.
Ну и очутился наконец у пределов Отечества.
Приехали.
Бешеным курьерским поездом пролетел над Тихим океаном циклон "Беби". Вдоволь поиздевался над круизным теплоходом, как щепки разбросал зазевавшиеся рыбацкие сейнеры, пополам, навроде пирожного, переломил японский супертанкер. И теперь сам умирал здесь, у южной оконечности Сахалина.
Но еще круто катились на берег громадные зеленые валы, с чудовищной силой ударяя в земную твердь. И взрывались мириадами брызг, и в грохоте их слышалась нечеловеческая, космическая музыка, странно подчеркнутая бабьими всхлипами чаек.
— А-а-а-ах! — Со всего размаху гигантской водяной ладонью хлопал по скалам океан.
— И-и-и! — Голосили чайки.
А на узенькой полоске песка метался в пляске, бесстрашно вколачивая в океанский разгул свою песню, маленький человек с балалайкой в руках.
— Сербияночка моя — дзень-брень!
— А-ах!
— И-и-и!
— Дзень-брень!
Ах, дед Прокофий, думал ли ты, что балалайка твоя в одном ансамбле с самим Тихим океаном звенеть будет.
Музыка бушевала, песок из-под сапог и пыль водяная взлетали к небу, белое холодное пламя горело на гребнях валов и бледнел, отступал перед ним жалящий сердце Савелия огонек.
— Силен! — Неожиданно раздался над ухом восхищенный и насмешливый одновременно голос.
Савелий резко остановился и бережно положил на чемодан балалайку. Недоверчиво взглянул.
В черном костюме с золотыми нашивками покачивался перед ним небольшого росточка, но плотный как огурец- семенник, моряк лет пятидесяти. Фуражку с крабом он держал в руках и ветер шевелил редкий венчик волос вокруг лысой макушки. Синие глаза смотрели с простодушной хитрецой.
— Пляшешь, говорю, хорошо.
— Так, нашло, — буркнул Савелий. Медленно стекало с него возбуждение. Сел, вытряхнул песок из сапог, спросил у лысого:
— Гостиница тут хоть есть?
— Есть, как же. Мест, правда, вряд ли. А что — на работу?
Савелий помолчал. Разве не ясно.
— А специальность какая? — Не отставал моряк.
— А какую надо? Сварщик, бульдозерист, кочегар… документ есть.
Называл Савелий самые дефицитные здесь специальности.
— Ну, а топор в руках держать умеешь?
— Что-о? Топор? — переспросил Савелий и засмеялся тихонько. Он же сразу понял, почувствовал, что не случайна встреча его с океаном. Отсюда, отсюда начнется новая — хорошая — полоса его жизни.
— Тогда давай знакомиться по-настоящему. Я капитан — директор дизель-электрохода "Чемпион". Мне нужен плотник и немедленно, так как сегодня мы уходим в Нагаево. Вы мне подходите, в душу не лезу, на это есть у нас первый помощник, но предупреждаю — пароход мой за глаза окрестили монастырем да еще плавучим… А я этим горжусь. Так что… прикиньте, чтобы потом разговоров не было.
— Подходит, — твердо сказал Савелий. Добавил, подумав: — Вы это, не смотрите, что я такой… ночевал здесь.
— Если курите, — уже на ходу наставлял капитан, — то лучше бросить. Половина пожаров на кораблях из-за этого.
Савелий, покраснев, заталкивал сигареты назад.
Не в монастырь ли, действительно, вели его.
Бюрократов на море меньше, это все знают. Любители согласовывать да утрясать рискуют вмиг, без всяких проволочек оказаться в приемной высшей морской инстанции — Нептуна. Правда, в последнее время и бюрократ пошел особой выделки — непотопляемый. Всепогодный и с неограниченным районом действия, универсальный, так сказать.
Сила его заключается в том, что в шторм он присоединяется к ветру, в жару к солнцу, застит глаза в туман и ночь. Бюрократ слился с хамелеоном и жутковатый этот симбиоз еще только начинает расправлять окрашенные в соответствующий цвет знамена.
Но тогда Савелий всего-навсего отдал старпому (чифу, как подсказали ему) паспорт и трудовую книжку и пошел вслед за вахтенным в свою каюту.
Каюта оказалась симпатичной комнаткой с койками в два этажа, диваном и столиком, намертво вделанным в переборку.
— Вот, занимай Васину, — указал наверх вахтенный. — Сосед твой на вахте.
Очень все Савелию понравилось. И пароход, чистенький, розовый, с выпуклыми бортами — ну, как поросенок с рождественской открытки. И новое жилье, и люди. Гля-ка, кровать с хрустящим крахмальным бельем, три полотенца на одного — надо же! Тишина, уют — в жизнь не уйду.
— А чего этот-то ушел, — подражая жесту вахтенного помощника ткнул.
— Кейпроллер забрал, — грустно ответил тот.
— Переманил значит, — подытожил Савелий — У нас тоже — как хороший "кадр" нужен, так и сразу и квартиру пообещают и зарп…
— Салага! Кейпроллер — волна-убийца.
Савушка прикусил язык.
И как-то немного померкла его первая радость. И подозрительно ненадежно стало. Стенки у кают тонкие, голоса слышны. А окна зачем такие здоровые — стукнет этот самый… кролик, что ли и заберет.
Только балалайка, когда ее Савелий на стену приспосабливал, бренькнула презрительно… а брось. В ванной не захлебнулся, а тут и подавно.
Где наша не пропадала!
И сон навалился непобедимый. Шутка ли — трое суток по аэропортам.
Проснулся он уже в море. Сосед, бородатый худощавый мужик, с глубоко посаженными глазами, таких на иконах рисовали, разбудил. Завтрак проспишь.
В столовой Савелий ел кашу и поглядывал в иллюминатор. Ничего особенного — море ему показалось похожим на пашню. Только вместо борозд волны, да такими кривулинами, будто пьяный тракторист напахал.
…Блеск и чистота "Чемпиона" могли обмануть только такого, как Савушка. А на самом деле "Чемпион" дохаживал последние мили в своей бродяжьей судьбе. На нижней палубе и в трюмах из-под толстого слоя краски лезли грязь, ржавчина и старость. Мощные когда-то дизели сегодня всей четверкой еле-еле осиливали гребной винт. По срокам "Чемпион" должен был стать на капитальный ремонт, но вверху решили, что дешевле его списать и приспособить в межрейсовую гостиницу для моряков.
И теперь со скоростью восьми узлов шлепал он к месту своей последней стоянки.
На вторые сутки перехода, капитан, проснувшись, долго не мог выбраться из постели.
— Ишь, какой крен, — удивился он, — с чего бы это?
Но потом он о крене запамятовал и это было вполне простительно, если учесть, что и капитан — директор Полу- шин тоже совершал свой последний рейс. Как только загремит в Нагаеве якорная цепь и сойдет на берег списанная команда, от звания Полушина останется только вторая половина — директор. Той самой межрейсовой гостиницы: капитаны с кораблем предпочитают не расставаться.
Именно потому и потребовался срочно Полушину плотник — переделывать каюты в номера, а еще Полушин мечтал задействовать Савелия и как балалаешника: по линии организации в гостинице культурного досуга.
Вот как далеко вперед смотрел капитан Полушин. И, как ни странно, именно эта, чрезмерно, до ненормального развившаяся в последнее время предусмотрительность и явилась главной причиной его ухода.
А началось все с пустяка… Расходясь со встречным танкером в Японском море, Полушин приказал штурвальному взять правее. "Левыми бортами, — полагал он и разойдемся". Но танкер почему-то шел прямо в лоб. На связь не выходил. А уклониться еще правее капитан уже не мог — лоция показывала в этом районе камни.
Капитан приказал осветить рубку приближающегося судна мощным прожектором и сигналить, но и это не изменило ни курса, ни скорости танкера. '
Разошлись буквально впритирку. И тут-то с мостика Полушин отчетливо разглядел, что в штурманской танкера, полным ходом рассекавшего темноту и волны, не было ни одного человека. Судно шло на автомате.
— Старый болван, — выругал тогда себя капитан, — надо было предусматривать и это, знал же, что авторулевой в моде у японских и американских моряков.
С тех пор капитан старался предусмотреть.
Каждую свою команду, каждый маневр Полушин рассчитывал как шахматист варианты в сложной позиции, стараясь не упустить ничего абсолютно.
Получалось примерно так…
— Если я дам тридцать градусов вправо, волна ударит в борт, кренометр покажет пятнадцать, у Дуни… у Дусеньки на камбузе опрокинется кастрюля с борщом и вероятно, может ошпарить ей ногу. Без Дуни экипаж всухомятку не выдержит, первым сбежит Дед, у него язва, хотя язва у него оттого, что попивает втихомолку, под одеялом, но сбежит, он давно грозится, а жалко, Дед специалист хороший. Без Деда мотористы машину загубят, плана нет, заработка нет и значит, французскую дубленку жене не привезу, а она и так меня терпит только за запас плавучести… Это что же, разводиться из-за несчастного маневра?!
— Пора менять курс, — деликатно напоминает второй штурман.
"Фигушки вам, а не курс. Борщ сейчас, наверное, как кипяток".
— До тридцати ноль-ноль (пока обед не кончится) держать прежним.
Штурман почтительно смотрит на мастера. Наверное, нашел ошибку в счислении, вон как перед тем, как скомандовать, задумался.
Хорошо хоть, что штурман не телепат.
Но начались и неприятности. Так далеко в будущее простирал свою мысль капитан, что частенько упускал из виду и само настоящее. Однажды, последовательно рассчитывая этапы отхода от причала — швартовы отдать! Малый назад! Пятнадцать влево — малый вперед, пятнадцать вправо — полный вперед! — он забылся и гаркнул именно последнюю команду: "Полный вперед!"
Машина дисциплинированно исполнила и всей своей тысячетонной грудью "Чемпион", как пьяный мужик на прилавок, навалился на причальную стену.
Шуму и грому было по пароходству много и тогда-то и прозвучало в первый раз роковое — берег.
Полу шин встал и тут же, чтобы сохранить ровновесие, побежал по каюте и уперся в переборку. Так сильно накренилось судно.
Встревоженный, капитан быстро оделся и поднялся в рубку.
На вахте стоял третий — худощавый, носатый с чистыми, почти ангельскими глазами — Жженный. Три судна сменил в своей жизни капитан и так получилось, что со всех трех он Жженного списывал. Списал бы и с "Чемпиона", но, вероятно, уже не успеет.
— В чем дело?
— Горючку с левых танков съели, вот и повело.
— Механик! Закачать балласт в танки левого трюма для ликвидации крена.
— Закачать-то нетрудно, — отозвался снизу Дед, — да куда потом льяльные воды девать будем.
— В самом деле, — сообразил капитан, — куда? Но не тонуть же…
Где-то глубоко внизу в железном брюхе корабля застучало, завыли насосы, нагоняя воду в пустые танки.
Прошло время и "Чемпион" потихоньку, вздрогнув, начал выравниваться и вдруг, набирая скорость, с такой силой ухнул на другой борт, что верхнюю палубу на мгновение захлестнуло. Полушина швырнуло к иллюминатору и так приложило головой к барашку, что перед глазами у него закружились звездные спирали.
— Машина! — Разъяренно завопил он, — почему контроль не держите!
— Как его держать, — ответила машина, — водомерные трубки все забиты.
Теперь крен уже был за тридцать и похоже увеличивался с каждым часом.
Пришел первый помощник — "первый помещик", как его прозвали. А что виноват человек, что нечем ему заняться? Сам не найдет, а подсказать некому. Сейчас на его припухшем лице неприкрытый страх.
— Что? Что? — спрашивал он.
Но капитану Полушину было не до него. Щелкнул в голове невидимый тумблер и помчались, обгоняя и захлестывая друг друга, суматошные мысли-расчеты.
"Дальше танкероваться опасно. Теперь может так сыграть, что не поднимемся. А горючку жрем, все равно к точке заката ползем. А не дай Бог, ветерок".
Итогом этих мыслей было то, что на всех палубах, в каютах и отсеках залились звонки громкого боя, сея легкую панику в экипаже. Семь коротких, один продолжительный.
Оставление судна.
Заслышав эту зловещую трель, каждый, где бы он не находился, бросал все и мчался на шлюпочную палубу.
Сигнал тревоги дублировался по принудительной трансляции и понятное дело, Савелий тоже, неуклюже топоча по трапам, мчался со всеми, иных даже обгоняя.
— Привести в готовность плавсредства! Спустить боты и плоты на воду!
— Так мы же их рыбакам на той неделе подарили, товарищ капитан, — сказал вдруг Жженный, отводя глаза. — Нету ботов.
— Ка-а-к подарили? — И выскочив ошалело на мостик, Полушин оглядел корму. Точно, ни одного бота на лебедках не было.
— Пропил, подлец! Спишу! Под суд отдам! — потрясал кулаками капитан.
Жженный бросил штурвал и побежал спасаться. За ним шагнул было и первый помощник, да капитан остановил.
— А вы куда? По инструкции… вместе со мной… в последнюю очередь.
— Капитан! Дорогой, — рухнул вдруг тот на колени, — что я вам плохого сделал… пощади, только дачу купил.
Глядя на него, Полушин неожиданно успокоился, сказал с презрением:
— Иди… комиссар. Только документы не забудь.
— А… документы… щас документы.
И кенгуриными мощными прыжками, будто ему ракету сзади приставили, он помчался в каюту.
Но ключ, черт подери! Куда подевался ключ от сейфа! А ведь именно в сейфе находилась та синяя папка с грифом "Для служебного пользования", за которую головой отвечал первый помощник и если не мог сохранить — обязан был уничтожить.
Ключ, конечно, пропал. И тогда первый помощник, рыхлый пожилой мужик, вот уже четвертую пятилетку не поднимавший ничего тяжелее шариковой ручки и ложки, с неожиданной силой вывернул сейф через комингс, выкатил на палубу и как макаронины разогнув сантиметровой толщины леер, столкнул его вниз.
Сейф ухнул в воду глубинной бомбой. Волна от его удара едва не захлестнула ближайший плот. — Будьте свидетелями, — вопил сверху первый помощник, — Я его утопил!
— Это кого он, капитана, что ли?
— Нет, наверное, третьего за боты!
Первая паника схлынула. Моряки разместились в плотах. Стали было пересчитываться, но тут крутая волна ударила в борт "Чемпиона" и капитан заорал в мегафон:
— Отходите, туды вашу! Разобьет!
А и орать не надо было. Волны и ветер откинули плоты и теперь уже при всем желании трудно было приблизиться к судну.
Легко крутясь на волнах, как оранжевые фантастические птицы все три плота помчались к горизонту.
— Подберут, — спокойно проводил их капитан, — SOS дали, течение здесь к берегу гонит, прилив скоро. Все за них. Может и меня успеют.
Последнюю мысль, впрочем, он воспринял равнодушно. Удивительно, но сейчас Полушин даже легкость какую- то в душе почувствовал. Страшно подумать, как давно он не отдыхал, сколько уже лет ему не удавалось побывать в такой вот покойной тишине, в полном расслабляющем одиночестве.
Ага, в полном!
— Борщ-то остынет, — раздалось со вздохом над ухом.
Капитан дернул головой. У порога стояла Дуня — повариха, грустно, с жалостью глядя на него.
— Как… ты здесь. Зачем же, Дуня?
— Куда я от вас, Левонтий Иванович?
Дуня подошла и с высоты своего гренадерского роста поцеловала капитана в лысину, как мальчишку прижала к себе.
— Да не боись, все одно Бога не обманешь, а людей тут нет никого.
Что-то дзенькнуло и натренированным за много лет подпольной любви движением капитан и повариха отпрыгнули друг от друга. Дверь рубки медленно распахнулась и, ошалело оглядывая их, появился Савушка с балалайкой.
Все долго молчали, потом Савушка счел необходимым пояснить:
— А я это, балалайку забыл. Пока бегал…
— Пойдем-ка обедать, — сказала Дуня и тронула капитана за плечо.
Левонтий Иванович ловко ширнул ее локотком и прошептал:
— Не забывайтесь, здесь команда.
И тут ему показалось, что стоять стало значительно легче. Он оглянулся и увидел, что стрелка кренометра медленно ползет к нулю.
"Чемпион", скрипя всеми шпангоутами, выпрямлялся.
А в кают-компании корабля, непонятным образом восставшего из мореной пучины, сидел Дед с мазутным пятном на щеке и хмуро жевал луковицу.
— Куда это народ подевался? — спросил он у капитана.
— На соревнованиях по гребле, — подумав, сформулировал Левонтий Иванович. — Если крен совсем устранил, то пускай дизеля, собирать пойдем.
После обеда все разошлись по своим местам. Савелия капитан поставил за штурвал — если на велосипеде умеешь, то и тут справишься. Дед наддал оборотов и, описывая под рукой Савелия залихватские кривулины, "Чемпион" помчался догонять бросивший его экипаж.
Капитан тем временем прошел по палубам. В распахнутой настежь каюте первого помощника, на глаза ему попала синяя папка с грифом "ДСП".
— Чего же он сейф топил, — удивился Левонтий Иванович и забрал папку.
Часа через два показались плоты. "Чемпион" обогнал их и остановился, подрабатывая против волн самым малым. Натерпевшиеся за эти часы страху, замерзшие и голодные беглецы и впрямь как на спортивных состязаниях, наперегонки погнали плоты к "Чемпиону". Скоро все уже поднялись на борт и разбежались переодеваться и обедать. Только на последнем плоту стоял первый помощник, держась за трап и не решаясь ни отпустить его, ни шагнуть вверх.
— Все же видели, как я его утопил, — уныло повторял он. — Все одно не жизнь теперь.
— Да бросьте, — терпеливо уговаривал его капитан, — из- за куска железа сокрушаться. А если вы за документ боитесь, так вот он — документ.
Он помахал синей папочкой и первый помощник полез вверх, не сводя с нее завороженных глаз.
И над всеми палубами прозвучало:
— Отбой учебной тревоги! Отбой учебной тревоги! Всему экипажу за умелые действия в условиях, приближенных к действительным, объявляю благодарность… Третьему штурману Жженному зайти в каюту капитана.
"Чемпион" выходил на прямую, в конце которой он должен был превратиться в гостиницу.
— Назову ее, — мечтал капитан, — "Плавучим монастырем". Дуня буфетом будет заворачивать, Тимонин на балалайке играть, на мне, конечно, общее руководство. А тулуп этот французский пусть она сама себе покупает.
…Причал был полон встречающих, но Савушке он показался безлюдным, так резко в глаза, в сердце ударили эти две фигурки. Тоненькая женщина вперед выставила, будто защищаясь мальчика. И в нескольких шагах чемодан с широкими ремнями, вместе еще в Киеве покупали.
Бесконечно долго швартовались, вечность, покачиваясь как в тумане, шел Савелий по трапу пока наконец не остановился, как будто в тяготение мощных планет втянутый в сияние родных глаз и лиц.
— Папка! Мы уже забегались за тобой, — по-взрослому вздохнув, сказал Тимка и мертвой щенячьей хваткой обнял отца за колени.
— Одного нет, — критически оценил ситуацию капитан — сверху ему было хорошо все видно.
— Левонтий! — вдруг раздалось на весь причал и колени у капитана предательски дрогнули. — Ну что Ты стоишь истуканом, иди сюда, я уже договорилась…
Капитан огляделся в поисках спасения. Но за спиной, насколько глаз хватало, простиралось море и кажется в его беспредельной дымке миражом таяла мечта о спокойной старости в плавучем монастыре.
А возможно в этот момент и действительно увидел Левонтий Иванович учебный парусник, гордо резавший кромку моря. Но сказать себе определенно — явь или сон — капитан Полушин не мог, он не знал секрета деда Прокофия.
РАЗРЫВ-ТРАВА
На Кубаку мастер прилетел в субботу. Прямо на летном поле, сплошь заросшем вейником вперемешку с розовыми свечами иван-чая, его встретили двое.
— Стив, — представился коренастый крепыш с жесткими как отлитыми чертами лица, — служба безопасности.
— Джон, заместитель директора, — протянул руку второй. Этот вроде был попроще, с лица у него не сходила мальчишеская под ихнего президента улыбка. И сложение у него было как у юнца — гибкий, вертлявый… все у него двигалось почти одновременно. Руки, язык, каждая черточка лица. Даже стоять он не мог спокойно, все пританцовывал.
И чего они все улыбаются, с легким раздражением подумал мастер. Будто вся жизнь сплошная радость и все им братья и любимые.
Впрочем, ему они могут быть и действительно рады, если дело обстоит так серьезно, как обрисовывали ему в головном оазисе их компании.
— В гостиницу? — предложили хозяева.
— Я хотел бы сначала посмотреть, — решил Георгий Иванович, — так звали мастера. После четырехчасового перелета в этой громыхающей, вонючей вибрирующей консервной банке, по недоразумению называемой вертолетом, ему ужасно хотелось добраться до кровати и уснуть, уснуть хотя бы на сутки. Болела голова, иногда заглушая голоса окружающих, звон наполнял уши, и он опасался, что заболеет. Да еще ломило давным-давно осколком задетую спину.
— Посмотреть, — повторил он. Даже в таком состоянии привычке своей не изменял. Все равно, если не взглянешь, бессонница обеспечена: будешь воображать, что да как. А воображать без конкретной, так сказать, информации, хоть и многотрудное, но пустое дело.
Не дожидаясь ответа, Георгий Иванович пошел вперед. Со спины он напоминал изработанную лошадь, которой даже этот сверкающий июньский день и луг цветущий уже не в радость.
Американцы с сомнением переглянулись. Они не ожидали, что обещанный им специалист будет так выглядеть. В их представлении только молодость, во всяком случае здоровье, ассоциировали с успехом, успех с деньгами, деньги — с улыбкой. Русские в массе своей потому и неулыбчивы, что вечно нет денег. Даже зарплату не дают — неслыханное в истории человечества дело. Правда, рабам в Римской империи тоже не платили, но их кормили, одевали, давали крышу, а по праздникам расщедрившийся хозяин мог налить даже вина.
— Так что, русские хуже рабов? — в запальчивости спросил как-то Стив у своего друга, миссионерствовавшего в Магадане.
— Нет, — поправил его друг, — Это жизнь у них хуже, чем у рабов. Но в таких условиях может очутиться любой из нас — и ты, и я.
— Но не нация! — твердо возразил Стив.
— Не нация, — согласился миссионер, — Вот поэтому ты и качаешь из русской земли золото, а я вычерпываю золото из русских душ.
— Считаешь месторождение перспективным? — съехидничал Стив.
— Не то слово.
— Но мое золото вот, на виду, его можно пустить в дело, а пригодится ли нам твое?
— Если даже оно не пригодится нам, — веско ответил миссионер, — мы лишим его русских. И поверь, что по сравнению с этим даже потеря золотого запаса — пустяк.
Кстати, о золоте. Если русский не справится с этими чертовыми замками от хранилища, босс ему голову оторвет. Стив помотал головой, отгоняя неприятные мысли, и догнал Георгия Ивановича и Джона, когда они уже садились в машину.
Можно было бы сказать, что это комната, но на самом деле это был громадный сейф с бронированными стенками, толщина которых смутно угадывалась массивной, будто утопленной в бетон громадой куба. Дверь охраняли два кодовых замка. Код в свою очередь блокировался замком механическим. Если у Стива был ключ, то Джон владел шифром. Только вдвоем могут они открыть дверь, то есть, тьфу, могли. В прошедшем времени. Потому что один из замков заклинило. Во второй раз, месяц назад, прилетел специалист из Аляски, провозился три недели, получил пятьдесят тысяч баксов, а ровно через неделю замок опять тю-тю.
Тогда вот босс и сказал им, Стиву и Джону:
— Еще раз пятьдесят тысяч платить я не намерен, ищите выход. Разрешаю за свой счет.
— Сэнкью вери матч!
Так что хоть как ни крути, выход в этом божьем одуванчике, Георгии Ивановиче, которого кто-то из русских руководителей компании аж через ФСБ (говорят, такие специалисты, или, как их странно зовут "медвежатники", стоят на учете) отыскал.
Георгий Иванович равнодушно осмотрел замки — и сломанный и исправный, и они отправились в гостиницу. По лицу старика Стив прочитать ничего не мог, а спрашивать остерегался. Зато Джон не удержался:
— Ну как, старина, справимся? — и даже ручкой этак панибратски похлопал Георгия Ивановича.
На руку Джона старик посмотрел как на муху, и тот ее поспешно убрал, усмехнулся:
— Ключ сильнее замка.
В номере обговорили условия. Сияя улыбкой, Джон, будто копями царя Соломона одаривал, сказал:
— Пять долларов в час. Питание, проживание, билеты — все за наш счет.
— Отсчет с момента вылета, — поспешно добавил Стив, удивляясь наглости коллеги. Перед этим они говорили о десяти.
Георгий Иванович молчал.
— Если справитесь быстрее, чем за неделю, двести баксов премия, — по-своему истолковал паузу Джон.
— Считай, тридцать долларов я уже заработал, так? — спросил старик.
— Так, так, — дружно закивали американцы.
Подписали какие-то бумаги, и хозяева, облегченно вздохнув, ушли.
Оставшись один, Георгий Иванович разобрал вещи, из походного своего видавшего виды кейса достал бутылку водки "Магаданская", пакет с едой, заботливо приготовленный ему в дорогу дочерью, налил полный чайный стакан и выпил залпом. Посидел, ожидая, пока огненная жидкость дойдет по назначению, не торопясь закусил и рухнул мертвым сном. Спал он, как и мечтал, ровно сутки. Номер был угловой, почти звуконепроницаемый, с кондиционером, так что отдыхалось ему без помех.
В понедельник он принялся за работу. Снял замок и на громадном два-на два метра столе, покрытом чистой простыней, разбросал его на составные.
В комнату попеременно заглядывали то Стив, то Джон, и когда они сунулись к нему вместе, Георгий Иванович, поманив их замасленным пальцем, сказал:
— Меня не предупредили, что замок уже вскрывали. Кто?
Его-то интересовало только одно — специалист или какой-нибудь дурак с инициативой. В последнем случае пришлось бы идти поэтапно, а замочек ой-ой, со шкалой надежности до тысячи секретов, попробуй узнай, найди, где, кто наследил. Но Джон этот вопрос понял так, что русский хочет пересмотреть цену, и от волнения заговорил на родном языке.
— Э компани сикрет…
— Да какой там секрет, — досадливо перебил его Стив, он понял мастера. — Из нашей фирмы был, да толку.
Георгий Иванович успокаивающе раскрыл ладони, дескать, все в порядке, ребята, и работа пошла дальше.
В сущности, замок ему был знаком — аналог японских сейфовых, небольшие изменения в механической части, но это примитив. Нечто похожее он разбирал в областной администрации. Почему же его клинит?
Прикрыв глаза, он попытался мысленно представить весь механизм в действии. Закрывается, этот цугалик поднимается, пружина давит на этот рычаг в форме латинской буквы "с", а вот при закрытии. "Все правильно, все сходится, но почему сразу-то замок работал, а вышел из строя только через неделю. Значит, при динамике что-то меняется".
Регулировка!
Ну, конечно, надо смотреть свободный ход всех этих винтов, шарниров, пружин, рычагов. Где-то он ограничен и быстро теряет параметры.
Это "где-то" оказалось крошечным никелированным винтиком. Всего пол-оборота, полнитки. Почти незаметный для глаз поворот отвертки.
Произошел этот поворот на третий час. И из этих суток спал Георгий Иванович от силы часов шесть. Уходил в гостиницу за полночь, а поднимался с рассветом, который, как известно, в июне на Колыме тоже начинается за полночь.
Сначала и Стив и Джон пытались протестовать против такого безумного, на их взгляд, распорядка, они тоже не имели права оставлять мастера одного, да и боялись, выдержит ли старик такую нагрузку. Но эта старая лошадь, как уважительно отозвался в конце работы Стив, пожалуй, переплюнет и их.
Наконец, замок вернулся в родное гнездо, пришел босс, раз пятьдесят, как капитан, крутил штурвал, открывали и закрывали замок. Но Георгия Ивановича уже не волновало, в своей работе он был уверен так же, как в том, что земля круглая, время на дворе хреновое, а без водки русский человек не живет.
Вот остаток ее той же "Магаданской" он опять вылил в тот же стакан и опять отсыпался ровно сутки. Тем более, что вертолет по причине погодных условий не ожидался.
В кассе конторы он получил валюту — шестьсот восемьдесят баксов, цент в цент, не обсчитали капиталисты.
Перед отъездом появился в номере Стив и, протягивая ему аккуратный сверток, пояснил:
— Презент от босса.
Георгий надорвал упаковку. Камуфляжный костюм. А что, сгодится, на рыбалку там или мусор выносить. Хотя на месте босса он бы такой мелочью не занимался.
— Слушайте, — помялся Стив, — как и где вы научились такой высокой… э квалификации. Колледж или как там у вас…
Колледж? Георгий Иванович усмехнулся. За плечами у него всего мореходка, да и та не совсем законченная по причине войны. Но тайна механизмов мучила его с детства. Как так — неживые, а живут, крутятся, работают. Начал с бабкиных ходиков, во время войны прицелы, затворы, хитроумные взрывные устройства — ничего по причине своего сверхлюбопытства не упускал. Дорогу одолеешь ногами, работу — руками и головой, конечно. А в замках повозиться было для него удовольствием несказанным. Где-то читал, что настоящий художник сам готов заплатить за возможность творить. Вот так и он.
— Просто я родился в Иванов день, — пояснил он ошалевшему от такого ответа Стиву, — В этот день в полночь цветет разрыв-трава.
— Трава?
— От нее замки и запоры распадаются и клады даются. Но вам, американцам, она не доступна.
— Почему?
— Цвет на траве держится не дольше, чем успеешь прочитать "Отче наш", "Богородицу" и "Верую"… А вы же другому богу молитесь.
— Как это другому, — слегка обиделся Стив, — У нас тоже Христос.
— Мамоне вы молитесь, — жестко сказал Георгий Иванович, но тут же пожалел, — Впрочем, вы тоже разные. У тебя, может, есть шанс найти разрыв-траву. Кстати, завтра же Иванов день! Вот те раз, дочка, наверное, именинный пирог мне печет, а я тут прохлаждаюсь. Не застрять бы в дороге с винтолетами этими.
В дороге он не застрял и к пирогу именинному успел. А долларов хватило за квартиру заплатить, за свет (почти за год накопилось), да внуку куртку американскую купить. Но Георгий Иванович расходов не боялся, люди сегодня под замками стали жить, в сейфы все друг от дружки прятать.
И совсем, совсем другие заботы мучили Стива. Никто не знал, даже Джон, где он пробыл всю ночь на Ивана-Ку- палу. Вернулся в гостиницу под утро уставший, мокрый от росы и какой-то задумчивый. От вопросов отмахивался.
Правда, как-то при встрече с приятелем своим, миссионером, во время постороннего совсем разговора вырвалось у него вдруг:
— Неизвлекаемо.
— Что — неизвлекаемо? — не понял друг.
— Золото твое, — твердо сказал Стив.